Гарри Тюрк Час мёртвых глаз
Памяти моих бывших товарищей Вилли Фостера, Эрих Штайна, Вернера Хэддике, Освальда Менгеса, Вальтера Цеха, Курта Вайдлинга и Хельмута Киндлера, погибших, пребывая в заблуждении, что они герои, и чьи храбрость и бесстрашие были достойны лучшего дела, чем то, за которое они сражались
Мужчины
Машина летела очень высоко. Она находилась далеко за облаками, и шум ее моторов больше нельзя было услышать на земле. Это был переоборудованный «Юнкерс», приспособленный для перевозки восьми солдат с легким вооружением. Самолет был снабжен сдвижной дверью, так как эти восемь солдат должны были покидать его с парашютами.
Снаружи была ночь. Глубокая полная бесконечности чернота как бы обрызганного звездами неба. Облака проносились в паре сотен метров над землей, тягучие, смешивающиеся в непроницаемую, светящуюся серым массу. Это была ночь новолуния, и кроме непостоянного мерцания звезд, другого света не было. Была только пустая, нагоняющая страх мрачная тишина, разрывавшаяся шумом двигателей, больше ничего. Мужчины в машине знали это. Они не могли смотреть наружу; так как у самолета не было окон. Но они все же знали, что ожидало их, когда они спрыгнут через сдвижную дверь: несколько сотен метров падения сквозь беззвучное, совершенно неизвестное пространство, которое лежало между землей и покровом ночных облаков. А потом земля.
В самолете было тесно. Отсек освещала только слабая предохранительная лампа с голубоватым свечением. Воздух в отсеке был наполнен испарениями мужчин, потным запахом их тел, запахом их кожаных ремней и табачным дымом, которым пропиталась их одежда. Восемь мужчин сидели рядом на узких продольных скамейках, тела немного нагнувшись вперед, согнувшись в лямках парашютов. На головах похожие на горшок каски, покрытые пятнистой маскировочной тканью, совершали иногда кивающие движения, потому что мужчины пока не затянули ремешки под подбородком и за ушами. Руки их лежали между коленями, неподвижно, как омертвелые, или беспокойно, бесцельно двигающиеся. На груди у них висели очень маленькие, короткие пистолеты-пулеметы, поверх камуфляжа, который был таким же пятнистым, как чехол на каске. Это были легкие, похожие на игрушечные винтовки, короткоствольные итальянские «Беретты», и в половину не такие восприимчивые к пыли, сырости и грязи, как немецкие пистолеты-пулеметы. Больше никакого другого оружия на солдатах не было видно. Они засунули ручные гранаты в карманах брюк, а пистолеты в потайные карманы камуфляжей. В других карманах хранились патроны и шоколадные батончики, кабели для взрывчатки и перевязочные пакеты, катушки с проводом и быстро действующие болеутоляющие таблетки.
Только у одного из солдат не было пистолета-пулемета. Между его ног стоял контейнер с взрывчаткой. Он должен был донести его до земли. Такую взрывчатку можно было спокойно бить кузнечным молотом, не боясь того, что она взорвется. Абсолютно надежное подрывное средство, которое приводилось в боевое состояние только за пару минут до его предполагаемого подрыва с помощью комбинации с крохотным, продолговатым капсюлем. Солдат это знал. Однажды он, когда не было никакой другой возможности, прибил заряд этой взрывчатки к опоре моста двенадцатидюймовым гвоздем, прежде чем присоединил капсюль взрывателя. Он был специалистом в этой области, и его товарищи знали, что скорее обрушится небо, чем откажет разрывной заряд, заложенный этим маленьким щуплым старшим официантом из отеля «Штадткроне» в Штутгарте.
Лица мужчин были отмечены тупой безучастностью. Это были лица молодых, сильных солдат, для этой ночи зачерненные сажей, чтобы не было светлых пятен, если им придется где-нибудь лежать в засаде в нескольких метрах от вражеского часового, перед тем, как убрать его. Их черты нельзя было распознать. Они мало говорили друг с другом. Да и не о чем было говорить. Задания были распределены. Каждый знал, то ему делать. Они целую неделю на макете в ящике с песком знакомились с территорией, куда им предстояло высадиться, они десятки раз повторяли все детали опасного предприятия, они знали из аэрофотосъемок самолетов-разведчиков каждый холм, каждый водоток и каждое убежище на территории, к которой они подлетали. Они были хорошо накормлены и снабжены. Они владели всем, что было необходимо, чтобы осуществлять операции, подобные этой. Они владели не только их собственным оружием, но и оружием противника. Они были обучены вождению автомобиля, радиоделу, минно-взрывной технике. Они владели полудюжиной различных методов убийства. С помощью пистолета-пулемета и складного ножа, спрятанного в кармане на икре ноги, пистолета и края ладони.
Мост, к которому они подлетали, находился лишь в нескольких минутах полета за застывшим, закопавшимся в грязной, по-осеннему влажной земле фронтом у старой границы Восточной Пруссии и Польши. Был 1944 год, и до Рождества оставалось еще два месяца. Армии лежали друг напротив друга в стрелковых ячейках. Сдержанно затаившись, собираясь с силами, и готовясь к будущему удару – Красная армия, измученные отступлением, усталые, нервно организующие оборону, готовящиеся к отражению будущего наступления – немцы.
Мост был массивной, старой конструкцией из лекальных тесовых камней и бетона. По рельсовому пути над его опорами к близкому фронту катились эшелоны. Стрелковые дивизии и танковые батальоны. Платформы с грузовиками и реактивными установками, вооружение, боеприпасы и люди Поезда шли днем и ночью, так как у немцев едва ли были еще самолеты, которые могли бы их атаковать. Они катились к наскоро оборудованной товарной платформы около фронта и исчезали отсюда в глубоких лесах. Назревал шторм, и этот самолет с восемью солдатами был одной из многих попыток оттянуть начало шторма. Подобно ракете, которой стреляют в грозовую тучу в надежде задержать обрушивающуюся бурю.
Машина поднялась далеко за немецким фронтом с полевого аэродрома. Пилот знал этот вид полетов. Он летел очень высоко и пересекал фронт. Потом он пролетал большое расстояние над русским тылом, прежде чем снова поворачивал самолет на обратный курс. Пеленгатор указал, что он был в нескольких минутах над местом, где ему предстояло сбросить парашютистов. Он махнул радисту и сказал в ларингофон: «Приготовиться!» Потом он приглушил двигатели, пока они не заработали только лишь со слабым бормотанием, и машина медленно опускалась вниз.
Радист через перегородку прополз в грузовой отсек. Он увидел, как солдаты цепляли карабины их фалов вытяжного кольца за трос, который был натянут вдоль отсека. Они стояли в ряду за еще закрытой сдвижной дверью. Унтер-офицер проверил, все ли крючки прикреплены к тросу. Потом он первым подошел к сдвижной двери.
– Завтра ночью, в два часа! – сказал радист унтер-офицеру. – Ровно в два часа зажгите сигнальные огни. Вы нас услышите. Кроме того, погода будет ясной. Осмотрите место, чтобы вокруг не было никаких обломков или камней. И если у вас будут раненые, сделайте носилки и пристегните их к ним крепко. Проем двери довольно высокий.
Унтер-офицер кивнул. Покрытое черной краской лицо его оставалось неподвижным. Он был большим, благодаря камуфляжу несколько неуклюже выглядевшим человеком.
В этот момент первый, протяжный звук зуммера послышался из звукового сигнала на потолке отсека. Радист раскрыл сдвижную дверь. Сквозняк затеребил одежду солдат. Он ворвался в отсек и наполнял ее свежим, холодным дыханием ночи. Последний в ряду сказал своему соседу спереди: – Ночи уже чертовски холодные…
Потом послышался второй звук сигнала. Машина скользила в паре сотен метров от земли. Унтер-офицер прыгнул первым. Ночь поглотила его без звука. Мужчины теснили к выходу, одной рукой передвигая карабин на стальном тросе у себя над головой. Через четверть минуты после звукового сигнала отсек был пуст. Радист снова закрыл сдвижную дверь. Машина еще некоторое время скользила дальше на приглушенных двигателях, но потом летчик снова разогнал их до полной мощности и поднял машину круто вверх в облака, все выше и выше.
Восемь мужчин висели снаружи на темных шелковых колоколах парашютов. Земля приближалась. Внизу было тихо. Ровная площадка с кустарником и по-осеннему голым лиственным лесом. Мужчины беззвучно опускались навстречу земле, ожидая удара. Каждый из восьми знал, что до будущей ночи, когда самолет заберет их назад, некоторые из них могут быть уже мертвы.
Час мертвых глаз
Томас Биндиг лежал, съежившись между двумя плотными кустами акаций. Они росли на откосе дамбы, а откос лежал на расстоянии едва ли вытянутой руки от железнодорожных рельсов, там, где рельсы шли к мосту. Он тихо дышал, открытым ртом, и его ряды зубов выделялись, сверкая белым, на черном от сажи лице. Он бездействовал и ждал. Земля замерзла. На опавших листьях кустов лежал тончайший слой инея. Было безветренно, и звезды были очень светлы. Биндиг медленными, осторожными движениями расстегнул ремешки каски. Он снял каску с головы, осторожно положил ее рядом с собой на землю и пару раз отодвинулся ее, пока она не лежала так, чтобы не могла вызвать шум из-за его неосторожного движения.
Потом он так же медленно отодвинул рукав камуфляжного комбинезона и посмотрел на часы. Циферблат светился бледно-зеленым сетом. Секундная стрелка скользила от цифры к цифре. Ей предстоит еще десять раз обежать вокруг циферблата, думал Биндиг, тогда наступит время. Тогда я должен быть впереди у моста, там, где стоит последний куст. И после того, как стрелка десять раз пройдет свой путь, я буду там, и тогда один часовой будет идти с середины моста до куста. Он повернется только в двух или трех метрах от меня, чтобы пойти назад к середине моста, где он встречается со вторым часовым, проделывающим такой же путь, но с другой стороны. И там, в таком же кусте, сидит Цадо и ждет его. Сегодня ночью неплохо. Это почти легче, чем когда это было другими ночами. Он поднял нож, который положил на землю перед собой. Это был обыкновенный складной нож парашютистов, с широкой деревянной рукояткой и тонким, несколько смазанным жиром лезвием. Биндиг хорошо заточил его на обеих сторонах, очень остро и без малейшей зазубрины. Это было его оружие на эту ночь. Пистолет находился в потайном кармане комбинезона.
Еще десять кругов по циферблату, думал он. И Цадо лежит с другой стороны моста. Артист. Мужчина с носом хищной птицы и шрамом на лбу, после драки в Гамбурге. Он представлял себе, как тот другой лежал там, и так же ожидал с нетерпением в засаде, как он. Цадо, думал он, бывший артист. Его звали Цадоровски, но никто не называл его так. Они называли его Цадо, и он был в роте с самого начала. На четыре года дольше, чем сам Биндиг. Он воевал на Крите и в Сицилии. Он был стреляным воробьем, и он работал в варьете метателем ножей и наземным акробатом. Биндиг думал о нем, пока медленно готовился к тому, чтобы проползти последние метры до крайнего куста. Он думал об артисте Цадо, который бросил выпускные экзамены в школе ради своего любимого занятия с ножами и непреодолимого обаяния, которое оказывали на него театральные подмостки. Он представлял себе, как Цадо теперь так же, как и он, с ножом в руке, подползал все ближе к часовому, и он знал, что Цадо убьет русского умело и осмотрительно, беззвучно и надежно.
Мост был перекинут через русло реки, протекавшей в глубокой впадине в земле. Это была очень тонкая река, но выемка на земле была очень глубока, и вследствие этого мост почти походил на виадук. Рельсовые пути слабо проблескивали в звездном свете. Биндиг видел, как часовые шли с концов моста к середине, где они встречались, обменивались парой слов и поворачивались, чтобы снова патрулировать до конца моста. Они шли, закутанные в шинели, с винтовкой на спине. Это были маленькие, черные фигуры с меховыми шапками. Издалека выглядело, как будто бы они бродили на невидимом пути, который пробегал сквозь небо мимо звезд.
Солдат с другой стороны моста уже подползал к часовому. Он приближался с навыком своей многолетней солдатской службы к пятну под деревом, стоявшего в голове моста. Он дал часовому дойти до середины моста и снова возвращаться. Каждый раз, когда часовой поворачивался к нему спиной, он подползал еще дальше вперед. Пока не добрался до дерева, за стволом которого он присел на корточки. Он наблюдал, что часовой каждый раз обходил вокруг дерева, когда снова совершал свой обход. На следующий раз, подумал Цадо. Сколько людей мне еще придется убить, собственно, прежде чем я снова смогу метать свои ножи? Он слышал, как один часовой говорит с другим. Он еще совсем молодой парень, думал он. У него снова будет то проклинающее, испуганное детское лицо, когда он умрет. Скоро я больше не могу видеть никаких мертвецов и никаких умирающих. Я вижу их каждой ночью. Если я лежу у одной из этих толстоногих деревенских проституток, я вижу трупы, и тогда девушка хихикает и грызет мой шоколад, так как она знает, что я ничего не буду говорить, и ничего не буду делать целый час. Это отвращение. Но не только отвращение. Это гораздо хуже. Нельзя так часто думать об этом. Больше нет выбора. Из движущегося поезда нельзя выпрыгнуть. При этом можно сломать себе шею. Нужно доехать со всеми до конечной станции. И до этой конечной станции ведет чертовски крутая дорога. Вот подходит часовой. Так выглядит человек, который умрет в следующую минуту. И я должен убить его уже только потому, что на другой стороне моста сидит Биндиг, и если я не убью его, то он убьет Биндига, а Биндига я не могу бросить на произвол судьбы, потому что он единственный человек, который знает, что меня мучат лица трупов, и так как он молчит и я знаю, что с ним происходит то же самое. Он еще раз сравнивал положение стрелки часов со временем, которое он внушил Биндигу. Это правильно, думал он. Он взял нож и привел свое тело в положение, похожее на натянутую пружину. Он был очень спокоен и больше не двигал даже веками, пока не услышал шаг часового. Потом он услышал, как тот, тихо напевая себе под нос, подходил к дереву.
Биндиг сидел за кустом и рассматривал землю перед своим укрытием. Он замерз, но это была поросшая травой земля, на которой не лежало никаких сухих веток, листьев, ничего. Когда часовые встретились на середине моста, Биндиг посмотрел на часы. Из десяти оборотов секундной стрелки оставался еще один. Часы были надежны. Это были большие специальные часы с секундомером. Биндиг прикрыл ладонью чистое лезвие ножа. Часовой медленно приближался. Это был коренастый мужчина, смело сдвинувший свою меховую шапку влево. У него не было ничего кроме винтовки с примкнутым штыком. Они всегда оставляют своих часовых с винтовкой, думал Биндиг. Всегда у них эта длинная винтовка с квадратным штыком. Пистолет-пулемет лучше. Короткое оружие вообще лучше. Что он сделает с той винтовкой? С ней он слишком медленен
Он смотрел ему прямо в лицо, на широкое, грубоватое лицо с веселым курносым носом. Цадо и я, думал Биндиг, пока часовой приближался к нему, они подготовили нас специально для этого. Как старшего официанта к подрывному делу. Мы – отряд специалистов. Специалистов по убийству и разрушению. Привыкнем ли мы когда-нибудь к тому, когда этого больше не будет? Когда-то, когда все закончится?
Часовой тихо кашлянул. Он спрятал руки в карманах шинели. Биндиг видел, что у часового портупея поверх шинели. Это хорошо, думал он. Если у них портупея под шинелью, то нет уверенности, что справишься с ними ножом. Их ремни из очень толстой кожи. Часовой остановился в нескольких шагах от куста и повернулся. Он постучал сапогом о сапог и пошел назад своей дорогой. Биндиг поднялся, стараясь не создавать шум. Он быстро сделал один шаг за куст, потом еще один и еще один. Он не бежал, он быстро шел, большими шагами, беззвучно на толстых резиновых подошвах, пока не оказался за спиной часового. Он не прыгнул на него. Он положил ему левую руку вокруг шеи и нанес удар правой. Это был самый быстрый, самый уверенный и самый тихий вид убийства, который он выучил. Нож разорвал часовому почку, и мужчина с хрипением от удушья опустился на землю. Биндиг ловко его перехватил, а потом так же умело снял у него с плеча винтовку. Он стянул с мертвеца толстую, серо-коричневую шинель и накинул ее на себя. Она была ему немного великовата, но теперь это не имело значения. Несколькими быстрыми упругими шагами он пообедал назад к месту, где лежала его каска. Он взял ее и подвесил ее к чужой портупее над шинелью. Потом он натянул меховую шапку мертвого часового и закинул за плечо его винтовку.
С моста был хороший вид на окрестности. Но нигде не было видно ни одного луча света, кроме тонкой полосы, падавшей из окна будки путевого обходчика, находившейся в нескольких сотнях метров за мостом у железнодорожной насыпи. Там спали остальные солдаты караульной команды. Биндиг двинулся к середине моста не быстрее и не медленнее, чем это делал часовой. Когда он сделал первые шаги, то увидел, как с другой стороны приближается Цадо. Он узнал его сразу по походке. У Цадо была походка наемного партнера для танцев. Ее ни с чем не спутаешь Шинель другого часового подходила ему хорошо. Только меховая шапка казалась для него слишком большой. Они оба узнали друг друга, так как они оба теперь несли винтовки стволом вниз; когда они удостоверились, что стволы винтовок смотрели вниз, они быстро пошли навстречу друг другу. Они встретились на середине моста, где оба часовых всегда встретились.
– Парень, – медленно сказал Цадо, – в сорок лет они поместят нас в сумасшедший дом, если это еще долго продлится так. Этого ни один человек не перенесет.
Биндиг ничего не ответил. Он смотрел туда, где должен был лежать унтер-офицер с другими, и при этом он поднял руку. Внизу в кустах, по ту сторону железнодорожной линии, сверкнула на долю секунды светлая точка карманного фонаря. – В порядке, – сказал Цадо, – пошли…
Пройдя по шпалам железнодорожных путей, они сошли с моста и приблизились к убежищу других.
– Иногда, – тихо сказал Цадо, – иногда я боюсь, что я просто встану в такое мгновение и скажу такому часовому: Я здесь! Он опустил голову, и меховая шапка съехала ему на лоб. Он сердито отодвинул ее назад. Биндиг ничего не отвечал. – Но это как раз бессмысленно, сказал Цадо, – я это знаю. Это бессмысленно; с этим не справишься. Он с опущенной головой шел дальше рядом с Биндигом. Он прикусил губу и ничего не говорил. Не было смысла что-то говорить. Все это никак нельзя было изменить. Было так, как говорил Цадо. Нельзя было думать об этом, и нужно было ждать конца. Они были солдатами, и должны были делать то, что им приказывали. Эти операции за линией фронта совсем не были приятны. Но выбор был невелик, и людям, которые сидели в стрелковых ячейках и ждали Т-34, было ничуть не лучше. За один год, который Биндиг провел в роте, он выучил, что значит быть солдатом фюрера. Считалось, что в пределах рода человеческого получаешь свое особенное, подчиненное место. Что не нужно размышлять над своими действиями, а также не стоит думать о будущем и прошлом. Если научишься справляться с этим, то все будет в порядке. Но окончательно справиться с этим было трудно. Бывали мгновения, когда ты готов был сделать то, что как раз говорил Цадо. Но тогда наружу поднимался страх. Неизвестность. И если было спокойствие и навязывались мысли, тогда сразу становишься жалкой кучкой, смесью мужества и страха, уверенности и недоверия, потерянных иллюзий и жалкой беспомощности. Становишься бесхребетным пучком костей, мышц и сухожилий перед холодным калейдоскопом мертвых глаз, принадлежавших убитым вражеским солдатам.
Они проходили мимо часового, которого убил Биндиг. Цадо непроизвольно повернул голову, чтобы посмотреть на него. Биндиг внезапно ускорил шаг. Ему захотелось побыстрее пройти мимо мертвеца. Он не мог заставить себя посмотреть на него. Ему вдруг перехватило горло. Он больше не мог дышать, горло как будто закрыли, как будто кто-то сжал вздрагивающие мышцы его сердца.
Пустота, в которую он нырнул, возникла совершенно неожиданно. В голове поднималось тонкое пение. Черно-шелковый занавес упал перед глазами, и звездное небо начало медленно вращаться. Ноги его подкосились, и он споткнулся. Но Цадо перехватил его, прежде чем ствол винтовки коснулся земли. Он схватил его и удержал на ногах; он знал, что не мог дать ему упасть прямо сейчас. Слишком рано падать. Он взял его и встряхнул. Он потянул его за ухо и бил его по лицу, пока тело снова не выпрямилось. Пока он его отпустил, он залез под шинель и вытащил из кармана на левой икре маленькую металлическую фляжку с коньяком. Он отвинтил крышку и сунул фляжку Биндигу под нос.
– Вот… пей! – сказал он. – У нас этой ночью еще много дел. Биндиг отхлебнул крепкий напиток и почувствовал, как тот пронесся по его закрытому, сжатому горлу. Слезы подступили к его глазам, и он через мрачную пелену слез снова начал видеть ночное небо, голые деревья и кусты и бледно-серебристый рельсовый путь. Он вытер себе лицо рукавом шинели. Шинель пахла дымом от дров и смазочным маслом, и ночной воздух, который Биндиг вдыхал глубоко, внезапно снова стал прозрачным и холодным. Он вернул фляжку Цадо и тихо сказал: – Спасибо.
– Ты уже в порядке? – осведомился другой.
Биндиг кивнул. Он сжал ремень винтовки тверже и заметил, что земля снова была тверда под ногами. – В порядке, – произнес он хрипло. От его выдоха появилось серое облачко, растворившееся в холодном воздухе. – Это из-за трупа, – сказал он. – Когда я делал это, я был очень спокоен. Но теперь… это всегда так. Ты знаешь, что я не трус. Но потом меня всегда охватывает такое чувство. Цадо своим пританцовывающим шагом шел с ним рядом. Он тоже отхлебнул из фляжки, прежде чем засунул ее обратно в карман. Он думал: шнапс – единственное, что помогает. Вся война – это смесь страха перед смертью и отвращения и шнапса. – Возьми себя в руки, – сказал он. – Это только нервы. Это все эти проклятые нервы. Но не бывает людей без нервов. Без ног ты можешь жить. Без нервов нет. И без шнапса тоже нет.
Они слезли вниз с железнодорожной насыпи. Они осторожно обошли кучу пустых консервных банок, которая лежала между кустами и насыпью. Старые, заржавевшие банки.
– Ты думаешь, что сможешь делать это? – спросил Цадо. Он посмотрел на Биндига со стороны и подумал: Эта проклятая сажа! Даже нельзя видеть, не побледнело ли лицо. Не знаешь, не упадет ли он, если мы распахнем дверь этой будки путевого обходчика. Это опасное дело. Нужно точно знать, можно ли на него полагаться. Биндиг как будто почувствовал его мысли. Он слегка покачал головой, и он производил вполне уверенное впечатление, когда сказал: – Не бойся. Все прошло. Это всегда быстро проходит. На самом деле плохо будет только тогда, когда мы будем дома.
– Дома? – сказал Цадо ворчливо, но довольно, так как интонация голоса Биндига сняла его сомнения. – Дома девушки спят со старыми мопсами, потому что нас там нет так долго…
– В деревне, я имел в виду. В Хазельгартене.
– В деревне…, – проворчал Цадо с отвращением, – вся деревня меня достала.
Карманный фонарь унтер-офицера сверкнул еще раз и указал им дорогу. Другие плотно лежали вместе в низине, в кустах высотой по колено. Унтер-офицер поднялся, когда оба были на месте. Он посмотрел им в лицо и кратко спросил: – Все в порядке?
– Все в порядке, сказал Цадо. – Сколько людей в домике?
– Четверо, – ответил унтер-офицер.
Он командовал подразделением больше четырех лет. Они знали его. Вся рота знала, что в действительности именно он командовал ротой, а не лейтенант с детским лицом и с школьной военной премудростью. У него был его собственный способ обходиться с солдатами, и этот способ совсем не был предусмотрен в армейских уставах. Унтер-офицер Тимм закрывал глаза на недисциплинированность, когда солдаты были в деревне. Он защищал их и обеспечивал им спокойствие. На все недостатки его солдат, к которым цеплялись лейтенант или штабники, у него всегда был один ответ: – Летите в следующий раз с нами. Потом мы поговорим дальше о моих людях. Этим он заставлял замолчать каждого, независимо от его звания. Он делал это не ради справедливости. Он делал это, потому что, вероятно, спустя немного дней, его жизнь зависела от этих его людей. И еще потому что это он сделал их теми, чем они были, и он гордился результатом своего воспитания.
Цадо расстегнул шинель и отдал винтовку одному из других. Затем он засучил рукава шинели, чтобы ему легче было двигать руками. Пока он вытаскивал пистолет из кармана и привязывал его тонким, эластичным ремнем вокруг запястья, он сказал унтер-офицеру: – Четверо? Тогда они всегда спят только четыре часа между сменами караула. Чертовски тяжелая служба!
– Радуйся, что их там не больше, – заметил унтер-офицер. – У них горит карбидная лампа, но они спят. Он посмотрел на Биндига, который по примеру Цадо закреплял свой пистолет на запястье.
– Что произошло там впереди? – спросил он. – Мне показалось, как будто ты собирался упасть. При этом винтовка могла бы выстрелить…
– Он споткнулся, – ответил Цадо, – эти шпалы едва видны в темноте. Но я перехватил его.
Тимм взял у них винтовки и их каски. Он осмотрел их критически, а потом сказал: – Ну, пошли. Мы должны сделать это быстро. Когда придет поезд, часовые должны быть на мосту.
Пока они согнувшись пробирались через кусты к будке путевого обходчика, Биндиг заметил, что их было только шесть, и он вспомнил о том, что другие двое уже стояли у домика. Ничего не может случиться, подумал он. Все хорошо продуманно. Если в будке все пройдет хорошо, у Цадо и у меня будет отдых до завтрашней ночи. Все остальное сделают другие.
Тимм шел между ними. Он подтянул их поближе к себе и объяснил на ходу: – У будки с каждой стороны по окну. Можно было бы сделать это просто снаружи, через окна. Но будет много шума. Двое будут стоять у окон. Если у вас не выйдет, они будут стрелять. Но у вас должно все получиться. Неизвестно, не услышит ли еще кто-то. Не торопитесь. Закрывайте дверь только тогда, когда вы внутри. Они заспанные. Они не узнают вас сразу в шинелях и в шапках. Это для вас решающие секунды.
Другие окружили домик, когда Цадо и Биндиг распахнули дверь и вошли. Они внимательно прислушивались, с пистолетами в поднятых руках. Тимм сменил одного солдата у окна и стал там сам. Он видел, как оба входили в их коричневых шинелях, в меховых шапках над затемненными черной сажей лицами. Он наблюдал за их движениями и движениями спящих. У него был пистолет в руке, но он ему не понадобился. Выстрелы в домике щелкали коротко и сухо. Их нельзя было услышать дальше, чем в нескольких метрах. Когда Тимм отвернулся от окна, он подумал: Они – лучшие стрелки из пистолета из всех. Германия произвела безупречных солдат. Они даже не прикусывают губы, когда убивают. Молодые и холодные. Они убивают как мясники.
Старший официант из Штутгарта сначала спустился в русло реки. Он исследовал опоры моста, выстукивал их, проверяя, а потом ловко снова вскарабкался на склон. Наверху лежали другие. Цадо и Биндиг патрулировали мост точно так, как это делали часовые. Они подняли воротники шинелей, и над их меховыми шапками сверкали тонкие остроугольные штыки. Все другие лежали у моста, кроме одного, которого они оставили при будке путевого обходчика.
Старший официант приблизился к Тимму и сказал: – Довольно крепкие. Мы должны подорвать две опоры.
– Этого хватит? – спросил Тимм.
Маленький солдат пожал плечами. Он снял каску, и все остальные, окружавшие его, тоже стояли с непокрытыми головами.
– Если мы подорвем их как можно более высоко и при этом еще кое-что уложим под рельсами, получится довольно большая дыра, – сказал старший официант, – но надолго и ее не хватит. Они отремонтируют это за неделю.
– Неделя – это очень большое время.
– Да, – сказал солдат, – если бы у нас было больше взрывчатки, мы могли бы взорвать эту штуку так, что они могли бы поставить на нем крест.
Он намотал канат и пристегнул себе вокруг тела широкий кожаный пояс. Потом он закрепил плоский крючок карабина каната на кожаном поясе и полез на мост. На поясе висели несколько инструментов, нужных ему. Втроем они с канатом в кулаках пошли за ним и спустили его вниз с края моста, держа канат и закрепляя его конец на одной из стальных шпал железнодорожного пути. Маленький старший официант был ловок как кошка. Его едва ли можно было слышать. Только время от времени звучал тихий, трещащий шум, дребезжание металла по камню. Он переговаривался с тремя другими короткими окликами, и они спускали ему канат настолько, чтобы он мог крутиться вокруг опоры. Тимм с последним солдатом пошел к будке путевого обходчика. Когда они через некоторое время вернулись, они тащили брезент с кучей ручных гранат и боеприпасов, которые они собрали в домике. Они как раз положили брезент в тени кустов, когда послышался шум катившегося вдали поезда.
Трое на мосту крепко присоединили к шпале и исчезли за кустами. Старший официант висел на своем канате. Он злился, так как его работа прервалась. Он продолжал бить по камню, и это вовсе не было опасно, потому что с моста его никто не мог видеть, и поезд сам производил такой большой шум, что удары его молотка в этом шуме терялись. Цадо и Биндиг остановились на концах моста, отворачивая лица, подняв воротники шинелей. Они стояли так, что с поезда их мог видеть каждый, но никто не мог узнать их лица. Это был эшелон с машинами. Бесконечная змея платформ скользила за едущим без света паровозом, с шумом и грохотом. На платформах стояли укрепленные по-походному машины. Тяжелые грузовики с толстыми шинами, одни из них с брезентовыми крышами, у других с задней части из-под брезента угрожающе выглядывали направляющие ракетных установок. Несколько разведывательных автомобилей и тракторов.
Биндиг стоял в том месте, где раньше лежал мертвый часовой. Он держал руки в карманах шинели и чувствовал между пальцами искрошившуюся махорку и сложенную газетную бумагу. Они курят эту ужасную дрянь, думал он, они закручивают ее в газету и втягивают чад в легкие. У них, пожалуй, легкие как у орлов. Он втянул голову ниже в поднятый воротник и повернул лицо немного в сторону, когда паровоз приблизился. Кочегар верхней частью туловища свесился из окна и махал рукой, пока ехал. На нем была только рубашка без рукавов, и можно было видеть его белую кожу. Биндиг сделал неопределенное движение головой, не вынимая руки из карманов, и постучал ботинком по ботинку, как человек, замерзший на посту. Теперь он был очень спокоен. Он посмотрел вслед поезду, когда он катился по мосту. Довольно долго еще стояло белое облако дыма над лесом, в который поезд нырнул за мостом, потом ветер развеял его, и шум колес потерялся в ночи. Тимм вышел из кустов. Трое других снова поспешили на мост. Тимм остановился рядом с Биндигом и сказал: – Это был последний. До следующего мы должны справиться.
– А потом?
– Уходим, – произнес Тимм. Он скривил лицо, как будто бы сажа мешала ему. Тимм был человеком, который редко смеялся. Никто из солдат еще не видел его веселым.
– Туда в лес, – сказал он. – Двенадцать километров. Между ними лежат несколько этих озер. Небольшое болото. Там дальше ничего не происходит. Это совсем покинутая местность. Ни одного дома. Ничего. Луг лежит между двумя озерами с небольшим лесом на берегах. Мы будем там к утру, и целый день будем спать.
Он остановился рядом с Биндигом, не говоря больше ни слова. Казалось, что он и так сказал слишком много. Он посмотрел на трех солдат на мосту, и мускулы на его покрытом черной краской лице слегка двигались.
– А карты есть? – спросил Биндиг. Он помнил с учений, что карты должны были быть розданы, чтобы, в крайнем случае, каждый смог сам найти дорогу к месту, в котором самолет должен был их забрать.
Тимм мгновение помедлил. Затем он сказал: – Да. Есть карты. Я уже дал их другим. Для тебя и Цадо у меня они еще есть.
Он засунул руку в карман и вытащил две части карты генерального штаба. Они были не больше чем лист фронтовой газеты, и они были сложены. Он сунул их в руку Биндига и сказал:
– Одну отдашь Цадо, когда снова выйдешь на свой обход. Пока он снова засунул руку в карман и зажег себе сигарету, он произнес: – Уничтожить сразу при соприкосновении с противником. Не забывай этого.
Биндиг кивнул. У Тимма была привычка снова и снова напоминать им о самых естественных вещах. Само собой разумеется, карты нужно будет уничтожить. Он посмотрел на Тимма, когда он затягивался сигаретой.
– Можно мне тоже закурить? – спросил он нерешительно. Тимм сделал разрешающий жест свободной рукой.
– Да кури! – подбодрил он Биндига. – Если Малыша у моста никто не видит, то никто не увидит и сигареты. У тебя есть с собой? Он сделал движение в сторону своего кармана. Но Биндиг быстро ответил: – Оставь, у меня есть свои.
Первые затяжки привели его в странно торжественное, уверенное настроение. Снова и снова это происходило так: сигарета, выкуренная в определенное время, могла из слабого мужчины сделать подтянутого, готового к прыжку.
Тимм подошел близко к нему и сказал приглушено: – Интересно, это место лежит так далеко за линией фронта, что здесь никто больше не шатается. У них все собрано сразу за линией фронта. Дальше в тыл нет ничего, пусто. Кто знает, насколько далеко простирается эта пустота. Пустота, с железными дорогами между нею, по которым едут их поезда, и шоссе, где едут их машины. Когда мы наступали, мы поступали так же. Они уже знают, чего хотят: все вперед, танки и орудия, и машины и «органы». И тогда они катятся вперед свободно и не заботятся о том, что за ними. Они мчатся только вперед. То, что они оставляют за спиной, так или иначе, упадет к их ногам…
От моста послышался дребезжащий шум. Тогда три солдата вытащили маленького старшего официанта на дамбу. Он не задерживался ни на одну секунду. Он сразу пошел вперед, пока не добрался до второй опоры, и трое солдат снова спустили его вниз.
– Они на самом деле вовсе не так глупы…, – произнес Биндиг. Тимм посмотрел ему в лицо.
– Кто?
– Русские.
Унтер-офицер осторожно затянулся сигаретой, прежде чем сказал: – Ты можешь говорить это мне. Но никому другому. В принципе!
– Конечно, – ответил Биндиг. Он тихо засмеялся, но Тимм не обратил на это внимания. Он постучал ему по плечу и сказал: – Иди к брезенту. Между ручными гранатами лежат три бутылки водки. От тех, что остались лежать там в будке. Возьми из них две, одну для тебя и одну для Цадо. Выпейте их к утру, когда замерзнете – и только когда вы у цели. И съешьте к ним пару галет.
Когда Биндиг посреди моста снова встретился с Цадо, то заметил, что тот немного дрожал. Он стоял, съежившись между рельсами, втянув голову.
– Что? – спросил Биндиг его.
– Холодно, – ответил Цадо, – чертовски холодно. Биндиг протянул ему бутылку. Цадо безмолвно схватил ее. Он взял также карту, не глядя, и не прекращал при этом стучать зубами. Внезапно он встряхнулся и притопнул пару раз ногами по щебню между рельсами. Он встряхнулся как промокшая собака, и после того, как он успокоился, он сказал достаточно отчетливо, и не стуча зубами: – У меня чертовски плохое предчувствие. Я буду очень рад, когда этот проклятый богом мост останется у нас за спиной.
Он задумчиво посмотрел на сигарету, которая оставалась у Биндига в ладони.
– Дай мне, – попросил он, – может быть, после сигареты я снова стану настоящим, мужественным германцем.
Ни одна шутка ему не удавалась, и он сам не знал из-за чего. У него была только одна мысль: прочь от этого моста и от шести трупов! Такие мысли появлялись у него не в первый раз. Он был приучен к тому, чтобы они появлялись снова и снова, и всегда, когда они приходили, они изматывали его.
Трое солдат снова вытянули старшего официанта на дамбу. Он потянулся пару раз, потом отцепил крючок каната от пояса и расстегнул пряжку. Они видели, что он протянул с собой провода от подрывных зарядов на дамбу. Это продолжалось несколько минут, потом он вместе с другими выдолбил глубокую яму в грунте под рельсами. Один из солдат притащил сюда ручные гранаты. Они сложили их под рельсами и присыпали землей. Старший официант внимательно слушал, склонив набок голову. Пот тек у него по обмазанному сажей лбу, и его руки были окровавлены от работы над опорами. Когда Биндиг подошел к нему, тот хрипло сказал: – Мы дадим это сделать самому следующему поезду. Он быстро собрал провода и занялся подготовкой взрывателя. У него была своя система, которую нельзя было прочитать ни в одной инструкции по минно-взрывному делу. Он работал с крохотной батарейкой. Но батарейка была только оборудованием. Решающим был способ, которым он устанавливал свою взрывчатку. Он называл это „сделать кучу". Это было его абсолютной тайной, как ему удавалось заставить взрывчатку детонировать иногда под паровозом, а иногда в середине эшелона. Это зависело от того, ехал ли поезд на высокой железнодорожной насыпи или по плоской земле. Он ориентировался в действиях и точно рассчитывал вес взрывчатки чуть ли не до грамма. Он участвовал в учебном курсе подрывников у саперов, и когда он после этого снова вернулся в роту, он принес в запечатанном конверте свою оценку, из которой Тимм вычитал, что он совершенно неподходящий человек для задач по подрыву. Но Тимм все же использовал его и после первой операции он уже знал, что старший официант мог взрывать лучше, чем руководитель учебного курса у саперов.
Он лежал на животе и укреплял провода детонатора. Это продолжалось долго, прежде чем он, наконец, поднялся и еще раз окинул все взглядом. Он измерил еще раз дистанцию от обеих опор до места, где лежали ручные гранаты, и результат, кажется, удовлетворил его. Потом он быстро и решительно повернулся к другим и закричал: – Вперед! Готово! Теперь все прочь!
Тимм довел их до опушки леса на севере моста. Это был заросший смешанный лес. Стоило сделать несколько шагов, как больше ничего нельзя было видеть. Рядом с железнодорожной линией шла дорога, которая вела в сторону фронта. Но они не пошли этой дорогой. Они искали для себя, всегда идя по парам, маленькие, спрятанные тропки, которые вели к озерам, между которыми их должен был забрать самолет. Через несколько минут на опушке леса стало тихо. Люди исчезли. Только Биндиг и Цадо сидели, прислонившись спинами к могущественному буку, перед лесом. – Последние, – недовольно произнес Цадо, – как всегда! Он полез в карман и разломал шоколадный батончик на две части. Биндиг взял половину, а Цадо сказал: – Если мы снова заберем их домой, их все равно сожрут бабы. Он часто говорил о женщинах, но в деревне, где они квартировали, была только одна. Темноволосая женщина, не высокого роста, но с крепкой, хорошо сформировавшейся фигурой. Она жила на своем хуторе, и говорили, что она вдова. У нее был только один молодой, глухонемой, слабоумный слуга. Когда они вошли в деревню, они нашли эту женщину. Кто-то однажды спросил ее, была ли она в деревне, когда ее заняли русские. Она ответила, что это ее миновало, но сказала это с таким видом, что солдаты перешептывались между собой, мол, вряд ли она кого-то к себе подпустит, наверняка, она крутит со своим слабоумным батраком. Иногда солдаты на каком-то грузовике отъезжали на несколько километров на запад, в деревни, где еще жили люди. Там были девочки. Испорченные, из-за перемещения фронта то туда, то сюда, выбитые из колеи молодые девки, корыстные и деловые. Там были женщины, которые предлагали своих дочерей полковому каптенармусу за мешок сахара и такие, которые делали это ради нескольких банок рыбных консервов.
Цадо жевал шоколад как хлеб. Когда он съел его, он взял сигарету, которую засунул ему Биндиг. Они курили, скрывая в ладони маленькие светлые огненные точки. Из леса слышалось тонкое пение. Поднялся легкий ветер и заставил голые ветки качаться туда-сюда. Звезды беспокойно мерцали, и воздух пах морозом.
– Только бы этот проклятый поезд прибыл поскорее, чтобы мы смогли убежать… , – ворчал Цадо. Он больше не дрожал. Теперь на нем снова была каска и пистолет-пулемет, так же, как и у Биндига. Но они сохранили шинели часовых и натянули меховые шапки на каски. Шинели еще могли им пригодиться этой ночью.
– Я уже боюсь дома…, – тихо сказал Биндиг. – Тогда они все возвращаются, и видно их глаза. Это всегда то же самое. От них нельзя избавиться. Я думаю, мы больше не избавимся от них за всю жизнь…
– Всю жизнь…, – произнес Цадо устало, – кто знает, как долго это еще продолжится. У нас больше нет жизни. Мы – только лишь трупы в отпуске. Только не начинай теперь размышлять над жизнью, у меня больше нет так много водки.
Биндиг резко поднял голову и прислушался. Цадо наблюдал за ним с маленькой улыбкой.
– Поезд…, – сказал Биндиг.
Цадо кивнул. – Я знаю. Я услышал его уже давно. Дай ему подъехать.
Они могли отчетливо видеть мост. Это был прекрасный мост. Звездный свет отбрасывал слабое мерцание на лекальные тесовые камни. Он поднимался посреди заросшего кустами ландшафта как украшение, которое потерял какой-то великан, и оно просто осталось лежать здесь между акациями и буками. Поезд приближался как опасная, черная змея. Он ехал из глубокого тыла. Платформы с танками. Один танк за другим. Всегда одного типа. Массивные Т-34 с горизонтально закрепленными пушками. Они лежали на платформах как нерасторопные гиганты, на первый взгляд, неспособные передвигаться. Как мертвые доисторические животные с печально опущенными хоботами, которые застыли во время движения, закоченели.
– Дружище, – прошептал Цадо, – сегодня это окупилось. Этот поезд, а потом мост…
Они потушили сигареты. Локомотив въехал на мост. Они поднялись автоматически, и вышли между деревьями, не теряя, однако, мост из виду, они видели его так же хорошо, как раньше.
Старший официант из Штутгарта установил крохотную задержку во взрывные заряды. Паровоз как раз ехал над тем местом, где он установил контакт. Но он проехал дальше, невредимо, и протянул еще второй, третий, четвертый вагон над контактом. И тогда огни вырвались из обеих средних опор, и спустя доли секунды прокатилась воздушная волна от взрыва, гоня перед собой трескучий гром. Расчет старшего официанта оказался точным. Поезд катился дальше, в то время как взрывчатка разорвала опоры. Затем огромная дыра внезапно возникла посреди моста, и задние платформы провалились в эту дыру. Других, которые уже проехали над этим местом, потянуло назад. Ручные гранаты отрывали рельсы под колесами вагонов, и у тяжелых гигантов сразу же исчезла твердая опора. Они наталкивались одна на другую, с хрустом и грохотом, падали на бок, переворачивались бесконечно медленно, один за другим, затягивая друг друга в пропасть, падали, увлекая других за собой. Грохот сталкивающихся танков потрясал воздух. С хлопками и с гремящим шумом, наваливаясь друг на друга, они скользили вниз с откоса и ударялись о дно реки. Локомотив встал на дыбы. Его котел взорвался с криком, похожим на крик человека. Чад, водяной пар и зарево пожара соединились над величественными грудами развалин, загрязняя ясный, холодный лик ночи. Искры взлетали и быстро догорали в своем полете в сторону безучастных звезд.
Шум не стихал. Шипение пара продолжалось. Тонкое шипение, которое смешивалось с пением ветра, слабое, как последний вдох умирающего. Биндиг почувствовал, как кто-то потянул его назад за рукав. У Цадо в руке был пистолет-пулемет. Он был готов уходить. –Иисус, Мария, – произнес он шепотом, – Иисус, Мария и Иосиф, что только может сотворить этот недомерок с чемоданам взрывчатки. Им понадобится целая неделя, пока они все это уберут…
Они ощупью искали дорогу мимо деревьев, глаза медленно привыкали к темноте леса.
– Он точно знает, что делает, – шептал Цадо. – Он заложил взрывчатку так, что поезд не мог свалиться весь, так как иначе они убрали бы всю кучу через несколько часов и… Ну, бери карту. Где-то там еще будет дорога, которую мы должны пересечь…
У Клауса Тимма этой ночью было плохое предчувствие. Он уже не одну ночь провел за линией фронта и иногда целыми днями бродил в тылу сражающихся войск. Он прошел Крит и Сицилию. И он выполнил много таких задач, как сегодня ночью. Но у него было какое-то плохое чувство, когда он с пятью солдатами вышел к опушке леса, которая была последним местом, с которого можно было видеть мост. Все шло слишком гладко сегодня ночью. Во всех деталях все проходило точно так, как было спланировано заранее. Это всегда было плохим знаком. Не было ни одной операции такого рода, при которой не произошло бы что-то непредвиденное. Возможно, что взрывной заряд, который старший официант установил среди остатков висящего на мосту поезда, не сработает. Тимм подозвал своих людей, перед тем, как они отправились в путь через лес. Он присел на корточки между ними, и он снова стал старым Тиммом, человеком, который точно знает, что делает, и который не обращает внимания ни на какие уставы, если требуется противопоставлять свою собственную, лучшую голову и лучший инстинкт инстинкту других. Он пустил по кругу пачку сигарет, и мужчины зажгли свои сигареты от микроскопически маленького огня его зажигалки.
– После этого больше не курить, – произнес он мимоходом. – Вы ведь не знаете, что лежит справа и слева от вас.
Он был уверен, что его люди выполнят этот приказ; так как он заботился о том, чтобы его распоряжения никогда не были настолько неудобны, что они вызвали бы негодование.
– Я обдумал это так, – сказал он потом, сбивая пепел с сигареты мизинцем, – мы уничтожим все наши карты. Кроме одной. Я возьму ее. Он подождал реакции, но она была именно такой, какую он ожидал. Он снова начал размышлять над тем, что сегодня все шло слишком гладко. Солдаты вытаскивали карты, но прежде чем отдать их ему, они точно запоминали путь, по которому им следовало идти. Найти дорогу было просто. Все тропки в этом лесу вели к его северному краю. Туда должны были идти солдаты. И оттуда начиналась заросшая деревьями и кустами территория, на которой находились оба озера, между которыми они должны были пройти. Территория и позже не менялась. Здесь была лишь одна дорога. Они должны были пересечь ее. Затем продолжать двигаться между рощами и кустами, километр за километром, всегда на север, до следующего озера. За этим озером была широкая, ровная площадка. Там должен был приземлиться самолет. Найти это место было просто. Нужно было запомнить только направление. Маленький старший официант первым отдал Тимму свою карту. Он положил ее ему на колено и проворчал: – Теперь есть звезды, и утром будет видно, где север.
Тимм кивнул. Он собрал листки и начал разрывать их на маленькие кусочки. Он выкопал ножом ямку в земле и зарыл в ней клочки бумаги. Мужчины продолжали спокойно курить свои сигареты. Напряжение последних часов еще не покинуло их. В этом состоянии они были односложны и возбуждены.
– Будьте внимательны, – сказал Тимм, поднявшись, – мы должны уходить. Скоро может прибыть следующий поезд. Если что-то где-то случится, вы должны следить за мной. Если все произойдет слишком внезапно, вам нужно будет не оставлять им мой труп. Карту я сложил в левой руке. До размера спичечного коробка. Если это продлится больше полуминуты, я успею ее проглотить. Солдаты кивнули. Один сказал вполголоса: – Приятного аппетита! Тимм затушил окурок и небрежно постучал по краю каски.
Старший официант сказал: – Мы будем бороться за твой труп не только из-за карты. По карте они еще долго не смогут разобраться, где сядет самолет. Но у тебя в кармане есть сигнальные огни.
– У меня они есть, – ответил Тимм, перетягивая пистолет-пулемет на грудь и проводя указательным пальцем правой руки по спусковому крючку, – и не выпейте всю водку!
Он шел один. В таких случаях он всегда шел в одиночку и не заботился о том, возникали ли трудности у других. Каждый должен был справляться сам. Это было воспитание Тимма, и оно не было предусмотрено уставом. По уставу группа после завершения операции и под руководством Тимма должна была в сомкнутом порядке двигаться назад к точке X. Но солдаты знали, что правильно идти по отдельности. Один мог потерпеть неудачу. Если все идут вместе, то вместе с ним не повезет и всем остальным. И почему именно я должен быть тем, кому не повезет – так думал каждый из солдат.
Тимм услышал взрыв, когда он прошел уже значительный отрезок дороги. Он передвигался по узкой тропе, которая шла почти напрямик на север. Это была покрытая мхом лесная тропа, на которой ноги почти не вызывали никакого шума. Тимм умел ходить по таким дорогам. Он ставил ноги осторожно, никогда не всей подошвой сразу, но также и не обычным способом, каблуком сначала. Он опускал на землю внешнюю кромку подошвы, и таким образом он шел как пьяный, кривоногий всадник, который часами просидел на своей кляче, но зато он сразу чувствовал каждую маленькую веточку и мог тогда вовремя перенести свой вес на другую ногу и избежать треска маленьких кусочков дерева.
Нужно всегда быть начеку, думал он, в таких походах нужно всегда быть начеку, нельзя спать ни секунды. Это может стоить жизни. Вообще, сегодня. Это проклятое чувство, когда все проходит так безупречно! Если бы один из четырех русских из будки путевого обходчика выстрелил бы в ответ, то это давление не лежало бы теперь на моей груди. Тогда мой палец не дрожал бы на спусковом крючке пистолета-пулемета. И он дрожит не только от холода.
Взрыв прозвучал глухо. Но гром заставлял предполагать, что он достиг своей цели. Тимм остановился на несколько секунд, внимательно слушая.
Он мог видеть звезды над сухими кронами деревьев. Ночь была холодна, ясна и тиха. Так всегда бывают тихими леса незадолго до первого снега, думал Тимм. Он внимательно слушал, но от моста больше не было никакого шума. Перед ним на пути стояла местами засохшая, очень высокая лесная трава. По этой тропе редко кто ходил в прошлое время. Если по сухой лесной траве потоптаться, она больше не поднимается, думал он. Он с напряженным лицом двигался дальше. Это было больше похоже на подкрадывание, наполовину нагнувшись, так как время от времени над тропой нависали ветки, которых он не хотел касаться. Если я буду идти в этом темпе, через два часа я буду на озере, подумал он. Происходит ли что-то на дороге? Разведчики говорят: только немного машин. Он шел с упругими суставами. Один километр, потом еще один. И еще один, и следующий.
Девушка, о которой он думал, жила в гнезде, в котором был размещен штаб полка. Нездешняя, из Бреслау. Учительница, которой взбрело в голову учить детей в дюжине километров за линией фронта, детей, которые ночью спали рядом с уложенными чемоданами родителей. Она не представляла собой ничего особенного, но она не спала с каждым, а это все-таки было достоинством в эти времена. Тимм должен был влюбиться в нее, прежде чем она оставила его на ночь у себя. Нужно уметь приспосабливаться. Завтра я выпрошу у каптенармуса несколько пакетов этого розового порошка для пудинга, думал он, она каждый раз рассказывает мне, какой чудесный вкус у пудинга, если он правильно приготовлен. С изюмом и миндалем. И с лимонными дольками. Есть ли у нее изюм? Миндаль? Лимонов нет и у каптенармуса. Но у него есть полмашины порошка для пудинга. Они взяли его с собой где-то при отступлении, потому что ничего другого там не было. Вероятно, он даже обрадуется, если избавится от чего-то из этого. На этот раз я останусь у нее на три дня. Это можно делать. Лейтенант согласится. Они дадут ему Рыцарский крест, если мы остановим русских здесь на этом краю так, что они долго не смогут перейти в наступление. И кто делает эту работу? Тимм! Итак, Тимм будет три дня есть розовый пудинг у учительницы Ханнелоры. С изюмом или без него. Вообще, я буду ей…
Он молниеносно бросился на землю и бесконечно долго оставался лежать неподвижно. Но это только казалось, что он не двигался. Он приготовил пистолет-пулемет к стрельбе и ожидал, что его кто-то окликнет, что щелкнет затвор винтовки. Ничего не случилось. Тогда Тимм подтянул
бесконечно медленно бедра к животу и поднялся настолько, что мог видеть поляну над кустами.
Собственно, это была не поляна, а только местом в лесу, в котором деревья выглядели очень далеко друг от друга. На несколько сотен метров там было только несколько тонких маленьких деревцев и кустов. Тимм не увидел ничего больше, как короткий, толстый ствол самоходного орудия.
Он оставался лежать неподвижно на внешней стороне лесной тропинки. Он почти не двигался, когда механически поднес сложенную карту ко рту. Он кусал и жевал ее, в то время как его широко раскрытые глаза пристально смотрели на машину, которое поворачивало к нему свой борт. Он сразу узнал, что это советская самоходка. Она было более приземистой, чем немецкие штурмовые орудия. Ствол была коротким, коническим и толстым. Он был повернут горизонтально, в походном положении. Теперь Тимм узнавал также гусеничные траки и корму машины с глушителями. И он видел, что она была здесь не одна. Она не была подбита, забыта, никаких обломков с ржавеющими стальными листами. Это было одно из многих орудий, которые стояли между деревьями. Тимм мог видеть их. Они выглядели недалеко удаленными друг от друга, некоторые укрыты хворостом для маскировки от воздушной разведки. Их была дюжина или больше. Нельзя было видеть их все, и можно было предположить, что часть их стояла еще дальше в темноте под деревьями. Они стояли неупорядочено, и Тимм сразу уяснил себе ситуацию. Это была исходная позиция. Одна батарея или две или три, которые стояли здесь в готовности к открытию огня. Новая техника с востока, стянутая для предстоящего наступления, но находящаяся еще далеко от фронта. Настолько же далеко, как само наступление от сегодняшнего дня.
У машин не было никакого движения. Нигде не видно было часовых, как ни напрягал Тимм свои глаза. Он взволнованно жевал карту, напечатанную на бумаге с отвратительным вкусом, до тех пор, пока не почувствовал, что от нее осталась только лишь кашица из бумажных волокон. Потом он дал ей выпасть изо рта и осторожно запихнул ее под листву. Он чувствовал, как пот на его спине становился ледяным. По пояснице ползло двигающееся, охватывающее тело вплоть до бедер ощущение. Тимм боялся часового, которую он не видел и который должен был стоять, все же, где-нибудь, спрятавшись между деревьями, неподвижно наблюдая за ним. Он до боли прикусил губу, когда заметил, что его руки дрожали. Ты не можешь терять нервы, парень, говорил он себе. Он внушал это себе и старался успокоить руки и справиться с ощущением в бедрах. Тебе нужно оставаться очень спокойным, Тимм. Если он увидел тебя, все же, то он будет стрелять рано или поздно, или он окликнет тебя. Если он увидел тебя! Но почему он должен увидеть тебя? Вероятно, он спит под каким-то деревом. Вероятно, они как раз его сменили. Впрочем, он давно окликнул бы тебя, если бы он тебя увидел. Вздор! Он тебя не видел! И он тебя не увидит. Потому что если ты услышишь, как он приближается, ты останешься лежать тихо на земле как пень. Он не двигался. Он только пристально смотрел прямо, и чувствовал, как пот тек у него из-под каски.
Однако он может видеть тебя, размышлял он снова. Он может видеть тебя и держать тебя теперь надежно под прицелом. Он может выжидать, играть с тобой, потому что он точно увидел, кто ты. Он может сидеть, ухмыляясь, за таким деревом и наблюдать за тобой, ты не ускользнешь от него. У них хорошие глаза. И они хорошо слышат. Может быть, они воняют чесноком и махоркой, но видеть и слышать они умеют. Не обманывай себя, Тимм, он сидит за своим деревом в засаде и с нетерпением ждет. И он убьет тебя. Нет сомнений, он убьет тебя, но только тогда, когда он будет уверен, что ты один, или вообще только тогда, когда он посчитает это правильным. Он позволит тебе трепыхаться как мышь в ловушке. Он хочет, чтобы ты нервничал, и это тоже удается ему. Он оставит тебя лежать здесь, пока ты не обезумеешь от страха и вскочишь, и тогда он застрелит тебя как охотник взлетающую куропатку.
Ему казалось, что кровь остановилась в его артериях, как будто тело его сразу утратило тепло и стало не живым, а ледяным, неподвижным. Тогда его охватила дрожь, и он напрасно старался утихомирить свои руки. Ему давно пришлось убрать палец со спускового крючка пистолета-пулемета. Он стискивал зубы, так как думал, что шум от их стука может долететь до самоходки. Вокруг него было тихо. Ничего не шевелилось. И именно это заставляло Тимма нервничать. Если бы в этот момент на поляне перед ним бегали солдаты в суматохе, если бы прожекторы вгрызались в лесную темноту и направленные наобум винтовочные выстрелы трещали бы в кустах рядом с ним, тогда Тимм был бы спокоен. Но эта тишина пугала его. Он лежал на животе на краю лесной тропинки и до крови закусил губу. Только когда прошли несколько минут, он внезапно почувствовал боль в губе. Он сказал себе, что эта губа не понравится Ханнелоре. И в то же самое мгновение, когда он говорил это себе, он знал, что он преодолел наихудшее.
Он черпал глубоко воздух и внимательно слушал в лес. С успокоением он заметил, что его руки снова стали уверены. Но одновременно мысль о других солдатах начала волновать его. Он знал, что с ними произойдет то же, что и с ним. Разведчики не обнаружили это скопление самоходных орудий шторма. Оно была преградой, которую нельзя было предвидеть. Разведчики считали этот лес абсолютно надежным. Тимм размышлял, как будут вести себя другие солдаты его группы, если столкнутся с тем же, что он. Хватит ли им вообще присутствия духа, чтобы молчать, или они, вероятно, обнаружат вражескую позицию слишком поздно?
Сразу он снова почувствовал свои члены. Это был знак того, что он снова был способен к действию. Тимм снова существует, подумал он мрачно, Тимм еще жив! Он почувствовал бутылку водки в кармане брюк и удивился, что она не разбилась. У них толстое стекло, подумал он. Потом он осторожно снова положил палец на спусковой крючок пистолета-пулемета. Он сделал простое соображение: если часовой держит тебя на прицеле, он тебя застрелит так или иначе. Если он тебя не держит на прицеле, то он выследит тебя, если ты здесь еще долго будешь валяться. Итак: твой шанс – исчезнуть. Это последний шанс, и не определено, что тебе повезет, но ты должен попробовать.
Он не собирался ползти назад, чтобы предостеречь других. Они должны были быть на определенном расстоянии за ним, но они шли по другим тропам. Он думал только о себе, и он двигался бесконечно медленно по лесной тропе обратно. Он прополз несколько сантиметров, четверть метра и полметра, один метр и еще один. Ничего не происходило. Лес оставался спокойным, и звезды все так же мерцали непостоянно как раньше. Тимм полз, слизывая при этом соленую кровь с раскушенной губы. Он полз дальше и дальше, и, наконец, он дополз туда, где он больше не мог видеть самоходку. Было темно, и он мог видеть только пару метров пути перед собой в слабом свете звезд, который падал через кроны деревьев. Дальше темнота поднималась как тупая стена, и Тимм думал: там ты лежал еще несколько минут назад, и никто не стрелял. Нет никого, кто видел бы тебя. Он остановился и внимательно прислушался. Затем он поднялся на ноги и взял под руку пистолет-пулемет. Он бежал как по команде, с кошачьим проворством, беззвучно, большими, неравномерными скачками. Он пронесся несколько сотен метров между собой и местом, на котором стояли самоходки, и только тогда остановился, запыхавшись, согнувшись, застыв, как статуя, когда из кустов со стороны пути внезапно голос тихо окликнул его по имени.
Цадо внезапно потянул Биндига в сторону между ветвей, прижав при этом палец к губам; у него был тонкий слух, и тяжело ступающие звуки резиновых подошв Тимма не ускользнули от него. Они увидели его бегущего по тропе и знали, что что-то произошло. Когда они остановили его, то подтянули его к себе под защиту кустов, и Тимм шепотом пыхтел: – Уходим! Они там впереди…
– Спокойно…, – прошептал Цадо, – только спокойно, Клаус. Они тебя видели?
– Нет, – ответил Тимм, – но мы там не пройдем. Другие тоже не пройдут. У них там посреди леса стоит батарея самоходок, и они будут…
Автоматная очередь разорвала его фразу. Она была совершенно неожиданной, в сильном удалении, но не настолько, что она не имела бы значения. Это был сухой, лающий треск русского оружия, длинная очередь автоматного огня и после секундной паузы еще одна, более короткая, за которой пока последовала тишина.
Трое сидели в кустарнике возле дороги. Цадо затащил Тимма, еще во время автоматного лая, глубже за ветви. Они внимательно прислушивались несколько секунд. Ничего не происходило. Ночь снова была тиха. Но тишина была обманчива, каждый из троих это знал. Часовой, или один из часовых, был предупрежден; кто-то из других мужчин прибежал ему прямо в руки. Биндиг расстегнул карман комбинезона и вынул обе ручных гранаты. Он быстро проверил взрыватели и закрепил оба яйцевидных, рифленых стальных корпуса на петле портупеи. Он сбросил уже расстегнутую русскую шинель с плеч и снял меховую шапку с каски. Он не делал это особенно быстро, как раз так, как делают что-то, что так же неудобно, как и необходимо. Он затянул кожаный ремешок каски и убедился, что первый патрон из магазина уже лежал в патроннике пистолета-пулемета. В конце концов, он взял пистолет и вынул магазин. Он отстрелял четыре патрона в будке путевого обходчика. Ровно столько патронов и не было в магазине. Он засунул руку в карман и вытащил четыре патрона, которые он по очереди вставил в магазин. Снаряженный магазин он вставил в пистолет; потом он тоже перезарядил оружие и больше не ставил его на предохранитель.
Покончив с этим, он тихо сказал обоим другим: – Мы собираемся лежать здесь дальше?
Но он не получил ответа, так как в то же самое мгновение там, где раньше лаял пистолет-пулемет, взорвалась граната, и несколько русских жестких голосов прокричала какие-то непонятные слова. Зазвучал свисток, и затем послышалось несколько отдельных выстрелов.
Тимм как будто очнулся из оцепенения, когда зазвучал свисток. Он услышал его и в то же самое мгновение увидел перед собой картину происходившего. Командир взвода, выстраивающий своих людей для прочесывания леса. Тимм автоматически поднялся. Он сразу почувствовал, что он снова стал прежним. Он приготовил пистолет-пулемет и протиснул верхнюю часть туловища сквозь ветки. На тропе ничего нельзя было увидеть. Он махнул обоим и вышел. Они последовали за ним. Они спешили за Тиммом назад тем же путем, которым они пришли. Снова за ними послышались выстрелы. Но они предназначались не им. Они уже сильно удалились от места, где стреляли. Это были отдельные ружейные выстрелы, громкие и резкие, между ними автоматные очереди. Тимм остановился в движении и внимательно прислушался назад. Потом он тихо сказал: – Это была «Беретта».
Он сказал это так, как будто он до этого мгновения еще верил в то, что стрельба возникла случайно или по ошибке и его солдаты остались незамеченными. Это прозвучало как печальная констатация факта.
– Вы должны идти дальше справа от меня, – сказал он. – Я так и думал. Самоходки стоят одна за другой. В темноте их можно обнаружить только случайно.
«Беретта» все еще стреляла. Она отдавала короткие, экономные очереди автоматного огня. Другое оружие лаяло зло, долгими, заглушающими друг друга очередями. Тимм ничего не говорил, но он знал, что там лежал только один из его людей и защищался. Другие были либо мертвы, либо они оставили того одного. Трудно было решить, поступили ли они при этом правильно.
– Чего ты хочешь? – спросил Цадо. Тимм указал в направлении, откуда они пришли, и быстро произнес: – Назад до опушки леса, и тогда все время вдоль опушки на восток, пор пока мы не выберемся из этого кавардака.
Цадо кивнул. Они поспешили дальше, и треск выстрелов за ними становился слабее с каждой минутой. Потом они услышали, как «Беретта» прекратила стрелять.
– Всё! – прохрипел Цадо. – Он довольно долго продержался. Но в этот момент гораздо дальше слева начала стрелять еще одна «Беретта», и глухо звучащие взрывы гранат смешивались с ее очередями.
Тимм скривил лицо. Он выглядел, как будто ему было больно. Но другие не видели это. Тимм размышлял, останется ли от его людей еще один. Это лучшая группа из всей кучи, думал он. Эти молодые парни самые лучшее. И они застрелят их мне одного за другим.
Они быстро добрались до опушки леса. У моста не было никакого движения. Но в воздухе лежал тонкий след дыма. Тимм понял, что котел паровоза взорвался.
Они двигались в тылу леса на восток и сделали большой крюк, который уводил их далеко от места, на котором стояли самоходки, но также и далеко в сторону от озер, между которыми их должен был забрать самолет. Тимм точно запомнил карту. Он приказал Цадо и Биндигу уничтожать также и их карты, и они маршировали дальше, ориентируясь по звездам. Они вступили в неизвестную область, которой не было ни на карте, ни на макете в ящике с песком, который они построили в штабе для подготовки к этой операции. Через час они уже не слышали ни стрельбы, ни взрывов гранат. Они добрались до дороги, которую им предстояло пересечь, и по дороге ехали грузовики с пушками на прицепе. Это были короткие колонны, между ними стремительно неслись маленькие, маневренные штабные машины. Через полчаса им удалось пересечь дорогу. Лес на другой стороне поглотил их, и они прошагали много километров в этом лесу дальше на восток, прежде чем снова свернули к северу.
Перед ними лежала поросший спутавшимся кустарником ландшафт, плоский и скучный. У Тимма на запястье висел крохотный компас. Он надежно вел обоих других. Он был уверен, что избежал опасности. Они прошли уже большое расстояние от места стрельбы. Здесь была область, за которой всегда меньше всего следили за каждым фронтом. Территория между позициями и тыловыми районами. Легкая артиллерия стояла дальше впереди, тяжелая была расположена на много километров восточнее. В этой области жизнь происходила только на шоссе и дорогах. Леса были тихими.
Когда зарозовел рассвет, трое почти закончили свой большой крюк. Они устали и проголодались. Их шаги были слабы, и Тимм знал, что их внимание ослабло. В этом их состоянии они могли бы среди белого дня напороться на колонну русских. Он торопился пройти вперед и гнал их, пока он не смог узнать в утреннем сумраке водную поверхность озера. Там он оставил их и начал искать посадочную площадку. Он нашел ее и убедился в том, что она была пригодной. Он должен был собрать все силы, когда залез на отдельно стоящее дерево, чтобы рассмотреть местность. Он мог видеть далеко, но насколько хватало взгляда, он не заметил ничего, что двигалось, ничего, что возбудило бы его внимание. На обратном пути он нашел углубление в земле, покрытое густым кустарником. Он заполз внутрь и убедился, что там хватило бы места для трех человек. Тогда он подогнал двух других, привел их к этому углублению и сказал: – Ложитесь там и спите. Я разбужу вас, когда устану.
Томас Биндиг проснулся, когда был уже поздний вечер. Он почувствовал холод во всех членах и медленно поднял голову. Каска лежал рядом с ним, и ствол пистолета-пулемета указывал точно ему в лицо. Он неосознанно отодвинул его и поднялся. Ветки кустов, между которыми он лежал, свисали ему на лицо. Он пошевелил закоченевшими пальцами, и тогда услышал возле себя голоса. Это был Тимм, беседовавший с Цадо. Он видел их в то же самое мгновение, они сидели на краю желоба и пристально смотрели на равнину между озерами. Он не мог слышать, что они говорили, и из их странного поведения он тоже ничего не мог понять. Они не обращали внимания на него, когда он подполз к ним и присел на корточки рядом с Тиммом и спросил: – Почему вы дали мне так долго спать? Тимм не ответил на вопрос. Он вытянул голову и тихо сказал Цадо: – Мы должны вынести его. Он сидит посреди свободного поля. Если он зажжет себе сигарету, это будет видно даже в Москве…
– Что случилось? – поинтересовался Биндиг. Он чувствовал себя выспавшимся и свежим. Только немного замерз.
– Мы всегда должны были брать с собой стакан, – заметил Цадо. – Ты видишь, что иногда он нужен. Он единственный, кто выбрался?
– Возможно, – ответил Тимм. – Во всяком случае, это Малыш. Ему, похоже, тоже досталось…
Биндиг не мог опознать фигуру. Он напрягал глаза, но на том месте, где другие видели сидящего человека, он мог видеть только темную глыбу, лежавшую на земле. Было уже слишком темно, чтобы что-то разглядеть.
Цадо посмотрел на него и спросил: – Выспался?
– Вы позволили мне спать весь день…, – сказал Биндиг укоризненно.
– Что тут происходило?
– Ничего. Пока Малыш не появился.
Это был старший официант из Штутгарта. Они видели его уже издалека, как он подкрадывался, прижимаясь к кромке кустов, окружавших озеро. Они наблюдали за ним, но не окликнули, так как не знали, преследуют ли его. Но было очевидно, что его не преследовали. Он упал на землю в нескольких сотнях метров от их убежища к земле и остался лежать там. Темный комок, прикрытый каской, лицо еще вымазано сажей с последней ночи.
Когда Цадо подполз к нему, он молниеносно поднял свой пистолет-пулемет, но тут же снова опустил его, с удивленным, тревожным выражением на его грязном лице. Он широко раскрывал рот, но с его губ срывалось только хриплое карканье. Его глазные яблоки были с красными жилками, веки опухли. Губы вздрагивали как у ребенка в секунды, предшествующие пищащему плачу. Он смотрел на Цадо безумными глазами. Он дрожал во всем теле. Цадо положил руку ему на локоть и спокойно сказал: – Малыш… это я! Давай! Еще кусочек…
Только тогда он видел кровь. Он быстро занялся этим и осмотрел рану. Старший официант стонал и хрустел зубами. – Спокойно…, говорил Цадо тихо, но энергично, – только спокойно, Малыш, иначе папа рассердится!
Ему разорвало левое плечо. Камуфляжный комбинезон был в крови до запястья и обнаруживал на всей левой стороне тела темные, влажные пятна. Наверху, недалеко от плеча, он был порван. Нижнее белье заскорузло от крови. Рана была большой. У нее были грязные, рваные края. Цадо увидел на первый взгляд, что кость не была задета. Это было большое ранение мышцы, осколочная рана, не от пули. – Граната? – поинтересовался он.
Раненый застонал. Когда Цадо вынимал куски материи из раны, тот открыл рот и хотел извергнуть крик. Но Цадо перевязывал не первого раненого. Он прижал ему ладонь ко рту, и человек не смог издать ничего, кроме глухого гортанного звука.
– Спокойно…, – снова сказал он, – скоро все кончится. Тогда прилетит тетушка «Ю», и мы улетим к девушкам…
Он увидел, что на рукаве висел перевязочный пакет. Раненый, должно быть, забинтовал себя самому, но бинт сидел недостаточно крепко и сполз. Цадо раскрыл собственный перевязочный пакет и наложил его на рану. Его не хватало, так как осколок вырвал большой кусок мяса. Цадо временно закрепил марлю, и потом сказал раненому: – Теперь очень тихо. Там впереди убежище. Я отнесу тебя. Тебе больно?
Старший официант стонал. Но ранение было не настолько тяжелым, что он не смог бы идти. Когда Цадо хотел поднять его, он поднялся самостоятельно и стал на ноги.
– Давай, – твердо просил его Цадо, – держись за меня. Он закинул руку солдата себе через плечо. Мужчина шатался. Он наверняка потерял слишком много крови, думал Цадо. Как ему это только удалось, что они его не поймали?
Они разместили его между кустами и перевязали его. Они засунули ему в рот шоколад, который у него был в карманах, и накормили его крепкими галетами с немного заплесневелым вкусом. Потом они дали ему болеутоляющие таблетки. Это были крохотные, белые жемчужины с горьким вкусом. Но они были настолько сильны, что смягчали и делали сносной на некоторое время самую невыносимую боль. Они засунули ему таблетки в рот, и Тимм держал ему у губ бутылку водки, которая все еще была у него в кармане брюк. Старший официант пил, как будто это была вода. Он запил горькие таблетки крепкой водкой и тогда откинул голову назад. Трое других солдат сидели молча. Но он заговорил только после того, как таблетки подействовали. Он откашлялся и произнес с искривленными от боли углами рта: – Дайте мне еще водки…
Тимм подал ему бутылку. Раненый поднялся и взял бутылку правой рукой. Он пил, не останавливаясь, и когда он вернул бутылку Тимму, то смог выпить больше четверти литра.
– Дружище, ты будешь синим, как береговая гаубица, – сказал унтер-офицер. Но раненый покачал головой. – Боли. Эта штука хорошо помогает против болей, – произнес он хрипло. Тогда он потребовал сигарету. Он закрывал огонек ладонью и смотрел в одну точку. Тимм все еще наблюдал за окрестностями с краю низины. По прошествии некоторого времени раненый тихо сказал: – Не стоит напрягать глаза, Клауса. Никто больше не придет. Остальные четверо мертвы. Он опустил голову и затянулся сигаретой.
– Все? – спросил Тимм. – Или кто-то еще ранен? Может, кто-то один еще придет. Ты ведь пришел!
– Нет! – ответил раненый. – Никто больше не придет. Они мертвы. Они уже погребены. Я видел, как они их закопали.
Он говорил с тяжелым языком, как будто разговор причинял ему боль. Он был слаб и обескровлен. Только водка удерживала его.
– Вы попали прямо на позицию? – спросил Тимм. – Она была чертовски хорошо спрятана. Я тоже заметил ее только в самый последний момент.
Раненый кивнул. Тогда он снова упал назад и продолжал говорить лежа, не глядя на других.
– Я был один. Я был за другими. Не на той же самой дороге, но недалеко от нее, в стороне. Я это точно видел. Оба передо мной сразу оказались перед часовым. Тот тут же открыл огонь. Они застрелили его, но там был еще второй, и он был спрятан. Он застрелил их обоих. Тогда весь лагерь встрепенулся. Но они не заботились о погибших. Они сначала обыскали лес. Двое других наших подбежали к нам на выстрелы. Они хотели помочь нам. Но это было их ошибкой. Это продолжалось полчаса, потом исход боя был ясен. Мертвы. Все.
Он лег на бок и закрыл глаза. Другие ничего не говорили. Темнело. Небо было ясным, как и в предшествовавший день. Звезды были еще блеклыми, но их свет увеличивался с каждой минутой. Здесь между озерами было тихо. Во второй половине дня время от времени вдали был слышен шум моторов, но он были только очень тихим и неясным. Где-то там, на дороге, происходило движение.
– Если бы я только знал, ищут ли они нас еще, – тихо произнес Тимм. Он уже думал о самолете, который здесь должен был бы сесть. Конечно, тогда все произошло бы быстро, и они уже через пару минут были бы снова в воздухе. Но было неизвестно, не шатались ли где-то между озерами русские патрули.
– Нет, – сказал раненый, – они больше не ищут. Они прекратили. До полудня они искали. Потом прекратили. Они только удвоили число часовых.
– А ты? – поинтересовался Тимм. – Как тебе удалось, что они не поймали тебя? Как ты смог видеть все это, чтобы они при этом тебя не нашли?
Раненый слегка двинул левой рукой. При этом он снова скривил лицо, и Тимм спросил: – Еще болит? Ты хочешь еще таблеток?
– Ничего, – сказал раненый, – днем было хуже. Они меня не видели. Я шел за другими. Когда начали стрелять, я залез на дерево. Я был далеко сзади, но тогда, когда я был наверху, другие отошли назад, пока не оказались почти под моим деревом. Я сидел там наверху, и внизу они застрелили друг друга. Они шли то туда, то сюда. Из наших это были Беккер и Фликс. Они полностью расстреляли свои магазины, но очень медленно, так что им надолго хватило тех патронов, что были у них в карманах. В конце концов, у них были только лишь пистолеты. И тогда ножи. Но до этого не дошло. Русские окружили их, и у них не было больше никакого шанса. Те закидали их гранатами, и это был конец. В полдень они похоронили всех четверых. Мертвых. Всё.
– А ты? – спросил Тимм.
Раненый поднял голову. Его глаза блестели. У него жар, подумал Биндиг, у него начнется озноб через несколько часов, и он никого больше не будет узнавать.
– Я? – сказал раненый. – Я висел на моем дереве и ничего не делал. Я радовался, что они меня не видели. На них были эти проклятые черные чертовы шапки. Танкисты. Парни как деревья. Они похоронили Беккера и Фликса и двух других тоже. Они поймали их немного дальше слева. Лес был полон этими чертовыми шапками. Они не упустили ни одного уголка, но они ничего больше не нашли. Мое счастье, что у них не было собаки. Одна единственная ничтожная дворняжка, и меня бы здесь не было… Он умолк и снова опустил голову. Жар начал трясти его. Тимм снова протянул ему бутылку водки. Он чувствовал, как зубы раненого стучали о горлышко бутылки.
– Дружище, – сказал Тимм, – если мы попадем домой, они будут орать на нас, потому что мы потеряли четырех человек!
– Но моста больше нет, – сказал Биндиг, – пусть они сначала сами сделают что-то подобное. Взорвать мост – это не детская игра.
– Они закопали их, – прошептал раненый в лихорадочном бреду.
– Дай ему водки, – потребовал Цадо.
Тимм снова протянул ему бутылку. Он сказал: У тебя была дорога в голове? Ты ее сразу нашел?
Он не получил ответа. Раненый сглотнул. Спустя долгое время он зашептал: – Это пистолет-пулемет Фликса. Он потерял его, когда бежал назад. Он был уже подстрелен и бежал совсем согнувшись. Рана в живот, я думаю. Я поднял его сегодня во второй половине дня, когда я улизнул.
Он сжимал зубы. Озноб тряс его. – Иисус, Мария, дай ему водки! – говорил Цадо. – Дай же ему водки, машина прилетит только через несколько часов.
Биндиг зажег сигареты и раздал каждому по одной. Раненый быстро курил, длинными, глубокими затяжками. Сигарета становилась влажной в его пальцах, так он потел.
– Что это было? – спросил Биндиг, показывая на плечо. – Гранаты?
– Да… , – тяжело дышал раненый. Зубы его стучали, пока он говорил. – Они бросали эти проклятые ручные гранаты, и осколки жужжали мне возле ушей. Это был большой осколок, кровь капала сверху вниз на землю. И я не мог добраться до перевязочного пакета, я должен был держаться. Рукой. И внизу тоже. Это… Есть у вас еще эти чертовы таблетки…
Когда пришло время появиться самолету, Цадо сказал Тимму: – Теперь уже всего хватает, разве только, если самолет не прилетит… Тимм установил световые сигналы. Он сидел рядом с Цадо на озере и ждал шума моторов, чтобы зажечь магниевые факелы. Хорошо, что они были у меня, а не у других, подумал он. «Юнкерс» повернул бы и улетел домой, знаю я этих летчиков.
Похолодало. Воздух был прозрачен от мороза и свеж. Теперь, в темноте, шумы с дороги, кажется, слышались ближе. Но шумов этих было немного. Время от времени отдельная машина, потом опять короткая колонна. – Если самолет не прилетит, я построю тут себе хижину, и буду охотиться на уток, – сказал Цадо. – На этих озерах всегда есть утки. Я настреляю уток и принесу их русскому комиссару. Может быть, он достанет мне авиабилет в Германию.
Он ждал, что Тимм ухмыльнется, но Тимм не ухмыльнулся, нет. – Вот черт! – произнес, наконец, он ворчливо. – Мы – самая печальная кучка во всем великогерманском Вермахте. Нет кучки печальнее на свете, чем мы. Если все пойдет так и дальше хотя бы еще один квартал, они сожгут нас всех до последнего человека. Они думают, что несколько солдат смогут сделать то, с чем не справляется целая армия.
– Что? – спросил рассеянно Тимм.
– Задержать русских, – пояснил Цадо. – Задержать русских и арестовать Сталина. Как раз перед Берлином. Может быть, в самом Берлине, возле варьете «Скала».
– Они пока еще не в Берлине, – ответил Тимм глухо.
– Но скоро они там будут, – сказал Цадо. – Недавно они сбросили листовку, там они писали, что они захватят Берлин и разобьют национал-социализм и разгромят военных преступников и освободят заключенных из концентрационных лагерей и введут демократию. Они поставили себе массу задач. Знаешь ли ты, что такое военные преступники? Или что такое демократия?
– Нет, – ответил Тимм, качая головой, – я солдат. И тебе лучше было бы помалкивать о такой чепухе.
– Я не знаю, – сказал Цадо, – меня это не касается, но недавно они сбросили листовку, там сверху стояло стихотворение. Фюрер даже не может делать это с женщинами, там было написано. С хорошей рифмой. Поэт якобы однажды жил в Берлине…
– Я не знаю никаких поэтов, – возразил Тимм, – я солдат, и мне все равно, умеет фюрер управляться с женщинами или нет. Пока идет война, нужно сражаться. Когда она закончится, мы получим другое задание.
– Если ты тогда будешь еще жив, – заметил Цадо. – Но на это не похоже. Если эти там на самоходках наденут свои чертовы шлемы и попрут в сторону Берлина, то нам крышка.
– Не рассуждай так много, – сказал Тимм, – ты ничего в этом не понимаешь. И будь осторожен, когда болтаешь о твоих листовках. Не каждого, с кем ты разговариваешь, зовут Тимм. Некоторых зовут иначе, и они тоже знают, где живет полевая жандармерия.
Цадо вытащил жестяную фляжку с коньяком из кармана на икре. Он протянул ее Тимму со словами: – На, выпей глоток. Вот проклятое время. Сидим здесь на этом озере и не знаем, что подумать об этом мире. А про Гитлера и женщин я говорил только тебе.
Тимм выпил. Он вытер себе рот ладонью и вернул Цадо бутылку. – Хороший шнапс, – сказал он. – Иногда я – Клаус Тимм. Но иногда я также отвечаю за боевой дух в моем взводе, Цадо. Не забывай этого.
– Хорошо, Клаус, – согласился Цадо, – я не причиню хлопот. Я буду держать язык за зубами, пока все не кончится, и тогда мы узнаем, вероятно, что такое демократия и кто такие военные преступники, и мог ли наш фюрер управляться с женщинами или нет. Все в порядке.
Тимм резко поднял голову. Он внимательно вслушивался в темноту и поворачивал голову в разные стороны, чтобы перехватить слабый шум, который был в воздухе. Он приближался и становился все громче. Тимм посмотрел на часы. Маленькая стрелка стояла на двойке. Это был «Юнкерс». Тимм бросился бежать и зажег огни на одной стороне, пока Цадо зажигал их с другой стороны. Машина описала кривую, скользнула вниз и села. Она сразу развернулась и снова двинулась к позиции для взлета. Все происходило как на учениях. Они потянули раненого к входу. Он фантазировал, когда они приподняли его, и начал громко кричать. Теперь они больше не обращали внимания на это, потому что шум авиадвигателей был и без того достаточно громким, чтобы все вокруг его заметили. Они только торопились забраться в самолет. Радист закрыл за ними. Магниевые факелы еще горели, когда пилот снова запустил двигатели на полные обороты. Машина стартовала легко. Она пролетела несколько сотен метров над землей, потом поднялась выше и над озером повернула налево. Внизу медленно догорали магниевые факелы. Четыре маленькие, становившиеся все более микроскопическими, светлые точки.
– Что случилось? – спросил радист, тот самый, с которым они прилетели сюда. – Только лишь четыре человека?
– Они зарыли их…, – бормотал раненый. Он лежал на полу самолета. Они подложили под него пару лохмотьев. У него был сильный жар. На саже на его лице стояли капли пота.
Другие трое устало сидели на скамьях. Они положили в сторону оружие и отстегнули каски. В машине пахло горючим и смазочным маслом. Это был старый, давно отслуживший самолет. Но он летал спокойно и надежно. Не очень быстро и не очень маневренно. Это был как раз тот самолет, который мог подниматься от земли.
– Ваши разведчики заварили нам кашу, – сразу сказал Тимм возбуждено радисту. – Они ни хрена не сделали, ничего не выяснили. Они даже не увидели колонну самоходных пушек в лесу! Эти четверо на вашей совести, на совести ваших пилотов и ваших наблюдателей с «шокакколой» и чаем в термосах, и с желтыми шарфами и с толстыми перстнями с печатками!
Радист взволнованно покачал головой. Он сказал: – Мне жаль. Вероятно, действительно кто-то из нас виноват в этом. Но, вероятно, русские тоже были виноваты в этом. Вы всегда думаете, что они болваны или дураки. Но они тоже знают, как вести войну. Иногда они хитрее нас…
– Иногда…, – повторил Тимм, – иногда у меня есть впечатление, что именно вы, герои в галстуках, хотите рассказать нам, что умеют русские. Мы это и сами знаем. Лучше вас…
Радист ушел, не сказав больше ни слова. Он не в первый раз летел с такой группой и знал, как ведут себя нервы этих людей, когда их забирали. Он задвинул перегородку за собой и оставил мужчин в одиночестве.
– Они похоронили их…, – фантазировал раненый, – и вы виноваты! Вы убили их! Вы! Он кричал, но его голос звучал слабо в реве моторов. Тимм снова опустил голову и пристально посмотрел на носки его ботинок. Его пальцы согнулись на коленях.
– Спокойно! – сказал Цадо раненому. – Только спокойно, Малыш! Теперь ты скоро будешь дома. Тогда придут медсестры, и каждый вечер они будут целовать тебя перед сном, и когда ты снова сможешь двигать лапами, ты получишь дополнительную комнату с дамским обслуживанием, рано утром, в полдень и вечером, и три раза к кофе, до тех пор, пока ты можешь. Самые прекрасные дамы из всего дивизионного медпункта, блондинки, брюнетки и рыжие, чего ты хочешь, гигиенично безупречные и очень заботливые! Они напудрят тебе зад, и будут чистить нос, и мы придем через день и принесем тебе шнапс, чтобы ты был в хорошем настроении, когда они появятся вечером только что вымытые в твоей комнате. И теперь замолчи и спи, иначе ты и нас еще всех сведешь с ума, у нас больше нет болеутоляющих таблеток.
Он чувствовал, как что-то начало дрожать в нем. Он знал это, это было всегда так. Нервы, думал он, это снова начинается. Вокруг его головы, кажется, лежало железное кольцо, которое сжимало ему мозг. Он начал покачивать коленями.
– Вы все…, – пыхтел раненый на полу, – вы застрелили их! Вы и меня тоже хотели застрелить… Но меня нет! Не меня, собаки… Я взорву вас… в… Он приподнялся с лихорадочно блестящими глазами. При этом он опирался на здоровую руку и таращил глаза на других. Из нагрудного кармана он вытянул помятую сигарету и засунул ее между губ. Затем он вытянул спички из кармана и пытался зажечь рукой сигарету. – Не курить! – прикрикнул Тимм сердито. – Ты что, с ума сошел? Весь отсек – это один сплошной бензиновый пар! Он увидел, что раненый не обращал на него внимания и продолжал заниматься спичечным коробком. Он сломал одну спичку и выловил следующую из коробка. – Дай прикурить, – возбужденно просил раненый. – Дай мне прикурить, свинья!
– Ложись, – тихо сказал Тимм, – скоро мы сядем, тогда ты сможешь курить.
– Огня! – кричал раненый. – Ты, свинья, ты должен дать мне огня, или я тебя расстреляю!
Биндиг видел дрожащие руки Цадо. Он взял раненого за плечо и мягко сказал ему на ухо: – Подожди немного, пока мы не выйдем из машины! Ложись туда…
Но раненый оттолкнул его назад и с невероятным напряжением поднялся на ноги. Он теребил правой рукой кобуру и кричал: – Эта свинья должна дать мне прикурить! Я расстреляю его! Я выстрелю ему… в рожу…
Он уже открыл кобуру и вытаскивал пистолет. Но он не смог навести его на Тимма, потому что тот вскочил и ударил прикладом «Беретты» по запястью раненого. Он, с криком от боли, выронил пистолет и бросился на унтер-офицера. Другие вскочили и попытались оттеснить его в сторону. Тимм не нуждался в их помощи. Он сильно ударил маленького солдата в лицо. Это был короткий, хлопающий удар, и мужчина взвыл. Тогда Тимм ударил его кулаком под грудную клетку, и тот сломался. Было похоже на то, как будто бы вся сила, которую он как раз использовал, быстро сгорела. Он съежился на полу самолета, и слезы начали бежать по его лицу. Он всхлипывал, когда Биндиг взял его и снова отнес на лохмотья, но больше не защищался. Радист отодвинул перегородку и крикнул: – Посадка через три минуты!
– Они похоронили их…, – стонал раненый, жалобно всхлипывая. Тимм поднял с пола пистолет и засунул его на место. Машина скользнула ниже, спускаясь к аэродрому.
Деревня
Деревня называлась Хазельгартен. Она лежала в нескольких километрах за фронтом, и насчитывала почти три дюжины домов. Они стояли рядами плотно друг с другом, группируясь вокруг извилистой, с ямами, грязной дороги, грязь на которой замерзла в причудливых формах.
Только один единственный хутор лежал на удалении несколько сотен метров от деревни. Не очень большой двор с пристроенным к дому амбаром и с высоким деревянным забором. Между хутором и деревней лежала широкая равнина. Она охватывала деревню.
Равнина лежала там, плоская как аспидная доска, рассеченная крохотными ручьями. У леса тут не было четких границ как в других местностях. Он разросся дико, очевидно необузданно. В одном месте он запускал растрепанный, поросший дикими кустами язык на поля, в другом группа сухих лиственниц теряла дерево за деревом. Между ними были широкие пашни и. тонкие, изборожденные выбоинами дороги, время от времени межевой знак или узенький мост. И тут и там возвышение, низкие холмы. Больше ничего. Только мягкие изгибы леса на краю закоченевшей от мороза равнины, и над нею вороны с хриплым криком. В деревне больше не было жителей, кроме одной женщины на хуторе в стороне от поселения. Там жила она и ее батрак, а в домах квартировали солдаты роты фронтовой разведки, хранили свое оружие и технику, одежду и продовольствие. Между домами стояли машины. Водители закопали их выше осей в землю, накинули на них ветки и маскировочные сети, самыми разными способами пытаясь сделать их невидимыми. Это были маленькие, вездеходные полугусеничные бронетранспортеры с резиновыми подушками на гусеницах и угловатыми кузовами, грузовики и быстрые, маневренные легковушки для командира роты. В нескольких сотнях метров перед деревней лежали ржавые каркасы батареи немецких зенитных пушек. Т-34 раздавили их тогда, когда Красная армия неожиданно попыталась перенести свой фронт за деревню. Это было локальным наступлением, и несколько дней линия фронта перемещалась взад и вперед, пока несколько быстро стянутых немецких полков не отразили наступление и не нанесли ответный удар. С тех пор деревня была снова в руках немцев, и фронт находился в нескольких километрах восточнее. Но за остатками зенитных пушек лежали еще разбитые гиганты обоих Т-34, подбитых панцерфаустами немецкого арьергарда из окон деревенских домов.
Земля на пашнях перед деревней была разорвана под замерзшей коркой и покрыта воронками от снарядов. В почву вмерзли предметы снаряжения солдат, патронные гильзы, короткие трубы отстрелянных панцерфаустов. Это был пустой, ободранный участок земли, который даже желтоватое зимнее солнце не могло заставить выглядеть веселее.
Если не считать солдат, деревня была мертва. Она пряталась за своими сломанными заборами и растоптанными садами. Окна опустошенных домов превратились в темные пещеры, в которых прятался ужас. Иногда ветер с дребезгом ударял створкой окна по стене, или со скрипом двигал ворота заборы. Навозные кучи покрылись слоем льда, белого инея. В амбарах расплодились крысы, которые мелькали как серые молнии по гумну. Осталось несколько голубей, они как потерянные сидели на наполовину обрушившихся крышах, но их было мало, так как солдаты стреляли по ним, а они были обучены убиванию. Они проживали в немногих оставшихся невредимыми домах или в подвалах руин. Они спали или дремали на газетах многонедельной давности. Они играли все игры, в которые можно играть с картами, и не очень громко шумели, так как все их непристойные шутки были израсходованы и больше не вызывали смеха. Смех возникал самое большее тогда, когда один или несколько возвращались из одной из тех деревень, которые лежали дальше в тылу, где еще остались девушки, о которых можно было рассказать приятелям. В определенные дни солдаты выходили небольшими группами наружу на территории вокруг деревни, тренировались в стрельбе, в бесшумном движении по замерзшей земле, во многом, что нельзя было забывать во время тупой монотонности сельских дней и ночей. Иногда после этого собирали группу и грузили в машину. Солдаты оставляли все свое имущество. Их солдатские книжки и их деньги, письма их жен и незнакомых девушек, фотографии их детей, даже порнографические фотографии времен пребывания в Голландии и Франции. Они уезжали как безымянные, дальше в тыл, в близость аэродрома, где их тренировали на местности, очень похожей на ту, куда им предстояло высаживаться. Они сотни раз разучивали на макете в ящике с песком их предстоящие действия, они проползали расстояния, которые им пришлось бы преодолевать после прыжка, так же часто они репетировали с куклами из соломы, как нужно прыгать и убивать ножом часовых, они тренировались с взрывными зарядами и бутылками с зажигательной смесью, они спали несколько дней под открытым небом, без одеял, так же как им предстояло сделать это позже. Потом они получали все, в чем они нуждались. Оружие и сконцентрированное продовольствие, галеты и лимонные дольки, шоколад и таблетки первитина. Когда они взлетали, они боялись и дрожали. Но после того как самолет поднимался, этот страх медленно начинал смягчаться. Он исчезал у большинства мужчин, когда они касались чужой земли. Их нервы были похожи на натянутые стальные струны, но они становились мучительными проводами с электрическим зарядом, когда большое напряжение ослабевало, когда они были на обратном пути, когда они снова приземлялись или когда они ползли через линию фронта и оставляли все за своей спиной. Все это протекало под ничего не говорящим наименованием „Spähtrupp" – разведывательный дозор, и никто, кроме офицеров Ic (разведотдела) групп армий не знал точно, что представляет собой ремесло подразделений фронтовой разведки.
По дороге, которая вела в деревню Хазельгартен, тарахтел мотоцикл. Когда он остановился в деревне, солдат, сидевший скорчено на заднем сиденье, осторожно слез, потянулся и слегка постучал по шапке. На нем была маскировочная куртка поверх форменного кителя, шапка его съехала далеко на затылок, а белый шерстяной шаль он небрежно обмотал вокруг шеи. На бедре висел пистолет в видавшей виды кожаной кобуре. Он был гладко выбрит и его ногти под кожаными перчатками были сравнительно чистыми. Он пару раз топнул по мерзлой земле, а потом с улыбкой в уголках рта произнес: – Обер-ефрейтор Цадоровски благодарит за то, что подвезли.
Он вытащил из кармана брюк полную пачку сигарет и дал ее мотоциклисту. Тот снял перчатку и взял ее. Он вынул несколько сигарет и сказал: – У вашего брата, по крайней мере, всегда есть что курить.
– Это верно, – согласился Цадо в деловом тоне, – но зато у вас, штабных связных, всегда есть бабы поблизости. Это тоже нельзя забывать? Дать тебе прикурить?
– Нет, – ответил мотоциклист, – я должен прямо сейчас ехать дальше к этому чертовому командному пункту пехоты. Туда проложена телефонная линия, и они даже не замечают этого. Ты уже видел блондинку нашего казначея?
– Видел, – кивнул Цадо. Он с секунду подумал, потом взял сигарету из пачки и закурил. – Классная! – сказал он, пуская дым через ноздри. – У нее сиськи как у царицы Савской с пачки сигарет.
– Да, – заметил мотоциклист, – но она никого к себе не допускает. Даже нашего каптенармуса, а тот ведь может предложить не только жратву. Он когда-то был известен тем, что мог убедить любую.
Цадо осмотрелся на деревенской улице. Она была пуста. Он выпустил дым и заметил: – Вероятно, спит с казначеем. Так часто бывает.
Мотоциклист покачал головой. Это был маленький, коренастый солдат, который сидел как древесный клоп на сиденье машины. – Как раз и нет, – объяснил он Цадо, – казначей спит каждую ночь у тетушки из Союза немецких женщин. Мы это точно видели.
– Ладно, – ответил Цадо, ухмыляясь. – Вам же все равно кроме этого нечего делать. Но тетушка из Союза немецких женщин так близко к фронту? Наверное, упустила обоз?
– Не знаю. Она все время читает речи деревенским бабам. Кроме того, у нее расширение вен, я сам видел.
– Ей нужно что-то сделать против этого. Я знал людей, которые умерли из-за расширения вен. И кто тогда на самом деле спит у блондинки?
– Никто, – ответил связной. Это прозвучало почти очень печально. – Она никого не подпускает к себе.
– Она ждет командующего генерала, – сердито сказал Цадо, – она хочет сделать хорошую партию. Это понятно. Они дороги, лучше держаться от них в стороне. Нужно заниматься только девушками, которые делают солидные цены. Могу тебе сказать, немец, что в блондинках нет ничего такого, чего нет в бабах, чистящих картошку на кухне. Когда бабы уже лежат в кровати, у них всегда одни и те же придурковатые лица.
Мотоциклист скривил губы. Потом он тихо засмеялся и сплюнул. Он думал о блондинке, и во время этой улыбки он ненавидел ее из-за ее упрямства. Он сказал, при этом несколько прищуривая глаз: „Если бы ты знал, как я ее проклинаю…
– Ты плохой человек, – произнес Цадо. Он покачал головой и засмеялся. – А бог наказывает плохих людей!
– Бог погиб под Сталинградом…, – проворчал водитель. – Я знаю! – кивнул Цадо. – Он оставил нам своего представителя. И провидение. Чтобы мы не проиграли войну. Он посмотрел на часы на его запястье и сказал: – Я не хочу прогонять тебя, немец. Но через полчаса прилетит «швейная машинка» и будет осматривать позиции. Ты будешь смеяться, но она стреляет по мотоциклистам-связным. Теперь я на твоем месте убрался бы…
Мотоциклист кивнул и подал ему руку. Он поблагодарил за сигареты, но Цадо отверг благодарность с жестом миллионера. Пока связной взбирался на мотоцикл, Цадо спросил его: – Ты завтра тоже поедешь этой дорогой?
Мотоциклист неопределенно пожал плечами. – А что? Ты завтра тоже появишься у нас в тылу?
– К сожалению, – вежливо сказал Цадо, – я должен был пообещать это даме из маленького домика за школой.
– Я могу быстро отвезти тебя домой, – сказал связной с улыбкой. – У дамы из маленького домика за школой есть родимое пятно возле пупка.
– Совершенно верно, – подтвердил Цадо равнодушно, – речь и идет об этом родимом пятне. Мотоциклист повернул ручку газа и заставил мотор пару раз взвыть. Потом он опустил передачу, и пока отпускал сцепление, крикнул: – Скажи мне, тогда я тебя отвезу домой!
– Договорились! – проворчал Цадо ему вслед. Потом он своим пританцовывающим шагом спустился вниз по деревенской улице за поспешно удаляющимся мотоциклом.
Бронетранспортер стоял, закопанный наполовину в землю, с обратной стороны последнего дома Хазельгартена. Это была маленькая, пестрая машина, облицованная стальными листами. Впереди два колеса, сзади гусеницы с резиновыми подушками. Над башней с 20-мм пушкой торчала радиоантенна. Машина поддерживала прямую радиосвязь с дивизией. Радисты сидели у аппарата день и ночь, но радиограммы для роты были скудными. Если их вообще присылали, то это были оперативные приказы, зашифрованные распоряжения отправить определенное количество людей от дивизионного штаба. На машине была также радиосвязь с передним краем обороны, но она не использовалась. Волна, на которой происходил радиообмен между передним краем обороны и дивизией, была неважна для передвижной радиостанции. Таким образом оставалось лишь задание принимать приказы из дивизии и передавать дальше командиру роты. Он жил в одном из маленьких деревенских домов. Он был щуплым, безбородым молодым человеком с белокурыми бровями, который едва ли заботился о службе. Он предпочитал предоставлять это дело унтер-офицерам. Только если требовалось принимать решения, за которые он должен был отвечать, он вмешивался во внутренний распорядок. Лейтенант Альф был мужчиной с небольшим фронтовым опытом. Но его дядя был Ic – начальником разведки дивизии, и он был обязан ему этим положением, в котором он играл лишь роль наблюдателя. Он никогда еще не был за русскими линиями, но это не мешало его солдатам. Они никогда не были приучены к тому, что офицер летел вместе с ними.
Земля вокруг бронетранспортера была растоптана и примерзшая. Это была тяжелая, темно-коричневая земля. Когда она была еще мягкой, солдаты выкопали ямы для машин. Считалось, что они были необходимы, если летчики атакуют деревню. Но никаких летчиков еще не было, с тех пор как рота разместилась в этой деревне. При случае один из медленных бипланов кружил над территорией, и тогда вся жизнь между домами замирала. Все же, казалось, что за русскими линиями в это время не было никаких других самолетов, кроме этой жужжащей, старомодно выглядевшей машины.
В нескольких сотнях метров сбоку от прижавшейся к стене последнего здания передвижной радиостанции посреди лугов и кустарников находился отдельный хутор. Он лежал почти скрыто в маленькой низине, можно было видеть только верхний этаж и крыши. Забор вокруг него был высок, планки без щелей. Местами они были исправлены, это было видно издалека по светлым пятнам.
Это сделал слабоумный, думал Томас Биндиг, он чинил забор, это можно видеть. Он столяр? Или плотник? Он глухой и немой с рождения и у него не все в порядке с головой? Как знать… Есть люди, вполне нормальные половину их жизни, а потом они испытывают что-то, от чего теряют разум. Он потерял к тому же речь и слух. На войне? Едва ли, так как для прошлой войны он был слишком молод. Он тогда, наверное, вообще еще не родился. И в этой войне, пожалуй, этого не могло быть, так как тогда они направили бы его в приют. Таких людей они не выпускают из военных госпиталей. Не хорошо, если люди видят, каким можно вернуться с войны. Женщина, кажется, обращается с ним хорошо. Она, похоже, спокойный человек, терпеливый. Есть ли у нее отношения с ним? Ее муж погиб, как говорят. Заменяет ли он ей его? Женщина выглядит хорошо. Вовсе не как крестьянка. Скорее как учительница из города. Только то, что у нее более грубые руки. Неудивительно, что солдаты смотрят ей вслед, если ее можно увидеть в деревне. Она бывает в ней достаточно редко. У нее умное лицо. И глаза странного коричневато-зеленого цвета.
Биндиг сидел на кожаном сидении в передвижной радиостанции и пристально смотрел через открытый люк на одинокий хутор. Он держал в руке сигарету, на которой висел длинный огарок пепла. Он надел наушники, но была включена не военная радиостанция, а радио. Биндиг слушал музыку. Это был концерт радио Бреслау, музыка звучала со скрипом и с искажениями, но Биндиг внимательно слушал ее с преданностью человека, который любит музыку и которому она нужна. Картины скользили перед его глазами, но они стирались все больше, и вместо них он видел все более отчетливо образ женщины из одинокого хутора. Ее глаза странного цвета, и ее спокойная походка, ее собранные волосы и снова всегда ее глаза. Он вскочил только, когда снаружи кто-то застучал по броне машины. В смятении он отложил наушники, и в то же самое мгновение лицо Цадо появилось перед люком. Цадо бросил взгляд в машину, потом кивнул и проворчал: – Я так и думал, все же… спрятался в угол, да еще и наушники надел! Ты просидел здесь весь день?
– Да, – ответил Биндиг, – еще до одного часа назад я спал, а потом я пошел сюда.
– Спал? – спросил Цадо, качая головой. – Но ты же хотел пойти за нами. Почему ты не пришел? Там была еще одна очень подходящая девочка…
Биндиг скривил лицо, выключая радиоприемник. Он положил наушники на ящик и поднялся. Пока он вылезал через люк, он медленно сказал: – Я слушал чудесный концерт. Иногда как раз не нужна и никакая девочка.
Цадо ухмыльнулся и сдвинул шапку далеко на затылок. Потом он произнес, подмигивая: – Ты и твои концерты. Постарайся, чтобы об этом не услышали ни ротный, ни Тимм. Они объявят тебя опасным человеком, если узнают, что ты слушаешь концерты. Впрочем, я принес две банки говяжьего рулета.
– Из дивизии?
– От дамы! – сказал Цадо. – От дамы, которая дружит с писарем. Что ты об этом думаешь?
Цадо снова был прежним. Казалось, как будто последняя операция никак на него не повлияла. Как будто это был только прогулочный полет. Биндиг рассматривал его задумчиво. Он знал, что Цадо никогда или только очень редко давал почувствовать, что он думал. Он не позволял ничего по себе заметить, и это могло быть также потому, что он был жестче, чем другие. Иногда его не разглядишь, думал Биндиг. Иногда не знаешь, что у него на уме.
– Мы будем есть рулеты…, сказал он между прочим, – но нам нужно бы достать немного картошки для этого. Как ты думаешь, есть тут где-то поблизости картошка?
Цадо тоскливо махнул рукой. – Картошка это второстепенное дело. Но я хотел бы есть эти рулеты, по крайней мере, из нормальной тарелки, не из этой вонючей жестяной посуды.
Он повернул голову и посмотрел в сторону одинокого хутора. Он лежало тихо под вздувшимися облаками, которые медленно собирались в серый потолок.
– Похоже, что у них там есть огонь, – сказал он. – Что ты скажешь насчет того, если мы поедим у них? Картошка у них тоже найдется.
– Можно предположить, – задумчиво сказал Биндиг. – Но сделают ли они это? Где у тебя твои рулеты?"
– В квартире, – объяснил Цадо. – Дай мне только этим заняться.
Он оставил Биндига и быстрыми шагами пошел в деревню, чтобы принести банки с мясом. Биндиг прислонился к бронированным плитам и зажег сигарету. Когда Цадо уже достаточно отдалился от него, Биндиг крикнул ему вслед: – Скажи радисту, чтобы он вернулся к своей машине!
Цадо уже исчез между домами, как на дороге, которая проходила в некотором удалении от одинокого хутора усадьбы, появился автомобиль. Это был «Фольксваген», который на большой скорости въехал в деревню. Он затормозил прямо перед Биндигом, и рука в коричневой кожаной перчатке махнула ефрейтору. Чрезвычайно высокий голос крикнул из машины: – Подойдите сюда!
Когда Биндиг услышал команду, он сразу знал, что эта встреча может плохо закончиться. У него было тонкое чувство к интонации голоса, и голос из этой машины ему не понравился. Он побуждал его к возражению.
– Я сейчас не на службе! – крикнул он в ответ. – Вероятно, вы справитесь и сами. Это прозвучало вызывающе. Дверь машины энергично раскрылась. Мужчина, который вышел из нее, был богатырского вида. На его безукоризненно чистом кителе были знаки различия обер-фельдфебеля. На груди, на серебряной цепи, висела бляха полевой жандармерии. Биндиг увидел это и медленно поднялся, пока обер-фельдфебель подходил к нему. Он непроизвольно пододвинул кобуру с пистолетом, чтобы было удобнее до нее дотянуться, но обер-фельдфебель уже был возле него, и его высокий, хриплый голос пролаял яростно: – Ваша фамилия?
– Биндиг.
– Господин обер-фельдфебель! – крикнул другой.
– Нет, – сказал Биндиг удивительно спокойно, – меня зовут только Биндиг, а не господин
обер-фельдфебель!
Другой ошарашено рассматривал его несколько секунд. Потом он прищурил глаза на его круглом, до синевы выбритом лице и произнес угрожающе тихо: – Если вы прямо сейчас не соберете ваши кости, и не будете вести себя как солдат, то вы испытаете на себе, что бывает, когда я становлюсь неприятным.
Биндиг проигнорировал это предупреждение. Он прислонился снова к бронированной плите бронетранспортера с радиостанцией и расслабленно сказал:
– Вам стоило бы привыкнуть к тому, что вы были здесь не в тылу, а на фронте. Здесь не стоят навытяжку перед каждым кривлякой.
Обер-фельдфебель широко раскрыл глаза и повторил, наморщив лоб: – Кривляка? Вы сказали «кривляка»?
– Кривляка!
– Парашютист?
Биндиг показал большим пальцем на военный крест "За заслуги" на форме обер-фельдфебеля и сказал: – Вы бы лучше сняли здесь ваш орден за невмешательство. Иначе над вами будут смеяться.
– Я спросил вас, парашютист ли вы.
– Да, – ответил Биндиг с улыбкой, – а вас это беспокоит?
Другой рассматривал его холодно. – Мы вас знаем. Мы знаем, что вы кучка самых больших мерзавцев в этой местности. Но мы с вами разберемся! Где ваш ротный командир?
Биндиг сделал неопределенное движение рукой. Он указал головой на деревню и сказал: – Там сзади…
– Ну! – приказал обер-фельдфебель. – В машину! К вашему командиру роты!
Биндиг покачал головой. Потом он произнес, поднимаясь: – Нет. Я не люблю садиться в машину к незнакомым людям. Я лучше пойду пешком.
Он двинулся в сторону деревни, и обер-фельдфебелю ничего больше не оставалось, как следовать за ним. Он махнул водителю, чтобы тот ехал за Биндигом. Водитель был унтер-офицером. Он зло посмотрел на Биндига, когда тот проходил мимо его машины.
Лейтенант Альф спал. Он появился, в одних брюках и форменной куртке, с босыми ногами у двери дома, который служил ему квартирой. Когда он увидел Биндига рядом с обер-фельдфебелем, то удивленно поднял брови и спросил, прежде чем обер-фельдфебель смог что-то сказать: – Что-то натворил, Биндиг?
Биндиг вытянулся по стойке «смирно», насколько смог, и быстро ответил: Нет, господин лейтенант. Но этот господин хотел с вами поговорить.
Альф недоверчиво перевел взгляд с одного на другого. Он предчувствовал, что произошло, и выслушал рапорт обер-фельдфебеля молча.
– Мои люди не привыкли к обращению с полевой жандармерией, – сказал он кратко. – А что же вы хотите от меня, обер-фельдфебель?
– Недисциплинированность этого человека граничит с бунтом! – объяснил тот. – Я настаиваю на подаче рапорта об этом инциденте вышестоящему командованию.
Альф застегнул свою куртку. – Ну, это ваше дело, – ответил он раздраженно. – Чего вы здесь хотите?
– У меня приказ на принудительный привод обер-ефрейтора Герхарда Бахманна. Упомянутый находится у третьей роты в стрелковой траншее. Я должен забрать его и запрашиваю для этого у вас одного человека, который проведет меня на позицию.
– Вы не знаете, где располагается рота? – осведомился Альф. Он не обращал внимания на обер-фельдфебеля и заметил на другой стороне улицы Цадо, который равнодушно прислонился к наполовину сломанному забору с двумя консервными банками в руках.
– Нет – сказал обер-фельдфебель, – я не знаю местонахождения роты.
В это время было на фронте тихо. Могло продолжаться еще полчаса, пока минометы русских не начнут свое вечернее богослужение. До тех пор впереди был только отдельный ружейно-пулеметный огонь, но здесь и его не было слышно.
– Цадо! – крикнул Альф через улицу.
Вызванный осторожно поставил консервные банки на землю. Затем он снова поднялся и крикнул в ответ: – Господин лейтенант? Он слышал все, о чем говорили Альф и обер-фельдфебель.
– Мне нужен связной! – крикнул Альф.
Цадо несколькими быстрыми шагами перешел улицу и встал перед Альфом настолько правильно, как тот никогда еще не видел.
– Связной уехал в штаб дивизии, господин лейтенант! – доложил Цадо. – За почтой…
– Хорошо, – кивнул Альф. – Тогда другой солдат, который мог бы провести полевую жандармерию к командному пункту третьей роты.
Цадо вытянулся, и обер-фельдфебель сбоку посмотрел на него удовлетворенным взглядом.
– Я сам это сделаю, господин лейтенант. Я знаю эту позицию.
– Садитесь к ним. Езжайте с ними, – сказал Альф. – Биндига срочно ко мне!
Обер-фельдфебель приложил руку к шапке и поблагодарил. Альф махнул рукой.
– Прошу господина обер-фельдфебеля разрешить мне забрать мою каску! – попросил Цадо с серьезным лицом.
– Разрешаю!
Цадо окинул Биндига одним взглядом, в то время как он поворачивал назад и быстро перебежал улицу. При этом он прищурил один глаз.
Когда машина отъехала, Альф спросил Биндига: Ну, что происходит, Биндиг? Нервы?
– Нет. Не нервы, – ответил Биндиг. – Я солдат, но я ведь не служанка для этих стервятников.
Альф покачал головой. Он должен был этим вечером написать еще письма женам четырех погибших в последней операции солдат. – Биндиг, – тихо сказал он, – вы хороший солдат. Но если вы продолжите в таком духе, вы однажды будете висеть на каком-то буке у обочины дороги. Обер-фельдфебель подаст на вас рапорт. Он посмотрел на него взглядом, который был почти сердитым. – Биндиг, это же бесславно, пройти все такие бои, которые испытали вы, а после этого висеть там на буке. Биндиг опустил голову. Он ничего не говорил. Он думал: это бесславно, но это то, что нам остается. Это заключительная точка после всего, что мы делаем. Проклятая бесславная последняя точка.
– Ложитесь спать, – посоветовал ему Альф, отворачиваясь, – не носитесь тут как сумасшедший. Спрячьтесь пока. Я поговорю с обер-фельдфебелем, когда он вернется.
Цадо был возбужден, но он умудрился сделать так, что оба полевым жандармам ничего не смогли заметить. Он настолько хорошо ввел их в заблуждение, что они оба считали его образцом солдата.
Они едва проехали десять минут, как обер-фельдфебель обратился к нему и осведомился о Биндиге. Цадо напряженно смотрел через ветровое стекло и не сразу ответил на вопрос. Сумерки спускались на землю, и машина приближалась к позициям артиллерии. Время от времени можно было заметить пушку, оставленный передок или штапель снарядов. Фронт был страшно спокоен этим вечером. Дальше слева можно было слышать глухое ворчание, там уже стреляла русская артиллерия. Цадо знал, что это спокойствие не предвещало ничего хорошего. До тех пор пока русские с их 172-милимметровками и минометами вели только рассеивающий огонь, можно было ничего не опасаться. Но зато всегда, когда было длительное молчание, следовало огневое нападение, в котором кроме легких орудий участвовали ракетные пусковые установки. Тогда кипела земля, и не было надежды остаться живым у того, кто попадал под огневой налет. Цадо наполовину повернулся и обратился к обер-фельдфебелю. Он в деловом тоне сказал: – Я порекомендовал бы теперь надеть каску, господин обер-фельдфебель. В ней чувствуешь себя гораздо надежнее, и возможно, что русские к вечеру пошлют к нам несколько тяжелых снарядов.
Обер-фельдфебель сразу последовал совету. Он очень прочно застегнул ремень под подбородком, и Цадо подумал про себя, что каска самое позднее через десять минут будет так его давить, что у него разболится голова.
– Вы спрашивали о Биндиге, – сказал он потом. Обер-фельдфебель усердно кивнул. – Это трудный случай, господин обер-фельдфебель, объяснил Цадо задумчиво. – Он в одиночку, только с ручной гранатой и ножом, идет на пулеметное гнездо. У него есть награды. Солдат, о которых пишут в книгах. Но недавно он подрался с приятелем, который застрелил бродячую собаку. Он избил его до полусмерти. Вечером он плакал из-за этого. Такой человек этот Биндиг. Обер-фельдфебель хлопотал с ремешком каски. Я расскажу тебе еще больше, думал Цадо, я сначала попробую это так. Он понимал, что его попытка останется безуспешной, но он сделал ее.
– Он вовсе не похож на человека, склонного к насилию, – заметил обер-фельдфебель заинтересовано. – Он похож на долговязого гимназиста.
– Так он такой и есть! – подтвердил Цадо. – Но он был лучшим учеником в школе рукопашного боя. Он специалист. Мышц немного, но зато быстрота и твердость. И анатомические знания. Это в высшей степени важно.
– Так…, – произнес обер-фельдфебель, – боевик. Мятежный боевик. Этот человек бунтовщик, не более того. Выглядящий безвредно бунтовщик!
Цадо сделал удивленный вид. Как будто замечание обер-фельдфебеля показалось ему абсолютно удивительным. – Биндиг бунтовщик? Он энергично покачал головой. – Это какая-то ошибка! Я знаю Биндига очень долго. Он человек, на которого можно полностью положиться. У него…
– Да… Обер-фельдфебель махнул рукой. – У нас в этом есть свой опыт. Мы знаем наших людей. За их антипатией к полевой жандармерии в большинстве случаев скрывается их общая отрицательная позиция. Мы послезавтра так же заберем Биндига, как сегодня заберем этого Герхарда Бахманна. Мы знаем наших людей! Из сотни, которых мы увозим, только двое возвращаются в свое подразделение. Это доказательство того, что мы знаем наших людей.
Цадо молчал довольно долго. Они медленно проезжали дорогу, которая тянулась вдоль заросших кустами лугов. Несколько разрушенных блиндажей лежали справа. Заржавевшие корыта, раздавленные картуши, клочки брезента.
– Мы приближаемся к командному пункту четвертой роты, – произнес Цадо. – Я тут сразу спрошу, где командный пункт третьей роты.
Это было неслыханно рискованным предприятием ехать на этом громыхающем «Фольксвагене» к командному пункту на передовой. Артиллерия русских могла в любую минуту начать свой обстрел. Тогда не было надежды вернуться невредимыми на машине назад.
Но Цадо уже изменил свой план при последних словах обер-фельдфебеля. Он понял, что ничего не достигнет благоразумными словами. За несколько минут он принял жестокое решение. Оно далось ему легко, так как речь шла о Биндиге. Будь это любой другой человек, он прикинулся бы глухим, но с Биндигом дело обстояло иначе. Он был привязан к Биндигу. И Биндиг был бы потерян, если обер-фельдфебелю позволят арестовать его, Цадо это знал. Он был уже потерян, если этот обер-фельдфебель и водитель вообще вернутся в свое подразделение. Цадо сказал себе, что ему нужно действовать в следующие полчаса, если он хочет спасти друга. Он поставил все на карту. Пока машина подъезжала к опушке леса, которая простирался на многие километры перед ними, как бы отделяя тыл от фронта, он сказал обер-фельдфебелю: – Я рекомендовал бы остановиться здесь на опушке леса. Я тогда пройду пешком несколько сот метров до четвертой роты и все там разузнаю. Там они смогут также приблизительно сказать мне, где находится этот Бахманн. Тогда нам не придется его долго искать. Все равно через четверть часа стемнеет, а потом может начаться вечернее богослужение русских. Может быть, мы до того времени справимся.
– Было бы разумно, – послышался голос обер-фельдфебеля сзади.
– Надо надеяться, парень не лежит как раз в первой дыре…
– Надо надеяться! – ответил Цадо, в то время как машина остановилась, и он вышел. – Я позвоню в третью роту и все точно узнаю.
– Расторопный парень, – заметил обер-фельдфебель, после того, как Цадо исчез, – эти парашютисты – это опасная кучка. Никогда точно не знаешь, чем они занимаются. Во всяком случае, у них есть какая-то команда большой важности. И тогда такие субъекты как этот Биндиг. Он может замарать целый взвод таких людей как вот этот!
– Даже целую роту, – подтвердил водитель.
Цадо спешил по лесной дороге вперед. Он точно знал местность. Он знал, где находится третья рота, но он только надеялся, что еще встретит мотоциклиста-связного дивизии на командном пункте четвертой роты. Лес вдруг стал светлее. Подлесок был тонким, и можно было видеть на сотни метров вперед до противоположного края леса, где снова начиналась кустистая территория лугов, на которой находились позиции. Рядом с дорогой стояли легкие обозные машины минометного подразделения. Расчеты стояли и курили. Цадо пронесся мимо них, не обращая внимания. Когда он уже приблизился на дальность видимости к блиндажу, в котором находился командный пункт, он услышал мотоцикл связного. Он побежал быстрее. Перед блиндажом он заметил мотоциклиста, который только что разворачивался, чтобы ехать обратно.
Он заметил Цадо в расплывчатых сумерках и остановил машину.
– Чего ты здесь хочешь? – спросил он, качая головой. – Здесь нет никаких женщин…
Цадо недовольно махнул рукой. Ему пришлось сначала несколько раз глубоко вдохнуть, он слишком быстро бежал.
– Ты возвращаешься? – спросил он.
– Да. Как раз пора. Я не хотел бы, чтобы мне здесь досталось на орехи.
– Ты можешь оказать мне услугу, – сказал Цадо взволнованно.
Другой рассмотрел его удивленно и выключил мотор. – Что? – спросил он. – Ты хочешь, чтобы я подвез тебя домой? Садись.
– И это тоже, – сказал Цадо, – но до этого я еще должен попасть к третьей роте.
– Ты только сейчас побежишь туда отсюда? – ухмыльнулся связной. – Но ты же знаешь, что она лежит гораздо дальше слева. Садись, я отвезу тебя. Но я сделаю это не просто так. Что ты предложишь взамен?
– Тебе не придется жаловаться, – объяснил Цадо. – Ты получишь от меня все сигареты, которые у меня еще есть, и пять плиток шоколада.
– Прекрасно, – ответил связной, – но сколько у тебя всего осталось сигарет?
– Десять пачек, – ответил Цадо, – приличные. «Корфу» красные. Есть еще и несколько сигар.
– Эти ты сам можешь курить, – сказал связной, ухмыляясь, – но так много сигарет я вовсе не хочу у тебя отбирать. А не найдется у тебя еще этих ваших таблеток первитина?
– Конечно, – ответил Цадо сразу, – целая горсть. Если ты хочешь их, ты можешь их получить. Но тебе совсем не нужно самому везти меня к третьей роте. Мне нужен только твой мотоцикл, больше ничего. И на десять минут. Ты можешь подождать здесь. Потом мы вместе поедем домой. Согласен? Связной сдвинул шлем на затылок и почесался волосы надо лбом. Он скривил лицо и при этом прищуривал глаз. Потом спросил: – И что же за всем этим кроется?
– Не волнуйся! – сказал Цадо. – Я уже поездил на мотоцикле больше, чем ты.
– Но почему я все же не должен сам везти тебя?
– Потому что мне там больше никто не нужен.
– Скажи мне лучше, что происходит, тогда ты сразу сможешь ехать.
Цадо несколькими нетерпеливыми движениями рукой попросил его слезть, и связной неохотно решился, качая головой. Он был медлительным, добродушным ганноверцем, и Цадо был ему симпатичен. Он взглянул вверх удивленно, когда Цадо сказал: Ничего особенного не происходит, только несколько товарищей подвергаются опасности. Я хочу их вытащить!
– С моим мотоциклом?
– Да ничего не случится с твоим мотоциклом. Ну, давай уже!
Связной спустился и передал машину Цадо, снова качая головой. – Ты сумасшедшая собака, – сказал он развеселившись, – ты самая сумасшедшая собака между Восточной Пруссией и Москвой…
– Возвращайся пока лесной дорогой! – крикнул еще ему Цадо, прежде чем отъехал.
– Я там тебя сразу заберу! Он засмеялся, и связной сел, все еще покачивая головой. Цадо запустил мотоцикл. Он дал такой большой газ, что прямо полетел по ухабистой лесной дороге с безумно дерзкой скоростью. Он был опьянен скоростью. Этим он вытеснял мысли из головы. Теперь Цадо не нужны были никакие мысли. Он трезво и осмотрительно готовился к тому, чтобы убить обоих людей в «Фольксвагене».
Когда он доехал до машины, то объяснил удивленному обер-фельдфебелю: – Они убили связного, и нет никого, кто возвратил бы машину. Я – единственный, который умеет ездить на мотоцикле…
Он развернулся и поставил одну ногу на землю.
– Послушайте, господин обер-фельдфебель, – начал он, – третья рота лежит вон там, в полукилометре слева. Я позвонил. Бахманн находится поблизости от командного пункта. Вам не придется его искать. Вас там ждут.
Обер-фельдфебель удовлетворенно кивнул. Он сел в машину, и прежде чем он закрыл дверь, Цадо крикнул ему: – Все время держитесь за мной!
Он въехал на сто метров в лес и свернул потом налево на узкую боковую дорогу. Когда обе машины проехали несколько минут, лес перед ними поредел. Темнело, и им пришлось ехать медленно. За опушкой леса ничего нельзя было узнать. Земля лежала в пугающей тишине под затянутым тучами небом. Здесь в этом месте линия фронта делала похожий на мешок изгиб.
Опушка леса проходила большой открытой дугой, и между нею лежали несколько сотен метров свободного поля. Цадо знал это. Он знал еще больше. Открытая равнина, лежавшая между обоими выступающими краями леса, была нейтральной полосой. На этом маленьком пятнышке земли лежали более сотни советских мин. Они лежали в земле уже месяцами, но их не убирали, так как земля замерзла. Предпочли просто отвести фронт назад на пару сотен метров. Цадо знал о минном поле. Всякий, кто воевал здесь, знал об этом. Это были мины, от которых на высоте нескольких сантиметров над землей вела маленькая проволочка, вызывавшая взрыв, если ее касались. Мины были опасны. Они детонировали даже в этой мерзлой земле. Цадо знал, что это были мощные заряды. Они разорвали бы грузовик. Он остановился у края леса и потер глаза. «Фольксваген» ехал рядом с ним, и обер-фельдфебель поинтересовался: – Ну, мы на месте?
– Вон там…, – объяснил Цадо, – прямо у этого края леса лежит третья рота. Вы спокойно можете ехать через поле, русские находятся дальше и не видят этой территории. Он вздохнул неслышно, когда обер-фельдфебель довольно кивнул. Поспешно он продолжил: – Но лучше всего не включайте свет, никогда нельзя знать. Теперь я должен возвращаться. У связного была сумка с кучей всякого, что нужно отвести в дивизию. Они мне строго приказали спешить как сумасшедший…
– Не сломайте себе шею, – сказал покровительственно обер-фельдфебель. Он протянул ему пачку сигарет из окна машины и сказал: – Возьмите две, и большое спасибо.
– Пожалуйста, – ответил Цадо хрипло, – пожалуйста, господин обер-фельдфебель. Это было само собой разумеющимся делом.
Он отъехал немного в лес и там остановился. Он оставил мотор работающим и посмотрел назад. «Фольксваген» с жужжащим двигателем выехал на свободную площадь. Там водитель дал газ, и машина поспешила вперед на большой скорости. Но проехала она недалеко. Жужжание мотора внезапно заглушил мощный взрыв, остроконечное пламя которого на долю секунды осветило территорию.
В свете взрыва Цадо увидел, как разорвало машину. Прежде чем снова стало тихо, пара жестяных частей со звоном шлепнулись где-то о землю. Кусок металла ударился о ствол дерева. Потом все стихло. Ни звука, ни крика от боли, ничего. Цадо внимательно послушал одну минуту и еще одну. Затем он услышал голоса с другой стороны леса, но это были солдаты третьей роты, внимание которых привлек взрыв. Они не нашли бы ничего, Цадо это знал. Русские мины не оставили бы от такой легкой машинки ничего, кроме взрывной воронки и нескольких почерневших кусков жести. Вероятно, оторванную руку или стопу. Вот и все. Он тронулся и погнал мотоцикл назад в отчаянном темпе. На спине он чувствовал пот, который медленно охлаждался сильным воздушным потоком. Он встретил связного недалеко от места, на котором «Фольксваген» ожидал его. Когда он встал с сидения водителя, то сказал с пересохшим горлом: – Слишком поздно. Я уже не успел их догнать. Они въехали на мины.
– Я услышал, – сказал связной безучастно, – кто из нас?
– Я не знаю, – ответил Цадо, – обер-фельдфебель и унтер-офицер. Они спрашивали меня о дороге к третьей роте, и я сказал им, что там впереди мины, но они поехали наобум, и прежде чем я на мотоцикле подоспел туда, они уже были на минном поле.
– Не повезло, – сказал связной. Он сел за руль и движением головы пригласил Цадо сесть на заднее сиденье. – Пора проваливать. Эта тишина сегодня вечером предвещает мне неладное…
Они проехали сотню метров, как Цадо услышал громовые раскаты за фронтом русских. Это был глухой, грохочущий шум, похожий на звук нескольких больших барабанов, в которые били в монотонном ритме. Цадо склонился вперед и крикнул водителю в ухо: – Эй, постарайся газовать вовсю, как раз начинается!
Но было слишком поздно. Первый залп снарядов ударил по лесу. Он заглох между деревьями, со светлым мерцанием отдельных попаданий. В дробь снесенных веток вмешивался злой вой осколков, которые отскакивали от стволов. Мотоциклист-связной гнал машину вперед, но какую бы скорость он ни выжимал из нее, все равно было слишком поздно, чтобы убежать от огня. Связной знал это. Он отыскивал глазами обочину дороги, и внезапно он затормозил настолько резко, что Цадо едва не упал со своего сиденья. Возле дороги лежало одно из старых, разрушенных укрытий минометного взвода. Стволы деревьев, которые должны были защищать его против непосредственных прямых попаданий, лежали вперемешку, вероятно, какое-то другое подразделение, проходившее мимо, попользовалась этим деревом в качестве дров. Но остался вход в воняющую плесенью яму глубиной более двух метров. Цадо сразу понял, чего хотел его приятель. Он спрыгнул с сиденья и с большой силой стукнул пару раз по стенке входа. За несколько секунд он настолько расширил дыру, что связной смог затолкать мотоцикл внутрь. Когда следующий залп ударил по лесу, оба только готовились исчезнуть в укрытии, но третий залп разорвался, когда они уже спрятались в дыре.
Русские стреляли обычными 172-милимметровками, но уже после первого залпа в обстрел вмешались еще и минометные мины. 172-милимметровки прочесывали перелесок; она начинали с передней кромки, который за прошедшие дни русские со своей стороны успели хорошо замерить. Они выстрелили первым залпом точно в пятистах метрах за этой передней кромкой, туда, где они предполагали командные пункты. Второй залп ударил в нескольких сотнях метров дальше за этим местом, точно там, где в этот момент должны были находиться те, кто бежал назад из находящихся под угрозой командных пунктов и позиций складирования боеприпасов, чтобы выждать огонь дальше в тылу. У русских была умно просчитанная система ведения огня. Сразу чувствовалось, что это не было артподготовкой к наступлению, потому что они почти полностью оставляли в покое боевые позиции. Они знали, что в это время вперед подвозили ужин. Это находилось по их расчетам теперь как раз поблизости от командных пунктов. Там они и разбивали это. Потом пришла очередь позиций складирования боеприпасов, затем позиции минометов и, в конце концов, артиллерии. Между тем снова и снова перелесок, где искали укрытия все, которые не хотели задерживаться ни у командных пунктов, ни у минометов или артиллерии.
В то время как снаряды взрывались со свойственным им сильным треском и посылали их визжащие осколки через путаницу ветвей деревьев, минометные мины, которых солдаты боялись больше всего, взрывались с глухим, сухим щелчком. Мины нельзя было услышать. Они появлялись совершенно неожиданно, в воздухе над ними, падали с высшей точки их траектории почти вертикально и разбрасывали большое количество осколков микроскопического размера совсем плоско над землей. Против них не было укрытия, если не сидеть как раз в дыре. Минометные мины были всюду. При ударе они производили маленькие, яркие огоньки, которые сразу гасли. Они наполняли воздух своим клокотанием и стрекотанием крохотных стальных осколков. Попадания снарядов выглядели в сравнении с ними почти как неуклюжие, неопасные великаны.
Мотоциклист-связной так затолкнул мотоцикл в дыру входа убежища, что она была почти закрыта. Прижавшись за нею, в темноте, к растрескавшейся, с запутавшимися корнями стене, он присел сам. Он не ложился, а только скорчился, как будто старался сделать свое тело как можно меньше. Цадо сидел рядом с ним, поджав ноги, внимательно глядя в сторону отверстия. Там беспрерывно вздрагивали огни взрывов, ярко, если они взрывались поблизости, или слабо, если они были на большем удалении. Иногда отдельные взрывы протяженностью в секунды сливались в единый, беспрерывный грохот и треск. Тогда Цадо невольно втягивал голову. Он не был приучен к артиллерийскому огню. Ему редко приходилось сталкиваться с этим. С одной стороны он чувствовал себя надежно в убежище, но с другой стороны он опасался, чтобы один из снарядов не ударил внезапно в потолок. Тогда от нас двоих останется столь же мало, как от тех обоих с их «Фольксвагеном», думал он.
Связной двинулся. Он двигался толчками верхней частью туловища туда-сюда как мышь, которая сидит перед своей норой. Потом он приблизил свое лицо к уху Цадо и сказал очень громко, чтобы Цадо еще как раз мог понять под грохотом разрывов: – Теперь мы уже могли бы быть дома… если бы ты не поехал бы за этими двумя болванами…
Он снова присел и боязливо закрыл лицо руками. Перед их убежищем упал снаряд с визгливым звуком. На минутку дыру ярко осветило. Цадо увидел, что перед ним, на твердой утрамбованной земле, лежал сломанный штык. Он был немецким. Он заржавел, и ручка ушла в землю.
Прежде чем свет от разрыва снаряда потух, один осколок с дребезжанием ударил в рычажный механизм машины. Связной вздохнул: – Еще только не хватало, чтобы они расстреляли мою тарахтелку… тогда я могу маршировать в пехоту. Через некоторое время он укоризненно добавил: – И все из-за тебя…
Цадо не ответил ему сразу. Он думал о тех двоих, которые заехали на минное поле. Странно, говорил он себе, можно убивать, не обременяя совесть. Даже сейчас он уже не знал, как те оба выглядели. Он почти забыл их. И ничего больше не напоминало бы ему о них. Он убил их, в этом не было сомнения. Так же мало, как и в этом, что было необходимо их убить, чтобы Биндиг, этот вспыльчивый человек, не попал в какое-то штрафное подразделение. Но что уже было в их смерти? Цадо пытался понять разницу между тремя русскими, которых он убил в последней операции, и этими двумя мужчинах. Такая разница была. Одно уже мучение воспоминаний доказывало это. После смерти этих двоих у него не было бы мучений. Они были мертвы. Хорошо. Они были так мертвы, как будто бы они умерли рядом с Цадо от пули какого-то вражеского снайпера, не на мине, к которой он сам послал их расчетливо и холодно.
Он согнулся в момент следующего попадания и недовольно стряхнул комья земли с затылка. Он привык к обстрелу. Он не думал, что это произойдет так быстро, но теперь это едва ли мешало ему. Пусть взорвется, тогда конец. Или осколок, пролетев через систему рычагов мотоцикла насквозь, мог разорвать ему шею. Все равно. Этого нельзя было изменить.
Он схватил сигарету. Пока он закуривал, он вспомнил о связном. Он ему тоже дал сигарету. Мужчина зажег ее дрожащими руками. Лицо его было залито потом, Цадо мог видеть это в свете зажигалки.
– Кури, – сказал он. – Когда они прекратят свою чертову пальбу, мы удобно поедем домой. – Они расстреляют мне машину – сказал связной. – Они расстреляют мне машину, и мне придется идти в пехоту…
Они не будут искать тех двоих, думал Цадо. На минное поле они все равно не смогут пойти, и, впрочем, ведь дело ясное как день: те оба захотели сократить себе путь и наехали на мину. Они забыли, что я предостерегал их от этого. Я был уже на обратном пути, так как они отпустили меня, когда они больше не могли заблудиться, и я поехал дальше со связным. Я видел, как они поехали не туда, и еще хотел спасти их, но было слишком поздно, они были уже в самой середине. Неосторожные парни. Кто уже предположит там что-то другое. Хуже, если бы они лежали где-нибудь здесь в лесу с пистолетной пулей в голове. Но так – никто ничего не заподозрит. Это вполне естественный случай. Такое случается сотни раз и даже чаще. Не потому ли это оказалось настолько легко? Или потому что дело касалось Биндига? Цадо затянулся сигаретой и задумчиво посмотрел на дыру входа. Теперь разрывы лежали дальше. Огонь отходил назад. Мерцающие огни были слабее, они больше не освещали местность вокруг убежища.
– Лишь бы только мотоцикл не пострадал…, – произнес снова связной. – У меня нет никакого желание попасть в пехоту…
Боится ли Биндиг? спрашивал себя Цадо. У него не будет страха. Ему будет безразлично, что они с ним делают. Если посмотреть на это дело здраво, они уже больше ничем не могут напугать нас. Ничем. Мы приучены к наихудшему. Вероятно, штрафная рота – это наоборот отдых. Может быть. Это не определено, так как еще никто не возвратился оттуда. Но все-таки и это возможно. Я ничего не скажу Биндигу о том, что привел тех двоих на мины. Лучше всего, чтобы никто не знал об этом кроме меня. Биндиг, конечно, никому и слова бы не сказал об этом, это точно. Но все же я не расскажу ему. Иначе он долго будет воображать, что он должен как-то проявить мне свою благодарность. Что за чепуха, проявить благодарность! Ему следовало бы лучше научиться держать язык за зубами и владеть собой. Полевой жандарм, если ты с ним споришь, должен быть мертв уже через пять минут, иначе ты сам умрешь. Тебе пора, наконец, это понять, дорогой Биндиг. Это не первый полевой жандарм, которого прикончили на этом краю леса. Их тут много валяются вокруг. Генерал Шёрнер приставил по полевому жандарму за каждым солдатом. Только в воздухе их у него нет. Зато они есть на аэродромах. В тылу, в деревнях, они на своих «Фольксвагенах» жужжат, как всполошенные шмели. Гитлер говорил, что последний батальон, который будет маршировать после этой войны, будет немецким. Вероятно, он будет состоять из одних полевых жандармов.
– Дай мне еще сигарету…, – попросил связной. Он приблизился к Цадо.
– Лишь бы только в машине ничего не пострадало! Хуже всего, если пробьют бензобак или топливопровод. Цилиндр от осколков вряд ли сломается, но все остальное…
Цадо дал ему сигарету и откинулся назад. При этом он сказал: – Похоже, обстрел идет на спад. Минометы уже прекратили. Это было действительно так. Минометы молчали. Только 172-милимметровки еще стреляли. Но и их огонь становился слабее. Между отдельными разрывами, лежавшими в удалении, были слышны крики раненых. Цадо снова подумал о тех двоих на минном поле. Они умерли неслыханно быстро, думал он. Они ничего больше не знают об этом обстреле. Они вообще ничего не знали. Нужно было бы пожелать им, чтобы они пролежали несколько часов с разорванным брюхом в лесу. Он покачал головой. Как легко дается кому-то убивать таких как те, подумал он. Зато о тех двух русских, которые спали в будке путевого обходчика, я буду думать еще месяцами. Но об этих…
– Тебе, – напоминал ему мотоциклист, – не стоит отдавать мне все сигареты. Пары пачек достаточно. И одной плитки шоколада. Я не хочу тебя грабить. Наконец, мне ведь ничего не стоило, когда я давал тебе машину. Но несколько таблеток первитина… когда я иногда еду ночью. Они их нам совсем не дают. Как говорит наш шеф, ты можешь спать даже в седле, главное доставить донесение…
– Ты получишь несколько, – пообещал Цадо, – я дам тебе всю горсть, потому что я никогда не принимаю этих штучек, а мы перед каждой операцией снова получаем новые.
Когда обстрел умолк, они вытолкали мотоцикл снова на дорогу. Они слышали, как по лесу ворчат машины. Время от времени где-то голос звал санитара. Дальше справа еще шумели меньшие калибры. Оттуда также слышался отдельный ружейно-пулеметный огонь. Между тем сигнальные ракеты поднимались над лесом и медленно снова скользили вниз. Мотоциклист-связной подошел к машине. Он недоверчиво слушал мотор, который сразу заработал безотказно. Он несколько минут искал место, куда попал осколок, который они слышали, но так и не нашел.
– Слишком темно! – крикнул он Цадо в ухо. – Будет немного. Теперь, однако, нужно только сматываться!
Они проехали мимо цепи грузовиков, медленно приближающихся. Это были грузовики для перевозки людей. Над сиденьями были положены носилки.
– Похоже, порядком потрепали…, – закричал Цадо, но воздушный поток унес его слова в сторону, и связной их не услышал.
Он сначала дал связному сигареты и таблетки первитина, как только они прибыли в деревню. Только после этого он прибыл к лейтенанту. Лицо Альфа было, в принципе, детским лицом. Только наивность детского лица отсутствовала у него. Альф не мог скрывать, что он был расчетливым человеком, это было написано на его лице, в его глазах. Это было что-то вроде расчетливости, которая встречается довольно часто: человек, который признается сам себе безгранично открыто, что его задатков и его приобретенных способностей не хватает, чтобы выполнять то, для чего его определили. Человек, который по этой причине так долго разучивал клавиатуру мягкой любезности, пока не овладел ею с тонкой уверенностью и не научился с ее помощью справляться с инцидентами, проистекавшими из несоответствия между его способностями и его заданиями, в зависимости от обстоятельств бурно или медлительно, иногда резко или с мнимым снисхождением, которое было ничем иным, как превращенная в расчет неспособность. Он распространял вокруг себя атмосферу удобного добродушия. Он распространял ее вполне осознанно, и как раз поэтому редко кто-то замечал, что это было только расчетливостью.
Альф был одним из офицеров, которые так обходились с их солдатами. Они пользуются среди своих подчиненных славой удобного, великодушного начальника, который достаточно умен, чтобы не обращать внимания на маленькие нарушения и отклонения от служебных правил,
и не вмешивается в те дела, которые солдаты охотно решают сами. Он умел использовать своих унтер-офицеров и фельдфебелей так, чтобы никто никогда и не подумал, что он сам не держит все нити в своих руках. Но в действительности в его руках не было ничего, кроме нескольких послушных младших командиров, которые чувствовали себя зависимыми от него и стремились создавать для него приятное впечатление, потому что в итоге получали из этого преимущества для самих себя. Это отношение распространялось определенным способом и на простых солдат, которые были тоже старались не возбуждать негодование их унтер-офицеров, так как из этого возникали неудобства. Собственно, так вот рота управляла собой самостоятельно и, все же, не самостоятельно, а отношение отдельных званий друг к другу было определено необычным видом ее использования и подчеркнуто свободной точкой зрения на жизнь между часто или менее часто следующими друг за другом акциями на фронте.
Это было особенным подразделением, эта рота фронтовой разведки. В штабе дивизии ее не забыли, но едва ли обращали на нее внимание. У нее были свои задания, и тем самым дело шло правильным путем. Дивизия оценивала ценность и боевой дух роты в зависимости от успехов, которых она добивалась при своих действиях. Там смотрели на людей, которых откомандировали для выполнения заданий. Проверяли их на боевую пригодность и на их храбрость и выносливость. Ставили им в рамках подготовки определенных операций маленькие задания и определяли таким образом их ценность. При точном рассмотрении это было единственной связью, которая связывала подразделение с остальным миром военной машины. Не было никого, кто мог бы приказывать что-то этой роте, кроме штаба дивизии и самого командира роты. Не было никого, кто контролировал бы ее, кроме Ic – начальника разведки дивизии, а он вовсе не был любителем контрольных поездок, которые вели в прифронтовую область. Однако подразделение согласно армейскому приказу должно было располагаться в непосредственной близости от фронта. Этот приказ в малой степени касался укрепления фронта в соответствующем месте, так как существовало указание, что роту можно было применять на передовой как обычное подразделение только по приказу с самого верха. Смысл этого приказа в большей степени был направлен на то, чтобы рота была лучше связана с ежедневными боевыми действиями на фронте. Мужчины не должны были терять из слуха звук артиллерийских дуэлей, свист снарядов и вой низколетящих самолетов. Их нервы должны были сохранить высокое напряжение, которое было необходимо, когда они отправлялись на задание. Их нервы, весь их организм не могли подвергаться абсолютному спокойствию, так как такое спокойствие пробудило бы в них инертность, страх перед следующим полетом, словом, ненадежность, по мнению армейского командования.
Лейтенант Альф сидел за грубо сколоченным столом в комнате дома, который служил штабу роты квартирой. Он держал ручку и писал письма, которые сообщали женам четырех погибших о смерти ее мужей. Когда Цадо вошел, он только кивнул, и, продолжая писать предложение, спросил мимоходом:
– Ну, все в порядке?
Он дописал предложение до конца и поднял голову, потому что заметил, что Цадо вернулся один, а обер-фельдфебеля, который хотел подать рапорт о Биндиге, не было с ним. Он увидел грязное уставшее лицо, когда взглянул вверх. Он хотел удивленно спросить, что случилось, но Цадо уже сам открыл рот и доложил ему, что оба жандарма въехали на мины. Он сообщил об артобстреле и об его попытке предостеречь двух жандармов, когда он заметил, что они поехали неправильной дорогой. Он рассказывал все это настолько по-деловому и спокойно, что даже Альф не догадывался, что произошло на самом деле.
Он знал Цадо и знал, что он должен был о нем думать. Только когда Цадо закончил, он пришел к мысли, что могла бы быть связь между ссорой Биндига с жандармами и их внезапной смертью. Альф размышлял. Он сказал себе, что оба жандарма все равно были мертвы и больше не могли бы ничего сказать.
Он решал бросить это дело как есть.
Это был самый удобный способ, чтобы справиться с ним. Он встал и подошел к Цадо. Тот в тот же момент снова так встал навытяжку, что в прочих случаях Альфу никогда не доводилось видеть у него. Это укрепило лейтенанта в его представлении, что Цадо должен был что-то скрывать. Что-нибудь.
Он саркастично спросил: – Почему это вы вдруг стали играть роль образцового солдата, Цадо? Это смерть обоих полевых жандармов так внезапно изменила вашу дисциплину, или что-то другое?
Цадо прикусил себе нижнюю губу. Он знал, что совершил ошибку. Он хотел дать самому себе пощечину. Ты все-таки не достаточно тупой для таких вещей, сказал он себе. Ты позаботился о том, чтобы эти два стервятника не вернулись, но ты сам еще не совсем справился с этим. Альф куда умнее, чем выглядит. И ты еще облегчил это ему. Сейчас станет ясно, какой человек этот Альф. Он посмотрел на офицера.
Альф засунул руку в карман и подал Цадо открытый портсигар. Это были хорошие сигареты. Он тихо сказал: – Прошу вас. По слуху в его голосе ничего нельзя было различить, никакого недоверия, неодобрения, но Цадо все же знал, что он недооценил Альфа. Он взял сигарету и поторопился подать Альфу горящую спичку. Довольно долго они стояли друг напротив друга и молча курили. Цадо глянул на тусклую керосиновую лампу, которая освещала комнату. Она в сравнении с остальной обстановкой была прямо-таки предметом роскоши. В комнате стояли только лишь несколько ящиков, где лежали вещи Альфа, стул и довольно ржавая железная кровать, с помощью нескольких матрасов и одеял превращенная в место для сна.
Он никакого внимания не уделяет удобству, подумал Цадо, я видел квартиры офицеров, похожие на салоны. А может быть, он слишком ленив, чтобы собирать всякие штучки. Или он хочет демонстрировать свою нетребовательность. Кто знает? Цадо внимательно посмотрел на
висящую косо на стене картину, изображавшую цветущее вишневое дерево перед идиллически размещенным деревенским домом. Это было дешевое, загрязненное мухами печатное издание, поблекшее и выцветшее.
Он не любит порядок, думал Цадо. У него, вероятно, всегда был кто-то, кто содержал обстановку в порядке. Если ему приходится делать это самому, он все оставляет, как оно лежит. Маменькин сынок, который ведет войну. Гимназист, который после окончания военного училища верит, что окончательная победа у него в кармане. Не понятно, что о нем думать. Такие люди могут и шею кому-то сломать.
Альф стряхнул пепел своей сигареты. Он небрежно сбросил его просто на пол. Пол был грязным. На нем валялись сожженные спички и растоптанные окурки. Внезапно Цадо заметил, что у него все еще была каска на голове. Он смущенно снял ее и разгладил волосы.
– Вы убедились, что они оба мертвы? – поинтересовался Альф. Он присел на край стола и рассматривал Цадо.
Тот ответил исключительно спокойно: – Конечно, господин лейтенант. Я убедился в том, что они мертвы. К сожалению, невозможно будет достать их останки. Вы же знаете, минное поле…
– Я знаю, – перебил его Альф, – это минное поле подвернулось как нельзя кстати, не так ли, Цадо?
– Я не понимаю, господин лейтенант, – сказал он осторожно.
– Да и не нужно, – произнес Альф, – я имею в виду, что не нужно, чтобы вы понимали мои мысли. Но что вы вообще думаете, собственно, о полевых жандармах?
Цадо почувствовал, как на лбу у него появился пот. Он сердился, что снял каску. Альф мог бы увидеть пот. Он решил попробовать сменить тему беседы. Это была попытка ввести Альфа в заблуждение, и он начал это в некоторой степени ловко. Но недостаточно ловко, чтобы на самом деле обвести Альфа вокруг пальца.
Он откровенно сказал: „Я ничего не думаю о полевой жандармерии, господин лейтенант. Я считаю их излишними.
Альф улыбнулся. Он довольно долго благосклонно смотрел на Цадо и сказал: – И эту вашу точку
зрения вы делите, очевидно, с Биндигом. Я прав?
– Я не знаю точно, что думает Биндиг об этом, – сказал осторожно Цадо.
– Но я знаю! – подтвердил ему лейтенант. – И, прежде всего, оба полевых жандарма, которых вы провели, они это точно знают. Скажем вернее: они это знали, потому что мертвец ничего больше не знает. И он ничего больше не может высказать. Он больше не может никому ничего сделать и не может ни о чем распорядиться. У смерти есть свои положительные стороны, если посмотреть на нее вот так.
Цадо вздохнул. Он почувствовал себя немного увереннее в этот момент, так как он теперь знал, на что он мог рассчитывать с Альфом. Он задумчиво произнес: – Это философский вопрос, господин лейтенант. Я почти забыл то немногое из философии, что узнал во время учебы…
– Не говорите так! – поправил его Альф. – Вы только делаете вид, что забыли это. Философия – это то, что не забывают. Это как субстанция, которая входит в кровь. Если кто-то несет ее в себе, то больше не может ее потерять. Все, что человек делает, выросло из этой философии. И у вас тоже. И даже если вы делаете вид, что этого не знаете, Цадо.
– Это возможно, господин лейтенант, – согласился Цадо, – я не очень большой знаток в таких вещах.
Альф широко улыбнулся. Он засунул руку в карман брюк и дружелюбно сказал: – Вы пытаетесь стать хуже, чем вы есть, Цадо! Вы же человек с хорошим школьным образованием. И вы же умный человек. Даже очень умный. К этому прибавляются ваши военные способности. И еще умение молниеносно принимать правильные решения. Или это не так?
Цадо взглянул на свет керосиновой лампы. Он скромно ответил: – Я не знаю, всегда ли мои решения правильны, господин лейтенант. Я не могу на самом деле судить об этом с такой уверенностью.
– Зато я могу! – сказал Альф. Он поднялся и продолжил. – Иногда нужно решаться на что-нибудь очень быстро. Вы, к примеру, сегодня очень быстро решились на то, что проведете обоих полевых жандармов. Не думаете ли вы, что это решение было правильным?
– Я думаю, правильным, – ответил Цадо, – связной был в отъезде, а у меня было время, чтобы провести обер-фельдфебеля и унтер-офицера.
Альф приложил руку ко лбу, будто у него болела голова. Он снова улыбнулся.
– Ах, да, связной, – сказал он, – тоже такое вот совпадение. Это совпадение, и то, что впереди было еще и минное поле, оба эти обстоятельства, наверное, спасли Биндига от отправки в штрафную роту.
– Я не понимаю, господин лейтенант, – спокойно сказал Цадо.
Альф кивнул. Он больше не улыбался, но лицо его не было взволнованным. Оно было безразличным.
– Поговорите с Биндигом об этом, – сказал он коротко. Потом он помолчал несколько минут, прежде чем он продолжил. – Цадо, – сказал он, глядя в лицо обер-ефрейтору, – вы дольше служите в этой роте, чем я, вы обер-ефрейтор, а я лейтенанта. Постарайтесь, чтобы вы не закончили эту войну как труп, висящий на дереве. Вы на самом лучшем пути к этому. Он сделал маленькую паузу. Потом сказал: – Приготовьте мне рапорт о том, как погибли оба полевых жандарма. Укажите место и время. И почему вы такой грязный?
– Вечернее богослужение, – ответил Цадо. – Застало меня на полдороги. Я ехал со связным штаба дивизии.
– Но подайте мне этот ваш рапорт еще сегодня. Он не должен быть длинным.
– Конечно, господин лейтенант! – сказал Цадо. – Я не понимаю ваши намеки, господин лейтенант. Это должно быть недоразумение…
– Можно ли добраться до того места, где взорвалась машина?
– Нет, господин лейтенант. – Цадо вытер каплю пота со лба. – Я не понял, из-за чего я на дереве…
Теперь идите, – сказал Альф, – и запомните: я не придаю большого значения тому, что моя рота предоставит следующего солдата, которого осудит полевой суд. Вы меня поняли?
Цадо не подтвердил этого, и Альф все же отпустил его. Цадо вышел из дома и подумал: он хочет стать старшим лейтенантом. Еще до того, как война кончится. От этого увеличится пенсия. И он в затруднительном положении. Хорошо знать об этом. Это успокаивает. Он, спотыкаясь в темноте, выбрался наружу и отправился искать дом, в котором он квартировал. Он не нашел Биндига. Тогда он решил умыться, а потом отправиться к одинокому хутору. Он накачал во дворе воду в ведро и принес его в дом. Биндиг взял с собой мясные консервы, подумал он. Я должен поторопиться, он будет меня ждать.
Вернер Цадоровски: Я не вернусь, моя рыжеволосая молитва на ночь
Он прислонился к садовой изгороди, не очень большой, проворный паренек с сильно загнутым носом. Он стриг волосы очень коротко, и его колени были разодраны, короткие брюки разоблачали это. Он смотрел за сады, туда, где начинался город. Она начинался с рекламных афиш «Персиля» и маргарина «Рама». Он смотрел туда, как будто ждал кого-то, но через луг с высушенной травой никто не приходил. И на дороге между садами тоже никого не было видно. В это время женщины готовили обед, а мужчины работали. Было жарко. Вернер Цадоровски напряженно обдумывал, стоит ли, еще до обеда пойти к ручью. Он решил пойти туда только после обеда. Дома будут сердиться, если он опоздает.
– Давай, – сказал он одному из мальчишек, окружавших его. – Сделаем это еще раз. У каждого по три броска. Он полез в карман брюк и вытащил 5-пфеннинговую монету. Он подбросил ее в воздух и снова ловко ее перехватил.
– Я ставлю пять пфеннигов. Вы что поставите? Мальчики ставили сиреневые пастилки и липкие леденцы в грязной бумаге. Девочка оставалась сидеть на траве и смотреть на Вернера. – Ты нет? – спросил он ее.
Это была маленькая, худая, рыжая девочка. Шестой класс, как и он. Она сидела на парте перед ним. Иногда он весь час смотрел только на ее спину, а не на учителя у доски. У нее была тонкая спина, и ее волосы свисали широко как горящий факел. Девочку звали Франциской. Она была чисто одетой и умытой. У нее были глаза семнадцатилетней. – Я только посмотрю, – сказала Франциска.
Он скривил лицо и взял нож из кармана. Один из остальных прикрепил картину на задней стене беседки. Он делал это очень добросовестно, булавками, которые вынимал из низкой жестяной коробки. Это была рекламная картинка из упаковки кофе Франка. Под головой мужчины с серьезным взглядом стояло имя Карла Петерса. На обратной стороне можно было прочитать, из-за чего именно его портрет напечатали на рекламной картинке, но мальчишки этого не прочитали.
– Косо висит, – раскритиковал Вернер, – и слишком высоко.
Через несколько минут картина висела правильно. Они все вынули свои ножи. Полудюжина мальчишек с полудюжиной различных ножей. Начищенные шкуркой до блеска перочинные ножи, кухонные ножи.
У Вернера был самый красивый нож. Он заплатил за него целую марку. Заработал он ее как посыльный. Он взял нож и дал ему блестеть на солнце. Он был до остроты наточен, и с ручки свисали две длинные красные ленты. Он взвесил его на руке и сказал: – Бросайте вы сначала. Три броска, каждый считается. Тот, кто попал, делает еще один круг.
Он присел на корточки рядом с Франциской, пока другие становились на удалении нескольких метров от картины и бросали ножи. Он не должен был бояться за 5-пфеннинговую монету, другие не могли обходиться с их ножами. Только случай мог принести ему неудачу, но этот случай был редок. Другие мальчики надеялись на это, но их надежды оставались несбывшимися. Один попал в край картины. Это был единственный нож, который вообще мог бы оказаться опасным мужчине на картине. – Ах…, – произнес Вернер, поднимаясь, – теперь складывайте красивенько ваши леденцы!
Девочка смотрела на него с опущенной головой. Она была единственной, кто играла с мальчиками. Она бегала за Вернером, все знали это, но никто не решался ничего сказать. Вернер не понимал шуток, когда речь шла об этой девочке. Он остановился перед дощатой перегородкой, там, где только что стояли все остальные. Девочка не отводила от него взгляда. Она низко наклонила голову и наблюдала за мальчиком своими живыми темными глазами.
– Внимание! – произнес Вернер вполголоса. Он приготовился. Нож вибрировал в воздухе, с вращающимся движением. Он держал его особенным способом, положив указательный палец на лезвие. Когда он его метнул, нож как молния ударил в дощатую перегородку, обе красные лентам трепетали на его ручке. Он застрял с дрожанием. Голова мужчины на картине была невредимой, но на ширине пальца перед глазами мужчины воткнулось лезвие. Вернер принес нож снова назад, не сказав ни слова. Мальчик, единственный, который попал в картину, спросил наполовину восторженно, наполовину сердито: – Как же все же ты это делаешь, что нож всегда застревает…
Вернер не отвечал. Нож во второй раз попал в дощатую перегородку. За садовым домиком взлетела птица.
Девочка слышала шум, но не отводила глаз от картины с ножом.
– Плечо, – сказал Вернер коротко, когда вытаскивал нож. Другие недоверчиво проверяли результат. Нож сидел там, где в плечах костюмов находятся ватные подкладки. – Ты выиграл леденцы…, сказал один из мальчишек робко. Вернер не обращал на него внимания. Он бросил нож в третий раз, и прежде чем бросить, он заботливо взвесил его в руке. Он был для него более ценным, чем обе его книги об индейцах и бинокль, подаренный ему отцом на десятилетие. – Внимание, – крикнул он со смехом, – теперь он умрет!
Девочка Франциска немного приоткрыла рот. У нее были маленькие острые зубы. Она провела языком по губам и при этом видела, как летел нож.
– Так! – сказал Вернер и засунул руки глубоко в карманы. Он позволил сначала другим рассмотреть картину, потом сам подошел достаточно близко. Мальчик, который тоже попал в картину, сказал с уважением: – Выиграл. Два попадания. Он передал ему леденцы. Вернер взял их и при этом потер свой нос. Он взял Франциску за руку: – Вот, возьми. Я их не ем.
Девочка послушно взяла сладости и поднялась. Она подошла к дощатой перегородке и молча стояла возле нее, удерживая руку с леденцами от тела.
– В шею, – сказал один из мальчиков. – Умер бы он от этого?
Вернер вытянул нож из древесины и вытер его. Пока он клал его в карман брюк, он небрежно объяснил: – Еще как умер бы. Там, куда попал нож, находится сонная артерия. Он умрет очень быстро. Вы могли бы его сразу похоронить…
Мальчики засмеялись и заговорили наперебой. Один из них снял картину и хотел ее выбросить. Но Франциска забрала ее у него из рук. Тихо и без ужимок она положила ее в карман своего фартука для игр.
– В голове было бы лучше, – сказал один мальчишка, – в глаз там или куда-то еще.
Вернер снова посмотрел туда, где начинался город. В доме с рекламной афишей «Персиля» он жил. Одним этажом выше Франциски. – Ты балбес…, – сказал он снисходительно, – ну как нож вошел бы в кость! Голова состоит из кости, ее ты не пробьешь ножом. Сонная артерия единственная правильная цель… Он посмотрел на Франциску и спросил ее: – Ты уже проголодалась? Она покачала головой, но это было не очень убедительно. – Пойдем поедим, – предложил Вернер. Он обдумывал на мгновение, потом спросил других: – Вы придете после обеда на речку?
У них не было лучших идей. Были каникулы.
– Хорошо, – сказал Вернер и рассмеялся, – через час. Соберите еще других. Посмотрим, если те с Мауэрштрассе будут на речке, мы их снова прилично поколотим.
Они разбежались, пока шли домой. Вернер протянул руку и сказал Франциске: – Пошли, мелкая краснохвостка… Девочка обиженно ударила его по протянутой руке. Но она пошла рядом с ним. Она была меньше его, и ее красные волосы горели на солнце.
Когда ему исполнилось шестнадцать лет, отец подарил ему велосипед. Он сделал это очень торжественно. Старый Цадоровски был налоговым инспектором. Его жена умерла два месяца назад, и теперь он остался один с сыном. От налогового управления до квартиры на городской окраине было очень далеко, и Цадоровски не приходил домой на обед. Он давал парнишке деньги, чтобы тот каждый день в обеденное время мог купить себе что-то поесть. Вернер в полдень приходил из гимназии домой. Тогда он отрезал себе от хлеба в банке несколько кусков, намазывал на них маргарин и ел. К этому он пил холодный, черный кофе, оставшийся с утра. Он собирал деньги. Через полгода он собрал достаточно, чтобы купить велосипед. Он пошел в ближайший магазин и купил самый красивый дамский велосипед. Он проехал на нем несколько домов дальше, туда, где жил мальчик, который тогда тоже попал ножом в картинку. Мальчик учился на слесаря. Он уже зарабатывал деньги и обходился с ними достаточно щедро.
– Смотри, Макс, – сказал Вернер, – я оставлю этот велосипед у тебя. Он принадлежит Франциске. Если тебя кто-то спросит, скажи, что он принадлежит тебе или твоей сестре, и вы даете его на время Франциске.
– Он краденый? – поинтересовался мальчик.
– Нет, – сказал Вернер, – я его купил.
– В порядке, – объяснял Макс, – у тебя есть сигарета?
У Вернера сигарета была. Они закурили, и Макс сказал с уважением: – Франциска будет красивой девушкой. У нее такая грудь…
Был май. Они лежали где-то под розовыми цветущими деревьями в маленьком лесу, далеко от города. Горы поднимались над ними. Они были одни. Велосипеды лежали в стороне. Было воскресенье, они уехали за город, чтобы остаться наедине друг с другом.
– Ты уйдешь, и я буду чувствовать себя одинокой без тебя…, – сказала Франциска. Она выглядела как двадцатилетняя. У нее все еще были длинные рыжие волосы. Они спадали ей на плечи. Он играл этими рыжими волосами, и его рука скользила под ее расстегнутой блузкой. Кожа ее грудей была белой, как свежее молоко.
– Я всегда буду однажды дома, – ответил он. Его голос звучал сдавленно. Он гладил ее груди.
– Твой отец говорил, что ему это не очень нравится. Он хотел бы еще попробовать отговорить тебя от этого. Он говорил это моей матери.
Он совсем расстегнул ее блузку и целовал ее кожу.
– Я буду писать тебе, – тихо произнес он, – и я всегда буду однажды дома. Я буду писать из Берлина, и из Амстердама и Парижа. Во всем мире, где бы я ни был…
Она гладила его лицо. Ее пальцы играли с его волосами. Она видела его глаза над ее лицом. Немного полуоткрытые, блестящие глаза.
– У тебя…, – говорила она, – у тебя не может быть ни одной другой, когда ты уедешь, ты слышишь? Никого другого, кроме меня…
Он не отвечал. Он обнял ее тело. Это тело было гибким и горячим. Кожа была гладкой и шелковистой.
– Только подожди…, – шептал он. – Однажды я вернусь, и тогда я припаркую свою машину перед домом. Потом мы уедем вместе. Когда наступит время, вы поженимся, и ты всегда будешь сопровождать меня…
Ее тело прижалось к нему. Она кусала его в губы, но он не чувствовал этого. Он видел ее глаза. Коричневатые с красным мерцанием.
У нее самые странные глаза в мире, думал он. Она прекрасна. Когда она станет старше на несколько лет, люди будут смотреть ей вслед. Она сможет хорошо одеваться. Элегантно.
Цветок качался по воздуху и зацепился в ее волосах. Принцесса цветов, думал он. Принцесса цветов с огненными волосами и горящими глазами. Принцесса цветов, огненные волосы, Франциска, принцесса цветов…
– Ты…, – шептала она, – никто не может знать этого… никто! Только мы двое. Никто кроме нас. Это наша тайна… Их тела лежали, поглощенные травой, и цветы, скользя, падали с крон деревьев.
– Ты моя принцесса цветов…, – шептал он устало. У нее были влажные глаза и очень красные губы. Он снова целовал их. Вечером, когда они ехали домой, он говорил ей со смехом:
– Подожди, однажды тебе больше не нужно будет шить платья и пальто. Ты будешь путешествовать со мной на машине. В Париж, в Рим, повсюду, где я буду…
Когда у него был аттестат зрелости в кармане, он поехал в Берлин. Ему потребовалось два дня, пока он не нашел импресарио, который понимал, что можно было делать из этого молодого человека. Импресарио наливал ему коньяк. Вернер пил его глотками и смеялся. – Не пейте много, от этого руки становятся неуверенными…
Импресарио листал свой каталог. Он мог разместить этого человека всюду. Этот человек был хорошей находкой.
– Где вы этому научились? – хотел знать импресарио.
– Я научился сам, – говорил Вернер, – всегда немного тренировался. Еще ребенком. Мне это доставляло удовольствие. Ножи были моей страстью. И в гимнастике я был всегда хорош.
– У меня для вас есть партнер, – объяснил импресарио, – в труппе Карлоффа. Отборная программа. Приглашается в лучшие дома. Дама, которую я имею в виду, выступает с жонглером. Очень трудный номер. Она исполняет его великолепно. Я приглашу ее на завтра. Где вы переночуете?
Вернер переночевал в маленьком пансионе. Он не стал брать задаток у импресарио. Он посетил кино и рано лег спать. Утром он вспомнил, что ничего не ел. Он улыбнулся и подумал о Франциске. Принцесса цветов с огненными волосами…
Партнерша прибыла вовремя. Роскошная блондинка с танцующей походкой. Как укрощенная дикая кошка.
– Мадам Дорис, – представил ее импресарио. Потом он обратился к ней и объяснил: – Этот господин новичок в ремесле. Один из этих природных талантов, которых находят один раз за сто лет. Давайте пойдем в зал…
Вернер метал ножи в стену. Импресарио изобразил мелом на досках фигуру женщины. Рисунок был неуклюжим, и мадам Дорис снисходительно улыбалась. Она была дочерью сапожника из Бохума.
– Хорошо, – сказала она, когда Вернер закончил бросать ножи. – Что вы еще умеете? Импресарио потянулся за матом, но Вернер остановил его.
– Я делаю это без матов!
Его тело было натренированно. Он разучил все это тысячу раз. – Партерная акробатика всегда хороша, – заметила мадам Дорис, – как своего рода интермедия. У нас как раз такого нет. Это повысит ваше жалованье, господин… Как там вас зовут?
Импресарио снова предложил коньяк, когда они сидели в бюро. Мадам Дорис потребовала новый договор.
Импресарио кивнул. Он составлял его, пока мадам Дорис беседовала с Вернером. При этом она пристально смотрела на него. Ее глаза были несколько воспалены. У нее были коричневые кончики пальцев, хотя она курила сигареты только до половины. Пять сигарет за час, «Мемфис», из жестяной коробки. Она смеялась. В хорошем настроении она хлопнула Вернера по колену.
– А что будет, если вы воткнете мне такой нож в горло, месье артист?
Я не попаду ей ни в коем случае в горло, подумал Вернер. Я брошу его так, что он попадет в дерево точно в полусантиметре от кожи.
– Тогда вы мертвы, – сказал он сухо. Он взял бокал с коньяком и поднял его ей навстречу. Импресарио печатал, спиной к ним, на своей пишущей машинке.
Мадам Дорис подмигнула Вернеру. – Вы, похоже, вовсе не такой робкий, как выглядите, – воскликнула она, смеясь. Она поперхнулась коньяком и закашлялась.
– Я скоро закончу! – послышался голос импрессарио.
– Не забудьте страховку! – прохрипела мадам Дорис. Мужчина не дал ответа. Он непрерывно продолжал печатать. Когда договор был готов, они договорились о сроке, когда Вернер должен был приступить к работе. Труппа заканчивала свою программу через две недели. Тогда она делала на некоторое время паузу, чтобы составить новую программу.
– Через две недели вы должны здесь быть, – сказал импресарио. Вернер кивнул. Мадам Дорис с улыбкой протянула ему руку. Он поклонился. Он был хорошо воспитан. Когда он приехал домой, то забрал Франциску из пошивочной мастерской и пошел с нею в универсальный магазин. Он купил ей за полученный задаток платье, пальто и пару туфель. Спустя две недели он уехал. Отец только качал головой. Он был слишком слаб, чтобы удержать сына от его планов. Кроме того, договор был подписан. Старый Цадоровски должен был тоже подписать его. Он сделал это, так же покачивая головой.
Мадам Дорис стояла, ярко освещенная прожекторами, у доски на манеже, и ножи встревали в доску вокруг нее. Она не двигалась. Она даже не закрывала глаза. Цадоровски метал уверенно. У него не было ран. Скорее они были у жонглера, когда на репетиции стопка тарелок соскользнула на него с шеста.
Вернер метал ножи очень спокойно. Здание было набито битком. Карлофф в Винтергартене. Берлин знал толк в хорошем варьете.
Послезавтра отправляемся в турне, думал он. Впервые. В Париж. Действительно ли так прекрасен Париж, как написано в проспектах? Он бросил последний нож. Хорошие, до миллиграмма сбалансированные ножи. Он с дрожанием застрял в доске, на несколько милимметров выше белокурой макушки мадам Дорис. Вернер опустил руки и поклонился публике, раздались шумные аплодисменты. Мадам Дорис отошла от доски в сторону и тоже поклонилась. На ней было удивительно облегающее трико, украшенное вышивкой с золотыми блестками. У нее тело как у женщины-вамп, думал Вернер. Дора Будельманн из Бохума. Он поклонился еще раз и взял за руку мадам Дорис. Ее рука очень сильно сжимала его руку. Прожектор повернулся вокруг. Люди неистовствовали. Пока он метал ножи, тут было тихо как в доме покойника. Теперь люди шумели. В первом ряду сидели несколько офицеров. Они хлопали, ударяя свернутыми программками спектакля по ладоням. Надутая свора, думал Вернер. Он поклонился еще раз и покинул манеж. Публика очень медленно успокаивалась. Метатель ножа был первоклассным.
Мадам Дорис появилась, со свободно накинутым купальным халатом, в его гримерной. Она бесшумно закрыла дверь и присела в кресле. Она пахла пудрой; она еще не смыла грим. Из сумки купального халата она вынула бутылку коньяка. На туалетном столике стояли стаканы. Они были использованы, но мадам Дорис налила в них коньяк, даже не вымыв их.
– За тебя, малыш, – сказала она в хорошем настроении. – Завтра у нас выходной. А потом еще три дня поездки, и мы в Париже. Пойдем выпьем сегодня вечером по маленькой?
Вернер сдирал с себя фальшивые бакенбарды и произнес без большого интереса:
– Ты и так уже пьешь! Хочешь всю ночь пропьянствовать?
– Нет, – сказала женщина, – играть в шарики.
Когда они закончили гастроли в Париже, они поехали в Копенгаген, оттуда в Будапешт и оттуда в Вену. Зиму они гостили в Лондоне и Дублине. Когда пришла весна, они отправились в Рим. Оттуда в Амстердам.
Вернер поселился у танцовщицы, которая была метиской. Она ставила ему малайские пластинки и угощала его синим «болсом».
– Не так много, Мейшье, – говорил ей Вернер, – это не самый лучший шнапс…
В Стокгольме его пригласил владелец кинотеатра, в котором они выступали. Его сын тоже метал ножи. Сын пошел спать в восемь часов, и владелец театра начал собираться в поездку. Он не брал с собой жену, и она снова и снова приглашала Вернера.
Он лежал рядом с нею и смотрел, как она затягивалась из глиняной трубки с крохотной головой. У нее было слабое и все же возбуждающее тело. Она пахла духами, удаленно напоминающими аромат цветов корицы. Вся кровать пахла ими, когда Вернер заснул к утру. Он все чаще лежал в этой кровати. Когда хозяин вернулся из его поездки, Вернер гастролировал в Брюсселе. Турне приближалось к концу. Карлофф возвращался в Берлин, чтобы отдохнуть, составить новую программу, снова воодушевлять публику. Мадам Дорис сидела в том же самом купе, что и Вернер. Поезд грохотал на рельсах между Ганновером и Берлином.
– Какую машины ты купишь? – поинтересовалась мадам Дорис. Вернер ответил ей после некоторого размышления: «Ханза».
– Прекрасная машина. Ты как-то возьмешь и меня прокатиться? –Вероятно. Он зажег сигарету. Он хорошо зарабатывал. Он бросал ножи и делал партерную акробатику. В прошлом полугодии он выучил много салонных трюков. Труппе Карлоффа нужен был фокусник. Он выучил двенадцать фокусов. Они не стали бы брать фокусника со стороны. Они взяли бы Вернера. Вернер получал бы тройное жалованье. Он вспомнил, что ничего не написал Франциске из Копенгагена. Я ничего не расскажу ей о Копенгагене, подумал он. Я ничего не расскажу ей, вообще. Девушка слишком хороша, чтобы рассказывать ей, как выглядит мир на самом деле.
Она встретила его на вокзале, и они целовались, до тех пор пока платформа не опустела. Потом он сказал ей весело: – Маленькая краснохвостка, мы должны выйти за заграждение! Она слегка шлепнула его по губам, как всегда, когда он говорил про маленькую краснохвостку. Он решал больше не делать это.
Отец лежал в больнице. Он лежал там уже три месяца.
В светлой, со свежим воздухом отдельной палате. Вернер посетил его в тот же день.
– Мне нужно поговорить с вами…, – начал врач. Он сделал серьезное лицо и отвел Вернера в сторону. Он положил ему руку на плечо. Доктор был стар, у него были седые волосы и усталые глаза.
– Рак, – сказал он. – Это безнадежно, господин Цадоровски. Ваш отец проживет еще некоторое время, но он больше не покинет наш дом. Он населяет нашу самую прекрасную палату. Он чувствует себя там хорошо. Мы позаботимся о том, чтобы он умер без болей. У него и теперь уже нет болей. Мы даем ему морфий.
Операция ничем больше не помогла. Они открыли ему тело и немедленно зашили снова. На второй день после операции они дали ему гольштинский шницель, и старый Цадоровски был твердо уверен, что худшее позади. Он строил планы, когда Вернер сидел у него. Вернер не смог вынести это дольше одного часа.
Он купил «Ханзу», совсем новую машину фиолетового цвета. Люди на улице считали его миллионером. Он забрал Франциску, на другой день. Он припарковался перед швейной мастерской, в которой она работала, и от ученицы до мастера все лежали, согнувшись на подоконниках, и смотрели, когда они отъезжали. У него было две недели отдыха. Франциска взяла отпуск, и они поехали в Шварцвальд. Ручьи с рыбой и пение кукушки, когда садилось солнце. Ручьи с форелью и темные ели перед окнами.
Впервые у него снова было это гибкое тело с молочно-белой кожей. Ее волосы скользили сквозь его пальцы. У Франциски были влажные глаза. Ему бросилось в глаза, что она не спрашивала, была ли у него другая женщина. Она была очень тихой, и он думал: их зовут мадам Дорис или Мейшье или Франциска.
– Что ты делала все это время? – спросил он.
– Строила планы, – ответила она. – Планы для нас двоих. И экономила. Я накопила восемьсот марок.
– Ты выгодная невеста! – заметил он, смеясь. И он кормил ее бананами и апельсинами. Он покупал ей одежду и обувь. Он селился в самых дорогих отелях, и они потратили кучу денег, которые он накопил. Когда он снова покидал ее, он сказал: – Я напишу тебе доверенность. Когда мой отец умрет, ты продашь все, что нам принадлежит. Кроме того, что лежит в моей комнате. Ты заберешь это к себе. Отец уже не проживет долго.
Старый Цадоровски умер, когда Вернер гастролировал в Софии. Они были в балканском турне. Сообщение пришло вечером, на который Вернер договорился о свидании с черноволосой оперной певицей. Ее звали Мелиндой, и он ничего не сказал ей о том, что его отец умер. Он посылал домой деньги. Это были значительные суммы, потому что Вернер жил экономно, если он не занимался женщинами. Иногда он искал таких женщин, которые платили за него. Он неохотно вспоминал о Франциске. Его настроение ухудшалось, если он встречал девушку с рыжими волосами.
Когда они вернулись домой, газеты сообщали, что труппа Карлоффа сделала сенсационную программу. На самом деле, хоть программа и не была сенсационной, но была очень хорошей. В программе у них был поляк, который кувыркался на проволочном канате, в четырех метрах над землей. Это было в 1939 году. В Винтергартене поляка освистали. Свист издавался из угла зала, там сидело более ста человек, похожих один на другого как две капли воды.
Поляка звали Эдвардом. Он был молод, и он плакал, когда сидел в своей гримерке. Вернер утешал его. Он принес бутылку «Мампе» и выпил ее с ним. Они покидали дом так, какими были, в темных костюмах, с пудрой и косметикой на лицах, качающимся шагом. Вернер буянил, а поляк был тих, с печальными, задумчивыми глазами. Они спали где-то на Курфюрстендамм в комнате, которую населяли две проститутки, работавшие с хорошей клиентурой. Утром менеджер объявил им, что они с программой поедут в Гамбург.
Газеты объясняли, что Германия нуждается в землях на востоке и Польша не может правильно управлять своими землями. Эдвард ничего не говорил об этом. Он только однажды сказал Вернеру: – Когда мой договор закончится, я не стану его продолжать. Я поеду в Варшаву. Я чувствую себя здесь как заяц среди собак.
Вернер утешал его с «Мампе», но Эдвард оставался при своих намерениях.
Эдварда не было с ним, когда Вернер развлекался в Гамбурге. Он засел в «Циллертале», и там было еще больше артистов. Они все вместе сидели в одной из ниш за столом и шумели.
У мужчины, с которым Вернер повздорил, не было партийного значка. Он подсел к ним за стол и заказал вино. Потом он произнес речь, так как был уже сильно пьян. Он говорил: – Как вы думаете, ребята, как мы поколотим этих поляков. Если они не отступят, мы за три недели сыграем в Варшаве «Песнь немцев».
Он поднял свой бокал и пролил половину вина из него, прежде чем донес его к своим губам. Он сидел рядом с Вернером. Он пролил вино Вернеру на брюки.
– Хватит с тебя! – сказал Вернер сердито. – Иди домой, ты уже набрался!
– Мы сыграем «Песнь немцев» в Варшаве! – горланил пьяный. – Да, – сказал Вернер, – хорошо. Убирайся!
– «Песнь немцев»… , – орал мужчина.
Другие не обращали на него внимания. Но Вернер злобно произнес: – Вы с вашей «Песней немцев»! Один единственный польский канатоходец стоит больше, чем вся ваша сраная «Песнь немцев» и целый Рейхстаг в придачу…
Мужчина ударил первым. Он не попал, но он бросился на Вернера, а тот прижал ему его бокал к лицу. Он ударил его им по рту, чтобы не повредить ему глаза. Мужчина отшатнулся назад и столкнулся со следующим столом. Он схватил оттуда наполовину пустую бутылку шампанского и бросил ее в Вернера. При этом он орал, что нужно схватить государственного изменника. Вернер приблизился к нему и ударил кулаком в живот. Он сделал это не из-за немецкого гимна и не потому, что он все еще думал об Эдварде. Он просто быстро сказал так. Мужчина свалился, и Вернер вытащил его из кафе. Он оставил его там и совершил ошибку, сев снова за тот же стол, за которым он ел.
Они допрашивали его, но ему повезло. Имперская палата культуры назначила ему временный запрет на выступления. Его адвоката вызвали в Гестапо. Когда он вернулся, то посоветовал Вернеру: – У вас есть один шанс. Запишитесь добровольно в армию. Этим вы сможете ускользнуть от всех осложнений. Дело уйдет в песок, а когда война закончится, все будет забыто.
– Война? – спросил Вернер.
– Да. Война, – ответил адвокат, – это вопрос только нескольких дней.
Он записался в парашютисты. Они искали людей. Они сразу взяли его, и он получил еще четырнадцать дней отсрочки, пока он должен был прибыть в часть. На повестке был указан город Штаде. Вернер воспринял все это так безразлично, как будто речь шла о новом турне.
Он долго не был у Франциски, и чувство говорило ему, что он переоценил верность этой девушки. Когда он был у нее в последний раз, она была девочкой, которая любила его. Только его. Когда он снова пришел к ней теперь, он нашел женщину. Она казалась ему чуждой, но он ничего не сказал. Он взял женщину, и он почувствовал, как последняя струна в его сердце, которую он так хотел сохранить, лопнула. Ему было больно, и он думал: так же как ты лежишь у нее теперь, у нее лежали и другие. Так же как ты целуешь ее, ее целовали другие. Он думал, что чувствует запах других, что дышит их помадой. Для него это никогда ничего не значило, ни у кого другого. Только у Франциски. Он понимал, что он любил эту девушку.
– Что ты сделаешь с машиной? – спросила девушка. – Продам, – ответил он односложно.
Они снова скользнули друг к другу. Была душная августовская ночь.
– Ты вовсе не устаешь…, – произнес он.
Она тихо засмеялась. Потом прошептала: – Тебя долго не было у меня.
Он сглотнул, но ничего не сказал. Через некоторое время он сказал: – Это чушь, если мужчина требует от женщины, чтобы она оставалась ему верной. Это чепуха…
Она снова засмеялась. У нее был благозвучный, глубокий голос. – Не нужно требовать этого, – произнесла она, – ни как мужчина, ни как женщина. Жизнь очень коротка. Каждый день на счету. Никто не знает, что будет завтра. Вообще, не стоит так много думать. Это лишает удовольствия…
Ты мог бы лечь с любой шлюхой, думал он, и это никак бы не отличалось. Ты мог бы остаться в Гамбурге или в Берлине. Ты мог бы думать об этом. Девушка – это девушка. Они все одинаковы. Зовут ли их мадам Дорис или Мейшье или Франциска. Можно мечтать, что они отличаются, но они не отличаются. Самое большее – только внешне. Во всем остальном все одинаковы. И мы сами тоже такие. Эта жизнь куча дерьма, а мы – личинки, которые по ней ползают. Это внушает отвращение. Но это нельзя изменить. Мечты молодости закончились. Больше нет девочки с огненными волосами. Принцесса цветов с огненными волосами. Проститутка с эластичными членами. С духами подмышками. Франциска встала с кровати и открыла окно. Ночной воздух ворвался внутрь, и он увидел силуэт ее тела перед бледным звездным небом. Она склонилась над ним, нагишом, как она была, и он вспомнил, как она раньше натягивала на себя одеяло, когда она только поднималась.
– Завтра я уеду, – сказал он задумчиво. Она присела к нему на край кровати. Он не видел ее наготы. Она больше не касалась его.
– Я буду писать тебе, – обещала она, – и я буду тебя ждать. Когда война пройдет, ты снова будешь работать, и тогда мы купим новую машину. Ты тогда женишься на мне?
Принцесса цветов, думал он. Принцесса цветов с огненными волосами. Шлюха с красными прядями. Он чувствовал, что его тело спит и осталось без напряжения. Как будто ему рассекли все сухожилия.
– Ложись ко мне…, – сказал он. – Мы хотим спать. – Когда ты вернешься, мы поженимся? – настаивала девушка.
– Вернешься… – он взглянул на ее острые груди и тонкую линию шеи.
– Я не вернусь, – сказал он, – я знаю, что я не вернусь. Я еду на на гастроли, а на войну. Иди сюда, ложись ко мне. Это в последний раз. Последний час, когда мы вместе. Последняя любовь и последняя молитва на ночь. Он двинулся в сторону, и она легла рядом с ним. Она была тихой. Он нюхал аромат ее волос и слушал ее дыхание. Ее члены были горячи. Он чувствовал все это в глубокой печали, которой до сих пор не знал. Он не чувствовал гнева на нее. Он даже не мог бы точно сказать самому себе, было ли это действительно разочарованием.
– Ты должна будешь искать себе других, – сказал он жестоко. – Другие тоже могут быть нежными. У других тоже есть машины и деньги. Я не вернусь, я это знаю. Я не вернусь, моя маленькая молитва на ночь, рыжая…
Он насухо вытер тело с наполовину чистым полотенцем. Потом он снова надел форму, которую почистил раньше. Он вынес воду для умывания наружу и с шумом вылил ее во двор. Комната была полна солдат. Некоторые из них спали на соломе на полу. Другие сидели вокруг лампы и играли в карты.
– Двадцать! – сказал один. Он подмигнул Цадо, как будто хотел заверить того, что он выиграет эту игру в любом случае. Оружие висело на гвоздях, вбитых в стены. Помещение была прокуренным. Цадо присел за сколоченным из березовых стволов столом и за четверть часа написал рапорт о смерти двух полевых жандармов. Потом он вытащил из своего снаряжения еще одну коробку шоколада и несколько сигарет. Он нашел упаковку галет и тоже взял ее с собой. Когда он взглянул на часы, то поднял брови; ему нужно было поторопиться. Он перебежал улицу и отдал рапорт, который написал.
Альф принимал его, не задавая никаких вопросов. Он только сказал: – Все в порядке, Цадо. Идите и отсыпайтесь.
Цадо надел пятнистую камуфляжную куртку. Он застегнул над ней портупею с пистолетом и покинул свою квартиру.
Потом он прошел вдоль деревенской улицы, мимо бронетранспортера, к одинокому хутору. На фронте было тихо. Только весьма редко слышна была стрельба малокалиберных пушек. На горизонте мерцали белые огни. Они запускают сигнальные ракеты, думал Цадо, они нервничают. Они подстерегают друг друга.
Женщина
В комнате было странно тихо. Слова падали в пространстве тягуче, как бы медля. Похоже, как будто они состояли из густой массы, с трудом спадающей с губ. Не было ничего живого, только глаза трех человек. На стене тикали часы с кукушкой. Они были из черной древесины, немного поврежденные с одного края, светлые стрелки на темном циферблате, на котором едва ли можно было видеть цифры.
Окна были занавешены, хотя керосиновая лампа давала только мрачный красноватый свет, который не выходил за пределы стола и оставлял все остальное в полумраке. Это была простая кухня. Печь с лениво мерцающим огнем за проломанной дверью. Стол из сырой древесины, протертый до белизны за многие годы. Несколько стульев, таких же натертых добела. Шкаф, краска цвета слоновой кости которого уже растрескалась. Над плитой висели несколько металлических кухонных принадлежностей. Все было просто и чисто. Чистота, пахнущая свежим молоком, паром конюшни и испарениями картофеля.
Томас Биндиг слегка двинул ладонями, которые держал лежащими на бедрах. Он чувствовал, что его ладони вспотели. Что с тобой? спрашивал он себя. Это странная, забытая жизнь делает тебя таким неуверенным? Или женщина? Только женщина? Немой?
Он посмотрел на женщину. Она сидела напротив его, на стуле за столом, под окном. Ее глаза были
направлены на плиту. Биндиг долго рассматривал ее, и женщина почувствовала его взгляд, но сама не отводила своих глаз от плиты. Это были большие глаза янтарного цвета, которые сами сверкали в слабом свете керосиновой лампы. Они придавали что-то материнское, божественное ее полному, овальному лицу. Впечатление, которое усиливалось еще из-за туго зачесанных назад, блестящих черных волос с пробором на середине головы и узлом, в который были стянуты длинные пряди на затылке. Биндиг вспомнил, что в движениях женщины была какая-то странная, спокойная уравновешенность. Он пришел, и она открыла ему дверь, с большими, широко открытыми глазами, в которых он, как ему показалось, заметил некоторый страх. Она прошла впереди него, и он все еще видел ее тело перед собой. Она не носила крестьянскую одежду. Никаких черных застиранных бесформенных юбок, а дешевая, тесно облегающая одежда из ситца. Она – женщина, подумал Биндиг, не девочка. Женщина, которой может быть тридцать лет. У нее, кажется, не было детей, но ее движения – это движения женщины, которая была матерью. Ее тело зрелое и полное. Она старше меня на десять лет. Почему же я так уставился на нее? Что в этих глазах?
Он мало имел дела с крестьянами. Он не знал их и не знал их вида и манер. Но эта женщина здесь была в меньшей степени крестьянкой, чем женщиной. Биндиг мог вспомнить только нежные, чувствительные городские существа. Он сознательно смотрел на них и испытал их. Эта женщина была первой крестьянкой, которая встретилась ему, если не считать того, что он иногда квартировал у крестьян, которых он, правда, едва ли замечал, едва ли успевал понять их вид и манеру, прежде чем он снова продолжал путь.
Перед ним на столе стояли обе консервные банки с мясом. Женщина кивнула и разожгла огонь в плите. Он сказал ей, что нужно подождать Цадо, и она кивнула снова. Он вспомнил, что это не выглядело неприветливым. Скорее с полным пониманием. Но также и с вполне ощутимым намеком, что она вовсе не была приятно удивлена неожиданным посещением. Биндиг почувствовал бутылку со шнапсом в кармане его брюк. Он еще не вытащил ее. Он не знал другого выхода, кроме как подождать Цадо. Цадо уехал с полевыми жандармами. Что должно было из этого получиться? Все равно, они подадут рапорт, и, вероятно, они допросят меня. Мне нужно заранее продумать мои ответы. Если это ничем не поможет? Я не смогу попасть с небес в ад. Самое большее из одного ада в другой. Он ощущал особенное безразличие к этим мыслям. Они больше его не касались. Он видел только женщину перед собой, и пока он смотрел на нее, он не мог думать ни о чем другом. Он поднялся и спросил: – У вас еще есть коровы?
– Да, – ответила женщина через некоторое время. Она говорила это растянуто, но без выражения.
– Две коровы.
Он заметил, что при этом она взглянула на слугу. – Русские не забрали их у вас? Слуга сидел на скамеечке для ног у печи. Большой, широкоплечий человек, белокурый. Лицо его было бы красивым, если бы не этот слабо открытый, влажный рот. Он был неухоженным. У него была длинная щетина. Его глаза были мягкими, непонимающими. Он переводил взгляд от Биндига к женщине и снова к Биндигу, глаза его скользили всегда одним и тем же путем. Он следил за всем, что происходило в комнате, не понимая этого. Его длинные сильные руки свисали вяло. Биндиг дал ему сигарету. Батрак закурил ее с голодным блеском в глазах. Потом он захотел уйти. Он дошаркал уже до дверей, медленными, шумными шагами, но женщина удержала его. Она указала ему снова на скамеечку для ног, и он беспомощно опустился там, ухмыляясь.
– Снаружи холодно, – сказала женщина, – пусть погреется немного. В его каморке тоже холодно.
Биндиг согласился с нею. Он подумал: мы ему тоже дадим немного мяса. Он будет голоден. Он, кажется, только ее работник, не любовник.
– Русские… , – медленно сказала женщина, – были в нашей деревне один день и половину ночи. Потом им пришлось отступить. У них не было времени заниматься коровами.
– И женщинами тоже? – тихо спросил Биндиг. Он сразу почувствовал взгляд женщины. Это был снова один из этих совсем невыразительных взглядов.
– И женщинами тоже, – ответила она и снова замолчала.
Биндиг прижал свои ладони к бедрам. Он вытер пот с его ладоней.
– Вам повезло, – сказал он. – Не всем женщинам так повезло.
Женщина пожала плечами. Слова Биндига, кажется, не особенно задели ее. Она поднялась и посмотрела на огонь. Огонь там горел очень сильно.
– Мы можем уже ставить мясо, – сказала она, не ожидая, впрочем, ответа, потому что она взяла из ведра, стоявшего возле печи, несколько картофелин и сняла с них кожуру умелыми руками. Потом она бросила картошку в кастрюлю, поставила ее на плиту и вытерла руки. Она не носила фартук. Биндиг заметил, что у нее не было кольца на пальце. Сейчас, когда она стояла у плиты, она показалась ему очень молодой. Почти как девочка. Огонь освещал ее лицо снизу. Эта женщина как мастер перевоплощений, подумал Биндиг, только свои глаза она не может изменить, они всегда остаются одинаково блестящими. Эти глаза я буду снова находить в моих снах. Глаза и всю эту женщину. Нехорошо, что я пришел сюда. Теперь эта женщина не оставит меня в покое.
– Почему вы не убежали? – спросил он бессвязно. – Вы единственный человек, который еще живет в этой деревне. Неизвестно, что будет завтра. Вероятно, было бы лучше, если бы вы покинули деревню…
Когда женщина снова села за стол, она взяла в свои руки одну из банок с мясом и повертела ее туда-сюда. – Вы хотите открыть обе банки? – спросила она.
– Обе, – ответил Биндиг, – не только мой товарищ и я хотим есть. Вы будете есть с нами. Вы останетесь здесь в деревне?
– У меня нет консервного ключа, – сказала женщина, – мы никогда не ели из банок. Можно ли их как-то иначе открыть?
– Дайте сюда, – потребовал Биндиг. Он рассердился. Он не любил разговаривать с людьми, которые не хотели слышать его слова. Он вытащил нож-стропорез из кармана на икре ноги, раскрыл лезвие и ударил ножом в мягкую жесть на краю банки. Из трещины пробилась коричневато-красная жидкость. Биндиг хотел разрезать дальше. Он как раз принялся за это, но в то же мгновение остановился и убрал руку с ножа. Женщина наблюдала за ним внимательными глазами. Она переводила взгляд с его лица на нож и снова на лицо.
– Что? – спросила она обеспокоено. – Вы нездоровы? Ваше лицо… оно совсем бледное… Она подошла к нему вокруг стола и как раз успела еще перехватить банку. Биндиг вскочил. Он не видел ни женщины, ни немого. Он не воспринимал вообще ничего, что еще можно было видеть в кухне. Он видел только трещину в жести и красновато-коричневую жидкость, стекавшую с его ножа. Несколькими шатающимися шагами он добрел к двери и открыл ее. В прихожей он перевернул ведро, потом оказался на дворе. Оба последовали за ним.
– Якоб… скорее, – закричала женщина. Она взяла батрака за руку и поспешила за Биндигом. Они настигли его на дворе, но они не смогли удержать его, он оттолкнул их. За амбаром, прислонившись к стенке, его стошнило. Оба слышали это, но не приближались. Они оставались на дворе и ждали. Биндиг прижал ладони к телу. Он чувствовал, как пот на его спине становится ледяным. Он больше не мог прочно стоять на ногах, но стенка амбара удерживала его прямо. Это продолжалось долго, пока он больше не видел нож и рану с вытекающей кровью. Он устало присел на корточки на камень за амбаром и охватил голову руками.
Ночь была холодна. Она была звездной, как последние ночи, и Биндиг снова видел перед собой того русского, там, у моста. Он слышал его шаги и видел, как он падает, он видел шинель с кровавым пятном, там, куда он колол. Все вращалось в его черепе. Школа рукопашного боя и занятия перед операцией. Он знал это так отчетливо, как будто бы Клаус Тимм только что объяснял: … а потом в почку. Над ремнем, ножом немного острием вниз. До ручки, проткнуть одним ударом, потом немного повернуть, и все. Этого никто не переживет. Не бойтесь, он не закричит. Самое большее – застонет, но и то негромко. Подхватите его левой рукой под брюхо, и пусть он медленно опустится на землю. Не роняйте! От этого будет звон! У них иногда много всяких железок в кармане. И винтовки постукивают. Это может быть вашей смертью. Ну, давайте, к кукле! Биндиг, что там такого интересного за окном? Музыка играет здесь. Ну, Биндиг, займись куклой. Я хочу видеть идеальный удар ножом!
Он слышал все, и он видел русского на мосту, он видел русского на складе боеприпасов, русского перед радиостанцией, русского на аэродроме. Он видел их всех и их лица. И потом он снова видел нож. Тот же самый. Он торчал в трещине в консервной банке.
Я трус, говорил он себе. Я больше не могу это вынести. Вообще, с того последнего раза у моста я ничего больше не могу вынести. Я тщательно очистил нож и сточил маленькую зазубрину. Нож безупречен, но я ни на что больше не гожусь. Меня тошнит, когда я вижу вскрытые мясные консервы.
Он медленно поднялся и прошел по двору. Он хотел избавиться от видений. В прихожей батрак вытирал содержимое опрокинутого ведра. Это было пойло для свиней. У них и свиньи тоже есть, подумал он. Они богаты. Они не нуждаются в наших мясных консервах. И все же они должны будут есть их одни.
Слуга ползал на кафельном полу и осклабился на него. Женщина появилась в двери и вопросительно посмотрела навстречу ему. Впервые ему показалось, что он заметил что-то вроде участия в ее глазах.
– Простите, – произнес он неуверенно, – я причинил вам убытки. Простите, пожалуйста…
Женщина оставила дверь открытой и впустила его снова на кухню.
– Проходите, – сказала она, – вы не здоровы. Вы слишком долго ели только солдатскую пищу и слишком много курили, и кто знает, что еще… Садитесь, я сделаю вам чай, он приведет ваш живот в порядок…
У нее в одной руке был горшок. В другой пакет с травами. Она поставила кастрюлю с водой на плиту и снова попросила Биндига сесть. Он нерешительно остановился в середине помещения и смотрел на женщину.
– Что вы делаете? – спросил он.
– Чай, – ответила она, – из горьких трав. Полынь. Она за десять минут сделает вас здоровым. Самое лучшее средство для живота…
Он подошел к ней и слегка положил свою руку на пакет с травами.
– Оставьте это, – попросил он, – мне не нужен чай. Это не живот. Оставьте чай! Его лицо все еще было бледным.
– Вы молоды, – сказала женщина с ноткой сочувствия в голосе. – Вы слишком молоды для этой войны. Она разрушит вам не только живот. Вы слишком молоды для нее.
Он взял пакет у нее из рук и снова сел за стол. Она прошла за ним и присела на край своего стула, нерешительно сложив руки на коленях.
– Может быть, я слишком молод для этого, – сказал он хрипло, – но есть люди, которые моложе меня. Простите, что я доставляю вам неприятности…
Женщина улыбнулась. Он впервые увидел улыбку на ее лице. Он воспринял это как откровение. Он пристально смотрел на нее, и его взгляд зацепился за ее губы, когда она сказала: – Вы так вежливы, как будто вы не солдат, а дипломат. Я не люблю вежливости. Вежливые люди всегда хотят обмануть других. Они не честны. Они думают: «Умри!», в то время как их глаза: – Я вам очень благодарен.
Он смотрел на нее довольно долго, потом сказал: – Я вовсе не желаю вам, чтобы вы умерли. У меня нет причин для этого.
– Простите, – просила женщина, – я не хотела вас обидеть. Я только сказала вам, что я думаю об этом. Впрочем, вы слишком молоды, чтобы уже стать двуличным. Тот, кто вас видит, знает о вас все.
Она быстро поднялась и пошла к плите. Вода в маленькой кастрюле кипела. Она взяла травы из пакета и высыпала их в очень горячую воду. При этом она сказала твердым голосом: – Теперь вы выпьете этот чай. Он поможет вам. Когда придет мой товарищ, вы сможете поесть. Вы давно не ели ничего настоящего?
– Где мой нож? – внезапно спросил он. Он чувствовал, что преодолел слабость. Женщина распахнула дверь и помахала слуге. Он вошел с шаркающей походкой, с вялыми свисающими руками. Как лунатик. В одной руке он держал консервные банки. В другой нож. Банки были открыты. Нож был почищен, и лезвие его блестело. Он подошел к столу и поставил банки. Потом он протянул Биндигу нож. При этом он поклонился..
– Он открыл банку моим ножом? – спросил Биндиг женщину. Батрак стоял у стола, ухмыляясь с отсутствующим видом. – Конечно, – ответила женщина, – ведь у нас нет консервного ключа. Она показала на банки, потом на нож и сделала при этом несколько быстрых движений рукой, которые должны были означать открывание банки. Слуга смотрел на нее внимательно, но потом внезапно энергично покачал головой. Из его рта вышло несколько клокочущих, гортанных звуков. Он жестикулировал дико руками и убежал в прихожую. Оттуда он притащил старый немецкий штык и показал, что банки он открыл этим инструментом. Женщина кивнула ему добродушно.
– Хорошо, Якоб, хорошо… Она махнула ему, и он снова прошаркал ногами туда, где сидел раньше. Его глаза светились в свете огня плиты. – Он открыл их с этой старой штуковиной, – сказала она Биндигу. – Вероятно, он не разобрался с вашим ножом.
Биндиг снова засунул нож в карман на икре. При этом он сказал: – В этом ему повезло. Иначе вкус мяса никому из нас не понравился бы.
Женщина поставила перед ним чашку чая. – Пейте! – просила она его.
– Нож был очень грязным? Биндиг встал. При этом он схватился за карман брюк, где лежала бутылка. Это был «Хеннесси». Они украли его на каком-то продовольственном складе, потому что «Хеннесси» был только для офицеров. Он вытащил бутылку и снял оловянную крышечку. Он подал бутылку Якобу и сказал при этом тихо: – Откройте! Он показал это жестом слуге, и тот усердно закивал.
– Нож не был грязным, сударыня, – сказал Биндиг, – но я как раз им заколол три дня назад одного русского. А до этого еще пятерых или шестерых других. Я каждый раз после этого его начисто вымыл и почистил. И вчера тоже. А теперь вы можете забрать этот чай. Он не поможет моему животу, потому что помогать нужно не моему животу.
Слуга откупорил бутылку несколькими ловкими движениями. Он подал ее Биндигу и при этом смотрел на него, как на больного, здоровье которого его очень заботило.
– Пленных русских? – спросила женщина.
– Нет, – ответил Биндиг. Он взял бутылку. – Принесите, пожалуйста, три стакана, – сказал он. Пока женщина искала в шкафу стаканы, он объяснил: – Не пленных русских. Свободных русских. Красноармейцев. Солдат. С винтовками через плечо. В их тылу за линией фронта, в десяти километрах или чуть больше, я точно не знаю. Это война, сударыня, и как вы видите, я не слишком молод для этого.
Он налил стаканы до краев. Потом он махнул слуге. Он подходил медленно, но Биндиг дружелюбно взглянул на него: – Ну, выпей с нами стаканчик! Кто знает, как долго ты еще проживешь!
Он поднял стакан в сторону женщины. Она медленно взяла тот, что он поставил перед ней.
– За что мы должны пить? – спросила она. – Неизвестно, за что нужно пить…
– Выпьем за этот день, – сказал он, глядя на нее. Я уже так давно не видел, как улыбаются женщины. Выпьем за это.
Слуга Якоб прошаркал со своим стаканом назад в угол у печи. Он твердо держал его обеими руками, как будто боялся, что его у него снова отберут. Он сел и пил коньяк маленькими глотками. Биндиг посмотрел на него и сделал жест, означающий, что он должен выпить быстро. Слуга послушно выпил стакан. Биндиг подошел к нему и наполнил его стакан еще раз до краев. Потом он засунул в руку ему пачку сигарет и сказал: – Пей и кури! Некоторые слабоумные умнее нормальных людей. Он не видел вспышки в глазах женщины. Она продлилась только одну секунду, и поэтому ускользнуло от его внимания. Слуга ухмыльнулся по-идиотски и присосался к стакану.
– Сегодня он будет хорошо спать, – сказал Биндиг. Он чувствовал, что должен теперь говорить, много говорить, пусть чепуху, только, чтобы вообще хоть что-то говорить, лишь бы снова не вспоминать о лицах.
– Он хороший человек, – сказала женщина, – верный человек. Я не знаю, что я бы без него делала.
Биндиг наполнил свой стакан еще раз доверху. Он выпил это одним глотком и произнес:
– Видно, что он хороший человек. Но почти по каждому человеку видно, что он хороший. Только если этот человек солдат, тогда этого нельзя видеть. Там история проще. Хорошие носят серую форму, плохие – землисто-бурую с советской звездой.
Он опустился на стул, в одной руке стакан, в другой бутылка. Батрак щелкал языком. При этом он вращал глазами.
Женщина слега пригладила ладонью свои волосы с пробором. Она смотрела на Биндига с выражением удивления. На плите кипела вода с картошкой.
– Вы очень молоды, – сказала женщина задумчиво. Она еще раз погладила себя по волосам и оставила руку на лбу. – Боже мой, как же вы еще молоды. В вашем возрасте нужно делать свою работу, по вечерам гулять с девушкой. Танцы. Нужно было бы…
– Нужно было бы… , – прервал ее Биндиг. – Чего только не нужно было бы. Но мир делится на таких, кто гуляет с девушками, и таких, кто стреляет друг в друга. Я принадлежу к последним… И в этом ничего нельзя изменить. Когда мы победим, все это будет забыто…
– Когда мы победим… , – сказала женщина, – тогда вы будете уважаемым человеком. Может быть, офицером. И тогда у вас будут дети, и вы покажете им ваш нож и скажете…
Биндиг посмотрел на нее, и она замолчала. Она опустила взгляд и нерешительно двигала свой стакан по столу туда-сюда.
– После победы, – сказал хрипло Биндиг, – еще не известно, кто победит, но после победы, во всяком случае, я тогда больше не буду жить. Очень вероятно, что я больше не буду жить тогда. И если, все же, я должен буду жить, то я буду бежать по улицам, по городам, и я буду искать женщину, которая выглядит как вы, у которой глаза, как у вас, и голос, как у вас. Женщину, улыбка которой напоминает мне о вас… Простите, пожалуйста, забудьте это. Давайте выпьем еще по стакану и больше не будем об этом говорить… Он налил ей, и она видела, что его руки дрожали.
Она снова провела ладонью по волосам, хотя они и так лежало гладко и аккуратно с пробором.
Не глядя на него, она сказала: – Мы слишком много пьем. При этом мы говорим такие вещи, о которых мы на следующий день ничего больше не хотим знать.
– Мы? – спросил Биндиг.
– Да, мы, – тихо произнесла женщина. – Вы и я. Мы.
Они оба услышали, как заскрипела дверь во двор. Женщина подняла голову и кивнула батраку. Он поднялся и поставил пустой стакан водки на пол. Он открыл дверь и неловко замахал наружу. В прихожей послышался громыхающий шум, затем проклятие. Цадо появился в дверях. Он держался рукой за лоб. В темноте он ударился головой о перекладину.
– Лестница… , – произнесла женщина с сожалением, – она так глупо сделана…
– Черт бы ее побрал! Простите! Добрый вечер и счастливого рождества всем вам! Цадо гремел на кухне. Он все еще держал руку у лба, а другую подавал женщине.
– Цадоровски, – представился он, – обер-ефрейтор. Становой хребет армии. Отец и мать были приличными людьми, сын стал солдатом.
Он осмотрелся по сторонам и обнаружил на столе стаканы и бутылку. Тогда улыбка скользнула по его лицу. Он снова усадил женщину на стул и сказал со вздохом облегчения: – Дети мои, как я рад, что я, наконец, среди нормальных людей! У меня было угнетенное состояние, милостивая госпожа! Я видел вас в деревне, и вы не производили впечатления женщины, которая пьет водку с нами. Найдется ли еще стаканчик для меня, малыш?
Еще в то время как Цадо опустошал первый стакан, он размышлял, что все же ему следовало бы сказать Биндигу, что случилось с жандармами. Он рассказал бы ему это по-своему. Женщина сидела рядом. Они не знали, что она за человек. Он разглядывал своего товарища, и он разглядывал также женщину, пока пил. Эта женщина была необычной. Она мало говорила. Она не показывала ни радости, ни досады из-за появления обоих солдат. Она такая на самом деле, или просто делает вид, спрашивал себя Цадо.
Он видел, что Биндиг следил взглядом за женщиной, когда та шла к плите, чтобы приготовить еду. Это был странный взгляд. Биндиг смотрел ей вслед, как будто он очень задумался об этой женщине. Не так, как обычно солдат смотрит на женщину, если не видел ни одной женщины несколько месяцев. Не с голодом по женщинам. Но также и не так, будто женщина никак его не заинтересовала. Цадо знал эту манеру смотреть вслед женщине.
Он проглотил алкоголь и подумал: Биндиг влюблен. В это трудно поверить, думал он, но это действительно так, это не обман. Он вспомнил о ночи у моста. Они говорили о девушках, вспомнил он. У Биндига очень редко где-нибудь была девушка. И он также никогда не говорил об этом. Но теперь его лицо не оставляло сомнений в том, что с ним происходило. Этот мальчику здесь не место, думал Цадо. Его место – стоять в субботний полдень с букетом цветов и стучащим сердцем перед пансионатом для девушек.
– Послушайте…, – крикнул он женщине у плите, ставя стакан на стол, – мы, конечно, доставляем вам много хлопот. Но не сердитесь на нас за это. Мы самые лучшие сыновья Великой Германии. В данный момент мы не побеждаем, но мы все же голодны…
Женщина повернула свое лицо к нему. Она сказала: – Хорошо. Я уже занялась этим.
Она не сказала, делает она это охотно или неохотно. Она не раскрыла, что она думает об их визите.
– Мы предложим, чтобы вам вручили военный крест "За заслуги"…, засмеялся Цадо.
Женщина тихо возразила: – Боже упаси, не нужны мне никакие ордена!
– Да вы его и не получили бы, – сказал Цадо. – „Если бы вы были казначеем, тогда да. А так нет. Вы относитесь к тем многим неизвестным героям, которые в неизменной верности большой идеи содействуют нашему фюреру в достижении победы. Хотя бы даже тем, что приготовите нам ужин.
Батрак сидел на своей скамейки у в печи и, ухмыляясь, качал головой. Он косился на бутылку, но Цадо не замечал этого.
– Не ухмыляйся! – сказал он батраку. – Ты должен радоваться, что ты не пригоден к службе. Они бы сделали из тебя крепкого солдата. Я сам бы иногда радовался бы, если бы был так же туп, как ты.
Женщина прислонилась спиной к плите. Ее глаза непрерывно смотрели на Цадо, когда она спросила: – Как долго вы в армии?
– С начала войны, – ответил в деловом тоне Цадо.
– И никто до сих пор не заметил, против чего направлена ваша насмешка?
– Вы первая, – ответил Цадо. – Если хотите, можете сделать из этого вывод об умственных способностях моих командиров.
– Или также о том, как хорошо вы обычно умеете держать язык за зубами.
Цадо, не отвечая, налил шнапса в стакан. Он взял стакан в руку и поднялся. Он приблизился к женщине и остановился перед нею. Она взглянула на него, и ему показалось, что он увидел небольшую насмешку на ее лице.
– Послушайте, – медленно произнес он, – что бы вы теперь предпочли сделать: сидеть здесь и довольствоваться тем, что есть, немного надеясь и немного боясь, или пойти к моему ротному командиру и сказать ему: Убирайтесь с вашими солдатами прочь отсюда! Уходите! Мы не хотим жить здесь между танками и воронками от снарядов, но мы хотим возделывать пшеницу и мак. Мы не хотим иметь ничего общего со всей этой дрянью! Уходите! Вы и вся армия! Я, женщина из последнего хутора Хазельгартена говорю вам это, и я отвечаю за свои слова, господин лейтенант!
Женщина ответила, не глядя на Цадо при этом: – Я не знаю вашего лейтенанта.
– Его зовут Альф и он живет в усадьбе номер 12. Идите к нему. Прямо сейчас. Мы подождем вас здесь. Скажите ему то, что я вам сказал или что вы еще хотите сказать. Мы подождем, пока вы вернетесь.
– Вам пришлось бы очень долго ждать, – медленно сказала женщина, – есть вещи, которые можно делать, и есть те, которые нельзя делать, если хочешь вернуться.
– За здоровье всех! – произнес Цадо, поднимая стакан. Он поднес его ко рту и выпил его одним глотком. Потом он сказал: – У вас разумная точка зрения мира. А от меня вы требуете, чтобы у меня была неразумная? Не думаете ли вы, что я тоже хотел бы вернуться?
– Я так и думаю, – тихо сказала женщина, – но на фронте каждый день гибнет несколько сотен человек, которые думают так же вы.
– Несколько тысяч, – поправил ее Цадо. – Я даже могу вам сказать почему. Смерть, которая приходит неожиданно и быстро, приятнее той, которую предвидишь как неизменное последствие определенного поступка. Если бы было наоборот, то эта война не продлилась бы и трех дней. Но так как это именно так, то она продолжится так долго, пока одной из двух сторон не перехватит дыхание. Тот, кто еще будет тогда жив, вернется. Вероятно. Сегодня ни в чем нельзя быть уверенным.
Женщина снова повернулась к плите. Она сдвинула кастрюлю с картошкой в сторону и перевернуло мясо на сковороде.
Биндиг обратился к ней. Он все время просидел тихо и не сказал ни слова. Но теперь он посчитал, что обязан что-то сказать. – Не сердитесь на него, – попросил он женщину, – он легко раздражается. Он совсем не думает так на самом деле…
Женщина повернулась и кивала. Ее лицом овладело выражением, которое представляло собой странную смесь понимания и задумчивости, отвержения и доверчивости. – Я знаю…, – сказала она, – я знаю, что вы имели в виду. Вы необычные солдаты. Я всегда думала, что солдаты другие. Я, кажется, заблуждалась.
– Этот опыт для вас неприятен? – спросил Цадо.
– Я не знаю, – ответила женщина, – конечно, солдаты бывают разные.
– Вероятно, мы ранили ваши самые святые чувства, – заметил Цадо с ухмылкой, – наверное, вы человек, который нуждается в героях вокруг себя. Мне жаль, если это так получилось…
Женщина взглянула на него и покачала головой. – Это не так, – сказала она тихо, – не нужны мне никакие герои. Я даже не знаю, что относится к тому, чтобы быть героем. Я не имела бы ничего против, если бы во всем мире было бы меньше криков о героях, зато больше тишины и здоровых мужчин, которые могут вспахать поле и женщину…
Она замолчала и быстро снова повернулась к плите.
Цадо молча вернулся к столу. Он налил доверху все стаканы, включая и стакан батрака. Его глаза были равнодушны, когда он сказал женщине: – Вы умеете так просто видеть жизнь. И людей тоже. Мне было бы интересно, какими вы видите нас…
Женщина взяла стакан, который он ей подал. Она ответила, не раздумывая: – Как людей, которые убивают других, чтобы самим не быть убитыми.
Цадо поднял стакан и выпил. Женщина пила коньяк глотками, потом поставила стакан осторожно на стол. Она начала мыть тарелку и выкладывать наборы. Она махнула батраку, что он должен уйти с кухни. Она указала на дверь, а потом положила голову на ладонь и при этом закрыла глаза. Слуга усердно кивал и хотел удалиться. Но Цадо удивился этому виду соглашения и сказал – Что же так? Почему вы не оставите его поесть с нами?"
– Это ваша еда.
– Хорошо, сказал Цадо, – и ее достаточно для четырех человек.
– Но он же только батрак…
– Послушайте, – сказал ей Цадо, – этот мужчина однажды будет единственным, кто останется с вами, когда мы исчезаем. Он будет еще с вами, когда здесь уже давно будут русские. Дайте ему заранее спокойно еще кое-что поесть…
Биндиг кивнул батраку, чтобы тот снова сел на скамейку. Он сделал это неуклюже и как бы неохотно.
– Русские уже были здесь, – сказала женщина.
– Я знаю, – отвечал Цадо, – и они вернутся. Они тогда останутся тут на дольше.
– Думаете, они вернутся?
– Да. Я только дату не могу вам назвать точно. Но вместо этого я могу сказать вам, что они придут с Т-34 и с их новыми танками «Сталин», со «сталинскими органами» и с самоходками. Они приведут свои отличные минометы и людей, которые могут обходиться с ними. В карманах у них будет махорка, семечки подсолнуха и газетная бумага. Вы подумаете обо мне, сударыня, и вы увидите, что я предсказал все правильно. Я уже очень красиво представил себе все, что тут будет, что сюда надвигается. Если вы в то время еще будете здесь, у вас будет возможность проверить мои сведения. – Не хотите ли вишен? – спросила женщина.
– Вишен?
– Да. Консервированные вишни.
– Я люблю консервированные вишни, – ответил Цадо, – и мой приятель тоже. Потому что мы любим есть все, что готовят не в походной кухне. Но мы не можем разграбить вас…
Женщина молча покинула кухню. Цадо задумчиво посмотрел на дверь, которая закрылась за нею.
– Боже мой…, – сказал он Биндигу, – как же только эта женщина пришла к тому, чтобы стать такой?
– Нам надо было бы еще раньше зайти к ней, – сказал Биндиг.
– Давай, – пригласил Цадо батрака. Он знал, что мужчина не понимал его, что в его мозге не было ничего, что передало бы ему дар понимать смысл вещей, которые происходили вокруг него. Но он сказал ему: – Давай, выпей еще стаканчик, прежде чем она вернется. Кто знает, как долго ты еще проживешь, старина… Он подал ему полный стакан, и слуга закатил глаза, когда взял его.
Женщина снова зашла на кухню. Она приносила стеклянную банку вишен и открыла ее.
Цадо смотрел на нее, ничего не думая и ничего не говоря. Тут он сразу вспомнил об обоих полевых жандармах. Он сказал Биндигу: – Что ты себе думал, когда затеял ссору с теми двумя цепными псами?
– Ничего. Это они повели себя так, как будто имеют право мне что-то приказывать.
– Такие люди могут прикончить тебя быстрее, чем ты думаешь.
– Возможно. Но они не должны вести себя так, раз уж приезжают на передовую…
– Они доложили об этом Альфу.
– Да. Они, наверное, арестуют меня в эти дни. Ну и что? Пусть спокойно арестовывают, они же ничего не могут против меня доказать.
– Они тебя не арестуют, – сказал Цадо. При этом он посмотрел на Биндига и поставил стакан со шнапсом на стол возле тарелкой. Женщина следила за их беседой, но по ней не было видно, интересовалась ли она их разговором. Она хлопотала у плиты, а батрак наслаждался содержимым его стакана.
– Даже так? – спросил Биндиг. – Но это мне тоже все равно.
– Это тебе не все равно, мой мальчик, – сказал Цадо, – у тебя сейчас очень большое мужество, но это не мужество, это только страх. Стоит тебе оказаться у них в лапах, это мужество исчезнет, ты это точно знаешь. Не строй из себя, будто тебя это не волнует. Но они не арестуют тебя, тебе снова повезло. Они оба мертвы.
Женщина еще поджаривала куски сала на сковороде. Они шипели на огне.
– Они мертвы? – спросил Биндиг. Он смотрел на Цадо с недоверием.
Он кивнул. – Да. Они мертвы. Они вон там, на углу леса, между двумя командными пунктами, наехали на мину.
Биндиг довольно долго молчал. Только потом он покачал головой и произнес: – Они заехали на минное поле? Одни? Я думаю, ты был при этом? Я думаю, ты привел их туда? С тобой при этом ничего не произошло? Или…
– Они наехали на мину, – сказал Цадо, – и я смотрел на это с некоторого удаления. Со мной ничего не могло произойти.
– Тогда ты их…
– Я сопроводил их до минного поля, – прервал его Цадо, – и они двинулись дальше. Что я должен был с этим сделать?
– Я понимаю, – произнес Биндиг с пересохшим горлом. Голос его был хриплым и сдавленным. Он протянул Цадо руку, но тот не посмотрел на нее.
– Если ты снова встретишь цепного пса, то соизволь подумать, с кем ты имеешь дело, – грубо сказал он Биндигу, – Потому что может статься так, что меня в тот момент не будет поблизости. И было бы чертовски жаль, если они тебя вздернут.
Биндиг молчал. Женщина принесла еду на стол. Она раздала ее и поставила маленькую миску с вишнями к каждой тарелке.
– Я варила их без сахара, – сказала она извиняющимся тоном. – Сахара совсем не было. Надо надеяться, они вам понравятся.
– А Альф? – спросил Биндиг. – Что говорит Альф?
– Он ничего не скажет, – спокойно объяснил Цадо, – он знает, что мы ему нужны, и он ничего не скажет. Он будет даже рад, что все закончилось именно так.
– Оба мертвы, – произнес Биндиг. – Вот так неожиданность.
– Да. Оба мертвы, чтобы один болван остался жив. Он вспомнил о женщине и повернулся за нею. Она закрывала дверку печи. Цадо сказал: – Простите, дорогая сударыня, мы тут совсем забыли о вас. У вас нет сахара, вы говорили?
– Нет, – ответила женщина, – надо надеяться, вишни понравятся вам и без сахара.
– У нас есть повар, – сказал Цадо, – у него лежат несколько мешков сахара. Мы притащим вам кое-что оттуда, если вы не возражаете…
Женщина отказалась. Она села к столу, и попросила батрака тоже сесть.
Женщина посмотрела на мужчин и сказала: – Я надеюсь, это вам понравится. Забудьте при этом обоих мертвецов и все остальное тоже.
Цадо взял свой столовый прибор и кивнул ей. Она рассматривала Биндига странным, задумчивым взглядом, который говорил Цадо, что эта женщина была не так неприступна и недружелюбна, какой она казалась внешне. Он принялся за еду, и при этом он слышал, как Биндиг тихо говорил женщине: – Мне сегодня вечером очень повезло. Я познакомился с вами, и, кроме того, я теперь еще знаю, что меня в ближайшие дни не арестует полевая жандармерия. Мне действительно очень повезло…
– И с надежным другом тоже, – ответила женщина. Цадо сделал вид, будто не слышал этого. Через некоторое время он начал хвалить еду.
По ночам снова стало сильно холодно. Небо оставалось чистым и полным беспокойно мерцающих звезд, которые гасли поздно, так как ночи были длинными. Воздух был ясен и холоден. По этому ясному холодному воздуху сюда доносился шум с фронта. Фронт становился с каждым днем более подвижным. Казалось, что он не собирается погружаться в зимнюю спячку. Он как бы просыпался к шумной, чреватой опасностями жизни. Утром, когда над пашнями еще стоял пар и дневной свет был бледным, так как солнца не было, до Хазельгартена с фронта доползал грохот легких пушек. В это время Красная армия вела огонь по целям. Не сильные удары, не крупные калибры, только что-то вроде беспокоящего огня, который часто длился часами. Иногда он прекращался на довольно долгое время. Но потом, через несколько минут, иногда через полчаса, со свистом и грохотом снарядов прилетал следующий залп. Пехотинцы в ячейках в это время не поднимали головы. Они сгибались и курили, дремали начинающимся утром. С немецкой стороны отвечали только редко несколькими отдельными выстрелами. Легкая артиллерия едва ли имелась у них в наличии.
Иногда подключались несколько штурмовых орудий, стоявших где-то хорошо скрытыми. Но в остальном на немецкой стороне все оставалось спокойно.
Незадолго до того как советская артиллерия прекращала огонь, начинали лаять 20-мм пушки. Днем, и в утренних сумерках их светящихся следов не было видно. Не видны были запутанные линии и кривые скрещивающихся огненных шаров, и, собственно, можно было слышать только шум выстрелов, так как маленькие снаряды почти беззвучно исчезали в мягкой земле, если они не свистели где-то далеко в воздухе.
Когда 20-милимметровки прекращали свой шум, то почти автоматически начинали стрелять советские стрелки из их ячеек. В большинстве случаев из пистолетов-пулеметов и больше ради шума, чем ради попадания. Для этого расстояние было слишком велико и дальность стрельбы маленьких пуль слишком мала. Немцы отвечали отдельным ружейно-пулеметным огнем, ружейными гранатами, несколько ящиков которых какими-то загадочными путями добрались до передовой. Иногда они стреляли в сторону противника и из панцерфаустов, довольно бесцельно, и радовались, если граната, по крайней мере, взрывалась. Позже стали отчетливо замечать время, когда на позиции привозили кофе. Это происходило примерно в одно и то же время с обеих сторон фронта. Становилось тише. Время от времени отдельный выстрел, больше ничего. И до полудня почти ничего не происходило, кроме случайного артиллерийского огня время от времени. Только во второй половине дня огонь становился снова ощутимым. Тут и там советская артиллерия обстреливала целые участки территории, выпускала пару десятков снарядов по самому узкому пространству и наблюдала за воздействием или движением, спровоцированным огневым налетом. Стороны прощупывали друг друга. Медлительные бипланы с красной звездой и хриплым мотором качались над фронтом, и наблюдатели стреляли по земле из медленно тарахтящих пулеметов, установленных на турелях. Также случалось, что они бросали бомбы. Они просто брали бомбы руками и бросали их через борт. Они попадали в какую-то цель очень редко, но эти самолеты, которые давно созрели для превращения в металлолом, были неприятны. Услышать их можно было только тогда, когда они были уже очень близко. Их шум моторов обманывал посты подслушивания, так как самолеты эти летали очень медленно. Это делало их опасными ночными бомбардировщиками. Современные машины, которые во время наступления русских кружились над отходящими немецкими колоннами, казалось, стояли далеко от фронта на безопасных аэродромах. Они применялись очень редко. Было похоже, что их берегли для будущего наступления.
Если на фронте было довольно долго тихо, пехотинцы могли слышать шум моторов за советскими линиями. Машины постоянно прибывали и уезжали. Но они почти никогда не появлялись в пределах видимости. Всегда было только слышно их двигатели, и никто не знал, были ли это всегда одни и те же машины, или же речь шла о бесконечных колоннах, подвозивших вооружение, технику, боеприпасы, войска и питание к траншеям.
Во второй половине дня минометы пристреливались к вечеру. Об этом знали. Три выстрела, а потом еще три. Иногда это повторялось. Тогда пехотинцы знали, что пристреливается «сталинский орган». Иногда тогда можно было наблюдать, как доставались лопаты и начиналась усердная работа. Солдаты зарывались все дальше в землю. Они копали горизонтальные проходы из их стрелковых ячеек в грунт, чтобы суметь спрятаться там как можно дальше, когда «органы» начнут стрелять.
Это происходило в большинстве случаев в сумерках. Совершенно неожиданно катящийся, глухой звук приближался издали от советских траншей. Так, как будто несколько дюжины барабанов ландскнехтов били одновременно. Ракет «органов» не было слышно. Только в самый последний момент слышалось клокочущее шипение, но тогда ракеты уже взрывались. Они падали всегда близко друг к другу на маленький кусочек территории и перекапывали его. Не очень глубоко, потому что их взрыватели были установлены так, что ракеты лишь неглубоко проникали в грунт. Они взрывались у поверхности земли и посылали опустошительный поток осколков прямо над самой землей. Только редко можно было ускользнуть от огневого налета «органов». Поэтому много пехотинцы на время, когда «орган» стрелял, отходили с их позиций назад до опушки леса, чтобы избежать огня.
Органы долго не стреляли. Они три или четыре раза меняли свое местонахождение и потом опять молчали. Минометы продолжали огонь. Артиллерия вмешивалась, иногда со 172-милимметровками, но потом снова замолкала, и с рассветом только похожие на нитки жемчуга трассы 20-милимметровых пушек проносились низко над землей.
Когда наступала ночь, начиналось время разведывательных дозоров. Они приходили от обеих сторон, и как одна, так и другая сторона ловила их, уничтожала, перехватывала, распыляла или упускала. При этом местами доходило до стрельбы. Это было время сигнальных ракет, которые круто поднимались вверх, лопались, опускались на парашютах, медленно покачиваясь и погружая местность в свой холодный, белый свет.
При случае тяжелое орудие пару раз грохотало далеко за советскими линиями. Калибр 280-мм или даже больше. Оно забрасывало несколько снарядов в первые деревни за немецкими линиями и потом снова замолкало.
В то время как на немецкой стороне спасали раненых и оттаскивали назад на брезенте мертвецов, у пехотинцев, прикрывавших сигареты ладонями, от одного к другому как каждый день распространялся слух, что прибыла дивизия зенитных пушек. Выделенная для наземных боев. Артиллеристы должны, мол, усилить позиции пехоты. Они поставят свои пушки так, чтобы появился, наконец, противовес сильно превосходящей их советской артиллерии. Зенитчики со своими пушками так и не появлялись. Об этом нечего было и думать, но слух держался упрямо, и офицеры не делали ничего, чтобы его развеять. Им хватало и того, что они пытались рассеять все другие слухи, которые переходили от одного солдата к другому, и которые были опаснее слухов о зенитной артиллерии, который все-таки вызывал что-то вроде надежды и был почти приятен.
Из-за одного такого слуха однажды вечером, который проходил в Хазельгартене относительно спокойно, полковник Барден появился у своего племянника, лейтенанта Альфа. Барден был широкоплечим мужчиной высокого роста. В нем было что-то отцовское, и он в действительности всегда предпочитал общаться с подчиненными в приветливой, успокаивающей манере, что обеспечивало ему некоторые симпатии. У него были сильно седые волосы и привычка курить сигары. Иногда он зажигал сигару шесть или семь раз, так как она снова и снова у него гасла. Тем не менее, виновно в этом было не столько плохое качество сигар со склада снабжения штаба дивизии, но скорее, рассеянность полковника, который просто забывал затягиваться, и вместо этого просто держал сигару между безупречно ухоженными пальцами, пока разговаривал с кем-то или делал заметки.
Он поприветствовал своего племянника, обняв его и энергично похлопав по плечу. Он действительно хорошо относился к Альфу, и Альф это знал. Этому обстоятельству Альф был обязан пусть не своей офицерской карьерой, но, по меньшей мере, тем, что он командовал подразделением, в котором от него не требовалось непосредственного участия в бою. Барден взял с заднего сиденья автомобиля упакованный в пергаментную бумагу сверток, зажал его под рукой и втолкнул Альфа в его квартиру, после того как приказал водителю загнать машину в укрытие и находиться где-то поблизости от нее.
– Мальчуган, – сказал он, улыбаясь, – расскажи мне, как твои дела! Он всегда называл Альфа мальчуганов. Он даже не знал его настоящего имени, так как все в семье всегда обращались к Альфу только так, так как он был самым младшим. Альф поставил на стол два коньячных бокала и потянулся к бутылке, которая стояла поблизости от его кровати. Но Барден воскликнул испуганно: – Оставь ради всего святого эту бурду! Вот, возьми это! Осталось от ящика «Мартеля»… Он размотал бутылку из бумаги. К этому прибавилось несколько упаковок с сигаретами, которые Барден тоже пододвинул Альфу, жестянка с английским кофе и коробка шоколадных конфет.
– Тебя, похоже, все еще очень хорошо снабжают, дядя, – сказал Альф, снимая оловянный колпачок с бутылки коньяка. Барден наблюдал за ним с усмешкой. Мальчик выглядел хорошо. Мальчуган всегда выглядел хорошо. Удивительно, что он еще не женат. Барден не был уверен, была ли вообще у Альфа девушка.
– Кофе, – произнес Альф и взял в руки банку, чтобы прочесть надпись, – трофейный кофе! Я не пил настоящий кофе уже больше трех месяцев!
Барден кивнул. Потом сказал укоризненно: – Почему ты об этом не докладывал? Немного кофе для офицеров всегда есть. Нужно только позаботиться об этом. Или твое задание тут отбирает у тебя все время?
Альф не уловил иронии в голосе полковника. Он только постучал пальцем по жестянке и произнес: – Трофейный кофе. И что мы пили бы, если бы случайно не воевали против Англии?
Полковник широко улыбнулся. Он откинулся назад на стуле, который взял, и расстегнул пуговицы мундира. На нем было несколько наград 1914 года и военный крест "За заслуги" с того времени, когда он был преподавателем в военном училище.
– Ты обставился довольно по-спартански, – заметил он, оглядев комнату. Альф кивком согласился с этим. Он налил коньяк в оба бокала и снова закупорил бутылку. Потом он зажег сигарету.
Барден заметил это и сказал: – Ты еще помнишь, где ты закурил свою первую сигарету?
Альф осторожно кивнул. Он поднял бокал и ответил: – Первая сигарета, да, это было у тебя. Там еще Польманн был. Он тогда поперхнулся, и ты бил его по спине. Он погиб в сентябре. В Голландии.
Они выпили. Альф медленно проглатывал старый ароматный напиток, чувствуя его вкус, неторопливо наслаждаясь.
Барден быстро проглотил свой коньяк и вздрогнул. Потом он потянулся за сигарой, и пока он тщательно обрезал ее, он сказал себе под нос: – Дома все в порядке. Эрнестина выходит замуж на Рождество. Я приехал к тебе и по этой причине тоже. Ты хочешь побыть на свадьбе?
– Я уже отгулял свой отпуск.
– И истратил попусту, вместо того, чтобы жениться, – кивнул расслабленно Барден. – Но это все-таки можно устроить. Всего одна неделя. Я думаю, мы поедем вместе.
Эрнестина была дочерью Бардена. Альф, поморщив лоб, поинтересовался: – А сколько ей, собственно, лет?
– Двадцать, – ответил Барден.
– Немножко рановато, – заметил Альф.
Барден сказал: – Мне хотелось бы, чтобы она вышла замуж. Они оба уже давно вместе. Дела такого рода не нужно откладывать слишком долго.
– Он же капитан авиационного округа, не так ли? – уточнил Альф.
Барден кивнул. – Да. Честный парень. Как раз подходящий для Эрнестины. После войны снова станет летчиком в «Люфтганзе».
– После войны…, – сказал Альф и снова наполнил стаканы. – Я думаю, после войны он будет уже настолько стар, что больше не сможет летать как пилот.
Барден задумчиво рассматривал его некоторое время. Потом на его лице появилась недобрая ухмылка.
– Мой милый мальчик, – произнес он подчеркнуто, – стратегических способностей нашего ефрейтора уже не хватит надолго. Война закончится быстрее, чем мы думаем.
– Вероятно также иначе, чем мы думаем.
– Об этом пока можно только строить предположения. Они оказываются не очень ободряющими, если посмотреть на ситуацию достаточно трезвым взглядом и если немного заглянуть за кулисы…
Альф поднял бокал и выпил. – Меня мучит представление мучит меня, что мы отстегнем однажды наши пистолеты и передадим их сибирскому комиссару. Он зажег новую сигарету и подал спичку Бардену, потому что увидел, что сигара у того уже снова погасла.
– Наш ефрейтор… , произнес Барден, задумчиво выпуская дым к потолку.
– Попробуй представить себе, что случилось бы, если бы бомба Штауффенберга грохнула его…
– Тогда ты с твоими знаниями английского языка был бы, вероятно, сегодня не Ic при нашей дивизии, а офицером связи при союзных английских войсках и квартировал бы либо в Париже, либо даже уже в Москве.
Барден задумчиво затянулся сигарой. Он был рассеянным курильщиком, он затягивался так долго, пока ее раскаленный конец не стал длиной в сантиметр и дым получил пригорелый вкус.
– Попытайся представить тебе…, – сказал он задумчиво, – все могло бы произойти именно так, и теперь… Ах, давай лучше бросим этот разговор. Свадьба Эрнестины будет в Шварцвальде. У нас будет несколько прекрасных дней.
– Шварцвальд зимой, говорил Альф, – это могло бы принести мне пользу. Надо надеяться, я смогу отсюда уехать. Я настроен скептически.
– Это получится, – невозмутимо сказал Барден. – Впрочем, тебе не стоит думать, что твоя рота важнее, чем что-то другое на свете.
Альф скривил лицо. Он с улыбкой посмотрел на дядю, так признательно, как он только мог, а потом сказал: – Я это давно знаю и я в этом твердо убежден. Но я подчиняюсь Ic дивизии.
Они выпили за свое здоровье и при этом улыбались. Барден снова вздрогнул. Его сигара воняла.
– Пока я не забыл, – сказал он, – у нас теперь появился НСФО – офицер национал-социалистического руководства. Боже упаси, чтобы ты с ним когда-либо познакомился. Он дал мне поручение поговорить с тобой об истории с борделями.
– С борделями? – спросил Альф с интересом.
– Да, с борделями. Ходят слухи, что русские сразу за фронтом разместили жилые вагончики, которые служат им как бордели.
– Отлично, – сказал Альф, – я расскажу это моим солдатам на тот случай, если они однажды во время операции почувствуют такую потребность…
– Послушай, – прервал его Барден, – это еще не вся история…
Альф не смог промолчать. Он спросил, подмигнув одним глазом:
– Не хочет ли господин НСФО, пожалуй, сам отправиться однажды на операцию с нашими солдатами ради этих самых жилых вагончиков?
Барден засмеялся. Стоило мальчику выпить два бокала коньяка, как он стал забавным.
– Нет, совсем нет! – сказал он, – ты забываешь, что мы в дивизии лучше обеспечены женскими кадрами, чем ты в твоей роте! Загвоздка в этой истории совсем другая. Есть ли эти жилые вагончики на самом деле или нет, я не знаю. Во всяком случае, слух о них есть, и господин НСФО хочет исказить этот слух крайне необычным способом.
– Исказить?
– Да. А именно так, чтобы получился положительный для нас и опасный для русских слух. Одним лишь приемом.
– Вот это уже очень любопытно. Если бы я мог предложить: солдаты во время использования дам получают неожиданно клеймо раскаленным железом в форме советской звезды. К этому примечание, что у Советов нет противоожоговых повязок…
Барден снисходительно улыбнулся. – Офицеру национал-социалистического руководства пришла в голову гораздо лучшая идея.
– Я слушаю! – сказал Альф. – Может быть, выстрел в затылок при поцелуе?
Барден снова улыбнулся очень снисходительно. Поморщив лоб, он сказал: – Ты слишком рано стал офицером, мальчуган. У тебя нет никакого представления о легких девочках. Там не целуется. Даже не разговаривают. Самое большее, лишь чуть-чуть. А теперь, внимание…
– Жаль…, – сказал Альф. – Я так здорово это придумал с выстрелом в затылок…
– Да. Итак, этот слух нужно исказить. С твоей стороны ты должен позаботиться о том, чтобы это стало предметом сплетен. Женщины в этих подозрительных жилых вагончиках – немки. Вот в чем идея!
Альф проглотил «Мартель» и спросил непонимающе: – Немки?
– Да… – Барден засмеялся. – Грандиозная фантазия! Угнанные немецкие женщины. Из нескольких деревень, которые русские заняли в Восточной Пруссии, и еще откуда-то. Каждый пехотинец увидит личную честь в том, чтобы освободить их! Хорошая выдумка, не так ли? – спросил он, когда Альф ничего не ответил. Он испытующе взглянул своему племяннику в лицо.
Но тот покачал головой и медленно сказал: – Я не могу утверждать, что мне понравилась эта история. По моему, она уж слишком примитивная.
Барден пожал плечами.
– И глупая, – сказал Альф.
– Я с этим не спорю, – сказал Барден, – я только передаю тебе инструкции НСФО.
Через некоторое время Альф сказал: – Ты недооцениваешь моих людей. Они слишком часто бывают в тылу у русских. Они там много чего знают. К ним нельзя просто так подходить с такими идиотскими выдумками. Они ведь не кандидаты в члены партии.
Барден снова зажег свою погасшую сигару. Он сделал это с ироничной усмешкой. При этом он сказал: – Мальчик мой, ты совершаешь ошибку. Ты смотришь на меня сейчас на НСФО. Но я только Ic, начальник разведки. И эта история вовсе не мое изобретение, а того самого офицера национал-социалистического руководства.
– Я ее проигнорирую. У меня нет никакого желания распространять эту историю.
– Я и не требую от тебя решения в этом деле, – любезно сказал Барден, – это не моя сфера деятельности.
Барден объяснил своему племяннику, что изменилось за последние недели в штабе дивизии. Назначение офицера национал-социалистического руководства повлекло за собой некоторые последствия, на которые раньше никто не рассчитывал. Но это касалось, по крайней мере, вначале только штаба дивизии, не роты, и Альф слушал это без особого беспокойства. Еженедельные политические занятия. Вечернее обучение для офицеров. Изучение национал-социалистических идей. Преобразование Вермахта в политическую армию.
На это потребуется время, говорил про себя Альф. И, кроме того, фронт был здесь действительно тонок. Никто не знал, удастся ли удержать позиции при будущем наступлении. Тогда новый офицер национал-социалистического руководства, вероятно, сам бы незаметно удрал. Альф был в этом уверен, хотя и не знал, был ли тот опытным фронтовиком или просто партийным теоретиком в форме. Поживем, увидим.
– Как вообще обстоят дела, дядя? – спросил он, наконец, об общей ситуации. – Мы здесь отрезаны от всего, как только можно быть отрезанным. Не слушай мы по радио «Солдатскую радиостанцию Запад», мы вообще не знали бы, что происходит в мире.
Барден был человеком, которого в штабе считали надежным офицером. Он обладал большими знаниями, это делало его ценным. И он умел хранить при себе свое мнение о вещах, которые его окружали. Это делало его популярным у его начальников. Все же, в штабе не было, пожалуй, другого офицера, который столь точно знал бы ситуацию, в которой находились войска, и одновременно столь же трезво оценивал бы ее, как Барден. У Бардена не было иллюзий. Он был лишен пафоса и не питал больших надежд на улучшение положения на фронте. Таким он стал с тех пор, как начал воевать на Восточном фронте. До этого война интересовала его только с теоретической точки зрения. Иногда он писал небольшие военно-политические статьи для военного журнала «Вермахт».
Но это было давно. Он был осторожным человеком и вел себя подчеркнуто нейтрально в июньские дни, когда один его старый сослуживец времен Первой мировой войны несколько витиевато, но все-таки достаточно понятно спрашивал его о том, что он сделал бы, если бы часть старшего офицерского корпуса решилась бы устранить Гитлера и взять в свои руки государственные дела и ведение войны. Мысль об этом не была для Бардена несимпатичной. Он даже пообещал кое-что и заверил своего товарища в строжайшем сохранении тайны и своей большой симпатии.
Но он так же определенно подчеркнул, что он не чувствует себя в том положении, чтобы активно участвовать в этом конфликте. Барден был умен. Он слишком трезво оценивал ситуацию, чтобы надеяться на успех попытки людей из офицерского корпуса. Он знал об острых зубах партийной машины и потому не решил не становиться мучеником.
Когда он теперь говорил со своим племянником о настоящем положении на фронте, он делал это, вспоминая обо всем, что произошло, до тех пор пока армии не остановились. Осень этого года была в определенном смысле решающей для дальнейшего хода войны. Она подходила к концу. Теперь наступала зима. Барден вспоминал.
В августе Красная армия проломала тонкие немецкие войска охранения у восточно-прусской границы. По обе стороны города Мемеля колонны русских продвинулись до Балтийского моря. Для немецких войск в Курляндии это означало «отрезание».
Однако, в течение августа одновременно также положение на Балканах обострилось настолько, что нужно было считаться со скорой потерей значительных частей занятых там немцами стран. Так оно и произошло. Румыния объявила Германии войну, и Красная армия начала наступление. Вскоре после этого немецкие войска покатились назад, отступая через Венгрию. Тем не менее, части Красной армии, которые под командованием Рокоссовского и Черняховского готовились к наступлению на Восточную Пруссию, находились ближе всего к территории Германии. Скорее всего, именно там должно было решиться то, чему суждено было произойти в ближайшие месяцы. Именно там это и случилось. В сентябре Финляндия заключила мир с Советским Союзом. Уже в начале октября Красная Армия во второй раз начала наступление на Восточную Пруссию. Она выступила со своих позиций усиленной и удивительно хорошо вооруженной и снабженной. Она взяла Гольдап и наступала к Гумбиннену. Она ударила не только тут, но и на участке группы армий «Север», которую прижала на тонкой полоске суши между Балтийским морем и Рижской бухтой. С напряжением всех имеющихся сил советское наступление удалось еще раз остановить. Но это ничего не меняло в том факте, что Красная армия уже находилась в Восточной Пруссии, и что речь могла идти только об относительно коротком времени, до тех пор пока она снова не приступит к окончательному решающему удару.
Моральный дух немецких войск был плохим. Кроме того, не хватало людей. В дивизии поступало поверхностно обученное пополнение. На место опытных в войне на суше солдат приходили летчики и матросы, административные служащие из штабов и ополченцы из «фольксштурма», которые ничего не могли противопоставить боевой тактике и опыту советских солдат. Кроме того, не хватало техники. Казалось, что Германия больше не располагала самолетами и танками. Только редко можно было увидеть тяжелую артиллерию. Однако наличествующая материальная часть была изношена и требовала ремонта. Стволы орудий были изношены, а с заводов боеприпасов в Германии на фронт поступали патроны, сделанные из лакированной жести. Они застревали в винтовках, заклинивали затворы. Для машин не хватало запчастей. В немногочисленных мастерских не было запчастей даже для последней конструкции немецкой военной промышленности, танка «Тигр». С трудом сгребали все самое последнее, и офицеры национал-социалистического руководства превосходили самих себя в изобретении привлекательных лозунгов, призывающих к стойкости. Снова и снова требовали безусловного доверия к фюреру и веры в окончательную победу. Были солдаты, придерживавшиеся противоположного мнения, и на деревьях вдоль восточно-прусских дорог уже висели трупы первых дезертиров. Откуда-то снова и снова приходили многообещающие сообщения о новом, неслыханно мощном оружии, которое якобы должно было вскоре принципиально изменить ситуацию в пользу Германии. Среди солдат, сражавшихся на Западном фронте против вторжения союзников, эти слухи уже держались довольно долго. Такие слухи были упорны, похожими на кусок прибитого волнами дерева, который мог бы помочь не умевшему плавать человеку продержаться на воде после кораблекрушения.
Между тем, фронты застыли. Все выглядело так, что Красная армия все еще стягивала людей и технику для ее наступления, и было похоже, что гигантские расстояния, отделявшие ее дислокацию от ее баз снабжения продлевали время, необходимое для подтягивания резервов. Если не считать нескольких отдельных локальных ударов, войска лежали друг напротив друга в ожидании, как будто война в Восточной Пруссии и на ее границах на короткое время погрузилась в сон.
Барден знал, как будет выглядеть пробуждение от этого сна. Через его руки проходили донесения разведывательной роты, которой командовал его племянник. Он анализировал эти донесения и с согласия командующего группы армий отдавал приказ о проведении операций, которые должны были в тылу противника помешать его продвижению. Он знал, насколько мал шанс изменить таким путем хоть что-то в предстоящих событиях, но он опасался сознаться в этом любому другому человеку, кроме самого себя.
– У тебя теперь на боевой операции девятнадцать человек, – сказал он Альфу. Тот кивнул. – Девятнадцать. В четырех разных группах. Это первый раз, когда в боевой операции участвуют так много человек одновременно.
Барден некоторое время подумал. Потом он сказал: – В ближайшее время нам потребуется еще две группы. Большая операция.
– С двумя группами?
– Да. Но обе группы вместе. Он стал говорить тише, хотя не было ни малейшего риска того, что кто-то мог бы подслушать их разговор. – Мы используем вместе с ними несколько людей из армии Власова. Добровольцев. Они уже прошли свой курс подготовки.
– Власов? – поинтересовался Альф. – Это русский перебежчик?
Барден кивнул. – Он сам тут не играет никакой роли. Его, в общем, отстранили от дел. Но он привлек к себе массу русских, и для этих заданий их нужно использовать. Часть из них, конечно, на той стороне сразу стащит с себя свою форму и разбежится, но все равно достаточное их число еще останется.
– Для чего?
Барден обрезал новую сигару. Он обходился со своими сигарами как с совершенно бесполезными предметами. Как будто он не знал, что это были дорогие импортные товары, которые штабной снабженец доставал только обходными путями и которые и без того скоро должны были закончиться.
– Для чего? – повторил он. – Для разных дел. Не забывай, что эти люди – русские. Они говорят на русском языке и хорошо ориентируются в традициях и обычаях их армии.
– Боже мой, – сказал Альф, – неужели ты веришь, что это решит исход войны? Он посмотрел на дядю, но тот добродушно улыбался ему в лицо, дымя своей сигарой.
– Конечно же, нет, – сказал он, – впрочем, они получат относительно незначительные задания. Но все-таки они носят форму Красной армии и их не так легко распознать. Пусть они даже ничего и не решают, но все же они причинят там замешательство. Впрочем, разумеется, насколько я знаю русских, это замешательство им не сильно помешает.
– Ты говоришь мне это сегодня, а завтра ты будешь им расписывать, как сильно наша окончательная победа зависит от их действий.
– Может, мне лучше пойти воевать под Гумбинненом в должности командира пехотной роты? Найдется достаточно людей, которые с нетерпением ждут возможности сменить меня на должности Ic… Барден выпустил несколько облаков дыма в душный воздух комнаты. Альф задумчиво смотрел на бутылку коньяка. Барден вынул сигару изо рта и тихо произнес: – Мой мальчик, ты должен понимать, что нам противостоят тридцать стрелковых дивизий и двенадцать различных танковых соединений. Артиллерию я вообще не хочу считать. Но до того, как русские начнут наступление, это количество еще увеличится. Что, как ты думаешь, произойдет тут, когда это начнется?
Альф потянулся к сигарете. Когда она загорелась, он встал и прошел несколько шагов по комнате туда-сюда. Барден больше не мог видеть его лица, потому что керосиновая лампа, которая висела на стене, была прикреплена слишком низко. Он только слышал, как лейтенант сказал: – Есть ли какие-то исходные данные о времени начала наступления?
Барден наморщил лоб. Он пригладил свои растрепавшиеся, довольно редкие седые волосы, а потом сказал: – Судя по тому, что мы до сих пор знаем, наступление заставит себя ждать еще довольно долго. Я имею в виду крупномасштабное наступление. Русские едва ли начнут его в старом году. Они осторожны. Им требуется открытая погода. Это значит мороз и снег. Это их время. Вчера твои люди вернулись. Они установили, что на позиции прибыли сани. Если они доставляют сани на позиции, это значит, что они хотят ехать на санях. Снега пока еще нигде нет. До Рождества его тоже еще не будет. Потом и начнется наступление. Мы как раз вовремя вернемся со свадьбы Эрнестины, чтобы испытать его…
– Вероятно, это будет последнее наступление, которое мы испытаем…, – произнес Альф из темноты. Барден молчал. По прошествии долгого времени он сказал: – До него будет еще много небольших столкновений. В нескольких местах русские попытаются захватить более выгодные исходные позиции для наступления.
Он большим пальцем руки, которая также держала сигару, указал в сторону двери. Это был неопределенный жест. Потом он произнес: – Они однажды попробуют это и здесь, в этой местности. Есть определенные признаки этого.
Альф ответил: – Они уже доходили за Хазельгартен. Тогда…
– Да, – прервал его Барден, – они попытаются еще раз. Насколько я вижу ситуацию, мы не сможем им противопоставить ничего существенного. Мы только затормозим их, но не нанесем контрудар.
– Ты думаешь, у нас нет сил для этого?
– Тут разыгрываются другие дела. Все, что мы еще будем делать, это задерживать русских так долго, пока американцы не достаточно далеко продвинутся в Германии. Так вижу это. Ты понимаешь?
– Понимая. А моя рота?
– Мы отведем ее назад. Слишком жаль использовать ее в качестве тормозного башмака. Она еще пригодится. Ее отведут назад, когда это начнется. Но похоже на то, что до этого придется еще подождать.
Барден не был пьяницей, и алкоголь ударил ему в голову. Утром у него были бы страшные головные боли, но теперь ему было все равно.
На улице перед домом откатывалась назад колонна грузовиков. Машины с боеприпасами. Двигатели рычали в ночи, и Альф, стоявший с опущенной головой за столом, представлял себе лица водителей. Плохо выбритые, немытые, согнувшиеся над рулевым колесом, напряженными глазами всматривающиеся в темноту, едва освещаемую узкой полоской света от фар со светомаскировкой. Сигареты у лиц. Горящие точки в темноте. Запах пота и табачный дым.
– Теперь у русских тоже есть радиолокаторы… , – сказал Барден.
– В Шварцвальде…, – бормотал Альф. – Эрнестина выходит замуж в Шварцвальде. Мой черный костюм мне больше не подойдет. Я должен буду появиться там в мундире…
Чтение мессы
Пока Цадо очень тщательно умывался, он думал о том, что говорила та девушка.
Он пробыл у нее весь прошлый вечер, всю ночь и следующий день. Только в сумерках он вернулся в Хазельгартен. Он заранее попросил разрешения у Альфа. Тот обязал его вернуться не позже сумерек, и Цадо выполнил свое обещание, вовремя вернувшись в деревню. В доме, где они квартировали, он не нашел никого, кроме одного обер-ефрейтора, известного тем, что в промежутках между операциями он только пару часов был трезвым, а все остальное время постоянно спал, потому что он поднимался со своего лежбища на матрасе из соломы только для того, чтобы пить дальше, до тех пор пока он снова не падал. Мужчина был безвредным. Он много говорил, когда пил, но был добродушным. Он лежал на матрасе из соломы и смотрел остекленевшими глазами, как Цадо принес большую миску с водой и поставил ее на печь. Комната, в которой они лежали, когда-то была хорошей комнатой крестьянской семьи. Они вытащили мебель и поставили ее в амбар. Матрасы выложили в ряд на полу. Так в комнате появилось больше места. Они лежали там вшестером, с их вещами и большим количеством предметов, нужных им для ежедневного употребления: миски для мытья, несколько больших кастрюль, кофейник с вязаным чехлом для сохранения тепла, столовые приборы, собранные из шести различных домов. Одеяла, старые занавески, которые они использовали для чистки оружия, и точило Цадо нашел на кухне какого-то дома. Возле железной печи на полу стоял граммофон с огромной трубой. Сначала был один только граммофон. Они нашли трубу позже за домами на куче хлама. Водители использовали ее как воронку для заливания бензина. Она даже сейчас воняла им. Но аппарат играл. Солдаты нашли несколько пластинок. Это были старые песни бабушкиных времен, но кто-то позже принес из того местечка, в котором располагался штаб, полудюжину новых дисков. Они играли их попеременно. Не осталось никого, кто не знал бы их уже наизусть.
Когда вода для умывания нагрелась, Цадо поставил миску на стул и разделся. Другой в углу неподвижно смотрел на него. Цадо обтирал верхнюю часть туловища, при этом тихо насвистывая. Девушка говорила ему что-то о любви.
Обер-ефрейтор в углу потянулся к бутылке. Это был «болс» и происходил он еще из Голландии. Обер-ефрейтор владел еще половиной ящика этих бутылок. Он сам их украл. Когда они уходили из Хардервейка, он с водителем поехал на продовольственный склад, чтобы забрать для роты 50 килограмм хлеба, двенадцать килограмм масла, столько же сыра, две тысячи сигарет и сто бутылок «болса». Часовые в то время уже не особо за ним следили, и обер-ефрейтор вместе с водителем утащили дополнительно еще два ящика «болса». Потом они из поделили. Половина ящика, которой он еще владел, было остатком его доли. Он не был жадным, и по этой причине никто не воровал у него «болс». Достаточно было сказать ему, что хочешь бутылку, и он ее давал. Но в наличии был шнапс лучше «болса», потому остаток в ящике обер-ефрейтора продержался довольно долго. Водитель тайком перевез ящик из Голландии до Хазельгартена на своей машине. Иногда он приезжал сюда, и тогда они на пару с обер-ефрейтором выпивали бутылочку. Они дружили еще со школы.
– На! – буркнул обер-ефрейтор. Цадо не осталось времени, чтобы подумать, чего хотел пьяный. Он увидел, как к нему летит бутылка, и едва успел перехватить ее. Она чуть не выскользнула у него из рук, потому что его ладони были скользкими от мыла. Но он схватил ее, прижав к телу, сделал из нее глоток, и бросил ее назад.
– Отстегни пистолет, – бурчал обер-ефрейтор, – нельзя мыться с пристегнутым пистолетом…
Цадо прищурил глаз на своем лице, похожем на хищную птицу, и посоветовал обер-ефрейтору:
– Не пей так много. Если они снова отправят тебя на операцию, у тебя не будет верной руки.
– Пистолет… , – бурчал мужчина. – Заряженный и на предохранителе… Хи… Идиот… Пошел купаться с пистолетом.
Девушка была уже не очень молода. Одна из тех женщин, у которых не было никого, кто был бы в них заинтересован. Ни семьи, ни мужа. Только солдаты.
Цадо взял с собой для нее немного еды. Несколько консервных банок с мясом мула, хлеб в целлофане, несколько банок сардин в масле. Все с офицерской кухни. Цадо был одним из немногим, с которыми повар играл в покер. Для таких людей всегда что-то находилось. Цадо позволял повару выигрывать. Когда он играл с поваром в покер, то рассматривал как личную неудачу, когда у него был «флеш». Нужно было давать выигрывать повару. Тогда у того улучшалось настроение и вытаскивал те продукты, которые были в дефиците. Сигареты и «шокакола» были важнее, чем пара замызганных банкнот, которые проигрывал.
– Все уже больше не солдаты… , – бормотал обер-ефрейтор. Он поставил бутылку и снова пил. Он два дня назад вернулся после операции. Другие охотно шли с ним, так как он был силен как медведь. Однажды он пронес раненого восемнадцать километров на спине и спас его. Этот солдат уже лежал в кустах со стволом «Беретты» во рту, и обер-ефрейтор был последним, кто проходил мимо него. Он взял его с собой…
Он отставил бутылку и удовлетворенно громко рыгнул. Потом он взял сигарету и смотрел, как Цадо насухо вытирал кожу.
– Будь осторожнее, чтобы ты не взорвался, – ухмыльнулся Цадо. Обер-ефрейтор небрежно махнул рукой. При этом он коснулся горящим концом сигареты своей руки. Искры разлетелись в разные стороны, но мужчина, казалось, не заметил этого.
Мы должны всегда оставаться вместе, говорила девушка. Было темно, и в комнате пахло духами, знакомыми Цадо. Они как-то нашли большую бутыль его в каком-то голландском парфюмерном магазине и взяли с собой. Баллон, в конце концов, оказался в штабе, и офицеры разлили его для себя по пивным бутылкам. Было время, когда уже на улице местечка, в котором находился штаб, можно было унюхать, в каком именно доме он расположился. Не было смысла ломать себе голову, кто мог бы подарить эти духи девушке.
– Фронт, наверное, больше не изменится, – говорила девушка, – тогда мы навсегда останемся вместе, и когда война закончится, ты будешь жить у меня. Это будет так прекрасно…
Цадо играл с ее волосами. Он любил эти полные, тяжелые волосы. Он не видел их, он слышал только ее голос. Этих девушек было легче выносить в темных комнатах, чем в освещенных. Он больше не помнил точно, что ответил ей. Но он знал, что он дал ей надежду. В той деревне было не много девушек. Было хорошо знать, к кому было бы можно пойти, когда очередная операция снова закончится.
У этой девушки было что-то материнское. Когда он уставал, она снимала с него ботинки и носки. Она раздевала его и все аккуратно складывала. Она гладила его брюки и стирала его рубашки. Она не была особо красивой. Даже не особо испорченной. Она только жила в деревне, которая была занята Вермахтом.
Цадо задумчиво вытирал насухо своие волосы. На полу была маленькая лужа рядом с миской для мытья. Она одинока, думал Цадо, она так же одинока, как мы. Она начала прогонять эту скуку своим телом себе, и она больше не находит конца. Вот и все. Более ничего. Она называет это любовью. Можно ли вообще знать, что еще можно назвать любовью? Вероятно, то, что будет происходить между Биндигом и этой Анной? Конечно, до этого дойдет. Будет ли тогда это любовью?
Обер-ефрейтор ныл: – Послезавтра начнется… я знаю это точно. И они снова будут меня… все равно… если всеь «болс»…
– Тогда ты притащишь ящик водки с той стороны, как я тебя знаю, – произнес Цадо. Он надел рубашку и потянулся к форме.
– Водка…, – запинался пьяный с отвращением, – это денатурированный спирт с блохами. Он ухмыльнулся: – От него можно подхватить триппер.. в мозгу…, и в коренных зубах. Представь только – триппер в коренных зубах…
– Ты свинья, – в деловом тоне сказал Цадо. – Ты должен по крайней мере раз в день на полчаса быть трезвым, чтобы ты смог понять, что все остальное время ты был пьян.
Обер-ефрейтор входил во взвод Тимма. Если они несли службу между операциями, то Тимм появлялся на несколько часов раньше и отнимал у обер-ефрейтора бутылку. Несколько часов хватало, чтобы тот стал годным к службе. Тимм обращался с ним как с больным ребенком. Если он с таким подходом не мог добиться успеха, то он на него орал. Это всегда помогало, так как у обер-ефрейтора был нрав ребенка.
Он искоса смотрел на Цадо и причитал: – Нет, но все же, не свинья… ты не можешь так говорить.
Цадо снова вспомнил о девочке. Он видел ее перед собой, как она лежала в кровати, и над кроватью, на стене, висел маленький, стеклянный котел святой воды с ангелом на нем. Он был пуст, так как комната, в которой жила девочка, не принадлежала ей, и, кроме того, девочка не была достаточно религиозной, чтобы снова наполнять котел святой водой. Они использовали его как пепельницу, и это было так здорово лежать в темноте, бросать окурок в прозрачный сосуд и наблюдать, как он там медленно догорал.
О, небеса, думал Цадо, как долго это продлится, и они будут нашивать себе на одежду жемчужины четок как пуговицы! Если бы не было девушки, я тоже пил бы, думал Цадо. Всякий раз когда не было девочек, я пил. И я теперь тоже делал бы это. Она рассказала ему свою биографию. Бледно-фиолетовая картинка-лубок, намалеванная халтурщиком. Дочь пекаря из Гольдапа. Родители погибли, спасаясь от авианалета. Потом Вермахт забрал девушку с собой. И он также заботился о ней. Ей разрешили помогать на кухне. Она за это получала еду. После того, как повар поимел ее, она даже при случае приносила домой сигареты и шоколад. Позже духи. Ароматизируемая картинка-лубок. Цадо надевал ботинки и с отвращением думал об опухлых пальцах повара. Карты покера клеились к этим пальцам, как будто бы они были намазаны клейстером. Он вспомнил, что он часто думал об этих пальцах. Он размышлял тогда, было ли возможно, что эти пальцы оставили липкое ощущение на коже девушки. Он сидел на своем матрасе и зашнуровывал ботинки. Цадо, думал он, что будет из тебя? Женщина? Эта? Вздор. Ты каждую ночь будешь думать, что ее кожа все еще липкая от пальцев повара. А какая-то из дома? Ты будешь видеть каждую ночь перед собой рекрута, который занимался этим с нею, в то время как ты висел здесь на своем парашюте.
– Я тебя очень люблю, – говорила девочка. Очень тихо и так, что можно было ей в этом поверить.
Заменимая любовь, думал Цадо. Любовь борющейся германской расы. Любовь между липкими пальцами одним и воспаленными прыщами другого. Любовь образца 1944 года и позже. Любовь героев нашего времени. О чем только все не думают, говорил он себе. Но в этом ничего нельзя изменить. Им удалось это. Они сделали мужчин героями, а женщин проститутками.
– Слушай-ка, глупыш! – обратился он неожиданно к обер-ефрейтору. – Где, собственно, все остальные?
Пьяный ухмыльнулся всем лицом. Он закатил глаза и схватился снова, как будто вопрос Цадо его разбудил, за бутылку. – В церкви…, – запинаясь, пробормотал он. Он сделал глоток и вытер себе рот. – Все в церкви. Мозек во главе, ха-ха! Но… не молятся.
Тут Цадо надел камуфляжную куртку и шапку. Пьяница хихикал ему вслед, когда он покинул помещение.
Он услышал музыку уже когда приближался к церкви. Он остановился и одно мгновение недоверчиво внимательно прислушаливался.
Церковь стояла на краю маленькой площади, посреди деревни. Ее стены обросли усиками ползучих растений. Старое, почтенное сооружение. Балка для колокола была разрушена, хотя колокол еще висел неповрежденным. В башню попал снаряд, сильно ее повредил, а также сорвал часть крыши, так что черепица беспорядочно лежала вокруг.
Когда пойдет первый снег, он через эту дыру будет падать внутрь, думал Цадо. Теперь он очень отчетливо слышал, как играет орган. Орган не был поврежден. Он поднялся на ступени и медленно открыл дверь. Ее петли тихо запищали, но она открылась легко. Было темно, за исключением тусклого огня «светильника Гинденбурга», свечки в картонной чашечки, горевшей на ступенях к алтарю. Вокруг этого света сидело чуть больше дюжины мужчин. Они так сложили ковровую дорожку, которая вела наверх лестницы, что каждый получил кусок ее как подстилку для сиденья. Цадо старался приблизиться к свету, но в церкви было темно, и он ударялся об деревянные скамьи, пока не пробился к центральному проходу. Он споткнулся на скрученной дорожке и громко выругался. Только теперь он осознал, что эта ситуация в церкви Хазельгартена была особенной. Он только лишь слабо мог вспомнить, как выглядела церковь, в которой он был еще ребенком. И теперь, в этой деревне, в спустившейся ночи, с дюжиной солдат перед главным алтарем. Собравшихся вокруг «светильника Гинденбурга». Это казалось таинственным, безумным. Орган на эмпоре начал играть «Родина, твои звезды».
Один из солдат, которые сидели на ступенях, узнал Цадо и позвал его негромко: – Цадо… Иди сюда, у нас есть твой шнапс!
Это был голландский джин. Джин тут был часто, так как рота в Голландии сама помогала грузить весь джин, который был под рукой, в грузовики дивизии. Теперь его раздавали. Это был прозрачный, крепкий, жгучий напиток. Цадо пил его только тогда, если у него ничего другого не было. Когда он приблизился к солдату, который позвал его, то узнал в нем Паничека. Один из силезского Рыбника, не умевший ни слова ни написать, ни прочитать по-немецки. Один из тех, кто спускался в угольную шахту, не заботясь о том, считали ли люди его поляком или немцем. До тех пор, пока не пришли немцы, и Паничек заметил, что «Жечи посполитой» больше не существовало. Тут он обнаружил, что начиная с бабушки все его предки были немцами, и ему не нужно отправляться в контору «Фолькслиста» ради включения в список этнических немцев. Паничек был имперским немцем, который умел читать и писать, зато мог в самых разных вариациях ругаться на обоих языках и иногда для развлечения своих друзей сгибал мог проклинать для этого, однако, на обоих языках очень разнообразно и иногда к удовольствию его друзей сгибал монеты между большим и указательным пальцами. Он был парнем богатырского телосложения с широкими плечами и руками как лопаты для песка. У него была сила быка, но он был настолько добродушен, что другим уже не доставляло удовольствия дразнить его.
– Проходи… , – просил он Цадо, когда тот дотопал до него.
– И что же вы все тут делаете? – поинтересовался Цадо непонимающе. – Вы с ума сошли или только пьяные?
– Всё! – ухмылялся Паничек. – И сумасшедшие, и пьяные тоже. Тут у тебя есть шнапс. Шнапс и музыка.
Он подал Цадо бутылку, и тот взял ее. Он видел, что она наполовину полная. Поллитра шнапса означали, что самое позднее через три дня будет следующая операция.
Орган еще раз загрохотал, и тогда отзвучал последний звук. Исполнитель начал следующее произведение. Он позволил инструменту звучать с полным тоном, так что он заполняло большое пространство церкви своим звуком. Он играл «Я знаю, однажды произойдет чудо». Несколько солдат, сидевших на ступенях алтаря, подпевали. Это были грубые, гортанные голоса, немного хриплые.
– Вы сумасшедшие, – сказал Цадо, – все же, вы не можете музицировать в церкви. И пить…
– Садись и заткнись, – сказал Паничек, – садись, католик, и пей. Но молча.
«Светильник Гинденбурга» освещал лица мужчин, сидевших на ступенях. Это были те же самые лица, что и всегда. В них не было ничего особенного. Как будто бы они сидели не в церкви, а вокруг костра между двумя озерами на Мазурских болотах.
– Я не католик, – сказал Цадо, приседая на корточки рядом с Паничеком, – но, конечно, тут есть такие. Неужели не нашлось никого, кто мог бы вас отговорить от этой идеи пьянствовать в церкви?
Богатырь хлопнул его по плечу. – Пей, Цадо. Музыка и водка – это полжизни. Другая половина – это дерьмо. Больше нет католиков. И нет священника, который оберегал бы эту церковь. Скоро больше не будет и самой церкви. Крыша уже испорчена. Тогда орган больше не будет играть, и другая половина жизни тоже станет дерьмом. И мы, вероятно, мертвыми…
Музыка шумела под сводами. Мозек был хорошим музыкантом. Его часто отвозили в штаб, когда они отмечали там праздники. Мозек был популярным. Он играл свинг, и звуки вырывались из инструмента, перекатывались и звучали полновесно и прекрасно в отличной акустике церковного здания.
Они играют свинг в церкви, думал Цадо. Он вытащил пробку из бутылки и сделал большой глоток. Собственно, в этом не было ничего такого. Паничек был прав. Кто знает, как долго бы эта церковь еще простояла. Именно этим огромным «Кто знает» можно было обосновать все, что происходило. Протяжные звуки органа заставляли его барабанные перепонки вибрировать. Было так, как будто он сам сидел на эмпоре, слишком близко к органу. Он смотрел на потолок и видел звезды в разорванной крыше. В церкви все еще пахло ладаном. Ею не пользовались, пожалуй, много недель, и дыре в крыше тоже было уже много недель. Но запах ладана сохранился. Он исходил от каждого куска стены и от каждой из деревянных скамей, от ковриков и от покровов с золотой нитью, лежавших на алтаре. Фигура Христа еще стояла там, и мерцающий свет играл на ней. Цвета не светились, для этого свет был слишком слаб. Кровь на гвоздях, которые были вбиты в ноги, казалась такой же черной как складки набедренной повязки и терновый венец на голова распятого. Вокруг света тлели сигареты. Цадо покачал головой и откинулся назад. Мозек играл «Пой, соловей, пой», и солдаты благоговейно подтягивали. Звезды в дыре в крыше беспокойно мерцали.
Цадо погрузился в эту таинственную атмосферу, пока Паничек внезапно не толкнул его и спросил: – Почему ты не пьешь? Ну, давай, пей! Не каждый день у нас есть шнапс и музыка!
– … когда самый любимый мною овладел…, – произнес один из мужчин. Цадо по голосу узнал Клауса Тимма, Тимм, он думал. Этого он не упустит. Это для Тимма что-то значит. Джин и ладан, и Иисус на кресте, в мерцании «светильника Гинденбурга», и при этом «… когда самый любимый мною овладел».
Мы все сентиментальны, думал он. Мы как старые девы, когда это охватывает нас. Мы больше не мужчины. Сентиментальные мочалки, совершенные в убийстве и в профессиональном закладывании мин. И каждый пустяк заставляет нас выть. Мы все вместе отдали бы свое содержимое для музея, в котором немцы двадцатого столетия будут выставлены напоказ для будущих поколений. Русские атаковали бы еще сегодня без артиллерии и танков, если бы они знали, кто прячется под нашими мундирами.
Орган внезапно замолк, и голос Мозека закричал с эмпоры на тягучем, приветливом диалекте рейнских земель: – Принесите мне немного шнапса, ребята!
Они принесли ему шнапс, а также и другому, который давил на мехи. Они зажгли ему сигарету и воткнули ее ему между губ. Они были прекрасными товарищами, так как это был шнапс из их шнапса, и это была сигарета из их сигарет. Они сидели там и подпевали, и если он играл что-то веселое, их лица светлели, и они улыбались друг другу и хлопали себя по бедрам. Мозек играл «Анну Марианну», и внезапно Клаус Тимм громко закричал: – Сыграй что-то лихое, не это старье! Но один из других солдат тут же потребовал: – Играй дальше! Это моя любимая песня! Цадо снова пил. Он замечал, как джин медленно вставлял ему в голову. Вот проклятое пойло, подумал он. Завтра у меня будет голова раскалываться. Лучше бы я попросил у пьяницы бутылку «болса».
Он заметил, что шнапс поднял его настроение, и сказал Паничеку, ухмыляясь: – Если он заиграет теперь «Германия, Германия превыше всего», что они сделают тогда? Встанут и поднимут руку или станут на колени и прижмут руку к груди?
Богатырь добродушно рассмеялся и чокнулся своей бутылкой с бутылкой Цадо. При этом он пробурчал: – Вот таким ты мне нравишься, Цадо!
Цадо точно больше не знал, сколько песен сыграл Мозек, когда дверь ризницы открылась, и один из солдат вышел с требником в руке. В другой руке он держал второй «светильник Гинденбурга».
– Никакого вина больше нет, – сообщил он другим, – господин священник забрал его с собой. Он оставил нам только Библию. Он присел на корточки к другим и листал книгу. И орган продолжал звучать, и звезды мерцали там, где крыша была пробита.
– Эта Библия, – сказал солдат, подняв указательный палец, – в ней что-то есть! Он раздавил свою сигарету на дорожке и начал читать.
– Теперь он еще прочтет нам мессу…, – проворчал Цадо. Он выпил много джина и привык к церкви и к органу, к аромату ладана и фигуре Христа.
– Это – книга рода человеческого, – читал солдат с поднятым пальцем, – ибо когда Бог создал человека, он сделал его по образу и подобию Бога. И он создал их, мужчину и женщину, и благословил их, и назвал его именем человека, в то время, когда они были созданы. И Адаму было сто тридцать лет, и он родил сына, подобного себе, и назвал его Сифом. И прожил после этого еще восемьсот лет и породил сыновей и дочерей. И было ему девятьсот тридцать лет, когда он умер. Сифу было сто пять лет, и он породил Еноха…
Один из мужчин рассмеялся громко, и читающий прервался.
– Сто пять лет и породил Еноха, – рокотал Тимм, – представьте себе, что он делал, когда ему было тридцать лет. Или двадцать пять! Вот это были времена!
– Там у них всех было по семь жен…, – произнес другой, – я где-то об этом читал. У всех евреев было по семь жен. И тогда кроме евреев не было других людей на свете. Это вы могли бы себе представить?
– Эта библия хороша, – сказал читавший, – я заберу ее с собой. Она почти так же интересна, как роман за тридцать пфеннигов Он снова углубился в книгу, а другие начали приглушенно беседовать о борделе в Амстердаме, о котором они все еще помнили, потому что там была комната с киноустановкой. С восемью кроватями и киноустановкой и экраном в торце помещения.
– Послушай-ка, – обратился Паничек к Цадо, – хочешь заработать себе бутылку шнапса?
Цадо посмотрел свысока и ответил: – У меня есть еще в моем багаже шнапс лучше, чем у тебя.
– Но все же, – настаивал другой, – шнапс никогда не бывает лишним. Так ты хочешь?
– И что?
– Ты должен написать для меня кое-что и получишь бутылку шнапса. Хорошего немецкого шнапса.
Паничек иногда обращался к кому-то из других солдат, если ему нужно было что-то написать. Просьбу об отпуске, донесение, или тогда, когда Цадо помог ему, указание домой, что какой-то Янек Стрелецкий должен освободить комнату Паничека от мебели, продать все и послать ему деньги. Паничек не умел писать, он этому никогда не учился.
– И что я должен тебе написать? – спросил Цадо. – Прошение об отпуске?
– Нет. Не прошение об отпуске. Кое-что другое.
– И что именно?
– Пошли со мной. Или ты хочешь еще послушать музыку.
– Я уже с четверть часа не слышу больше никакой музыки, – сказал Цадо и поднялся, – мои уши до краев полны шнапсом.
Они прошли вдоль центрального прохода, на этот раз не ударяясь, так как их глаза уже привыкли к темноте.
Но они все равно шли медленно, и Мозек начал играть «Лилли Марлен», и они слышали рокочущий голос Клауса Тимма: – … я буду стоять под фонарем. Потом дверь за ними захлопнулась, и их окружила холодная ночь. Они спускались по ступенькам вниз, и музыка тонко звучала за ними.
С фронта катился гром далеких пушек. Деревня лежала в темноте. Шаги хрустели по замерзшей земле. Паничек поднял воротник камуфляжной куртки и сказал. – Тебе не нужно писать много. Совсем чуть-чуть. Одно маленькое письмо. Незнакомой девушке…
– Эх, – произнес Цадо, – ты и незнакомая девушка. Где ты ее подцепил?
Паничек по-дружески положил ему руку на плечо. Он дохнул ему в лицо паром от шнапса и чистосердечно сказал: – Красивая девушка. Слишком красивая для незнакомой. Они принесли мне сегодня посылку от нее. Красивая девушка…
– У тебя есть ее фотография?
– Целых пять штук. Большие фотографии.
– Я с ума сойду, – заметил Цадо. – В самом конце эта война превратится еще и в сватовство.
Паничек показал ему маленькую посылку, когда они пришли в дом, где квартировали. Цадо подтолкнул ящик шнапса пьяного обер-ефрейтора поближе к печи, поставил керосиновую лампу и принес лист чистой бумагу из своего рюкзака. Он уселся на полу и начал писать. У него был хороший почерк, и он умел писать письма. Паничек показал ему все, что было в посылке, и дал прочитать, что написала ему девушка. Он принес бутылку шнапса, потом еще одну, полупустую, и уселся рядом с Цадо. Он положил ему пачку сигарет и снял шапку, как будто это был праздник.
В посылке были две пары носков и три носовых платка, сигареты, которые лежали перед Цадо, плитка удивительно хорошего шоколада и зеленовато-желтая узорчатая шелковая шаль. Девушка написала длинное письмо, и она рассказывала неизвестному получателю, что у нее одежда из того самого материала, из которого была сделана шаль. Ее отец послал этот материал из Франции. Он – ведущий служащий фирмы «ИГ-Фарбен» во Франкфурте, и он часто путешествует за границу.
– Где это, Франкфурт? – спросил Паничек.
– На Майне, – пояснил Цадо и продолжал читать.
– Ага, на Майне. Паничек кивнул.
Девушка писала, что ей семнадцать лет и что она готовится к аттестату зрелости. Она настолько сильно переживала все действия солдат, что она рассматривала как свое личное желание доставлять время от времени как минимум одному из них радость. Она пригласила бы его также на время отпуска, так как у них гостеприимный дом, и ее школьные подруги удивились бы, если бы однажды к ней прибыл в гости солдат, и она пошла бы с ним гулять. Есть ли у получателя орден? Кто он вообще? Он должен непременно ей написать, и он должен пожелать себе что-то к Рождеству, тогда она приобретет это для него. И блондин ли он?
– Иисус, Мария, – ухмыльнулся Цадо, – Тебе повезло, что ты, по крайней мере, блондин!
– У меня и орден тоже есть, – заметил Паничек, помедлив. – Девушка играет на пианино…
– Ты едва ли сможешь сопровождать ее, – сказал Цадо едко. – Но, вероятно, им на своей вилле после войны как-то понадобится щвейцар.
Он рассматривал фотографии. Это были снимки очень юной, но уже удивительно развитой девочку, которая носила хорошую одежду последнего фасона и современную обувь на пробковых подошвах. У нее было ничего не выражающее лицо, но Паничек находил его прекрасным. Особенно на одной фотографии, на которой девушка сидела за пианино, в платье, которое очень сильно обнажало ее плечи.
– Ей не стоит бояться, что ее платье сползет с нее, – проворчал Цадо, – ну, ладно, мы напишем ей письмо, которому она обрадуется!
Юная и балованная, думал Цадо. Маленькая доченька в период полового созревания. В ухоженном половом созревании на вилле аристократического квартала. Можно было бы стать героем, если подумать, что играют в солдат ради чего-то в этом роде!
Он пристально уставился на лист почтовой бумаги, на котором он написал: «Моя дорогая незнакомая девушка», и увидел перед собой дом, когда утрам служанка стучит в комнату юной барышни. И тогда он увидел, как девушка поднимается в кровати и смотрит в окно, чтобы узнать какая там погода. Как она надувает губки и потягивается из кровати. Как идет под душ в чисто облицованной кафельной плиткой ванной, натянув плотную шапочку для душа на тщательно завитые волосы. Он видел, как она выбирает себе одежду. Обдуманно и с большим привитым вкусом. И пару подходящих туфель к ней. Чулки. Он видел, как она делает маникюр и пьет, наконец, свое какао, ест несколько булочек с медом, и сидит потом в школе, уже немного без интереса, наполовину взрослая. Он видел, как она гуляет по улицам, проворным, грациозным шагом, и он видел, как она крутит ручки настройки радио, и видел молодого денди, танцующего с нею на уроках танцев. И ее часы дома, когда она мучилась от скуки. Обглоданную ручку, когда она писала неизвестному солдату, и стихотворения Рильке на ночном столике, возле погрызенной плитки шоколада и флакона духов „Cat noir", который прислал ей отец из Парижа. И потом он посмотрел в сторону и увидел, как Паничек благоговейно сидит рядом с ним.
И он сказал: – Иисус, Мария, Панье, мне нужно было бы это упустить из виду: у нее на шее крест на цепочке!
– Католичка, – проворчал Паничек.
Пьяный обер-ефрейтор в углу поднял голову и рыгнул. – С церковью уже закончилось? – спросил он.
Цадо ответил: – Она обрушилась. Иисус двинул пальцем. Затем он начал писать. Он писал одну строку за другой. Паничек наблюдал за ним с живыми глазами и предлагал ему сигарету за сигаретой.
– Что же ты ей все тут пишешь? – поинтересовался он неуверенно. – Ты должен мне это прочитать…
Пьяный хихикнул: – Парень как одетый в бархат и шелка…
Цадо потянулся к бутылке. Он писал девушке, которую звали Барбара, все, что он всегда хотел написать какой-либо женщине и, все же, никому не написал. Об его тоске и его надежде, о потребности в любви. Он писал все, что нужно было писать такой девушке. Старая, гладкая история о непоколебимой стойкости немецкого солдата, об его уверенности в победе и об его мужестве, которое не мог омрачить никакой страх. Он писал о снах короткими ночами и о часах, в которые артиллерия перекапывала стрелковые ячейки, когда умирали люди, ярко горели машины, и снаряды прошивали тьму. Он изображал ей залпы «сталинских органов» и вой ракет «до-верферов» и дробь авиационных пулеметов, лязг танковых гусениц и короткие, сухие разрывы ручных гранат. Слова выливались из-под его пера и формировались в картину, темнота которой была так же обманчива, как и ее яркая четкость. Это было письмо, в котором ни одно слово не говорило о любви, и, все же, это было любовное письмо с той силой воздействия, которая очаровывала сердце девушек этого времени.
Паничек спокойно сидел и пил только время от времени. Он снова и снова пододвигал Цадо сигареты.
Обер-ефрейтор бурчал в своем углу: – Им нравится в церкви… хи… молиться!
Снаружи совершенно неожиданно началась буря. Еще когда Цадо писал, он инстинктивно подумал, что эта буря предвещает снег. Он слышал стенание перед занавешенными окнами и треск ворот во дворе. Завтра, на поверке, они выдадут нам белые маскхалаты, думал он. Потом они принесут нам краску и дадут нам несколько часов, чтобы мы выкрасили в белый цвет каски, ремни и все остальное. Он писал о Рождестве и о том, что он, наверное, не получит отпуска. И то, что у него нет каких-то особенных желаний, только то, чтобы она думала о нем, когда загорится рождественская елка.
– Еще три таких письма, и она захочет заочно выйти за тебя замуж, – сказал он Паничеку, когда дописал до конца, – она будет читать так долго, до тех пор, пока она не видит тебя перед собой, таким, каким она очень хотела бы тебя видеть, и тогда она будет убеждена, что ты именно такой, и она пойдет в загс, а ты наденешь свою каску и пойдешь к Альфу. Рукопожатие, подпись, две сигары, бутылка шнапса, и ты супруг, будь осторожен, произойдет именно так!
Паничек производил погруженное в мысли, унылое впечатление. Он опустил голову и не поднимал ее. Только когда Цадо зачитал ему длинное письмо, он посмотрел на него и тихо сказал: – Ты сделал это очень красиво. Я благодарю тебя. Через некоторое время Паничек печально покачал головой и произнес: – Я не знаю, получится ли вообще с этой девочкой. Это плохое дело. Если ты погибнешь, то я погибну для этой девочки, так как никто не сможет снова написать такое письмо. А если погибну я, то ты можешь дальше писать ей как сейчас, и ты сможешь жениться на ней.
Цадо сделал большой глоток из бутылки. Он затоптал свой окурок, а потом повернул к Паничеку свое лицо хищной птицы с острыми чертами и горбатым носом. – Слушай, – холодно произнес он, – ты жалкий идиот. Ты лежишь здесь в этом дерьме, а послезавтра ты снова будешь прыгать, и кто знает, не поймают ли они тебя и не останешься ли ты где-нибудь лежать и подыхать. Или с тобой случится что-то другое. А эта девочка сидит дома, между клубными креслами и винными бокалами и тканями из Парижа. А ты – бедная свинья, которая воюет и не имеет никакой другой возможности, кроме возможности сдохнуть. А эта девочка живет в совсем другом мире. Ты думаешь, она может себе представить, что движет тут нами? Ты думаешь, она когда-то поймет тебя, даже если она действительно закроет глаза на то, что ты не умеешь ни писать, ни читать, и что ты бедняк? Ты думаешь, что эта девочка когда-нибудь в жизни поймет человека, который видел так много дерьма и гноя, так много крови и вшей, и кричащих людей, и страха и трусости, как мы? Ты будешь вместе с нею, и вы никак не поймете друг друга. Ты не сможешь ориентироваться в этом мире клубных кресел и тканей. Никто из нас уже не научится этому, разве что, если он обманет самого себя, и больше не будет думать о том, что однажды было. Ты всегда будешь тем, кто думает о крови, когда пьет шампанское. Ты будешь думать о последней шлюхе, когда будешь спать с этой девушкой, и если она умна, то она это заметит. Весь ее смешной мир с пианино, школьными учебниками и коробками конфет покажется тебе сумасшедшим домом, если ты будешь вспоминать. И ты будешь бегать вокруг, как человек, который лишился рассудка. Тебя сильно стошнит, когда ты когда-то снова поклонишься какой-то даме и поцелуешь ей руку, потому что ты при этом увидишь простреленное брюхо старухи, которую мы нашли после налета авиацаии на Гумбиннен, и вместо духов твой нос почувствует смрад кишок, свисавших из живота сапера, наступившего на мину. И за улыбающимися салонными лицами ты увидишь гримасы страха и гримасы жадности как тогда, когда обе немецких бабы в Апельдорне бежали за нашей машиной, и мы перетащили их через борт, и они боялись, что в следующий момент истребитель-бомбардировщик, который кружился над нами, сбросит свою бомбу точно на нашу машину. Ты еще помнишь, кто тогда первым задрал им юбку? Ты будешь потом всегда видеть это, и не будет никакой возможности это забыть, или ты должен пить, и ты еще сам будешь кричать в бреду: 'Низколетящий самолет слева!' Это мы, дружище, и другие, как твоя Барбара. Обманывай тебя, если тебе от этого станет достаточно хорошо. И пей, если тошнота поднимется тебе к горлу. Но теми, чем мы есть, они сделали нас, и руки, в которых у тебя был нож, будут светиться в каждой темноте, в которой ты гладишь девочку. Благодари Бога, которого нет, если ты переживешь войну. Или лучше не благодари его, так как ты больше не будешь человеком среди тех, которые жили на виллах на городской окраине, между пианино, на которых они играли «Лилли Марлен», и между платьями из Парижа. Ты либо станешь коммунистом как те, которые вернулись домой с войны в 1918 году и основывали солдатские советы, либо ты будешь гнить в своих собственных мыслях. Вот такой выбор. И теперь подумай сам, имеет ли смысл любовь к девушке Барбаре или нет.
Буря трясла входную дверь. Она с воем проносилась под стропилами и визжала в дымовых трубах.
– Ох…, – простонал пьяный. – Ох… Цадо… выпей.
– Ты странный человек, – сказал Паничек Цадо.
– Я сумасшедший, – ответил тот. Он осмотрел еще раз фотографии девушки. – Но я не родился сумасшедшим. И не был призван таким.
Он замолчал. Там был портрет девушки. И тонкая цепочка с крестом была вокруг ее шеи. Цадо еще раз взял лист почтовой бумаги и подумал. Потом он сказал Паничеку: – Я кое-что забыл.
Он написал под письмом постскриптум. Он зачитал его Паничеку: – Мы все как раз были в церкви. Здесь в нашей деревне есть одна. Она наполовину разрушена, но в ней прочитали мессу. Это было странное чувство благоговейно пребывать в Доме Божьем, крыша которого пробита снарядом, и алтарь которого был поражен осколками. Видишь бесконечно далекие звезды через пробитую крышу и знаешь о бесконечности этого мира. Слышишь слово священника, и смотришь на крест, и ты очарован силой священного места. И фронт грохочет, и над разодранной крышей вздрагивают сигнальные ракеты. Но слово Господа заглушает все и придает силу и веру. Чувствуешь, как освящение этого мгновения поднимает тебя и забирает с собой. Я никогда еще не чувствовал ни одну мессу так же глубоко, как эту.
– Так, – сказал он, – вот у тебя и есть твое письмо. Будь счастлив со своей Барбарой. Ты можешь забрать назад бутылку шнапса. Мне она не нужна.
– Хи…, – ухмылялся пьяный обер-ефрейтор, – хи… ему не нужен шнапс… был в церкви…
Снаружи усиливался вой бури. Теперь она уже принесла с собой снег, который шлепал по окнам, большими, мокрыми снежинками.
– Прочитали мессу…, – сказал Паничек с большими глазами.
Дверь распахнулась, и один из тех в церкви ввалился внутрь.
– Черт, снег пошел…, – шумел он.
Пьяный в своем углу хихикал, рука на бутылке. – Идет снег… идет снег, дерьмо… хи-хи…
Танец звезд
Пистолет, которым владел Томас Биндиг, был П-38. Он получил его новым и сам пристрелял. Ни один человек до него еще не стрелял из этого пистолета. Это был одни из новых пистолетов, которых долго не было, и он был сконструирован лучше, чем П-08 с его устаревшим рычажно-шарнирным сцеплением затвора, которое только усиливало отдачу, вместо того, чтобы ее смягчать. «Тридцать восьмой» был искуснее и точнее в стрельбе.
Он была легче, чем П-08. Он лучше лежал в руке. И можно было сравнительно безопасно носить его заряженным в кармане брюк, потому что требовалось сильное давление на курок, чтобы его взвести, одновременно подать первый патрон из магазина в ствол и только потом одним этим нажатием на спусковой крючок произвести выстрел. Это означало, что его можно было абсолютно безопасно носить в кармане, не взведенным и, несмотря на это, ежесекундно готовым к стрельбе. Это был быстрый пистолет.
Само собой разумеется, его можно было также и взвести. Так, что можно было после этого в любое время выстрелить, после снятия с предохранителя в кармане. Или можно было только дать патрону скользнуть в ствол, не взводя ударник. Тогда для выстрела нужно было оттянуть назад маленькое шептало большим пальцем. После небольшой тренировки это можно было сделать очень быстро. Некоторые люди очень любили стрелять именно таким способом, когда все зависело только от одного выстрела, когда они стояли перед целью, в которую можно было выстрелить всего один раз, всего один выстрел, решающий все. «Тридцать восьмой» был оружием, которое не любили выпускать из рук, если уже хоть раз получали его в свои руки.
Когда у Биндига было время, он брал пистолет и шел куда-то, чтобы пострелять. Он не принадлежал к тем, которые вырезают насечки на ручке. Но он убил из своего «тридцать восьмого» уже шесть человек, одного обезумевшего быка и четырех кур. Стрелял, с намерением убить, он в то же самое количество живых существ. Этому обстоятельству, особенно тому факту, что он целился с целью убить не больше чем в шесть человек, он был обязан тем, что все еще был жив. Он всегда отдавал себе отчет, что целиться в человека, выстрелить и не попасть в него, означало смерть для себя. Такова была простая философия солдат разведывательной роты. Стрелять, когда необходимо. И убивать, когда стреляешь. Или самому оказаться убитым.
Странным в этой философии было то, что ее никто не придумал, и никто ей не обучал на учебных занятиях, а она просто появилась сама по себе. Кто не понимал ее смысл или делал ошибку, имя того в последний раз появлялось в письме, который лейтенанта Альф писал его родным. Хотя Биндиг виртуозно владел своим пистолетом, он никогда не упускал при случае возможности поупражняться. Он делал это часто также просто от радости за попадания, которые он мог установить, и потому, что установление попаданий придавало ему надежность и уверенность в себе.
Тем полуднем, после того, как он проглотил свою еду, смесь кислой капусты, картофеля, сгустков гуляша и соленой подливки, он с пистолетом и несколькими картонными коробками, полными патронов, отправился к одному месту, которое лежало за покинутым домом. Он сегодня был свободен от службы. Цадо был у своей девочки. Биндиг не знал точно, с чего ему начать, и таким образом он решил захватить под руку портрет бывшего президента Германии Гинденбурга, который он нашел в пустом доме на стене кухни, и поставить его на замерзшей навозной куче за домом, так, чтобы он с определенного расстояния был по размеру примерно похож на человеческую голову. День был солнечным, но холодным. Из некоторых из домов поднимались маленькие столбы дыма. Они стояли прямо в воздухе. Отзвук выстрелов можно было слышать далеко. Биндиг стоял перед навозной кучей и отстреливал один магазин за другим. Попадания удовлетворяли его. В голове бывшего имперского президента появилось изрядное количество дыр. Когда на голове больше нельзя было проверить, какой именно выстрел пробил какую дыру, Биндиг целился в белые углы картины, слева и справа над головой.
Он как раз снаряжал патронами пустой магазин, когда почувствовал, что кто-то подходит к нему сзади. С пистолетом в одной руке и с наполовину пустым магазином в другой он обернулся и увидел Альфа.
Лейтенант подошел и остановился рядом с ним, подбоченясь.
– И что же вы тут все же здесь делаете? – поинтересовался он, бегло взглянув на картину на навозной куче.
– Я упражняюсь с пистолетом, – дружелюбно ответил Биндиг. Он был не особо высокого мнения о лейтенанте, но, во всяком случае, куда лучшего, чем о полевой жандармерии.
Лейтенант сначала посмотрел на Биндига, потом на картину, затем на пистолет Биндига, и сказал, покачивая головой: – Иногда можно было бы подумать, что вы все вместе чокнулись. Вы пили?
– Нет, господин лейтенант, – ответил неуверенно Биндиг, – мы так мало стреляем боевыми патронами, но нам ведь нужно хорошо владеть своим оружием, и…
– Рядовой! – прервал его Альф. – Что касается меня, то вы можете стрелять день и ночь. Но не в эту же картину!
Биндиг посмотрел на навозную кучу и опять на Альфа. Тот глядел на него и снова покачал головой. Биндиг не знал, что сказать. Он вновь нерешительно открыл рот и закрыл его.
– Неужели вы не знаете, кто этот человек? – спросил Альф. – Или вы целых восемь лет прогуливали школу?
– Гинденбург, господин лейтенант, – сказал Биндиг, – это Гинденбург. Естественно, я знаю его.
– Нет, вы не знаете его, – сказал Альф, – иначе бы вы не стреляли в него. Знаете ли вы, что Гинденбург спас Восточную Пруссию от вторжения русских? Что он так разбил русских под Танненбергом, что они до сих пор еще не полностью оправились от этого?
– Конечно, господин лейтенант, – послушно сказал Биндиг. – Фюрер принял из рук Гинденбурга завет сделать Германию гордой, могущественной нацией.
Альф скривил лицо, но не рассмеялся. Он посмотрел на Биндига и произнес: – Вы идиот, рядовой! Вы что, хотите провести остаток войны в штрафной роте, или чего вы, собственно, хотите? Или вы не понимаете, что грубо оскорбляете одного из самых выдающихся героев немецкой истории, поставив этот портрет на навозную кучу и стреляя в него?
Биндиг не отвечал.
– Неужели во всей этой проклятой деревне не нашлось никакой другой картины, в которую вы могли бы пострелять?
– Так точно, господин лейтенант, – сказал Биндиг.
Офицер подошел совсем близко к нему. При этом он тихо произнес: – Биндиг, не валяйте дурака. Если вы действительно хотите надежно умереть, то при следующем десантировании забудьте прикрепить ваш фал вытяжного кольца. Это безболезненная смерть. Но не пытайтесь сделать это таким вот путем.
– Я ничего такого не думал, господин лейтенант, – сказал тихо Биндиг, – я мог бы с таким же успехом взять двенадцатисекторную мишень, но ее не было.
– Кто вы по профессии? – поинтересовался лейтенант.
– Библиотекарь.
– Вы библиотекарь?
– Так точно, господин лейтенант.
– Где вы работали?
– В городской библиотеке.
– А потом военный доброволец?
– Конечно.
Альф щелкнул пальцами. – Вы иначе представляли себе войну, не так ли?
– Я не знаю…, – сказал Биндиг нерешительно, не зная, к чему клонил Альф. Но тот не дал ему договорить.
– Какое у вас школьное образование?
– Гимназия до четвертого и пятого класса.
– Гм…, – произнес Альф, – а потом вы продавали книги?
– Давал на время, – господин лейтенант.
– Да, правильно, давали на время. Вы могли бы стать офицером. Вы все еще можете им стать. Почему вы упускаете такую возможность?
Он задал этот вопрос не слишком серьезно, и казалось, как будто он и не ожидал объяснения, потому что он при этом даже не смотрел на Биндига.
Биндиг ответил: – Думаю, я не гожусь для офицера, господин лейтенант. И потом… в моей профессии тоже есть возможности, чтобы преуспевать…
– Вы это лучше знать. – Альф кивнул без интереса. – Вы в пистолетах, по-видимому, разбираетесь больше, чем в персонажах немецкой истории.
– «Тридцать восьмой» – это великолепный пистолет… Я испытывал уже разные пистолеты. Старый П-08, «Вальтер», бельгийский FN, канадский и русский. Но «тридцать восьмой» понравился мне лучше всего.
– Это дело вкуса, – сказал Альф. Он указал на навозную кучу и попросил Биндига: – Уберите этот портрет. Благодарите Бога, что командир роты здесь я, а не кто-то другой. И теперь у меня есть к вам вопрос.
– Слушаюсь, – сказал Биндиг.
– Вы знаете Науманна?
– Обер-ефрейтора Науманна, конечно.
– Вы были вместе с ним на последней операции. Что там точно случилось с ним? Расскажите мне еще раз.
Науманн был старшим официантом из Штутгарта. Мужчиной, который взорвал мост и который смог улизнуть, когда другие напоролись на позиции самоходных орудий. Тем самым солдатом, у которого случилась истерика во время обратного полета, и которому Тимм выбил пистолет из руки.
Когда Биндиг все еще раз рассказал офицеру, тот покачал головой.
– Науманн снова вернулся. Он пришел ко мне. Его отпустили как здорового. Нервный срыв, это все, что установили врачи. Но он мне не нравится. Раньше он был другим. Согласились бы вы снова пойти с ним на операцию?
– Почему бы и нет? – немедленно ответил Биндиг. – Он всегда был в порядке. У любого могут как-то сдать нервы.
– Но речь не об этом, – сказал Альф, – такой солдат может представлять угрозу для всей акции!
– Я не знал, что он вернулся, – сказал Биндиг.
– Он прибыл час назад. Поговорите с ним. И после этого расскажите мне ваше мнение, можно ли использовать его завтра вечером с вами.
Таков был способ Альфа командовать ротой. Он оставлял солдат в сомнении о том, консультировался ли он с ними из-за неуверенности или это было его методом. Он больше не говорил о портрете Гинденбурга. Он вообще ничего больше не говорил об этом. Не говорил он и о деле с теми двумя полевыми жандармами. Мало кто мог его в этом понять. Но последствием этого было, что солдаты считали его справедливым и добродушным командиром. И именно так он поддерживал дисциплину в подразделении, в котором ее очень трудно было поддерживать. Рота просто выскользнула бы у него из пальцев, если бы не его способ управлять ею, при котором у солдат было обманчивое чувство, что они обладают наибольшей свободой.
Биндиг тщательно чистил свой пистолет. Он снова зарядил оба магазина, причем он старательно протер тряпкой каждый патрон, который вставлял. Когда он был готов, то отправился искать старшего официанта. Он нашел его в доме, где квартировало его отделение. Он сидел там в кухне на лежанке и жевал хлеб. Возле него стояла кастрюлька с мутной жидкостью, отдаленно напоминавшей кофе. Старший официант попеременно жевал хлеб и глотал кофе.
– Эй, – крикнул Биндиг, – ты уже снова здесь! Я так и говорил, что ты у санитаров долго не задержишься! И как все прошло?
Науманн подал ему руку. Он сделал несчастное лицо, но в глазах тлел скрытый огонь. Биндиг не мог вспомнить, чтобы он когда-нибудь обращал внимание на старшего официанта, кроме как, вероятно, тогда в самолете, когда старший официант хотел выстрелить в Тимма. Но там было очень темно.
– Они сшили меня и дали мне уколы, – пробормотал он. Он сказал это так, будто обращался не к кому-то, кто стоял перед ним как Биндиг, а к кому-то, кого он только представлял себе. Как некоторые люди ведут монологи с человеком, которого не существует в действительности, и потому обращаются к ним негромко.
– Уколы, – произнес Биндиг, – они помогли? – Кожа срослась, – сказал старший официант, – это прошло очень быстро. Он подвигал рукой и добавил: – У меня болит голова. С каждым днем боли все сильнее. Они ничего не могут с этим сделать. Или не хотят. Никто не верит мне, что у меня головные боли. Такие, как будто они стреляли мне в голову. Так, что снаружи не видно дырки. Свиньи.
– Тебе нужно было что-то попросить у санитара, – посоветовал ему Биндиг. Но другой только сделал усталое движение рукой.
– Мне больше ничего не нужно, – тихо произнес он. Затем он перешел на почти беззвучный шепот. – Мне нужен только билет домой. Мне все это надоело. Просто осточертело! Он провел себя ладонью по подбородку, и его глаза при этом загорелись.
Биндиг не знал его таким. Он спрашивал себя, не узнали ли врачи в военном госпитале, что на самом деле происходило со старшим официантом. Он попытался выудить из него, довели ли головные боли его до такого состояния, или он просто больше не мог вынести нагрузку боевых операций. Он осторожно сказал: – Скоро снова настанет наша очередь. Наверное, уже завтра или послезавтра. Тогда мы останемся вместе.
Но маленький старший официант только взглянул на него невыразительным взглядом и сдавленным голосом ответил: – Я не пойду с вами. Я болен. Больных людей нельзя посылать на боевые операции.
– Это верно, – сказал Биндиг, – но они выписали тебя. Это значит, что ты здоров. Как ты хочешь разъяснить Альфу, что ты болен?
Старший официант с усталым жестом допил остаток слабого кофе. Он небрежно бросил кастрюльку за собой на грязную плиту. Так, как будто он намеревался никогда больше ничего не пить. Потом он встал и положил Биндигу руку на плечо. Он был полностью одет, в камуфляжной куртке и с портупеей с пистолетом поверх нее. Только шапка лежала на лежанке.
– Биндиг…, сказал он устало, но с опасным блеском в глазах, – когда я в военном госпитале пришел в себя, мою рану уже зашили. Я даже больше ее не чувствовал. Только голову. Как будто кто-то копался в ней с садовой лопатой. Я кричал. Тогда они давали мне уколы. Потом они говорили, что я должен прекратить симулировать. А мою голову разрывало так, что я не мог открыть глаза. Бывало у тебя что-то такое? Нет, иначе ты бы знал. Это хуже любого ранения. Они больше не давали мне уколов. Им было нужно освободить место. Они ежедневно получали несколько дюжин раненых с передовой. Все с осколками от минометных мин. И я корчился в своей кровати, но они не верили, что у меня боли. Кроме одной сестры. Она давала мне первитин. Сначала тот, что еще остался у меня в комбинезоне, после операции. Потом из запасов лазарета. А затем они меня выписали. И вот теперь я здесь. И в моем багаже еще было шесть таблеток первитина. Из них три я принял сегодня утром, и как раз теперь еще три последние. Сегодня вечером я больше не буду знать, что я делаю. Тогда я либо застрелюсь, либо буду слишком труслив для этого и тогда сойду с ума от боли. Я не выдерживаю болей. Я это знаю. Этот моста там за мной был моим последним. Я больше не взорву ни одного.
Биндиг растерянно стоял перед ним. Он чувствовал его руку на своем плече и заметил, что мужчина торопливо дышал. Это могло быть действием первитина. У маленького официанта были маленькие капельки пота на лбу. – Иди к санитару, – сказал Биндиг, – попроси у него еще первитина. Вероятно, тогда тебе станет лучше.
– Я был у санитара, – ответил старший официант. – Первитин дают только тогда, когда мы идем на операцию.
– Возьми что-то другое.
– Не имеет смысла. До вечера этого хватит.
– Возможно, что у Цадо еще что-то осталось. Загляни к нему, когда он придет. Я тоже для тебя что-то поищу. Я не пользовался этими таблетками и всегда привозил их назад. Я много их раздарил, но что-то еще могло остаться.
Старший официант устало махнул рукой. Эта усталость странно противоречила патологическому живому блеску в его глазах. Он убрал руку с плеча Биндига и сказал: – Ты хороший парень. Но это не имеет смысла. Со мной покончено. Они погубили меня. Вероятно, было бы лучше, если бы я погиб тогда на русских позициях. Или если бы меня просто подстрелили на дереве.
– Они тебя бы и подстрелили, – сказал Биндиг убежденно.
Старший официант ответил: – Тогда они сэкономили бы мне работу. И много боли.
– Ты сумасшедший, – сказал Биндиг. – С нами тут всеми покончено. Но, все же, мы не слабаки.
– Они тоже говорили это мне в военном госпитале, – объяснял старший официант. Он вытащил из кармана сигарету и зажег ее. При этом его пальцы дрожали. Верно, этот человек превратился в развалину. Раньше или позже каждый из них стал бы такой же развалиной. Зачем тогда он вообще мучил его своими советами?
– Послушай-ка, – сказал он, – пойди к Альфу и расскажи ему все это. Вероятно, он сможет что-то сделать для тебя.
– Бессмысленно, – ответил старший официант, – они все одинаковы. Тимм, врачи, Альф. Все одинаковы.
– Но если ты не скажешь Альфу, он пошлет тебя завтра на операцию.
– Он может послать меня, – ответил старший официант, – но я не пойду. Я больше не могу.
Биндиг растерянно покачал головой. Он охотно помог бы ему, но не знал как. Он только сказал: – Я поищу несколько таблеток для тебя. Я принесу их тебе.
Науманн безразлично поблагодарил его. Он держал сигарету в дрожащих пальцах, и когда Биндиг уходил, сказал ему: – Мы взорвали слишком много мостов. Слишком много людей убили. Устроили слишком много пожаров и слишком много взрывов. У нас не хватило мужества прекратить это, когда для этого еще было время. Теперь слишком поздно.
Биндиг сначала пошел в комнату, в которой спал. Он вытащил маленькую жестяную коробку из комбинезона и вытряхнул ее содержимое на ладонь. Это было девять маленьких белых таблеток. Когда он пришел с ними в квартиру, где лежал старший официант, то не нашел его. Он положил таблетки на топчан и написал записку, что они для него.
Он намеревался пойти к Альфу и объяснить ему, как обстоит дело со старшим официантом.
Но он еще отложил это, хотя сам точно не знал почему.
Он окончательно забыл об этом, когда внезапно увидел идущую по деревенской улице женщину из одинокого хутора. На ее плечах был толстый вязаный платок. Под рукой она несла оконное стекло, и Биндиг удивился про себя, откуда она могла взять стекло, если в деревне больше не было много целых стекол. Нужно было долго искать хоть одно неразбитое. Он немного пробежал за ней и окликнул.
Только когда женщина обернулась, он понял, что он кричал «Анна!».
– Это вы! – сказала женщина удивленно. Она не потрудилась принять безразличный вид. Она улыбалась. – Меня так давно никто не окликал по имени.
Запыхавшись от бега, он шел за ней. Он выдавил из себя: – Простите, вы сказали ваше имя, а теперь…я не знаю.
Они стояли одни, там, где заканчивалась деревня. Она прислонилась к одной из скамей, на которых раньше ставили молочные бидоны крестьян, которые по утрам вывозили грузовики молочного завода. Она сказала: – Прекрасно, что вы запомнили мое имя. Я думала, что вы снова придете…
Он сразу почувствовал, как стучит его сердце. Он смотрел на него, и она отвечала на его взгляд с улыбкой. Ему казалось, что он ошибается, так как он ожидал что угодно, но только не эту улыбку.
– Вы несли стекло? – спросил он смущенно. – Почему вы мне не сказали? Я бы вам помог…
Она ответила: – Я сняла его с окна в одном подвале. У нас на кухне одно окно треснуло напополам. Сегодня это вполне можно сделать. Вряд ли кто-то вернется сюда, и будет искать это стекло.
Он неопределенно пожал плечами. Он хотел сказать, что от этой деревни, может быть, вообще камня на камне не останется, как только фронт проснется и война продвинется сюда. Но он сказал не это, а:
– Собственно, я хотел прийти к вам как раз сегодня. Теперь я встретил вас…
Ему показалось, что в женщине что-то изменилось. Она, похоже, не была больше такой недружелюбной, как тогда, не так подчеркивала дистанцию. Он слышал, как женщина сказала: – Почему вы не приходите? Где ваш товарищ?
– Уехал. В штаб дивизии.
– Тогда приходите вы. Идите со мной. Она снова ему улыбнулась. Он молча смотрел на нее несколько секунд. Она была ничем иным, как женщиной, которая улыбалась. Она стояла перед ним, прислонившись к деревянной скамье, стекло под рукой, и глядела на него. Женщина со зрелым, полным телом и голосом, который так приятно звучал. Он в то же самое мгновение понял, что ему давно нужно было снова пойти к ней. Он быстро решился.
– Подождите, я только должен сказать моему взводному, где я буду. Подождите, пожалуйста!
Он убежал, и женщина смотрела ему вслед. Когда он исчез между домами, она осторожно положила оконное стекло на скамейку и смотрела на замерзшую деревенскую улицу. Ее губы превратились в тонкую линию.
Биндиг, запыхавшись, ввалился в квартиру Тимма. Унтер-офицер сидел за поцарапанным столом и читал газету. Комната была сильно натоплена, и он сидел в одной рубашке. Биндиг остановился в дверях и приложил руку к шапке, но Тимм только наполовину повернулся, посмотрел на него и попросил: – Закройте дверь! Будет холодно!
Биндиг сделал глубокий вдох и сказал: – Господин унтер-офицер, я хотел бы отлучиться сегодня на вечер.
– Отлучиться? – спросил Тимм. Он повернулся на своей табуретке и посмотрел на Биндига. – Куда?
– Меня пригласили.
– Куда?
Почему бы мне ему и не сказать, подумал Биндиг. Почему бы и нет. Мне нечего стыдиться.
– К женщине, которая живет на хуторе за деревней.
Тимм прищурился на него и осмотрел с головы до ног. Потом он почти дружелюбно сказал: – К женщине, которая живет в хуторе за деревней? Пригласили?
– Так точно, – сказал Биндиг.
– Гм! – произнес Тимм. – Все в порядке. Как зовут женщину?
Он ухмыльнулся, когда заметил, как покраснел Биндиг. Он подождал несколько секунд, но Биндиг ничего не мог сказать. Тогда Тимм громко засмеялся.
– Вы правы! Идет спать к женщине и не знает, как ее зовут. Вы начинаете мне нравиться!
– Я иду к…, – начал было Биндиг. Но Тимм прервал его, все еще смеясь: – Хорошо! Мы все однажды начинали! Бегите!
– В случае, что…, снова начал Биндиг. Но Тимм махнул рукой.
– Завтра утром. Раньше вы здесь не нужны. Потом он тут же снова стал серьезным и пояснил: – Послезавтра вы отправляетесь на операцию. Подготовьтесь к этому. Используйте время. Завтра ночной увольнительной уже не будет.
– Так точно, – сказал хрипло Биндиг, – спасибо, господин унтер-офицер.
Когда он ушел, Тимм подошел к окну и посмотрел вслед ему. В окне осталось еще одно стекло, и оно лопалось уже четыре раза. Тимм прижал лицо к стеклу и смотрел наружу. Он видел, как Биндиг спешил по деревенской улице.
Когда он исчез, Тимм задумчиво зажег сигарету. Он выпустил дым в душный воздух перегретого помещения и произнес вполголоса: – Биндиг… Он вспомнил о той ночи, когда он через окно смотрел вовнутрь будки путевого обходчика. Он видел, как Биндиг и Цадо входили через дверь, их затемненные черной сажей лица, русские шинели и меховые шапки на касках. Он слышал выстрелы, и тогда он сказал: – Два миллиона солдат, таких как этот Биндиг, и война была бы выиграна. Холодный как собачья морда, и с краснеющим лицом, когда по-немецки говорят о женщине. Самый лучший материал. Если бы два миллиона таких…
Биндиг нес к хутору стекло, которое Анна взяла из одного из разрушенных домов. Он немного говорил. Он только шел рядом и иногда на нее смотрел.
Потом он помог Якобу раскроить стекло и вставить его в окно. Глухонемой слабоумный батрак нашел где-то перочинный нож со стальным колесиком. Он резал стекло с большим умением, после того, как удалил обломки старого из рамы. Наконец, он подогнал его, а потом принес из сарая несколько тонких планок и пилу. Стекло нужно было закрепить планками, потому что никакой замазки нельзя было найти. Биндиг помогал ему и тайком восхищался сноровкой мужчины. Они снова поставили оконную раму, когда уже смеркалось. Анна зажгла фитиль керосиновой лампы и задернула тяжелые, темные шторы, чтобы никакой луч света не проник наружу. Потом Якоб принялся заботиться о скоте, и она помогала ему кормить. Но она не разрешила Биндигу идти с ней в хлев, чтобы помочь. Она попросила его оставаться на кухне и следить за едой, стоявшей на плите.
Это продолжалось долго, пока оба не вернулись из хлева. Биндиг ничего не сказал, когда она сначала дала поесть Якобу, а его попросила немного потерпеть. Батрак со странно серьезным лицом хлебал свой суп. Это не было его обычным лицом, со всегда ухмыляющейся идиотской гримасой. Анна молча занималась посудой. Она отрезала хлеб для Якоба. Это был плоский, черноватый хлеб, домашней выпечки, из муки, которая ни на что не годилась. Но это был хлеб, и женщина обращалась с ним как со святыней. Батрак ел мало. Он вскоре поднялся со стола и отправился в свою каморку через кухню. Он ухмыльнулся Биндигу, когда поднимался со стола, и двинул пару раз головой туда-сюда, но уже в двери у него снова было серьезное, чужое лицо. Биндиг с интересом наблюдал за этим изменением. Он старался, чтобы этот интерес остался незамеченным, но женщина наверняка перехватила его взгляд. Она быстро сказала: – Он сегодня очень устал. Было много работы.
Биндиг кивнул. Задумчиво он смотрел на женщину, как она передвигалась между плитой и столом. Он был удивлен тем, что она говорила почти беспрерывно. О каких-то пустяковых делах, на которые он давал такие же пустяковые ответы. В прошлый раз, когда он был у нее с Цадо, Анна говорила очень мало. Сегодня она была другой, она умудрялась смеяться над мелочами, и это был прекрасный, звучный смех, при котором ее глаза блестели.
– Вам придется еще минутку потерпеть…, – внезапно попросил она его. Когда она вернулась, на ней вместо юбки и полотняной блузки было пестрое платье. Она надела светлые, ажурные туфли и тщательно зачесала назад волосы. Она выглядела как девушка, которая нарядилась на воскресенье.
– О…, сказал Биндиг пораженно, – вы…
Она подошла к нему. Снова как девушка, убрав руки за спину. Она покрутилась перед ним и спросила, наклонив голову вбок: – Мое лучшее платье. Оно вам нравится?
Он был очень неуверен, когда сказал: – Прекрасное… Вы должны были бы носить его каждый день…
Женщина поразила его. Он не хотел показывать это, но она достаточно хорошо это знала. Она была так же неуверенна, как и он, и скрывала свою неуверенность за многими пустыми словами, за звучным смехом и блеском своих глаз. Она скрывала за этим то чувство, которого она сама еще точно не знала. Ей это удавалось настолько хорошо, что он сказал, наконец: – Вы мастерица перевоплощения! Я не предполагал, что вы вообще можете смеяться.
Тут она опустила руки и сказала тихо, так же как она обычно говорила всегда: – Как долго у меня не было гостя, ради которого стоило бы надевать хорошее платье…
Он кивнул. Эта деревня была мертвой деревней. Жизнь в ее стенах не была настоящей жизнью. Однажды в Хазельгартене не осталось бы больше ничего, кроме закопченных остатков стен и воронок от снарядов. Он не сомневался в этом, и ему пришлось выдавить из себя слова: – Когда война закончится, у вас часто будут гости. Я надеюсь, что я тогда тоже однажды смогу приехать…
На стене над кухонным шкафом висели старые, невзрачные часы с кукушкой. Их стрелки остановились на восьмом часе. Крышка корпуса раскрылась, и кукушка восемь раз высунула свою голову наружу; при этом был слышен каркающий шум, едва ли похожий на кукование.
Они оба посмотрели на часы, и тогда Анна внезапно произнесла: – Кукушка прокуковала. Время для еды! Как долго вы можете оставаться?"
– Я… Он замолчал и быстро подумал, перед тем как продолжить. Перед собой он увидел ухмыляющееся лицо Тимма.
– У нас это не так точно, – ответил он, – у меня еще есть время. Мы…
– Тогда будем есть, – попросила Анна. Она принесла блюда на стол и села напротив него. Она приготовила копченое мясо с травами. Когда они поели, женщина принесла консервированные вишни. Она посыпала на них сахар и сказала: – Не нужно было, на самом деле, чтобы вы приносили сахар. Надо надеяться, у вас не будет из-за этого проблем.
– Какие могут быть из-за этого проблемы? Он засмеялся. Она сказала: – В любом случае я благодарю вас. И у меня тоже есть для нас сюрприз…
Он сразу почувствовал себя так, как будто был знаком с этой женщиной уже много месяцев. Как будто они были хорошими друзьями. Сначала это смущало Биндига, но он быстро поборол это свое замешательство.
Сюрпризом была бутылка вина. Это было крепкое сладкое фруктовое вино, и она рассказала ему, что раньше в деревне жил один крестьянин, который сам его делал. Когда Биндиг выпил один стакан, он понял, что это вино было опаснее, чем джин, который они иногда получали. Он сказал ей об этом, но она только смеялась. Она наполнила стаканы снова и выпила за его здоровье. Он замечал, как ее движения становились легче и решительнее. Она слушала его, когда он рассказывал о джине и о том, как они грузили его в Голландии на грузовики роты. Он рассказывал о доме и о роте. О Цадо, а также об истории с портретом Гинденбурга.
– Он не даст Вам отпуска к рождеству. И ваша девушка будет ждать зря, – сказала Анна. Она подняла стакан и выпила. Она прекратила, когда он сказал: – Я и без того не должен был требовать отпуска к Рождеству. И девушки у меня тоже нет. Так что, никто меня не будет ждать.
– Нет девушки, – произнесла женщина задумчиво, – почему?
– Это длинная история. И не очень хорошая.
– У вас красивые руки. Совсем не как у солдата… Она не уклонялась от его взгляда. Она смотрела на него. Но в ее взгляде не было никакого вызова. Он был задумчив. Немного печален, как думал Биндиг.
– Ваш муж на войне? – спросил он. Довольно долго было тихо. Потом женщина покачала головой.
– У меня больше нет мужа. Он мертв. Погиб, два года назад.
– О, простите меня, пожалуйста…
– Ничего не нужно прощать, – сказала она, – я одна из тех женщин, которые рады тому, что их муж больше не живет.
– Я не понимаю. Почему?
– Это тоже длинная история. И тоже не очень хорошая. Вам нравится вино?
– Прекрасное.
– Тогда давайте выпьем еще раз.
Вино было не таким, как джин. Оно не делало голову тяжелой. Оно опьяняло приятным образом. Оно помогало мыслям течь легче и делало губы более разговорчивыми. Оно позволяло звучать смеху, и оно уносило в забвение все то, что было вокруг этого хутора, вокруг дома, вокруг комнаты, в которой они сидели.
– Завтра я уйду из Хазельгартена, – сказал, наконец, Биндиг. Женщина немного приоткрыла рот. Ее вопрос звучал тоскливо. – Почему? Куда?
– Я солдат, – сказал Биндиг, – завтра я отправляюсь на боевое использование. Женщина смотрела на ее руки. Он слышал, как она тихо спросила: – Как долго это будет? Долго?
Он слегка пожал плечами. Вино сверкало в стаканах. – Я не знаю, вероятно, только несколько дней. Если я через несколько дней не вернусь назад, я больше не приду.
– Это должно означать…
– Да, – сказал он. – Именно это.
– Вы снова должны идти в тыл к русским?
Он кивнул. Почему он не должен был говорить это ей? Она была достаточно долго в деревне и знала, что рота состояла из парашютистов. Об остальном она могла догадаться сама. И, кроме того, Цадо уже тогда, когда они были у нее, рассказал ей, какого рода солдатами они были.
– Это жестоко…, – услышал он ее голос. – Люди сидят напротив другу друга и не знают, увидятся ли они еще раз. Как будто люди забыли, насколько ценна жизнь… Он поспешно отхлебнул вина. Женщина тоже подняла свой стакан, но на этот раз пила только мало.
– Это все ничем не поможет! – попытался он приободрить ее. – В конце концов, нет никого другого, кто сделал бы это за нас. Мы здесь для этого только одни …
Кукушка снова каркала. Он возвестила о десятом часе. Они ели и пили. Иногда они говорили о какой-то чепухе. Потом опять они только спокойно сидели, и один смотрел на другого, стыдливо отворачивая взгляд, если тот встречался со взглядом другого.
Когда женщина однажды поднялась и отодвинула занавеску, она тихо произнесла: – Идет снег. Это зима.
Биндиг подошел к ней. Он немного согнулся, чтобы выглянуть наружу под ее поднятой рукой, придерживавшей штору. При этом он коснулся ее. Он только бросил быстрый взгляд на снежинки, кружившиеся в луче света, который падал из окна. Он надеялся, что первый снег заставит себя еще немного ждать. Одно мгновение он размышлял, что при предстоящем десантировании им нужно было бы надеть белые маскхалаты. В них было бы холодно. И бывали дела, когда приходилось снимать согревающие перчатки.
В то время как он все еще с удивлением чувствовал, что женщина не уклонялась от его прикосновения, он услышал, как она сказала: – Ты вернешься? Она произнесла это очень тихо, и он сначала не понял ее слов. Он размышлял о "ты", с которым она обратилась к нему. Но тогда он понял, что здесь в этот момент она не могла бы сказать ничего другого. Женщина, думал он, и несколько секунды он растерянно думал, что он теперь должен сделать. Он слышал ее дыхание. Он чувствовал его в затылке. Его плечо все еще касалось легко ее руки, державшей штору. Снежинки перед окном танцевали запутанный хоровод в слабом луче света. Это зима, думал Биндиг. Потом он внезапно обернулся и посмотрел на нее.
– Я спросила тебя кое-что, – сказала она. Ее глаза были большими и темными. Она смотрела на его рот, не в его глаза.
Он сделал маленькое движение в ее сторону, но она не уклонилась от него.
– Да, – медленно сказал он, – ты спросила меня о том, вернусь ли я. Я этого не знаю.
Женщина опустила руки. Он смотрел мимо нее, на стол, где стояли стаканы. Потом он медленно положил ей руки на плечи и привлек ее к себе.
– Как я могу знать, вернусь ли я? – спросил он. Глаза женщины были совсем близко. Но это было так, как будто они вовсе не были так близко перед ним, как будто бы не дышал там этот полуоткрытый рот с полными губами. Так, как будто все было бесконечно сильно удалено и недостижимо.
– Хорошо…, – сказала она, наконец. – Но я все же должна сказать тебе, что я хочу вновь увидеть тебя…
– Вновь увидеть? – повторил он.
– Да. Она сразу стала совсем близкой к нему. Она прижалась к нему, и он почувствовал ее тепло. В ее дыхании еще ощущалось вино, которое она выпила. Она произнесла: – Да. Если ты завтра утром уйдешь от меня, то я хочу знать, что ты вернешься.
Он хотел прижать ее к себе с диким, бурным движением. Но это было ничем иным, как мягким, долгим. Тогда она откинула ему волосы назад. Он еще чувствовал вкус ее губ, когда сказал: – Теперь я могу очень отчетливо вспомнить о том, как я тебя увидел впервые…
Она приложила палец к его губам.
– Молчи… Когда он умолк, она задумчиво сказала: – Как же ты еще молод. Такой юный – и мне так жаль тебя за все то, что они с тобой делают…
Он не понимал ее. Но ему показалось, что в нем как будто сразу был запущен в ход какой-то тайный механизм. Он снова чувствовал, что у него есть сухожилиями и мышцы, и он также чувствовал, что они были закалены перекатыванием по земле и подтягиваниям на руках, приземлениями на маты с парашютной вышки и толчками от раскрытия купола парашюта. Ползанием по замерзшей земле и тем зажимающим захватом рук, которые крепко держали пистолет-пулемет или нож. Он с одного раза почувствовал неудержимую силу, и он взял женщину и поднял ее на его руки.
Она хотела приказать ему остановиться, но это был только слабый жест. Она показала на стол со стаканами.
-Дай мне это убрать, ты…
Он только смеялся, пока нес ее сквозь кухню. Он забыл все, что проходило вокруг этого дома, что было бы завтра и послезавтра. Плечом он распахнул кухонную дверь. Он не знал, где была спальная каморка. Но он и не должен был спрашивать об этом; она нашептывала это ему.
Холод полз сквозь щели окон. Каморка была нетопленая, и, собственно, это была не каморка, а вместительная комната. В ней было не очень темно, так как оба окна не были занавешены, и снаружи пробивалось мерцание той освещенности, которую вызывал снег. Когда Биндиг двигался, он чувствовал тело женщины. Она прижалась так плотно к нему, что он мог слышать ее дыхание. Женщина лежала спокойно, с открытыми глазами. Она натянула перину выше груди и спрятала под ней руки. Биндиг не терпел перин. Он снял ее. Сухая прохлада комнаты благотворно действовала на его тело.
– Ты простудишься, – тихо сказала женщина, – комната холодная… Она хотела укрыть его тело, но он удержал ее руку. – Мне не холодно.
– Ты заболеешь, – уговаривала она его. Она немного приподнялась и посмотрела ему в глаза. Он притянул ее к себе и поцеловал.
– Еще только лишь несколько часов…, – шептала она. Он гладил ее тело, и, несмотря на свои изодранные ладони, он чувствовал мягкую, теплую кожу. Она опустила голову на его плечо и повторяла: – Только лишь несколько часов… Казалось, будто ее голос находился на удалении нескольких миль. Он слушал его, как он иногда слышал радио через наушники в бронетранспортере с радиостанцией. Но женщина была рядом с ним. Она лежала, слегка прислонившись к нему, и он мог чувствовать ее дыхание на своей груди.
– Ты…, – произнес он, – Анна, как это было, собственно? Завтра или послезавтра я буду думать, что этого всего не произошло, и я никогда не лежал с тобой…
– Так хорошо, – сказала она, – я хотела этого, и ты хотел этого. Хорошо.
– Ты хочешь спать? – спросил он.
Она не отвечала, и он сказал: – Вероятно, это последний раз, когда мы вместе. Кто знает, что случится в ближайшие дни…
Она ничего не говорила. Но она прижала свое тело так близко к нему, что он почувствовал, как кровь начала пульсировать быстрее.
– Это хорошее воспоминание, – медленно сказал он, – когда завтра я буду думать о тебе, это будет хорошим воспоминанием. У меня немного хороших воспоминаний, и на этот раз, вероятно, я сдохну, тогда, по крайней мере…
– Молчи…, – тихо воскликнула она. – Молчи об этом. С тобой ничего не случится!
Он засмеялся, но смех звучал совсем не весело. – Я ведь иду не на прогулку. И русские не горошинами стреляют…
Он сам не знал, почему он сказал это теперь, потому что у него никогда не было привычки перед операцией говорить, что его могут убить.
Анна, думал он. Такие мысли приходят, если внезапно обнаруживают что-то, ради чего стоит возвращаться. Я верю, это может сделать человека трусом.
Он сказал ей это, и женщина спросила через некоторое время:
– Почему вы только должны постоянно делать вещи, которые не имеют никакого смысла, кроме как, самое большее, убивать вас?
В нем все еще торчало все то, что они вбили в него в школе и при обучении в роте. Картинки из журналов были еще в его голове и болтовня, за которую платили людям с радио.
Он был достаточно долго вместе с Цадо, воспринял немногое из его цинизма и смотрел на все несколько более неприукрашенно, реалистично, чем раньше. Но цинизм Цадо протянул пока немного больше, чем несколько запутанных черт на карте его системы мира.
– Нет ничего бессмысленного, – говорил он в серую темноту, – все, что мы делаем, имеет смысл. Если бы мы не делали это, то русские на Рождество были бы в Берлине. Поэтому мы делаем это. Это доставляет нам мало удовольствия, но нас об этом никто не спрашивает.
– Я не знаю, – сказала женщина, – я ничего в этом не понимаю. Только то, что все это не необходимо, и ты мог бы завтра утром остаться у меня.
– Это было бы прекрасно. Но как раз это не может быть так.
– Вот такие вы, – сказала она, – солдаты, потому что иначе не может быть. Потому что вам не хватает мужества сказать им, что вы не хотите быть солдатами. И как возмещение за это мужество вы воображаете себе, что это якобы доставляет вам удовольствие.
Он довольно долго размышлял, потом тихо сказал: – Я думаю, очень немного есть тех, кому это доставляет удовольствие. И хочешь ли ты того или нет: Это война, и она продлится так долго, пока либо мы, либо другие победим.
– Он продлится так долго, как те, кто ее ведет, которым, собственно, как раз и доставляет удовольствие ее вести, – сказала женщины. – Такие, как ты и тот другой.
– Если мы не задержим русских…
– А ты хочешь задержать их?
Он молчал. Женщина ждала его ответ, но он задумчиво рассматривал кровать, в которой они лежали. Это была двуспальная кровать, и левая половина ее была накрыта. Здесь лежал ее муж. Она говорила ему, что он погиб два года назад. Более ничего. Он легко провел рукой по сшитому из отдельных лоскутов одеялу на кровати мужа и спросил неожиданно: – Он погиб на Востоке?
Ее ответ прозвучал недружелюбно. – На Западе. В Париже.
– Два года назад?
– Да, два года назад.
– Но как же он мог погибнуть два года назад в Париже?
Она немного приподнялась и медленно сказала: – Его переехала машина. Насмерть.
– О…, – сказал он, – я не должен был тебе напоминать об этом.
Но женщина покачала головой. – Меня это не беспокоит. Он умер для меня уже за несколько лет до того, как его переехала машина. Он мучил меня до крови. И тогда машина переехала его в Париже. Грузовик с вином для казино. Я узнала об этом от одного, который был там. Мой муж лежал на улице пьяным, и грузовик его переехал.
Одно мгновение он пораженно молчал, потом спросил: – Он мучил тебя, ты говоришь?
– Да. Однажды я расскажу тебе, когда ты вернешься. Сегодня эта ночь слишком коротка.
Через некоторое время она произнесла в тишину: – Они послали мне от его роты прекрасное письмо. С их соболезнованием и словами утешения. Мол, он пожертвовал своей жизнью в верном исполнении долга ради фюрера, народа и отечества. В Париже, под машиной полной вина. Лежа пьяным на улице.
– Прости, – сказал Биндиг еще раз, – я действительно не хотел напоминать тебе об этом…
Но она тихо смеялась. – Оставь… мне не больно. Он умер как герой!
Биндиг ничего больше не говорил. Анна была одной из многих женщин, которые были несчастны в браке. Это многое объясняло. Не нужно было расспрашивать дальше об этом, браки такого рода были в самых разных вариантах. Он всегда предполагал, что такое бывало только в городах, но это было, очевидно, чепухой.
Казалось, что сумерки в комнате стали чуть-чуть светлее. Приближалось утро. Биндиг увидел это, когда украдкой бросил взгляд на часы на своем запястье. Но женщина заметила этот его взгляд. Она немного приподнялась, пока не смогла полностью посмотреть ему в лицо.
– Ты торопишься? Тебе уже хотелось бы быть сейчас у своего унтер-офицера?
Он не отвечал.
– Это было бы возможно, – тихо сказала она, – тогда я не буду удерживать тебя.
– Послушай, – попросил он ее через некоторое время, – я думаю, что ты единственный человек, который может удержать меня. Ты – единственное, что меня интересует. Я не могу вспомнить, что такое было у меня часто…
Ее пальцы скользнули по артериям на его шее. Он чувствовал легкое прикосновение, и при этом он видел ее лицо, и это возбуждало его. Ее глаза были темны и блестящи, и распущенные волосы покрывали ее полные, сверкающие белым цветом груди длинными, извилистыми прядями. Его глаза исследовали мягкие линии ее тела. Он находил их одновременно прекрасными и энергичными, заманчивыми и материнскими. Все в ней было как бы вылито из формы. Лицо и линия шеи, груди и мышцы на ее плечах, округлости ее бедер, вообще все, будь ли это звук ее голоса или движения ее членов, улыбка вокруг углов ее рта или игры ее пальцев, когда они ерошили ему волосы назад.
– Я не знаю точно, влюбилась ли я действительно в тебя, – сказала женщина совсем близко к его уху. – Я думаю, что да, но я не знаю этого точно. Время докажет…
– Время…, – сказал он и обнял ее, – время и ты, это не гармонирует. Время это я. И сегодня я у тебя в последний раз. Кто знает, на какой срок.
– В первый раз…, – услышал он шепот женщины, – и с тобой ничего не происходит.
Это была фраза, хотя она ничего не желала в этот момент более страстно чем то, что должна была выражать эта банальная фраза. Но она не договорила до конца. Она чувствовала его рот и его тело. Она чувствовала его руки и его дыхание. За покрывалом из падающего снега перед окном звезды начали танцевать. Они мерцали и гасли, описывая блестящие кривые и запутанные дорожки. Было похоже, как будто все небо пришло в движение, как будто небесные тела внезапно принялись необузданно и дико танцевать в запутывающем чувства ритме, который человек воспринимает только редко, в большинстве случаев только в очень молодом возрасте.
Она думала: это безумие, нельзя увидеть ни одной звезды! Идет снег, и небо полностью затянуто снежными тучами. Но танец звезд не заканчивался. И тогда растаяло все, что проходило вокруг нее и его, и погребло их, кровать и комнату, дом и весь хутор и заметенную снегом землю, которая дрожала совсем тихо. В нескольких километрах восточнее какая-то батарея начала стрелять раньше, чем обычно.
Когда он утром доложил Тиму о своем возвращении, тот встретил его с деловым замечанием: – Попроси санитара дать тебе укол протаргола.
Лицо Биндига, видимо, не произвело впечатления согласия, потому что Тимм посоветовал ему: – Ну ясно, и возьми с собой сразу упаковку красных таблеток. Или ты хочешь рассказать мне, что ты всю ночь стоял с винтовкой в карауле у ворот двора?
– Нет, – ответил Биндиг раздраженно, – я играл с глухонемым в домино.
– Надо надеяться, не слишком часто поочередно! Тимм благодушно ухмылялся. Потом он объяснил несколько серьезнее: – Думаю, на этот раз у нас серьезная работа. Командир едет с нами на учения. И пятнадцать солдат.
– Пятнадцать солдат…, – повторил Биндиг, не задумываясь. Он думал об Анне. Он мог бы плюнуть Тимму в лицо. Но он знал Тимма и знал, что не имело смысла выступать против него. Тимм командовал этой ротой. И если Тимм кого-то посылал в ад, тот не возвращался.
Когда Тимм сказал ему, что машина через час повезет их на полигон для учений, Биндиг вспомнил, что он еще не сложил свое обмундирование. Он закончил разговор с унтер-офицером и побежал к себе на квартиру, где застал Цадо, занимавшегося поеданием мармелада из банки.
– Эй…, – пробормотал Цадо с полным ртом, – я уже думал, ты хотел поехать за нами на трамвае!
– В общем-то, я так и хотел, – сказал Биндиг, – но мой проездной билет истек. Было ли что-то на завтрак?
В своем углу сидел на корточках обер-ефрейтор, который в это утро был трезв. У него было недовольное лицо и он вытряхивал содержимое своих карманов на свою кровать. Из кучки писем, фотографий, денег, огрызков карандашей и другого хлама он, наконец, выбрал только плоскую картонную коробочку с тремя презервативами и засунул ее в комбинезон. При этом он подмигнул Цадо и сказал: – На случай, если мы все же натолкнемся на тех женщин, которых русские поймали для себя… Они, наверное, обрадуются, когда у них в постели на полчаса снова окажется их земляк!
Цадо сглотнул. – Ты настоящий практичный человек, – сказал он. – Но тебе следовало бы сразу взять с собой свидетельство о рождении, на случай, что ты найдешь там одну, на которой сразу захочешь жениться.
– Солдатскую книжку…, – размышлял обер-ефрейтор. Он принял слова Цадо всерьез.
– Солдатская книжка тоже подошла бы. Но мы должны оставить ее здесь… Он производил огорченное впечатление, и Биндиг сделал глубокий вдох, пока слушал этот спор.
– Возможно, с личным знаком тоже можно, – заметил Цадо.
Тут Биндиг яростно хлопнул своей шапкой по грубо сколоченному столу. – Проклятье, есть тут какая-то еда или нет?
Цадо несколько секунд тихо сидел на своем соломенном тюфяке, неподвижно сжимая в руке ложку, полную мармелада. При этом на лице его медленно появлялась широкая, добродушная ухмылка, и вокруг его орлиного носа образовывались бесчисленные складки. Наконец, он положил ложку обратно в банку и поднялся. При этом он сказал: – Сначала сам опоздал на трамвай, а потом ругаешь других. Разве Анна не дала тебе ничего поесть?
– Откуда ты знаешь, что я был у Анны?
– А откуда об этом же знает Тимм?
– От меня.
– Ага, – буркнул Цадо, – а я знаю от него. Но, кроме того, я видел, как ты туда шел. Ты действительно хочешь есть?
– Да, – подтвердил Биндиг. – Я…
Цадо пошел к ящику, в котором они хранили продовольствие.
Обер-ефрейтор только теперь заспанно попросил Биндига: – Ну, все же, не рычи ты так!
Цадо обнаружил хлеб и банку масла. Потом он достал банку мармелада, четырехгранную, жесткую колбасу и упаковку галет.
– Собственно, мы должны взять это с собой, – говорил он при этом, – к полудню ничего нет. Сигареты и шоколад лежат под твоим комбинезоном.
Биндиг дрожал от холода, когда переодевался. Новое белье было влажным. Это была дряблая, зеленая ткань, якобы обработанная средством против вшей. Но все знали, что вши очень любили устраиваться там. Пока он стоял в нижнем белье, он механически намазывал кусок хлеба маслом и кусал колбасу. Он слышал, как Цадо говорит, но не следил за его словами, так как перед его глазами все еще стояло лицо Анны. Он вспоминал о каждом ее движении и о каждом звуке, который она издавала прошлой ночью. Ему казалось, как будто она постоянно смотрит на него своими большими, сверкающими глазами, и тогда у него было неудержимое требование раскрыть свои руки и обнять ее полное, мягкое тело.
Анна, думал он, они должны были бы покончить со всем этим вздором и послать меня домой. Тогда я взял бы ее с собой. Из меня никогда не вышел бы крестьянин, но она хорошо чувствовала бы себя в городе. У меня была бы жена, и я, наверное, постепенно обо всем бы забыл. Но на это не похоже. И, вообще: Тимм говорил, у нас будет большое задание. Кто знает, переживу ли я его с целой шкурой. И если да, тогда при возвращении опять начнутся размышления о том, каков будет исход в следующий раз.
– Парень, парень…, услышал он голос Цадо, – если бы я из всего этого мармелада сделаю прекрасную кучу, то танк Т-34 утонет в ней по башню…
Рядом залп пистолета-пулемета внезапно разрывал тишину. Обер-ефрейтор не отреагировал на это, да и Цадо тоже через некоторое время процедил сквозь залепленные мармеладом зубы: – Наверное, снова один чокнулся, или как? Но потом раздался гул голосов на улице, и спешные шаги протопотали по низкому снегу.
Биндиг еще смог быстро зашнуровать ботинки и накинуть мундир. Тогда он услышал, как Тимм на улице кричит какой-то приказ, и выбежал наружу. Перед соседним домом стояли несколько солдат. Он спросил их, что случилось, но они только указывали движением головы в сторону дома, как бы прося его посмотреть там самостоятельно.
Его никто не задерживал. И Цадо тоже, который был за ним. Тимм стоял в комнате рядом с Альфом. За ними, с яростным лицом, тихо ругаясь себе под нос, стоял Паничек, держа в руке пестрый шелковый платок, который ему прислала незнакомая девушка из Франкфурта. Он держал его осторожно за кончик между кончиками пальцев, потому что платок был залит кровью и красновато– желтой массой мозга. В прихожей лежало, немного искривленное, тело старшего официанта из Штутгарта. Голова его состояла только лишь из нижней челюсти, на которой висели несколько дряблых лоскутов кожи. На засове окна висел пистолет-пулемет. Маленький старший официант застрелился.
Тимм повернулся и приказал: – Всем выйти, ну! Здесь больше не на что смотреть! Биндиг вышел за Цадо, и Паничек следовал за ними. Лейтенант с Тиммом пошли к канцелярии. У него в руке была солдатская книжка мертвеца и несколько писем, которые нашлись в его карманах.
– Как же ему только это удалось? – Цадо посмотрел на Паничека.
Тот недовольно пожал плечами, все еще высоко держа шелковый платок кончиками пальцев. – Он привязал веревку к спусковому крючку.
– И?
– И… и… Веревку к спусковому крючку, другой конец у окна, ствол в пасть, охватил обеими руками и опрокинулся назад. Так может каждый идиот!
– Но не каждый делает, – сказал Цадо. – Должна быть причина! Паничек посмотрел на него с бешеным взглядом
– Он мог застрелиться в другом месте. А не как раз возле моего платка, который от девушки, он совсем новый, я его еще ни разу не носил на шее, вот идиот!
Это было как всегда в последние часы, прежде чем они покидали квартиру. Биндиг знал это состояние и боялся его. Но он знал, так же как Цадо, или как любой другой, что с этим ничего нельзя было поделать.
Странное беспокойство охватило его. Он был не в состоянии две минуты подряд делать то же самое или даже хотя бы усидеть на одном месте. Что бы он ни начинал, у него ничего не получалось. К этому добавилась куча физических проблем. В области желудка появилось чувство пустоту. Биение сердца становилось ощутимо быстрее и более нерегулярным, члены осуществляли как самостоятельно всяческие беспокойные, нервные движения, и кожа выделяла холодный пот. Все это этим утром было еще усилено самоубийством маленького старшего официанта. Обычно еще сносная тошнота сразу стала неприятно навязчивой, и неестественное давление в кишках не прекращалось.
Цадо еще довольно долго ковырялся ложкой в банке мармелада. Но волчий аппетит, который он иногда ощущал после сладостей, сразу уступил чувству отвращения и тошноты.
– Хорошо начинается, – сказал он Биндигу, когда они сидели снаружи за домом над отхожим местом. – Если все пойдет так и дальше, скоро Альфу придется комплектовать новую роту.
На деревенской улице раздался свист, и тогда Тимм закричал своим металлическим голосом: – Отделениям 4 и 6 выступать!
Перед домом, в котором была размещена канцелярия, припарковались грузовик и бронетранспортер. Грузовик был предназначен для отделений, но не все в нем поместились. Полудюжине солдат не хватило места, среди них были также Биндиг и Цадо.
Тимм махал им: – Ну, давайте… залезайте туда!
Он указал на бронетранспортер, и они залезли в него. Это была машина для Альфа, так как уже наступил светлый день, и если бы прилетели русские штурмовики, то на всей плоской местности не было никакого укрытия. Альф влез в него последним. На нем был комбинезон. Большинство солдат впервые увидели своего командира в нем.
Когда они проехали довольно долго, Цадо сказал Тимму:
– Кто теперь будет закладывать взрывчатку, господин унтер-офицер?
Тимм не сразу дал ответ, но вместо него сказал Альф: – Кто-то другой ее заложит.
– Так точно, господин лейтенант, – сказал Цадо, – но сможет ли другой заменить его? Малыш чертовки хорошо разбирался в подрывном деле…
– Чепуха! Альф сделало небрежное движение рукой. – Каждого отдельного человека можно заменить. В немецком Вермахте нет никого, которого нельзя будет заменить завтра, если он погибнет сегодня.
– Так точно, господин лейтенант, – сказал Цадо, и через некоторое время еще раз: – Так точно, это верно.
Потом он посмотрел на Биндига, а Биндиг посмотрел на него, и, наконец, они оба уставились на рифленые стальные диски настила и молчали.
Убитая гармонь
На этот раз учения были совсем короткими. В зале на территории аэродрома в различных ящиках с песком были сделаны макеты участка предстоящей операции в соответствии с данными аэрофотосъемки. Майор, которого они еще никогда раньше не видели, разъяснял задания, которые должны были выполнить три группы. Затем они по отдельности выдвинулись на учебный полигон, который по своему ландшафту примерно соответствовал району будущих боевых действий. Они тренировались два дня, после чего получили оснащение и белую одежду. Был отдан боевой приказ, и еще до того, как самолеты взлетели, лейтенант Альф поехал назад в Хазельгартен.
Пятеро мужчин стартовали с заданием занять позицию на обочине на краю коммуникации и перехватить штабной автомобиль русских. Целью акции было взятие в плен штабного офицера, из которого хотели вытащить сведения о наступательных планах.
У второй группы из пяти человек, среди которых было двое железнодорожников, должны были захватить врасплох персонал распорядительного поста централизации на маленькой железнодорожной станции, на которой пересекались две линии, чтобы вызвать столкновение двух эшелонов.
Последняя группа, наконец, включавшая также Биндига и Цадо, и которой командовал Тимм, должна была прочесать большой участок леса в поисках хорошо замаскированного склада боеприпасов и после выполнения этого здания с помощью взятых ими с собой пяти мин подорвать некоторое количество машин.
Это был впервые, что в одно и то же время применялись три группы на относительно незначительном удалении друг от друга для выполнения таких задач. Солдаты злились, так как каждый знал, что у операции только тогда были шансы на успех, если в ней участвовало как можно меньше людей.
Была холодная, ясная звездная ночь, когда они стартовали. Ветер мел над аэродромом тонкий, зернистый снег, и мужчины застегнули комбинезоны и натянули тонкие, шелковые защитные платки на каски. Они надели белые маскхалаты. Каски, кожаные ремни, оружие и оснащение были покрыты белой краской. Обе машины быстро поднялись до нескольких тысяч метров, а потом повернули на восток.
Три группы были сброшены близко друг к другу над уединенным участком леса, где было множество озер и речек.
Солдаты молча скатали свои парашюты и зарыли их. Мины и некоторые другие инструменты они вынули из контейнеров и распределили между собой. Затем белые фигуры, которые едва выделялись на фоне снежного ландшафта, нырнули в темноту под деревьями. Нельзя было услышать ни звука, и заросшая кустами снежная поверхность, на которой произошло десантирование, была столь же тихой, как раньше. Но небо затянуло тяжелым, низко висящим слоем облаков, и спустя один час пошел снег.
Когда Биндиг немного оттянул в сторону ветку, висевшую прямо перед его лицом, он смог увидеть часового, стоявшего под «грибком». Это был маленький коренастый солдат с широким, кажущимся монгольским лицом и узкими раскосыми глазами. Он находился совсем близко от укрытия Биндига, и Биндиг только потому не напоролся сразу на него, потому что мужчина курил толстую «самокрутку» из махорки, завернутой в газетную бумагу, запах которой Биндиг почуял достаточно рано.
Он устал. В последние часы ночи он только медленно, шаг за шагом, двигался вперед. Снегопад к утру стал меньше. Но зато усилился мороз. И хотя считалось, что комбинезон, который был на нем, являлся водонепроницаемым, он замерзал, так как на ткани растаяло слишком много снега, а потом эта влага снова замерзла. Ткань стала жесткой. Биндигу очень хотелось вскочить и парой быстрых резких движений прогнать это отвратительное чувство холода, по крайней мере, на несколько минут. Но он оставался лежать неподвижно за покрытой снегом веткой, так как там впереди стоял часовой, и этот часовой был закутан в толстую стеганую шинель, которая грела его. На нем была меховая шапка с опущенными «ушами», и он бодрствовал, это было видно по его движениям.
Они построили для него «грибок», думал Биндиг. Они делают это там, где они обустраиваются на довольно долгое время. Это часовой, а не патруль. Но охраняет ли он тут склад или нет? Ведь ели он один из часовых склада, то тогда нужно увидеть и сам склад. Он оттащил ветку так, чтобы мог оглядеться по сторонам. Но за часовым не было ничего, кроме засыпанной толстым слоем снега светлой еловой рощи.
Через некоторое время он увидел, что от «грибка» вела тонкая протоптанная дорожка между деревьями. Он осторожно расстегнул молнию нагрудного кармана и рассмотрел карту. Дороги в этой местности не было. В нескольких сотнях метров за лесом, где стоял часовой, было отмечено две большие сплошные вырубки, между которыми проходила улица.
Это могла быть только одна из этих узких дорог, думал он. Вероятно, даже не это, а что-то вроде лесной дороги, которая немного шире, чем обычно. Но почему часовой стоит не у этой дороги, а здесь? Он терялся в догадках. Кроме того, он ощущал голод, и желание закурить мучило его. Он вытащил шоколадный батончик из кармана и засунул его в рот. Мне нужно отсюда исчезнуть, сказал он себе, здесь нет ничего больше, кроме этого часового. Мне нужно идти к дороге, и если в этой местности вообще есть склад боеприпасов, то грузовики на дороге и будут ехать туда.
Медленно он пополз назад. Он повесил пистолет-пулемет на шею и затянул ружейный ремень настолько тесно, что оружие лежало очень плотно к телу. Когда он достаточно далеко отполз от часового, чтобы подняться незаметно, он взял оружие в руки и двинулся дальше вперед. Но он не прошел далеко, потому что внезапно услышал голоса и увидел, когда подполз поближе к голосам, что в нескольких сотнях метров от первого часового стоял второй, которого только что сменили на посту.
Примерно в полдень, наконец, он находился недалеко от дороги между обеими большими сплошными вырубками. Но ему не понадобилось прислушиваться к шуму грузовиков, которые ехали здесь в отдельности или в колоннах, так как стоило лишь ему обойти цепь часовых, как он увидел там, где ели стояли реже, склад.
Это был большой, широко протянувшийся склад, который захватывал обе сплошных вырубки справа и слева от дороги. Но нигде ничего не было построено над землей. Они еще до наступления морозов вырыли ямы в земле, которые сверху были укрыты ветками и брезентом. Теперь и снег еще накрыл все, и не было лучшей маскировки, чем этот девственно-белый снежный покров. Даже фотография с самолета-разведчика ближнего действия едва ли могла бы дать указание на то, что под слоем замерзших кристаллов находился военный объект.
Биндиг точно ориентировался, где стояли часовые. Они были поставлены в цепи близко друг к другу на некотором расстоянии от склада, и охрана была размещена в дерево-земляных оборонительных сооружениях, входы в которые находились под первыми елками на опушке леса. Лишь дорога была оживленной. Там останавливались машины. Однажды прибыла колонна закрытых грузовиков. Из дерево-земляных оборонительных сооружений выползли несколько фигур и утащили ящики с машин. Биндиг видел, как они клали свой груз в подготовленные ямы и покрывали их брезентом и снегом. Это был один из складов, где хранились боеприпасы для наступления. Биндиг ломал себе голову, как штаб дивизии смог узнать, что этот склад нужно искать именно здесь.
Теперь больше не было так холодно как в предполуденные часы. Солнце прошло зенит, и местами с деревьев капала талая вода. Со стороны склада доносились обрывки музыки. Где-то там играло радио. Биндиг слышал, что временами пел голос сопрано, но было слишком далеко, чтобы он смог разобрать слова.
Здесь, собственно, ему больше нечего было делать. Он нашел склад и узнал, насколько далеко он тянется. Он мог точно нарисовать его на карте, которую они дали ему с собой. Склад простирался на площадь обеих сплошных вырубок, и по дороге ездили только те машины, которые имели отношение к складу. По его оценке, речь шла об артиллерийских боеприпасах. Ящики были довольно велики, и они должны были быть также тяжелы, так как солдаты на маленьких санях тянули их к ямам, куда те опускались.
Примитивный метод складирования боеприпасов, размышлял Биндиг. Но он понимал, что этот тяжело было бы уничтожить даже при точном знании с воздуха. Ямы находились на далеком расстоянии друг от друга. Если бомба падала между ними, то она могла бы причинить только небольшой ущерб. Чтобы существенно поразить склад, нужно было сбросить целый ковер бомб, но и тогда успех был бы все же незначителен.
Это то, что мы называем примитивным, думал Биндиг. Выглядит настолько примитивным, что мы думаем, что они делают это впервые в их жизни. Но они точно знают, из-за чего они делают это именно так и не иначе. Они – практики этой войны. У них не было времени разрабатывать теорию. Они должны были просто защищаться, и между тем они настолько хорошо научились наносить свои удары, что их практика стала теорией. И теорией складирования артиллерийских боеприпасов недалеко от позиций тяжелых батарей тоже. И это выглядит именно так, как здесь. Медленными, осторожными движениями Биндиг удалился немного дальше между елями. Там он взял карту и нанес карандашом толстую линию вокруг места, на котором находился склад. Он отметил еще местонахождение часовых, которые он видел, и когда он был готов с этим, то задумался, где он мог бы провести остаток времени. Самолет прибывал в три часа ночи, и место, в котором он должен был забрать группу, лежало за лесом на удалении всего нескольких километров.
Когда он оставил часовых у себя за спиной, он двинулся по направлению к опушке леса, откуда он прибыл. Он шел, склонившись вперед, и очень медленно, часто довольно долгое время тихо прижимаясь к снежному покрову, внимательно прислушиваясь и обозревая местность, которая лежала перед ним. Когда он внезапно увидел перед собой чей-то след, он сначала несколько минут лежал неподвижно, прежде чем подполз ближе и исследовал отпечатки ног. Они глубоко врезались в мягкий снег и были сделаны такой же обувью, которую носил он сам. Отпечаток резиновой подошвы ни с чем не спутаешь. Когда он положил ладонь в углубление в снегу, то заметил, что след был свежим. Снег по краям был еще рыхлым. Это означало, что с тех пор, как человек прошел тут, снег еще не замерз. Следу было не более получаса.
Собственно, не было причины идти по следу, но Биндиг все же последовал за ним. Склад был найден. Если след принадлежал тому, кто все еще искал этот склад, Биндиг мог бы тогда сказать ему, что ему уже не стоит беспокоиться. И вдвоем им можно было бы поспать. Можно было бы в безопасности, и спать в снегу во влажной, полузамершей одежде, пока другой наблюдал. След все время уводил все дальше от склада. Иногда он терялся на участке сильно замерзшей земли, но Биндигу всегда удавалось отыскать его снова. Когда он почти достиг опушки леса, он внезапно остановился и инстинктивно пригнулся. Ничего не было видно и никакого звука не было слышно, но он все же почувствовал, что поблизости есть кто-то живой. На это чувство всегда можно было положиться, оно еще ни разу его не обмануло. Он был уверен, что кто-то был близко, но необязательно это должен был быть тот самый человек, по следу которого он шел.
Долгое время Биндиг неподвижно сидел, прижавшись к тонкому стволу ели. Он поворачивал голову и внимательно прислушивался. Ничего не происходило. Наконец, он постепенно отполз далеко. Деревья стояли здесь реже, и в нескольких сотнях метров перед ним лежала маленькая заснеженная поляна. Солнце уже висело немного ниже, и оно светило Биндигу в лицо, так что он последние деревья перед поляной мог увидеть только как силуэты. И тогда он увидел фигуру, двигавшуюся
между этими силуэтами. Она скользила по крайнему кромке вдоль поляны и старалась не вступать на неприкосновенную, лишенную укрытий снежную поверхность. Биндиг в то же мгновение узнал Тимма. Он наверняка находился уже на обратном пути.
Биндиг не знал, должен ли он радоваться, что встретил его, или ему лучше было бы идти вперед в одиночку. Но он все же решился окликнуть Тимма. Он дал тому добраться до противоположного края поляны, и потом он еще довольно долго продолжал сидеть на том же месте, пока не был уверен, что никто не шел по следу Тимма. Только тогда он последовал за ним, и когда приблизился совсем близко к нему, тихо его окликнул.
– Ага…, – приветствовал его Тимм. – Женщину найти легче, чем склад боеприпасов, правда?
Биндиг вынул карту из кармана и протянул ее ему.
– Вот склад. А крестики это часовые.
– Ого, – сказал Тимм, – ты его нашел?
– Всё.
– И никого при этом не убил?
Биндиг покачал головой. Они уселись между парочкой низких елей, и Тимм внимательно рассматривал пометки на карте.
– Дружище…, – проворчал он тогда, – это же совсем рядом!
– Ты хочешь сам еще раз посмотреть? – поинтересовался Биндиг. – Я отведу тебя туда…
– Спасибо. Тимм ухмыльнулся. – Взгляда на карту мне достаточно. Как они его устроили?
Биндиг описал это ему. Тимм кивал, а потом засунул себе карту Биндига.
– Дело сделано, – сказал он. – А теперь ты, наверное, ты очень гордишься, да?
– Я хочу есть, – ответил Биндиг уклончиво, – и сигарета мне тоже пошла бы на пользу.
– Ты не доволен, что ли? – спросил Тимм. – Никого не смог прикончить, и это был не твой случай. Я понимаю. Но сегодня мы оба сделаем еще пару трупов, будь уверен!
Он подмигнул Биндигу, как будто как раз пообещал ему особенно интересное удовольствие. Выражение жестокости овладело в этот момент его лицом.
– Я голоден, – сказал Биндиг. Он расстегнул замок кармана брюк и вытащил оттуда пакет с концентрированным продовольствием, состоящий из соленых галет, сухофруктов, долек фруктов, твердой как камень сухой колбасы и шоколада. Он без аппетита съел одно за другим. Фруктовые дольки имели противно сладкий вкус.
– Лучше бы они не клали в них так много сахара, – сказал он Тимму, – половины вполне бы хватило.
– Сахар, – объяснил Тимм, – хорош для таких людей, как мы. Он полезен для их нервов.
– Тогда им следовало бы положить несколько кусков сахара в упаковку. Эту штуку едва ли можно есть.
– Поешь-ка сахарку, – ухмыльнулся Тимм, – сегодня ты его заработал. И тебе он, наверное, еще понадобиться для твоих нервов.
– Но мне не нужен никакой сахар. Мои нервы функционируют с сахаром так же, как и без него. Пусть лучше раздадут их финансовому отделу при дивизии.
– Ха…, – тихо засмеялся Тимм, – господин ефрейтор Биндиг соблаговолят злиться на казначеев! Для меня это ново. Почему ты, собственно, никогда не берешь с собой что-то выпить? Со шнапсом как раз эта штука очень вкусная.
– Я почти не пью шнапс, – ответил Биндиг.
– Конечно, если это твой собственный! Но я отдам тебе немного моего. Он вынул маленькую, низкую фляжку из кармана на икре. Такую же, как Цадо тоже всегда носил в комбинезоне. Биндиг взял ее и смыл крепким напитком вкус фруктовых долек.
– Ты не проголодался? – спросил он Тимма, закашлявшись. Тот покачал головой. Он зажег сигарету и сказал: – Пока нет. Он задумчиво сбил пепел с сигареты, потом продолжил говорить.
– Я как-то посмотрел однажды, насколько вы все продвинулись с наградами. Это нужно делать почаще. Выглядит вовсе не плохо. Если, к примеру, некоему Биндигу сегодня запишут еще одно участие в рукопашном бою, он созрел для получения бронзовой пряжки за ближний бой. Что ты об этом думаешь?
– Гм…, – произнес Биндиг неуверенно. – Я не так уж точно все это подсчитываю.
– Зато я подсчитываю.
– Тогда, пожалуй, будет правильно.
– Да, правильно. Цадо нужно еще три дня для получения серебряной.
– А ты?
– Ты побледнеешь от зависти, – добродушно ухмыльнулся Тимм, – но как раз сегодняшнего дня мне еще не хватает для золотой.
– Ах, так, – сказал Биндиг, – поэтому ты хочешь сегодня предпринять еще что-то. Без приказа, так сказать…
– Угадал! – Тимм прищурил один глаз и подмигнул ему, – ты и я. Когда мы вернемся домой, Альф может подавать на нас представление к награде. И поэтому мы теперь исчезнем отсюда и посмотрим, что мы тут еще немного раскачаемся.
– Без других?
– Пусть другие пока продолжают искать склад. Они устанут, когда прекратят это. С усталыми людьми нельзя делать трупы. Но мы оба теперь хватаем себе мины, и тогда Польша открыта! Ясно?
– Как хочешь. Биндиг ничего не возразил, так как этот дружелюбный, веселый Тимм, который лежал напротив него здесь в лесу за советским фронтом, самое позднее завтра превратился бы снова в того, который держал в своих руках нить жизни каждого в их роте.
Было бы лучше, если бы я тогда не пошел за ним и не окликнул его, подумал Биндиг. Лучше всего было бы, если бы я где-то спрятался как можно дольше, пока не стемнело, а потом пошел бы к нашему месту встречи. Тогда для меня операция бы закончилась. Но теперь мне придется участвовать в том, что придумает Тимм.
Он тут же вспомнил об Анне. Он прикусил губу и подумал о том, что говорил Тимм о пряжке за ближний бой. Ему иногда так тяжело давалось убивать, особенно в последние месяцы, потому что тот способ, которым убивали солдаты разведывательной роты, напоминал ему просто убийство; потому что он думал, что между убийцами и солдатами должно быть различие. Но ему никогда не давалось тяжело ставить на карту собственную жизнь. Они воспитали его так, что это не давалось ему тяжело. Теперь это чувство появилось. У него впервые было это парализующее, тягостное чувство. Лучше всего он спрятался бы себе где-нибудь в подлеске, пока не прилетит самолет.
Но тут сидел Тимм, и его лицо выражало всю ледяную невозмутимость, с которой он думал исполнить свой план. Это лицо перед ним больше не улыбалось. У Тимма было много лиц, но он всегда оставался тем же самым. Он снова теперь был тем, кого Биндиг знал как Клауса Тимма, и он не знал, должен ли он проклинать его или любить, потому что Тимм воспитал его, потому что Тимм научил его убивать и обучил разным прочим вещам, которые до сего момента помогли Биндигу сохранить собственную жизнь. Это был тот Тимм, которого он знал с будки путевого обходчика при последней операции, тот Тимм в самолете, который избил маленького старшего официанта. Тимм, которому при тренировке ближнего боя с куклой ни один удар ножом не казался достаточно хорошим. Это было Тимм, и это был учитель и бог, и командир и мать и иногда товарищ. Биндиг не мог любить его, так как он был ему противен. И он не мог заставить себя убить его, так как он его боялся.
– Пойдем…, – услышал он голос Тимма.
Биндиг кивнул. Глядя, как Тимм гасил сигарету, он сказал: – Недавно я обнаружил часового только потому, что он курил. Кто знает, заметил бы я его, если бы он не курил свою махорку. Нам в этой местности лучше было бы не курить…
– Пошли, – сказал ему Тимм, – нам час пути до места, где спрятаны мины.
Когда они вышли из леса, территория становилась немного обозримее. Поселений не было, только время от времени заметенная дорога и вдали шоссе, от которого иногда доносился шум моторов. Снова похолодало, и небо было ясно. Тимм однажды где-то остановился, вынул нож и отрезал им несколько еловых ветвей. Он взял кусок веревки из кармана и связал ветки. Когда он держал веревку в руке и тащил связку веток за собой по снегу, эта связка стирала их след. Когда они проходили мимо маленького озера, поверхность которого была чиста и бесснежна, он сказал: – Уже хорошо, что мороз держится. Иначе никакой самолет не смог бы сесть…
Они пересекли одно из озер и не оставили след на чисто выметенном ветром льду. На другом берегу Тимм пошел впереди и дал Биндигу веревку с ветками.
– Тащи их за тобой. Впредь никто больше не должен видеть, что здесь кто-то шел.
Один час они тяжело ступали по снегу, и не было никакого звука кроме тихого скольжения ветвей по снегу за спиной Биндига. Они шли по плоской земле с невысокими мягкими возвышениями. Леса стояли вдали как покрытые снегом стены, и косой солнечный свет заставлял ледяные равнины озер светиться красноватым светом.
Когда смеркалось, они добрались до укрытия, в котором лежали мины. Это было пять имеющих форму коробки подрывных зарядов, которые все вместе обладали действием примерно двух дисковых противотанковых мин. Тимм дал Биндигу две коробки, а на себя нагрузил оставшиеся три. Мины не были тяжелыми, и они, как и все, что солдаты взяли с собой, были окрашены в белый цвет. Тимм не задерживался долго. Он поторопил: – Ну, нам надо постараться добраться до дороги…
Озеро, на котором ночью должна была приземлиться их машина, было покрыто толстым ледяным слоем. Он была достаточно крепок, чтобы выдержать самолет, и ветер за прошлую ночь сдул свежевыпавший снег с чистой ледяной поверхности.
– Хорошо…, – произнес Тимм, когда они прошли часть пути вдоль берега. – Они всегда находят правильные посадочные площадки.
– Если наступит оттепель, ей конец, – заметил Биндиг. – Тогда тут ни один самолет больше не сможет сесть.
– Тогда мы сделаем это как раньше, – объяснил Тимм, – пойдем пешком и сделаем себе шлюз.
Сделать шлюз означало пересечь фронт через позиции Красной армии. Они делали это в прошлом несколько раз. Стрелковые позиции Красной армии часто были устроены довольно далеко друг от друга. В большинстве случаев не существовало системы позиций, которая состояла из траншей. Солдаты лежали в ячейках – маленьких, глубоких ямах, которые были вырыты на больших расстояниях друг о друге.
Биндиг вспомнил, как они в последний раз пересекали таким способом фронт. Двое из них, после того, как группа смогла незаметно пробраться через тыловой район с его скоплениями машин и обозов и через огневые позиции артиллерии, полезли вперед. Они напали на солдат в двух соседних стрелковых ячейках и бесшумно убили их. Так возник проход, по которому группы смогла незаметно пробраться через линию фронта. Еще когда Биндиг размышлял над этим, он услышал, как Тимм сказал: – Радуйся, все же, оттепели! Тогда ты снова сможешь время от времени прикончить в этих дырах, по крайней мере, одного, и его запишут на твой счет!
Они продвинулись до дороги. Но движение на этой дороге было таким интенсивным, что к ней невозможно было подобраться с минами. Потому Тимм отвел Биндига снова немного назад, пока они не нашли узкую, сильно заметенную снегом лесную дорогу с редким движением, которая вела от главной дороги куда-то в тыл.
– Это правильно, – сказал Тимм довольно, – здесь мы со всем душевным спокойствием провернем одну штуку, а те на главной дороге об этом даже не услышат.
Справа и слева был плотный, у обочин поросший кустами ельник. Они шли, пока между ними и главной дорогой не лежало несколько километров, тогда они осмотрели местность в различных направлениях. Здесь никого не было. Все же, на некотором удалении внезапно послышался шум моторов, и вскоре после этого снабженные прорезью фары машины начали ощупывать дорогу. Это был грузовик, медленно двигающийся вперед по глубокой колее на заснеженной проезжей части. Он пропыхтел настолько близко от укрытия обоих, что они могли разглядеть водителя в кабине.
– Жаль, – проворчал Тимм, когда автомобиль исчез, – он как раз подошел бы для нас. Это была хорошая штука… Он подобрал короткую, прямую ветку, на которой закрепил мины. Он привязал их одну за другой и присоединил в конце ветки кусок той тонкой, твердой веревки, которой он во второй половине дня связал еловый хворост. Потом он вышел со своим грузом на проезжую часть и спрятал их на противоположной стороне дороги в свободном снегу. Когда он вернулся к Биндигу, у него в руке была веревка. Они углубились в лес, насколько хватало веревки. Тогда Тимм туго натянул веревку, сделал отметку на земле и сказал Биндигу: – Она лежит точно на две ширины ладони возле проезжей части. Когда появится следующая машина, мы подтянем веревку на две ширины ладони, и дело сделано.
– Если взрывчатка сдетонирует, – засомневался Биндиг.
Но Тимм тихо рассмеялся: – Она сдетонирует. Я во всех пяти минах поставил на боевой взвод взрыватели нажимного действия. Силы взрывчатки хватит для целого поезда.
Между тем стало совсем темно, но небо было безоблачно, и свет звезд придавал слабый блеск снегу. Как всегда, когда была ночь, дальние шумы были слышны более отчетливо. Шоссе с тихим урчанием двигателей автомобилей, казалось, приблизилось. Гул батареи, начавшей свой вечерний беспокоящий огонь, заставлял воздух тихо вздрагивать. Оба мужчины тихо лежали в своем укрытии и прислушивались. Только однажды Тимм сказал: – Надеюсь только, по крайней мере, приедет что-то, на что стоит потратить пять мин… Но тогда снова все замолчало, и время проходило. До тех пор пока внезапно не приблизился шум моторов. Сначала он был совсем тихим, и он мог исходить и издалека, с шоссе. Но потом он стал громче, и Тимм поднялся.
Он прошипел Биндигу: – Внимание! Начинается! Потом он взял веревку, и Биндиг затянул ремень, на котором висел пистолет, на запястье. Это был отдельный грузовик, который полз через снег. Трехосный автомобиль с тентом, тонкий луч фар которого плясал над землей. Биндиг напряженно прислушивался. Ему показалось, как будто откуда-то доносилась музыка гармони. Он прошептал это Тимму, и тот кивнул с ухмылкой. Он крепко держал веревку в руке и наблюдал через бреши в кроне деревьев, как машина медленно двигалась к тому месту, где лежала взрывчатка под тонким слоем пушистого снега, который Тимм посыпал на нее сверху.
Внезапно взметнувшееся остроконечное пламя взрыва осветило темноту на доли секунды, и воздушная волна смела снег с веток. Волна горячего, воняющего порохом воздуха прошипела над согнувшимися телами обоих мужчин. Еще несколько глухих, щелкающих звуков, затем стало тихо. Они несколько секунд напряженно прислушивались, не выдаст ли какой-то звук, что кто-то остался жив, но ничего не было слышно. Тогда они поднялись и пробрались к дороге.
– Оценить ситуацию и уходим! – прошептал хрипло Тимм. Он небрежно засунул руки в карманы, как будто хотел продемонстрировать свою уверенность в том, что после взрыва, который сделал он, никто не смог бы остаться в живых. Он насмешливо скривил рот, когда увидел, что Биндиг снял с предохранителя пистолет и держал в руке готовым к стрельбе. Внимание, думал он, ефрейтор Биндиг не шутит! Никто этого не переживет. Треск взрыва освободил его от неприятного напряжения последних часов. Он как будто очнулся от оцепенения, он чувствовал себя уверенным и непобедимым. Это был Тимм, человек, который взорвал этот грузовик! И не было категорического приказа на это. Да, им дали с собой мины, но никто не сказал бы им ничего, если бы они вернулись и объяснили, что им пришлось так долго искать склад, что им уже не хватило времени для каких-то других действий.
Тимм удовлетворенно глядел на Биндига, который крался перед ним, ловко как кошка, с неслышными, эластичными движениями, оружие в руке. Тимм гордился им. Я воспитал этого мальчика, думал он. Ни по кому другому, как по нему, нельзя так отчетливо увидеть, что можно сделать из человека, если понимать это. Он пришел в роту и был таким застенчивым и нерешительным, что практически не мог выдавить из себя ни слова. Но сегодня он мужчина. Кровь сделала его таким. Он не может успокоиться, пока не сможет убивать. Эти мальчики, думал Тимм, они – наш материал. Они – те, что мы сделали из них, и из них действительно не получилось ничего плохого.
Грузовик не был таким большим как тот, которому они позволили проехать сначала. Это был закрытый «студебекер», и взрыв настолько разрушил его, что его больше нельзя было использовать. Капот и мотор были оторваны почти до самой кабины. Машину подняло в воздух, потом она снова упала на задние колеса. При этом грузовую платформу с натянутым над нею тентом расплющило, а колеса вращались горизонтально на сломанных осях. Вокруг машины в снегу лежали куски жести и дерева.
Биндиг огляделся на дороге. Все было спокойно. Он согнувшись приблизился к машине и полез по разорванному металлу, пока не смог заглянуть в раздавленную кабину. Стекла разбились, и на их острых обломках видны были темные пятна. Это была кровь водителя и его сопровождавшего. Биндиг бросил взгляд через разбитые стекла и спрыгнул вниз. – Все, – сказал он Тимму, – здесь больше нечего делать.
– Для тебя это плохо, – ответил Тимм. Биндиг повернулся и пошел к другой стороне машины. Он подтянулся на откидном борту платформы и через разорванный брезент взглянул вовнутрь. Машина была пуста кроме нескольких маленьких предметов, валявшихся внутри вразброс. Все, должно быть, вывалилось сзади, потому что задний борт был оторван, а грузовая платформа лежала криво с наклоном назад
Когда Биндиг услышал тихий, стонущий звук, который вдруг послышался за уничтоженным грузовиком, Тимм, стоявший внизу, уже прыгнул туда и стоял перед комком, который лежал в нескольких метрах за машиной в глубоком снегу сбоку от дороги. Он бросил на него быстрый взгляд и потом спокойно снова спрятал пистолет, который он до этого вытащил.
– Биндиг!
Биндиг одним прыжком очутился рядом с ним, ствол его оружия смотрел на земле, где в рыхлом снегу что-то двигалось.
– Он готов, – сказал Тимм, – он только еще ждет тебя. Это идиот, который играл на гармони…
Комок на земле был человеком. Солдат, которого взрыв мины выбросил из машины. На его голове еще была меховая шапка, и одно мгновение Биндиг удивленно спрашивал себя, почему она не улетела при падении. Но тут он увидел, что фигура, лежавшая скорчившись в снегу, держала у груди аккордеон. Он казался целым, только с одной стороны была порвана петля, которая была накинута на руку игравшего. Солдат на земле двигался со стоном. Он пытался повернуть голову, чтобы увидеть обоих мужчин, которые стояли перед ним, и это удалось ему после больших усилий. Биндиг опустил пистолет. Он хотел наклониться и уложить раненого более удобно, он не знал в этот момент, что еще нужно было делать. Но тут солдат посмотрел на него двумя большими, темными глазами, издал замученный крик и задвигался сильнее. Казалось, что он хотел снять аккордеон, но это не удалось ему, так как, очевидно, он получил несколько переломов, когда упал с машины.
Тимм подошел близко к нему и ударил ботинком в бок. – Эй, Иван, тихо!
Солдат двигал руку с неслыханным усилием и на ощупь искал что-то на бедре. Он немного отодвинул аккордеон, но тот снова соскользнул, мешая ему.
– Да он же пистолет ищет! – прошипел Тимм. Это прозвучало насмешливо, удивленно и возбужденно. Биндиг видел, что солдат добрался до кобуры, которая висела у него на бедре. Он только очень медленно мог двигать руку. Очевидно, был какой-то перелом в плече. Он больше не кричал, но бормотал тихие слова, хрипло и почти шепотом.
– Прикончи его, – потребовал Тимм от Биндига, – иначе он доберется до пистолета и устроит тут много шума вокруг.
Солдат упорно пытался открыть кобуру. Это, наконец, удалось ему с большим трудом. Он немного приподнялся и, должно быть, испытывал при этом сильные боли, так как лицо его было искажено. Это было очень молодое, бледное лицо. Его можно было назвать красивым. Биндиг стоял неподвижно и смотрел на него. – Ну, давай! – услышал он, как торопит Тимм. – Всади в него одну и нам пора убегать. Приставь ему пистолет к голове, это не так громко.
Солдат раскрыл кожаную кобуру и вытащил плоский пистолет с длинным стволом. Он едва мог удержать его в руке, он упал у него в снег, но он снова его поднял.
– Как он мучится, перед тем как умрет! – сказал Тимм. – Теперь дай ему одну, нам уже пора…
Биндиг пристально смотрел на раненого, который с напряжением всех сил пытался поднять пистолет. Он снова и снова выскальзывал из его руки и падал в снег. Тимм спокойным стоял рядом. Он мог бы отбросить оружие солдата одним ударом ноги, но не делал этого. Он с ухмылкой наблюдал за усилиями человека и держал при этом обе руки в карманах, не делая никакого усилия, которое могло бы воспрепятствовать выстрелу солдата. Он ждал Биндига и хотел предоставить Биндигу сделать то, что тут нужно было сделать. Ему доставляло удовольствие наблюдать за этим, и он знал, что Биндиг выстрелит. Но это длилось слишком долго, и внезапно он сурово сказал: – Я все жду с нетерпением, дашь ли ты ему скоро одну или будешь ждать, пока он не подстрелит твоего унтер-офицера! Тут Биндиг увидел, как солдат сгибал палец. Он прижал пистолет к груди рядом с гармонью. Так ему легче было бы выстрелить. Он немного приподнялся, задыхаясь и со стоном. Из его рта бежала кровь тонкой темной нитью. Палец, который сгибался у металла, в один миг стал целым миром для Биндига. Он не видел ничего другого, только упорное движение, которое должно было вызвать его смерть, а может быть, также и смерть Тимма. Тут он согнул свой собственный палец быстрым движением.
– У тебя уже есть крепкие нервы, – констатировал Тимм по-деловому, – теперь я верю тебе, что тебе не нужен сахар. Он склонился над мертвецом и взял узкий пистолет из его ослабшей руки. Биндиг стоял за ним. Из дула его оружия шел легкий дымок.
Над стволом он видел спину Тимма, который склонился над мертвецом. Он чувствовал себя преданным, изнасилованным, ему было противно от себя самого, от Тимма и от незнакомого мертвеца в снегу у его ног. Он чувствовал себя, как будто бы какой-то мучитель сидел перед ним в снегу, который как ядовитое насекомое постоянно жалил его. Беззащитного. Он слышал, как Тимм свистнул сквозь зубы. Тихо и шипя. Он не смог бы позже сказать, направлял ли он пистолет в тот момент на землю или на спину Тимма, когда он внезапно услышал слова унтер-офицера: – Дружище, да это же баба.
Это поразило его как удар, и он опустил руку с пистолетом. Как будто ему разбили все кости. Он, шатаясь, сделал шаг вперед.
И тогда он увидел длинные волосы.
Тимм скинул меховую шапку одним движением рукой. Он теребил кнопки стеганой куртки. Биндиг не ждал, пока Тимм расстегнет форму женщины. Он отвернулся, но он все же сохранил эту невероятную картину перед своими глазами, как унтер-офицер сидел над застреленной женщиной и расстегивал ей пуговицы на груди, жесткими, проворными пальцами. Он слышал, как материал рвется, в то время как он брел к краю дороги, и тогда он слышал, как Тимм восхищенно щелкал языком. Он спрятал пистолет. Он был слаб, разбит. Как будто бы усталость всех ночей его жизни сразу появилась в его артериях. Как будто в нем больше не было жизни и энергии. Глаза, в которые он смотрел, прежде чем выстрелил, кажется, принадлежали не женщине, которая лежала за ним в снегу, а Анне. Он прислонился к дереву у обочины и тяжело дышал. В каждую минуту на дороге могла появиться другая машина. Тогда было бы слишком поздно, и они больше не смогли бы уйти отсюда.
– Ну, пошли уже! – тихо окликнул он.
Ему ответило бурчание. Тогда появились шаги Тимма и его хриплый голос, который с похвалой произнес: – Мой дорогой друг, она бы мне больше понравилась живой. Хорошо развитая…
Они ныряли между деревьями. Когда они на первый шаг отдалились от дороги, тело убитой женщины упало за ними ничком. Гармонь издала тихий, жалостливый звук. Биндигу показалось, как будто женщина кричала вдогонку им свое проклятие.
Он ничего не говорил. Он безмолвно тянул связку веток за собой, пока они не добрались до места прибытия самолета на озере. Они встретили там остальных солдат их группы. От обеих других групп не было и следа. Они уселись на корточки под заснеженными кустами и ждали. Тимм поставил магниевые факелы. После полночи прибыли еще двое солдат из группы, которая напала на пост централизации. Они стояли на подстраховке, наблюдая не идет ли кто, и остались потому невредимы.
– Была ужасная стрельба…, – рассказал один из них. – Но это было бы чистое самоубийство, если бы мы тоже прибежали туда. Никто больше не вернулся… Они ждали, и с каждой минутой чувство неуверенности становилось все сильнее.
Это как всегда. Нервы были напряжены до предела. Тимм сидел молча под кустом и курил сигарету в ладони. Из группы, которая должна была захватить пленного, не вернулся никто, пока шум мотора не возник в воздухе. Тимм приказал зажечь посадочные огни. Он не сказал ни слова, когда они влезали в машину. Это был вместительный, одномоторный старый «Юнкерс», на котором они часто летали. Пилот стартовал еще до того, как они полностью закрыли дверь.
– Ты мне не нравишься, – прошептал Цадо Биндигу, – что случилось? Поссорился с Тиммом?
– Нет.
– Что вы натворили с минами?
– Грузовик! – ответил Биндиг устало.
– Убитые?
– Гармонь, – произнес Биндиг тихо. Он пристально смотрел на пол пассажирского отсека.
– Гармонь? – Цадо приблизился очень плотно к нему и толкнул его локтем в бок. – Что с тобой, парень? Что с этой гармонью? Ты пьяный, что ли?
– Гармонь…, – сказал Биндиг медленно и очень тихо, – у нас одна убитая гармонь. Было темно, но мне кажется, у нее были черные глаза…
– Ты сумасшедший! – сказал Цадо, покачивая головой. Он снял каску и вытер пот на затылке. – Ты, наверное, на бегу ударился головой о дерево. И, похоже, это был дуб… великогерманский дуб…
– Дай мне шнапса, – попросил Биндиг.
Они прибыли в Хазельгартен после восхода солнца. Грузовик с кучкой усталых мужчин, руки которых дрожали, и лица которых были бледными и заспанными были.
Паничек споткнулся и упал далеко в снег, когда спрыгнул с машины. Он оставался лежать несколько секунд и потом поднялся с трудом. Снег таял на его лбу и на его шее, и вода бежала у него за воротник. Он как пьяный поплелся на квартиру, ни разу не оглянувшись.
– Он тоже готов, – сказал Цадо Тимму.
Но Тимм не поддержал беседу. Он только сказал: – Поторопитесь и выспитесь. Потом он пошел навстречу Альфу, который спускался по деревенской улице.
Биндиг бросил пистолет-пулемет на соломенный тюфяк. Он снял каску, бросил и ее и стянул с себя жесткий комбинезон. Он бросил все и оставил у себя только пистолет. Тогда он хотел покинуть квартиру.
– Ты уходишь? – спросил Цадо, который лежал на соломенном тюфяке, скрестив руки под головой.
– Да.
– Возьми для нее, – сказал Цадо, и, вытащив из нагрудных карманов своего комбинезона несколько шоколадок, протянул их Биндигу.
– Спасибо, у меня тоже еще есть.
Цадо приподнялся немного и зарычал сердито: – Возьми их, черт бы тебя побрал! Я знаю, что женщины любят шоколад!
Биндиг неохотно засунул себе в карманы шоколад. Он только хотел уйти прочь отсюда. У него не было никаких других мыслей. Он слышал, как Цадо произнес: – Я сообщу тебе, когда ты здесь будешь нужен… Затем он захлопнул за собой дверь и пошел вниз по улице.
Он хотел войти во двор Анны через ворота, но ворота были заперты. Он вспомнил, что за домом, там, где находился огород, был проволочный забор, который легко можно было перелезть.
Я сделаю ей сюрприз, думал он. Она не поверит, что я уже вернулся. Я не буду ее пугать, я просто хочу увидеть ее лицо, когда я так неожиданно окажусь перед нею.
Был холодный, солнечный день. Снег был еще свежим и сильно сверкал, и глаза болели, если долго смотрели на блестящую, белую поверхность. На фронте не было никакого движения. Артиллерия молчала, и выстрелы винтовок, которыми обменивались, тут уже были не слышны. Это была полная надежды тишина утра, в которой еще ничего не движется, хотя солнце стоит уже высоко.
Тут Биндиг услышал шум входной двери. На его лице появилась улыбка, когда он спрятался у стены дома и смотрел на двор. Шаги были как раз там. Он видел, как Анна шла по двору. Она дошла до ворот и там повернулась. В руке у нее был мешок картофеля. В то самое мгновение, когда он понял, что она собирается выйти со двора, он услышал ее голос. Она звала не громко, но так, что Биндиг мог понять ее слова без труда: – Если у тебя есть желание, ты мог бы немного убрать снег от дома. Но смотри, чтобы огонь в кухне не погас.
Биндиг улыбнулся ее манере говорить с глухонемым, который все равно не мог бы ее понять. Он хотел подняться и побежать за ней наперерез через засыпанный снегом двор, но голос, который внезапно ответил на слова Анны, заставил его остановиться на месте. Это был приятный низкий голос, принадлежавший мужчине, которого он не видел, и голос ответил: – Уходи только, я все сделаю! И возвращайся поскорей!
Он никогда не слышал этот голос. Он была чужим, и слова звучали особенно жестко. Он видел, как Анна хлопотала у ворот двора. Наверное, засов заклинило, так как из дома через двор тут же поспешил Якоб, глухонемой слабоумный. Он шел прямо, не с той слабой, медлительной манерой, которая была привычна Биндигу. Он энергично оттащил засов назад и открыл ворота. В то время как Анна проходила мимо него, он сказал громко и дружелюбно: – До свидания. Тогда он закрыл ворота и, хрустя по снегу, вернулся назад во двор, пока не исчез из поля зрения Биндига.
Снова стало тихо. Биндиг медленно опустил голову. Он чувствовал себя не в состоянии, чтобы пойти в дом и выяснить, что за тайна была между Анной и батраком. В его голове только колотилась мысль, что Анна что-то от него скрывала. Этот мужчина, который назывался Якобом, не был ни глухонемым, ни слабоумным. Он был как все другие мужчины. Как он сам.
Прошла одна минута и еще одна. Биндиг медлил. Он чувствовал, что возбуждение прошлой ночи еще не утихло, и к этому добавлялось еще его замешательство из-за того, что он только что видел. Он лежал у стены дома, пока внезапно не чувствовал холод через свою форму. И этот холод как бы сразу снова придал ему прежнюю силу и концентрацию. Он поднялся и пошел на двор. Теперь у него был тот самый упругий шаг как ночью, когда Тимм наблюдал за ним, пока он подкрадывался к дороге. На углу дома он остановился еще раз. С ловким движением он вытянул из кармана пистолет, перезарядил его, снял с предохранителя и снова опустил в карман брюк. Биндиг обходом вошел во двор. Он был пуст. Несколькими быстрыми шагами Биндиг пересек его и вошел в дом. Он услышал на верхнем этаже шум и крикнул вверх: – Привет! Якоб!
Никакого ответа не было. Биндиг не ждал дольше. Он поднялся по лестнице. Дверь в каморку батрака была открыта. Биндиг мог слышать, как мужчина хлопочет в камере. Он не медля распахнул дверь и остановился в дверном проеме. – Привет мой дорогой, – сказал он не очень громко.
Мужчина посмотрел ему в лицо. Он был тем, которого знал Биндиг, слабым человеком с несколько опущенной нижней челюстью и добродушной ухмылкой в светлых глазах.
Но в этих глазах все же было что-то, чего остерегался Биндиг. Он небрежно опустил руку в карман брюк, а потом сказал: – Ты проследил, чтобы огонь не погас, Якоб?
Мужчина с ухмылкой двинул головой. В каморке стояла кровать. Было видно, что ею пользовались. Еще там стояли шкаф, старомодный, немного косой предмет меблировки, маленький стол, стул и ночной столик.
– Еще ты должен немного убрать снег, – сказал Биндиг. Он видел, как мужчина снова только беспомощно ухмыляется, и тогда внезапно в нем поднялась ярость. Он прикрикнул на него хрипло: – Не строй мне тут из себя идиота! Я знаю, что ты можешь говорить и что ты не сумасшедший!
Он видел, как батрак медленно опускал руки и как на его лице появлялось серьезное, замкнутое выражение. Это больше не был слабоумный Якоб. Это больше не был ухмыляющийся глухонемой. Это был мужчина, которого нужно было принимать всерьез.
– Что с тобой? – спросил Биндиг. – Почему ты притворяешься сумасшедшим? Кто ты такой? Ее муж? Ее брат? Дезертир? Или что-то другое?
Он ждал, но мужчина не отвечал. Он не сводил с него глаз, но тот не открывал рот.
– Говори, что происходит! – нетерпеливо настаивал Биндиг. – Говори, что все это должно значить. Большего я не хочу знать. Но я не уйду отсюда, пока не узнаю это
* * *
Он лишь на долю секунды слишком поздно заметил, как батрак засунул руку под подушку. Он не ожидал, что там спрятано оружие. Он вообще не считался с тем, что глухонемой Якоб мог грозить ему каким-то оружием. Но перед лицом этой опасности он внезапно снова стал Томасом Биндигом, которого воспитал Тимм. Батрак стал для него соломенной куклой, на которую он должен был прыгнуть, как он делал это уже сотни раз, из всех положений и с любой стороны. Он не вытаскивал пистолет из кармана, когда прыгал. Он ударил батрака в грудь и всадил ему согнутое колено в живот. Ему казалось, будто при этом он слышал голос Тимма, наблюдавшего за его действиями. Тимм кричал: – Колено выше! Стопу дальше назад, это стоит половины силы! Левую руку горизонтально!
Он не держал левую руку горизонтально, потому что он не хотел убить батрака ударом в шею. Он держал ее должен вертикально, так что ладонь ударила о шею плашмя. Это был легкий, упругий удар, который ему пришлось разучить тысячу раз, до тех пор пока пот не полился у него из всех пор тела, пока он при прыжке не увидел черные круги перед глазами, и не содрал ребро ладони на крови от ударов по деревянной шее куклы. Они постарались воспитать его, и именно Тимм воспитал его. Критически обращающий внимание на каждое движение Клаус Тимм, который сидел на краю мата, не подавая вида, доволен ли он достижениями рядового Биндига или нет.
Рукой, которая плоскостью ладони попала батраку в шею, вел Тимм. Это был удар, который даже этого унтер-офицера заставил бы одобрительно щелкнуть языком. Батрак издал булькающий звук. Голова его откинулась назад и ударилась об оконный переплет. Стекло разлетелось вдребезги. Пистолет, который лежал под подушкой, был у него уже в руке, но он еще не успел надежно ухватить его, и Биндиг с такой силой ударил его по локтевому суставу, что пальцы батрака ослабели, и оружие выпало из его руки. Он согнулся от боли, причиненной ему коленом Биндига, и пытался глотнуть воздух. Биндиг поймал пистолет.Он держал его в левой руке, правой вытащил свое собственное оружие, а потом отступил к двери. При этом он сказал: – В этом ты сам виноват. Ну, в чем дело? Что ты здесь делаешь?
В этот момент он бросил первый взгляд на пистолет, который держал в левой руке, и увидел русские буквы на стволе и штампованную советскую звезду с серпом и молотом. Если бы батраку в тот момент хватило бы силы броситься на него, он мог бы захватить его врасплох без труда. У него был бы перед собой смущенный, запутавшийся, неподготовленный противник, так как Биндиг озадаченно уставился на знаки над «й», плоский ствол пистолета, и прошло много времени, пока он не опустил его и не обрел вновь свою способность к реакции. Впрочем, батрак все равно не мог бы воспользоваться этими секундами. Он, согнувшись, прислонился к окну и закрыл глаза.
– Что это? – хрипло спросил Биндиг. – Русский? Как ты сюда попал?
Он не получил ответа, и это еще больше разожгло его ярость. Он закричал так громко, что даже сам испугался собственного голоса: – Открой свою пасть, или я тебя пристрелю так, что тебя даже твоя Анна больше не узнает!
Тогда мужчина произнес первое слово. Он открыл глаза. В них видна была боль, но они смотрели на Биндига холодно и без страха. Это были те самые глаза, как и у женщины в уничтоженном грузовике той ночью. Они только были светлыми. Но в них было столько же ненависти, как и в тех.
– Это не моя Анна, – сказал мужчина, – она не имеет ко мне никакого отношения.
– Никакого, если не считать того, что ты пристроился у нее, – сказал Биндиг. Ему было тяжело это говорить, и потому он поднял свой голос и закричал: – Кто ты? Сбежавший остарбайтер? Русский? Кто?
Мужчина поднялся немного. Биндиг слегка пошевелил пистолетом.
– Ну, давай, – настаивал он, – я не буду больше ждать. Тебе не стоит думать, как ты сможешь застать меня врасплох. Кто прошел школу ближнего боя Клауса Тимма, то умеет защищаться. Что с тобой? У теюя чертовски жесткое произношение. Ты русский, правильно? Через некоторое время человек у окна сказал: – Я горжусь этим.
– Мне это все равно! – быстро отреагировал Биндиг. – Но что ты здесь делаешь? Ты сбежал? Откуда?
Мужчина слегка двинул головой. При этом он произнес: – Все, что вы сейчас сказали, не соответствует действительности. Я не должен держать ответ перед вами, но я расскажу вам, так как это касается Анны. Или потому что это коснется ее. Я участвовал в наступлении на эту деревню. Меня ранили здесь на этом хуторе. Анна перевязала меня и затащила в дом. Когда я пришел в себя, наши войска отступили, а ваша рота вошла в деревню. Это все.
Он говорил это на безупречном, немного жестком немецком языке. Они несколько секунд молча смотрели друг на друга. Тогда русский спросил: – Вы любите Анну?
– Это вас не касается.
– Не касается, – – согласился русский, но я чувствую себя обязанным объяснить вам, что меня с Анной не связывает ничего, кроме того обстоятельства, что она приняла меня у себя и заботилась обо мне, и что она позже посчитала правильным прятать меня.
– Вы офицер? – спросил быстро Биндиг. Он должен был спросить что-нибудь, русский сбил его с толку. – Это вас не касается, – был ответ. – Меня не касается, – сказал Биндиг, – но есть люди, которым вам придется сказать, кто вы.
Русский попытался улыбнуться. Это не удалось ему, так как он с трудом держался прямо. Боль мучила его. – Я вас вполне понимаю, – спокойно сказал он. – Я предвидел это еще тогда, когда вы впервые вошли в этот дом. Застрелите меня, или приведите к вашему командиру. Результат будет одинаковым. Поступайте так, как от вас требуют ваши уставы!
Довольно долго оба молчали. Биндиг чувствовал, что этот мужчина больше не был опасностью. Но там была другая мысль, которая исходила из его слов и неожиданно поставила Биндига перед решением, принять которое он не мог. Он прислонился к филенке двери и боязливо старался скрыть свою неуверенность. Он сразу понял, что оказался на распутье, и был неспособен решиться. Он смотрел на русского, и это был полный ненависти взгляд. Его голос звучал ломко, когда он по прошествии долгого времени тихо сказал: – Сядьте на кровать. Я ничего вам не сделаю.
Русский улыбался, когда произнес: – Я не причиню вам хлопот, если вы приведете меня к вашему командиру.
Тут Биндиг опустил пистолет и сказал таким тоном, который сразу убрал пренебрежительную улыбку с лица русского: – Вы достаточно умны, чтобы знать, что я не сделаю этого.
– Я не понимаю…, – сказал русский.
– Нет, нет, вы все очень хорошо понимаете, – настаивал Биндиг. – Вы разумный человек. И вы знаете, что я не могу привести вас к моему командиру, так как этот командир знает вас как глухонемого идиота Якоба, который живет у Анны. Что произошло бы с русской женщиной, которая прячет немецкого офицера в тылу Красной армии?
– Я не знаю о таких случаях, – тихо сказал русский, – но я понимаю. Ваш командир поставит к стенке нас обоих, Анну и меня, если вы сообщите ему о вашем открытии. Я полностью понимаю.
Биндиг чувствовал насмешку в словах. Но у него не было энергии. Он ждал, чтобы что-нибудь происзошло. Но ничего не произошло. Русский рассматривал его спокойно и при этом не делал никаких движений.
В голове Биндига начало греметь. Это не было болью. Это была гудящая пустота, которая опустошала его изнутри. Ему пришлось приложить усилия, чтобы не выронить пистолет. Русский расплывался перед его глазами, вся комната начала вращаться по кругу. Биндиг держался за косяк двери и дышал коротко и быстро. Он хотел что-то сказать, но не мог произнести ничего связного. Только несколько слов. – Если вы… солдат… и Анна… это… так…
Тогда внизу в доме послышался стук в дверь и голос, который заставил его собраться с силами еще раз. Голос принадлежал Анне. Она кричала: – Эй, ты, я нашла немного картошки! Иди сюда, помоги мне донести ее!
Биндиг, шатаясь, вышел из комнаты.
Когда он стоял на лестнице, женщина издала тихий крик. Она поняла, что произошло, только когда он протянул ей оба пистолета. Но он больше был не в состоянии что-то сказать. Она подхватила его, пока русский медленно на ощупь спускался по лестнице, прижав руку к животу. Женщина посмотрела на него с широко раскрытыми глазами и с дрожью спросила: – Он.. что.. ты… Боже мой!,
Русский помог ей донести Биндига до кровати. Он помог ей раздеть его и вытереть холодный пот с его кожи. Движения тяжело давались ему, но он помогал до тех пор, пока Биндиг лежал под периной, и Анна откуда-то принесла влажное полотенце, положила его Биндигу на лоб.
– Боже мой, – бормотала она при этом, – Иисус, Боже мой… Но русский только тихо произнес: – Это пройдет. Это жар… он перенесет это…
Анна: одна с биением моего сердца
Всякий раз, когда была весна, девушка сидела вечером у ив на реке и тихо пела. Она была молода, но она уже больше не была ребенком, и подростки смотрели ей вслед, когда она шла по деревенской улице.
Ей было шестнадцать, когда она в последний раз сидела у ив. На ней была пестрая, сотканный лентами юбка, длиной почти до коленей, и волосы ее, сплетённые в две тяжелые косы, шелковисто-черные, спадали на белую блузку. Она сидела у ив, когда солнце садилось, и напевала, и подростки шептали друг другу, что это у нее с головой.
Это было весной, а летом она как няня отправилась работать к зубному врачу в Гумбиннен. Мужчина внушал ей доверие, а дети доставляли немного хлопот, хотя у них больше не было матери.
На полках зубного врача были книги, и он разрешал ей читать их. И она училась шить современную одежду и жарить бананы и гладить накрахмаленные манжеты без складок и пользоваться пылесосом. Она узнала, что были люди, которые просили покрывать их зубы золотом, чтобы выставлять напоказ свое богатство, и другие, которые приходили со скомканным листком больничной кассы.
И она знала, что те, кто с золотом, говорили: – Я хочу, чтобы вы лечили меня так, чтобы я абсолютно ничего не почувствовал.
В то время как другие мяли шапку в руке и бормотали тоскливо: – У вас было так много работы из-за меня, господин доктор. Если бы я мог бы вам однажды чем-то помочь… Я слесарь, но я знаю толк и в работе в саду, и теперь, когда наступает осень…
Она восхищалась им, потому что он больше не женился, и потому что он в некоторые праздничные дни отдавал свой доход за целый месяц, чтобы подарить костюмы и обувь нескольким детям, родители которых ничего не зарабатывали.
Целый год она запирала по вечерам дверь в своей комнате, когда шла спать, потому что она была девушкой, а он был мужчиной. Но когда прошел год, она поняла, что доктор не был таким, как адвокат на соседней вилле, который затаскивал свою горничную к себе в постель, когда его жена была на ревматологическом курорте в Тюрингском Лесу. Тогда Анна больше не запирала дверь, и ничего не изменилось.
Годом позже она похоронила своего отца. Мать продолжала вести хозяйство еще некоторое время, но несколько месяцев спустя и она лежала на кладбище рядом с ее мужем, и Анна продала землю и дом за смешные деньги. Она вела по-прежнему домашнее хозяйство зубного врача, так как кроме тети в деревне больше не было никого, у которой она могла бы остаться.
Время от времени она приезжала в деревню в гости, и тогда она оставалась у тети, которая была старой, наивной женщиной. И именно тетя навязывала ей мужчину, за которого она, в конце концов, вышла замуж. Но это случилось уже гораздо позже.
– Анна, – однажды вечером сказал ей зубной врач, – мне жаль, но я думаю, нам скоро придется расстаться.
Он исчез и был еще в пальто и шляпе. Он взял Анну за руку и подвел ее к входной двери. Там кто-то написал на дереве ярко-белой краской «Вон, еврейская свинья!».
– Я ничего не понимаю…, – смущенно сказала Анна. Зубной врач снова завел ее назад в дом и сказал:
– Если бы я сам это понимал! Я ничего не сделал этим людям, и мои родители, и мои бабушки и дедушки тоже. Я приводил в порядок людям их челюсти, как это делают и другие. Во всяком случае, не хуже. Но меня зовут Давид, и они предусмотрели в своей программе искоренить нас. Лучше было бы не дожидаться этого.
Анна не хотела возвращаться в деревню. Она решала выждать, что произойдет. Но то, что произошло, основательно превосходило все ее представления.
Она стояла в кухне и чистила чайник, когда первый камень влетел через окно. Он оставил две дыры величиной с кулак в окнах с двойными рамами и с грохотом плюхнулся на кухонный буфет. Потом еще один, и еще один, а третий ранил Анну в лоб, так что она только наполовину в сознании видела то, что произошло дальше.
Перед домом бушевали люди в форме и в гражданской одежде. Это были школьники, маленькие, сопливые мальчишки и девчонки, которые ловко бросали камни и радовались, потому что впервые в жизни им разрешили бросать камни в окна. Они делали это со смесью детской радости и возрастающей жажды разрушения. Взрослые выкрикивали ругательства, они постепенно возбуждались, и, наконец, ворвались в сад, подбадривая один другого.
У зубного врача Давида было бледное, испуганное лицо, и оба ребенка с плачем спрятались в задней комнате. Он хотел побудить Анну покинуть дом с чёрного хода, но было уже слишком поздно,
так как в саду кишело бушующими людьми. Они были старыми и молодыми Они выбили дверь и срывали картины со стен. Они бросали цветочные вазы в створки застекленных шкафов и ломали мебель в приемной. Среди искусственных челюстей, которые они с воплями бросали в стекла, была также и челюсть, которую Давид выполнил только несколько дней назад сделал для соседа-адвоката. Но он и без того, кажется, не хотел забирать ее, потому что он стоял, вооруженный вырванной из забора планкой, недалеко от входной двери и шумел в хоре других: – Бей жидовскую свинью! Бей его!
Сначала его били некоторые из тех людей в форме. На них были светло-коричневые рубашки и заправленные в сапоги брюки того же цвета, а на голове у них были высокие шапки, которые отдаленно напоминали скворечники. Они били Давида по лицу, который напрасно пытался защищаться и который постоянно заверял, что не сделал ничего неправильного. У него немного кровоточила губа, но тут один из тех в форме закричал: – СА – сюда! И те отстегнули у себя портупеи и принялись бить его кожаными ремнями. Они разбивали все, что мешало им. Мебель и фарфоровые статуэтки, ампулы с болеутоляющими средствами и восковые слепки чужих челюстей. Они разбивали шкафы и столы и избивали самого Давида так долго своими кожаными ремнями, пока он не лежал на полу совершенно неподвижный. Они вырывали клочьями волосы у детей, а у девочки, которая заканчивала свой последний учебный год, сорвали одежду с тела. Они гнали ее нагишом в сад, а оттуда на улицу, пока не вмешался полицейский. Он влепил несколько сильных пощечин девочке и с силой запихнул ее в грузовик, который уже стоял наготове, и в котором девочка нашла дюжину других еврейских граждан, которые помогли ей прикрыть ее наготу.
Сначала никто из беснующихся не обращал внимание на Анну. Но тогда внезапно закричал адвокат, который вошел между тем в дом: – Вон там… там она стоит и хнычет, жидовская шлюха!
Он бросил в нее кастрюлю, которая с грохотом стукнула о стену, и Анна, которой страх неожиданно придал мужество, прикрикнула на него: – Замолчите! Вы лжец!
Но люди вокруг нее пока только горланили. Сначала им и в голову не пришло, что эта черноволосая, красивая девушка принадлежала к этому дому. Но теперь их бешенство обратилось против Анны, и те, со скворечниками на головах, снова принялись махать своими ремнями. Когда ей, наконец, удалось вырваться из дома и через сад попасть на более тихую улицу, все ее тело кровоточило. Она придерживала ее платье на груди, а ее волосы развевались распущенные, окровавленные, за нею, когда она убегала как затравленная. За ней гнались, и толпа хором орала: – Еврейская свинья! Жидовская шлюха!, так что люди, мимо которых она бежала, обращали на нее внимание и бросали камни ей вслед.
Казалось, что какое-то опьянение охватило людей и сделало их неистовыми. Крики звучали по всему городу, и стекла звенели. Когда Анна оставила далеко за спиной последние дома, и больше никто не преследовал ее, она опустилась на землю и плакала, пока у нее не осталось больше никаких слез. Окровавленная и избитая, какой она была, она ползла дальше. Где-то, в стороне от дороги, она время от времени умывалась в ручье. Она брела день и ночь, без пищи и сна. Она обходила деревни и выщипывала кислый клевер, когда голод ворочался у нее в кишках. Клевер успокаивал самый большой голод, но он не мог прогнать страх Анны.
Ночью она прокралась в свою родную деревню, с впалыми щеками и израненная по всему телу. С душой, похожей на смертельно раненого животного. Тетя приняла ее. И через несколько месяцев она сосватала девушку за мужчину, которого они в деревне называли с некоторого времени только «крестьянином с наследственным крестьянским двором». Тогда тетя слегла в постель и умерла еще до свадьбы от кровоизлияния в мозг.
Мужчина был высоким и белокурым, и ему принадлежал большой двор в Хазельгартене, немного в стороне от деревни. Пока он сватался к Анне, он всегда был трезв и добр. Он слушал, что Анна рассказывала ему о Гумбиннене, и ничего об этом не говорил. Она знала его лишь поверхностно, но тетя внушила ей, что она должна только радоваться, если она получит его после всего того, что произошло с ней в Гумбиннене.
Он взял ее деньги, который она сохранила от продажи родительского двора, и прикупил еще участок земли к своему двору. Когда он женился на ней, полдеревни праздновали, и Анна впервые плакала тайком в ее комнате, так как за гостевым столом во дворе сидели те, которые носили такую же форму, как боевики тогда в Гумбиннене.
Когда гости, пошатываясь, разошлись по домам, мужчина был уже пьян. Но он пил дальше со своими работниками, и они горланили песни, которые Анна никогда не услышала. Она прокралась в спальню, но не нашла сна, так как шум проникал до нее. И когда шум закончился, он пришел.
Он взял ее без нежности, грубо и пьяно. Он дышал ей в лицо парами от шнапса и доставлял ее боль. Но она сдерживала боль и разочарование, и когда все прошло, она стащила с него брюки и сапоги.
Это было летом, а следующей весной у нее был выкидыш. Он отправил ее в Гумбиннен, и врачи объясняли ей, когда ее выписывали из клиники, что у нее больше не могло быть детей.
– Это у меня от тебя, жидовской шлюхи, – приветствовал он ее, когда она приехала домой. Она была еще слаба и только с трудом держалась на ногах. Но он отправил ее в хлев к коровам, и она работала как батрачка.
– Теперь у меня есть наследственный крестьянский двор, но нет никакого наследника, – буянил он вечером, – но я действительно этого заслужил. Раз уж я взял такую, которую испортил этот жид-зубник!
Он пил днем и ночью. Несколько ночей он еще терпел ее рядом с собой, но потом он однажды вечером выгнал ее на кухню и принял старшую батрачку.
Анна пыталась говорить с ним. Он не слушал ее. Она кричала, и он бил ее. Она ругала батрачку, но тут он становился еще яростнее. Когда она угрожала ему, что разведется с ним, он смеялся над нею: – Попробуй только. Я тогда сообщу всем о твоих свинствах с этим жидом! Они посадят тебя к нему в лагерь!
Теперь она иногда снова сидела на своем старом месте у ив на реке. Но она больше не пела. И люди из деревни тихо вздыхали, когда издалека видели ее сидящей там.
Когда они призвали его в армию, ее старая сила снова проснулась. Сначала она уволила батрачку, а потом одного работника за другим. Она оставила только двух батраков, и с ними делала всю работу. Хозяйство снова начало приносить какой-то доход. Она разводила больше скота, чем раньше. Люди в деревне кивали головами.
Он узнал, что она уволила батрачку, и там он писал ей, что он однажды вернется домой. А ей пока следует сложить свои чемоданы, и если ее еврей еще остался жив, то он позаботится о том, чтобы ее заперли вместе с ним. Это было за месяц до того, как пришло письмо из его роты, что он погиб, героически исполняя свой долг. А еще через месяц приехал в отпуск муж ее соседки и рассказал о грузовике с вином.
Ночь, перед тем как Красная армия захватила деревню, была одной из самых беспокойных ночей, которая деревня когда-либо пережила. Никто не остался на своем земельном участке. На битком набитых телегах крестьяне покидали свои дворы. Давно исчезли и оба работника Анны, когда их местный деревенский партийный начальник второпях появился у Анны и посоветовал ей побыстрее собираться.
– Русские как черти! Они ворвутся сюда как всемирный потоп!
Анна ничего не говорила. Она не знала русских, но у партийного бюрократа была та же самая форма, что и у тех в Гумбиннене.
– Они камня на камне не оставят!
Анна смотрела на землю и вспоминала о том, что этот мужчина пил с другими тогда, когда они праздновали свадьбу.
– А потом женщины… , – шептал мужчина. Он приблизился доверительно к ней и положил ей руку на плечо. У него было морщинистое, коричневатое лицо, и его зубы были черны от табака. Когда он открывал рот, оттуда воняло. Он рассматривал Анну глазами, которые говорили больше, чем вонючий рот. – Будет очень жаль вас.., – шептал он. – Вы смелая женщина. Я уже давно восхищаюсь вами, как вы содержали свой двор в порядке. Но неужели вам никогда не был одиноко, вот так, совсем без мужчины?
Он прищурил глаз, и она увидела, что его артерии в голове напухли.
– Я уже устроил себе жилье в деревню далеко на западе, – шептал он. – Вы спокойно можете…
Она медленно убрала его руку со своего плеча. Она чувствовала, что эта рука была влажной от пота.
– Хорошо было бы, если бы вы сейчас ушли, – спокойно сказала она, – у меня еще очень много дел.
– Да, но не хотите ли вы все же…
– Я не знаю. Я подумаю, – ответила она ему.
Когда войска, которые защищали деревню, отступили, уши Анны наполовину оглохли от стрельбы. Она дрожала, потому что не смогла пересидеть в подвале, и теперь она слышала лязг танковых гусениц, и через сад видела, как исчезали последние солдаты вдали складками земли. Только на улице еще стреляли. Несколько солдат не смогли отойти и отстреливались последними патронами. Русские были уже в деревне, и они кричали слова приказов своими грубыми, гортанными голосами. Анна воспринимала все это так, как будто смотрела фильм. Она стояла, закутанная в свой платок, прислонившись к дому, и не знала, что теперь должно было произойти.
На улице быстро взорвались друг за другом несколько ручных гранат. Хриплый голос громко кричал по-русски: – Давай! Давай! Она впервые слышала это слово, и не знала, что оно значит. Но из-за него у нее мурашки пробежали по спине, когда она услышала его за дощатым забором, ограждавшим ее двор от дороги. Потом пули затрещали по дереву, и Анна пригнулась. Она засунула себе в рот кончик платка, чтобы не кричать. Снаружи шел бой, она это понимала. Это значило, что в деревне все еще оставались солдаты, раз они стреляли по русским.
Когда первая граната взорвалась во дворе, женщина бросилась вниз, прижавшись всем телом к кафельной плитке прихожей. Она слышала грохот от ворот и заметила падение тоже, но она видела солдата только на некоторое время, когда подняла голову. Он лежал во дворе, и из плеча у него текла кровь. Он едва двигался, и его каска при этом кровоточил из плеча. Он передвигался только очень слабо, и при этом каска его скреблась по земле. Пистолет-пулемет выпал у него их рук, когда он перелезал через забор. Пистолет-пулемет упал во дворе, и приклад сломался.
Внезапно шум стал слабее. Стрельба переместилась дальше вглубь деревни. Пару раз мимо промчались танки, потом вокруг хутора наступила тишина. Тогда Анна вскочила и через двор побежала к русскому, который смотрел на нее с ожесточенным лицом и пытался встать.
Она отскочила, когда он прикрикнул на нее по-немецки: – Прочь! Но она также видела, что лицо его было бледным, и он потерял много крови. Она заметила, что его силы ослабевали и блеск в его глазах становился слабее.
– Так вы говорите по-немецки? – спросила она растерянно.
– Прочь!
– Вы ранены…
– Не трогайте меня, – предостерег ее мужчина угрожающе, – у меня еще хватит сил, чтобы убить десятерых таких фашистов как вы!
Потом он снова упал. Он потерял сознание. Как она затащила его в дом, она сама потом точно не могла вспомнить. Его кровь запачкала ее платье. Но у нее была только одна мысль, что он не должен умереть. Она делала это, не раздумывая, и она поступила бы точно так же, если бы этот раненый был не русским, а немцем.
Она вытащила его и перевязала ему рану на плече. Это была большая, глубокая дыра; пуля, видимо, попала в него как раз в тот момент, когда он перелезал через деревянный забор. Ей удалось остановить кровь и на короткое время привести солдата обратно в сознание. Но он потерял слишком много крови, и с губ его срывался только неразборчивый лепет.
Когда патруль позже обыскивал дома, он пришел и к Анне, она привела солдат к раненому. Они недоверчиво поставили Анну лицом к стене и обыскали дом. Один побежал в деревню и привел офицера, который понимал несколько слов по-немецки. Он допрашивал Анну и снова и снова спрашивал ее десятки раз одно и то же. Как она решилась перевязать его и разместить в доме. Почему она не убежала. Кем был ее муж.
Офицер был евреем, и он сам сказал ей об этом. Он внимательно следил за ее лицом.
– Я работала однажды у одного еврея, – тихо сказала Анна. Она все еще стояла у стены, но теперь лицом к комнате, и она видела офицера. В то же время она видела, как другой лежит на кровати и беспокойно дышит, с закрытыми глазами.
– До тех пор пока они не разбили ему все и не забрали его, я работала у него, – сказала она, – вплоть до последней минуты я была с ним. Он был единственным человеком, кто был добр ко мне.
Офицер прикусил губу. Он тихо произнес, чтобы не беспокоить раненого: – Вплоть до последней минуты. А потом ты взяла его украшения и деньги и ушла. Мы все знаем.
– Нет, – сказала она. – Вы не все знаете.
Но он прикрикнул на нее зло: – Молчать! Я не встречал еще немца, который хотел бы нести ответственность за то, что немцы натворили!
Раненый пробормотал несколько неясных русских слов.
– Дайте ему воды! – приказал офицер.
Он оставил часового у раненого, так как они сами не могли отвезти его, и машины санчасти еще не было в деревне. Часовой присел рядом с кроватью и держал в руках пистолет-пулемет в полной готовности к стрельбе. Он следил за Анной, и когда она давала страдающему от жара раненому воду, то должна была сначала сама попробовать ее.
Самолеты появились за два часа до того, как немцы снова атаковали деревню. Они ревели над полями и стреляли во все, что двигалось. Вдали рычали несколько танковых моторов. Они были немецкими.
Анна так никогда и не узнала, забыли ли просто русские своего раненого, или у них не было возможности забрать его. Часовой сделал угрожающий жест и убежал в деревню. Она предполагала, что он хотел привести сюда машину, чтобы увезти раненого. Но убежал он недалеко, потому что самолеты кружились над улицей, и на полдороге между хутором Анны и деревней одна из пестрых машин спустилась ниже, и часовой остался лежать у обочины. В это время первые снаряды танковых пушек уже выли над хутором и разрывались в деревне. Несколько часов бушевал бой, но немецкая часть было сильнее советской, которая захватила деревню, и следующий патруль, который прибыл во двор Анны, был немецким. Анна вышла им навстречу во двор. Они таращили глаза на нее как на привидение, а потом они спросили о русских. Анна покачала головой. Она не решалась посмотреть начальнику патруля в глаза, но тот понял это совсем иначе и отказался осмотреть дом. Он только сочувственно сказал Анне: – Бедная женщина, вы наверняка много страдали. Если вам понадобится помощь, приходите в деревню. Мы посмотрим, что мы можем сделать.
Она не обратила внимания на то, что оставила открытой дверь в комнату, в которой лежал раненый. Когда патруль исчез, и она вернулась к русскому, тот лежал с открытыми глазами и тихо спросил: – Почему вы сделали это? Знаете ли вы, что это значит для вас?
– Вы хотите воды? – спросила она. – У меня есть фрукты в подвале и вишневый сок. Хотите?
– Вас расстреляют.
– Ваша рана еще сильно болит? – спросила она.
– Люди в деревне донесут на вас…
– Кроме меня никого нет в этой деревне, – сказала она упрямо. – Ложитесь. Вы не должны так перенапрягаться.
Он взглянул на нее на одно мгновение, потом потребовал: – Дайте мне мою форму. Где вы оставили мою форму?
Она указала на шкаф. – Не каждый должен сразу видеть, кто здесь лежит.
Она принесла ему его одежду, и он вытянул пистолет из кармана и спрятал под подушкой.
– Когда ваши вернутся? – спросила она спустя некоторое время. – Как долго это будет продолжаться?
– Я не знаю.
– Вы так хорошо говорите по-немецки. Можно было бы принять вас за немца.
– Я когда-то был учителем этого языка, – медленно произнес он, – тогда еще не было никакой войны. Я у нас дома учил этому языку молодых, любознательных людей, чтобы они могли читать Маркса и Энгельса в оригинале.
Она посмотрела на него. Она видела, что на его лбу были капли пота.
– Кто такие Маркс и Энгельс? – спросила она.
Он ответил после долгого молчания. – Это были немцы, – произнес он, – раньше я думал, что вы, по крайней мере, слышали их имена.
– Нет, – покачала она головой, – я их не знаю. Не хотите ли поесть? Вам нужно набираться сил.
– У меня в кармане горсть подсолнечных семечек, – сказал он. – Вы могли бы дать их мне. Мы, русские, любим эти семечки.
Она дала их ему, но он был слишком слаб, чтобы щелкать семечки. Они падали ему из руки, и когда она увидела это, она щелкала семечки пальцами и засовывала их ему очищенными между губами.
Было темно, и электричества не была. Но она и без того не включила бы свет. Она впихнула ему несколько фруктов и вишневый сок, разбавленный водой. Однажды она спросила его: – Мне и теперь нужно пить воду перед тем, как дать ее вам?
Он не отвечал. Он смотрел на нее, хотя он не мог точно разглядеть ее лицо в темноте.
Снаружи стало тише. Вдали можно было слышать гром орудий. Это могли быть танки. Время от времени на небе вспыхивало, если был больший взрыв. В комнате было тихо.
– Где вы будете спать? – внезапно спросил он. – Это же ваша двуспальная кровать…"
– Да, это моя двуспальная кровать, – сказала она, – и если я устану, то лягу немного там на другую сторону, рядом с вами, чтобы слышать, если вам что-то понадобится.
– Тогда, в тот вечер, – тихо говорила Анна Биндигу, – я хотела сказать тебе. Но тогда я, все же, не сказала. Я не знаю почему. Я знала, что ты поймешь, почему я приняла его и не предала. Но я все равно не сказала…
Они слышали, как он наверху в его каморке ходит туда-сюда. Биндиг немного приподнялся. Он был слаб. Жар отступил, и его члены прекратили дрожать в лихорадке. Он хотел есть, но ничего не говорил, потому что не хотел, чтобы она встала и принесла ему что-то из еды. Он хотел, чтобы она каждую секунду оставалась рядом с ним.
Цадо принес ему сигареты и шоколад. Он пытался зажечь сигарету, и это тоже удалось ему. Вспыхнувшая спичка на секунды осветила лицо. Оно было бледным, и вокруг глаз лежали темные тени. Но маленькая спичка горела только немного секунд. Когда снова стало темно, Анна сказала: – Ты должен спать. Сон полезен. Спать так долго, до тех пор пока все не кончится. Температура и слабость и вся война, вообще…
Они не послали его в военный госпиталь. Кто в те дни попадал в военный госпиталь, тот больше не возвращался в его старое подразделение. Стоило ему выздороветь, как его направляли куда-то, где как раз не хватало нескольких людей. Больше не было никакого порядка, одна лишь спешка. Тимм рассчитал просто. Если Биндиг попадет в лазарет, он будет потерян для своей роты. Если же у него здесь в Хазельгартене будет несколько дней спокойствия, то все-таки было возможно, что он оклемается и без помощи врача, а если нет, тогда его все еще можно было отправить в госпиталь, но тогда потеря для роты была бы не больше, чем если бы его направили туда сразу.
Биндиг выздоравливал быстро. Его тело было натренировано на твердость. Не прошло и три дня, как самое худшее для Биндига было уже позади. Он с наслаждением курил, и он знал, что справился. Но он не знал, что теперь должно произойти. Мысли измучили его мозг. Он никому не мог сказать, что произошло, даже Цадо. У него была только Анна и больше ничего.
– Я боялась, – тихо сказала женщина. Она тихо лежала рядом с ним в темноте, тяжелая чернота которой немного смягчалась только светлым мерцанием, которое вызывал снег перед окнами.
– Боялась, – повторил он машинально.
– Да. Боялась за себя и боялась, что они найдут Георгия.
– Его зовут Георгий?
– Георгий Варасин.
Он выпустил сигаретный дым в темноту. Потом он повернул голову и посмотрел на нее. Сверху над ними все еще звучали шаги русского.
– Если бы они узнали, они бы поставили к стенке и его и тебя.
Женщина немного пошевелилась. Биндиг слышал, как она ладонями разглаживала перину.
– Я всегда знала это, – услышал он ее слова, – но я не предала бы его ни за что на свете. Прошло много времени, пока его рана не зажила. И я иногда дрожала, когда кто-то из ваших приходил. Мне было бы даже лучше, если бы это были русские…
– Почему ты, собственно, сделала это? – спросил он.
– Почему? Довольно долго было тихо. Тогда женщина сказала медленно и осторожно: – Потому что на свете и так много горя. И потому что я не солдат, а женщина, и мне жаль любого человека, который должен умереть, вот почему.
– Это война! – сказал он.
– Георгий однажды сказал мне, что не русские сделали эту войну, а немцы. Гитлер сделал ее. И они обманывали таких мальчишек, как ты, так долго, пока у них не осталось ничего, кроме одного лишь честолюбия стать героями. Это было тогда, когда вы двое ели у меня. Когда ты хотел открыть банку ножом. Тогда Георгий и сказал, какое горе, что они из вас сделали…
– Благодетель человечества, – сказал Биндиг, – мудрец, который все понимает и всех прощает. Может быть, он еще захотел бы усыновить меня из чистого сочувствия!
– Ты болен, – она схватила его за руки и держала их, – ты должен не спорить, а спать…
– Я не болен! – упрямо запротестовал Биндиг. – Но я терпеть не могу людей, которые разбрасываются вокруг своей мудростью. Я не люблю, когда со мной обращаются как с маленьким ребенком, потому что они чертовски рано отучили нас чувствовать себя как дети!
Она не возражала ему, и он тоже молчал. Он погасил сигарету и пристально смотрел в темноту. Тогда она нерешительно спросила: – Ты его бил?
– Я воспрепятствовал тому, чтобы он выстрелил в меня. Пусть он и мудр, но мне наплевать, целится в меня мудрец или дурак. Я защищаюсь от обоих.
– Боже мой! – сказала она. – Могло статься, что я вернулась бы домой и нашла твой труп. Я не могу больше об этом думать.
– Ты спокойно можешь думать! –Он тихо рассмеялся. – И тебе не нужно бояться. Я очень многого не знаю о жизни и о мире. Только то, что находят в книгах. Но зато я знаю семь различных методов убийства голыми руками.
– Когда же, наконец, закончится все это безумие, – сказала она. – У человека есть только эта совсем жалкая жизнь, и он не знает, в какой день они отберут ее у него. Вся жизнь была дерьмом. И ему не оставляют даже этого дерьма!
Она поднялась и склонилась над ним. В темноте он мог узнать контуры ее тела. Он чувствовал ее тепло и видел, как ее губы шевелились.
– Я всегда была одна, – сказала она, – и как ребенок, и как девочка, и как женщина. Всегда было одно и то же. Я была только одна с биением моего сердца. И уже несколько дней я боюсь, что однажды ты больше не вернешься. Как будто они всю мою жизнь держали меня прикованной к дыбе. Всегда страх и ненависть и немного надежды. И теперь только лишь страх. Страх за тебя.
Он провел ладонью по ее волосам и оставил руку лежать на ее плече. Если они разузнают, что происходит в этом доме – сказал он, – тогда мы все трое умрем в тот же самый час. У какой-то стенки здесь в деревне, мимо которой проходили уже сто раз. Или у стенки в в том месте, где находится штаб дивизии и полевая жандармерия.
Она опустила голову ему на грудь. Он чувствовал, что она плакала, и прикусил себе губу.
– Боже мой, – шептала она, – Боде мой на небесах, если ты есть, почему ты не положишь конец этому безумию!
Внезапно он вспомнил о пистолете, который забрал у русского. Он тихо спросил ее: – Куда ты спрятала пистолет?
– Там было два пистолета, – ответила она, – один лежит в твоем кармане.
– А другой? Русского?
– Я отдала его ему.
Он лежал тихо. Он даже не шевелил руками. Он только спросил: – Значит, все дни, пока я лежал здесь, у него было оружие.
– Да, – сказала она просто, – оно было у него.
Через некоторое время она поспешно добавила: – Тебе не стоит бояться. Он не застрелит тебя.
– Я не боюсь. Но это было неумно давать ему оружие.
Она тихо ответила: „Нет. Это не было неумно. Потому что он не будет стрелять в тебя и, вообще, ни в кого. У него есть пистолет, и он ему нужен, потому что если бы они его поймали, они бы его мучили. Поэтому ему и нужен пистолет. Он знает, что ты его не выдашь, и он не будет стрелять в тебя.
– Ты ему слишком сильно веришь.
– Ему можно верить.
– Вот в том-то и дело, – сказал он измученно, – ему можно верить, но самому себе верить больше нельзя.
– Это жестокое время, – произнесла она. Он заметил, что она снова плакала. Довольно долго он прижимал ее голову к своему телу, как будто бы он мог ее этим успокоить. Но тогда он сам больше не мог быть спокоен. Он больше не мог лежать просто так с нею рука об руку в темноте и чувствовать, как она плакала.
– Это проклятое время, – сказал он гневно, – хуже чем все времена, которые когда-нибудь были! Но кто сделал его таким? Ты? Или я? Я еще ребенком не любил, чтобы меня били за то, чего я не делал, и я, видит Бог, не виноват в том, что сейчас это убийственное время. Посмотри на меня! Сколько мне лет? Мне даже еще нужно разрешение родителей, если я хочу жениться. Но я убил уже несколько дюжин человек. Виноват ли я? Или же я такой вот мудрец, что я, например, еще ребенком мог знать все лучше тех людей, которые меня воспитывали? Не я сделал это время и не я сделал войну, и не я разделил людей на христиан и язычников, на немцев и русских, на национал-социалистов и коммунистов! Я еще только учил азбуку, когда было предрешено все то, что происходит теперь. Я видел, как старики бегали в коричневых фраках, и они были воплощением всей житейской мудрости для меня. Я вместе с азбукой учил, кто хороший и кто плохой. И как поднимать руку, чтобы приветствовать фюрера. Они объяснили мне все, до тех пор пока я не понял все это полностью. Они подсказали мне, что я должен был повторять, и они сунули в руку мне стихотворения, а первого мая знамя со свастики. Где были мудрецы того времени? Я не искал их, так как я не знал, что они существуют. И они не приходили ко мне, пока я не созрел для армии. Там из меня сделали героя, не спрашивая меня самого, хотел ли я стать героем или нет. Они не спрашивали никого из нас. Они послали нас сюда, обучили и вооружили. Но кто виноват в этом? Я? Или ты? Кто тут прав, а кто неправ? Большинство из нас никогда этого не узнают, и если даже они и узнают, то будет слишком поздно, потому они ничего не смогут изменить. Так же, как и я ничего не могу изменить. Или ты знаешь выход?
Она медленно покачала головой. Над ними все еще звучали шаги русского.
– Не спрашивай меня, – тихо попросила она, – я не знаю ответа. Я ни на один из твоих вопросов не могу дать ответа…
На фронте началась стрельба. Это должны были быть тяжелые пушки, так как грохот разрывов заставлял склеенные на скорую руку стекла дрожать в окнах.
– Спи, – тихо сказала женщина Биндигу, – спи, если можешь. Эта война и все это проклятое время забрало у нас наше счастье. У нас, и у того русского наверху тоже. У каждого это счастье забрали своим способом. Он мне это говорил. Его счастье отобрали у него мы. Хотя мы сами этого не хотели. Мы принесли несчастье другим. Но мы и сами несчастны…
Они лежали тихо. Над ними были шаги, а снаружи гул артиллерии. И белая ночь с ее синими тенями, без звезд. В этой комнате нельзя было слышать крики раненых и видеть пропитанные потом лица артиллеристов. Треск пулеметов не доносился сюда, и кровь на снегу была очень далеко. И все же все это было в этой комнате с дрожащими обломками в оконной раме и с шагами русского, и с женщиной, беззвучно плакавшей на плече обессиленного солдата.
Кровавый снег
Когда Вернер Цадоровски, моргая, открыл глаза, то увидел, что кто-то роется в вещах Биндига. Еще не было светло, и он только неясно мог разглядеть фигуру человека, который там возился. Он медленно и вытянул колени. При этом он заметил, что Паничек еще спал рядом с ним, громко храпя. Он поселился на этой квартире только несколько дней назад. Обер-ефрейтор в углу тоже еще спал. Он выпил вчера вечером бутылку джина, наполовину смешав его с красным вином, которое они получили вместе с едой.
Цадо быстро сел и сказал вполголоса: – Эй, что ты там ищешь?
В этот момент он узнал Биндига. Он быстро поднялся и пару раз потянулся.
– Неужели, малыш! – сказал он тогда. Вот так неожиданность! Я-то думал, ты еще и пальцем не можешь двигать?
Биндиг поздоровался с ним и уселся на соломенный тюфяк. Он еще выглядел бледно в свете стеариновой свечки, которую зажег Цадо, и лицо его было довольно худым. Но Цадо ощущал облегчение от того, что Биндиг вообще снова был тут. – Ты останешься? – спросил он, – или ты просто пришел, чтобы забрать кое-что из своих вещей.
Биндиг покачал головой. Он сидел на соломенном тюфяке; и искал сигареты в карманах. Когда он нашел их, то дал одну Цадо и сам закурил вторую. Потом он сказал: – Я остаюсь. Я снова чувствую себя совсем здоровым.
Цадо затянулся сигаретой и посмотрел на Биндига. Они сидели напротив друг друга в таинственном свете, который стоящая на полу свеча бросала снизу вверх на их лица.
Эта штука чертовски его замучила, думал Цадо. Как только это было возможно? Даже неизвестно точно, что с ним было? Нервная лихорадка? Во всяком случае, это не было простудой или чем-то в этом роде. Это сделало его на несколько лет старше. Можно было подумать, что перед ним теперь настоящий мужчина. Но и при этом он лишь немного больше, чем достойный сожаления большой мальчик, который влюбился в необычную женщину. По-видимому, не без взаимности. Любит ли она его теперь на самом деле или это отношения вроде тех, которые происходят между кроватью и умывальником? Кто может понять этих женщин? Все же, вероятно, у нее ничего такого нет с глухонемым полуидиотом, и ей как раз хорошо, что Биндиг влюбился в нее.
Сегодня женщины стоят немного больше, чем какой-то предмет снаряжения, который получают солдаты. Разве что они не фиксируются в солдатской книжке. Кто знает, ценились ли они когда-нибудь выше. Это, вероятно, все только воображение, и они такие же, как мы, и тогда больше не стоит и говорить об этом.
– Она заботилась о тебе? – поинтересовался Цадо. Биндиг улыбался. Потом кратко сказал: – Очень хорошо.
– Могу себе представить, – заметил Цадо и кивнул. – А теперь?
– А что теперь?
– Насколько я тебя знаю, ты женишься на ней. Это меня совсем не удивляет. Я тоже был таким. Лишь позже это уладилось.
Биндиг задумчиво спросил: – Что ты думаешь, если я женюсь на ней?
Цадо сильно прищурил глаза. Он затянулся сигаретой и при этом очень внимательно смотрел на Биндига. Он думал, что они обрабатывали его своими уловками уже так много времени, но у него все равно такие представления о мире, как у ребенка.
– У этой истории две стороны, – медленно сказал он. Он ковырялся сожженной спичкой в свече. – Одна сторона состоит в том, что Альфу не придется посылать ей твои пожитки полевой почтой, если тебя грохнут. Он просто пройдет пешком несколько шагов и передаст ей все это лично. Другая сторона такова, что ей в будущем придется немного беречься, если вдруг она примет к себе другого мужчину. Может быть, ты внезапно и неожиданно вернешься с задания, и ты тут как раз дашь волю рукам.
Биндиг покачал головой. Он недовольно проворчал: – С тобой нельзя говорить о таких вещах. Если речь заходит о женщинах, то ты свинья.
– Это делает мне честь, – сказал Цадо. – Ты выпьешь со мной шнапса?
Биндиг ничего не ответил. Он знал, что с Цадо не стоит говорить о женщинах. Он также знал почему. Его не обижало, что Цадо смотрел на Анну так же, как на проституток, с которыми он был занят. Но ему было жаль, что он вообще не мог поговорить ни с кем о том, что было между ним и Анной. Он видел, как Цадо из своих вещей вытащил бутылку и налил спиртное в два бокала.
– Откуда тут у тебя французский коньяк? – спросил Биндиг. – Неужели вам его выдали?
Цадо подал ему один из бокалов и ухмыльнулся. – Мой дорогой мальчик, в последней фазе этой грандиозной войны, совсем незадолго до окончательной победы, простым солдатам коньяк больше не выдают. Ты должен был бы знать это. Это замедлило бы победу. На это время имеется распределяемый настоящий германский шнапс и продукт, который по ошибке обозначают как красное вино, который, однако, гораздо лучше, чем красное вино, а именно потому, что хотя его совсем нельзя пить, зато им можно мыть ноги. Это закаляет ноги, и это обстоятельство весьма значительно увеличивает дальность пешего перехода войск. За твое здоровье!
Они выпили. Потом Биндиг сказал: – Ты вообще не изменился.
Цадо кивнул. Он выпил бокал наполовину и почувствовал, как коньяк горел у него в животе. – Я рад, что ты это сразу заметил, – сказал он. – Я вообще рад, что ты снова здесь. Я был по-настоящему одинок. Пока они пили, зашевелился Паничек. Он повернулся на другой бок и пробормотал несколько тихих слов во сне.
– Что там вообще произошло? – хотел знать Цадо. Он навещал Биндига только дважды. В первый раз у Биндига был жар, а во второй раз он был еще слишком слаб, чтобы много говорить.
– Я и сам не знаю, – задумчиво произнес Биндиг, – оно как-то быстро закончилось. Я думаю, это не повторится так быстро.
Цадо осматривал его довольно долго. Потом спросил: – Так что там было с этой гармонью? Ты в бреду все время повторял что-то про гармонь.
– Да? Кто тебе рассказал?
– Кто же еще?! Анна.
Она ему самому ничего не рассказывала об этом. Даже о том, что он вообще что-то говорил в бреду. Он почувствовал неуверенность, но быстро успокоился. Ведь Цадо это не Тимм.
– Ты не мог знать об этом, – медленно сказал он. – У меня вообще не было возможности тебе об этом рассказать. Мы положили мину и взорвали машину.
– Я знаю. Мне Тимм рассказал. Он очень гордится этим. Он говорил, что ты действовал очень находчиво.
– А еще что-то он рассказал?
– Нет. Только это. Вчера он получил золотую пряжку за ближний бой. Держу пари, он все еще синий. Твоя бронзовая тоже есть. Вероятно, они вручат ее тебе сегодня.
– С гармонью было так, – начал Биндиг, – на грузовике сидела женщина. Она играла на гармони, когда мина разорвала машину.
– Вы ее нашли?
– Да. Позже мы нашли ее.
– Мертвой?
Биндиг покачал головой. Теперь он снова мог говорить об этом. Это прошло. Это, кажется, было преодолено.
– Нет, не мертвой, – сказал он. Цадо почесал голову. Он начал понимать, что произошло.
– И? – спросил он осторожно.
– Она была тяжело ранена, – сказал Биндиг.
Цадо кивнул. Он спросил, не глядя на Биндига: – Кто застрелил ее? Тимм или ты?
– Она добралась до своего пистолета? – сказал Биндиг, – и она хотела выстрелить в Тимма.
– Я понимаю, – кивнул Цадо, – теперь мне это ясно.
– Не совсем. Биндиг посмотрел в бокал, где еще был остаток коньяка. Он сказал: – Тимм видел это так же как я. Но он оставил руки в карманах брюк и только спрашивал, хочу ли я увидеть, как она застрелит моего унтер-офицера. Так это было.
Он допил остаток коньяка и зажег себе новую сигарету.
Цадо мрачно посмотрел на грязную прихожую. Тогда он кивнул и сказал: – Приблизительно так я себе это и представлял. Теперь мне ясно, что было с тобой не в порядке, когда ты возвращался.
Он налил новый коньяк в бокалы. Потом произнес с отвращением: – И за это Клаус Тимм получил золотую пряжку. Он заработал ее себе честно.
Биндиг добавил; – А я за это же получу бронзовую. Каждый раз, когда я буду ее надевать, я должен буду вспоминать об этом.
– Мальчик мой, – осторожно сказал Цадо, – ты слишком мягок. Ты не создан для этой войны. Ты сносный солдат, но ты все же на этом сломаешься. Я хорошо тебя знаю, ты человек не для этого.
– Возможно, – ответил тихо Биндиг, – а ты?
– Я, – сказал Цадо, – я думаю, что за мной есть что-то, что жмет на тебя. У меня это по-другому. Я могу это стереть. Просто как предложение, которое учитель писал на доске в школе. Это больше не дается мне тяжело. Я преодолел это. Но ты не так не сможешь.
– Вероятно, когда-то и со мной будет так же, – заметил Биндиг, немного подумав. – Иногда я думаю, что я тоже однажды вообще не буду ни о чем размышлять.
Но Цадо покачал головой. – Ты нет. Ты недостаточно испорчен для этого. Ты один из тех, которые не могут совсем отключить свои чувства. Я не знаю, должен ли я поздравлять тебя с этим или жалеть тебя. Я думаю, я должен был бы поздравлять тебя.
– У них «там» снова есть группа, – быстро сказал он затем. – Там что-то происходит. Они непременно хотят захватить в плен кого-то из штаба в глубоком тылу. Мне кажется так, как будто они за пять минут до конца хотят точно познакомиться с людьми, которые отсюда промаршируют в Берлин.
– А мы? – спросил Биндиг. – Они используют нас снова.
Цадо слегка пожал плечами. – Они предпримут что-то только тогда, когда эта группа вернется назад. Но у меня такое чувство, будто у них есть план для какого-то совсем безумного дела. Тимм еще ничего не знает, иначе я, вероятно, подслушал бы парочку замечаний об этом. Но, во всяком случае, они что-то планируют. И ты это увидишь.
Биндиг посмотрел на свои наручные часы. Начинался день. Он спросил Цадо: – Что у нас сегодня по службе?
– Разные легкие штуки, – ответил Цадо, – это самый достоверный признак, что мы нужны им для какого-то безумного дела.
Биндиг сделал глубокий вдох. – И сколько еще будет таких дел?
– Я не знаю, – тихо сказал Цадо, – но русские знают. Готов поспорить, что они уже сегодня знают срок, к которому возьмут Берлин.
Паничек снова перевернулся на другой бок. Он натянул одеяло до шеи. Спутавшиеся волосы свисали ему на лицо. Рот его был открыт, и тонкая струйка слюны бежала на соломенный тюфяк. Тогда, когда он переворачивался, он бормотал вполголоса: – Барбара… и уже будет… у меня… Барбара… иди уже сюда…
– Да закрой же ты рот, болван! – крикнул ему Цадо. Когда Паничек пошевелился, Цадо сказал:
– Нет, ты все же, самый большой идиот во всей этой лавочке!
– Я… Паничек заспанно потягивался и моргал на свет свечи. – Это было так…
– Ах, – произнес Цадо, и Биндиг не знал, злился он или шутил, – это была твоя Барбара! Брось ты все это. Она как раз сейчас спит с лейтенантом-зенитчиком из ПВО или с признанным негодным к строевой службе партийным начальником. Она только икает, когда ты долго думаешь о ней. А это чертовски неудобно в таких ситуациях, ты должен был знать это!
Из соседнего дома послышался шум открывающейся двери. Потом захрустели шаги по снегу, и часовой, который раскрыл дверь, проворчал хрипло: – Ну! Вставайте, братцы! Поднимайте задницы!
Альф лично вручил Биндигу пряжку за ближний бой. Он произнес несколько слов о его мужестве, а потом прикрепил награду к его форме и пожал ему руку.
Рота была выстроена, и солдаты мерзли, так как они в течение всего времени должны были стоять. Альф быстро снова надел перчатки. Немного тише, чтобы другие солдаты не слышали, он поинтересовался у Биндига, полностью ли тот выздоровел.
Биндиг немного поднял голову и ответил: – Так точно, господин лейтенант. Я чувствую себя здоровым.
– Что-то вроде лихорадки, что там у вас было. У вас такое бывает часто?
– У меня это было впервые, господин лейтенант.
– Нет никаких последствий?
– Думаю, что нет.
– Я надеюсь на это. Вы нам понадобитесь. У нас большие планы.
Во второй половине дня Тимм со своим взводом отправился на пару сот метров за деревню для учений. Несколько ночей подряд шел снег, и теперь снег был глубоким и мягким. Он полностью покрыл поля, так что нигде больше не было ни пятнышка голой земли в белой монотонности ландшафта. Земля под снегом замерзла и стала твердой как камень.
Однажды наступила оттепель, но только на половину дня, а потом мороз возвратился. Он выжал последнюю влагу из веток деревьев и покрыл их толстым слоем инея. Рой ворон каркал хрипло над заснеженными полями, и иногда птицы сидели плотными стаями на земле. В полдень, когда солнце зажигало снег, что его блеск причинял боль глазам, появились самолеты.
Они были почти неуязвимы, так как зенитной артиллерии почти не было, только несколько разбросанных 20-мм пушек. Но они остерегались стрелять в быстрых серебряных птиц с красной звездой на крыльях, так как летчики умело использовали солнце. Стоило им лишь заметить что-то живое на земле, как они с налета бросались вниз, с солнцем за спиной, и расстреливали любую оборону. Никто не был в безопасности перед ними.
Они атаковали колонны снабжения и полевую почту, они выпускали ракеты на огневые позиции и проносились над деревнями в ближнем тылу. Они охотились на пулеметные гнезда и ладе на отдельных связных, которых они легко видели под собой на белой заснеженной равнине. Тимм в эти послеобеденные часы немного требовал от своего взвода. Он приказал разойтись, и солдаты целый час учились беззвучно ползать по рыхлому снегу. Он пошел с ними в маленький лес, где они стреляли в железные откидные мишени, и был доволен, если они делали два попадания из пистолета при трех выстрелах. Он не гонял их и позволял больше перекуров, чем обычно. Он даже разрешил им распить по очереди бутылку дешевой немецкой можжевеловой водки, у которой был вкус лекарств и камфары, и закончил занятия раньше, чем это было предусмотрено в плане, который установил Альф.
Это не изменялось также в течение следующих дней. Иногда они вообще не выезжали из деревни, а проходили в амбаре, крыша которого была наполовину снесена, обучение установке мин или размещению взрывчатки.
Дни проплывали без больших событий. Казалось, что фронт замерз, что не было никаких видов на то, что он в этом месте может вскоре проснуться к жизни.
Пехота стреляла мало, и тяжелые орудия гремели только редко. Под вечер советские минометы прощупывали немецкие позиции. Они всегда стреляли одиночными выстрелами, и неопытные солдаты не уделяли им внимания. Но другие, кто провел уже не первый год на фронте, знали, что должны были значить эти отдельные выстрелы минометов. Красная армия пристреливалась по немецким позициям. Она отмечала свои цели на переднем крае обороны и на коммуникациях, она замеряла месторасположения немецких орудий и ближайшие места в тыловых районах. Отдельные минометные мины взрывались как бы случайно вблизи стоянок автотехники или недалеко от тех мест, где стояли танки.
В ясном воздухе над покрытой снегом землей кружил У-2, маленький медленный самолет-биплан, с тарахтящим мотором, о котором можно было бы подумать, что он в любое мгновение может заглохнуть. Наблюдатель совершенно спокойно делал свои снимки из кабины, а время от времени поворачивал пулемет на турели и давал очередь по земле. Солдаты больше не стреляли в него. Было довольно трудно попасть в самолет. Он прилетал и по ночам, и тогда он был непредсказуем. Он сбрасывал маленькие бомбы, которые иногда не взрывались, и трасса очереди его пулемета как зеленоватое ожерелье жемчужин падала на землю. Солдаты называли его еще «дежурным унтером». Но были и те, кто понимал, что значит, если эта «швейная машинка» с таким упрямством днем и ночью крутится над фронтом, и если одновременно с этим пристреливаются минометы, и за русскими траншеями слышится рычание тяжелых двигателей.
В первых ячейках немецкой линии лица более старых солдат принимали озабоченное выражение. Они осматривались в поисках путей отхода, и при этом замечали, что плоская местность за ними не давала им защиту и укрытия. Были лишь отдельные деревья и только местами несколько кустов. Только далеко позади начинался лес. Но пока они добежали бы туда, минометы или «сталинские органы» точно бы кого-то из них достали. У солдат в продуваемых всеми ветрами ячейках не было больше сомнений, что наступление русских могло начаться в любое время. И это наступление означало отступление для них. Но на территории между фронтом и деревушкой Хазельгартен были очень плохие возможности для отступления.
В это время в разведывательной роте вряд ли был хоть кто-то, кто не знал, что в ближайшие дни предстоит крупная операция. Биндиг, который по вечерам задерживался в большинстве случаев у Анны, ничего не говорило ей об этом. Но Георгий знал наступательную тактику своей армии. Была глубокая зима, и ночью бывали большие снегопады. К этому добавлялись самолеты У-2, которые беспрерывно облетали территорию, и отдельные разрывы снарядов, которые Георгий в Хазельгартене мог слышать, так как было тихо, и не было другого шума, кроме этих отдельных взрывов.
Он сидел на ступеньках у входной двери, когда пришел Биндиг. Он хотел уклониться от него. Но Биндиг его удержал.
– Что происходит, Георгий? – спросил он его. – Почему вы сидите здесь снаружи? Русский только через некоторое время ответил. Он после той встречи в каморке очень мало разговаривал с Биндигом. Он избегал встреч с ним.
Биндиг как-то узнал, что Георгий был офицером. Это не особо его удивило, потому что не только то одно обстоятельство, что этот русский владел немецким языком, свидетельствовало об его высокой образованности.
– У меня здесь самая лучшая возможность подумать, – сказал он Биндигу. – Можно подумать кое о чем.
Биндиг вытащил из кармана брюк две пачки сигарет. Это были дешевые сигареты марки «Чайка», потому что с некоторого времени хороших сигарет на роту не выделяли. Он протянул Варасину одну пачку и сказал: – Возьмите. Или вы уже не курите?
Русский покачал головой. Он немного улыбнулся, когда сказал: – Нет, я все еще курю.
Он не схватил пачку, и Биндиг просто положил сигареты на выступ ступеньки возле него. Там он их взял. Они курили вместе, стоя перед домом. Анна еще не заметила прихода Биндига.
– О чем же вы размышляете? – спросил Биндиг. – О доме?
– И о доме тоже, – ответил Варасин односложно.
– Москва?
– Вы знаете, что я из Москвы?
– Я так подумал, – сказал Биндиг, – и случайно угадал. У вас есть семья?
– Я женат.
Биндиг посмотрел на него, и Варасин добавил: – Моя жена тоже в армии. Я не знаю, на каком фронте.
Гармонь, думал Биндиг, такая как та женщина, которая смотрит на тебя с глазами, которые ты таскаешь повсюду с тобой, до тех пор, пока ты не станешь старым и седым или пока ты не погибнешь молодым. Такие их женщины. Он нервно смахнул пепел сигареты и не знал, что ему сказать. Он хотел поговорить с этим русским, но всегда, когда он начинал, он чувствовал невидимую стену, которая громоздилась между ними.
Тут стоял Биндиг, который пришел к Анне, чтобы на пару часов найти у нее покой, пока ему снова не придется расстаться с нею, чтобы продолжать заниматься ремеслом, которому они его обучили. И тут напротив него стоял Варасин, который без особого волнения рассказал, что его жена служит в армии, и он даже не знает точно, на каком именно фронте. Он попытался сблизиться с Варасиным. Он сказал тихо: – Это не хорошо, что у вас женщин отправляют на войну. Это…
Он хотел сказать совсем другое, но ему это не удалось, потому что в этот момент он снова увидел перед собой, так же четко, как той ночью, эти большие черные глаза игравшей на гармони женщины, и он замолчал.
Варасин слегка двинул плечами. При этом он сказал: – Женщин не отправляют. Женщины идут сами. Очень нужно, чтобы шли все, у кого есть мужество.
– Но женщинам не место на фронте, – упрямо настаивал Биндиг, – это не женское ремесло. Они ведь гибнут при этом.
Варасин не спорил с ним. Только через некоторое время он сказал, смотря вслед дыму своей сигареты: – Я думаю, что у женщины, которая служит в армии, больше шансов остаться в живых, чем у той, которая вынуждена пережить немецкую оккупацию в ее родном городе.
– Вы так думаете?
– Это доказано, – сказал Варасин. – Не стоит спорить об этом, потому что достаточно людей видели то, что происходило на территориях, которые однажды были заняты немцами.
– Вы сами это видели?
– Я прошел через всю Белоруссию. У вас после войны будет возможность увидеть документы об этом.
– После войны? – сказал Биндиг. – Для вас конец войны уже решенное дело. Не слишком ли вы торопитесь?
Варасин слегка покачал головой. – Нет сомнения, что эта война подходит к концу. Немецкая армия будет сокрушена. Это конец войны и конец Гитлера. Я надеюсь, что доживу до этого. Я тяжело за это сражался.
– Вы можете подождать это здесь, – сказал Биндиг с некоторой долей насмешки. – Тогда вы можете быть уверены, что с вами ничего не случится. Или это правда, что в вашей армии приговаривают к смерти тех, кто сдался в плен?
Варасин бросил окурок во двор. Он взглянул на Биндига. – Я не сдавался в плен, – сказал он. – Я в любое время могу держать ответ перед моей родиной за то, что я сделал. И, кроме того, похоже, что ваши офицеры не много знают о нашей армии. Иначе они бы не рассказывали вам такой вздор.
Биндиг услышал, как Анна в прихожей громыхала ведрами из хлева. Он ждал, пока она снова не была на кухне. Тогда он сказал: – Меня это не особенно интересует. Но у вас, конечно, скоро будет возможность приветствовать ваших людей здесь. Или вы полагаете, что ваша армия собирается навечно устроиться на позициях, которые она здесь заняла?
Варасин впервые улыбнулся. – Я убежден, что они придут, – сказал он. – Я ни в чем в мире не уверен так, как в этом.
– Все у вас такое уверенное, – сказал Биндиг. – Нет ничего, чего вы не можете определенно знать и предсказывать. Иногда это кажется мне странным.
Варасин прислонился к двери и пожал плечами. Он сказал: – Это вовсе не так странно. У нас есть наша картина мира. Мы знаем, чего мы хотим, и мы также знаем, из-за чего погибнут наши противники.
– Вы имеете в виду Германию?
– Да, Германию. Через некоторое время Варасин добавил: – Гитлеровскую Германию.
– Она погибнет.
– Я уже это сказал.
– Из-за чего?
Варасин улыбнулся: – Из-за того, что мы ее победим. Мы сделаем это основательно.
Он не показывал удивления, когда Биндиг сказал: – Возможно. Я этого не знаю. У вас лучшее оружие. И у вас больше людей и больше выдержки.
– Это военный вопрос, – сказал Варасин спокойно. – Это, конечно, решающий вопрос, но он зависит от некоторых вещей, которые вы не учитываете. Или, может быть, вы и не хотите ничего знать о них. Вас не поддерживают люди.
– Вы имеете в виду, что Гитлера не поддерживают люди?
– Я соглашусь с вами, – ответил Варасин. – Кажется, вы хотите дистанцироваться от Гитлера.
– Послушайте, – сказал Биндиг, – вы русский, а я немец. Мы воюем друг с другом. Вопрос о Гитлере встанет лишь немного позже.
– Совершенно верно, но Гитлер начал войну.
– Может быть, что вы и в этом правы. Но почему вы решили, что наши люди не поддерживают Гитлера? В конце концов, ведь наши люди ведут эту войну.
– К сожалению. Но я все же полагаю, что большинство немцев не поддерживают Гитлера.
– Это рискованное утверждение, – сказал Биндиг. – Не предавайтесь иллюзиям.
Варасин кивнул. Потом он внезапно очень тихо спросил: – Поддерживаете ли вы за Гитлером? Биндиг молчал. Вопрос не был для него неожиданным. Он должен был прозвучать, их беседа сама подошла к этому. Но он все же не знал, как ему ответить. Наконец, он сказал: – Я солдат. Я воюю против вашей армии. Кого я поддерживаю, не играет при этом никакой роли.
Он посмотрел на улыбающееся лицо Варасина, который ему отвечал: – Я считаю вас человеком, который хоть и воюет в гитлеровской армии, но не имеет ничего общего с военными целями Гитлера. Я только после того, как пробыл тут, узнал, что такое возможно. Раньше я представлял все себе несколько иначе. Я думал, что существует несокрушимое единство системы Гитлера с людьми, которые в этой войне сражаются за эту систему. Но я научился понимать, что это единство очень хрупкая вещь. Среди вас есть что-то вроде определенной инерции мышления. Она мешает таким людям как вы просто порвать с системой, за которую вы сражаетесь. И еще есть представления о нашей стране и наших людях, которые вдолбили вам в головы. Когда немцы смогли бы начать мыслить самостоятельно и самим убедиться в том, во что они верят, и в правильности того, что они делают, это очень пошло бы им на пользу.
Биндиг выслушал его не шелохнувшись. Втайне он восхищался русским, потому что требовалось мужество, чтобы в его положении говорить что-то в этом роде. Но, возможно, это было не мужество, а только уверенность, исходящая из его убежденности в том, что Биндиг не смог бы предать его, не подвергая опасности Анну.
– Чего вы хотите? – спросил он. – Может быть, вы хотите убедить меня перебежать к Советской армии?
Русский вежливо сказал: – Мне хотелось бы, чтобы я смог.
– Если бы все пошло так, как вы хотите, то мне пришлось бы провести остаток своей жизни в Сибири под надзором комиссара?
– В Сибири лето жаркое, а зима очень морозная, – сказал русский, – но зато остаток вашей жизни мог бы быть значительно длиннее, чем остаток жизни гитлеровской системы.
– Вы очень стараетесь объяснить мне ваши идеи. Но, собственно, для чего? Я солдат. В ваших глазах я даже ваш непосредственный враг. Вы знаете, почему я не могу вас выдать. Но думаете ли вы, что я не сделал бы так, если бы обстоятельства были хоть немножко другими?
– Я убежден, что вы сделали бы это, – ответил русский. – Но, несмотря на это, я считаю вас человеком, которому стоит объяснить, что он борется за неправое дело. Помните тот вечер, когда вы пытались своим ножом открыть консервную банку? Вы один из тех, кто еще не погиб от гитлеровского яда. Вы умный человек. Усилия, которые вы прилагаете ради плохого дела, достойны лучшего применения. Вы должны вовремя прекратить служить проигранному делу и встать на сторону лучшего дела.
– А если я этого не сделаю?
– Я попытался дать вам совет.
Через какое-то время он добавил: – Но решения о вашей жизни и вашем будущем вы, конечно, должны принимать сами.
Биндиг закурил новую сигарету. Он взглянул за двор и увидел вдали дома деревни, спрятавшиеся под снегом. У-2 тарахтел с востока по направлению к деревне. Он летел невысоко. Долетев до деревни, самолет сделал вираж и выпустил один диск из своего пулемета.
– Теперь они уже и среди белого дня стреляют по домам, – неразборчиво пробормотал Биндиг.
Русский, похоже, разобрал его слова, но не подал виду. Немного позже он неожиданно спросил: – Вы когда-то читали Шиллера?
– В школе. Это было уже давно.
– Вам нужно прочитать его теперь.
– Я мог бы купить его во фронтовой книжной лавке. За одну марку и девяносто пять пфеннигов. Избранные произведения Шиллера, издание полевой почты. Что вы ожидаете от меня, если я его теперь прочитаю?
Русский пожал плечами и молчал.
– Знаете, – сказал задумчиво Биндиг, – когда я проходил подготовку, у меня был один офицер, который читал книги. Он узнал, что я тоже когда-то имел дело с книгами. Тогда он рекомендовал мне, если я однажды окажусь на фронте, в перерыве между двумя тяжелыми боями в спокойную минутку читать Шиллера. Это придало бы мне силу и мужество. А я забыл это делать.
Русский молча следил своим взглядом за У-2, который делал разворот высоко над деревней и качал крыльями. Тогда он сказал: – В нашей армии есть люди, которые читают Шиллера, чтобы получать от него силу, чтобы освободить немцев от Гитлера и от его системы.
Биндиг легко пошевелили рукой. – Давайте оставим это, – сказал он, – это ни к чему не приведет. Почему вы, собственно, никогда не делали попытки вернуться через фронт к вашим войскам?
Русский помолчал некоторое время. Он не был смущен. Он рассматривал У-2, который спустился ниже и с тарахтящим двигателем кружился над деревней, время от времени постреливая вниз.
– Так, так…, – сказал он, наконец, показывая на самолет. – Наши летчики снимают мерку…
В один из следующих дней в роте появилось пятеро русских. Они пришли пешком однажды утром, с высоко поднятыми воротниками шинелей, покрытыми инеем от их дыхания, усталые, но с проворными глазами. Невысокие, уже не молодые мужчины с широкими лицами. Они доложили о своем прибытии Альфу. Один из них говорил по-немецки, но другие тоже понимали команды и много других знакомых выражений. Немецкий ефрейтор, который сопровождал их, доставил их Альфу и снова удалился. Он пошел тем же путем, которым он прибыл с русскими, и он маршировал через деревню по направлению к дороге, которая вела на запад. Цадо был в дороге. Он получил кофе и хлеб. Он стоял перед своей квартирой с буханками хлеба в руке, когда приблизился ефрейтор. Сначала он не заметил, что Тимм приближался к нему сзади. Но потом он услышал шаги унтер-офицера и повернулся к нему. Тимм из своей квартиры видел русских, маршировавших по улице. Он сразу заметил, что это русские, хотя на них и была немецкая форма. Он окликнул ефрейтора, который недовольно остановился: – Эй, что за пятерых трофейных германцев ты там притащил?
– Пять человек, – ответил ефрейтор, – они у вашего командира.
– Я это видел, – проворчал сердито Тимм, – или ты думаешь, что я считать не умею?
Ефрейтор ухмылялся. – Сегодня важно уметь считать. Например, пара сигарет, которые дают с продовольственным снабжением.
– Не серди меня! – зашипел Тимм. Но он засунул руку в карман и бросил сигарету ефрейтору. Это был пожилой мужчина, который шагал не очень прямо, и лицо его было как коричневая кожа.
– Русские, – сказал он, когда зажег сигарету, – чтобы ваша банда, наконец, научилась, как вести войну.
– Иисус, Мария, – зарычал Тимм раздраженно, – самое позднее, при следующем таком ответе ты потеряешь несколько коренных зубов, если они у тебя еще остались! Что эти парни здесь делают?
– Дружище, – добродушно ответил ефрейтор, – я ведь не Иисус Христос, и я не могу знать все. Я должен был только привести их сюда. Что они здесь должны делать, знает ваш шеф. Сигарета хорошая. У вас еще найдется?
– Исчезни! – яростно заорал на него Тимм. – Убирайся, пока свиньи тебя не загрызли! Затем он отправился к Альфу, и Цадо локтем открыл дверь в их жилище. Он вывалил хлеб на стол и поставил посуду с кофе рядом. Потом он сказал Биндигу: – Снова начинается, малыш. Как раз привели пятерых русских, власовцев. Опять работа для смертников. Если бы я при этой операции оказался больным, мне, пожалуй, было бы приятнее…
Час спустя их выстроили, и Тимм листал свою записную книжку. Он зачитывал: Цадоровски, Биндиг, Паничек… После этого он прочел еще семь других имен.
– Выйти! – приказал он тогда. – Ждите меня в канцелярии.
Они вышли, тяжело ступая, в то время как он распределял служебные задания между оставшимися солдатами роты.
Перед канцелярией Цадо с шумом плюнул в снег и сдвинул шапку на затылок. Расчесывая спутавшиеся волосы, он с безразличной интонацией сказал другим: – Ребята, хорошенько рассмотрите еще раз наше гнездышко. Мне кажется, мы отправляемся в поездку с небольшим багажом. Если мы не вернемся и умрем, значит, мы поехали в неправильном направлении. чесался спутанные волосы, он говорил безразлично другим?
Тимм прибыл спустя пару минут. Он уже издалека закричал: – Ну, ну, не стойте там как болваны! Построиться! Или вы думаете, я буду с вами день рождения праздновать?
Десять солдат выстроились, и Тимм мимо них вбежал в дом.
Альф сидел в канцелярии и говорил с пятью русскими. Они все немножко знали немецкий язык, и понимали, прежде всего, военные команды. Один из них переводил то, что другие не понимали. Это были мужчины, которые казались очень старыми по сравнению с солдатами разведывательной роты. Тимм попытался, рассматривая их, понять, что скрывается за странным выражением их лиц. Это не были боязливые, и не недоверчивые лица тоже, и, все же, они в то же время были и теми и другими.
Тимм обдумывал тайком, что были бы в состоянии выполнить эти мужчины.
Подождите, думал он, я вас насквозь увижу! Я буду гонять вас, до тех пор пока легкое не выпрыгнет у вас из горла, и если вы не будете бежать дальше без одного легкого, тогда вы можете снова проваливать туда, откуда пришли, не будь я Клаус Тимм!
– Готово? – спросил Альф. Тимм по уставу приложил руку к шапке и ответил: – Готово, господин лейтенант. Десять солдат выстроены снаружи.
– Спасибо. Альф снова обратился к русскому, который переводил другим: – Теперь вы включены в группу роты и сегодня у вас первый день службы с нами. Когда поступит приказ, мы поедем на полигон, а оттуда на задание. Русский перевел эти слова другим. Те не показывали никакого движения.
– Постарайтесь, – продолжал Альф, – познакомиться с остальными солдатами группы, насколько это возможно. Хорошо, когда один знает других. Договоритесь между собой о некоторых словах, чтобы в определенных обстоятельствах вы могли быстро понимать друг друга. Унтер-офицер Тимм проведет для вас инструктаж. Остальные солдаты, с которыми вы отправитесь на операцию, опытные люди. Всегда обращайте внимание на то, что они делают, они занимаются этим не в первый раз. Они в этом деле мастера.
Русский снова переводил. Потом Альф спросил: – Хотите ли вы оставить какую-то весточку кому-то, перед тем, как пойдете на задание?
– Нет, – ответил русский, – нам некому что-то писать.
– Хорошо. Альф встал. Тогда выходите и становитесь в строй с остальными солдатами.
Когда они покинули комнату, Тимм фамильярно спросил: – Лейтенанта, что это за типы? У меня такое впечатление от них, что они либо большие жулики либо прожженные симулянты.
Альф улыбался с выражением скуки на лице. Он приблизился к Тимм и остановился перед ним.
– Честно говоря, я не завидую вам с этим заданием.
– Откуда они взялись? – хотел знать Тимм. Он засунул большие пальцы за портупею и вопросительно рассматривал Альфа. – И для чего они нам нужны?
– Они из этой своры Власова, – ответил Альф. – У меня только очень короткое сообщение из штаба дивизии. Бывшие заключенные, которые служат у нас. Они были освобождены нами, и действуют из благодарности или из ненависти к большевизму, я этого не знаю.
– Заключенные? – спросил протяжно Тимм. – Политические?
Альф пожал плечами. – Нам об этом так точно не сообщали. Возможно, в дивизии сами точно не знают. Это почти невозможно проконтролировать. Да нам это и все равно. Тот факт, что речь идет о людях, которых большевики преследовали по уголовному закону, дает нам уверенность, что они будут биться не на жизнь, а на смерть.
– Преследуемые по уголовному закону – это хорошо! – заметил Тимм с ухмылкой. – И что же как раз мы должны с ними делать?
– Подождите, – посоветовал ему Альф, – самое позднее сегодня вечером нужно ожидать боевой приказ. Я предполагаю, что это будет дело, при котором нам понадобятся люди, говорящие по-русски.
Тимм снова ухмыльнулся. – Я как раз и сам об этом подумал. Но тогда почему они прислали их к нам всего за один день до операции?
– Погоняйте братцев еще сегодня по-настоящему, – сказал Альф, – потребуйте от них побольше.
– В этом можете быть уверены! – приветливо ухмыльнулся Тимм. – Я сделаю их кости мягкими. Они еще с ностальгией будут вспоминать про свои камеры в тюрьме!
Он встал с Альфом перед дверью, и мужчины стали смирно. Тимм посмотрел на них недолго, потом прошипел совсем внезапно и неожиданно: – Лечь!
Русские были последними, кто бросился на землю. Они не поняли короткую, резкую команду и отреагировали только тогда, когда увидели, что немцы упали в снег. Тимм прижал обе руки к бокам. Потом он сказал совсем тихо: – Встать!
Когда они стояли, он подошел совсем близко к шеренге мужчин и сказал с угрозой: – Вы стали как парализованные. Слишком долго топтались. Вы, собственно, хотите пойти на танцы с девушками-связистками или на боевое задание, а?
Все молчали. Тут Тимм обежал кругом и прикрикнул на переводчика русских: – Может быть, Вы откроете вашу пасть и объясните другим, что я говорю! Или вы меня тоже не поняли?
– Так точно, – бойко сказал русский.
– Так точно, так точно, – передразнил его Тимм. – А что, у человека нет званий? Как это называется?
– Так точно, господин унтер-офицер.
– Мы этому еще потренируемся! – обещал Тимм. – Ну, переводите уже! Русский обратился к другим. Они выслушали его неподвижно.
Альф стоял на удалении нескольких шагов и смотрел со скрещенными за спиной руками. Когда русский покончил с переводом, Альф обратился к Тимму и сказал: – Я прибуду к вам позже. Выступайте.
– Так точно, господин лейтенант! – ответил Тимм. – Направо, не в ногу марш. Направление к берегу реки.
Он остановил их на заснеженном лугу у реки и сам остановился в двадцати шагах от них. Потом он вызвал к себе Цадо. Тот прибежал и встал перед Тиммом. Другие были слишком далеко, чтобы понять, что говорил Тимм. Он осклабился на Цадо и тихо сказал: – Чтобы избежать, что вы посчитаете меня сумасшедшим: сегодня я кое-что устрою с вами. С нами русские, их нужно выдрессировать. Вам не повезло, что вам придется помучиться с ними. Но мы потом это скомпенсируем. Понятно?
– Так точно! – ухмыльнулся Цадо. – Они полетят с нами?
– Да, если не умрут в ближайшие пару часов, – сказал Тимм. – А ты объяснишь другим. Придется поднапрячься. Понятно?
– Понятно, – ответил Цадо. Тимм бросил взгляд на солдат, которые стояли выжидающе на берегу. Потон он внезапно заорал на Цадо: – Лечь!
Цадо послушно упал в снег. Когда Тимм позволил ему встать, он был бел сверху донизу.
– Как это называется? – прорычал Тимм.
– Понятно, господин унтер-офицер! – зарычал Цадо в ответ.
– В строй!
Цадо побежал назад к другим, а Тимм вытянул свисток кармана мундира. Он медленно подошел к солдатам. Когда он стал перед ними, то объяснил своим звонким голосом:
– Господа! Вы группа, которая отправляется на следующее боевое задание. Это будет тяжелая операция, я теперь уже знаю, и для этого понадобятся крутые мужчины, а не слабаки. Вы долго отдыхали, и ваши кости заржавели. Но на задании нам нужны подходящие кости, и я успею сделать ваши кости именно такими, еще до того, как все начнется. Жесткие кости и сильные легкие. Если у вас их нет, то вы останетесь лежать на той стороне, и никто не сможет вам помочь. Вы еще будете меня благодарить за то, что мы сегодня сделаем. И если кто-то из вас захочет пожаловаться на такое обращение, то он должен сделать это в письменном виде и подать жалобу мне. Я передам ее командиру роты. Самый ранний срок подачи жалобы – послезавтра утром. Еще вопросы есть?
Русский приглушенно переводил. Тимм ждал, пока тот не закончит. Затем он спокойно сказал: – Каски надеть. Перчатки снять. Беглом марш…
Он заставил их бегать по кругу. Через полчаса он впервые приложил к глазам бинокль и рассматривал их лица. Было девять часов. Он приказал надеть противогазы.
Цадо, натягивая противогаз, пробормотал Биндигу, который стоял рядом с ним:
– До обеда нам крышка.
Тимм заставил их ползать в противогазах по снегу. Он следил, чтобы они всегда ползли по свежему, неприкосновенному снегу, еще не утрамбованному. Он выловил по очереди троих, которые ослабили фильтры их противогазов. Среди них было двое русских. Он определил трех других, среди них и Биндига, и приказал: – Вы ранены. Тогда он заставил мужчин, которые ослабили их фильтры, чтобы лучше получать воздух, взять тех трех других на спину и нести. Первый повалился после двадцати шагов, но вскочил снова и потащил дальше свой груз. После следующих двадцати шагов он столкнулся с другим, и они упали в снег. Третий остановился, пыхтя, возле них и сбросил свой живой груз.
В этот момент голос Тимма был как у ругающейся женщины. Он позволил другим сделать перерыв, а тех троих с противогазами погнал вниз к реке.
Вода в ней замерзла крепко, на толстый лед насыпался снег, а потом снова грянул мороз. Так получилась поверхность из крепкого, зернистого льда, трещины и края которого были острыми как нож.. Тимм стоял на берегу, свисток во рту, руки за спиной. Он прищурил глаза, и потом он погнал трех мужчин по льду. Он больше не давал команд, он только лишь свистел, даже не прикасаясь рукой к свистку. Если он свистел один раз, это означало для солдат, что они должны были бежать. Если он свистел два раза, они должны были падать на землю и ползти вперед. Тимм свистел с периодичностью в полминуты. В десять часов комбинезоны трех мужчин были разорваны на коленях и на локтях. Тимм скомандовал: Внимание! Он оставил мужчин на несколько минут на льду. Они шатались.
– Ну! – сказал Тимм другим. – Приказ звучит: сделаться невидимым. Он выделял им кусок ровной снежной поверхности, к которой с запада примыкал лес.
– Стать по отдельности невидимым. Пистолет-пулемет должен целиться в мою фигуру здесь на берегу, но сам человек должен быть незаметен. Через четверть часа я возьму бинокль. Тот, кого я смогу увидеть, будет танцевать с на льду!
Он повернулся и возвратился к берегу. Трое солдат еще стояли на том самом месте.
– Вперед! Размазни! Он прижал кулаки к бокам и снова зажал свисток между зубами. Он свистнул, и солдаты бежали или ползали по льду. Он вынимал дудку изо рта только, если кричал им какое-то ругательство. Через десять минут один из русских свалился и остался лежать на льду. Он слабо двигал головой, но не мог подняться. Тимм спустился на лед, и потом он стоял на земле возле лежащего.
– Встать! – кричал он. – Лечь! Он повторял это много раз, хотя мужчина не следовал команде. Тимм прищурил глаза. Он выдвинул подбородок вперед и орал на мужчину без перерыва. Он долбил его со всей жесткой силой внушения своего голоса так долго, пока человек не двинулся. Сначала он сделал только слабую попытку двинуть ногами. Тимм сразу закричал: – Встать, марш! Мужчина с трудом поднялся. Но он едва ли стоял на ногах, как Тимм приказал ему бежать. Человек побежал. Он шатался небольшой отрезок, но потом все же он снова побежал нормально. Тимм ухмылялся со злой усмешкой у него за спиной. Когда мужчина после первого падения относительно быстро снова встал на ноги, Тимм знал, что он победил. – Вперед, засранцы! Он вернулся на берег и прокричал им оттуда: – Противогазы снять! И теперь я хочу видеть движение!
На его взгляд они бежали слишком медленно. Они берегли силы, он замечал это. Они не хотели выкладываться до самого конца. Но он прыгал между ними, и его голос звучал резко: – Если вы теперь не начнете бегать быстро, я прикажу вас посадить под арест за отказ выполнять приказ! Потом он просвистел дважды, и мужчины поползли.
В половину одиннадцатого он вспомнил о других. Он поверхностно обыскал территорию с биноклем и сначала не смог обнаружить их. Он гордо вспомнил о том, что это было его школой. Но в то же самое мгновение он хитро подумал: Подождите еще полчаса! Тогда вам станет холодно, и когда вы пошевелите костями, Тимм вас найдет!
За несколько минут до одиннадцати часов трое солдата с голым локтями и коленями ползали по льду. Одежда их была разорвана жесткими осколками льда, и теперь лед им медленно раздирал кожу. Тимм заставил людей ползать очень близко к берегу, где местами над замерзшей поверхностью еще торчал острый, сухой камыш.
Когда он заметил первые кровавые следы на льду, он посмотрел по часы. Было 11. 30. Он сразу взял бинокль и принялся искать остальных солдат. Но он не смог никого увидеть. Тимм не знал, сердиться ему из-за этого или радоваться.
Он свистом поднял их из их убежищ. Потом он засвистел трем мужчинам на льду и приказал им всем вместе построиться. Он разрешил им положить оружие, потом безразлично сказал: – Перерыв. Можете курить.
Цадо выковыривал свои сигареты из кармана. Он сидел в снегу возле одного из обоих русских, которые возвратились со льда. – Не садись, – посоветовал он ему, – завтра утром у тебя вся задница будет израненной, и ты не сможешь бегать. Мужчина безмолвно последовал примеру Цадо, снял каску и уселся на нее. – Кури! – сказал Цадо. Он протянул русскому сигарету и дал ему спички. Русский взял и то и другое, но его руки были настолько неловки, что он сломал три спички, прежде чем его сигарета загорелась.
– Немного устал, да? – осведомлялся Цадо. – Ничего не поделаешь. Так принято у нас. Русский затянулся сигаретой и глотнул. – Ты понимаешь немецкий?
– Я понимаю все, – ответил мужчина, – но не хорошо говорю.
– Меня зовут Цадоровски, – произнес Цадо торжественным тоном и протянул ему руку.
Русский пожал ее. Он тихо спросил: – Поляк?
– Нет. Я из Дюссельдорфа.
Он подмигнул Биндигу, который сидел недалеко от них на своей каске.
– Ну, как дела снова?
– Лишь бы не было хуже, – ответил Биндиг.
– Он болел, – объяснил Цадо русскому, – сегодня он впервые снова на службе.
Русский кивнул. – Может ли быть еще хуже? – спросил он шепотом. Цадо показал ему часы и сказал безразлично: – Полдень только через час.
Альф прибыл лишь за десять минут до конца занятий. Он бросил беглый взгляд на мужчин, и когда увидел их красные, потные лица, он обратился к Тимм, который выжидающе стоял рядом с ним: – Довольно, унтер-офицер?
– Результаты ухудшились, господин лейтенант, – ответил Тимм, – но с этим мы уже справимся.
– Солдаты, – сказал Альф неожиданно, – уже сегодняшней ночью вы отправитесь в поход. Вас ждет важное задание. Участие в этом задании это большая честь для вас. Не каждый может сделать то, что вам придется выполнить в течение следующих дней. Вы – так сказать, элита роты. Очень многое зависит от ваших усилий, но именно вы обладаете наилучшими возможностями, чтобы выполнить ваше задание. Мы пока что остановили большевистскую опасность. Теперь нужно нанести ей смертельный удар. Мужчины как вы справитесь с этим. Впервые среди вас русские товарищи. Вместе с ними вы будете бороться и побеждать. Родина очень надеется на вас. Сражайтесь так, чтобы вам не пришлось когда-то стыдиться перед вашими детьми.
Он приложил руку к шапку и повернулся с торжественным жестом. При этом он сказал Тимму: – Разрешите им разойтись. Сегодня во второй половине дня свободное время. Отъезд с наступлением темноты.
– Направо, – скомандовал Тимм спокойным голосом, – не в ногу, марш. Он шел рядом с лейтенантом, немного впереди солдат, которые устало шаркали ногами по снегу.
– Ваши дети…, – бурчал Паничек, – я уже больше не знаю, как их делают…
Но Цадо не слушал, что он говорил. Он плелся с опущенной головой между Биндигом и Паничеком и говорил больше самому себе, чем обоим другим:
– Теперь, наконец, понятно, кто получил разрешение нанести русским смертельный удар. Небо, это большая честь! Собственно, я очень охотно предоставил бы эту честь кому-то другому…
– Оставить разговоры! – закричал Тимм спереди. – Песню, вы, парализованные вояки!
Один затянул «Далеко под Седаном». Но им не довелось допеть ее до конца, так как Тимм повернулся и закричал: – Вас что, на вой потянуло, или как? Пойте только что-то задорное, а не какие-то печальные марши!
Через минуту они запели шлягер, который начинался с «Ого, сеньорита…» и чуть больше чем через восемь минут заканчивался словами «… приди ко мне в маленькую гондолу!». Пение их походило на карканье детей в период ломки голоса. Лейтенант спросил его: – Как настроение?
– Более или менее –, отвечал Тимм. – Не особенно, но становится снова лучше.
– Если бы у нас было больше времени! – сказал Альф. – Нужно больше заниматься людьми.
Тимм кивнул. Потом он сказал: – Им еще кое-чего не хватает. Здесь нет девочек. Мы должны это изменить. Иначе они становятся капризными и упрямыми.
– Девочки…, – сказал Альф раздосадованно, – это сложная проблема. Нельзя так просто…
– Вот именно, – прервал его Тимм, – и поэтому нужно позаботиться о том, что они каким-то способом снова могли попасть к девочкам. Я знаю это. Это творит чудеса. У меня в этом есть свой опыт.
– Сегодня в полдень еще будет шнапс, – сообщил ему Альф. Тимм согласно кивнул: – Это тоже творит чудеса.
Позади Цадо спросил одного из русских: – Вы хотя бы раз держали уже нож в руках?
Русский посмотрел на него недоверчиво и при этом произнес: – Нож. Да, уже держал.
– Дома? Или теперь у нас?
– Теперь. И дома.
– Дома?
– Да. Дома, – русский кивал, – хороший нож. Милиция отобрала. С железной ручкой. Что-то в этом роде в Германии называют кастетом. Вместе с ножом. Комбинация. Жаль. Очень хороший нож.
– Ну, – ворчал Цадо. Он с шумом сплюнул. – Тогда вы у нас как раз на месте. Очень правильно. Наша рота – это именно элита дивизии. И здесь наша кучка – это элита роты.
– Большая честь, – сказал русский. – Очень большая честь.
– Вот именно! – рычал Цадо. – Я всю свою жизнь грезил о такой большой чести. Всю жизнь…
Следующее утро было бледным и серым. В самом начале дня немного шел снег, но это был только тонкий, зернистый снег. Он скрыл следы прошлой ночи, и белое покрывало в деревне между фронтами казалось неприкосновенным. Местами лежала колючая проволока, но в ней были большие бреши, так как в Германии больше, похоже, не было колючей проволоки. Снабжение никак не могло ее получить.
Птицы еще не проснулись. Обычно солдаты слышали их каждое утро, но сегодня для них было еще слишком рано. Это были вороны, которые по ночам садились на кронах нескольких покрытых инеем деревьев и с нестройным карканьем взлетали по утрам, наверное, чтобы поискать себе пищу. Некоторые солдаты боялись этих ворон и иногда стреляли в них. Поговаривали, что вороны выклевывают у трупов глаза и вообще питаются мертвечиной. Часовой в стрелковой ячейке на фланге позиции, извивавшейся на высоте деревушки Хазельгартен, устал. Он был одним из тех, кто боялся ворон. Его звали Пульвиц и он воевал с самого начала войны. Пять лет вороны ему не мешали, но теперь он вдруг начал бояться их. Он наблюдал в бесцветном рассвете дерево, которое стояло недалеко от его дыры. Там сидела полудюжина ворон, неподвижно, близко друг к другу и тихо.
Через полчаса они начнут шуметь, думал солдат. Но, видит Бога, я им сегодня для приветствия хлопну одну из этих, так что они весь день будут избегать этого дерева как чуму! Если бы была дробь… Стрелять по воронам из карабина смешно. Все равно, что охотиться на кротов с минометом. С ручной гранатой их тоже не убьешь. Они слышат, как она летит, и еще до того, как она взорвется, они улетели. Это же не так, как при ловле рыбы. О, небо, сколько мы тогда в Польше наловили рыбы, глуша ее гранатами! Но это в прошлом! Кто знает, будет ли вообще еще раз такое спокойное время, когда можно будет ловить рыбу. Во всяком случае, на это не похоже.
Он зевнул и постучал ногой о ногу. Было холодно. Он схватил карабин и пару раз машинально погладил холодный ствол. У них даже нет для фланга пулемета, думал он. Что тут будет, если это начнется? Я с моим карабином и шестью гранатами, а тут русские! Слева от меня на ста метрах не лежит никто, и только потом пулемет соседней роты. Если русские здесь начнут, то всем достанется! Надеюсь, они хотя бы тогда по крайней мере пришлют сзади еще людей. Если нет, остается только одно: спрятаться, зарыться! Но это свободное пространство там позади, до леса?
Он вытащил сигарету и закурил. На нем был плащ-накидка и подшлемник под каской. Вчера они принесли ему в дыру два панцерфауста, и с тех пор он больше не чувствовал там себя хорошо. Эти панцерфаусты непредсказуемы, думал он: кто знает, не взорвутся ли они, если их по недоразумению слишком жестко установить? Или не взорвутся ли они уже, когда откинешь кверху прицел? Один солдат рядом недавно вытащил гранату, и она взорвалась у него в руке. Но другие говорили, он якобы сам установил взрыватель, и определенно это был взрыватель с синим колпачком для задержки. Что случится, если применить синий взрыватель, и, несмотря на это, не будет задержки? Они больше не нашли колпачка, да и солдата тоже не могли спросить. Но в эти дни у них желтых взрывателей вообще не было.
Вот так и подыхают, думал солдат. Либо так, либо когда русские придут. Мы здесь не сможем отойти. Это невозможно. Он оперся на ствол винтовки, наблюдая за нейтральной полосой. Там не было никакого движения. Участок земли, на котором лежало несколько брошенных единиц техники, разбитых минометами, давно занесенных снегом. За нее шла линия русских. Если пристально рассмотреть ее, можно было увидеть снежные насыпи около их ячеек. Русские устроили свою позицию перед лесом. Они могут это себе позволить, думал солдат, они знают, что у нас здесь нет артиллерии. Да и где она у нас вообще есть Он смотрел вдаль за лес. Хотел бы я стать такой вот грязной вороной и посмотреть сверху, что у них там. Что они там поставили за лесом. Он выпустил сигаретный дым вниз. Ячейка была тесной. Если он поворачивался, то наталкивался на панцерфаусты. Если он двигал ногами, то наступал на ручные гранаты.
Черт побери, думал он, повезло, что они призвали, наконец, этого коммивояжера, продающего пылесосы, который живет рядом. Луизу, конечно, никак нельзя назвать красавицей, но кто знает, не попытается ли этот братец, все же, завести с ней шашни? Сразу видно, что он был ветреным парнем. Эти коммивояжеры вообще такие! А Луиза прыгала уже на кучу мужчин, пока я появился. Кто знает, что такая женщина может натворить, если ее муж так много лет не появляется дома? Наступит проклятое время, когда эта чертова война закончится. Она длилась и так достаточно долго, и сейчас ее уже все равно нельзя выиграть. Теперь ее можно только проиграть.
Он положил винтовку на бруствер и в тоске целился в ворон. Но он не думал стрелять в них. Было утро, и утром на фронте царило спокойствие. Выстрел вызвал бы всеобщий переполох, и тогда началось бы блеяние пистолетов-пулеметов с той стороны и выстрелы винтовок, и все это без перерыва на полчаса. Лучше хранить спокойствие, думал он. Спокойствие это хорошо. Нужно было бы быть часовым в тылу при штабе. Эти знают, что такое спокойствие. О, небо, почему я не стал водителем. Эти братцы живут как люди…
Он прислушался. Далеко за фронтом русских прозвучал выстрел. Он быстро взглянул на часы и покачал головой. Слишком рано для небольшого артобстрела, который всегда начинался к утру. Потом он услышал, как снаряд разорвался далеко справа от него. Он инстинктивно втянул голову, и последнее, что он увидел, прежде чем нырнул в дыру, были вороны, которые взлетели как по команде. Снаряд ударил дальше на несколько сот метров справа в нейтральную полосу.
Но еще прежде чем он взорвался, за фронтом Красной армии начался гул множества выстрелов, который, кажется, не собирался прекращаться. Пульвиц внимательно слушал с широко раскрытыми глазами. Он слышал, как приближаются первые снаряды. Они ложились ближе. Когда они взрывались, возникал визгливый, металлический звук, как будто сталкивались два стальных диска. И ясный, холодный воздух придавал этому звуку что-то угрожающее. Как при грозе, когда обрушивается молния с громом. Пульвиц втягивал голову все ниже. Лицо его приобретало тревожное, растерянное выражение, так как солдат Пульвиц знал из опыта, что этот вид огня ведется только перед наступлением.
Он еще был жив, когда минометы вмешались в огонь. Сначала это были крупнокалиберные, мины которых с клокотанием и шипением падали почти вертикально з большой высоты. А потом совсем близко был первый падающий с шумом удар реактивных залповых установок. Тут Пульвиц молниеносно поднял голову и взглянул на противоположную сторону. Его предположения были правильными.
На брустверах стрелковых ячеек он заметил каски. В каждой дыре минимум по три. Он снова быстро втянул голову, потому что возле его ячейки в снег ударила последняя серия ракетного залпа. Тридцать два попадания, подумал он. Или даже больше? Тот, кто рядом с ним, пропал. У него наверняка больше будет удачи, чем разума, если он переживет это. Эти снаряды попадают с довольно маленькими промежутками. Они падают плотно как дождь. Они взрываются совсем низко над землей и распыляют множество осколков. Боже мой, думал Пульвиц, они прикончат нас! Как я отсюда выберусь? После минометов вступила в действие батарея ракетных установок, которые стреляли крупным калибром. Ракеты приближались ревя, с ужасным, пугающим звуком, в котором, кажется, было что-то человеческое. Казалось, что они гибли с криком. Но вой во время их подлета был хуже чем попадание. Пульвиц заметил, как он начал потеть, и сорвал с себя подшлемник. Он больше не решался высунуть голову за бруствер, так как местность, казалось, просто кипела от разрывов. Гул больше не прекращался, и попадания сливались друг с другом. Он утратил чувство того, прилетит ли отдельный снаряд непосредственно к нему.
Через полчаса большие орудия начали замолкать. Только минометы еще стреляли. И внезапно Пульвиц услышал между выстрелами минометов и разрывами, как там запустили моторы. Он очень отчетливо мог слышать это, потому что много моторов заводились одновременно. Танки! Пульвиц был достаточно долго на востоке, чтобы различать их на слух. Т-34 можно узнать издалека по звуку его двигателя и по шуму выхлопа.
Огонь не молчал, но он становилось слабее, и тяжелые пушки теперь стреляли по целям, которые должны были лежать дальше в тылу, в лесу или за лесом. За Пульвиц кто-то бежал по разорванному воронками снегу и протяжно кричал: – Танки спереди! Это был лейтенант, командовавший этим участком. Он был грязен, и на лице у него был кровавый шрам. Он бежал от дыры к дыре и кричал, чтобы готовили панцерфаусты. Пульвиц с неуверенной ухваткой положил оба панцерфауста, которые были в его дыре, на край своего убежища. Он бросил один взгляд на ту сторону, и в то же самое мгновение молниеносно втянул голову. Они там начали стрелять из пистолетов-пулеметов. Он снова медленно поднял голову, чтобы посмотреть, что там происходило. Только его глаза были выше бруствера. Но достаточно, чтобы увидеть первый танк, который вырвался из леса. Это был окрашенный в белый цвет стальной гигант, и он сломал несколько деревьев, когда вырвался на свободное пространство. Пушка была повернута вперед, почти горизонтально. Танк одним скачком пронесся через заснеженную небольшую возвышенность и, качаясь, подъехал к стрелковым ячейкам. За ним разлетался снег, поднятый гусеницами. В пелене поднятого снега Пульвиц увидел маленькие коричневые фигуры, сидевшие за башней. Ему наконец, удалось правильно поднять прицелы обоих своих панцерфаустов. Когда он взглянул вверх, танк уже катился между советскими стрелковыми ячейками, и другие танки вырывались из леса. Моторы визжали. Ружейно-пулеметный огонь смешивался с шумом выхлопных труб. Тогда первый длинный желтовато-синий огненный луч вырвался из пушки головного танка, и снаряд с шипением понесся вперед. Так же широко, как простирался там лес, двигалась цепь танков. И из пушек всех этих танков в одно и то же мгновение сверкнуло дульное пламя. Танки были на удалении пятидесяти или шестидесяти метров от него, когда Пульвиц поднялся и выстрелил из панцерфауста. Он выстрелил только одним, потому что когда его граната упала в снег рядом с головным танком и пару раз перекувыркнулась, из пушки этого танка вылетел снаряд, который спустя полсекунды убил Пульвица.
Биндиг сидел возле телефониста и стучал кулаками по столу, на котором стояли три аппарата. Он был в том же виде, как убежал с полигона, в промокшем комбинезона, с каской на голове и пистолетом-пулеметом на груди.
Телефонист машинально зажег новую сигарету. Задувая спичку, он сказал Биндигу: – Плохи дела. Если эта кучка так долго не отвечает, что-то случилось. Запасись терпением, пока соединение снова заработает…
Был вечер. Во второй половине дня Биндиг узнал, что перед Хазельгартеном произошло массированное нападение русских. Никто не мог ему сказать, какое там положение. Они закончили свою тренировку. Этой ночью им предстоял вылет. Но Биндиг в своих мыслях совсем не думал о предстоящей операции, которая без сомнения была заданием для смертников. Он думал только лишь об Анне.
– Ну! – попросил он телефониста нетерпеливо, – набери снова центральную. Хоть они же должны знать, что происходит!
Телефонист был скучным, невеселым ефрейтором. Он затянулся сигаретой и сказал: – Сейчас. Но не так быстро раз за разом. Иначе они будут кричать на меня. Вероятно, твою жену давно эвакуировали.
– И кто должен был бы ее эвакуировать! – набросился на него Биндиг. – Ты наверняка еще никогда не видел своими глазами наступление русских. Деревня от фронта лежит всего на удалении кошачьего прыжка.
– Лежала! – поправил его ефрейтор. – Очень глупо со стороны твоей жены было сидеть так близко от фронта. Моя сидит в Баварии. Они там вообще еще не знают, что идет война.
Биндиг что-то хотел сказать, но в этот момент зазвонило в одном из телефонов, и телефонист надвинул наушники на уши.
– Это «Махаон», – произнес он в трубку, которая висела на ремне на его груди, – где «Соня»? Придет? Целую тебе ручку, дорогая! Он сделал неуклюжий поклон перед девушкой, которая говорила на том конце провода. Потом он прикрыл трубку рукой и сказал Биндигу: – Теперь пора. Вы, собственно, получили уже свой шоколад?
Из наушников послышался далекий голос. Потом треск, затем голос стал громче. Телефонист мог хорошо его понять и спросил: – «Соня»? Здесь «Махаон». Прошу информацию о наступлении сегодня утром.
Он быстро нажал кнопку одного из других аппаратов и показал Биндигу на пару наушников, лежавших рядом на столе. Биндиг поднял их, но на нем была каска, и он заметил это только сейчас, когда хотел надеть дугу наушников. Поспешным движением он сорвал каску с голову и отбросил ее назад за собой. Потом голос по проводу был таким отчетливым, будто до него было всего лишь несколько домов.
– Моя информация не очень полная, товарищ. До сих пор известно очень мало. Наступление началось на рассвете. Полчаса обстрел, потом танки и пехота. Танки довольно далеко пробились, но к полудню отошли назад до Хазельгартена. Там еще идет бой. Насколько известно, у нас еще остались опорные пункты в деревне. Еще вопросы?
– Спроси, эвакуировали ли кого-то! – быстро потребовал Биндиг.
Телефонист сбросил пепел сигареты и безразлично спросил: – Известно, эвакуировали ли кого-то?
– Эвакуировали? – услышал Биндиг голос на том конце провода. – Обязательно голос, как говорят. – Деревня была очищена. Там до наступления дислоцировалась рота люфтваффе, которая к полудню отошла. Вместо нее пришли другие подразделения. Истребители танков и пехота.
Телефонист посмотрел на Биндига. Биндиг быстро подумал, но больше ничего не спрашивал. Телефонист безразлично сказал в трубку: – Спасибо, «Соня». Это все.
Потом он снял наушники и сказал Биндигу: – Не волнуйся. Если твоя жена действительно еще была в деревне, когда они отводили роту люфтваффе, то она поехала вместе с ними. Тебе нужно только подождать, пока она не сообщит о себе. Отправь ее в Баварию. Ты даже представить себе не можешь, как они там в Баварии…
Биндиг поднялся и взял свою каску. Он бросил пачку сигарет на стол телефонисту и пошел к двери. Ефрейтор скривил признательно лицо и посоветовал: – Если ты захочешь попробовать, вероятно, позже еще раз…
– Спасибо, – произнес Биндиг у двери, – у меня больше не будет такой возможности. Но если ты как-то узнаешь, эвакуировалась ли она, тогда скажешь мне, когда я вернусь…
Телефонист кивнул. Он спрятал сигареты и окликнул через плечо: – Зайди ко мне, когда вернешься!
Выйдя на улицу Биндиг по дороге к бараку, где они разместились, встретил Тимма.
– Что случилось? – спросил унтер-офицер. – Ты подкрадываешься как первый человек.
– Ничего, – ответил Биндиг, – ничего нельзя было узнать. Тимм наклонил голову и прищурил глаз. При этом он произнес: – Это произошло чертовски быстро. Хотел бы я знать, что стало с нашей оравой.
– К полудню роту отвели в тыл
– Отвели? – Тимм поднял брови. – Ты говоришь, отвели?
Биндиг кивнул. – Больше ничего не удалось узнать.
– Надеюсь, они хотя бы прихватили наши вещи, – сказал Тимм. Поторопись, остался еще один час. Потом вы переоденетесь.
По перекопанному снегу дороги, пересекавшей Хазельгартен, катился маленький автомобиль. Это был джип, но у него была надстройка из деревянных планок и брезента. На сидевших в нем солдатах была оливково-коричневая форма и меховые шапки с пятиконечными красными звездами. Это было трое мужчин: водитель, который, ругаясь, объезжал воронки от снарядов, беспрерывно щелкал подсолнечные семечки и сплевывал шелуху в сторону из окна машины, и двое офицеров, сидевших за ним, которые держались за ручки, потому что машина тряслась и качалась. У одного из двоих офицеров было тонкое, светлое лицо со светлыми глазами. Брови его были светлые. Другой, более полный, коренастый тип с маленькими, круглыми глазами и очень темной, коричневой кожей, сердито качал головой. Он посмотрел со стороны на своего попутчика и осведомился без большого интереса: – Как вы чувствуете себя, товарищ, после такого долгого перерыва снова в старой семье?
Тот, к которому он обратился, улыбнулся. Это удалось ему, несмотря на скачки, которые совершал джип. Потом он ответил: – Хорошо. Мне долго пришлось ждать этого мгновения.
Другой скривил лицо, потому что больно ударился о скобу тента. Он схватился свободной рукой за висок и недовольно проворчал: – Можно без ранений пройти кучу боев, но один такой вот лихач на драндулете может переломать все кости!
Шофер, который между тем выругался в очередной раз, теперь заговорил внятно, чтобы его можно было слышать сзади несмотря на шум мотора легкой машинки: – Черт бы их побрал! Разрушили всю дорогу, так что каждую минуту нужно думать, как бы не сломать оси! Я это всегда знал: эти танкисты никогда не думают о том, что придет после них!
– И о том, что перед ними, тоже! – успокоил его невысокий пассажир. – Но езжай медленнее, мы на этой машине хотим еще доехать до Берлина!
В деревне мало что изменилось. Только форма солдат была другой, и наряду со множеством воронок на дороге появились новые дыры в еще оставшихся стенах домов. Бой закончился. В деревне разместились несколько тыловых подразделений и штабов. Красная армия заняла новые позиции в нескольких километрах на западе. Там еще танки осуществляли прикрытие, но они вряд ли еще могли понадобиться. С противоположной стороны не было существенной концентрации немецких войск, которые могли бы решиться на внезапное наступление. И продвижение вперед остановили не потому, что оборона немцев была слишком сильна, а потому что уже достигли указанной в приказе цели. Красноармейцы рыли себе траншеи и укрепляли свои позиции. Было тяжело копать стрелковые ячейки в замерзшей земле, но они могли это делать, не лежа под огнем, потому что танки прошли немного вперед и прикрыли строительство позиций. Теперь наступила тишина.
Коренастый мужчина во второй раз ударился головой о железную скобу тента. Он издал проклятие, на которое водитель одобрительно кивнул головой. Потом, охая, он потер себе причиняющее боль место и сказал: – Небо, что это за война! Если так продлится до Берлина, то я приеду туда с перевязанной головой. Варасин, как вам удается не ударяться?
Тот улыбнулся и сказал: – Вам надо было бы надеть каску, товарищ политрук.
– Каску! – прошипел он в ответ. – Не буду я в самом глубоком тылу надевать каску! Что мои солдаты обо мне подумают?
Водитель спросил: – Далеко еще?
– Нет, – ответил Варасин, – еще пара сотен метров. Тот хутор, который вы видите впереди.
– Эта женщина – единственная, кто остался здесь из немцев? – спросил политрук.
Варасин кивнул.
– Гм, – промычал другой, – полезно было бы посмотреть на эту женщину, представляя себе при этом, что она немка. Можно ей как-то помочь?
– Вряд ли, – сказал Варасин. – Это очень энергичная женщина. Она сама справится. Разве только следовало бы все же обратить на нее внимание наших войск в деревне. Кроме того, было бы хорошо, если бы можно было дать ей немного продуктов.
Политрук осторожно потрогал место удара на голове. – Так глупо, – ворчал он, – завтра будет шишка. Даже стыдно! Продуктов здесь на передовой не так-то и много, мой друг. Но мы что-то сделаем. Вы сами можете это сделать. У вас будет чаще возможность посещать ее.
Варасин помолчал одно мгновение. Через голову водителя он глядел на улицу. Потом он сказал: – Я попросил разрешения вернуться в свою часть. Она находится в новом месте, дальше на запад.
Другой добродушно улыбнулся. Он попытался по-дружески положить Варасину руку на плечо, но быстро убрал ее назад, так как машина скользнула в дыру, и ему пришлось снова ухватиться за ручку. Когда машина опять поехала спокойно, он сказал: – Вас оставили здесь в деревне по понятной причине. Вы понадобитесь штабу. Не каждый жил так долго за немецкими линиями. И эта позиция там впереди… она не долго там продержится. У нас сейчас очень хорошие исходные позиции. В этом месте мы сделали на фронте маленький выступ. Такую себе шишку, вроде той, что завтра утром будет у меня на голове. Но этот выступ на фронте имеет решающее значение. Готов поспорить, что немцы пока этого не поняли…
Варасин неподвижно смотрел прямо. При этом он тихо говорил: – Я всегда сражался на фронте. Почему теперь я больше не могу этого? В этом была моя надежда, это поддерживало меня. Или вы думаете, что мне так легко давалось изображать глухого так долго и ничего не делать?
– Подождите, – был ответ. – Вы вовремя снова получите свою роту. Время еще есть. Как только мы двинемся дальше, ваше желание будет исполнено. Но в настоящий момент вы нужны здесь. Потерпите.
Пока машина медленно качалась вперед, политрук тихо поинтересовался, так чтобы водитель не мог услышать: – У меня есть еще только один вопрос к вам, товарищ Варасин. Такое дело, о котором не так легко спрашивать, как о других вещах. Но спросить нужно… Он взял себя за подбородок и некоторое время массировал до синевы выбритую кожу.
Варасин с ожиданием посмотрел на него. – Спрашивайте, – приободрил он политрука.
Тот сделал серьезное лицо. Он напряженно посмотрел на пуговицы своей шинели и потом спросил: Эта женщина…, ну, к которой мы едем… Поймите меня правильно, вы… Ваши отношения ввиду…
– Разрешите, – спокойно прервал его Варасин, – на этот вопрос легко ответить. Эта женщина спрятала меня у себя. У нее честный характер и она не фашистка. Но и не коммунистка тоже. Но я коммунист. У меня есть жена, которая тоже на фронте. И я не тот мужчина, который из нашей борьбы делает галантное приключение. Если это ответ на ваш вопрос…
– Благодарю вас, – сказал другой. – Простите меня. Но я должен был спросить об этом. Это мой долг.
– Я понимаю, – ответил Варасин. – Ваш вопрос не был для меня неприятным. Мне нечего скрывать.
Пока Варасин молчал, политрук сказал: – Мы все лучше узнаем немцев. Таких женщин, как она, следует уважать. Почему же она сделала все это?
Варасин закусил себе губу. Ему действительно нечего было скрывать. Но все же он не раскрыл перед товарищем все, что произошло в то время, как он жил за фронтом немцев.
Он умолчал о Биндиге, он, собственно, сам не знал, почему. Он ничего не должен был скрывать. И его встречу с Биндигом тоже. Но он умолчал о ней, и это даже сейчас начало мучить его.
Он смотрел на улицу, когда услышал рядом с собой, как другой говорит: – Еще, пожалуй, один месяц, тогда мы пойдем вперед. Мы поедем. Вы будете командовать новой ротой. Остаток ваших бойцов распределили по другим подразделениям. И какую Германию мы там увидим? Какой будет эта Германия, после того опыта, что мы получим только в этом отдельном случае?
Когда машина с толчком остановилась перед двором хутора, политрук с охами поднялся. Выходя, он сказал водителю: – Мое здоровье на твоей совести! Я только наполовину человек после этой качки. Иди с нами и немного погрейся. Чтобы ты на обратном пути смог лучше уклоняться от дыр!
Анна стояла у дверей. Она слышала, как приехала машина. Она сделала шаг в сторону мужчин, и когда Варасин поднял руку к меховой шапке, тихо произнесла: – Боже мой, Георгий, не могу поверить. Вы останетесь сейчас или вы снова отступите?
– Мы останемся, – улыбнулся Варасин, – и мы пойдем дальше на запад. Отступать мы больше не будем.
Он показал на другого офицера и сказал: – Анна, я хочу вам представить политического руководителя моего полка. Он тот, кого в Германии называют комиссаром. Он пришел, чтобы увидеть женщину, которая спасал офицера Красной армии. Его зовут товарищ Балашов.
Она обменялась рукопожатием с маленьким коренастым мужчиной в коричневой шинели. Тогда она отошла в сторону и пригласила их в дом. – Заходите, – попросила она военных, – у меня есть горячий кофе на плите, ячменный кофе. Я надеюсь, вы попьете его…
Они сидели на скамьях в помещении, перед которым стоял часовой. Они могли покинуть помещение, но они не могли позволить себя увидеть на аэродроме. Никто другой кроме них не мог войти в помещение. Отсюда они, когда самолет был бы готов, пошли бы на посадку. Было бы темно, и никто не увидел бы их. Возможно, даже летчик не увидел бы их, потому что перегородка между кабиной пилота и грузовым отсеком самолета была бы закрыта.
Их было шестнадцать солдат, и если бы они появились на аэродроме такими, как они выглядели теперь, любой часовой, вероятно, без оклика выстрелил бы в них. Они были одеты в землисто-коричневую форму Красной армии. В этой форме все было на месте – и широкие погоны, и красные звезды.
Форма не была новой. На ткани была масса пятен. Пятна от машинного масла, грязи и засохшей крови. У некоторых на форме дырки от выстрелов, которыми был убит ее последний владелец, еще не были зашиты.
Мужчины едва ли обращали внимание на это. Это было безразличный, наполненный напряжением час до старта. Это было время, когда часы, кажется, стояли на месте. Пятеро русских, которые сидели вместе в углу, молча уставились на пол. С тех пор, как они сидели вместе с другим в этом помещении, они не перекинулись ни словом.
Цадо наблюдал за ними уголком глаза. Когда он взглянул вверх, он заметил, что Биндиг, сидевший рядом с ним, тоже глядит на русских. Он толкнул его.
– Ты…, – тихо сказал он, – я хотел бы знать, что они теперь думают.
Другие парашютисты дремали или играли в карты. Они спорили о цвете волос какой-то женщины, их общей знакомой, нервно курили или грызли шоколад, который они получили. Тимм лежал, растянувшись на скамье и опираясь головой об стену, и, похоже, спал.
– А они вообще думают? – спросил Биндиг.
Цадо пожал плечами. Потянувшись за сигаретой, он сказал задумчиво: – Я полагаю, они думают. А о чем ты думаешь? Об Анне?
– Прекрати об этом, – ответил Биндиг после паузы, – я размышляю над тем, что выйдет из всего этого.
– Из чего?
– Из этого! – сказал Биндиг и движением руки указал на форму.
– Из этого и из того, что будет.
Цадо скривил лицо. На нем появились мягкие черты, который больше не подходили к остроте его профиля. Он медленно положил руку на колено Биндига и произнес: – Парень, брось думать. Сейчас уже слишком поздно думать.
Обер-ефрейтор, которому принадлежалаи половина ящика «болса», громко хлопнул себя по бедрам. – Я так и знал, что выиграю сегодня! Как всегда! Незадолго до того как протянуть ноги, вы, шейхи, проигрываете мне ваши деньги, и когда я хочу получить их, вы уже погибли! На этот раз платите заранее!
Биндиг покачал головой. Он дерзко надел меховую шапку набок. Его можно было принять за предприимчивого красноармейца. Но лицо его не подходило к этому впечатлению. – Мне это не нравится, – сказал он, – и никто не может потребовать от меня, чтобы это мне нравилось.
– Так они никого и не спрашивали, доставляет ли ему это удовольствие, – прорычал Цадо, – или, может быть,и ты вспомнишь о чем-то в этом роде?
– Два туза, – закричал владелец ящика «болса». – Снимай штаны!
– Если война выглядит так, то меня больше нельзя для этого использовать, – сказал Биндиг Цадо.
Тот недовольно пыхтел. – Успокойся. Один черт, в какой форме ты сдохнешь.
– Но я тебе говорю, что мы больше не солдаты, – объяснял Биндиг, – мы разбойники. В этой форме у нас на теле мы уже не солдаты, а преступники.
– А я говорю тебе: брось думать! У тебя от этого будут ненадежные руки. Наш брат из-за этого умирает.
– Мы не должны этого делать, – произнес приглушенно Биндиг, – это безответственно.
– Ты говоришь так, как будто ты должен отвечать за это. Кто придумал идею? Мы или штаб?
– Еще один! – кричал обер-ефрейтор. – Еще раз один! Папочка уже заберет тебя домой со свадьбы!
– Мне это противно, – сказал Биндиг, – никогда еще это не вызывало у меня такого отвращения как теперь.
Цадо покачал головой. При этом он тихо сказал: – Иисус, Мария, если бы ты хотя бы только понял, что это никого не интересует. Ты должен делать только одно, а именно то, что приказывает Тимм. И ничего больше. У тебя нет никакой ответственности за что-то, и никого не интересует, несчастен ты или нет. Когда же ты, наконец, это поймешь?
– Что у нас сделали бы с русским, которого поймали в нашем тылу в немецкой форме? – спросил Биндиг.
Цадо устало махнул рукой. – Жуй свой шоколад и не думай об этим. Или ты боишься?
– Страх ли это, если я скажу, что считаю это жульничеством?
– Тебе бы это истолковали как страх. И тебе стоило бы даже радоваться, если бы они ограничились этим и не обвинили тебя в государственной измене.
– Это не страх.
– Нет. Наверное, глупость.
– Цадо, – сказал Биндиг, – не надо тут мне рассказывать, что тебе это все равно. Я знаю, что ты думаешь. Не нужно ничего говорить, я точно знаю, что ты думаешь.
– На стол твои вшивые три короля! – шумел обер-ефрейтор. – Ну, ну! Это кое-что стоит!
– Думать это для нас непозволительная роскошь, – сказал Цадо. Он зажег новую сигарету и задумчиво выпустил дым, смотря вслед спиралям, которые тот образовал в душном воздухе. – Я всегда думал, что ты к этому так же привыкнешь, как я. Чего ты хочешь? Я все знаю, но чего ты хочешь? Мы сюда попали и мы должны продолжать. Это хоть какой-то шанс счастливо отделаться. А все другое, что ты делаешь, только поможет тебе гарантированно погибнуть. От полевой жандармерии, при разминировании минных полей или в другом месте. Вот так и скажи мне, зачем тут думать?
– Детишки, тяните карты! – горланил обер-ефрейтор. – В этой колоде еще два туза. Все еще можно выиграть!
-Ты понимаешь? – спросил Цадо. – Я через это прошел. Нет никакого выхода кроме того, что ты останешься лежать там. И я этого боюсь.
– Боишься?
– Да. Боюсь, что они расстреляют меня по законам военного времени из-за этой формы. И точно так же боюсь, что они этого не сделают. Я не знаю, поймешь ли ты. Но это не необходимо. Только одно необходимо; ты должен понимать, что мы – поколение тех, кто всегда говорил «да!», которое они медленно перерабатывают в удобрения. Наш единственный шанс – пережить это. Тогда мы сможем открыть рот. Вероятно. Но это не несомненно…
– Мы трусы, – сказал Биндиг, – вот это несомненно.
– Заткнитесь! – внезапно зарычал Тимм. Он поднялся немного и наморщил лоб. – Занимайтесь своими проклятыми спорами где-то в другом месте! Лучше выспитесь!
Он снова опустил голову, и игроки в карты продолжали играть в «очко». При этом они стали разговаривать немного тише. Русские закурили. На их лицах было что-то роковое, боязливое.
– Мы трусы, – сказал Цадо горько, – мы, большие трусы, провернем для них сегодня или завтра ночью снова какое-то дело, и именно потому, что они этого хотят.
– Как раз поэтому, – сказал Биндиг. – Я это теперь знаю. Так как мы слишком трусливы, чтобы этого не делать, мы это делаем. Мы оба. Мы точно знаем, что происходит, но мы сидим здесь и ждем приказа Тимма. Вот так.
– Как же я буду радоваться, когда для меня вся эта опасная чушь закончится, – произнес мрачно Цадо, – как я буду рад! Я пойду работать в первый попавшийся цирк. Хотя бы осветителем. Или чистить конюшни. Наплевать, лишь бы все это было позади…
Часовой засунул голову в проем двери. Он сказал им, что им нужно готовиться, самолет стартует через полчаса.
Но они были уже готовы, и им больше нечего было делать. Они получили все, что нужно было получить. Оружие, взрывчатку, гранаты, зажигательные заряды. На ремнях у них висела белая ткань, и они накинули бы ее на себя, если бы потребовалось. Им нужно было лишь взять свои парашюты и строем прошагать до самолета. Это было последнее, что им нужно было сделать.
Тимм поднялся и поправил свои ремни. Он выглядел дерзко в форме красноармейца.
– Встать, ребята, – закричал он, – начинается серьезное дело.
Он подождал мгновение, пока не стало тихо. Затем он кратко сказал: – Парни, сейчас мы пойдем туда, чтобы показать им, что мы можем. Никто не знает, как это кончится. Каждый из нас может погибнуть. Но это безразлично. У нас трудное задание, которое многое потребует от нас. Но мы тяжело тренировались последние дни. Мы тренировались настолько тяжело, что некоторые из вас еще носят повязки на коленях. И с такой же твердостью мы выполним наше задание. Каждый, кто тверд, вернется назад, помните об этом. Мы покажем им, что мы умеем биться так же хорошо, как армия умеет бежать. Точите ножи, ребята, сегодня ночью никто не выживет никто, кто попадется вам в лапы! Сегодня ночью снег станет кровавым! Встать и приготовиться!
Игроки спрятали свои карты. Обер-ефрейтор недоверчиво держал против света листок, на котором записал свои выигрыши. Русские встали и ощупывали свое оружие.
– Вот оно, – тихо сказал Цадо Биндигу, – всегда, как только это начинается, все забыто. Тогда я замечаю, что они сделали из меня. Тогда Клаус Тимм – мой лучший товарищ, и я чувствую поток воздуха у двери отсека и толчок, когда вытаскивается фал и когда раскрывается парашют. Тогда я чувствую, как вздрагивает в руке пистолет-пулемет, и я хотел бы громко кричать. Я слышу все приказы, и я вижу, как мы на Крите влезаем на горы, с засученными рукавами, с сигаретой в углу рта. Я вижу всех девочек, которые нам когда-нибудь махали – ах, какие же мы, все-таки, ничтожества!
Взлетела только одна машина. Они сидели в ней очень тесно. Один прижимался к другому, и у каждого из них была одна мысль: когда они повезут нас назад, мы будем сидеть уже не так плотно.
Операция «Кладбище»
Обе дороги, которые пересекались в паре сотен метров от цепочки озер, шли из Берзиников и Зегари. Это были две обычные грунтованные дороги, пересекавшие заснеженную зелень лесов, которые были здесь темны и непроницаемы. У всей местности было что-то естественное, на первый взгляд незатронутое людьми. Снежные заносы лежали белым и чистым. Лед озер был покрыт плотным снежным покровом, и на неприкосновенном снегу только время от времени был заметен след дикого зверя.
Только эти обе дороги говорили, что люди тут есть. Они были оживленными. Снег был убран в стороны, а земля была местами перекопана колесами и гусеницами машин, из-за чего снег приобрел грязную окраску. Возможно, именно из-за сильного движения по обеим дорогам территория вокруг перекрестка казалась неприкосновенной. У солдат не было времени выходить из их машин. Им приходилось использовать все свое внимание, чтобы как можно скорее оставить эту заснеженную дорогу за собой и доставить их машины в места складирования вокруг Судавии. Здесь гул пушек можно было слышать время от времени лишь как слабое бормотание, и то лишь тогда, когда огонь вели крупные калибры. Было так тихо, что можно было подумать, что война давно забыта. Но когда снова и снова по дороге проезжала очередная колонна, или несколько тяжелых машин с трудом пробирались через снежные заносы, было видно, что мир в заснеженных лесах был только кажущимся.
Клаус Тимм не долго задержался на перекрестке. Там все было так, как он знал это по учениям перед операцией. Поэтому он скоро снова отошел назад в лес, лежавший к западу от перекрестка. Он прошел мимо укрытия своих солдат и махнул рукой часовому, который хотел приблизиться к нему, чтобы он этого не делал. На ходу он поднял воротник шинели. Он мерз. Он сам не знал, почему ему сразу стало так неприятно на душе. У него никогда не было малярии, но он чувствовал, что у него был жар, с тех пор как он сел в самолет.
Пока он крался вперед между засыпанными снегом ветками елей, он старался в точности запомнить каждую самую мелкую деталь местности, чтобы достаточно хорошо знать ее через несколько часов, и ориентироваться в темноте. Он видел свою тень, бегущую перед собой, когда он пересекал поляну. Стоявшее сбоку солнце отчетливо изображало на снегу его верхнюю часть туловища и голову с неуклюжей меховой шапкой. Сделай скачок, думал он одно мгновение, перепрыгни через тень! При этом он улыбался, и улыбка относилась к поговорке о собственной тени, через которую никто не может перепрыгнуть.
Тогда он нашел боковую дорогу.
Это была относительно широкая дорога. У Тимма не было сомнения, что машины, не медля, выбрали бы ее. Она мягко ответвлялась от главной дороги и извивалась по лесу. Тимм следовал по ней, пока не добрался до дровяного склада, о котором они говорили в дивизии. Он тщательно осмотрел место и пришел к выводу, что не могло и быть лучшего места для того, что они планировали этой ночью.
Лес был безлюден и тих. Было холодно и солнечно. На ветвях деревьев несколько дней назад возникли маленькие блестящие сосульки. Тимм мимоходом отломал одну и засунул между зубами. Холод льда был приятен. Но он не утолял жажду, а Клаус Тимм хотел пить. На противоположном краю дровяного склада он присел на пень, который возвышался на несколько сантиметров над снегом, и зажег сигарету. Жмурясь, он следил за дымом, который поднимался мягкими завитками и медленно растворялся в ясном воздухе. Свет дня становился красноватым. Тени становились больше и темнее.
В порядке, думал Тимм. Он скривил лицо в ухмылку, как будто только что рассказал женщине какую-то непристойность. Потом он сильно сплюнул и сказал самому себе: – Встать, кладбище пора привести в порядок! Он двинулся, не спеша и тяжело ступая, в обратный путь. Солдаты сидели под свисающими ветками и курили. Они в ожидании окружили его, когда он подошел к ним. Кроме двух часовых все были вместе. Тимм сдвинул меховую шапку на затылок и сказал: – Продолжайте курить. Сейчас я вам расскажу, что каждый из вас должен сделать.
Он выглядел немного неуклюже в толстой шинели с большим воротником, но если он скрывал ремень с пряжкой с советской звездой, то это впечатление несколько смягчалось. У Тимма пересохло в горле. Он вытащил фляжку, которая лежала в кармане брюк, и сделал глоток шнапса. Засовывая фляжку обратно в карман, он сказал: – Ну, теперь начинается. Мы все, за исключением двух часовых, идем к дровяному складу. Когда мы будем там, мы займем наши посты.
Он объяснял им еще раз во всех подробностях последовательность операции, и когда никто не задал вопросов, двинулся с ними к дровяному складу. У них не было много хлопот. Они точно исследовали окрестность, а потом Тимм определил места, на которых должен был стоять каждый отдельный солдат. Он подготавливал все так осмотрительно, как будто готовил большой праздник и должен был позаботиться о том, чтобы у его гостей сложилось самое лучшее впечатление.
Когда наступил рассвет, на дровяном складе все было сделано. Посты разместились на своих местах. Тимм с остальными солдатами ушел. Он оставил половину их на полпути между дорогой и дровяным складом. Среди них были и двое русских. С прочими он дошел до дороги. Там он поставил двоих русских на перекрестке. Один из них сразу развернул два маленьких флажка, красный и желтый.
В кустарнике напротив перекрестка Тимм поставил на пост обер-ефрейтора, владельца ящика с «болсом». Он тихо сказал ему, так чтобы не могли слышать другие: – Эти двое самые надежные люди из пятерых. Но ты не упускай их из виду. Если им угрожает опасность, стреляй в кабину машины, которую они останавливают. Если они захотят сбежать, стреляй в них. Понял?
– Понял, – ответил обер-ефрейтор. Его лицо вспотело под толстой меховой шапкой. – Послушай, – сказал он, – я то с ними справлюсь. Но этот потешный пулемет с диском сверху мне не нравится. Нам нужно было взять хоть один из наших…
Тимм повернулся, чтобы уйти. Он сказал обер-ефрейтору: – Ты же не можешь скакать тут вокруг как русский, но с немецким ружьем. А пулемет хорош. Я сам из него уже стрелял. Не оставляй диски в снегу.
– Хорошо, – проворчал обер-ефрейтор, – я прослежу…
На развилке этого пути от дороги Тимм оставил последнего из пяти русских. Он для пробы стал на середине дороги и махал двумя флажками точно как тот на перекрестке. Тимм удовлетворенно кивнул и приказал им спрятаться сбоку от дороги в лесу. На некотором удалении, на склоне на противоположной опушке леса, он поставил на пост Биндига и Паничека. Он сам выбрал место, где они должны были лежать. Они наблюдали за большой дорогой и съездом на лесную дорогу. Это было удобное положение.
Тимм сказал: – Следите за маленьким Иваном. Нельзя доверять этим вонючкам.
Паничек пробурчал что-то и положил свой пистолет-пулемет в снег перед собой. Это было русское оружие, как и у всех их на этой операции. Паничек недовольно выкопал маленькую яму для круглых дисковых магазинов. Потом он показал на два ящика, которые принес сюда, и поинтересовался: – Мне провод сейчас установить?
– Устанавливай, – приказал Тимм кратко, – но не слишком близко к дороге. И скажи еще раз тем на перекрестке, чтобы до одиннадцати часов никто и носа не высовывал на дорогу.
Паничек кивнул сонно и ушел с одним из ящиков и с катушкой тонкого телефонного провода. Тимм как раз снова хотел спуститься вниз к дороге, когда услышал моторы. Он обеспокоено наморщил лоб, но его опасение было излишним. Дюжина машин медленно карабкалась по снегу. Это были грузовики с минометами на прицепах. Машины были битком набиты боеприпасами, под небрежно натянутыми тентами можно было увидеть ящики.
Когда машины исчезли, Тимм сказал Биндигу: – Это было бы уже кое-что для нас. Только многовато сразу. Нам нужно было бы получить их по отдельности. Если такая куча прибывает вдруг сразу, то теряешь обзор.
– А где Цадо? – поинтересовался Биндиг.
Тимм указал в сторону лесной дороги. – Сзади на дровяном складе. Он бросил еще раз взгляд на позицию и спустился к дороге. Он приказал русскому, чтобы тот не появлялся раньше одиннадцати часов, и мужчина усердно кивнул.
– И сохраняйте хладнокровие, – сказал Тимм, – если с другой стороны что-то подъедет. Не нервничайте. Помашите тому, кто на лесной дороге, и спокойно махните другому, что он может продолжать ехать по дороге по направлению к перекрестку.
Русский снова кивнул и пару раз последовательно поспешно повторил: – Так точно, так точно.
– Не теряйте нервов, – снова объяснил Тимм, – это должно выглядеть все чертовски официально, потому что это этого зависит, почуют они неладное или нет. Ты должен махать своими флажками так официально, как будто перед тобой стоит сам Сталин. И если кто-то у тебя что-то спросит, рявкни на него, чтобы он не мешал проезду. Ты ведь знаешь, как у вас это делают. Ты знаешь это лучше нас.
– Так точно, – сказал русский. Тимм исчез на лесной дороге, а русский спрятался под ветками у обочины. Снова все стало так же тихо, как раньше.
Наступила ночь, и она была ясной и светлой от звезд. Слабый лунный серп парил над лесами. На дороге время от времени пыхтели машины. Отдельные грузовики, мотоциклы, колонны, которые с затемненными фарами ехали из глубокого тыла к фронту. Мощные, полностью загруженные грузовики с рычащими двигателями. Они таскали боеприпасы и продовольствие. Иногда они были заняты пехотинцами. Но большинство из них везли грузы и тащили на прицепе маленькие пушки, походные кухни или минометы, которые на своих резиновых колесах плясали за тяжелой машиной.
На дровяном складе солдаты заминировали площадь приблизительно в пятьдесят квадратных метров. Они делали это по определенной системе, и мины были установлены на взрыв не от давления, а присоединены к кабелю, который заканчивался у «адской машинки», стоявшей на удалении пары сотен метров в лесу.
Цадо прислонился к ели, когда Тимм проходил мимо него. У него была меховая шапка в руке, и вспотевшие волосы свисали на лицо. Тимм толкнул его в грудь и спросил: – Устал?
– Ни капельки, – ответил с ухмылкой Цадо, – я мог бы деревья с корнями вырывать. Со всем, что есть на тех деревьях. Когда все же уходит наш автобус?
– В четыре часа.
– Немногое поздновато, – заметил Цадо, – успеем ли мы за два часа до этого озера или нет?
– Мы справимся, – ответил Тимм. – Нам не нужны два часа для этого, но мы предусматриваем два часа. Так что для нашего кладбища у нас здесь есть три часа. По моим расчетам мы за это время вполне можем захватить пятнадцать машин. Может быть, даже больше.
– Может быть, – сказал Цадо. – Но может быть, что они нам тоже надерут задницу.
– Вполне, – невозмутимо кивнул Тимм, – но как раз на этот случай мы и прихватили тебя. Чтобы у ты, наконец, снова получил свое удовольствие.
Когда было одиннадцать часов, двух русских на перекрестке поставили посередине улицы. Обер-ефрейтор взял телефонную трубку и произнес приглушенно: – Внимание, шум мотора.
Это был отдельный бензовоз. Тяжелый трехосный автомобиль.
Русский с красным флажком остановил его и хрипло прокричал водителю: – Объезд, в двухстах метрах справа. Навстречу движутся танки. Следующий регулировщик направит тебя к объезду. Поторопись, чтобы ты успел съехать с дороги.
Водитель немного недружелюбно возражал, и пассажир рядом с ним спросонья поднял голову. Они только полчаса назад сменили друг друга. Затем бензовоз поехал, и обер-ефрейтор сообщил в телефонную трубку: – Все в порядке. Внимание, он идет к вам…
Маленький русский на ответвлении лесной дороги махал своим красным флажком в сторону, и бензовоз свернул направо. Проезжая мимо русского с флажком, шофер спросил недовольно: – Долго еще ехать по этой смешной дороге?
– Через сто метров стоит пост, там тебе укажут дорогу дальше, – ответил солдат с флажком.
Машина двинулась, и водитель сердито проворчал: – … твою мать!
– Так точно! – крикнул ему вслед постовой, – но двигайся, убирай, наконец, свою колымагу с дороги. Сейчас появятся танки!
Через еще сто метров один из русских махнул машине, чтобы та ехала помедленнее, пока другой, стуча ногой о ногу, стоял рядом с ним. На краю дороги стояли фигуры двух других солдат, которых шофер, однако, не мог видеть. Он высунул голову из опущенного окна, а пассажир проснулся от проникающего холода и поднялся. Пятый русский объяснял шоферу, как тот должен был ехать. При этом он влез на подножку кабины, и потом двинул свой пистолет-пулемет немного повыше. Он нажал на спусковой крючок, который вызвал стрельбу очередями, примерно на секунду, а потом еще дважды последовательно нажал на крючок для одиночного огня.
Клаус Тимм выпрыгнул на дорогу из тени деревьев и раскрыл противоположную дверцу кабины. Пассажир выпал ему навстречу.
– Господа, – сказал Тимм, – это бензовоз. И это прямо в самом начале. Вот так будет фейерверк! Пока один из солдат забрался на сиденье водителя и повел тяжелую машину дальше по лесной дороге к дровяному складу, Тимм сурово сказал обоим русским: – Ну, уберите их! И не бросайте их так близко к дороге!
Отпуск для лейтенанта Альфа оказался совсем внезапным. Сначала позвонил Барден и сообщил ему, что он должен в тот же день подать прошение об отпуске. Он сразу сделал это. И уже на следующий день он был откомандирован в дивизию. Он передал роту еще более молодому офицеру из штаба, получил свои отпускные документы и ждал Бардена. Тому удалось получить два места в самолете, так что в тот же вечер они на транспортном самолете полетели в Берлин. На вопрос Альфа, почему он так быстро получил отпуск, если он уже был дома летом, дядя ответил только добродушной улыбкой.
Они в Берлине в промежутке между двумя авианалетами сели в один из немногих едущих по расписанию поездов, и на следующий день уже были в Шварцвальде. Это была идиллия елей, снега и яркого солнечного света.
Свадьба прошла для них быстро.
Дочь Бардена радовалась, когда ее отец прощался с нею на другой день.
– Служебная командировка, Эрнестина. На обратном пути мы снова заскочим. А пока пусть у тебя все будет хорошо!
Она, естественно, знала, что это неправда, потому что ее школьная подруга жила в тот городке, где останавливался Барден, когда делал одну из этих своих командировок. Барден попросил погрузить два больших чемодана, которые он принес, в машину, которая повезла его и Альфа в Санкт-Георген. Он телеграфировал туда раньше, и комнаты для них были забронированы. Когда они находились еще в нескольких километрах от маленького курорта, Барден тихо, чтобы водитель не слышал, обратился к Альфу.
– Я предполагаю, что ты не будешь против нескольких приятных деньков. Или как…
– Не против, – сказал Альф рассеянно, – совсем не против. Мне они понадобятся. Фронт стоит нервов.
– Вот именно, – кивнул Барден, – „кроме того, там в Санкт-Георгене есть две очень интересные дамы. Это тоже не будет для тебя неприятно.
– Дамы? – поинтересовался Альф.
– Да, дамы. Время от времени человек должен отдыхать. Небольшой лес, немного ходьбы на лыжах и теплый грог вечером, все это вещи, которые нам нужны. Никаких скучных семейных праздников. Эта свадьба уже достаточно долго длилась. Он наклонился еще ближе к Альфу и шепнул ему, улыбаясь: – Кроме того, она была формальностью. Не стоит делать вокруг таких вещей так много шуму.
– Ты часто бываешь в Санкт-Георгене? – спросил Альф. Барден кивнул: – Это прекрасный городок. Эта местность как-то меня притягивает. Спокойствие и уединенность, и при этом определенный комфорт, который я ценю. И, кроме того, иногда полезно и нужно посмотреть немного дальше. Санкт-Георген – это гнездышко, в котором можно жить для себя. Понимаешь?
– Понимаю, – подтвердил Альф. – Что это за отель, в котором мы живем?
– Хороший, – ответил Барден. – Я очень давно знаю его владельца.
– А дамы?
– У Алисы собственный дом, – объяснил Барден, – но лучше жить в одном из отелей.
– Я понимаю, – кивнул Альф.
Барден улыбнулся по-отцовски. – Я же знал, что ты рассудительный мальчик. Впрочем, я совсем забыл тебе сказать, что Алиса – вдова. Высокообразованная женщина. Гизела это одна из ее знакомых. Она проводит свои каникулы в Санкт-Георгене. Я думаю, у нее довольно часто каникулы.
– Гизелау…, – сказал себе под нос Альф. Он попытался представить себе девушку. Это ему не удалось. У него вообще не было представления, как могла выглядеть девушка, которая ждала его.
Снаружи появились первые дома Санкт-Георгена. Это были маленькие прижатые к склонам пестрые домики в горном стиле, с косыми крышами и окрашенными в белый цвет оконными переплетами. Снег обрамлял края дороги высокими валами. Деревья до самых крон были скрыты в этих снежных валах.
Барден сказал: – Мы получим в отеле пару штатских костюмов. Такие лыжные костюмы, какие тут теперь почти все носят. Их можно взять напрокат. Ты, собственно, любишь ходить на лыжах?
– Очень, – ответил Альф.
Тогда водитель спросил: – Знает ли господин полковник улицу, на которой расположен отель? Барден ее знал.
– Эй, лейтенант! – закричала девушка. – Вы боитесь? Она стояла внизу, между первыми, маленькими елочками на опушке леса, и Альф немного дальше медленно карабкался наверх на своих лыжах. Она еще не была стара, но у нее была стройная, созревшая фигура женщины. Ее волосы были немного слишком белые, однако это не мешало Альфу.
– Гизела, – крикнул он в ответ, – я прошу вас, не называйте меня все время лейтенантом! Кроме того, у меня крепление не в порядке.
– Могу я называть вас мальчуганом? – поддразнивала его девушка, опираясь головой на руки, державшие лыжную палку.
– Я вас предупреждаю! кричал Альф. – Как только мое крепление будет в порядке, вы тогда узнаете мальчугана!
– Я его и так уже знаю!
– Вам это полковник выдал?
– Он мне показал даже вашу фотографию. Это было уже некоторое время назад. Тогда он пробыл здесь пару недель. Вы теперь придете?
– Иду! – объявил Альф, и потом оттолкнулся.
Он помчался за девушкой по лесной дороге, и они позволили лыжам скользить по инерции. Альф пытался настичь девушку, но она убегала от него. Она была хорошей лыжницей. Пока Альф думал, кто мог ее этому научить, они пробежали участок через плотный лес, а потом они снова были у склона, который вел вниз к городку.
Внизу уже горели первые огни. Они распространяли уютную атмосферу приближающегося вечера. Вечер был самым прекрасным в этом горном городке. Тогда снег блестел под фонарями, и дым дров из дымовых труб насыщал воздух. Люди встречались в вестибюле гостиницы, который пах еловыми иголками и воском для пола, пуншем из красного вина и сигарами. Или в баре, где барные стулья. Все здесь выражало уверенность: сюда война никогда не придет. Это гнездо в горах – это остров защищенности. И тут еще были другие постояльцы.
Альф договорился с Гизелой в баре. Он еше раз проверил в зеркале своей комнаты, как сидят на нем темные лыжные брюки, прежде чем спустился. У двери он вспомнил о том, что после своего возвращения домой с лыжной прогулки он еще довольно долго лежал растянувшись на кровати. Он еще раз вернулся и тщательно разгладил сшитое из отдельных лоскутов одеяло. Он сделал это с затаенной улыбкой и чувствовал себя при этом очень смелым. Девушка Гизела освободила его от внутренней неуверенности с помощью нескольких искусных оборотов в беседе. Альф сразу чувствовал себя смельчаком. У него никогда до сих пор не было этого чувства, да, он никогда и не думал, что смог бы обходиться с женщиной таким легким, игривым образом. Прошло относительно короткое время, с тех пор как он познакомился с Гизелой. Но он воспользовался этим временем.
Внизу в зале он уселся в одно из широких плюшевых кресел и зажег одну из английских сигарет из чемодана Бардена. Он положил пачку сигарет с зажигалкой перед собой на низкий столик для курения, глядя в сторону двери, где в нише, наполовину спрятанной за тяжелым занавесом дремал, швейцар.
Этот швейцар знает своих клиентов, думал Альф. У него есть исключительное и единственное задание становиться сонным в нужный момент и закрывать глаза. Он делает это за две сигары в день, я не думаю, что дает Барден ему больше.
– Черт побери, трофейный товар? – произнес в этот момент довольно звонкий, не особо приятный голос за ним. Альф оглянулся и узнал лейтенанта, который населял комнату в той же коридоре, что и он. Лейтенант был в форме. Его маленькая, немного коренастая фигура хорошо подходила к сшитому на заказ серо-зеленому мундиру, на котором ярко выделялись петлицы цвета охры. Эти связисты, подумал Альф, как они только получают свои награды! На груди у лейтенанта висел Немецкий крест. Лейтенант пах горькими, французскими духами, запах которых напоминал об аромате ладана в церквях. Альф поднялся, чтобы поприветствовать другого, потом предложил ему сигарету из своей из пачки. Но офицер-связист отказался.
– Я предпочитаю сигары. Раньше я выкуривал свои тридцать сигарет в день. Временами я еще вспоминаю аромат этих «Плейерс». Мы захватили их впервые около Дюнкерка. Вы служите на Западном фронте?
– Нет. На востоке, – объяснил Альф. Барден представил ему этого связиста. Он, кажется, знал его. Лейтенант был не особенно симпатичен Альфу, но похоже, с ним можно было найти общих язык. Кроме них он был единственным офицером, который жил в настоящее время в этом отеле.
– На востоке…, – сказал связист, – это тяжелое дело. Вам не позавидуешь. Я слышал, вы служите в ВВС говорил мужчина сообщений, „это жесткая вещь. Их не нужно завидовать. Я слышал, вы служите в военно-воздушных силах?
– Воздушно-десантные войска, – ответил Альф, – подразделение парашютистов.
– Тех, которые ходят пешком…, – улыбнулся снисходительно другой офицер.
– Мы как раз и нет, – вежливо сказал Альф. – Мы одно из немногих подразделений, которые еще висят под куполом.
– Ах, – воскликнул связист, – это интересно! Вы должны рассказать мне об этом, приятель! Я могу пригласить вас? В баре есть превосходный…
– Я…, – прервал его Альф. Гизела через двери вышла к ним. Альф взглянул на нее, а потом перевел взгляд от нее на связиста.
– О, простите! – произнес он, кланяясь Гизеле. – Вы госпожа невеста! Мое приглашение распространяется на вас обоих, если вы позволите.
Когда они сидели на барных стульях, он приветливо сказал: – Я совсем забыл представиться, сударыня. Меня зовут Рибек. Лейтенант Рибек. Последнее место службы – Италия. Сейчас жду нового назначения. Вы предпочитаете ликер или присоединитесь к нашему мужскому коньяку? Три звездочки, гарантированно…
– Коньяк, – сказала Гизела, – эти ликеры безвкусны.
– Отлично! – обрадовался Рибек. – Как раз такая женщина, которая нужна офицеру. С мужской крепкостью, даже в напитках, ха-ха-ха… Он крепко держал бокал в согнутой руке перед грудью и резко двинул вперед голову.
– За ваше здоровье! За ваш счастливый брак после победы!
Бармен равнодушно расставлял бокалы. Он был маленьким, похожим на паука парнем с лицом землеройки. Пока он открывал бутылку мартини, он кивнул Гизеле.
– Опять у нас?
– Зима, – сказала Гизела. Она отбросила свои белокурые волосы, которые длинными и в мягкими волнами спадали на темное шелковое платье. Потом она улыбнулась: – Зимой нужен Санкт-Георген… и ваш бар здесь и то, что здесь можно выпить!
Бармен, ухмыляясь, вытирал бокалы. Он со стороны посмотрел на Альфа, беседовавшего с Рибеком, но ничего не сказал. Его интересовал только Альф, который выпил бокал и поставил его.
– Вам повторить? – спросил бармен. Альф кивнул.
Гизела накрыла бокал своей рукой. – Не так быстро, Фипс. Ночь длинная. Оба офицера снова беседовали. Фипс немного склонился к столу и прошептал: – Я в этом уверен. Вы выглядите обворожительно, Гизела!
У него была деревянная нога. При налете авиации во Франции он не успел добраться до укрытия. Он плохо ходил, но люди не замечали этого, когда он стоял за барной стойкой. Он знал своих клиентов. Поздней весны он обслуживал отца Гизелы. Тогда же он делал комплименты даме, которая была с ним. В разгар лета приехала мать Гизелы, и мужчина, который был с нею, заказывал в основном взболтанное шампанское. При случае Фипс осведомлялся тогда о делах. Осенью приезжала Гизела. Иногда она приезжала еще раз и зимой. Фипс хорошо разбирался в своем деле. Люди, которые владеют банком, иногда должны развеяться. А как раз у этих людей был не самый малозначимый банк в Кёльне.
Рибек снова поднял бокал. Они выпили, и Альф подумал, что еще очень рано и что он не может пить дальше в таком же темпе.
– … и тогда мы спустились с наших позиций на несколько сотен метров вниз с горы и обменивались сигаретами с американцами…, – рассказывал Рибек.
– Тогда я тоже еще курил сигареты и очень любил эти американские палочки. Они отдавали их нам целыми блоками. Меняли на вещи, на которых была свастика. И на пластинки с «Лилли Марлен». За нее давали больше всего. Они были просто чокнутые с этим. Мы даже не могли достать им так много. А как он собирали значки «Зимней помощи»! Он рассмеялся и покачал головой. Он выглядел хорошо, сидя на барном стуле, слегка поджав колени, одну руку небрежно опустив на никелированную стойку бара, в другой руке бокал. Смеющееся лицо с хорошей челюстью и очень светлыми бровями. На его форме не было ни пылинки. Как будто он только что принес его от портного.
– У вас старый состав в вашей роте, или это новые люди? – поинтересовался он у Альфа. Тот сделал глоток из бокала, потом ответил: – Сравнительно много старых солдат. Избранные. Но есть и пополнение.
– Это пополнение больше ни на что не годится, – хмуро констатировал Рибек. – Молодые парни слишком изнежены. Ненадежные. И их слишком недолго обучали.
– Может быть, – сказал Альф, – но я получил хороших людей. Молодые, но они в порядке. Я могу положиться на них. Но к ним нужен особый подход.
– Ну да, бить по честолюбию. Рибек кивнул. – Да, это иногда помогает. Но если посмотреть в целом… Дружище, я не скажу вам ничего нового: человеческий материал уже больше непригоден.
– Чего желают дамы? – спросил Фипс, бармен. Это больше не были две девушки с вялыми лицами. Они не использовали барные стулья, даже тогда, когда Фипс попросил их об этом. Они столи перед баром и выбирали лимонный коктейль. Бармен осматривал их, одновременно выжимая по половинке лимона в каждый бокал. Он делал это на хромированном прессе и тщательно следил за тем, чтобы ни одно волокно мякоти плода не попало в бокал. Пока он хлопотал с кубиками льда, чтобы выбрать два маленьких кусочка, он услышал, как одна из двух женщин сказала: – Это неслыханно, требовать от нас этого. Как если бы мы пришли сюда, чтобы позволить обращаться с нами через плечо…
Неудача, подумал Фипс. Он знал своих людей. Он достаточно долго работал в этом отеле, и когда у него была еще нога, он работал в одном баре в Баден-Бадене. Он расставил коктейли и поклонился. Это бесполезно, думал он, этому сорту людей нужно отдавать сдачу до пфеннига. Но там есть еще оба лейтенанта и белокурая дочь директора банка. И настоящие гости прибудут лишь позже.
– Собственно, все крутится только лишь вокруг того, чтобы продержаться! – объяснял Рибек с большой серьезностью. Он выпил так много, что говорил без умолку. Он улыбался Гизеле и просил прощения: – Не сердитесь на меня, но мысль о победе не оставляет наше воображение в покое даже во время отпуска. Смотрите, – обратился он потом снова к Альфу, – я, к примеру, не сомневаюсь в том, что рано или поздно с западными державами можно будет прийти к соглашению какого-либо рода. Их можно будет принудить к этому, так как они давно сами заметили, как далеко коммунизм постепенно продвигается ощупью в их сфере влияния. Тут не будет большого труда, наши дипломаты справятся с этим, хотя сегодня еще лучше не говорить об этом, потому что слишком много есть людей со слишком узко ограниченным интеллектом. А русских нужно будет выбить другими средствами. Об этом кое-что слышно. Я рассчитываю на то, что мы увидим своими глазами огромное изменение в области военной техники. Наш шанс – это массовое уничтожение. То, что приходит с востока, нельзя победить обычным оружием. Фюрер знает об этом и он давно принял соответствующие меры. Однажды мы будем поражены тем, что с помощью оружия, которое сегодня мы не можем себе даже представить, за считанные секунды будут стерты все войска русских на целых участках фронта. Вот наш шанс. Если Запад тогда не уступит, то он вынужден будет считаться с тем, что и против него может быть применено то же оружие, что и против азиатских орд. Это сделает Запад послушным, можете не сомневаться. Выпьем же, товарищ! Милостивая барышня!
Он поднял бокал, но содержимого там уже было немного. Выглядело немного курьезно, как он с торжественным движением руки поднес оставшуюся каплю ко рту.
Когда он поставил бокал, бармен вежливо поинтересовался: – Господа продолжат с тем же напитком?
– С тем же, – сказал Альф через плечо и подставил ему свой бокал. Он почувствовал удовольствие от выпивки. Он наблюдал с определенной радостью, что Гизела пододвигалась к нему все ближе. Она слегка оперлась об его плечо, и он чувствовал запах ее духов. Собственно, сейчас он был бы не прочь избавиться от этого связиста, но, в конце концов, это уже все равно, с кем пить у барной стойки. Когда бармен начал незаметно записывать их напитки, так как больше не мог сохранить числа в голове, Альф торжественным голосом объявил связисту: – Однажды я вернусь домой с моими людьми! Наш вклад в победу будет не мал! Мои люди смелы, я воспитал их для этого. С твердостью. И с этой твердостью мы также победим… Он замолчал и торжественно взял бокал. Он был пьян, и он сразу вспомнил о том, что стало ему понятно там на передовой. Он больше не хотел вспоминать об этом. Он сконфуженно поднял свой бокал. При этом он пролил немного содержимого. Бармен наблюдал за этим с невозмутимым лицом.
– Выпьем за победу. Она для нас означает жизнь! – произнес он более-менее твердо. Рибек поднял свой бокал. Он сидел прямо. Гизела присоединилась к ним с чувством небольшой скуки.
Бармен по собственной инициативе снова наполнил бокалы. Теперь пойдет мой заработок, думал он. Сейчас нужно подумать о счете. За каждый бокал, который он отныне разливал, он записывал двойную цену на бумагу под стойкой. За победу, думал он. Всегда за победу. На этом я заработаю себе на костюм. Ткань стала чертовски дорогой, а этой деревянной ногой я порчу себе брюки каждые несколько месяцев. Потом он склонился к Гизеле и прошептал ей на ухо: – Я порекомендовал бы вам заказать кофе. Тут он есть. Я немного добавлю в кофе соли, и это снова поставит его на ноги. Вы должны уговорить его выпить этот кофе!
Но Альф уже не протрезвел больше. Не протрезвел и тогда, когда бармен каким-то волшебным образом достал откуда-то бутылку шипучего вина и смешал для Альфа напиток, состоявший из шампанского, пива и фруктового сока.
– Жаль, – произнес бармен с сожалением, когда оба офицера становились все громче, вместо того, чтобы протрезветь, – эта микстура помогала даже людям, у которых уже была белая горячка. Он, наверное, вообще ни к чему не привык.
Но Гизела сама больше не могла точно понять, что говорил бармен. Они пили дальше. Попеременно за Гизелу, за войска связи, за роту Альфа, за метод осуществления массового уничтожения, и за победу.
– Это…, – лепетал Альф неуверенно, –… наша жизнь, или, может быть, и нет! Единственный шанс победить, победить совсем неожиданно…… еще в этом году… Он не чувствовал, что пролил так много алкоголя на брюки, что они уже промокли насквозь. Он обнял Гизелу и щупал рукой под ее плечом. Связист наблюдал за этим с сонными глазами.
– Гизела, – мямлил Альф, – еще одна… неделя! Тогда я не буду… больше… у тебя…
Бармен закурил. Сегодня тут было лишь слабое движение. Бар, в которых не происходит ничего, кроме того, что два мужчины и одна женщина систематически напиваются, был скучным.
– Посмотрите на этого мужчину…, – начал Рибек торжественно, – посмотрите на него, как он сидит здесь и держит вас за руку! Он пришел из ада! И он снова пойдет туда. Для вас! Вы не должны никогда забывать ему об этом! Своим телом он защищает вас. Ради вас он добьется победы! Это святое понимание жизни немецкого солдата… Он рыгнул и бесцеремонно попросил прощения.
С победой это будет трудно, думал бармен. Они вроде бы бомбили Оснабрюк. И Швайнфурт и Дармштадт. Пожалуй, там мало что после этого останется. Проклятое время, когда же оно закончится, иначе они, возможно, придут даже сюда. – Еще раз того же? – поинтересовался он.
– А разве мы когда-то пили что-то другое, кроме того же самого? – пробормотал Альф довольно громко.
– Нет, слушаюсь!
– Ха…, – Альф удивленно поднял брови. – Был солдатом?
– Очень много! – ухмыльнулся бармен.
Альф покачал головой. Человек отвечает «очень много»! И таким он был солдатом. Радуйтесь, что мы быстро с этим справились! Из вас мы бы… сделали солдата, настоящего. Не так как с этим вашим «очень много»! Вы австриец, да? Из Остмарка? Обычное дело, австрийское разгильдяйство! Мы бы уже с этим справились…
– Я убежден в этом, господин лейтенант! – бармен снова ухмыльнулся. Он поставил им бокалы и записал в два раза больше. Сегодня я еще немного приблизился к костюму, подумал он. Потом он сказал вежливо: – Так точно, господин лейтенант. Убежден в этом, господин лейтенант.
… Все уже больше не солдаты, – печально констатировал связист, – …никакие уже не солдаты. Жалкие штатские… никакого представления…
– Мальчуган…, прошептала Гизела Альфу на ухо, – это так… это уже помаленьку становится слишком…
Альф крикнул с поднятым бокалом: – Вы должны были бы увидеть моих ребят! Парни! Мои ребята, если бы они здесь были…
Конечно, думал бармен, если бы они все так много пили, то я собрал бы денег на костюм за один день.
Внезапно Альф покачал головой. – Где… полковник? Где он, когда здесь учения? Все время женщины… Гизела, я полагаю…
– Да, – быстро сказала девушка, и это прозвучало в некоторой степени трезво, – мы лучше бы еще немного отдохнули. Завтра мы хотим подняться вверх в горы. Она отодвинула бокал назад, и отрицательно махнула рукой, когда бармен снова хотел наполнить его.
Это некорректно с ее стороны, думал он, быстро записывая на листок еще по бокалу всем. Это некорректно, потому что сегодня он так или иначе больше уже ничего не получит, а если она его оставила здесь, получилось бы еще по несколько бокалов. Она не сделала так в прошлую зиму, когда была здесь с одним из Ваффен-СС. Но он также и выдержал больше, чем этот смешной дядя-парашютист. При этом они должны, вроде бы, много пить, как я слышал…
Он получил от них кучу денег, но они не заметили, что он их обманул. Он был чертовски доволен, когда оба офицера, покачиваясь, ушли. Это стоило того. Он быстро позволил себе одну рюмочку коньяка.
Он был плохим солдатом, и когда он был новобранцем они так мучили его, что он порой был готов повеситься в сортире. Фипс вам ничего не должен, думал он, Фипс заставит вас за это заплатить! они содрали шкуру с него, что он собрался иногда близко вешаться на отхожем месте. В такие мгновения он забывал обо всем горе своей солдатской жизни и о деревянной ноге. В такие мгновения Фипс, бармен, гордился тем, как смело он мстил, и в такие мгновения у него было возвышенное чувство, что он с его покалеченным телом, является господином над всеми офицерами сухопутных войск, военно-воздушных сил и военно-морского флота.
Альф очнулся в своей комнате, где он в очень неудобном положении лежал на кровати рядом с Гизелой. Он сразу почувствовал, что его живот испытывал спазмы, и его в некоторой степени протрезвило. Он, спотыкаясь, побрел к туалету, и когда по прошествии довольно долгого времени немного облегченно он снова вернулся в комнату, он внезапно заметил Гизелу. Она лежала поперек кровати, так же как он оставил ее. Платье съехало и обнажило плечо. Альф опустился рядом с нею и неуверенно полез рукой в вырез ее платья. Девушка извергла недовольный звук. Она мало что носила под платьем, но у Альфа были неуверенные пальцы. Она сердито повернулась на бок.
– Что, любимая? – спросил он наивно.
– Жаль мое платье…, – пробормотала она, не открывая глаза.
Он снова приблизился к ней, но она вяло ударила его в бок. – Этого не будет, мальчуган. Ты пьян. Ты только испортишь мое платье. Эта история того не стоит…
– Любимая…, – просил Альф.
Она поднялась, качаясь, и с удивительной сноровкой сняла платье через голову. Он поднял его и положил на стол. Когда он повернулся и снова хотел к ней, она уже лежала в его кровати и натянула на себя сшитое из отдельных лоскутов одеяло. – Ложись туда…, – мягко сказала она, – и выспись. Ты слишком много выпил…
– Но, все же… это…
Она подвинулась и уступила ему место. Наконец он неуклюже опустился рядом с нею и растянулся. Он забыл раздеться, и только когда он немного приподнял сшитое из отдельных лоскутов одеяло, заметил, что девушка действительно заснула. Он касался ее пару раз, но она недовольно двигала плечами и говорила недружелюбно: – Не будь ребенком! Это не должно быть именно сегодня. У нас еще есть несколько дней.
Это обижало его, так как он чувствовал себя сильным и трезвым. У него еще после туалета оставался горький вкус во рту и он не решался поцеловать ее. Он вытянулся возле нее и чувствовал ее тело, и единственное, что она позволила ему, это положить его руку на ее грудь. Через некоторое время он убрал ее и скрестил обе руки под головой.
– Ты не знаешь нашу жизнь, – сказал он, – ты не знаешь, через что нам приходится пройти…
– Нет, – сказала она сонно, – и если бы даже и я знала это, все равно этой ночью ничего больше не произошло бы, мой дорогой. Но расскажи еще немного о том, через что вам приходится проходить. Под это так прекрасно засыпается…
Он был оскорблен и думал, не выставить ли ее ему за дверь. Но у него не хватило сил сделать что-то такое. Он только наморщил лоб и сказал: – Никто не знает, что мы выполняем. И никто об этом не узнает. И ты тоже. День за днем и ночь за ночью рисковать своей жизнью…
Она уютно потянулась. Ее белокурые волосы разметались по подушке. Он не смотрел на нее. Он уставился в потолок. Он чувствовал себя оскорбленным и высмеянным, отвергнутым. Он совсем иначе представлял себе эту ночь.
– Расскажи немного, как вы там рискуете своей жизнью…, – пролепетала она, – это так приятно, перед тем как уснуть…
Он не отреагировал на это, но все же продолжил говорить. Он увидел свою роту так отчетливо перед собой, как будто бы он стоял среди солдат, теперь, в этот момент, когда он лежал в кровати рядом с белокурой девушкой.
Он видел напоминающее хищную птицу лицо Цадо, вопросительные глаза Биндига и язвительный взгляд Тимма. Он вспомнил, что они отправились на задание как раз в тот день, когда он начал свой отпуск. И он начал рассказывать о них. Он рассказывал пьяной женщине все то, чего не видел сам, о чем ему только докладывали. Ночи, неподвижно проведенные в какой-то роще, молниеносное, беззвучное убийство часового и сухой лай пистолетных выстрелов. Страх оказаться обнаруженным, и отчаяние, если был обнаружен. Он изображал взрыв подрывного заряда и предсмертный крик русского, кровь, приставшую к форме солдат, и их бледные, усталые лица, когда они возвращались. Он изображал всё настолько жестко и жестоко, что он сам начал верить, что пережил это лично. Он хотел поразить женщину всей этой жестокостью, он хотел внушить ей уважение к себе, и ему доставляло почти садистское удовольствие описывать ей, каким способом можно убивать людей. Он никогда не видел мертвого русского, но он очень точно описывал его.
Однажды Цадо изобразил ему, как они убирали часового. Теперь он описывал также и все это и чувствовал, как кровь при этом прилила к его голове, как он становился все трезвее, все более яростным в своей беспомощности. Он хотел поразить ее и внушить ей страх и уважение. Здесь лежал не просто какой-то лейтенант вроде того другого, связиста. Здесь лежал Альф, который вел подразделение в бой, был привычен убивать, холодно и жестоко, для которого человек стоил немногим более, чем потерянный патрон, женщина столько же как бесполезный вытяжной шнур ручной гранаты.
– Пощади Бог того, кто попадет нам в лапы…, – говорил он. Его голос начал дрожать от возбуждения. – Иногда я хотел бы сказать это всем людям. Наступит время, когда мы потребуем от каждого отчета о том, что делал он сам, в то время как мы рисковали нашей жизнью… Тогда то, кто сегодня еще не знает этого, заметит, кто мы… и…
В комнате было тепло. Пот выступил у него на лбу. Он двигался инстинктивно. Он хотел нанести ей какую-то обиду, которая напоминала бы ей о нем и об этой истраченной попусту ночи, и он подыскивал слова, в то время, как она спокойно дышала возле него, с открытым ртом, с губами, еще красными от помады, и с густыми осветленными волосами, делавшими ее старше, чем она была на самом деле. Он потянулся и начал снова, стараясь сконцентрировать все мысли на том, что он говорил. И пока он в он потягивался, еще до того, как он знал, что он хотел рассказать, он услышал, как она тихо и недовольно бормочет: – Боже мой, ты бы, по крайней мере, снял ботинки. На мне мои самые лучшие чулки, а ты даже не сможешь прислать мне пару новых с этого паршивого востока, если ты вдруг их порвешь…
Томас Биндинг: все мечты умирали
Когда они остановили шестой автомобиль и отвели его с дороги к дровяному складу, Биндиг настолько замерз на своем посту, что начал стучать зубами. Прошло уже довольно много времени, и до сих пор не случилось еще никакого инцидента. Казалось, будто на некоторое время наступило спокойствие. Биндиг медленно поднялся. Он неуверенно стоял на ногах и довольно долго делал разные движения, чтобы кровь быстрее текла по венам.
Паничек недовольно лежал, вжавшись в снег, и дыханием грел себе руки.
Биндиг отошел немного в сторону, чтобы размять ноги. Он с удовольствием спустился бы к дороге, и по лесному пути дошел бы до дровяного склада, но он не решался покинуть свой важный пост. Потому что Тимм приказал ему, чтобы он ни на мгновенье не оставлял без внимания развилку дорог. Так что он сделал только пару шагов назад в лес и постучал ногой о ногу в холодных сапогах. Он впервые надел сапоги; обычно, если они прыгали в немецкой форме, они всегда носили эластичные шнурованные ботинки. Он, как и другие тоже, особенно тщательно забинтовал лодыжки, но бандажи были немного тесными, и он охотно ослабил бы их. Он думал, решиться ли ему снять сапоги и перемотать бандажи заново, но потом воздержался, потому что это длилось бы слишком долго, а на дороге сигнал тревоги мог бы поступить в любую минуту.
Сквозь заснеженные деревья падал бледный, слабый лунный свет. У этой ночи ничего не было от расплывчатого серебра других ночей. У нее не было колдовства. Перед луной проплывала тонкая гряда облаков. Биндиг подумал, что в ближайшие ночи выпадет много снега. Приближалось Рождество.
Он сам не знал, зачем он внезапно отцепил свою белую маскировочную накидку, висевшую у него в скатанном виде на ремне, и накинул ее на себя. Он набросил ее на плечи, и натянул капюшон на голову.
Паничек сопел и плюнул далеко в снег, когда Биндиг снова подошел к нему. – Ты нарядился как ночное привидение, – сказал он вполголоса. Потом он вытащил сигарету из кармана шинели и зажег ее. – Когда это все для меня закончится, я почувствую себя куда лучше, – сказал он при этом.
Он честно так и думал. Он впервые боялся. Ему было нехорошо, пожалуй, от соседства с мертвецами, которые лежали там, по ту сторону дороги, в лесу. Надо надеяться, они, по крайней мере, немного закидали их снегом, подумал он; если что-то сорвется, и они найдут мертвецов, тогда тут такое начнется! Хотя тут все равно такое начнется, если что-то пойдет не так. Мы здесь сидим как мыши в мышеловке. И не они поставили мышеловку, а мы сами. Они поймают нас в любом случае. Им для этого не понадобится много усилий. Он быстро взглянул на часы, но время, которое показывали стрелки, его не удовлетворило. Было еще слишком долго до часа, когда самолет должен был забрать их. Ему казалось, как будто каждая минута таила в себе смерть, и ничего больше не имело смысла, ни тихо спрятаться в темноте под деревьями, ни греть пальцы, ни внимательно прислушиваться к каждому шуму. Он поспешно затянулся сигаретой, не обращая внимания, что она при этом ярко вспыхнула. Он затушил ее наполовину недокуренной и принялся на ощупь искать шоколад, лежавший у него в кармане. Он съел кусок, а когда спрятал шоколад, то потянулся за галетами, которые россыпью лежали в его кармане. Паничек, сильный как медведь, был настолько неспокоен, что Биндиг, наконец, спросил его: – Да что это с тобой такое? Спустись вниз и подвигайся немного, мне кажется, ты замерз!
Паничек почувствовал облегчение, когда встал и сделал несколько шагов. Он шел вдоль тонкой жилы кабеля, так как Тимм поручил ему контролировать время от времени связь. Это было бесполезно, так как на пути между постом Паничека и перекрестком, где лежал обер-ефрейтор с телефоном, ничего не происходило.
Биндиг механически схватил телефон и подтянул его к себе. Он посмотрел вниз на дорогу, но не мог обнаружить маленького русского. Он прятался с другого края, пока от перекрестка не поступила инструкция, которую Паничек принял и крикнул ему.
Сидя у телефона, закутавшись в белую накидку, Биндиг вслушивался в ночь. От дровяного склада еще порой до некоторого времени доносились шумы моторов, но теперь тихо стало и там. На участке, который они заминировали раньше, они оставляли машины и помимо земли минировали теперь и сами автомобили. Операция «Кладбище», думал Биндиг, это название считалось для автомобилей, которые они собрали там. Но оно распространялось и на водителей, лежавших в стороне где-то в лесу.
Паничек лежал рядом с обер-ефрейтором на перекрестке и зажег себе сигарету, когда издалека послышался шум автомобиля. Он подумал, бежать ли ему теперь назад, но, похоже, было уже слишком поздно, и потому он только быстро покрутил рукоятку, пока на другом конце провода не ответил Биндиг. Он сказал ему, что подъезжает машина, и Биндиг ответил: – В порядке, с этим я уже справлюсь. Оставайся там, пока это не закончится.
Затем машина уже была видна. Он подъезжала довольно быстро к перекрестку, где стояли оба постовых. Джип, несмотря на холодную ночь, ехал без верха, в нем сидело четверо закутанных в шинели человек. Русский на перекрестке поднял сигнальный флажок, и джип уменьшил скорость. Он остановился точно между одним постовым с флажком и другим, с поднятым воротником шинели, стоявшим у обочины с пистолетом-пулеметом на груди. В то самое мгновение, когда русский с сигнальным флажком подходил к машине, он узнал генеральские звезды на погонах на форме одного из мужчин. Он автоматически встал навытяжку и поднял руку к меховой шапке.
Это был тот мужчина, с которым Цадо последним говорил о ноже, и теперь он должен был сказать то, что приказал ему Тимм для таких случаев, а именно, что по дороге движутся несколько тягачей с испорченными танками и джип должен ехать осторожно, так как тягачи едут без света. Тогда генерал кивнул бы, водитель дал бы равнодушно газ, и тогда джип двинулся бы дальше, не обратив внимания на этих двух постовых.
Он не сделал этого, но он говорил, все еще держа руку у шапки, то же самое, что он говорил водителям тех шести машин, которые теперь уже стояли на дровяном складе. При этом он смотрел на генерала, и его глаза жмурились очень тонко. Убить этого генерала, это было бы что-то неповторимое. Это была попытка исполнить месть. Водитель медленно снова дал газ, и пока джип проезжал мимо, постовой подал обер-ефрейтору оговоренный знак. Биндиг снял трубку и спустя две секунды подал знак русскому у развилки лесной дороги. Тот вышел на дорогу и поднял сигнальный флажок.
Водитель повернул машину к правой стороне дороги, и когда постовой с флажком подошел, генерал недовольно спросил: – Кто это распорядился со всеми этими объездами?
– Распоряжение штаба армии, товарищ генерал! – ответил маленький русский. Генерал покачал головой и произнес: – Странно.
Потом он обратился к офицеру, который сидел рядом с ним, и сказал сердито: – Это какие-то дурацкие распоряжения. По такой дороге спокойно два Т-34 проедут.
– Я тоже так думаю, – ответил другой офицер, посмотрев на дорогу.
– Впрочем, эти лесные дороги здесь часто бывают болотистыми. Так что я не уверен, что мы…
– Вы проконтролировали дорогу? – спросил генерал человека с сигнальным флажком.
Тот догадался, что здесь начиналось что-то, что пошло бы не гладко. Он объяснял, что дорога в порядке, но генерал нетерпеливо стучал пальцами в толстых шерстяных рукавицах, по железной спинке переднего сиденья. Он подумал о колонне танков, которая подъезжала в нескольких минутах за ним, и вспомнил, что марш колонны был оговорен со штабом армии. И никто ничего не говорил об объездах.
Совершенно неожиданно генерал сердито приказал водителю: – Назад. Назад к передвижной радиостанции. Посмотрим, кто здесь должен уступать дорогу.
Водитель развернул джип с элегантным виражом. Снег закружился под колесами, и тогда машина покатилась тем же путем назад, к перекрестку. Она ехала быстро, и оба русских на перекрестке посчитали эту быстроту знаком того, что их предприятие раскрыто. Паничек из своего убежища рядом с обер-ефрейтором не мог узнать, кто из обоих первым выстрелил в джип. Но он слышал очередь из одного пистолета-пулемета и вскоре после этого из пистолета-пулемета второго. Он видел, как джип на дороге начал ехать зигзагами, как из него было видно дульное пламя, и как он остановился, наконец. В то же самое мгновение один из обоих русских на перекрестке медленно падал к земле. Тут Паничек быстро схватил телефонную трубку и прокричал по проводу Биндигу несколько слов. Он небрежно бросил трубку, так как обер-ефрейтор возле него вскинул пулемет и выскочил на дорогу. Паничек схватил оба пулеметных диска, которые лежали возле телефона, и выскочил за ним. Из джипа, который наискось стоял на дороге, четыре пистолета-пулемета стреляли с прямо-таки невероятной точностью. Еще прежде чем Паничек добежал до обер-ефрейтора, который лежал за пулеметом, он почувствовал удар в грудь. Он сделал нерасторопный прыжок вперед и добрался до обер-ефрейтора, но когда он упал рядом с пулеметом, у него из рук упали диски, и позади, где дорога терялась в темноте, появился первый танк.
Биндиг услышал выстрелы. Нельзя было отличить, кто именно стрелял, так как у них всех там на перекрестке было русское оружие. Постовой с флажком исчез с улицы. Биндиг окликнул его пару раз, но никто не отозвался. Тогда он услышал танки. Сначала можно было слышать только глухой гул дизельных двигателей, но потом зазвенели гусеницы, а вслед за этим затрещал моторов сырой нефти, но тогда первый выстрел танковой пушки. Выстрел был нацелен на ближнюю дистанцию, так как разрыв снаряда слился с выстрелом. Затем последовал второй, третий.
Внезапно какая-то фигура прошмыгнула с лесной дороги. Она оставалась несколько секунд на главной дороге и затем понеслась к Биндигу. Это был Тимм. Он, не медля, упал рядом с Биндигом и дико принялся крутить ручку телефона. Он тряс трубкой и дул в нее, но на том конце никто не отвечал. Тут он тихо выругался и взглянул в сторону дороги:
– Где Иван, который стоял там внизу? – накинулся он на Биндига.
– Исчез, – сказал Биндиг, – он не к вам побежал?
– Свинья! – выругался Тимм. – Он сбежал. И один из других двоих тоже. Тебе надо было их прикончить…
Он прислушивался к перестрелке на дороге, но это больше не было перестрелкой, потому что пулемет, из которого стрелял обер-ефрейтор, замолчал. Были только лишь отдельные выстрелы танковых пушек и между ними злой лай пистолетов-пулеметов. Моторы, кажется, были приглушены. Танки не знали, что их еще ожидало, потому они остановились.
– Нам нужно убираться отсюда! – сказал Тимм. Это прозвучало необычно сдавленно, Биндиг впервые слышал, чтобы Тимм так говорил, но он не мог понять, не было ли это потому, что он должен был шептать.
– Куда? – спросил он. Перед ним лежал пистолет-пулемет. Рядом с ним несколько снаряженных магазинов. Тимм заметил его взгляд.
– Этим ты их не задержишь. Там, как минимум, полдюжины танков.
– Ну, – подтолкнул его Тимм, – мы сматываемся, пока они не добрались сюда. Каждый по одиночке попытается добраться до озера, где приземлится машина. Он поднялся и взглянул на дорогу. Меховую шапку он опустил низко на лоб. Стволом пистолета-пулемета он раздвинул ветки. Потом он еще раз повернулся и приказал Биндигу: – Теперь мы взорвем пару колымаг и убежим. Ты подождешь, не возвратится ли еще кто-то из тех впереди. Ты все ему расскажешь. Если увидишь первый танк, убегай. Тогда никто больше не придет
Биндиг хотел что-то ответить. Он даже уже открыл рот. Но Тимм уже пробрался через ветки и выскочил на дорогу. Биндиг увидел, как он внимательно слушал в сторону перекрестка, где шум умолк на секунды. Затем Тимм перескочил через дорогу и так же бесшумно, как он пришел, прошмыгнул на лесную дорогу.
– Больше никто не придет, – сказал Биндиг самому себе. – Придут только танки.
Он снова пригнулся и присел на корточки возле пистолета-пулемета. С перекрестка донесся одиночный выстрел. Биндиг увидел, как небо за лесом на долю секунды изменило свой цвет. Показалось, будто яркий свет вспыхнул под вершинами деревьев. Затем снова был лязг гусениц и гул двигателей. Биндига тут же охватила дрожь. Он смотрел через ветки туда, где дорога выпутывалась из-за засыпанных снегом елей. Он механически взял пистолет-пулемет и привел его в готовность. Танки снова катились, это можно было слышать. Биндигу казалось, что он видит их перед собой, покачивающихся и с низко опущенными пушками, с закрытыми люками, с вихрем снега, поднятого гусеницами. Он как бы видел сквозь бронированные листы и вглядывался в лица солдат за рычагами управления. Он видел, как наводчик наблюдает через свои оптические приборы, в черном шлеме с мягкими утолщениями на голове. Он видел под этими шапками все эти многие лица, которые он видел восковыми и оцепеневшими от смерти. Они, кажется, были живы. И он видел также лицо женщины из грузовика, светлая кожа с тонкой кровавой нитью, и слышал хрустящий звук, когда Тимм разрывал ей рубашку на груди. Он оглянулся, как будто бы они теперь стояли уже все вокруг него, нацелив на него пистолеты-пулеметы. Тут зазвонил телефон. Только один раз, тихо. Он поспешно перевернулся, схватил трубку и тихо крикнул: – Алло, Паничек… Что…
На том конце провода послышался глубокий, гортанный голос. Он был очень хриплым и взволнованным, и она звал кого-то. Снова и снова то же. Один раз и еще раз, три раза, четыре раза. Это не был голос Паничека, и не голос обер-ефрейтора тоже. Биндиг выронил трубку. Она исчезла в рыхлом снегу, и звонок последовал снова. Несколько шагов вдоль провода… подумал Биндиг торопливо. Но тут отвесный желто-красный сноп огней вырвался там над дровяным складом, и взрывная волна с треском как порыв ветра пронеслась по ветвям, сбрасывая снег. Свет пламени остался, и к пламени добавились беспорядочные взрывы боеприпасов, которые были в грузовиках. Ящик трассирующих снарядов взорвался, и волшебный фейерверк из запутанных зеленых линий на секунду взметнулся над верхушками деревьев. Ветер донес сюда запах горящего горючего, обугленной резины и краски.
Этот взрыв будто разбудил Биндига. Он должен уйти отсюда прочь. Отсюда и за другими. Он схватил пистолет-пулемет и подобрал повыше белую накидку. Он выскочил на дорогу и поскользнулся, но удержался на ногах и принялся бежать. Но в то же самое мгновение первый танк медленно выдвинулся из леса. Это был окрашенный в белый цвет Т-34.
Биндиг почувствовал удар в голове, прямо над лбом, где начинались волосы, и потом он услышал дробь пулеметной очереди; когда он скользил, качаясь, по дороге, он видел как через молочное покрывало, как танк остановился и опустил пушку. Он был оглушен ударом, и кровь лилась ему в глаза. Он потерял шапку, вероятно, выстрел сорвал ее. Это были только крохотные доли секунд, когда он думал: смерть ли это? Наступит ли она теперь и именно так? Из этой пушки? Или это уже прошло, после удара в лоб?
Пулемет выплюнул новую очередь. Он видел, как дрожит дульный огонь, но пули проносились над ним и попадали в снег. Теперь выстрелит пушка, думал он, теперь желтый огонь вспыхнет там в дуле, и тогда это закончится. Он пошевелил веками. Кровь капала в снег. Тут он заметил, что может передвигаться. Он вскочил с неслыханным усилием и встал на ноги. Земля качалась, но Биндиг стоял, и тогда он сделал скачок вперед и побежал на лесную дорогу. Он отошел лишь на несколько шагов, когда из дула пушки вспыхнул огонь, и снаряд пролетел над местом, где он только что лежал, упал дальше за ним в снег и взорвался. Взрывная волна бросила Биндига на ствол дерева, но он удержался, удивляясь тому, что он все еще был жив, что он мог ходить, мог думать. Он пробежал немного вдоль дороги. Здесь танк больше не мог его видеть. Каждый шаг вызывал у него сверлящую боль в голове. Ему хватило сил вытереть кровь с глаз белой тканью маскировочной накидки, пока он продолжал бежать. И тогда он услышал, как мотор танка взвыл, и гусеницы снова начинали дребезжать.
Это было много гусениц, Биндиг их слышал. Он знал, что они выползут теперь все, один за другим, там между деревьями. Через пять секунд или чуть больше они могли быть на развилке лесной дороги. Биндиг внезапно заметил светлое место на левой стороне дороги между елями. Дальше впереди трещал огонь, там, где стояли горящие машины. Биндиг разогнался и одним скачком прыгнул между елей слева от дороги. Он, шатаясь, пошел дальше, углубляясь в сплетение спутанных ветвей. После нескольких дюжин шагов он упал лицом вниз и остался лежать. Он тяжело дышал, и к сверлящей боли в голове добавилась кровь, которая обжигала глаза. Он снова и снова вытирал ее, но ничего не помогало. Тут он вспомнил о перевязочном пакете. Он ощупью полез рукой туда, где он должен был быть, и разорвал его окоченевшими пальцами. Он не мог точно нащупать рану, но он чувствовал липкую кровь и разрыв в коже длиной в сантиметр. С большим усилием ему удалось привести марлю в правильное положение и связать концы повязки на затылке. Боль, глухое сверление, не ослабевала. Биндиг вытащил из брюк жестяную трубочку с болеутоляющими таблетками. Он вытряхнул, не считая, несколько маленьких белых пилюль на кровавую ладонь и поднес их ко рту. Когда он почувствовал слабую горечь таблеток, он быстро втолкнул в рот вслед за ними горсть снега.
Тут первый танк затормозил перед началом лесной дороги и повернулся на одной гусенице. Из его пушки вырвалась длинная молния, и снаряд разорвался где-то далеко позади, поблизости от пожара на дровяном складе. Потом он рванул вперед и, размалывая глубокий снег на краю дороги, поехал туда, где лежали останки автомобилей. Он промчался мимо укрытия Биндига, и другие следовали за ним, один за другим, с гремящими двигателями, разбрасывая своими гусеницами снег и перекопанную землю за собой. Биндиг полз дальше. Сначала это давалось ему тяжело. Но затем он собрал все силы и двинулся между деревьями вперед.
Повязка на лбу впитывала кровь. Биндиг теперь мог лучше видеть, но тем сильнее мучила его боль в голове. Как будто кто-то ударил его по черепу тяжелым предметом. Он снова и снова ощупывал голову возле повязки, чтобы определить, не было ли там еще одной раны, но ничего не находил. За ним гремели танки. Они еще не шли по его следу, но они все же уже гнали его. Лязг их гусениц заставлял его собрать последние силы и, спотыкаясь, идти вперед. Он бежал, не обращая внимания, что ветки стегали его лицо, и он цеплялся за ветки маскировочной накидкой. Тогда позади на дровяном складе прозвучал первый выстрел. Послышался короткий, сильный треск, и Биндиг внимательно, продолжая бежать, прислушивался к следующим выстрелам. Но пушки танков молчали. Вместо этого слышались поспешные, суровые команды. Крики, внушавшие Биндигу страх. Он не чувствовал как ветви раздирали ему лицо, как снег проникал сверху в сапоги, всякий раз когда он падал и снова, ползая, вскакивал. Он слышал голоса и свист свистка, и он знал, что это значит. Он знал, что сейчас солдаты спрыгивали с танков, где они сидели, сжавшись в клубок, с оружием между коленями. Теперь они выстраивались в цепь и входили в лес. На расстоянии голосовой связи один от другого, с пистолетами-пулеметами, направленными стволом вперед. Ему казалось, что они подходили к нему, хотя в действительности они шли в другом направлении. Они шли по пути отхода других, рассредоточившись, и с бдительными глазами, в уверенности, что настигнут убегавших. Они не знали точно ситуацию, но поняли, что произошло.
Биндиг спотыкался на дороге, а потом снова пробирался через заросшую еловую чащу. Это давалось ему тяжело, но он знал, что здесь он был бы в наилучшей безопасности. В этой чаще его было очень сложно разыскать.
Шумы за ним стихли. Моторы танков еще работали. Но они работали, стоя на месте, и пушки молчали. Только пистолеты-пулеметы лаяли. Биндиг вытер лоб рукавом. Повязка пропиталась кровью, и кровь снова лилась ему в глаза. Он достал на ходу второй перевязочный пакет, а потом он присел на корточки в снег и намотал его поверх первого. У него не было болей, когда он касался марли на ране, и помрачение сознания ослабело немного. Таблетки действовали быстро. Он крепко завязал узлом бинт и поднялся. В этот момент он услышал далеко позади себя пулеметную стрельбу. Это были быстрые очереди. Она зло трещали в ночи, и Биндиг знал, что рассредоточенные для облавы красноармейцы настигли других. Это был конец. Он сплюнул горький привкус таблеток и побежал дальше. У него не было цели, не было и времени, чтобы сориентироваться. Он лишь бежал дальше в лес, прочь от шума выстрелов и глухого бормотания приглушенных танковых двигателей. Он прижимал одну руку к повязке, а другой вытащил пистолет из сумки. Он потерял пистолет-пулемет на дороге, не заметив этого. У него был только пистолет и две ручные гранаты.
Примерно во время, когда они должны были готовиться к обратному полету, Биндиг посмотрел на часы. Он сразу вспомнил о самолете и понял, что на него не стоит надеяться. Он перелетел бы озеро, и если посадочные огни не были бы зажжены, то сделал бы один или два разворота и полетел бы назад. Он не вернулся бы, и какой-то другой самолет тоже нет. Связь была разорвана. Биндиг подумал, что никому из их группы не удалось бы добраться до посадочной площадки. Группа была потеряна; операция «Кладбище» провалилось. И несколько подорванных ими грузовиков не нанесли бы никакого существенного вреда готовности Красной армии.
Он отбежал далеко. Стрельбу больше не было слышно, это место лежало на расстоянии нескольких километров за ним. Биндиг даже не знал, было ли там еще сопротивление или уже все закончилось. Он бежал, как быстро несли его его ноги, со сверлящей болью в черепе и с повязкой на лбу, на которой уже успела замерзнуть кровь. Его нервы колотились. Он давно снова поставил на предохранитель пистолет от страха выстрелить из него каким-то неумышленным движением. Он чувствовал себя слабым и разбитым. Ему казалось, что он в любую минуту должен упасть на землю и остаться лежать. Но он знал, что это означало конец, если бы он теперь упал и остался лежать. Может быть, он, такой, каким он был сейчас, и мог бы поспать несколько часов. Но когда он проснулся бы, у него больше не было бы сил подняться и идти дальше. Он боялся этого.
Наконец, он спрашивал себя, куда он вообще должен был идти. Он не знал этого. Он убежал, но без цели. Прислонившись к дереву, он закурил сигарету. Она пробудила в нем голод, и он съел несколько галет. Он не наелся тем, что было у него в карманах. Шоколад был последним. Он берег его, но не знал точно для чего. Тогда он пошел дальше, одна рука прижата к повязке, в другой пистолет. Когда на востоке начало смеркаться, лес раскрылся, и перед ним лежала развилка дорог. Он присел на корточки на краю леса и долго наблюдал за дорогой. На ней были следы машин, но в настоящее время она была тиха. У развилки стоял указатель. На половине высоты под ним была прибита сине-белая табличка с надписью на русском языке. Биндиг осторожно приблизился к доске и расшифровал имена. Он запомнил их и прокрался назад в лес. На снегу он развернул карту, которую нес в кармане. Это продолжалось довольно долго, пока он нашел место, где находился. В начинающемся утреннем сумраке он склонился над развернутой на снегу бумагой и расшифровывал имена местностей, рек, фольварков.
Он бежал на запад. К фронту. Но он еще не приблизился к фронту, потому что он, не замечая, много раз делал крюк. В его страдающей от боли голове неясно сформировался план продвигаться дальше к фронту и попытаться перейти его. Он знал, что это, наверное, было бы возможно, но видел, что путь туда был еще очень далек. И он не знал лесов, которые простирались до самого фронта. В этих прифронтовых лесах бурлила жизнь. Они были битком набиты исходными позициями, пехотой, артиллерией. Они были опасны и в них были тысячи глаз. Тысячи винтовочных стволов подстерегали в них. Люди, которые спросили бы его о том, откуда у него рана на голове, которые вообще обратились бы к нему, и которым он не мог ответить. Он посмотрел на себя сверху вниз.
Под разорванной, окровавленной белой маскировочной накидкой на нем была форма красноармейца. Он прикусил губу и посмотрел на леса, нарисованные на карте. Эти леса не были сделаны для человека вроде него. Для того, на ком была чужая форма, и кто не знал, позволит ли ему рана на голове пройти еще несколько часов.
Тогда он обнаружил, что находился вблизи от Хазельгартена. Он положил палец на карту и провел им по бумаге от места, на котором он стоял теперь, до деревни, а оттуда до линии, по которой проходил фронт. У него получилась прямая линия. Он сделал это один раз, а потом, через некоторое время, еще раз. При этом он увидел, что палец и вообще вся рука была в крови, и он снова ощупал инстинктивно бинт на голове. Она на ощупь твердо замерзла, но по краям была влажной. Там медленно пробивалась кровь, и сбегал по лбу Биндига, всё ещё попадая и в глаза. Но она бежала медленнее, и ему больше не приходилось вытирать ее так часто.
Хазельгартен, думал он, вероятно, там будет проще, так как он знает местность. Но как я перейду фронт? Пока я доберусь туда, я буду совсем слабо стоять на ногах. И они устроили там свою систему стрелковых ячеек. Но я больше не тот Биндиг, который беззвучно и быстро делает себе проход с помощью ножа-стропореза. Пока я туда доберусь, я буду только слабым привидением в советской форме. Или я сдамся еще раньше. Он опустил голову и закрыл глаза. Они все мертвы, думал он. Тимм мертв, и Цадо мертв. Паничек тоже, и обер-ефрейтор с «болсом». И пять русских и другие тоже. Я последний. И к фронту ведет эта прямая линия, между обоими маленькими озерами, над лугом, до территории, по которой проходил когда-то раньше фронт, прежде чем мы потеряли Хазельгартен. Дальше будет Хазельгартен, и далеко за ним проходит теперь фронт. К западу от него. Нельзя быть уверенным, правильно ли они обозначили его на карте. Когда мы вылетали, там впереди была изрядная неразбериха.
Небо на востоке светлело. Биндиг теперь точно мог ориентироваться, когда пошел дальше. Он прокрался через дорогу и взял путь на Хазельгартен. У следующей дороги, которую ему пришлось пересечь, он должен был просидеть целый час на корточках сбоку в лесу, пока решился перейти проезжую часть. Был светлый день, и машины стремительно неслись по накатанному снегу. Они не опасались немецких самолетов, так как не было никого, кто мог бы их обстрелять. Сначала Биндиг подумал, что весь тыловой район охвачен волнением из-за нападения поблизости от дровяного склада. Он предполагал, что все дороги будут перекрыты и пехота систематически прочесывает территорию. Но он не заметил никаких признаков подобного. Казалось, что больше ничего не произошло. Джипы деловито проносились туда-сюда, грузовики рычали в бесконечных колоннах. Между ними танки и артиллерия, снова и снова артиллерия, повозки с закутанными фигурами на козлах, часто в длинных колоннах. К некоторым повозкам были привязаны сани. Маленькие, похожие на низкую лодку, полностью загруженные транспортные средства. Биндиг лежал в заснеженной роще, и ему с трудом удавалось запомнить все, что происходило на дороге. Боль сверлила его голову; иногда ему на минуту приходилось закрывать глаза. Когда он пролежал час у проезжей части, он понял, как мало операция «Кладбище» могла помешать развертыванию этой армии. Он никогда еще не лежал так непосредственно и так близко от пути подвоза. В первый раз он рассматривал чужих солдат из такого незначительного удаления без всякого задания, предписывавшего ему определенный путь. Наконец, когда поток машин на короткое время прекратился, он вскочил и решился перебежать дорогу. Пот лился из его пор, когда она на другой стороне скрылся среди ветвей деревьев. Он еще долго думал, что его заметили, и иногда останавливался, с пистолетом в руке, ожидая предполагаемых преследователей. Но их не было.
Вообще он целый день больше не видел ни одного солдата, так как каждый раз, когда обнаруживал признаки скопления войск, он делал большой крюк. Во второй половине дня голод был настолько силен, что он съел последнюю шоколадку. Теперь у него в карманах остался только первитин и несколько сигарет. Он только чуть-чуть приблизился к Хазельгартену. Он слишком много раз делал крюк, и он должен был слишком часто отдыхать, истощенный от потери крови. Но он тащился дальше, пока не наступил рассвет. Это было примерно в то время, когда ему пришлось обойти одну из деревень, которые лежали на его пути. Он обходил ее очень далеко, но деревня раскинулась широко и была полна войск. Из печных труб в небо поднимался дым. Биндиг с края песчаного карьера довольно долго наблюдал все, что происходило между домами. Дымящие трубы и огни в окнах вызывали у него воспоминания о тепле и защищенности. Он пристально глядел на деревню, и впервые он подумывал, что произошло бы, если бы он теперь просто пошел туда и сдался. Он не додумал до конца свою мысль, он только посмотрел на свои сапоги и на светло-коричневую форму, которая была на нем. Он сказал себе, невозможно было бы просто так пойти туда, не смирившись с тем, что будешь там убит. И он хотел жить, он никогда раньше еще не цеплялся так со всей силой за жизнь. Он хотел спасти ее. Они убьют тебя, думал он. Ты носишь их форму, а это запрещено. У них есть право просто поставить тебя к стенке, и никто не будет сожалеть о тебе, если они так и сделают. Ты знал, каковы ставки, и ты согласился участвовать. Так выглядит конец. Ты должен идти дальше.
Позже он отыскал в лесу дорогу, которая вела напрямик на запад. Дорога была засыпана снегом, и Биндиг шел по ней, пока вскоре после полночи не вышел снова из леса.
Там перед ним лежала довольно широкая, свободная поверхность, озеро, вдоль по правому берегу которого проходила дорога, которую ощупывали фары проезжавших машин. Слева к берегу примыкала деревня. Одна из маленьких сгорбленных деревень со спрятавшимися под снегом домами. Биндиг видел, что в некоторых окнах горел свет, и он знал, что должен будет пересечь озеро между дорогой и деревней. Было темно. На этом удалении его нельзя было увидеть ни с улицы, ни из деревни. Он еще раз зашел в тень деревьев и зажег остаток сигареты, которую наполовину скурил в полдень. При этом он рассматривал озеро и оценивал расстояние. Ему нужно было пройти один километр или больше, пока он доберется до другого берега. А там начинались заросли кустов, которые, наконец, переходили в лишь размыто видимый лес. Это было большое расстояние.
Лед был покрыт только тонким снежным покровом. Ветер смел снег. Только иногда отдельные заносы громоздились выше. Сапоги Биндига были на кожаной подошве. Это позволяло ему уверенно стоять на гладкой ледяной равнине. Но он мог идти, только качаясь. Он устал и был голоден. Боль в голове все еще оставалась. Она стала слабее, но таблетки, которые Биндиг принимал время от времени, не могли устранить ее окончательно.
Таким образом, он больше скользил, чем шел, и не заметил опасное место на льду. Здесь несколько дней назад кто-то ловил рыбу. Он расколол лед или даже выломал, бросив в воду несколько ручных гранат в воду, и после взрыва подобрал рыб, которые всплыли наверх с разорванным плавательным пузырем. Некоторые из них, которые были слишком малы для него, он оставил. Они после нескольких часов были заморожены в этом месте, когда лунка снова покрылась новым ледяным слоем.
Все это Биндиг увидел и понял только гораздо позже.
Он вступил на свежий слой льда, и тот не выдержал под его ногами. Он бросился назад, но движение оказалось слишком слабым. Он провалился в прозрачную, ледяную воду, и когда он тонул, он сильно ударился раненым местом в голове о край льда. Он кричал, но его голова уже была в воде, и ничего нельзя было услышать, кроме неразборчивого бульканья. Силы Биндига еще хватило, чтобы сделать еще пару движений пловца, которые подняли его на поверхность. Он мог держаться на воде, но куда бы он ни хватал, чтобы вылезти на лед, тот крошился, и он при его попытках снова и снова погружался в воду с головой.
Он глотал ледяную воду и чувствовал, как это медленно парализовало его силы. Его пальцы застывали. Он едва ли мог двигать ногами в тяжелых сапогах. Решение закричать пришло совершенно неожиданно. Биндиг звал на помощь, даже не думаю, что произошло бы, если бы кто-то услышал его. Однако никто его не слышал, так как из его горла выходило только какое-то карканье, которое нельзя было услышать дальше, чем в нескольких метрах от места, где он провалился.
Он чувствовал, что никакая помощь к нему не придет, и он с отчаянными усилиями хватался за тонкие кромки льда, которые отламывались и падали в воду рядом с его головой. Он не заметил, что потерял повязку, и его рана снова кровоточила; так как было темно, и он не мог видеть окрашенную кровью воду. Метр за метром лед ломался как хрупкое стекло. Но потом Биндиг добрался до края старой, толстой ледяной поверхности. Он почувствовал это, так как тут лед не треснул, когда он за него уцепился. Он был тверд и выдержал его вес, когда он уцепился за него, обессиленный от движений, с которыми он вынужден был держаться на воде.
Ему удалось выбраться из воды так, что он мог упереться локтями об лед и передохнуть. При этом он чувствовал, как нижняя часть тела медленно застывала, и как ему становилось все тяжелее двигать конечностями. Но в истощенном теле еще жила часть прежней гибкости, и Биндиг, который преодолел страх, начал рассчитывать свои действия. Он двигал локти сантиметр за сантиметров так далеко по льду, что он с головой лежал далеко за краем льдины. Все зависело от того, выдержит ли лед этот вес. Но лед был толст. Это был старый лед еще со дней сильных морозов.
Биндиг заметил, что вода с волос бежала у него по лицу. Но эта вода показалась ему странно теплой, и когда он провел языком по губам, то понял по вкусу, что это была кровь. Почти в то же самое мгновение он почувствовал боль, которая снова сверлила у него в ране, и которую он снова осознал только теперь снова. Это привело его к последнему, самому отчаянному усилию. Он приподнял сначала одно плечо, а потом другое. Он почувствовал, как при этом он скользнул на сантиметр вперед. Он повторил это один раз, а потом еще раз. Кромка льда прижималась к его груди, потом было так, как если бы эта кромка скользила все ниже, с груди вниз до области желудка, глубже и дальше, до тех пор пока большая часть веса туловища не лежала над кромкой, пока Биндиг, медленно двигаясь вперед на предплечьях, не смог вытащить из воды ноги.
Он продолжал лежать неподвижно и опустил голову на руки. Через четверть часа ледяные предметы одежды приклеились к его коже, и еще через четверть часа они накрепко замерзли. Кровь, которая текла на его ладони, была теплой. Он устало поднял голову и осмотрелся. Нигде никого не было. Никто его не слышал и не видел. Там впереди озеро заканчивалось, до этого места оставалось еще несколько сотен метров.
Он поднимался, пока не лег на колени. У него кружилась голова, и он ощущал слабость. Любое движение усиливало сверлящую боль в голове. Когда он двигался, замерзшие предметы одежды шелестели. Лежа на коленях, Биндиг оторвал лоскут от когда-то белой маскировочной накидки, ставшей разодранной и грязной. Ему пришлось размораживать его в руке, так как он замерз. Он обвязал этим лоскутом голову, насколько хорошо ему это удалось, а потом с большим напряжением сил смог встать на ноги. У него подкашивались колени, пока он тащился дальше, но он добрался до края озера, а оттуда дальше, через невысокий кустарник, по слегка затвердевшему снегу глубиной по щиколотку, дошел до леса. В слабом лунном свете он вытащил из кармана карту, но едва мог на ней что-то разглядеть. Он взял направление на запад и поплелся дальше. Иногда он едва не падал, и тогда он на пару минут прислонялся к какому-то дереву. Холод пронзал его тело и там, где замерзшая одежда оттаивала от тепла его тела, она вызывала у него лихорадочный озноб.
Утром он снова посмотрел на карту. Он находился в окрестностях Хазельгартена. Он стоял, прислонившись к дереву, и разглядывал местность. Далеко на западе лежала деревня. Он мог видеть ее. Она лежала в утренней дымке, и Биндиг сомневался в том, что у него еще хватит сил добраться до нее. Из Хазельгартена уже больше не могло быть далеко до фронта, и Биндиг считался с тем, что позже, когда артиллерия начнет стрелять, он так узнал бы направление. Но какой толк со знания направления, если он уже не смог бы пройти это расстояние? Теперь он должен был быть очень осторожен. Колонны двигались по главным дорогам и обходным путям чаще, чем обычно. Тут и там стояли орудия. Всё было в движении. Тут было настолько оживленное движение, что Биндиг медленно начал сомневаться, сможет ли он вообще добраться до фронта. То, с чем он должен был считаться, это больше не был отдельный часовой, на которого он нападал ночью. Это была вся армия со всем тем, что было ей нужно для ближайшего наступления. Это был военный лагерь гигантских размеров, плотность которого казалась Биндигу невероятной.
Белая накидка была настолько разорвана, что она волочилась за Биндигом по снегу. Он снял ее и просто бросил. Продолжая плестись дальше, он заметил, что его силы были на исходе. Его шаги становились все более неуверенными, и боли изматывали его, с тех пор как он больше не мог принимать таблетки против боли. У него еще оставались две сигареты, но они, как и таблетки, размокли в ледяной воде озера и стали непригодными. Он где-то потерял и зажигалку. Он не сожалел об этом. У него вообще больше не было силы сожалеть о чем-то. Он тащился вперед. Единственное, ради чего он собирался с силами, было внимание, с которым он наблюдал за местностью. Это страх заставлял его это делать, но он этого не замечал.
К полудню он рухнул на землю в первый раз и оставался лежать между светлыми кустами на лугу, который он пересекал, целый час. Он не чувствовал себя более сильным, когда проснулся, но ему удавалось снова встать на ноги. Когда день заканчивался, он лежал на склоне на краю ложбины, которая вела когда-то от Хазельгартена к фронту, и смотрел через нее на хутор, в котором жила Анна.
Ему доставляло некоторую боль видеть эту местность еще раз, но его способность что-то чувствовать притупилась за две последних ночи, и он состоял только лишь из комка костей и мышц, который вяло и слабо следовал за инстинктом выживания. Он мог отчетливо видеть хутор. В нем, кажется, ничего не изменилось. Очевидно, во время боев дом не пострадал. Забор тоже еще стоял, но ворота во двор были открыты. В окнах стояли все еще старые, собранные из обломков стекла. Через какое-то время Биндигу показалось, что из трубы поднимается слабый дымок. Но он не мог это точно разглядеть, потому что за домом стояла темно-серая туча, на фоне которой дым из трубы нельзя было различить.
Женщина появилась на дворе совершенно неожиданно. Она вышла из двери дома и выставила ведро с кормом на дворе, так же как она часто делала, когда Биндиг у нее бывал. На ней была красная косынка, и она не задерживалась долго во дворе. Она только оставила ведро и вернулась в дом. За серой тучей лежал запад. Из того же самого направления слышался приглушенный гул орудий. Несколько отдельных выстрелов, не имевших большого значения. Снежная поверхность вокруг деревни была перерытой и грязной. Она была усеяна воронками от снарядов. То тут, то там лежала уничтоженная техника. Снег в последние дни больше не шел.
Биндиг смотрел на хутор недоверчиво, почти испуганно. Ему казалось, что его чувства его обманывают. Он посмотрел в другую сторону, на деревню. Солдаты, должно быть, жили в подвалах, потому что на земле после последних боев не осталось ни одного целого строения. Между развалин стояли машины. Биндиг перевел свой взгляд оттуда снова на хутор и понял, что чувства его не обманули. Ведро стояло там перед дверью. Сомнений не было: за дверью, в той же кухне, где он в первый раз сидел с ней за столом, была Анна. Он попытался встать. Это ему удалось, но отобрало почти все его силы. Он поскользнулся и покатился со склона вниз. Когда он снова вскочил на земле ложбины, то шаг за шагом, пошатываясь, двинулся вперед. Внезапно он знал, что это было последним усилием, к которому он еще мог принудить себя.
Было совершенно темно, когда он достиг хутора. Ворота во двор все еще были открыты. Когда Биндиг прошел их, дом начинал качаться и кружиться у него перед глазами. С трудом ему удалось открыть дверь в дом. Он с полузакрытыми глазами на ощупь пробирался сквозь темноту прихожей. У двери кухни он заметил луч света. Он не знал, что его лицо и его одежда были перепачканы кровью, что его руки были покрыты засохшей кровью и грязью, что лицо его было бледным и с впалыми щеками, а лоскут, который он намотал себе вокруг головы, был больше похож на полотнище красного знамени, чем на кусок белого полотна.
Он на ощупь нашел дверную ручку и нажал на нее, и когда дверь поддалась, он, растянувшись во весь свой рост, упал на пол кухни.
Он еще заметил офицера, который сидел за столом, но он и не подозревал, что это был Варасин, как и то, что он пришел, чтобы принести Анне одну из больших буханок солдатского хлеба и несколько маленьких мешков с пшеном и бобами. Он больше не слышал, как кричала женщина, и больше не видел, как Варасин вскочил и поспешил к нему.
Женщина прикрыла лицо руками. Варасин тряс Биндига. При этом он взволнованно спрашивал: Эй!… Вы слышите меня! Как вы попали… в эту форму…
Тогда он увидел под сползшим лоскутом рану на голове. – Боже мой! – кричала Анна. – Боже мой, что это… что это только…
– Ранение в голову, – тихо сказал Варасин, – дайте мне несколько чистых кусков ткани и горячую воду. Быстрее… давайте…

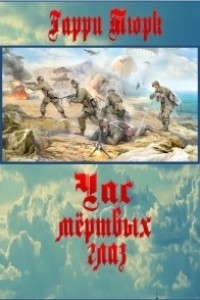


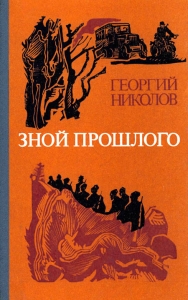





Комментарии к книге «Час мёртвых глаз», Гарри Тюрк
Всего 0 комментариев