Вениамин Рудов ПОСЛЕДНИЙ ЗОВ (повесть)
1
«…И я сказал: „Жона, ты мне голову не морочь, побереги глотку. Нужно отправляться. Кричи не кричи — пойду. Мне Советы не причинили зла: хату не отобрали, в морду кулаками не тычут, снаряды не заставляют возить. Ну, чем мне Советы насолили?.. А фашистовцы, пся кошчь, всех перебьют. Нет, жона, тебя слушать — себе хуже. Слезами не поможешь. Пойду — и всё“.
Вот я, панове-товажыше, спрашиваю, пшепрашем панство: вы не видите, что под самым боком у вас, под самой граничной враг стоит? У них всё готово, холера тому Гитлеру в самую печёнку и ещё глубже!.. Я, пшепрашем панство, простой хлоп, как думаю, так говорю. Вот спрашиваю по темноте своей: чего ждут Советы?.. Пока Гитлер войну начнёт, снарядами вас закидает… Откуда знаю?.. Имею глаза и уши. Третий день вожу снаряды на артиллерийские дозиции фашистовцев. Для чего им снаряды под вашей граничной? Танки у них подтянуты — опять же под граничной. Понтоны готовы. Всех хлопов отселяют подальше от границы. Разве сюда не слышно, как голосят наши бабы?.. Нет, шановное панство, ошибаетесь… Гитлеру верить нельзя».
(Свидетельство Яна Богданьского)Дважды подряд негромко, как щелчки, прозвучали автоматные выстрелы, и эхо негулко покатилось в душной июньской ночи над примолкшим, затаившимся пограничьем, но не успело ещё заглохнуть, раствориться в близлежащих полях, а вдогонку ему раздался пронзительный женский вопль.
— В районе часовни, — шепотом сказал Новиков, на слух определив пункт, где стреляли.
На сопредельной стороне, неподалеку от реки, где в нескольких метрах от берега смутно угадывались очертания трёхбашенной деревянной часовенки, снова дурным голосом вскрикнула женщина и мгновенно умолкла — будто в рот ей забили кляп; раздались слова резкой, как брань, команды. И опять стало тихо.
Ведерников, которому отделенный командир адресовал сказанное, ничего не ответив, продолжал лежать как лежал, замаскировавшись, не обнаруживая себя, словно впал в забытье, сморенный чугунной усталостью. Лишь по его частому дыханию Новиков заключил, что напарник не спит и тоже переживает, не безразличный к происходящему на той стороне, за границей.
Новиков и сам вымотался. Короткий сон перед заступлением в наряд пролетел незаметно, как если бы его не было. Болели руки и ноги, ныла обожженная под палящим июньским солнцем спина — целый день, раздетые по пояс, всей заставой, не исключая начальника и его заместителей, совершенствовали оборонительные сооружения: углубляли окопы, траншеи, оплетали лозняком ходы сообщения, маскировали бруствер. К боевому расчету наломались так, что не только бойцы и отделенные командиры, а сам старший лейтенант Иванов, начальник заставы, еле ноги волок.
Но когда под вечер старший лейтенант объявил тревогу и начались занятия по отражению условного противника, превосходящими силами прорвавшегося через границу, никто не отлынивал. Даже Ведерников, непонятно на кого и что озлобившийся в последние дни, ловко и сноровисто переползал по-пластунски, делал короткие перебежки, метко стрелял по «противнику», маскируясь в кустарнике и неровностях местности. Вот и лежит без задних ног, думает, в себя ушёл.
Новиков не только не осуждал своего подчиненного, но даже стал ощущать перед ним некую вину, понимая, что Ведерников в чем-то прав.
Было над чем поразмыслить, пищи для раздумий хватало с избытком. Война приближалась. Буквально пахло войной, хотя здесь, непосредственно на границе, и даже в отряде никто не предполагал, что до рокового часа оставалось так мало. Не дальше как позавчера, дежуря по заставе, Новиков записал телефонограмму штаба отряда, предписывавшую не позднее первого июля представить отчет по инженерному оборудованию границы. Наверху виднее, подумал Новиков, успокаивая себя и все же ощущая чувство тревоги.
Земля ещё хранила дневное тепло, пряно пахли травы, кое-где скошенные и сметанные в стожки, опять стрекотали кузнечики, журчала речная вода, а от всего этого клонило в сон; в наступившем затишье слышались шелест осоки и звон комаров.
— Не дремлешь? — спросил напарника Новиков, хотя наверняка знал: Ведерников не уснет. Для порядка спросил. Или, может, потому, что стало муторно от тягостного молчания. — Скоро сменят.
— А нам все едино, — отозвался Ведерников. — Один хрен — что тут, что в казарме. Тут хоть видишь его. — Он имел в виду немцев.
— Чепуху городишь!
Слова потонули во всколыхнувшемся гуле.
Которые сутки по ту сторону реки, за границей, пыль над дорогами висела сплошняком, как дым над пожарищем, высоко и плотно, не оседая, и в этой завесе гремело, лязгало, клокотало — ползли танки и самоходки, артиллерийские орудия на механической тяге, шли воинские колонны, шли днем и ночью, не особенно маскируясь. И казалось, конца-края не будет немецким полчищам, накапливавшимся в близлежащих к границе лесах, перелесках и даже на открытых местах.
Лежали, прислушиваясь, глядя в темноту напротив себя. Ночь полнилась гулом моторов вражеских танков, часто вспыхивали в темноте яркие фары, и свет их, не в силах пробить стену пыли, клубился, рассеиваясь и угасая. Вдалеке, за Славатычами, дрожал огромный световой полукруг — шла колонна автомашин с зажжёнными фарами.
— Братки идут, — процедил сквозь зубы Ведерников. — На отдых. Заморились, бедненькие, мать их растак!
— Хватит. Поновее что-нибудь придумай.
Ведерников помолчал, завозился, умащиваясь поудобнее.
— А у нас сгущёнку лакают, — неизвестно к чему сказал он после молчания. — И канпот на закуску. Для пищеварения. Из сухофрукты.
Что с ним творится?..
Третьего дня, во время перекура на стрельбище, подошел, смахнул пот с незагорелого под фуражкой лба.
— Я что хотел спросить, младший сержант, — начал он и запнулся.
— Спрашивайте.
— Вопрос у меня, значит, вот такой… — Ведерников сделал над собой усилие, наморщив без того морщинистый не по возрасту, узкий лоб. — Вот вы по специальности учитель. Верно?
— Без должной практики.
— Не имеет значения. Практика — дело нажитое. Одним словом, грамотный. Образованный, значит. Не то что мы. Верно?
— Гм… Грамотный, конечно. К чему столько вопросов, Ведерников?
— К тому, что ещё один задам. Вы сами-то верите?..
— В бога — нет.
Ведерников вдруг зыркнул в упор. Глаза у него были зелёные, как у кошки.
— Я же не шуточки шучу, младший сержант. Я всерьёз. Сами, спрашиваю, верите, что немцы на отдых сюда прибывают?
Первым желанием было прекратить разговор — это не его, командира отделения, дело комментировать, а то ещё больше — ставить под сомнение официальное сообщение печати. Он не вправе обсуждать с бойцом заявление ТАСС. И тем не менее сдержался от резкого ответа.
— Верю, — ответил с запинкой.
— Ага, видишь! — обрадованно воскликнул парень, вдруг перейдя на «ты». — Так чего тогда все ваньку валяют, чего, спрашивается?
— Постойте, Ведерников! Я вам не сказал ничего такого. И вообще, давайте кончать разговор.
Но Ведерникова уже было не остановить:
— Ты-то, зачем тумана напускаешь, младший сержант?
— Чепуха.
— Напускаешь. Ты первый. И политрук. И начальник заставы. Чего ты, Новиков, лазаря поёшь? Моё дело, конечно, последнее, как у телка… Но я хоть маленький, а с понятием человек и с глазами. Зачем обманывать?
— Ну кто вас обманывает, Ведерников? Болтаете ерунду всякую. И что я могу сказать, кроме того, что официально сообщают газеты? Не наше дело рассуждать. А придётся воевать, будем. Никуда не денемся.
Ведерников тем временем закурил, несколько успокоился, но все же стоял на своем:
— Ерунда получается, младший сержант. Настоящий самообман. Немцы не просто так припожаловали за тыщу вёрст киселя хлебать. Что, им другого места для отдыха не отыскалось, окромя советской границы?
Наверное, сказав это, Ведерников, ждал возражений, думал, одернет младший сержант — как-никак хоть маленький, а командир отделения, поставленный над ним. По долгу службы обязан хотя бы дружеским тоном сказать: «Придержи язык, парень. Для дискуссий ты выбрал не самое удачное время». Новикову не пришлось гасить в себе уязвленное самолюбие или перебарывать вспышку, потому что мысли бойца были сродни его собственным, если не в буквальном смысле, то, во всяком случае, схожи.
— Как твой сын растёт? — спросил Новиков. — Что из дому получаешь?
— Растёт, — неопределённо ответил Ведерников. — Что дома? Известно, без хозяина — не сахар. А тут ещё…
Новиков не услышал, как после «тут ещё» боец выматерился — с сопредельной стороны с устрашающим ревом и свистом неслась прямо через границу девятка истребителей с крестами под крыльями, промчалась низко, обдав гарью, заставив прижаться к земле. Нахально летели. Как к себе домой. Знали: не пальнут по ним даже из пистолета, а если паче чаяния вынудят приземлиться на советском аэродроме, то пожурят и отпустят.
Чтобы не спровоцировать военный конфликт.
Два года службы научили Новикова кое в чем разбираться. Многое понимал и соглашался с объяснениями старших, например, с тем, что необходим выигрыш во времени, но хоть убей, не понимал, не мог взять в толк, почему надо ждать, пока по тебе ударят, чтобы лишь тогда ответить ударом. Ведь не сегодня-завтра, так через месяц нападут фашисты. Чтобы понять эту непреложную истину, достаточно маленького треугольничка в петлице гимнастёрки.
Лежал с нехорошими беспокойными мыслями, даже в жар от них бросило. Отовсюду дышало войной, прелесть тёплой, напитанной запахами свежего сена июньской ночи отравляли выхлопные газы, вызывал раздражение монотонный плеск воды у подмытого берега. Было темно хоть глаз выколи. Привычные к темноте глаза едва различали слабое свечение реки, расплывчатые очертания деревьев на той стороне, монастырские купола.
Дул несильный ветер. Вместе с гарью доносил с чужого берега множество звуков, которые Новиков научился различать, определять принадлежность, как, впрочем, это умел любой пограничник на втором году службы. Не составляло труда разобраться в кажущемся хаосе, отличить плач куличка в камышовых зарослях от тоскливого крика выпи, плеск вскинувшейся рыбешки от упавшего в воду комочка земли. Потому и полагались пограничники не только на зрение, но и на слух.
И когда на воде раз за разом раздалось несколько всплесков — торопливых, неодинаковых, Новиков и Ведерников одновременно, не сказав друг другу ни слова, взяли автоматы на изготовку, плотнее прижались к земле, слегка согнув ноги в коленях, чтобы в нужную секунду вскочить.
В просвете между двух кустов тальника из воды показался человек: шумно дыша и цепляясь за прибрежные кусты, он стал выбираться на сушу, было слышно шуршание сухого песка у него под ногами.
На сопредельной стороне лаяли собаки.
Сердце Новикова гулко и часто стучало. В возвратившейся тишине отчетливо различался шелест травы под ногами перебежчика.
— Товажыше, — позвал он сдавленным голосом. Видно, боялся, чтобы по нему не пальнули. — Товажыше, — шарил впереди себя протянутыми руками.
Его пропустили вперед, дали пройти несколько метров, неслышно следуя за ним и отрезав путь к возвращению за кордон. Прошло минутное оцепенение, и он заговорил, похоже, на польском, торопливо, не разобрать, часто повторяя понятное: «война», «фашистовцы».
Чужого, как положено, отвели от границы подальше, за густую стену можжевельника, обыскали и ничего при нём не нашли.
— Панове жолнежы, я повинелем дисяй врутить!.. Дисяй повинелем врутить[1], — заговорил он торопливо, отказавшись следовать дальше.
— Давай не болтать! — Ведерников легонько подтолкнул нарушителя в спину, стал расстегивать сумку с ракетами, чтобы сигналом вызвать тревожную группу.
Но стоило ему сделать движение, как чужой, вскрикнув с испугу, бухнул себя кулаком в грудь.
— Не тшеба стшелять. Не тшеба[2].
У Новикова защемило под ложечкой.
— Погоди, — придержал напарника за руку.
— Чего годить? Без нас разберутся.
Чуть слышно щелкнула переломленная ракетница.
— Отставить!
И хоть Ведерников поступал как положено, Новиков медлил, смутно догадываясь: человека привело сюда дело исключительной важности, потому и жизнью своей рисковал, переправляясь с вражеского берега на наш, потому и ракеты боится, чтобы не насторожить немецкую погранстражу, да вот беда-то — объясниться не может, лопочет на своем языке, а что — не поймёшь.
— Долго чикаться будем? — раздражённо спросил Ведерников. — Кончай, младший сержант.
— Сейчас пойдём. — Новиков поднял голову к чёрному бездонью небес, где ярко светились звёзды, поискал и не нашёл Полярную и, словно отчаявшись, принял решение: — Вызывать «тревожных» не будем. Пошли на заставу.
И опять же поляк взмолился:
— Капралю! Я не моге отходить далеко. Мусе врацать до дому. Дисяй мусе врацать[3].
Но тут уж Новиков был непреклонен:
— Надо идти.
2
«…За два дня до начала войны (20 июня) житель временно оккупированной фашистами Польши перешёл границу и заявил, что в ближайшее время начнется война… Мы имели и другие данные, говорящие об этом. Я как комендант об обстановке на участке докладывал по команде и получал указания совершенствовать оборонительные сооружения на заставах и боеготовность…»
(Свидетельство П. Яценко)«…Сейчас, в 1976 году, я, известное дело, понимаю: наши время тянули, выигрывали, потому как в сорок первом мы не были готовы к большой войне, вот и требовалось делать вид, что не замечаем немецкой подготовки к нападению на нас. Тогда я дурака валял по недоумению своему, по малой политической грамотности, как говорится… А задержанному не верил…»
(Свидетельство С. Ведерникова)Видно, поняв, что напрасно теряет время, перебежчик зашагал между двумя пограничниками, едва не наступая Новикову на пятки и изредка оглядываясь по сторонам, словно хотел запомнить дорогу. Было слышно, как чавкает у него в башмаках и шаркают одна о другую намокшие штанины. Он торопился, го ли согреваясь, то ли спеша, и Ведерников вынужденно ускорял шаг, почти с ненавистью смотрел чужому в затылок, ощущая, как сами по себе сжимаются и твердеют, впиваясь ногтями в ладони, вдруг похолодевшие пальцы. Он не верил чужому и готов был в любую минуту обрушить на его голову тяжелый кулак.
Знаем мы таких доброжелателей, думал он. Такой же заявился на соседнюю заставу в позапрошлый четверг, выламывался, прикидывался другом, а на поверку — сукой оказался немецкой: шпионить пришёл, заставские укрепления разведать. Суслики, вроде моего отделённого, легковерные, им можно очки втереть. Он добренький, Новиков, на слезу клюнет, как голодный ёрш на червя… А старого солдата на мякине, не провести. Не гляди, что образования пять классов и один коридор. Зато университеты жизни прошёл!..
Ведерникову, бойцу по четвёртому году службы, было не по себе. Короткий, в три месяца, перерыв не в зачет: даже толком не обогрелся, душой не оттаял, с женкой молодой не натешился. Одна сейчас Катерина осталась, совсем одна. А на руках годовалый дитенок, Сашка, сынок…
Тревога не однажды приходила к Ведерникову, с тех пор как его снова призвали, — войной пахнет, рядом она, под границей притаилась, и он, понюхавший пороха на Карельском перешейке, обмороженный и заживо похороненный в финских снегах, чудом выбравшийся из них, со страхом думал сейчас о том, что их всех ожидает в ближайшее время, — чуял: скоро. Это был не страх перед смертью, с нею он не раз встречался на финской, и хоть не свыкся с мыслью о ее неизбежности, но допускал такую возможность. Кто от нее застрахован? Разве узнаешь, угадаешь, какая пуля — твоя!.. Другое приводило Ведерникова в неистовство — самообман к чему? Ежели Гитлер войной грозит, так и сказать, поймем. Ему валерьянки не надо. Как сговорились все — успокаивают. А к чему? Польза, что ли, от этого? Или выигрыш какой?..
Дозорная тропа вывела на лысый бугор близ реки; дохнуло свежим ветерком, влажным и пахнущим липовым цветом; глаза, освоившись в темноте, различали срез противоположного берега, довольно пологого, без кустика, поблескивающую ленту воды; смутно вырисовывался шпиль Свято-Онуфриевского монастыря, увенчанный высоким крестом, даже почудился купол Успенской часовни, хотя видеть его за широкой кроной деревьев не мог. Но Ведерников совершенно отчетливо отметил, как, достигнув этого места, задержанный слегка пригнулся и пошел медленнее, будто хотел броситься вниз, к реке, а там — поминай как звали.
Два берега разделяло неширокое русло: наш — высокий, противоположный — пологий, не стоило трудов выбраться на него.
«Я те сигану! — напрягся Ведерников и в несколько мгновений сократил расстояние. — Пикнуть, гад, не успеешь!»
Разгоряченный возникшей догадкой и быстрой ходьбой, готовый в любую секунду кинуться на задержанного, он спускался с бугра по натоптанной солдатскими сапогами, не видной в высокой росной траве дозорной тропе, напрочь изгнав всякие мысли, не имевшие связи с его подозрением. Из-под ног взметывались кузнечики, и вибрирующие звуки их крылышек казались ему чересчур громкими. Откуда их столько поналетело? — подумал он с раздражением.
За спуском опять начинался невысокий подъем с полузасохшей, выгоревшей внутри старой ольхой на вершине. Старшина давно грозился срубить бесполезное дерево, да, видно, руки не доходили, и оно стояло на краю берега ненужным препятствием — тропа, огибая его, вынужденно жалась к обрыву, с которого в дождливые дни было недолго свалиться.
С вершины холма и до самой заставы дозорка петляла в зарослях болотистой кочковатой низинки. Новиков шел ходко, фигура его смутно маячила впереди, на середине холма.
В шаге позади отделенного, как и раньше, шаркая мокрыми штанинами, хлюпая носом, быстро шагал перебежчик. Ведерников с него глаз не спускал, держал под прицелом и думал, что через каких-нибудь полчаса они придут на заставу, в живое светло, где можно говорить вслух, напиться горячего чая — чай он любил густо заваренный и крутой — и завалиться на свою койку, храпануть сколько придётся. Ему до смерти надоели темнота и давящее безмолвие, осточертело постоянное ожидание беды.
Немного потеплело на душе при мысли о скором возвращении на заставу, рука потянулась в карман, где лежала коробка с махрой, пальцы погладили теплую, вытертую до глянца жестянку из-под конфет — единственный трофей с недавней финской войны. Нагретая телом тонкая жесть приятно ласкала кончики пальцев.
Он не сразу понял, почему Новиков неожиданно рухнул на тропу, как подрубленный. Ему послышалось, будто младший сержант произнес и другие слова, но переспрашивать было недосуг — прямо от ольхи быстро, без единого звука навстречу бежало несколько человек, рассыпавшись в цепь.
— Гляди мне! — угрожающе крикнул поляку и оглянулся назад.
Уже падая вместе с перебежчиком за спасительную неровность сбоку пыльной дозорки и переведя рычажок ППШ на автоматическую стрельбу, успел заметить еще одну группу, поднимавшуюся от берега метрах в пятидесяти у себя за спиной.
— Немцы! — крикнул он Новикову. — Бей на поражение! Бей гадов…
Крик слился с недлинной очередью, пущенной Новиковым из, своего автомата. Под гимнастёркой по взмокшей спине пробежал знакомый с той войны на ледяном перешейке, затруднивший дыхание холодок; выхватил из сумки ракетницу, переломил и с маху всадил первый попавшийся под пальцы патрон.
Выстрела он не услышал.
Яркий зелёный свет его ослепил, глуховатый щелчок потонул в грохоте пальбы: бил Новиков и по нему ответно стреляли. Ведерников тоже дал по немцам пару очередей, не видя противника — наугад: в глазах ещё мельтешили красные, с зелёным круги, и прицельно стрелять он не мог. Было важно использовать первый миг замешательства фашистов, рассчитывавших застичь врасплох пограничников, — это Ведерников понимал и, круто развернувшись всем корпусом, послал длинную очередь по тем, что теперь, ещё не применяя оружия, бежали к нему, должно быть надеясь на незамеченность. Автомат подрагивал в руках, как живой, с надульника срывались частые вспышки, и противник ударил по ним сразу из нескольких стволов, вынудив Ведерникова перекатиться для смены позиции.
Но и сами враги залегли, строчили с открытого места, не причиняя Ведерникову вреда — широкий камень надежно его защищал от повизгивающих над головой пуль. Боец почти ликовал, услышав донесшийся оттуда крик боли, и злорадно подумал: «Ага, не нравится! Сейчас огонька добавлю. Чтоб знали, ворюги!.. Чтоб не приходили непрошеными…» Приподнявшись, завёл за спину руку к сумке с гранатами, нащупал металлическую застежку с проволочным колечком; и в ту короткую долю времени, когда в зажатой ладони, холодя ее, плотно легла рубчатая стальная рубашка, почувствовал тяжелый удар по виску и сразу осел, погрузившись в непроглядную темноту.
Беспамятный, не услышал вонзившийся в автоматное шитье грассирующий чужеродный крик:
— Вернер! Ду грубэр фэтванст, грайф нах им. Ман мусс фортгеен[4].
Не услышал лошадиного топота — с заставы на выстрелы мчалась подмога.
Его обдало жарким, влажным дыханием разгорячённого скачкой коня, к лицу прикоснулись тёплые, мягкие лошадиные губы. От этого он мгновенно очнулся, вскочил, непонимающе завертел головой, не узнавая Орлика, на котором по тревоге прискакал старший лейтенант Иванов, смутно видел белевшее над ним в темноте лицо коновода, Жигалкина.
— Оклемался? — спросил коновод. — Давай садись на Орлика. Старший лейтенант приказал.
Ведерникова шатнуло вперед, к горлу подступила противная тошнота. Его вырвало.
— Где Новиков? — спросил, слегка заикаясь и сплёвывая.
— Тама твой отделенный. — Жигалкин неопределенно мотнул головой. — Живой и здоровый. Садись давай, без пересадки дуй на заставу. Некогда разводить тары-быры. Не слышишь, что ль?
— Где Новиков, спрашиваю?
— Русским языком говорю: тама твой отделенный. Делом занятый.
— А нарушитель?
— Давно отправленный куда надо. — Коновод в сердцах дёрнул поводья, и Орлик от боли рванул морду кверху. — Садись, сказано, не то на своих двоих отправишься. Не слышишь, какой внизу тарарам? Или ухи заклало?
За косогором еще постреливали, раздавались возбужденные голоса, и, перекрывая их, над хаосом звуков слышался гневный голос Иванова:
— Не стрелять!.. Прекратить стрельбу!.. Все ко мне!..
У Ведерникова звенело в ушах, болела голова. Саднило вспухший висок. Но он безошибочно узнал голос старшего лейтенанта 4-резкий, чуть хрипловатый — и поначалу лишь удивился, почему нельзя стрелять по врагу?! Почему! Сознание не принимало совершенно нелепой команды. Ведь только что дрались не на живот, а на смерть. И вот на тебе — «прекратить!». Бить их, гадов, смертным боем!.. Он машинально потрогал висок, но крови не обнаружил, наклонился, за автоматом и, не сразу найдя его, стал шарить в траве, сплевывая и ругаясь.
Его опять вытошнило. Приступ рвоты отнял желание ринуться вниз, к воде, где окончательно стихла стрельба по удирающим врагам.
«Выходит, здорово меня садануло, — подумал, взгромождаясь с помощью коновода в седло, неуклюже пав на него кулем и снова ругнувшись с досады. — Не иначе прикладом поддали».
Застоявшийся Орлик взял с места намётом, прямиком на заставу, едва не выбросив неумелого всадника из седла, заставив пригнуться к луке и вцепиться обеими руками в подстриженную щеткой колючую гриву.
* * *
Старший лейтенант Иванов обратно в подразделение не спешил, людей отправил домой; задержав при себе Новикова с Жигалкиным, затеял тщательный обыск местности. Оба ползали по росистой траве, шарили руками под нетерпеливые понукания Иванова.
— Ну что, что? — то и дело спрашивал он в нетерпении. — Нашли?
В одном месте Новиков нашёл несколько стреляных гильз.
— Не густо, — с досадой сказал Иванов, заворачивая гильзы в лоскут вырванной из тетради бумаги, один понимая вложенный в это слово глубокий смысл.
На заставу возвращались пешком. Старший лейтенант молчал, покуривая в кулак, и при каждой затяжке огонек папиросы высветлял его глаза под насупленными бровями. Двигались неспешным пограничным шагом; по обе стороны Буга распростерлась густая, отдающая порохом тишина, и её нарушал лишь гул моторов, наплывами несшийся издалека, то усиливаясь, то затихая, да назойливый стрекот неугомонных кузнечиков.
Шумы и тишина проходили мимо сознания Новикова, не задевая его, не привлекая внимания. Уйдя в свои мысли, Новиков как бы заново переживал во всех быстротечных перипетиях недавнюю схватку с врагами, одновременно испытывая гордость и стыд. При одном воспоминании о сковавшем его испуге лицо вспыхнуло от подбородка до лба и жаркий пот облил спину.
…Они, как призраки, возникли из темноты на вершине холма, у старой ольхи, и зашагали вниз, рассыпавшись в цепь, и он вначале их принял за своих, пограничников. Но тут же резонно подумал: «Откуда взяться своим? Да еще со стороны границы. Это же немцы!»
Оторопев, прилип к месту вдруг отяжелевшими ногами, будто тесно обвитый по телу верёвкой. «Немцы!» — кричала в нём каждая клеточка. Кто знает, сколько бы длилось оцепенение, не перейди немцы в бег!
Иванов все молчал.
Новиков, думая о своём, забыл о присутствии старшего лейтенанта и вздрогнул, почувствовав на своем плече тяжёлую руку, угадав молчаливое приказание остановиться.
— Действовали вы правильно, — сказал Иванов, и от него дохнуло запахом табака. — В целом… правильно. Если время позволит, сделаем подробный разбор… Если позволит, — сказал почему-то дважды. — Вы меня поняли, Новиков?
— Приблизительно.
— Додумаете. Тут особенно не над чем ломать мозги… Но я вот что хотел сказать вам, младший сержант. Постарайтесь запомнить совет: надо быть маленько тверже с людьми. Не так строго и не очень официально, но и не красной девицей; командирской воли побольше… Люди поймут вас. Подумайте. — С этими словами, толкнув калитку ударом сапога, прошёл во двор, придерживая шашку.
Возбуждённый только что пережитой схваткой, не успев осмыслить слов старшего лейтенанта, Новиков в пропотевшей до черноты гимнастерке, на ходу расстегнув верхние пуговицы, зашел в помещение, поставил нечищеный автомат в пирамиду и, мучимый жаждой, направился по коридору в столовую. Ещё на подходе к ней услышал разнобой голосов, всплески смеха, почувствовал несшийся с кухни стойкий кисловатый запах борща и пригоревшего лука.
Был на исходе первый час ночи.
В тесной, сизой от дыма столовой, при тусклом свете керосиновой лампы чаевничал Ведерников в окружении пограничников. Кто с зажжённой цигаркой, кто тоже с кружкой чаю или ломтём житного хлеба, присыпанного солью и сдобренного горчицей, — все, не присаживаясь на свободные стулья, галдели, перебивая один одного.
— …вижу, летит наш Серёга на лихом боевом коне, саблей размахивает. А вражьи головы — в сторону, в сторону, прыг, скок…
— Серега, будь другом моего детства, расскажи, как вёл в атаку свой эскадрон. Это же интересно, жуть, ка это интересно и поучительно!
— Что и говорить — конник, не чета пехтуре.
Под хохот и пересмешки, напустив на себя неприступно-молчаливую хмурость, Ведерников пригнулся над дымящейся кружкой чаю, только что налитого из кипящего чайника, дул на него, сложив губы трубочкой, отхлебывал по маленькому глотку, пряча от света ушибленный лоб, на котором взбух здоровенный желвак — отметина норовистого Орлика незадачливому кавалеристу.
Ведерников понимал: огрызаться — себе в убыток; разумнее промолчать, не вдаваясь в подробности о том, как Орлик, пронёся его в загодя распахнутые часовым заставские ворота, пулей влетел на конюшню, сбросив через голову седока, и он шмякнулся о стену; лучше не связываться, трезво думал Ведерников, допивая свой чай, и памятуя мудрую поговорку: «Слово — серебро, молчание — золото».
Но поговорка тотчас вылетела из головы, едва в столовую вошёл Новиков, нерешительно стал продвигаться вперед.
Ведерников, завидя своего отделенного и подав знак сесть к своему столику, разом позабыл о трезвых и мудрых мыслях, до времени сдерживавших уязвленное самолюбие; подхватился, грохнул кулаком по столу.
— Будя трепаться! Надоело. Эй, повар, неси поесть младшему сержанту. И шевелись давай!.. — крикнул в раздаточное окно.
— Отставить! — Новиков сел к столу, чувствуя на себе любопытные взгляды. — Я и сам могу попросить. — Он немного смутился от избыточного внимания; небольшой говорун, боялся расспросов о недавнем боевом столкновении, отнюдь не считая себя героем — помнил о пережитом страхе.
Вопросы в самом деле не заставили себя ждать.
— Как оно было, младший сержант, расскажи.
— Сколько их перешло?..
— Кто их разберёт в темноте! — Новиков не обернулся на голос — благо, повар принёс кашу и чай. — Были да сплыли.
— А ежели к примеру сказать, на глазок товарищ младший сержант? — к столу протиснулся коренастый широколицый паренёк, прикомандированный из отряда сапёр. — Ну, скажем, десяток их было?
— Прибежал бы да сосчитал, ежели такой шустрый. — Ведерников сощелкнул хлебную крошку.
Но паренька, видно, окрик не остудил.
— Стал-быть, сколько через границу пробралось, столько же обратно вернулось, — подытожил он без усмешки. — А мы ухами хлопам, в белый свет, как в одну копеечку, постреливам. По гадам, стал-быть, возборонено, нельзя но ним.
— Нельзя! — отрубил Новиков.
— А ежели он завтра по нас, шандарахнет своей артиллерией, тоже помалкивать?
— Что будет завтра, поглядим. Сегодня паниковать преждевременно, — менее сердито парировал Новиков. — Если вынудят, ответим на провокацию. Как сегодня… — Он запнулся: получалось нескромно. — В шапку не спать — вот главная задача.
— И то верно, — подтвердил кто-то из пелены табачного дыма.
Но сапёра не так просто было унять.
— Ежели б своими глазами не видел… А то глаза закрывай, талдычим: кругом шестнадцать, вроде всё хорошо…
Сапёра прервало сразу несколько голосов — кто посоветовал для успокоения холодной водичкой умыться, кто валерьянки двадцать капель глотнуть.
— Дурачьё! — неожиданно рявкнул Ведерников. — Трепачи, чего, спрашивается, геройствовать?.. Все храбрые. Посмотрю на вас, когда жареный петух клюнет…
— Хватит, Ведерников. Подбирайте выражения. — Новиков поставил пустую кружку. — Что вы язык распустили? Ну, усталость, ну, опыт финской… Понятно. Но у нас есть приказ командования. Его и будем придерживаться. Солдатское дело — бдительно охранять границу. Чем мы и занимаемся. А от пустых разговоров ничего не изменится. Ну, давайте я, вы, Ведерников, и все вместе начнём орать: «Караул!» Нужно это?
— Как рыбе зонтик.
— Верно, Миронюк. И я говорю о том же. То, что происходит на границе, знаем не мы одни. И в Москве об этом известно, и… меры принимаются.
По тому, как парни внимательно слушали, Новиков понимал, что им позарез нужны эти слова, накаленная обстановка опалила их и до крайности растревожила, как, впрочем, и его самого. Только вот их он, разумеется, ненадолго успокоит, а кто успокоит его! Кто скажет нужные слова ясно и убедительно?
— Младший сержант Новиков, в канцелярию, — послышался от двери голос дежурного. — Быстро.
3
«…Я, пшепрашам панство, скоро закончу. Hex пан писатель не спешит, дело есть дело… Когда поручник Голяков… по-вашему, старший лейтенант Голяков записал мои слова на карту, мы хутко пошли з поврутем, назад, значит, на граничку. Переправился я за Буг хорошо, опасно нет. Вышел на польский берег, посидел, слушаю. Швабов нет. И я хутко побёг домой… Хорошо бег, успел… Мотоцикл выскочил на берег. Швабовский, ну, немецкий, свет прямо на ваш берег… Я полёг. Смотрю. Езус-Мария!.. Новиков под электричеством. Шваб стрелял лодку… Думаю: пропал Новиков. Як бога кохам, пропал… А он швабовский мотоцикл из автомата…»
(Свидетельство Я. Богданъского)Ввиду позднего времени движок не работал. Канцелярию освещала закопчённая «семилинейка» под мутным, с черными языками нагара, стеклом, задыхаясь, подпрыгивал хилый клинышек пламени, и вместе с ним перемещались на стенах уродливо-длинные тени.
За столом начальника заставы склонился над картой старший лейтенант Голяков из штаба комендатуры, нанося на неё синим карандашом условные знаки.
— Посиди, Новиков, — нервно сказал он, прервав младшего сержанта на полуслове и снова занявшись условными знаками. — Сколько танков? — спросил младшего лейтенанта, сидевшего по другую сторону письменного стола рядом с Богданьским.
— До семидесяти. Так, пане Богданьский?
— Так ест, семдесёнт… Альбо трошечку больше, — скороговоркой подтвердил поляк. — Пане коханый, мусе врацать до дому.
— Что он сказал? — нетерпеливо переспросил Голяков.
— Семьдесят или несколько больше. Просит скорее освободить.
— Координаты?
— На восточной окраине Славатычей.
— Его спросите.
Младший лейтенант наклонился к Богданьскому, переговорил с ним и обернулся к старшему лейтенанту.
— Подтверждает — на восточной окраине.
— Уточните позиции артбатарей.
Новиков не понимал, зачем и кому он здесь нужен, чувствовал себя лишним в пропахшей копотью и табачным дымом канцелярии с занавешенными окнами, где все нервничали — младший лейтенант, Богданьский и Голяков, наносивший на карту новые условные знаки.
— …Артбатарея, сапёрный батальон, два понтонных моста, — всё больше мрачнея, повторял он за переводчиком вслед.
Поляк сидел на табурете в надетом поверх белья солдатском плаще, поджав ноги, и выглядел странным среди двух строго одетых военных, взволнованно похрустывал пальцами и непрестанно обращал взгляд к настенным часам — они показывали половину второго, хлюпал носом и, безразличный к тому, успевают ли за ним командиры, выкладывал все известные ему данные о расположении немцев вблизи границы. И не просто выкладывал. В голосе слышалось осуждение.
— …Шановное панство не видит, что творится под самой граничкой?.. У них под носом… проше пана, под боком!.. Хлопов выселили из хат, прогнали от реки за три километра… Железнодорожные станции забиты немецкими войсками и техникой… День и ночь прибывают новые эшелоны. Шановное панство и об этом не ведает?.. От железной дороги прут сюда своим ходом, под самый Буг, холера им в бок! Укрепляют позиции, тянут связь, чтоб им холера все кишки вытянула из поганых животов!.. Два дня — с рассвета допоздна — на хлопских фурах подвозят к границе снаряды. Хай пан Езус покарает тех фашистовцев! Для советских офицеров и это новость? Тогда почему Советы даже не почешутся, пшепрашам панство?..
Резкий в движениях, зажав между колен полы плаща, Богданьский без конца похрустывал пальцами и говорил, говорил, сообщая новые сведения о немецких войсках.
Голяков час от часу мрачнел, опасливо поглядывал на задыхающуюся «семилинейку» — желтоватый язычок пламени с длинной, тянувшейся в горловину стекла копотной завитушкой уже не подпрыгивал, а медленно вытягивался в узенькую полоску, грозя оторваться от нагоревшего фитиля. Голяков протянул руку к лампе, вероятно, затем, чтобы снять нагар, но, не притронувшись к ней, продолжил опрос.
— Что за штаб в монастыре? — спросил он.
Богданьский опередил переводчика: никакой там не штаб. Неужели даже это неизвестно пану офицеру? В монастыре расположился полевой лазарет. Главный там обер-лейтенант, доктор, немолодой… Все койки пока пустуют… Наверное, пан офицер догадывается о назначении лазарета, где пока нет больных и раненых?.. А известно ли пану офицеру, что во Влодаве и Бялой Подляске тоже развернуты госпитали?.. А что гражданская администрация на железной дороге заменена военными, что вчера ночью сменили мадьяр, занимавших первую линию за немецкими пограничниками?
Новиков боялся шелохнуться — слушал. Многое для него не явилось каким-то пугающим откровением, как, впрочем, наверное, и для старшего лейтенанта. Сосредоточение вражеских войск происходило у всех на глазах — невозможно скрыть огромное по масштабам скопище живой силы и техники, как нельзя тайно оборудовать артиллерийские позиции, отрыть ходы сообщения, окопы, траншеи у самой границы.
Но в Новикове еще держались и жили отголоски неоднократно повторенных успокоительных слов, тех самых, которые по долгу службы, иногда вопреки вспыхивавшим сомнениям, твердил он своим немногочисленным подчиненным.
Голяков слушал, смежив глаза, пометок на карте больше не делал. Обе ладони его лежали на испещрённом синими знаками зеленом листе.
— Спасибо, товарищ Богданьский, — поблагодарил он поляка и протянул руку. — Мы вас сейчас проводим обратно.
— Так ест, до дому надо.
Голяков велел младшему лейтенанту сходить за одеждой поляка.
— Просохла не просохла — тащите, — сказал он. И вдруг, словно впервые заметив присутствие Новикова, удивленно на него посмотрел. — Вы готовы?
— Не понял. К чему? — Новиков подхватился. — Мне приказали явиться в канцелярию…
— Почему без оружия?
— Не знал, товарищ старший лейтенант.
— Быстро за автоматом!
Сбегать за автоматом было минутным делом.
Переводчик ещё не вернулся. Голяков, засовывая обеими руками бумаги в планшет, плечом прижимал к уху телефонную трубку, приказывал соединить его с комендантом участка капитаном Яценко.
— Русским языком говорю: подержите его на проводе. — Он взглянул на Богданьского. — Коменданта подержите на проводе. Я к вам сейчас приду, — раздраженно бросив трубку, глянул на Новикова маленькими, в красным прожилках глазами. — Сиди, пока не вернусь. Сюда никого не пускать.
— Есть, товарищ старший лейтенант!
Но Голяков уже был за дверью, шаги его гулко отдавались в пустом коридоре.
Богданьский сидел на прежнем месте, устало опустив руки.
Всё было, как и минуту назад. В канцелярии внешне не произошло изменений. Разве что стало попросторнее без начштаба и переводчика. Часы отщёлкивали секунды, на подоконнике агонизировала «семилинейка», и над картой еще не рассеялся дымок папиросы — словно плавала тучка.
Внешне всё было, как минуту назад.
И тем не менее Новикову почудилось, что в его отсутствие что то сдвинулось с места, непривычно сместилось.
Он закинул на плечо ремень автомата, сделал несколько шагов к столу, к карте, невольно посмотрел на неё и ещё шагнул.
Карта была зелёной от обилия зелёного цвета, обозначившего лесные массивы, от прихотливых изгибов неширокой реки, — этих хвостатых головастиков — речушек и ручейков. Он словно услышал журчание воды и ощутил на себе дыхание ветра, пропахшего июньскими травами и парным молоком — так пахло сейчас там, дома, за Уральским хребтом, в его родной и далекой деревушке Грязнухе. Так пахло, когда он с ребятами ездил в ночное.
Но поверх всего этого твердым синим карандашом опытная рука нанесла ромбики, означавшие скопление немецких танков, изломанно-зубчатые полукружья, где сосредоточились немецкая пехота, позиции немецкой артиллерии, саперных батальонов и рот — немцы, фашисты, враги… И — острые синие стрелы впивались в зеленый берег.
«Да что же это?!» — недоуменно сдвинулось в Новикове.
— Фашистовцы… — сказал с ненавистью Богданьский, будто понял, что творится на душе у сержанта.
Новиков вздрогнул. И внезапно представил себе такие же листы карт на столах канцелярий соседних застав. И там командиры наносили на них синие ромбики, синие изломы, синие стрелы. И целый фронт стоял на том берегу. Стрелы будто впились Новикову в грудь. И ветер уже пахнул порохом, гарью, и весёлые головастики речушек и ручейков порозовели от крови.
Инстинктивно, не отдавая себе отчета, положил ладонь на свой зеленый берег, словно небольшая эта его ладонь была способна прикрыть его от зловещих стрел.
— Капралю! Цо бендзем робиць, цо? — с откровенным отчаянием спросил Богданьский. — Нема выйстя.
Новиков непонимающе посмотрел на поляка и снова, как на границе, когда тот, упираясь, не захотел идти на заставу, почувствовал необъяснимую вину перед ним.
По всей вероятности, поляк ответа не ждал, просто высказал вслух тревожившую его мысль, потянулся к занавешенному одеялом окну, приподнял краешек.
За окном была непроглядная ночь.
4
«…Когда младший сержант мне рассказал об этом, возвратившись с границы, я понял, что с моим отделенным творится неладное. Не то, что шарики с роликами перепутались, нет. Насчёт головы — дай бог каждому!.. Навроде шёл человек с закрытыми глазами, шёл по ровному, знакомому месту. И вдруг в прекрасный момент открыл глаза… и перед ним — пропасть. Словом, другой человек… И так меня за душу взяло, что дрожу за него — спасти надо…»
(Свидетельство С. Ведерникова)Когда со света они вышли с чёрного хода на улицу, двор тонул в темноте. Было тихо — до звона в ушах. Тихо и зябко от наплывавшего с реки сырого тумана. Новикову казалось, что в голове у него стоит сплошной гуд — от непривычно густой тишины и усталости. Гудели телефонные провода, в них что-то потрескивало, часто, с короткими перерывами, словно провода захлебывались от перегрузки.
Ещё не свыкшись с темнотой, Новиков вслед за Голяковым и Богданьским спустился с крыльца, держась за перильца, все трое пересекли двор к калитке. Она едва слышно скрипнула, отворенная старшим лейтенантом.
Из темноты вынырнул Иванов.
— Всё готово.
— Сняли наряд?
— Оттянул влево, метров на триста. — Иванов перевел дыхание, видно, бежал. — Лодка на месте, — добавил после короткой паузы.
— Значит, там всё в порядке?
— Младший лейтенант наблюдает.
— Тогда всё. Ну… — Он не договорил.
«Да и что он может сказать?» — подумалось Новикову.
— Можно идти? — спросил Иванов.
— Если нет вопросов.
— Всё ясно.
За воротами пошли гуськом, близко один к одному. Новиков замыкал цепочку, слышал за спиной удаляющиеся шаги Голякова. Глаза стали различать очертания ближайших кустов, напряжённо ссутуленную спину поляка. Богданьский ступал неуверенно, наклонясь вперёд, глядя себе под ноги — будто шел по кочкарнику, — и простуженно шмыгал носом.
Напрямик по тропе до реки было от силы метров сто пятьдесят. Новиков догадывался, куда ведут Богданьского, но не мог взять в толк, почему Иванов почти втрое удлиняет дорогу, когда времени буквально в обрез.
Должно быть, эта же или схожая мысль владела поляком, еще более напрягшим сутулую спину.
Иванов вёл в обход нарытых траншей, мимо блокгауза, где, слышно, кто-то крутил ручку телефонного аппарата — со вчерашнего дня по приказу коменданта участка в ночную пору блокгауз занимал пулемётный расчёт, спустился по кладкам через болотце, свернул под прямым углом вправо, к темневшей над берегом громаде дубов.
За кладкой Иванов обождал.
— Тащи к младшему лейтенанту, — сказал он Новикову и передал из рук в руки моток телефонного провода. — Поможешь ему. Там он, в кустах.
Новиков сделал два-три шага и наткнулся на переводчика.
— Здесь я, — произнёс тот странно изменившимся голосом.
— Ну что, порядок? — спросил Иванов.
— Немцы!.. На берегу.
— В каком районе?
— Напротив дубов. Кажется, засада.
— Когда кажется — крестятся.
— Я так полагаю… В два пятнадцать к часовне прошёл усиленный наряд с собаками, человек пять… Обратно не возвращались… Потом…
Иванов нетерпеливо слушал возбужденный, какой-то горячечный шёпот младшего лейтенанта.
— Хватит! — прервал он. — Противник вам скоро привидится под собственной кроватью!.. Хватит паниковать… Лодка готова?
— Там…
Иванов выхватил у Новикова моток телефонного провода, ткнул в руки младшему лейтенанту:
— Привяжешь, тащи к воде. Пониже дубов. Вдвоем с ним, — показал он на Богданьского. — Пошли, Новиков. Пошли. Не то и нам примерещится черт с рогами… Сами поглядим.
Младший лейтенант с поляком ушли в заросли ивняка; Иванов увел Новикова на взгорок, откуда немного просматривался вражеский берег.
Немцев не было слышно. Погруженный во тьму, простирался от уреза воды покатый луг, на котором не дальше как вчера на закате Новиков со своего СНП[5] видел штабеля плотиков, разобранные понтоны, аккуратно сложенные вдоль реки большие десантные лодки и купающихся в Буге немецких солдат; все, как на подбор молодые, рослые, они плавали, кувыркались, дурачились и, крича что-то на своем языке, показывали руками в сторону советского берега; потом пятеро отделились и поплыли.
Наполовину укрывшись за пламенеющей кромкой дальнего леса, солнце обливало расплавленной бронзой ближние перелески, купола монастыря и часовни, реку и тех пятерых, что вышли на правый берег и мочились под гогот и выкрики в нескольких десятках шагов от НП.
— Что делают, сволочи! — бесился Ведерников и сжимал в руках автомат. — Младший сержант!..
Младший сержант… Что он мог, младший сержант? Выполнять приказ — не стрелять…
Ночь давным-давно стерла предзакатную бронзовость, слила в один — черный — цвет плотики и десантные лодки, готовые к сборке понтонные мосты, позиции артиллерийских батарей, танки и полевые кухни, скопления пехоты и монастырские строения с золочеными куполами, божий дом, превращенный в нолевой лазарет, — все, все, что Голяков обозначил на карте синим карандашом.
Лишь левее часовни, от Славатычей, а может, от ближних хуторов, нарастая, приближался треск мотоцикла и рассеянный далью и жидким туманом пляшущий пучок неяркого света.
Потом свет исчез. Заглох мотоцикл.
— Хватит здесь чикаться, — сказал Иванов. — Пошли, время не ждёт.
Новиков молча последовал вниз, к зарослям ивняка, где старший лейтенант опустился на корточки, прикуривая, чиркнул колесиком зажигалки под полою брезентового плаща, высветлив полукружье неправдоподобно зеленой травы. Запахло табаком, погас огонёк. Но Иванов в коротком отсвете успел заметить оставленные переводчиком весла.
— Вот разгильдяй! — прошипел сердито. — Возьми, Новиков, отнесёшь этому… младшему лейтенанту.
Всё, что Новиков делал потом, принеся забытые в ивняке и оказавшиеся ненужными вёсла, — отвязывал и спускал на воду легкую надувную лодку, помогал Богданьскому сесть в нее, а затем понемногу стравливал конец прикрепленного к ней телефонного провода, — всё это он проделывал машинально.
— Давай не спи, Новиков. Шевелись давай, — торопил Иванов.
Новиков не спал. И шевелился.
Быстрое течение несло лодку вниз, к изгибу реки, где, по расчетам младшего лейтенанта, ее прибьет к берегу без помощи весел и откуда уже пустую ее притянут назад.
Нет, младший сержант не спал, следил за лодкой, достигнувшей середины фарватера, даже заметил, как ненадолго ее будто бы придержало водоворотом и отпустило.
Но всё это виделось без того острого восприятия, неизменно появлявшегося с выходом на границу, когда глаз фиксировал каждую мелочь, независимо от того, важна она или не заслуживает внимания. Сейчас окружающее виделось Новикову сквозь синие стрелы на карте начальника штаба, он почти физически чувствовал их хищные острия и с пугающей отчетливостью представлял огромность до времени притаившейся во мраке неотвратимой беды.
Старший лейтенант придушённо чертыхался, то и дело шлёпал себя по лицу.
— Ты, чёрт!.. — слышалось справа.
Над головой Новикова тоже толклись комары, звенели на один манер — нудно и тоненько, лезли в уши и в рот, жгли шею и руки, облепили щеки и лоб, но он перестал ощущать жгучий зуд их укусов, как, впрочем, не заметил обвисшую — до воды — чалку, и продолжал её стравливать понемногу, перебирая вспухшими пальцами осклизлую рубашку телефонного провода.
Он жил картой.
«Как же так получилось? — следя за лодкой, видя и теряя её, потерянно думал он. — Разве без карты было не распознать зловещий смысл происходящего?.. Не у тебя ли на глазах столько времени — день за днём — у границы безостановочно накапливаются вражеские войска?!. А притворялся незрячим. Как ты посмотришь в лицо Ведерникову, другим, кому доказывал несусветицу, успокаивал и обвинял в паникерстве?.. Карта с синими стрелами отрезвила тебя…»
Он не додумал. Провод вдруг натянулся, задрожал в руках, как струна. Лодку закружило в водовороте, вокруг нее будто кипело: слышались всплески — наверно, Богданьский вместо вёсел загребал руками, пробуя выбраться из воронки.
Рывка было достаточно, и посудину опять подхватило течением. Ее несло минуту или значительно больше, может, все полчаса.
— Ты, чёрт!.. — послышалось снова, но теперь не справа, а рядом, громко, в опасной близости от противоположного берега. — Никак задремал!.. Перекур с дремотой устроил… Вытаскивай. Ну, что же ты!..
— Я сейчас…
Без Богданьского лодка казалась почти невесомой, Новиков легко выволок её на песчаную отмель, неслышно соскользнул вниз, придержав рукой автомат, и только сейчас почувствовал, как сильно устал.
В ту минуту, когда он стал отвязывать чалку, от ближнего хутора выскочил мотоцикл с зажженной фарой, круто развернувшись, остановился неподалеку от воды; яркий сноп света резко ударил по ней, стал шарить, медленно смещаясь к лодке.
— Ложись! — запоздало приказал Иванов и спрыгнул на мокрый песок.
Новиков лёг.
Пучок света скользил по воде, сантиметр за сантиметром ощупывая морщинистую от ряби поверхность, поднимался к обвалистому срезу берега, перемещался и под углом ложился на воду, высветливая её до самого дна и неумолимо приближаясь к утлой лодчонке.
Лёжа рядом со старшим лейтенантом, Новиков слышал его частое прокуренное дыхание, с опаской следил за полосой электрического огня, в которой клубился туман и роилась мошка, невесть откуда налетевшая так густо, словно бы падал мартовский снег; полоса приближалась; почти вжавшись в мокрый песок, младший сержант стал отползать назад, за лодку, покуда не уперся ногами в берег.
Что-то до омерзения гадкое и постыдное ощущал он в боязни обнаружить себя, в необходимости лежать раздавленной курицей, лежать под тихое бормотание реки и стрекот немецкого мотоцикла с вытаращенным циклопическим глазом и безропотно ожидать…
Ожидать — чего?..
Вместе с проникающим к телу влажным холодом в сознание вливался обжигающий стыд, наполнял сердце и мозг — всё существо до последней клеточки, не оставляя места сбивчивым мыслям, рассудочному повиновению.
Новиков в эту минуту почти ненавидел себя и старшего лейтенанта, уже не в силах был слушать тяжёлое, с посвистом дыхание своего осторожного командира, и если раньше, до сегодняшней ночи, старался гасить возникающее в себе недовольство и всегда его перебарывал, то сейчас совершенно не мог совладать с ним.
«До каких пор? — возмущался он. — Разве я не на своей земле?!..»
От гнева было трудно дышать; тихое бешенство словно бы стало отрывать вжатые в песок руки, ноги, приподняло над лодкой, и Новиков на секунду ослеп от ударившего в глаза яркого света.
— Ложись! Ты что делаешь?!.
Вряд ли услышал он слова Иванова, как, должно быть, не услышал свои.
— Я на своей земле…
Но прежде чем успел по привычке произнести звание Иванова, тот возник рядом с ним в полосе света, рука его потянулась к застёгнутой кобуре и сразу отдёрнулась.
— Спокойно, младший сержант. Не паниковать.
Слова донеслись, как сквозь вату, их заглушил хохот. Единственный выстрел, прозвучавший от мотоцикла, отнесло и рассеяло мощной струей спёртого воздуха, ударившего из простреленной лодки.
— Сволочи! — прорычал Новиков.
Всей силой сконцентрированной в себе ненависти он рванул автомат к подбородку и, совершенно не помня себя, поддавшись безраздельно властному чувству гнева, нажал на спусковой крючок автомата; и снова не услышал ни звона разбитой вдребезги фары, ни возмущённого возгласа старшего лейтенанта:
— Что ты… ты натворил, Новиков!..
В наступившей тишине слышен был топот убегающих немцев.
5
«…Голяков позвонил, и по тону его стало понятным: случилось из ряда вон выходящее. У меня, признаюсь, дрогнуло сердце… В самом деле случилось: младший сержант Новиков, один из самых дисциплинированных командиров, стрелял по немцам, бил по их мотоциклу, по их территории. По тогдашним временам и по той обстановке это было подсудное дело… Не знаю, что меня удержало от написания в округ срочного донесения. Что теперь выдумывать!.. Не знаю — и всё. Решил: лично подъеду и разберусь на месте… В общем, не поднялась рука на такого сержанта — уж больно хорош был, чист, во всех смыслах чист… Пришлось мне в эту ночь дважды поднимать с постели начальника пограничных войск округа — первый раз просить санкцию на возвращение Богданьского домой, в Польшу, второй — согласиться с моим решением не судить Новикова. Генерал не стал возражать…»
(Свидетельство А. Кузнецова)Иванов нервно ходил по канцелярии, сцепив челюсти и коротко размахивая руками, гневный, неузнаваемо постаревший за одну ночь. Было светло от «семилинейки» с протертым стеклом, даже излишне светло, и резкая тень старшего лейтенанта перемещалась по стене неестественно чётко.
— Ну, Новиков, подсёк ты меня. Под корень срубил… Ты хоть понимаешь, чёрт возьми, что натворил?!.
Новиков стоял навытяжку.
— Так точно.
— Ни хрена ты не понимаешь… Было бы соображение, не натворил бы глупостей. А ещё грамотный, учитель. Чему ты их мог научить, детей?
— Простите, товарищ старший лейтенант, моё прошлое к делу не относится.
— Подсудное дело. Сам в тюрьму напросился… Я бы ещё понимал — кто другой… Но ты…
— Они первые. Я не начинал.
— Сколько раз говорено: не поддаваться на провокации! Приказы надо выполнять безоговорочно. Кроме явно преступных. Это тебе известно?
— Так точно.
— Получается, что я отдавал явно преступный приказ.
— Никак нет.
— Значит, стрелял ты сознательно.
— Так точно.
— Ну, знаешь! — Иванов присел на койку. — Заладил, как попугай. У тебя здесь все в порядке? — постучал себя по лбу.
— Всё в порядке.
— Да очнись же ты, парень. Несешь всякий вздор. Таким манером недолго себя потерять. — На припухшем от комариных укусов, тощем, с отросшей за ночь щетиной лице старшего лейтенанта читались недоумение и усталость.
Новиков смутно понимал себя, еще меньше доходили до сознания слова Иванова. Смертельно хотелось спать. Ничего больше. Спать, залечь на койку вниз лицом, как привык спать после ночной службы. И что бы ни говорил старший лейтенант, в каких бы ни обвинял грехах и ни грозил трибуналом — все потом, после сна. Ну, стрелял и стрелял. Ну, предадут суду, пускай.
С трудом поднял тяжелую голову:
— Двух смертей не бывает, товарищ старший лейтенант.
Иванов лскочил как ужаленный:
— Чушь какая! Соображаешь, что несёшь?
— Так точно.
— Попугай ты и есть.
В сердцах Иванов сдёрнул с окна солдатское одеяло, задул лампу и толкнул обе створки с такой резкостью, что они, спружинив, снова захлопнулись, дребезжа стеклами.
— Открой, дышать нечем.
— Есть открыть.
В канцелярию вливался синий рассвет. Волглый речной воздух вытеснял застойный прокуренный дух, напитавший всю комнату — от пола до потолка, ветер прошелестел листками откидного календаря на столе.
Кто-то протопал от склада с боеприпасами.
На станции Дубица, за заставскими строениями, отфыркивался и сопел паровоз.
— Товарняк, — неизвестно к чему сказал Иванов.
Потом паровоз взревел, часто и шумно задышал и тронулся с места. Было слышно, как, набирая скорость, состав удаляется к Бресту, взревывая и грохоча.
— Ушёл, — опять же непонятно обронил Иванов.
Новиков продолжал в бездумье стоять у края письменного стола, возле вешалки, на которую старший лейтенант повесил брезентовый плащ с вывернутым наизнанку правым рукавом. На душе было пусто. Он рассеянно взглянул на быстро вошедшего в канцелярию Голякова, привычно выпрямил в коленках ноги, но тут же ослабил их — ноги гудели, тяжёлые, будто приросли к дощатому полу.
— Что за стрельба была? — спросил Голяков. — На вашем участке?
— На моём. — Иванов механически раздвинул матерчатые шторки над схемой участка.
— Немцы?
— Начали они.
— Потом?
— Мы… Мы ответили.
Новиков переступил с ноги на ногу. Приход старшего лейтенанта почти не изменил ничего в его настроении, не прогнал усталость. И даже когда услышал дважды повторенное Ивановым «мы», не стал вникать в смысл — будто его, Новикова, это совсем не касалось.
— Темнишь, Иванов, что значит «мы»?
— Ну, я… — Старший лейтенант сгреб в горсть лежавшую на столе тетрадь с записями телефонограмм, скомкал её, повторив твёрже: — Разок пальнул. Они, сволочи, лодку прострелили… Но это не главная причина. — Он впервые посмотрел Голякову в лицо. — Надо было их отвлечь от Богданьского. Они могли его захватить. Верно? Могли. Запросто. Ну, я принял решение… Всякое действие лучше бездействия. Не так ли?
— Демагогия!
— Так было: немцы первыми подняли стрельбу. — Иванов разгладил скомканную тетрадь, задернул шторку над схемой участка. — Вот собирался донесение написать, а тут как раз вы пришли.
Будто очнувшись и враз оправившись от дикой усталости, Новиков во все глаза уставился на старшего лейтенанта, порывался что-то сказать, не ему, начальнику заставы, а Голякову.
Иванов, стоявший вполоборота к нему, вдруг обернулся всем корпусом:
— Идите, Новиков. Шагом марш чистить оружие!
— Пусть останется, — Голяков многозначительно улыбнулся, не удостоив взглядом обоих. — Донесение он хотел составить. Ха. Вы хотели донесение составить, а я помешал… Я всегда появляюсь не вовремя… Вот что, Иванов, вы это бросьте. Донесение полагается писать, как было. Первый день, что ли, служите?
— Через полчаса будет готово.
— Получаса мало. К донесению приложите чертежик места происшествия. Двух часов хватит?
— Управлюсь.
Но Голяков не торопился из канцелярии — достал папиросу, помял её между пальцев и закурил.
Вот и конец, подумал Новиков про себя. Все стало на свои места. Он с совершенно отчетливой ясностью представил действия Голякова. Старший лейтенант докурит свою папиросу, не спеша докурит, медленно, смакуя каждую затяжку, но думая о нем, о Новикове, и даже жалея его. Голяков прекрасно отдаёт себе отчеёт в случившемся, его не обведешь вокруг пальца — знает, уверен: стрелял Новиков, неплохой младший командир, даже совсем неплохой. Алексей от слова до слова помнил характеристику на себя, с которой при выпуске его ознакомили. Вся в превосходных степенях: «…В политических вопросах разбирается отлично, морально устойчив, понимает политику партии и правительства, вежлив, аккуратен, авторитетен…» А на выдержку?.. Ни слова правды. Липовая характеристика. По всем пунктам критики не выдерживает. Так, Лёшка, так. Куда от правды уйти! Не оправдал надежд своих командиров. Сейчас Голяков докурит свою папироску — вишь, чернота под мундштук добирается. Пригасит в блюдце окурок. Пригасит — и будь здоров, Новиков, сдай автомат. Поясок сними. Поясной ремень арестанту не полагается…
И тут же трезво, как после ушата холодной воды, другое пришло: «Ты-то при чём? Иванов вину на себя принял. То грозил военным трибуналом, из себя выходил. Сейчас… Чёрт-те что… Сейчас почистишь автомат, каши досыта налопаешься. И спать, без просыпу, пока не разбудят. А тем временем Иванова за шкирку…»
У Новикова сжало горло. Пошарил руками, будто искал, на что опереться, ни к чему щёлкнул прицельной планкой автомата, вызвав у Голякова недоумение.
Знакомое ощущение, то самое, что подняло его, вдавленного в прибрежный песок, поставило на ноги в рост перед немцами и ошпарило спрессованным гневом и ненавистью, то самое чувство его захлестнуло сейчас, забило дыхание — как затянутая на шее веревка. Все внутри кричало.
Он подался вперёд, к Голякову. Но слова не шли. Пропали слова, застряли в стиснутом горле.
— Я хотел…
— Докладывайте. — Голяков швырнул окурок в окно. — Только начистоту.
— Один я… Можете проверить оружие… — Новиков мельком увидел землистое от усталости лицо Иванова, и ему стало не по себе.
Начальник заставы угнетённо молчал, гладил заросшую щетиной щеку, то и дело посматривая в раннюю синь близкого рассвета, опять гладил щеку — словно у него зубы болели.
— Продолжайте, — холодно сказал Голяков.
Всё сильнее сжимало горло… Он не согласен со многим. Стыдно прятаться. Стыдно. Сколько можно! С какой стати изображать улыбку в ответ на пощёчину! Почему? Товарищ старший лейтенант может объяснить почему? Почему мы закрываем глаза?.. Почему?..
Почему Богданьский не побоялся?
— Слишком много вопросов, младший сержант.
— Нас правде учили.
— Расскажите дознавателю вашу правду. Довольно болтовни!.. — Голяков не удостоил младшего командира вниманием. Хлопнул дверью.
— Мальчишка ты, Новиков, совсем зелёный… Ну, кто тебя за язык тянул!.. Много говоришь. В пятницу не рекомендуется. Вредно в пятницу — несчастливый день. Как понедельник.
Издалека, из такого далека, что слова будто бы размывало, как на испорченной патефонной пластинке, Новиков скорее угадал, нежели расслышал голос начальника заставы, спокойный, неузнаваемо тихий:
— Не все черти с рогами, Алексей, не всё. Бог не выдаст — свинья не съест. Голякову я тебя не отдам. Иди спать. Давай поспи, сколько удастся. Ну, давай, Алексей, спать отправляйся… Ни в кого ты не стрелял.
— Товарищ старший лейтенант, я не хочу…
— Кажется, ясно сказано!
— Да я…
— Разъякался.
— Выслушайте… Я сам за себя отвечу.
— Мне твое прекраснодушие ни к чему, парень. Ты это брось. Шагом марш — спать! — И старший лейтенант вдруг заорал не своим голосом: — Спать!
Иванов отвернулся к окну.
От дубовой рощи или ещё откуда-то затрещала ранняя птица — нелепый клекот с тонкими переливами, поди разбери, какая такая птаха стрекочет. Иванов достал из ящика письменного стола лист чистой бумаги, карандаш и линейку с делениями, вывел на листе печатными буквами: «Схема», откинул голову и посмотрел издали, не замечая Новикова, скорее — не желая замечать присутствие постороннего человека.
Просто так взять и уйти Новиков, не мог, хотя понимал, что старшему лейтенанту неприятно его видеть, может, даже противно. Давящее чувство вины перед командиром удерживало на месте, не позволяло отмерить три с половиною шага от вешалки до двери по затоптанному полу в желтом квадрате свежеокрашенных плинтусов. Виноват, ничего не скажешь.
При всем том он не сожалел о содеянном. Даже подмывало сейчас, не откладывая, сказать об этом старшему лейтенанту, заявить без околичностей, что, если снова окажется в такой ситуации, не позволит себя унижать, опять применит в дело оружие, уже не одиночным — автоматной очередью шуганет.
Но Иванов занялся делом. Близко наклонившись к столу, вычерчивал схему. Он решительно не хотел замечать присутствия Новикова. Конечно, не хотел. После такого — любой командир не захочет. Кому приятно, когда подчиненные плюют на твои приказы! Но тут же протестующе вспыхнуло в сознании: «Никто не просил брать на себя вину. Ни к чему заступничество. На допросе скажу следователю. Всю правду».
С этим решением пришло некоторое успокоение. Он не собирался идти на заклание, смиренно, будто овца. Следователю выложит, как было. И спросит — почему нельзя сдачу давать, когда тебя кулаком по роже?..
— Разрешите идти?
От излишне усердного нажима в руке Иванова сломался грифель карандаша.
— Завидую тебе, — сказал он вдруг, кладя на стол карандаш, — холостяк…
Сказал, как пощечину отвесил.
— Пожалуйста, не думайте… Я сам за себя отвечу и следователю скажу, как было. Не надо за меня заступаться, товарищ старший лейтенант.
Иванов странно посмотрел на него долгим и непонятным взглядом. Глаза у него были воспалены от хронического недосыпания.
— Приказы полагается выполнять, Новиков, — сказал он тихо, без привычной сухости. — Мы военные люди, на службе. Не у тёщи на блинах. — Незнакомая улыбка тронула его губы. — Я, правда, забыл, у тебя ведь нет тёщи.
У Новикова от этих слов стиснулось сердце. Обычные, не очень понятные, они затронули душу, и от прежней ожесточенности следа не осталось.
— Товарищ старший лейтенант…
— Давай без лишних эмоций. Спать отправляйся. Успеешь пару часиков прихватить.
* * *
Спать он не пошёл. Знал: ляжет на койку и будет ворочаться с боку на бок на соломенном матраце, как на горячих углях, перебирать события суматошной ночи, наново переживать их — до малейшего оттенка, вникать в произнесенные Ивановым слова и отыскивать потайной смысл.
Сказанное Голяковым было яснее ясного.
Спать не хотелось.
В комнате для чистки оружия он был один. Пахло ружейным маслом, махорочным дымом; терпковатый масляный дух напитал пол, стены, деревянный стол, весь заляпанный жиром, испещрённый зазубринами.
Почистить оружие было нехитрым делом. С этим Алексей управился быстро. Без нужды прошелся по стволу автомата чистой ветошкой, собрал в обрывок газеты грязную паклю, принялся вытирать со стола кляксы масляных пятен.
За этим занятием застал его дежурный.
— Кто тут шебаршит? — спросил, будто оправдывался. — Чего не ложишься?
— Да так.
— За так ничего не дают.
— А мне ничего не надо.
— Так уж не надо.
Что-то он знал, дежурный, знал и темнил. Это чувствовалось по блеску глаз, по тону, по всем тем нехитрым признакам солдатской дипломатии, какие угадываешь сразу, с первых же слов, особенно когда у тебя у самого все обострено и натянуто, как струна. В таких случаях должно прикинуться равнодушным, пройти мимо, как будто перед тобою телеграфный столб. Уж тогда какой хочешь конспиратор не выдержит.
Новикову было не по себе, какая теперь дипломатия!
— Зачем пришёл?
— Я, что ли, за твоего Ведерникова автомат стану чистить? Распустился…
— Что ещё?
— Поднимай его. Пускай приведет в порядок оружие. В армии нянек нету. И денщиков — то ж самое.
— Почистит.
— Черненко из твоего отделения?
— Знаешь.
— Двух патронов не хватает в подсумке.
— Найдутся. Дальше?
— Дальше, дальше… — деланно рассердился дежурный. — А ещё про тебя был разговор.
— Подслушивал?
— Голяков докладывал майору Кузнецову…
Под ложечкой ёкнуло. Самую малость. Нетрудно догадаться, о чем докладывал старший лейтенант Голяков начальнику погранотряда. Но догадываться — одно, знать — другое.
— Старший лейтенант в канцелярии?
— Бреется, — обиженно буркнул дежурный. — Лёшк, — спросил, помолчав, — ты чего натворил?..
— Для кого Лёшка, для тебя — «товарищ младший сержант». Запомнил? — Он сам не понял, шутя ли обрезал парня или всерьёз. Но, впрочем, тут же смягчил свою резкость: — Ничего я не натворил, годок. Службу служил. Как надо.
— Голяков докладывал, вроде ты по немцам стрелял, на ту сторону, а старший лейтенант Иванов тебя покрывает. И ещё про дознавателя чего-то… Это кто такой, дознаватель?
— Человек.
— Выдуриваешься. Ваньку валять каждый может. К тебе с открытой душой, как другу…
В соседней комнате затрезвонил телефон, парень опрометью бросился к аппарату и через секунду в служебном рвении зачастил слишком громко: «Так точно!», «Никак нет!», «Есть!», «Есть, товарищ майор!».
Вот завертелось, без страха подумал Новиков. Страха он не испытывал. Верил в свою правоту. Почему верил, на каком основании — даже объяснить себе не мог. Пришла злость. Молчаливая, безотчетная злость.
— Майор Кузнецов! — испуганно сообщил дежурный. — Выезжает…
— Открой пирамиду.
— …ажио, страх, какой сердитый майор. Ажио в трубке гудело…
— Открой.
— …велел вызвать коменданта с шестнадцатой.
— Помолчи, ради бога.
— Что теперь будет, Лёшк? Нахомутал ты делов.
— Моя печаль.
— Твоя…
В тающем полумраке лицо дежурного выражало испуг и казалось неестественно синим от льющегося из окна синего отсвета зари. Парень, жалеючи, немного сощурясь, будто сдерживал слезы, следил, как Новиков поставил в гнездо автомат, помедлив, достал ведерниковский и, заглянув внутрь ствола, на место не поставил, потянул подсумок Черненко и тоже положил его рядом с автоматом на табурет.
— Подними обоих.
— Ну да… До подъёма вон сколько! — Часы показывали половину четвертого. — Успеется.
— Иди подними обоих.
— Было бы чего. Делов-то пустяк.
* * *
Вряд ли он сознавал, почему поднял солдат, не отоспавших положенное, поднял без кажущейся необходимости, проявил ненужную жестокость по отношению к близким товарищам, с которыми до вчерашнего дня бескорыстно делился всем, что имел, — папиросами и халвой, купленными на небольшое жалованье отделенного командира, сокровенными мыслями, пересказывал содержание прочитанной книги, где мог, закрывал глаза ка мелкие проступки и незначительные ошибки друзей, был с ними мягок и обходителен, как с второклассниками, а не с бойцами своего отделения. Ещё толком не осмыслив происшедших в себе перемен, не обнаружив, когда сломались привычные взгляды и то настоящее, чем и в чем он жил повседневно до этого часа, приобрело иную окраску и особое значение, он, однако, с удивительной ясностью понял, что отныне жить, как прежде, не сможет; как бы ни распорядилась судьба, чем бы ни обернулась стрельба по немцам — пусть даже судом военного трибунала, — прежнее в нем навсегда отмерло.
Ещё вчера или двумя днями раньше не пришло бы в голову будить — ни свет ни заря — утомленных людей. Пожалуй, он бы сам отыскал оброненные Черненко патроны, а то, гляди, заодно со своим почистил и автомат Ведерникова.
Сейчас он молчаливо наблюдал за ползающим по полу невыспавшимся Черненко, слышал за спиной сердитое сопение Ведерникова. В открытую дверь доносилось частое шорканье шомпола по стволу автомата, и не было ни капельки сожаления ни к одному из бойцов.
— Тэ ж мэнi зайнятiе придумав, — бубнил Черненко. — Тэмно ж, як у склепе, а воно, дывись, прыказуе… — По натуре весёлый хлопец, Черненко зло покалывал своего отделенного карим глазом, открывая толстргубый рот и сердито бубня: — И чого б оцэ стояты над головою?
— Ищите.
— А я що роблю? Шукаю. Чы, можэ, кому-нэбудь здается, що я танцюю, то нэхай очi протрэ хустынкою… Ай, лялечки-малечки, — весело затараторил по-русски. — Вот вы игде прохлаждаетесь. — С этими словами парень нырнул под стол, завел руку в угол и в самом деле извлёк два патрона. — Ваше приказание выполнил! — сказал дурашливым тоном, вскинул ладонь к козырьку воображаемой фуражки, но, остановленный многозначительным взглядом дежурного, опустил её.
Почти одновременно из комнаты для чистки оружия вышел Ведерников, поставил почищенный автомат в пирамиду.
— Порядок, младший сержант, — сказал он тоном доклада. — Приказание выполнил.
— Хорошо. Идите спать.
Новиков с приятным удивлением отметил не сразу угаданную перемену в Ведерникове. Аккуратно подтянутый, в подпоясанной ремнем гимнастёрке и начищенных сапогах, он с незнакомой благожелательностью обратил к своему отделенному слегка тронутое оспой широкое лицо — будто ждал дальнейших распоряжений.
— Поспать бы неплохо, — согласился Ведерников. — Только чёрта лысого уснёшь.
Новиков поймал на себе его мимолетно скользнувший сочувственный взгляд и без труда догадался, чем вызваны перемены — знает: дежурный успел раззвонить. И странно, не сочувствие тронуло душу, а именно желание скрыть его, поглубже упрятать. То и другое было не свойственно мрачноватому Ведерникову.
Черненко спрятал патроны в подсумок, не уходил, стоял, пританцовывая босыми ступнями по заслеженному полу дежурки, притворялся, будто ему холодно, и плутовское выражение не сходило с его смуглого тугощекого лица. «И этот знает, — подумал Новиков. — Знает и виду не подаёт. Как сговорились ребята».
До этой минуты не приходилось задумываться, как к нему относятся подчиненные — просто не возникало повода для таких мыслей. Его отношение к ним было разным, потому что сами они тоже были неодинаковыми. И вот в короткие секунды, казалось бы, не подходящие для анализа, он увидел рядом с собой друзей, он это уловил обостренным до крайности восприятием, уловил по напряжённым лицам, по тому, что, выполнив его приказание, не оставили его одного.
Протяжно зазвонил телефон. Дежурный схватил трубку.
— Удираем, хлопцы, — подмигнул обоим Черненко. — Начальство едет. Заставит работать.
Маленькая хитрость, к какой он прибегнул, выдала его с головой — дежурный ещё и слова не произнёс, пожалуй, ещё не знал, кто звонит, а Черненко заговорил о начальстве.
«Значит, и у них из головы не выходит. Ждут майора Кузнецова, который мою судьбу должен решить».
От этой мысли Новикова обдало теплой волной.
— Пошли, ребята. Поспать всё-таки надо. Сегодня банный день, — добавил, неизвестно к чему вдруг вспомнив о бане.
— И то работа, — охотно согласился Черненко. — Храпанём минуток по шестьдесят на каждого, с добавочкой по сто двадцать. Так, Серёга?
— Мели, Емеля, — подтолкнул его Ведерников в спину. — Любишь ты языком работать. Погляжу, как утром лопатой пошуруешь.
* * *
Утро занималось погожее. В окно лился розовый свет. Солнце еще пряталось, но край неба за заставскими строениями разгорался и пламенел, оттесняя и рассеивая зыбкий предутренний мрак, медленно поджигая всё небо.
День обещал быть по-летнему знойным.
6
«…Как дознался я про слова Голякова, про то, что Алексея нашего ну, стал-быть, отделенного командира, под трибунал грозятся, места не нахожу себе… Ни свет ни заря кинулся до старшего лейтенанта Иванова. Он на вид строгий мужчина, а так — душа мужик… Разговора не получилось, и я пошёл… Суббота, известно, банный день, всякие там хозработы, и мы в ту последнюю мирную субботу жили по распорядку дня, как положено жили. Только замест хозработ оборону совершенствовали. Вроде день был славный, солнце и всё такое, а мы не особенно весёлые были… Поверьте, даже детишки — и те без баловства играли… Запомнился мне мальчоночка, приезжий, ну, прямо птичка… Отделенный, Новиков, стал-быть, всё с ним заговаривал… Характер у него был, у младшего сержанта, — виду не показывал, что над ним трибунал висит… Ждали мы все, как один, что майор Кузнецов решит…»
(Свидетельство С. Ведерникова)Койки касались одна другой необмятыми шуршащими матрацами, которые в конце прошлой недели заново набили соломой.
— Спи, младший сержант. Старайся про то не думать.
— Пробую. Что-то не особенно получается.
— На твоём бы месте любой саданул по ним. Начальник отряда зазря не обидит. Ты не думай.
Успокаивающий шёпот Ведерникова не достигал цели. Избыточно много встрясок принесла ушедшая ночь, слишком много мыслей нахлынуло вдруг, и Новиков, еще укладываясь на жесткий матрац и чувствуя телом почти каждую соломинку, был уверен, что поваляется два-три часа, а там придет время поднимать отделение, довершать работу на своем участке оборонительного рубежа вокруг заставы, делать субботнюю приборку казармы и территории — не заметишь, день пролетит. А ещё в баню надо поспеть…
Он будто провалился в глубокий овраг и летел, летел, покуда не опустился на мягкое дно, в густую траву, не почувствовав удара или хотя бы толчка. Трава сомкнулась над ним, отсекла от всего, чем был занят мозг.
Ведерников, едва уснул отделенный, быстро оделся, тщательно оправил на себе гимнастерку, оглянулся на спящего, надел поглубже фуражку и быстрым шагом направился в канцелярию, где надеялся застать Иванова. Он к нему давно собирался, но все откладывал до удобного случая — старший лейтенант в последние дни ходил сумрачный, замкнутый: то ли задёргался в круговерти накалявшейся обстановки, то ли его задёргали. Во всяком случае, не больно-то хотелось Ведерникову открывать душу, ежели мысли у начальства заняты другим, ежели начальству не до тебя.
Правду сказать, и случай не выпадал. А наболевшее сидело внутри, как граната с выдернутой чекой.
Иванов спал на застеленной койке, свесив ноги в пыльных сапогах, похрапывал. Даже во сне лицо его оставалось нахмуренным, и розовые блики рассвета еще резче подчёркивали эту его хмурость, высветливая плотно сжатые губы, складку над переносьем.
Ведерников попятился было к двери, чтобы опять ни с чем отправиться восвояси — ведь и старший лейтенант не двужильный.
Но, сделав к двери пару шагов, вернулся назад, почти на середину: как чувствовал — дожидаться случая можно до морковкина заговенья.
— Вы ко мне, Ведерников?
— Так точно. К вам, товарищ старший лейтенант. — Выпалив эти несколько слов одним духом, Ведерников усомнился: не почудилось ли? Иванов как спал, так и спал, даже всхрапнул, лёжа в той же позе. — Вопрос у меня, товарищ старший лейтенант.
Иванов молчал. И вдруг сел на кровати, запрокинул голову, тряхнул ею, сгоняя остатки сна, мгновенно поднялся.
— Ну что у вас? — спросил не больно-то приветливым тоном. — Опять про войну?
Как между глаз двинул. После такого полагалось повернуться через левое плечо и выполнить любимую команду начальника заставы: «шагом марш», к чертям собачьим, чтобы ненароком с языка лишнее не сорвалось.
Только не затем приходил, чтобы ни с чем уйти. Внутри шевельнулась граната-боль.
— А про что можно?
Бровью старший лейтенант не повёл. Шагнул к письменному столу, сдвинул в сторону алюминиевую чашечку с помазком и остатками мыла, приподнял на столешнице стоику тетрадей, открыл ящик стола — что-то искал и, не находя, морщился.
Курево, догадался Ведерников. А не подумал, почему про войну спросил, упредив вопрос, слова не дал сказать. В кармане нащупал початую пачку «махорковых», горлодер винницкой фабрики, утеху солдатскую — потянешь, глаза на лоб.
— Другие вопросы есть?
— А мой — не вопрос?
— Нет.
— Товарищ старший лейтенант!.. — Граната-боль перевернулась, подпрыгнула к горлу. — Товарищ старший лейтенант!.. Да что же это такое… Война…
— Не ори, у меня хороший слух… Ты что, можешь её отменить, войну?.. — Спросил и тут же замкнулся. — Всё, Ведерников, у меня нет времени на пустое. Свободны, шагом марш!
— Поговорили.
— Что?
— Разъяснили, говорю, в тонкостях.
— Языкатый. — Иванов непонятно усмехнулся, чуть искривив тонкие губы.
— В голове посветлело. А то ходил недоумком…
— Правда?
— Полная ясность, товарищ старший лейтенант. Понимаю, за что моего отделенного командира под суд… Так его! В тюрягу! Чтоб сам знал и другим неповадно… — Говорил, распаляясь, не целился, а попадал прямо в десятку, лупил по больному короткими очередями, не заботясь, не думая, чем это может окончиться для него. Бил непрощающе, наповал. — Все об себе думают… Верно?
— А ты смелый, Ведерников!
— Какой есть. В кусты не полезу. Как некоторые. Без надобности ползти не стану. А нужно — в рост пойду… Не то что некоторые…
Лежавшая на спинке стула рука старшего лейтенанта сжалась в кулан. Он оглянулся на дверь, за которой, слышно, терли пол мокрой тряпкой и хлюпала в тазу вода. И, будто успокоившись от этих мирных звуков, разжал прокуренные желтые пальцы.
— Выговорился? — спросил он, не оборачиваясь к Ведерникову, и крикнул дежурного.
Без чувства страха, еще не остыв, не выложив всего наболевшего, Ведерников предположил, что старший лейтенант ему этого не простит и дежурного позвал неспроста — гауптвахта помещалась в этом же доме, при штабе комендатуры.
— Прибыл но вашему приказанию! — Дежурный вытянулся в проеме двери.
— Сбегай на квартиру за папиросами. На веранде лежат.
— Есть сбегать за папиросами! Разрешите идти?
Из окна канцелярии, за кустами сирени, был виден командирский домик, облитый пламенем разгорающейся зари. В окнах обращенной к солнцу веранды отражался яркий свет зари, и капли росы на отцветшей сирени, сверкая, переливались розовым и зелёным.
Взгляд Иванова был прикован к горящим стеклам веранды. Но вот он двинул плечом, будто выставляя за дверь непонятливого дежурного, и оторвал взгляд от дома.
— Отставить папиросы!
— Я быстро, товарищ старший лейтенант. Я мигом.
— Не надо.
Дежурный вышел.
Нехорошее чувство шевельнулось в груди у Ведерникова: боится, чтобы дежурный не разбудил сына. У него, видишь ли, сын. Его нельзя будить. У других, стало быть, не такие дети. Чужие, они — чужие. На других он плевать хотел. Своя рубаха ближе к телу.
По инерции накручивались ещё какие-то обидные для Иванова слова, наматывались на язык, не слетая с него, но — странно — без прежней злости, не принося злорадного чувства удовлетворенности, будто не он только что стрелял по старшему лейтенанту короткими очередями слов, попадая то в сердце, то в голову. Злость испарилась.
— У тебя есть закурить?.
Иванов протянул руку, и Ведерников поспешнее, чем хотелось, выдернул из кармана свой горлодёр, выщелкнул сигарету и, не глядя в сразу побледневшее, окутавшееся махорочным дымом лицо, почувствовал, что злости против старшего лейтенанта как не бывало и уже не хочется ни доказывать ему свою правоту, ни спорить, ни говорить о чем бы то ни было. Погасило злость. Было такое чувство, что зря приходил — и Новикову не помог, и Иванову зря досадил.
«Насчёт сына ты маленько подзагнул, парень, — подумал Ведерников, мысленно осуждая себя за горячность. — Нет его здесь, у бабки вместе с матерью».
— Иди, Ведерников. Служить надо.
Он сказал обыденные слова, какие за недостатком времени разъяснять не стал, сказал, наверное, не ему первому, а может, себе сказал, глуша тревогу, убивая мысли о личном. Но этих слов Ведерникову было достаточно — всё видит и знает начальник заставы, и не его вина, что вынужден молчаливо исполнять приказы — служба!
Но не мог Ведерников унести с собой новую боль, вошедшую в него только сейчас, в канцелярии, когда проследив за обращенным к горящим стеклам веранды взглядом старшего лейтенанта, понял его с опозданием.
— Вы бы жене прописали, чтоб покамест не верталась сюда. Оно бы тогда на душе поспокойнее. Я, конечное дело, извиняюсь, не в своё дело встрял…
Как чувствовал — промолчит Иванов.
Тихо притворил за собой дверь, зашагал по ещё влажному после мытья крашеному полу, унося свою и чужую тревогу, вышел во двор, закурил и почувствовал легкое головокружение. Стало горько во рту. От глубокой затяжки его качнуло, но он, преодолев слабость, понял, что полынная горечь не только от сигареты, набитой махорочной крошкой. Во дворе было пусто, за воротами слышались шаги часового, из кухни раздавались нечастые глухие удары.
Ведерников огляделся по сторонам, и взгляд его невольно задержался на окнах веранды командирского домика. Солнце поднялось, стекла погасли; ветер шевелил белые шторки с нехитрой кружевной вязью по нижнему срезу, приоткрывая никелированную спинку детской кровати, — похоже, дверь на веранду не была заперта. Ведерникову даже показалось, будто увидел черноволосую детскую головенку на белой подушке.
«Ребят почему не увозят? — недоуменно толкнулось в мозгу. — Неужели командиры не понимают, что немец держит под обстрелом заставские строения! Увезли бы ребят, пока можно».
Словно в подтверждение, за заставой, на станции, взревел паровоз.
* * *
Мальчишечку Новиков заприметил давно. В белой панамке, в коротких серых штанишках с перекрещенными по груди шлейками и в красных сандаликах на тоненьких голенастых ножках, он удивительно напоминал аистенка. Мальчик наблюдал за бойцами, напряженно, с недетской серьезностью, и медленно — шажок за шажком — приближался к траншее, узколицый, остроносенький, похожий на робкую птицу.
День разгорелся, во всю силу жгло солнце, и Новиков часто, почти за каждым взмахом лопаты облизывал губы и сплёвывал мелкую, противно скрипевшую на зубах песчаную пыль. Вдоль всей траншеи взлетали отполированные до блеска лопаты и глухо шлёпался на траву спрессованный белый песок.
Парни работали молча, без привычной подначки и беззаботного трепа, пыль оседала на их потные спины и руки, набивалась в волосы, пудрила лица; Новиков не объявлял перекур, хотя у самого ныла спина и руки налились тяжестью — дел оставалось на каких-нибудь полчаса: углубить траншею на пару штыков да замаскировать бруствер.
На траве, под кустами сирени у командирского домика, играли дети; загоревшие, крепенькие, они резко отличались от бледного тощенького мальчика в красных сандаликах.
Явно нездешний, он одиноко наблюдал за Новиковым со стороны. Было что-то притягательное в беззащитном ребенке. Он стоял метрах в двух от траншеи, не смея подойти ближе.
— Как тебя зовут? — спросил Новиков.
— Зяблик, — ответил мальчик тоненьким голосом.
— Хорошее у тебя имя, Зяблик.
— Это не всамделишное. Меня мама так называет. — Мальчик доверчиво подошёл ближе. — Я — Миша. Мне уже четыре года.
— Ты совсем взрослый. — Новиков отставил лопату, и Миша это понял как приглашение к разговору.
— Дядя, — позвал он. — А зачем вы копаете?
— Нужно.
— А зачем нужно?
— Станешь пограничником, тогда узнаешь. — Сказал и осёкся под немигающим взглядом синих Мишиных глаз, — Ладно, Мишук, иди к ребятам, иди играй.
Но мальчик подошёел ещё ближе, к самому брустверу.
— А почему столько дядев копает?
— Чтобы скорее сделать.
— А потом что?
— Дом будут строить.
— Неправда. Пограничники должны стрелять и маршировать. — Он раздельно, с трудом произнёс последнее слово и изобразил, как должны стрелять пограничники. Но не только это его смущало. — Почему у всех такие маленькие лопатки?
— Ещё не выросли.
— Правда, — согласился мальчик. — У меня тоже есть лопатка. Мама купила. И она вырастет?
— Конечно.
— Я тоже хочу копать. — Ребёнок потянулся к лопате.
— Ты ещё маленький. Вырастешь большой-большой, тогда получишь такую же.
— Можно мне поиграть в песочке?
— Это — да. Если тебе нравится. Только подальше, а то ещё свалишься.
— Не, я домик буду строить.
Каждый принялся за своё: мальчик — возводить дом из песка, Новиков — рыть траншею.
Мятущиеся ласточки стригли высокое знойное небо. Из-за реки едва слышался гул. Мальчик время от времени поднимал голову кверху — не то смотрел на ласточек, проносившихся над ним с протяжным писком, не то прислушивался к непонятному шуму из-за реки.
Работать с прежней сосредоточенностью Новиков больше не мог, нет-нет а беспокойно поглядывал на ребенка, поднимал глаза к Ведерникову, задерживал взгляд на игравших под сиренью ребятах — все занимались своим, и он не понимал, почему вдруг нахлынуло беспокойство.
Так продолжалось ещё какое-то время, покуда он не выбрался из траншеи.
Был день как день — по-летнему знойный. Светило солнце. В траве под деревьями плясали весёлые блики. Блестели оконные стёкла и провода на телефонных столбах. Была суббота как суббота — топилась баня, вкусно пахло еловым дымком, кто-то успел нарезать березовые веники, навесить в теньке под стрехой, чтобы немного прижухли, видать, старшина расстарался; и по-летнему уже, по-июньски, в воздухе дрожало легкое марево, над траншеей оно казалось несколько гуще — словно дым, и было заметно, как курится над бруствером влажный песок.
День как день, и суббота как суббота.
Ничего внешне не изменилось. Разве что на заставу снова пришла тишина, от которой успели отвыкнуть. Было так тихо, как только может быть на границе в безветренный летний полдень кажется, слышишь шорох иглицы на муравьином кургане, и сам ты как бы становишься невесомым.
Но сейчас тишина вошла в Новикова не вдруг — он обнаружил ее лишь тогда, когда — в который раз! — оглядел присмиревших детей под кустами, молчаливых бойцов в траншее, безмолвного мальчика-аистенка; дымок над заставской баней и тот поднимался ровным столбиком, прямой, как свеча.
От тишины и безмолвия Новикову стало не но себе. Он почувствовал огромную внутреннюю усталость, накатившую, как показалось ему, ни с того ни с сего, беспричинно, и не мог избавиться от ощущения ненужности тишины, будто пришла она не ко времени, как некстати возвратившийся гость, с которым недавно простились.
Не стоило больших трудов догадаться, что ещё с ночи в нём поселилось и утверждается чувство неумолимо надвигающейся беды, и хотя он старался не думать о ней, она напоминала о себе непрестанно, заставляла ждать чего-то пугающего — возможно, минуты, когда позовут к дознавателю… Или когда приедет майор Кузнецов…
Он постарался отогнать эти мысли, подумал, что просто устал от множества переживаний, потому и мелется в голове всякий вздор. Молчат парни — так что? В такую жарищу не больно-то охота болтать: язык к нёбу присох. Дети играют молча? Это их дело. А нам, солдатам, работать надо.
Спрыгнул в траншею, сердясь на себя, с каким-то остервенением навёрстывая упущенное, принялся долбить ровик: удар лопатой — выброс, ещё удар — снова выброс. Слежавшийся под толщей земли изжелта-белый песок в. красных прожилках между пластами шлепался на твердую землю не рассыпаясь; удар — выброс, удар — выброс; единство механических ударов и звуков создавало иллюзию мирной работы.
Но только иллюзию. Буквально через пару минут он выглянул и увидел мальчика в красных сандаликах, строившего песчаный домик; потянуло взглянуть на детей под кустами сирени. Они, как прежде, сидели на траве полукругом — трое мальчиков и две девочки, играли — но больно уж тихо, в невидимую отсюда игру; как прежде, над бруствером взблескивали на солнце саперные лопаты; метрах в полутора позади работал Ведерников. Он успел, насколько нужно, углубить траншею, вырубил ступеньку на дне и теперь, ловко орудуя короткой лопаткой, аккуратно выдалбливал в стенке нишу под Цинки с патронами.
Над всеми и всем лежала зыбкая тишина.
* * *
Ведерников тоже не оставлял без внимания своего отделенного, видел, как тот мается, места себе не находит: хотел подойти переброситься нарой слов и совсем уж было собрался, но тут Новиков вылез наверх.
До минувшей ночи отношение Ведерникова к младшему сержанту определялось служебной зависимостью — и только. В глубине души он к нему не питал уважения — учитель, пускай бы возился в школе с детишками. Какой из него командир отделения! Никакой, хоть куда как грамотный. Отделенный должен обладать и голосом, и характером, и собственным мнением. А у этого голосишко — так себе, характером — жалостливый. Что до мнения, до самостоятельности в суждениях, так разве не он без конца повторял: «Немецкие войска прибыли сюда на отдых. Воевать против нас не собираются». Словом, талдычил, что велели. Не раз думалось рядовому Ведерникову: «Поглядим, что ты запоёшь, парень, когда жареный петух пониже спины клюнет, когда обстановочка повернёт до настоящего дела! Как на финской…»
И вот нынешней ночью мнение об отделенном резко переменилось — на уровне оказался младший сержант. Зря на него грешил. Недаром говорится — чтобы узнать человека, надо пуд соли с ним съесть. И верно: не случись боевого столкновения, не прояви Новиков командирский характер хотя бы с тем же подъёмом ни свет ни заря, когда заставил привести в порядок оружие, разве пошел бы Ведерников просить за него старшего лейтенанта Иванова? Ни за что! А сейчас, ежели потребуется, так к майору Кузнецову, к начальнику отряда побежит.
В оценке отделенного Ведерников оперировал доступными и близкими ему категориями, и главным мерилом оставался командирский характер. Вот даже сегодня сказал, как отрубил: до конца работы никаких перекуров.
Волнение Новикова словно передалось Ведерникову. Он с нетерпением ждал, пока все справятся с делом, и с удвоенной энергией принялся долбить плотный грунт, от пыли щуря глаза и стараясь не порушить стену.
Переживает, сожалеюще думал о Новикове, понимая, что любой бы переживал: не шуточное дело в такое время нарушить приказ! Загремишь в трибунал как миленький. Обязательно надо обратиться к майору. Мысль эта настолько крепко овладела Ведерниковым, что ни о чем другом он больше думать не мог. Ему показалось, что замедлился темп работы и хлопцы тянут вола, из-за этого, гляди, прозеваешь начальника отряда — заскочит в канцелярию Иванова или в кабинет коменданта, и туда не очень-то сунешься.
— Филонишь, сачок, — кольнул он Черненко. — Кончай давай. Ковыряешься тут…
Могло показаться, будто Черненко все это время ждал, пока его затронет Ведерников. В одно мгновенье преобразилось смуглое лицо; он лукаво прищурил глаза под посеревшими от пыли бровями, но сразу же, изобразив испуг, приставил лопату «к ноге», выструнился и гаркнул:
— Нияк нет, господин поручик! Осмелюсь доложить, долбаю эту канаву в поте лица, а она меня долбает. Славная получится братская могила, осмелюсь спросить, господин поручик?
— Будя зубы-то скалить! Тоже мне Швейка нашёлся.
Испуг на лице Черненко сменился искренним удивлением.
— Ты что, перегрелся?
— Швейка был, сказывают, умный человек. Не то что некоторые…
— Ой, мамцю моя! — перейдя на украинский, Черненко обеими руками схватился за голову. — Що з чоловiком сталося? Був людына як людына, а на тoбi, командувать захотилося.
— Трепач!
— Ты мою личность не чiпай.
— Кончай! Нашёл время придурка из себя корчить!
В другое время тут бы заварилась веселая перепалка, с шуточками-прибауточками, подначкой и смехом, короткий перекур растянулся бы на полчасика — Черненко это умел, когда был в ударе, за словом в карман не лез. Но сейчас не получилось веселья. На голоса из траншеи выглянуло двое-трое любопытных.
— Так-таки пэрэгрiвся ты, Сережа. Охолонь трохи, бо, може, родимчик чы як його. — Оставив за собой последнее слово, Черненко нырнул в траншею, насвистывая веселый мотивчик, и стал в такт ему постукивать, долбить лопаткой податливый грунт.
Ведерников промолчал. Он не злился на языкатого сослуживца, шуточки Черненко самолюбия не задели, на хлопца невозможно было сердиться, если и зубоскалил, то необидно, для общего веселья. Под хорошее настроение Ведерников сам бы не прочь подкинуть хлесткое словцо, за ним он тоже не лазил в задний брючный кармашек.
Сейчас внимание привлек отдалённый гул за рекой, похожий на рокот авиационных моторов, — должно быть, в районе Бялой Подляски размещался немецкий аэродром, оттуда часто взлетали самолеты со свастикой, и воздух сотрясался от рева сильных машин.
Сейчас гул был тихий, не нарушал покоя, как бы жил сам по себе. В высоком небе плыли лёгкие летние облака, плавилось солнце, и воздух, напитанный идущим от леса густым запахом нагретой смолы, дрожал от полуденного зноя.
Черненко долбил и долбил грунт.
Ведерников же, пару раз копнув, выпрямился, чуть повернув голову к реке, где по-прежнему тихо рокотали моторы; парень весь превратился в слух, взбугрившиеся желваки выдавали сильное напряжение. Так, во всяком случае, показалось Новикову, когда он, привлеченный словесной перепалкой бойцов, уже не выпускал их из поля зрения.
Ведерников вздрогнул от гулкого звука монастырского колокола — похоже, кто-то нечаянно ударил по нему или потянул за верёвку; округлый, как накатная волна, звон плавно пронёсся через реку, прошёл по строениям заставы и стал медленно глохнуть за железнодорожной станцией в сосняке.
Ведерников оглянулся назад и увидел Новикова. Отделенный стоял к нему лицом, слегка ссутулив обожжённые плечи, но смотрел мимо, на пыльное облако, не отстававшее от вкатившей в заставские ворота дребезжащей полуторки. Машина остановилась, её заволокло пылью, и когда облако пронеслось, на землю с подножки соскочил майор Кузнецов.
7
«…Мы все побросали работу — сделал не сделал порученное, а вроде как по команде поклали лопаты на бруствер. Стоим, ждем: покличут младшего сержанта к майору? А он, Новиков, значит, увидел такое, рассердился: „Вам дать платочек? Надо, спрашиваю? Слёзки вытирать… А ну, за дело!“ Нам выдержка отделенного понравилась… А настоящий характер он нам потом показал…»
(Свидетельство С. Ведерникова)Коренастый, бритоголовый майор Кузнецов стряхнул с себя пыль, вытер лоб, поправил портупеи на широких плечах и медленным шагом направился через двор к колодцу, держа фуражку в руке и обмахиваясь платком.
Навстречу майору с противоположного конца двора торопились Голяков с Ивановым.
Застёгивая на ходу командирский ремень, сюда же спешил лейтенант Сартоев, заместитель Иванова по строевой части. Они поочередно представились майору, соблюдая старшинство первым Голяков, за ним Иванов и уже последним Сартоев, а затем все вместе с майором отошли в тень, к колодцу. Голяков, вытянув руки «по швам», внимательно слушал, что ему говорил Кузнецов, было заметно — разговор ему в тягость, потому что в нескольких случаях он подбрасывал руку к козырьку фуражки, видно, спрашивая разрешения ответить, но не получал его. Кузнецов, насупив брови, рубил рукой, как бы отсекая фразу от фразы.
Со своего места Ведерников не слышал, о чём говорят командиры, но видел, как Голяков, наконец получив разрешение, стал что-то говорить, несколько раз кряду показывая рукой в сторону границы. Из-за реки все слышнее накатывал рокот моторов от которого, казалось, содрогался спрессованный знойный воздух. Потом Голяков шагнул в сторону, быстро обернулся к свежеотрытой траншее, где отделение Новикова завершало маскировку бруствера, обкладывая его дёрном.
Ведерникову очень хотелось, чтобы командиры подошли ближе и можно было хоть догадаться, о чем они говорят, — он был убежден, что обсуждают поступок отделенного командира, иначе бы Голяков не оглядывался на Новикова. Желание было лишено здравого смысла — куда уж там догадаться! Но он прямо с нетерпением ожидал: авось приблизятся.
Командиры не торопились.
Ведерников перевёл взгляд на отделенного. Новиков подравнивал лопаткой дерн на бруствере, лицо его оставалось спокойным, не было заметно волнения, покрытое пылью и потом, оно не выражало ничего, кроме усталости. Только пальцы рук впились в черенок, и ногти были белыми-белыми. Он стоял спиной к командирам, полусогнувшись, подрезал плитки дерна, и по обожженной на солнце напряженной спине скатывались капельки пота, выпирали ребра, обтянутые тощей, как у подростка, незагоревшей на боках кожей, и сам он, тонкий в кости, сухощавый, выглядел далеко не таким возмужавшим, как это казалось, когда он надевал воинское обмундирование.
«Парнишка. Совсем ещё зелёный парнишка, — думал, глядя на отделенного, Ведерников, успевший повоевать на финской, понюхать пороху и по-настоящему, возмужать. — А вот, гляди, держится, характер — кремень».
Нетерпение Ведерникова было так велико, что он вытянул шею, затем сделал шаг к колодцу, но, спохватившись, откачнулся назад. На него не обратили внимания.
Черненко же, не поняв, что происходит с Ведерниковым, процедил с привычной подначкой:
— Сачкуем?
— Отвязни, смола.
— А работу за тебя дядя кончит?
— И ты не слабак, копай.
Кузнецов, надев фуражку на бритую голову, что-то коротко и резко сказал Голякову, тот, откозыряв, повернулся через левое плечо, чтобы уйти, но майор его задержал почему-то.
Потеряв надежду подслушать разговор командиров, Ведерников опустился на одно колено, возобновил прерванную работу. Ему осталось разбросать лишнюю землю перед бруствером стрелковой ячейки, что он и сделал незамедлительно, несколькими энергичными взмахами лопатки, ни разу больше не подняв головы, пока не сровнял с землёй успевший высохнуть добела холмик песка.
Между тем гул за рекой нарастал, будто приближались на излете отзвуки дальних громовых раскатов. В небе далеко за монастырем появились три черных точки, постепенно увеличиваясь в размерах, они с пугающим грохотом устремились прямо к границе.
Все, кто находился во дворе, задрали головы кверху, следя за тремя немецкими истребителями, шедшими прямо по курсу на небольшой высоте, не отворачивая ни вправо, ни влево — как к себе домой.
Похожий на аистенка мальчишка вскочил на голенастые ножки, с его головы свалилась панамка, но он, не поднимая её, попятился и нечаянно развалил песочный домик, над которым всё время молча трудился. Он заплакал от горя, и крупные слёзы потекли по его бледным щекам к острому подбородку. Плач заглох в гремящем реве пронесшихся над заставой вражеских истребителей. Они пронеслись так низко, что всем отчётливо были видны лётчики в кожаных шлемах и защитных очках.
Ведерников в два прыжка очутился рядом с ребенком, подхватил его на руки, но мальчик, вырвавшись, подбежал к Новикову, доверчиво прижался к нему.
Кузнецов, вместе со всеми наблюдавший перелёт истребителей через реку, отдал какое-то приказание лейтенанту Сартоеву, и тот, придерживая шашку, со всех ног побежал к заставе. Отсутствовал он недолго и через несколько минут бегом же возвратился к всё ещё стоявшему у колодца майору.
— Ну что? — нетерпеливо спросил Кузнецов.
— Позвонил, товарищ майор, — громко ответил Сартоев. — Сейчас наши их встретят… Полагаю, уже поднялись в воздух.
Майор молча кивнул, следя за удаляющимися истребителями с крестами на крыльях.
Ещё вибрировал над головами людей спрессованный самолетами, горячий, пропахший ядовитым бензиновым запахом воздух, а машины уже были над Брестом. Они по-прежнему летели низко, на высоте не больше трех сотен метров, словно бы находились над своим аэродромом, а не в чужом небе, и солнце высвечивало их серебристые тела, оставляющие за собой грохот и вой.
Кузнецов заметно нервничал, но об этом его состоянии позволяло догадываться лишь то, как он носком сапога, не глядя себе под ноги, безотчетно чертил на влажной земле у колодца короткие неровные линии.
Все наблюдали за кружившими над городом немецкими самолётами, и никому не пришло в голову обратить взгляд к границе, где по ту сторону реки с не меньшим интересом наблюдали за полётом десятка полтора фашистских офицеров.
— Что делают, гады! — вырвалось у прикомандированного из отряда сапёра. — Наши почему молчат?
Ему не ответили.
Ведерников выругался, и никто его не одернул, как было бы в любом другом случае.
Голяков нетерпеливо переминался с ноги на ногу, покусывал губы и вопрошающе посматривал на Сартоева — будто молча спрашивал, где же, дескать, твои «встречающие», за которыми тебя посылали?
Теперь, как вначале, рокот неприятельских истребителей доносился приглушенным отзвуком дальних раскатов грозы. Были отчетливо видны уменьшившиеся в размерах машины. Они носились над городом, выписывая круги, словно издевались над всем живым, что было под ними, зная, что вторжение для них пройдет безнаказанно, как сходило и раньше. Будто в насмешку, они то взмывали вверх почти вертикально, то камнем падали вниз и снова чванливо демонстрировали свое мастерство и силу моторов.
Но вот из-за набежавшего облака наперехват «мессершмиттам» вынырнули два тупоносых истребителя с красными звёздами. Они разделились и медленно, с трудом набирая высоту, погнались за нарушителями, стремясь их отсечь от границы и вынудить приземлиться.
Слишком тихоходны в сравнении с немецкими были самолеты. Словно играючи, «мессершмитты» под прямым углом взмыли в небо.
Ведерников слизнул с сухих губ горько-солёный пот, взглянул на своего отделенного. Новиков стоял белый как мел, кусал губы. Ребёнок всё ещё прижимался к нему, держась обеими ручонками за его руку. Все, кто находился возле траншеи, и командиры у колодца, провожали глазами удаляющиеся к границе немецкие истребители. Исход был ясен.
От крмсоставовского дома к траншее бежала молодая женщина в белом платье с короткими рукавами, лицо её выражало испуг. Она ещё издали увидела мальчика и, радостная, устремилась к нему. Ребёнок, обрадованно взвизгнув, бросился к ней, и женщина, ни слова не говоря, лишь кивнув Новикову в знак благодарности, возвратилась назад.
Её приход вывел всех из оцепенения.
Кузнецов широким шагом пошел к траншее мимо вытянувшихся перед ним полуголых бойцов, сопровождаемый тремя командирами, обошел ее из конца в конец, молча, не делая замечаний. Было видно, как от перенесенного нервного напряжения у него подергивается щека. За ним и его спутниками неотступно тащились короткие полуденные тени.
— Вы Новиков? — Кузнецов остановился перед младшим сержантом, стоявшим по другую сторону траншеи рядом со своими бойцами.
— Так точно. Младший сержант Новиков. Командир третьего отделения.
Ведерников слегка наклонился вперед, но майор в его сторону не взглянул. Опять была тишина. В горячем песке купались воробьи.
Голяков стоял рядом с майором, хотел что-то сказать, но тот его остановил жестом руки и, наклонясь над траншеей, заглянул вниз.
— Что ж, подходяще, — сказал он, но чувствовалось, что сию минуту мысли его занимают безнаказанно ушедшие «мессершмитты». Он, разогнув спину, непроизвольно, с нескрываемым беспокойством посмотрел в небо, где всё ещё плавилось солнце и плыли, незаметно смещаясь на запад, легкие облака. — Ну, так что вы тут натворили, младший сержант? Доложите-ка мне.
Новиков молчал. На верхней губе его выступили мелкие капельки пота, лицо, обожжённое солнцем, вдруг заострилось.
— Отвечайте, когда вас спрашивают! — строго сказал Голяков. — Доложите начальнику отряда про свои художества.
Кузнецов отмахнулся от старшего лейтенанта, как отмахиваются от жужжащей над ухом назойливой мухи.
— Я жду, Новиков, — сказал он довольно миролюбиво. — Хотелось бы услышать, как вы сами оцениваете свой поступок.
Новиков посмотрел майору прямо в глаза.
— Никак.
— Можно яснее?
— Я выполнял свой воинский долг, товарищ майор.
— Вы в этом убеждены?.. Можете стоять «вольно».
— Убеждён.
— Мне нравится, когда человек уверен в своей правоте, — сказал Кузнецов без иронии и по-хорошему улыбнулся. — Можете стоять «вольно», — повторил он. — Ну, а как тогда быть с моим приказом, запрещающим в таких случаях поднимать стрельбу? Я ведь приказ свой не отменял.
Новиков стоял навытяжку, не отводя взгляда от Кузнецова.
Старший лейтенант Иванов порывался что-то сказать. Покраснев от волнения, он несколько раз вскидывал руку к козырьку зеленой фуражки, прося разрешения объясниться, но Кузнецов всякий раз отстранял его, не пробуя выслушать. Единственный раз он, обернувшись к нему, сердито сказал:
— С вами потом разберусь… И вообще, отправляйтесь-ка, Иванов, мне провожатых не нужно. И вы, лейтенант, занимайтесь своими делами.
Командиры ушли. При Кузнецове остался один Голяков.
— Не знаю, — честно признался Новиков. — Когда в нас выстрелили, я об этом не думал.
— Плохо. Очень плохо, когда командир поддаётся эмоциям, — похоже, для себя тихо сказал Кузнецов. — Вы не подумали, Новиков, что фашисты, возможно, специально вас вызывали на вооружённую провокацию? Вам такое не пришло в голову?
— Не пришло.
Близко от лица Кузнецова, жужжа, пролетел майский жук.
— Жаль, вы неплохой младший командир. Кому, как не вам, задумываться над своими поступками. Что прикажете делать, младший сержант? По закону вас нужно отдать под суд.
Стало так тихо, что можно было услышать едва слышный шелест листвы в безветренном воздухе. Новиков вскинул голову:
— Только я вот что скажу, товарищ майор. Я вот что скажу… Если бы мне снова пришлось… так ползать на своей земле… так унижаться, лишь бы немцев не рассердить, то стрелял бы… Стрелял снова. Не одиночным. Очередью…
Из-под ног майора выметнулась серая ящерица и скрылась в траве за колодцем. Кузнецов проводил ее взглядом и неизвестно чему размеренно покачал головой. Может быть, осуждал сказанное младшим сержантом. Или дивился ловкости ящерицы.
Голяков выходил из себя — сжимал и разжимал кулаки. Старшего лейтенанта уже давно подмывало что-то сказать, но он не решался помешать разговору начальника, выжидал, пока тот сам обратит на него внимание.
Кузнецов наконец к нему обернулся:
— Торопитесь?
— Никак нет, товарищ майор. Я полагал, что вы прикажете подать сигнал вызова немецкого погранпредставителя.
— Зачем? — Кузнецов снял фуражку — ему было жарко.
— По горячим следам, так сказать. Со вчерашнего дня третье нарушение воздушного пространства. — Произнеся эти слова вполголоса, скороговоркой, Голяков прищелкнул каблуками сапог. — Прикажете распорядиться?
На чердаке конюшни стонали голуби. Кузнецов поднял голову кверху. На лбу его блестели горошины пота.
— Три нарушения?
— Так точно. С учетом сегодняшнего. Всего в наше воздушное пространство вторглось за два дня восемь немецких самолётов.
— Тринадцать, товарищ Голяков. Два залёта на восьмой.
— Тем более… — Голяков осёкся, видно, спохватившись, что переборщил, вроде бы поучал начальника погранотряда, как ему поступать.
— Что тем более?
— Надо заявить протест.
Майор надел фуражку.
— Бесполезно, Голяков. У них всё согласовано. И нарушения воздушного пространства, и обстрелы наших нарядов, и все другие провокации. Не будем протестовать. Мартышкин труд протесты. Мы слишком доверчивы, Голяков. Вы меня понимаете?
— Никак нет. — В глазах старшего лейтенанта отражалось недоумение. Видно, от кого-кого, а от начальника погранотряда он такого не ожидал. — Вы же сами требовали… — Он снова осёкся, не осмелившись закончить мысль, а ещё с минуту смотрел на майора, пряча смятение и еле справляясь с собой.
Не будем протестовать, — повторил Кузнецов и сощёлкнул с рукава гимнастёрки рыжего муравья. — Младший сержант Новиков! — вдруг сказал он громко, чеканя слова.
— Я!
— За бдительное несение службы по охране государственной границы и умелые действия в боевом столкновении с нарушителями от лица службы объявляю вам благодарность! — Не ожидая ответного «Служу Советскому Союзу», упреждая всякие ненужные слова, Кузнецов козырнул. — Вопросы потом, товарищи бойцы.
Плечи старшего лейтенанта опустились, как у смертельно уставшего человека, и, когда начальник отряда заговорил, непосредственно адресуясь к нему, он не сразу распрямил спину, непонимающе поднял глаза.
— Слушаю, товарищ майор. — Он привычно щёлкнул каблуками сапог, и упрямое, злое выражение промелькнуло в его серых, глубоко сидящих глазах.
— Личному составу полчаса на обед. Затем собрать всех в Красном уголке. Вы меня поняли?
Голяков повторил распоряжение слово в слово, откозыряв, ушёл не свойственной ему вихляющей походкой — будто у него ломило ноги. Бутафорски выглядели перекрещённые по спине жёлтые портупеи и болтающаяся вдоль тела шашка со сверкающим на солнце эфесом. Пройдя немного, он, как бы чувствуя на себе взгляд Кузнецова, выпрямид спину, прихватил шашку рукой и остаток пути до поворота к комендатуре прошел четким шагом отлично натренированного строевика.
Кузнецов в самом деле провожал его взглядом и, когда Голяков скрылся за поворотом, отвернулся и сказал Новикову:
— Приведите себя в порядок, обедайте. И снова за дело. У нас мало времени. Ничтожно мало.
8
«…Не поднялась рука предать Новикова суду военного трибунала. В той строгой обстановке, в какой мы жили, не каждый бы смог держаться, как младший сержант. Ведь его поступок был вызван чувством оскорбленной гордости. Не своей лично, нет. Я расцениваю это значительно объемнее… Это одно из проявлений любви к Отечеству — не на словах, а на деле…
Долго я оставался на 15-й заставе, не знаю почему, но просто взять и уехать не мог. Было чувство, что покидаю этих людей навсегда…»
(Свидетельство А. Кузнецова)В Красном уголке было душно. Со двора в открытые окна волнами вливался тягучий зной. Новиков глаз не сводил с распаренного лица Кузнецова. Майор говорил короткими фразами, резко взмахивал кулаком, будто вколачивал в головы слушателей каждое своё слово.
— Этой ночью возможно резкое изменение обстановки. Изменение к худшему. Мы к этому должны быть готовы. Все данные говорят за то, что фашисты спровоцируют вооружённый конфликт… Требую от вас высокой бдительности и стойкости. Верю: ни один пограничник не дрогнет. Все, как один, станем заслоном.
Майор ещё отдельно поговорил с командирами и все не спешил к своей дребезжащей полуторке.
Что мог Кузнецов? Молча посетовать на собственное бессилие, когда Иванов, отважившись, спросил, как быть с семьями, и он, скрепя сердце, жестко ответил, что на этот счет командование округа указаний не дало. Их и в округе не имели, указаний об эвакуации семей командиров границы.
Но Кузнецов знал непреложно: личный состав отряда до последнего дыхания несет ответственность за охраняемый участок границы, и, если придется здесь всем полечь, они — начиная с него и кончая писарями — тут и лягут костьми.
Он оставался, не уезжал, и люди в его присутствии ощущали скованность. Кузнецов это видел, порывался сказать, чтобы на него не обращали внимания, и не мог, как не был в состоянии заставить себя сесть в кабину своей полуторки и умчаться на очередную заставу, где были такие же люди и складывалась такая же угрожающая обстановка, повлиять на которую он мог разве что ещё более жестким приказом — насмерть стоять, если к тому повернут наступающие события.
Все, что творилось внутри него, оставалось при нем, он умело скрывал свое состояние, как всегда спокойно, соответственно положению, решительно вмешивался в то, что требовало его вмешательства.
— Станковые и ручные пулемёты — на позицию, — приказал Голякову. — Передайте мое указание на все заставы.
— Передано, — доложил Голяков, удивляясь забывчивости майора, продублировавшего собственное распоряжение, отданное значительно раньше.
— С наступлением темноты наряды выслать численностью не менее трёх человек при ручном пулемёте. На угрожаемых участках наряды возглавлять командирам.
— Ясно. Но вы…
— После двадцати двух занять оборонительный рубеж. Вам всё ясно?
— Так точно. Я хотел…
— Об изменении обстановки немедленно докладывать. Вопросы?
— Вопросов нет. Ваши распоряжения уже переданы всем командирам подразделений, товарищ майор. Вы раньше…
Голяков не договорил.
Кузнецов, устыдясь, вспомнил, что и эти свои указания без нужды повторяет, будто бы сомневаясь, усвоены ли они подчинёнными.
Давно пришла пора отправляться на другие заставы, там дел было не меньше и обстановка не легче, но он, словно предчувствуя, что расстается с этими людьми навсегда, потому что данной ему властью и в силу обстоятельств оставляет их на верную гибель, — не мог заставить себя просто сесть в кабину полуторки и уехать. Напускная сухость, с какой он разговаривал с Голяковым, конечно, была личиной, за которой он прятал душевную боль и благодарность ко всем этим людям. Не было нужды утверждаться в правильности решений — все и так видно.
На Голякова он сначала всерьёз рассердился за чрезмерное его усердие и кажущуюся чёрствость, долго не мог ему простить Новикова, у майора не укладывалось в голове, как у Голякова поднялась рука написать в отряд донесение, в котором Новиков выставлялся едва ли не военным преступником. Но он привык возвращаться к любому вопросу по нескольку раз, каждый раз осмысливая суть дела, и, прежде чем принять окончательное решение, хладнокровно разобраться в случившемся.
Несколько поостыв, успокоившись, Кузнецов без труда обнаружил, что старший лейтенант поступил точно в соответствии с его, майора Кузнецова, требованиями, ничего не убавив и не прибавив, доложив, как было на самом деле.
Задерживаться на заставе начальник отряда больше не мог. Он успел проверить систему круговой обороны и остался ею доволен, побывал на скрытом наблюдательном пункте, заглянул на конюшню и удостоверился, что кони стоят под седлом, уточнил количество боезапаса — словом, проверил готовность одного из линейных подразделений отряда к действиям в сложных условиях. Но что бы он ни делал, чем бы ни занимался, оттягивая отъезд, его не покидало чувство, что он, начальник погранотряда, прямой и непосредственный начальник снующих по двору маленького пограничного гарнизона людей, готовящихся к предстоящему бою, проявляет сейчас жестокость.
Так нужно, убеждал он себя. Иначе какой же ты командир, если терзаешься чувством жалости к подчинённым!
Даже себе не хотел признаться, что обстоятельства не так однозначно просты, как он пытается это изобразить, сводя всё к собственной жестокости, утроенной предстоящим расставанием. Не дальше как сегодня утром он сам, не передоверяя кому-нибудь из своих заместителей, встречался с командирами частей и соединений, обязанных поддержать пограничников и вместе с ними отразить первый удар врага.
…Оставалось надеяться на собственные силенки. Что делать, если соединения и части поддержки не получили указаний на развертывание! Не могут они без приказа. Значит, с легким стрелковым оружием и с пулеметами «максим» противостоять, сколько можно, первому тарану.
Сколько можно.
«А сколько их поляжет — ты думал?»
Ему нужно было, не теряя времени, пересечь заставский дворик, подняться на подножку полуторки, чтобы сесть на продавленное сиденье прокаленной солнцем кабины. Только и всего — пройти от силы полсотни шагов.
Мотор полуторки тарахтел, блестели на солнце лысые скаты, дребезжали створки капота. Это была старая, честно послужившая машинёнка, раздерганная, чиненая-перечиненая, не раз утопавшая по оси в жидком месиве пограничных просёлков, и Кузнецов укатил на ней, первой попавшейся ему на глаза, не имея времени, торопясь разобраться на месте.
Начальник отряда, сдвинув к пропотевшему вороту гимнастерки сползавшие портупеи, ещё раз окинул взглядом строения своей четвёртой комендатуры и пятнадцатой пограничной заставы, людей, занятых важным делом и, казалось, забывших все на свете, кроме необходимости подготовиться к возможному нападению. Он невольно загляделся на Новикова, когда тот, стройный, перетянутый по тонкой юношеской талии нешироким красноармейским ремнём, прошёл к траншее, огибая полуторку и легко неся впереди себя несколько цинок с патронами. Лицо младшего сержанта излучало спокойствие, которого так не хватало сейчас ему, Кузнецову. И уже сидя в машине, оставив за пыльным облаком близких ему людей, майор ещё и ещё раз вспоминал лицо отделенного командира, чувствуя в этом известное облегчение. Он достал платок и первый раз за весь день расстегнул — все до одной — пуговицы своей пропотевшей габардиновой гимнастёрки, вытер влажные шею и грудь. От этих движений, медлительных и жёстких, ему тоже стало спокойнее.
Полуторка, звеня и подпрыгивая на неровностях пограничной дороги, везла Кузнецова на шестнадцатую заставу, которой временно командовал политрук Пшеничный. За это подразделение майор испытывал чувство тревоги, во-первых, потому, что в такую горячую пору оно осталось без командира, во-вторых, из-за неготовности оборонительных сооружений вокруг заставы — подпочвенные воды не позволяли возвести прочные укрепления.
Но Кузнецов был уверен в Пшеничном, надеялся на его организаторские способности и умение увлечь личный состав и даже подумал, что посоветуется со своим комиссаром и утвердит политрука в занимаемой сейчас должности.
За все эти последние дни, с полной очевидностью обнажившие угрозу близкой войны, Кузнецову ни разу не пришло в голову подумать о том, что его собственная семья подвергается такой же опасности, как и семьи командиров границы, что тот же Западный Буг отделяет советский Брест от захваченной фашистами территории Польши и те же фашистские войска, угрожающе близко нависшие над заставами, стоят рядом с Брестом по ту сторону неширокой реки в ожидании приказа на наступление.
Но вот сейчас, по правомерной ассоциации, вспомнив о Пшеничном, с которым оставалась жена Маша, отправившая сына погостить к своей матери, он подумал и о своих, подумал и впервые испугался за них.
Как никогда раньше Кузнецов с ужасающей ясностью представил себе и до дрожи в теле почувствовал, насколько беззащитны перед лицом надвигающейся опасности его собственная семья и семьи командиров границы, все эти Маши, Кати, Светланы и Дуси вместе с их Игорьками, Петьками, Мишками, а некоторые с престарелыми родителями: ведь если промедлить, на них первых падут вражеские снаряды; он это очень отчетливо понимал и подумал, что, не глядя на субботний день, сегодня же, прямо с заставы позвонит начальнику пограничных войск округа генералу Богданову и попросит указаний, куда эвакуировать семьи.
Взволновавшись и уйдя в себя, не сразу увидел скачущего навстречу всадника. Конь шёл намётом, и всадник, пригнувшись к передней луке, будто бы слился с ним в одно целое, устремленное вперед чудище, окутанное облаком пыли.
— Остановись! — приказал шофёру.
Спрыгнув на полевую дорогу, Кузнецов всматривался в скачущего кавалериста. Уже можно было различить в нём военного. Было слышно, как ёкает у коня селезёнка, а ещё через недолгие минуты запылённый до самых бровей старшина шестнадцатой Трофимов осадил перед майором загнанного коня.
— Что случилось, Трофимов? Куда скачете?
— К вам, товарищ майор. — Старшина был взволнован и бледен. Он с трудом перевёл дыхание. — Приказано передать, чтобы вы немедленно возвращались в отряд.
— Кто приказал?
— Начальник штаба. Вас из округа вызывают к прямому проводу.
— Что на заставе? — спросил Кузнецов.
— Готовимся. — Старшина вытер мокрое от пота, запылённое лицо. — У сапёров ничего не получается, товарищ майор, — плывёт. Мешки с песком заготовили, где можно, траншеи в полный профиль… А так — порядок. Разрешите в подразделение?
— Из штабдива не приезжали? — Спросил, заранее зная, что ответит ему старшина. Но не спросить он не мог — душа изболелась: долго без поддержки не устоять.
— Никак нет, товарищ майор. Политрук Пшеничный звонил в штаб…
— Поезжай, старшина. Возвращайся, передай Пшеничному, что, как бы туго ни пришлось, надо стоять. Стоять, понимаешь?
— Так точно, товарищ майор. Мы понимаем.
— Ну, прощай, Трофимов. Скачи назад.
…Полуторка неслась к Бресту. Кузнецов старался не обращать внимания на вызывающую головную боль нестерпимую жару и толчки по ухабистой полевой дороге. Мысль сконцентрировалась на предстоящем разговоре с командованием округа. Да, да, он первым долгом непременно еще раз поднимет вопрос о немедленной эвакуации семей пограничников, лишь потом доложит о положении дел на границе. С этой мыслью, несколько успокоенный, въехал в город. Полуторка катила по нагретой за день брусчатке, слегка подрагивая и дребезжа незастёгивающимися створками капота, из горловины радиатора вырывался пар, в кабине было нечем дышать, но Кузнецов мыслями был у себя в штабе, у прямого провода. Ещё не всё потеряно, ещё есть время, успокаивал он себя, нетерпеливо поглядывая на стрелку спидометра — она чуть сдвинулась вправо, кверху. Скорость равнялась тридцати километрам.
Кузнецов старался не видеть синеватую стрелку — глядел на залитый июньским солнцем, утопающий в зелени город, с жадностью всматривался в лица прохожих — чем ближе к центру, тем многолюднее становилось, — искал следы озабоченности и вполне понятной, как сдавалось ему, — законной тревоги. Искал и не находил. Видно, свыклись жители пограничного города с присутствием немцев в такой близости от себя, не задумывались над тем, что их ожидает, медленно прогуливались под тенью деревьев, легко одетые, загоревшие или ещё не обожжённые солнцем, но, по всему видать, пока не обуянные страхом.
«А ты, случайно, не перехлёстываешь?» — мысленно спросил он себя, поддаваясь общему настроению.
Глядя на беззаботных горожан, ему сейчас показалось, что слишком сгущает краски — не всё так мрачно, как кажется, немцы и месяц, и два назад также нарушали границу и обстреливали наряды, немецкие самолёты, как сегодня, вторгались в воздушное пространство, и по ним запрещалось стрелять. Что изменилось в сравнении, допустим, с апрелем этого года или даже февралём?
Но минутная успокоенность длилась недолго, ровно до тех пор, покуда не показались зеленые ворота и часовой в зеленой фуражке под зеленым грибком. Они ему напомнили о том, что лишь сегодня в полдень он собственными глазами увидел со скрытого наблюдательного пункта заставы — орудия на позициях и ящики со снарядами, понтоны, готовые к наведению через реку, замаскированные танки, — всё, всё, что было нацелено на правый берег реки, на подчиненные ему, майору Кузнецову, подразделения.
Поднимаясь к себе в кабинет и подведя черту под всем, что передумал, наблюдал и пережил в течение дня, Кузнецов неожиданно вспомнил о Новикове, каким увидел его, шагающего через двор к траншее, отягощённого цинками патронов, спокойного и уверенного в себе.
«Не забыть бы распорядиться о приказе на Новикова», — подумал, входя в примыкавшую к его кабинету дежурную комнату.
— Начальника штаба ко мне, — приказал, выслушав рапорт дежурного по отряду. — Передайте, чтобы взял с собой карту участка, — добавил, зная наверняка, что напоминать о карте начальнику штаба, человеку в высшей степени пунктуальному, совершенно излишне. — Свободны. — Он взялся за ручку двери своего кабинета.
— Есть, — ответил дежурный. И позволил себе напомнить: — Вас к аппарату, из округа.
— Хорошо. Знаю.
Он, прикрыв за собой дверь и повесив фуражку на колышек вешалки, сел к письменному столу, мысленно сводя воедино и оценивая разрозненные данные рапорта. Ничего нового. Ничего утешительного. Зловещее слово «война», которое он до времени, до сей поры и до сей минуты опасался произносить, заменяя его общепринятым «возможная провокация», возникло перед ним во всей устрашающей наготе.
Война!..
Первым желанием было снять телефонную трубку, сказать жене — пусть собирается, тянуть дальше некуда, незачем и крайне опасно. Он поднял руку, но, не донеся ее к аппарату, опустил ладонь на столешницу, где, кроме нескольких остро отточенных карандашей и тяжелого письменного прибора из серого мрамора, не было ничего, сдвинул прибор в угол стола, освобождая место для карты.
Зазвонил телефон. Кузнецов снял трубку и, услышав голос жены, вздрогнул, хотя только что сам намеревался ей позвонить.
— Ты вернулся? — спросила спокойным голосом.
И он впервые за много лет не поверил её спокойствию.
— Прости, я занят, — ответил, как отвечал много раз. — Через полчаса буду. — И поспешно добавил: — Я ещё предварительно позвоню.
И только положил трубку на рычаг аппарата, как снова раздался звонок — к прямому проводу.
* * *
Начальник штаба отправился к себе, чтобы продублировать комендантам приказ о готовности номер один.
Кузнецов, возвратясь в кабинет, остановился перед окном, выходящим на тихую улочку. Перед глазами продолжали мелькать клавиши аппарата, змеилась узкая полоска бумаги, и черные буковки складывались в слова, короткие, по-военному лаконичные. ДСВ — так закончился разговор с округом. До свидания — означали три прописных буквы.
Округ не получил указаний об эвакуации семей командиров границы.
Кузнецов поднес к глазам узенькую полоску бумажной ленты. В ушах отдавался тревожащий перестук металлических клавиш: «ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН — ДСВ».
Война!
До начала оставались считанные часы.
9
«…Теперь уже не болят. Давно зажили. — Ведерников погладил изуродованной ладонью правой руки культю левой. Двупалой клешнёй она торчала из закатанного рукава клетчатой хлопчатобумажной ковбойки. — Отболело. На погоду ломит. Только я притерпелся. Поломит и перестанет. Рука — не сердце. Там не заживает. Там не рубцуется… Много раз собирался побывать на своей заставе. Случилось, однажды билет купил. А духу не хватило. Третьего инфаркта не перенесть… А про Алексея, про Новикова, расскажу. И про ту нашу последнюю мирную субботу. Посейчас та картина перед глазами…»
(Свидетельство С. Ведерникова)Всем как-то легче стало, свободнее после отъезда майора: он стеснял. Едва полуторка выехала за ворота заставы, сняли с себя гимнастерки, за каких-нибудь двадцать — тридцать минут, если даже не меньше, перетащили боезапас, установили, где положено, пулеметы, назначили дежурных — словом, подготовились к тому, что должно было навалиться на них, как они понимали, возможно, сегодняшней ночью, в крайнем случае — на рассвете.
До ночи было ещё далеко. Сейчас перевалило за полдень, вовсю грело солнце. И даже жаворонки, бог знает куда исчезнувшие пару недель назад, вновь заливались высоко в небе, в котором плыли и плыли лёгкие белые облака и не летали немецкие самолёты.
За рекою утихомирилось.
До обеда наблюдатели докладывали о движущихся к позициям немецкой артиллерии вереницах подвод, гружённых ящиками, похоже, снарядами; то, что немцы без утайки, не маскируясь, средь бела дня гнали артиллерийский боезапас, не только не успокаивало, ибо, по логике вещей, когда готовится внезапное нападение, так открыто не действуют, а, наоборот, утверждало в предположениях — до рокового начала оставались часы.
После обеда движение прекратилось, ничего подозрительного наблюдатели больше не отмечали. Разве что в лесах и перелесках, на ближайших хуторах и за высокой монастырской оградой пульсировала скрытая жизнь, проникнуть в которую не дано наблюдением в бинокли и другие оптические приборы.
В комендатуре и на заставе никто не обманывался, не убаюкивал себя тем, что груженные ящиками подводы тащились из тыла к границе и вчера, и позавчера, и не первый день у реки накапливались вражеские войска и техника, наполняя окрестности грохотом, лязгом и гулом, застилая небо пыльной завесой.
Подтверждением близости рокового часа служила, как нельзя убедительней, наступившая тишина. Со стороны могло показаться, будто она усыпила обитателей крохотного поселка, где размещался небольшой гарнизон пограничников, и глухое молчаливое беспокойство, царившее над всеми и всем в первую половину прокаленного солнцем субботнего июньского дня, безвозвратно ушло. Так могло показаться со стороны лишь неопытному глазу, глазу, не способному схватить главное, скользящему по верхам, по тому, что у всех на виду.
И хотя чувство близкой опасности, подчиняясь которому пограничники всю неделю совершенствовали и укрепляли блокгаузы, траншеи и ходы сообщения вокруг теснившихся неподалеку от реки нескольких домиков и, не глядя на светлое время, несли дежурство на огневых точках, не исчезло, настроение людей с отъездом майора повысилось.
От командирского дома неслись слова модной песенки об утомленном солнце, нежно прощавшемся с морем. С патефонной пластинки томно напевал вкрадчивый тенор — то витал над красной крышей утопавшего в зелени двухэтажного домика четвертой комендатуры и пятнадцатой заставы при ней, то затихал, вздыхая, снова набирал силу и уносился ввысь, за реку, где, слышно, кто-то наигрывал на губной гармонике.
До ночи оставалось много часов, солнце еще не устало, и люди не больно утомились за весь этот хлопотный, нескончаемо долгий день — их хватало и на работу, и на веселье, и на множество всяких других незаметных дел — должно быть, и прощавшееся с морем утомленное солнце, и немудрящие частушки пулемётчика Яши Лабойко, исполняемые хриплым баском под аккомпанемент балалайки, и шуточки, которые выпаливал Черненко между бритьем и намыливанием щёк, были людям нужнее всего. Черненко брился у вынесенного во двор рукомойника; приладив зеркальце к деревянной опоре и не глядясь в Него, он ловко скрёб безопаской лицо, расточал хохмочки, сохраняя серьезную мину, не забывая всякий раз намыливать щеки и косить глазом на слушателей, как всегда толкавшихся поблизости от него.
— Яша, а Яша, — приставал он к Лабойко.
— Ну, що тоби трэба?
— Собирайся давай.
— Куды?
— В увольнение. Начальник отпустит. Махнём в Домачево. Знаешь, какие там девки! Ей-бо, пойдём. Бери свою балабайку, грузи пулемёт на горб.
— Сказанув… — Лабойко хохотал вместе со всеми. — Ну ты даёшь, земляк, ха-ха-ха. С пулемётом в увольнение! Ха-ха-ха… Тебе старший лейтенант такое увольнение врежет, що спина взопреет, ха-ха-ха…
— С тобой каши не сваришь. Я думал, ты геройский парень, станкач на горбу тащишь, как какуюсь песчинку… Э-э, тонкая у тебя кишка, Лабойко, сдрейфил, девок спугался… — Плеснув в выбритое лицо несколько пригоршней воды и смыв мыльную пену, Черненко обернулся к Ведерникову, тоже затеявшему бритьё. — Слышь, женатик, айда на станцию. Я там такую дивчину видел, кассиром работает, такую дивчину — закачаешься. Пойдём?
— Спиной вперёд?
— Не, нормально. Строевым шагом.
И даже Ведерников, хмурый, немногословный Ведерников незаметно для себя втянулся в легкомысленный трёп.
— С тобой на пару? — спросил он с серьёзной миной на конопатом лице.
— А то с кем!.. Давай скоблись хутчей. Аллюр три креста, Сергей, а то ворочаешься, как сибирский медведь — ни тпру ни ну. Девок расхватают. Гляди, Хасабьян опередить может, два очка вперёд даст Аврей Мартиросович.
Чистивший сапоги Хасабьян обернул к Черненко горбоносое, смуглое до черноты, худое лицо:
— Хасабьян дорогу сам знает. Хасабьян напарник не нужно.
— Ай, молодец! — вскричал Черненко дурашливым голосом. — Так бери меня с собой, я хороший, я смирный, ей-бо, бери, не пожалеешь.
— Н-нэ. Такой напарник нэ надо.
— Что ж оно получается, братцы, что, спрашивается? Лабойко дал от ворот поворот, Хасабьян, как последний единоличник, Ведерников не желает…
— Кто сказал? — С высоты своего роста Ведерников, успев намылить лицо до самых глаз, сверху вниз посмотрел на Черненко. — Я не отказывался.
— Так в чём загвоздка! Поехали.
— Мне мама не разрешает. Я ещё маленький.
Тут все и грохнули — от кого-кого, от Ведерникова такого не ожидали.
Ещё не заглох хохот, ещё утирал выступившие слёзы и покатывался со смеху Новиков, а кто-то из ребят успел притащить гармошку, и тут же, посредине двора, заглушая Лабойко, полились первые, завлекающие трели переливчатой «Сербиянки», и Хасабьян, сверкнув чёрным глазом, топнув до блеска начищенным сапогом, не пошел — поплыл, почти не касаясь земли, и плавно, как крыльями, махая руками, раздвигал и раздвигал воображаемый круг до тех пор, покуда его в самом деле не обступили со всех сторон и не раздались первые поощрительные возгласы и хлопки.
— Давай, Хасабьяныч, режь воздух!
— Шибче!
— Сыпь веселее!
— Так её…
— Во даёт Кавказ! Во даёт…
Развесёлый людской круг охал, постанывал, рукоплескал, и Хасабьян, разгорячённый собственной пляской, вниманием и самой атмосферой, уже не плыл, а летел по кругу, притопывая успевшими снова запылиться сапогами, и, взлетывая, выделывал замысловатые коленца, похлопывал себя по бёдрам и груди, подпрыгивал, успевая на взлёте постучать каблуком о каблук, приседал и что-то гортанно выкрикивал на своём языке, по всей вероятности, зазывая танцоров.
От начсоставовских квартир многоцветной стайкой бежали вездесущие ребятишки — без них не обходились ни кино, ни солдатские игры и танцы, ни даже строевые занятия — и вмиг оказались, нырнув между солдатских ног, впереди всех в замкнутом кольце, где Хасабьян уже отплясывал не один: рядом, охая и покрикивая, утрамбовывал пятачок Новиков, и гармонист, сменив «Сербиянку» на «Барыню», притопывал в такт то правой, то левой ногой и дергал плечами, голыми, как у обоих танцоров.
Случись в этот знойный полдень хлынуть ливню с безоблачного ясного неба, ему заставские парни удивились бы меньше, нежели вступившему в пляс хмурому Новикову. Однако сейчас это событие восприняли просто: всем им — и Новикову — позарез была необходима хоть какая-нибудь продушина, хоть небольшая разрядка от сверхчеловеческого нервного напряжения, в каком они жили вот уже многие месяцы.
Хасабьян носился по кругу, прищелкивая пальцами, запрокинув черноволосую голову — будто падал навзничь, распрямлялся и снова, не зная устали, пускался вприсядку, огибая отяжелевшего от усталости Новикова и оказываясь то впереди, то за спиной у него. На его поджаром, будто сотканном из жил и тонких упругих мышц смуглом теле не было даже испарины.
Взятый кавказцем темп Новикову уже был не под силу, его движения становились замедленнее, теряли плавность, ту, чисто русскую яркость, с которой он вступил в тесный круг, в глазах появился влажный блеск, и весь он лоснился сейчас от пота, увлажнившего загорелое тело. Правда, пока изо всех сил сопротивлялся своему поражению, натужно дышал и всё же носился по кругу, как одержимый, под выкрики зрителей.
— Жми, Лёша!
— Жарь!
— Покажь ему русскую…
— Земеля, к ногтю его, к ногтю.
— Хасабьяныч, держи фасон.
— Отжимай Кавказ, Вася…
— Ас-са, ас-са!..
— Не сдавайся.
Над кругом плавал горький махорочный дым, перемешанный с пылью, взметывались хохот и выкрики, по-щенячьи заливались в неописуемом восторге начсоставовские дети, и долго бы ещё длилась развеселая пляска, не появись почтальон на верховой лошади.
Новиков не выбежал — вылетел вприсядку из круга почтальону навстречу, выделывая ногами коленца и плавно взмахивая руками, дважды прошелся перед ним, приглашая, и лишь тогда отвалил в сторону, под жидкую тень старой яблони.
Важный, медлительный, как сам бог Саваоф, почтальон въехал на заставский двор с туго набитой сумкой через плечо, окинул взором веселое общество, выжидая наступления должной тишины и внимания. Ждать ему пришлось считанные секунды. Круг переместился и замкнулся вокруг него и гнедого меринка, отмахивавшегося хвостом от назойливых оводов. С тою же томительной медлительностью кавалерист переместил сумку на переднюю луку, извлек пачку писем и, будто священнодействуя, стал перебирать каждое, не замечая жадного блеска в глазах своих сотоварищей, не видя изменившихся лиц.
— Луковченко, — позвал он, не повышая голоса.
— Я.
— Иван Ефимович?
— Ну, я.
— Танцуй.
Под снисходительно-нетерпеливые улыбки друзей парень, разок пройдясь с раскинутыми для пляса руками, на ходу выхватил конверт из протянутой руки почтальона, просияв лицом, отбежал в сторону, в момент отключившись от всего, что мешало ему остаться один на один с весточкой из дому, в счастливом ожидании чего-то необыкновенного, дорогого ему.
А «бог Саваоф» продолжал «витийствовать», восседая на гнедом облаке, остервенело махавшем обрубком хвоста:
— Быкалюк?
— Я!
— Патюлин?
— Я — Патюлин.
— Ведерников?
— Тута.
— Надо говорить: «Здесь». Получай.
— Учи учёного.
— Рудяк?
— На границе.
— Сергеев?
— Который?
— Тебе пишут. Александр где?
— В наряде.
Счастливчики, едва услышав свою фамилию, притопывали ногами, имитируя пляску, выхватывали письма.
Круг постепенно редел.
«Бог Саваоф» на глазах у всех терял былое величие, опустился с гнедого облака на грешную землю, не оглядываясь на заскучавших ребят, повёл меринка в поводу на конюшню, небрежно забросив через плечо опустевшую сумку, где оставалось несколько нерозданных писем и пачка газет трёхдневной давности.
Гнедой, дрожа потной шкурой, дёргая мордой, отмахивался от осатаневших слепней, и почтальон то и дело сердито оборачивался к нему, грозя кулаком:
— Но ты, балуй тут у меня, чёртова орясина!..
День медленно убывал, затопленный солнцем, пропахший запахами хлебного поля и соснового леса, напитанный шедшим от конюшни ароматом свежего сена; из открытого окна командирского домика неугомонный патефон слал в пространство, в, казалось, беспредельный покой обманчиво замершего Прибужья сентиментальный романс о терзаниях покинутой женщины.
Ещё длился получасовой перерыв — оставалось несколько свободных минут, и Новиков, сидя под тенью полуусохшей, отцветшей без завязи яблони, прислушивался к мелодии, не вникая в слова; он еще не остыл, в нем продолжала бродить разгорячённая пляской кровь, ещё шумело в голове и гудели ноги, а в глубинах сознания возникал, нарастая, протест против нелепого веселья и романса.
Ведерников, прочтя и спрятав в карман гимнастёрки письмо, подошёл с непогасшей блаженной улыбкой на конопатом лице.
— Сашка-то, свиненок, ходить начал. На своих двоих. Подумать только! Ходит, а!
— Какой Сашка?
— Сынок, мой Сашка, ты что — забыл? Катерина не обманет, она у меня баба серьёзная, хохлушка у меня Катерина. — Ведерников ликующе посмотрел на своего отделенного, и было непонятно, чему он рад — первым самостоятельным шагам Сашки или жене. Он прямо светился от счастья.
— Хорошо, — сказал Новиков.
По тому, как он обронил это слово, по невидящему взгляду, сопроводившему сказанное, Ведерников без труда догадался об обуревающих Новикова тревожных мыслях — отделенный давно не получал писем из дому.
— Молчат? — спросил он.
— Ничего не понимаю. В чем причина? Что там могло случиться?
— Так уж и «случиться»! Ты им карточку когда выслал?
— Давно. Вместе с письмом. Где-то в половине мая.
— Точно. Семнадцатого. Мы вместе ходили на почту.
— Больше месяца.
— Бывает. Почта, она, брат, когда как. Катерина вот тож обижалась. А опосля получила, и вот, гляди, порядок. — Он похлопал себя по оттопыренному письмом карману гимнастёрки. — Погодь волноваться, не сегодня-завтра получишь. Старики, чай, не одни, братаны при них, сёстры.
— Давно каникулы начались, — думая о своём, сказал Новиков и направился к умывальнику. — Лето у нас, ты представить не можешь, Ведерников, какое у нас лето на Урале!
Он долго плескался под умывальником, брызгая на себя пригоршнями теплую воду и шумно отфыркиваясь.
Ведерников стоял чуть поодаль, ждал Новикова. Сейчас он жил письмом Катерины и порывался извлечь его из кармана, чтобы снова перечитать женины строчки, пробовал и не мог представить топающим на неуверенных ножках первенца Сашку, хоть ты что делай — не мог, захотел мысленно представить свою Катерину, но и это ему не давалось. Ладно, успеется, думал он, не понимая, почему на душе становится грустно.
— Какие приказания будут? — спросил, выждав, пока отделенный умоется и натянет на обожжённые плечи рабочую гимнастёрку.
— По распорядку дня, — поступил резкий ответ.
Но Ведерников не обиделся, понимал: с отделенным происходит неладное.
— Ты что, Лёшк, растревожился? Ну, не поступило сегодня, так завтра, через три дня придёт письмо. В первый раз, что ли? Почта, она, знаешь, как…
— При чём тут письмо? — ответил нехотя Новиков. — В нём ли дело? Ладно, пошёл я, скоро к старшему лейтенанту являться.
— Кино будет? — не зная, что сказать, спросил Ведерников.
Уже на ходу Новиков к нему обернулся.
— Сказано: по распорядку.
10
«…Смуток у меня на душе. Сижу одна в хате. Не дождалась вечера. Пойду, думаю, на заставу, думаю: кино посмотрю. По субботам завсегда. Аккурат тогда, помню, „Богдана Хмельницкого“ крутили. Пришла засветло, тое-сёе поделала в прачечной, потом на кухню зашла, а в столовой хлопцы ужинают с Ивановым, с начальником, значится. Холостяковал он — жёнка с сыном до своих поехали погостить… Ну, смотрю, ужин у них невесёлый…
А кино вспоминать неохота… Сижу, как на горячей пательне, бо то кино рвётся и рвётся. И свет гаснет… И собаки брешут, как на луну в морозную ночь… А дальше, слышу, помаленьку уходят хлопцы. И я себе пошла до дому. Какое там кино!..»
(Свидетельство А. Пиконюк)Задолго до начала сеанса старший лейтенант Иванов собрал младших командиров на инструктаж. Предзакатное солнце било в окна канцелярии, отраженный от стены медный свет падал на лицо сидевшего за столом Иванова, и потому оно казалось особенно неспокойным. Начальник заставы старался говорить ровным голосом, еще раз напоминая младшим командирам об обстановке и тыча указкой в висевшую на стене схему участка. Иногда указка проскальзывала мимо, к отворенному окну, уводя взоры сидящих в красноватую даль за рекой, к горящему золотом монастырскому куполу.
— …Что ещё можно добавить к тому, что вы сами знаете, что слышали от начальника отряда сегодня? Счёт пошёл на часы. Я хочу, чтобы вы, мои главные помощники, уяснили это и довели до сведения личного состава. Смотрите, чтобы нас не застали врасплох. Службу нести как положено. Быть готовыми к отражению противника. — И словно бы ему не хватало воздуха, старший лейтенант высунулся в окно, перегнув под прямым углом недлинное своё туловище, перетянутое в плечах и по поясу новым жёлтым ремнём с портупеями, шумно вздохнул и возвратился в прежнее положение. — Если вопросов нет, — заключил он, разгладив морщины на лбу, — можно готовиться к боевому расчёту.
Он поднялся, но младшие командиры, будто придавленные услышанным, встали не сразу. Близилось то, решающее, к чему теоретически они были готовы, но о чём всё-таки не имели ясного представления.
Новиков поднял руку:
— Разрешите вопрос?
— Вам что-нибудь непонятно, младший сержант?
— Мне всё понятно, товарищ старший лейтенант. — Новиков на секунду запнулся.
— Так в чём дело? — Иванов переступил с ноги на ногу.
— Если остались считанные часы, тогда почему мы одни, товарищ старший лейтенант? Где поддержка, о которой сказал начальник отряда?.. Вы не думайте, я не за себя боюсь. Пожалуйста, не думайте так… Но люди спросят. Они слышали, что говорил майор Кузнецов сегодня днём…
Лицо Новикова, когда он дрожащим от волнения голосом произнес эти несколько отрывочных фраз, покрылось мелкими капельками пота и побледнело, и начальник заставы, глядя на него с удивлением, даже не пробовал скрыть, что поставлен в тупик.
— Есть ещё вопросы, Новиков?
— Никак нет.
— У вас? — Иванов обратился к остальным.
Ему ответили вразнобой — других вопросов не имелось. Все ждали.
Он молчал, хмуря лоб и тотчас разглаживая морщины, оставлявшие на загорелом лбу белый след. Он молчал, не столько пораженный вопросом младшего сержанта, сколько собственной беспомощностью. Разве младший сержант не имел права спросить? Имел, разумеется. Хоть необычно было слышать такое от командира отделения. О подобном — куда ни шло — мог и, наверное, обязан был спросить он, начальник заставы, отвечавший за участок границы, который, вполне возможно, через несколько часов станет участком фронта протяжённостью в восемь километров, и держать оборону на нем придётся ему со своими пятьюдесятью бойцами и младшими командирами.
Всё это промелькнуло в голове Иванова, ещё больше взвинтив его и приведя в замешательство. Он думал, что ответить — теперь уже не одному Новикову, а всем, — и глядел на своих сержантов, узнавая и не узнавая их, освещенных сейчас косым веером лучей предзакатного солнца, посвежевших после бани, подтянутых, в безукоризненно отглаженных гимнастёрках с белыми каёмками свежих подворотничков — молодцы, один к одному.
Никогда до этого не задумывался, любит он их или безразличен к ним, — для него они были и оставались просто командирами отделений, помощниками, парнями разных складов характера, с присущими каждому достоинствами и недостатками, военнослужащими, обязанными исполнить свой гражданский долг и возвратиться к гражданской жизни; что греха таить, всякий раз, отправив демобилизованных, он ещё долго по ним тосковал, вспоминал и ставил в пример молодым, пришедшим на смену уехавшим, забыв, что те, уехавшие, были не без греха и немало крови попортили ему и себе.
Но только сейчас, перед реальной бедой, сознавая меру опасности, он первый раз за всю свою службу почувствовал, как ему дороги эти парни, молча поддерживавшие в нем присутствие духа своим нарочитым спокойствием; они понимали его состояние — он ощущал это тем особенно обостренным чутьём, какое не обманывало его никогда. Но они не понимали, что ему ещё горше оттого, что его пробуют успокоить.
— Вы не маленькие, — сказал он, не смея больше молчать, неизвестно для чего и зачем оттягивая ответ. — Раз так получается, будем стоять одни… Сколько можно… До последнего дыхания… Как положено пограничникам. Нас одних не оставят, придёт поддержка. Верю в это. — Он прервал себя, устыдясь возвышенных слов. — Всё, ребята, идите в отделение, готовьте личный состав.
Отправив сержантов, Иванов возвратился к окну, с жадным вниманием уставясь в не видный за багровеющими в закате деревьями берег реки, мысленно представляя себе весь свой восьмикилометровый участок — от стыка до стыка, — сотни и сотни раз исхоженный вдоль и поперек; он никоим образом не мог представить его в качестве линии фронта, который ему предстоит оборонять с горсточкой бойцов; с пятьюдесятью солдатами и сержантами от силы можно какое-то время удержать метров двести пятьдесят — триста — это Иванов отчётливо понимал. Он хотел иной ясности, а её не было.
Стоял так один молча непростительно долго — может, десять минут или все полчаса, — нерасчетливо тратя время и ломая голову над задачей, которую ему все равно не решить. Его душил гнев. Он понимал всю страшную несправедливость положения, в которое поставлен непонятными обстоятельствами.
— Товарищ старший лейтенант! Застава на боевой расчёт построена.
— Сейчас иду, — сказал он, не оборачиваясь, словно боялся обнаружить перед дежурным свое состояние.
Иванов ещё раз посмотрел за окно, в алеющую даль за рекой. Там было тихо. От этой тишины ему свело челюсти.
— Сейчас иду, — повторил он, наверное, затем, чтобы взять себя в руки. Хотелось подойти к противоположному окну, из которого можно увидеть свою веранду и, должно быть, играющих перед домом детей. Но он знал, что это не облегчит, а, наоборот, усугубит и без того тяжелое состояние. А ему нужны ясность и собранность. Последнее зависело от него самого.
Привычно согнав складки на гимнастёрке под командирским ремнём, поправив фуражку, пошёл в коридор, где в голове строя поджидал старшина, толкнул створку двери и не мог не порадоваться бросившейся в глаза безукоризненной чёткости двух шеренг, замерших под зычное «смирно!», выслушал рапорт, дивясь охватившему его сразу спокойствию…
Почти буднично провёл боевой расчёт, полагая, что людям больше импонирует эта его суховатость и четкость постановки служебных задач.
Закончил боевой расчёт теми же словами, что и всегда, но после короткого «р-разойдись!» люди почему-то остались в строю, и это его удивило.
— Р-разойдись! — громко повторил старшина.
Не расходились, ждали других слов, кроме сказанного в порядке служебной необходимости, не тех, повторяемых изо дня в день на каждом боевом расчёте, — новых.
— Ребята, вы ждёте от меня дополнительной информации? Какой? Я могу лишь догадываться. У меня нет новых данных. Не знаю, имеет ли их командование отряда или комендатуры. Вряд ли. Правда, не исключена военная хитрость: до поры, до нужного момента части Красной Армии стоят на тыловых подступах в готовности поддержать нас. Вполне возможно такое. Не хотят преждевременно себя обнаружить. Очень даже возможно. — Он ухватился за спасительное предположение, хотел развить его в том же плане. И неожиданно, по лицам бойцов, угадал, что эти надежды в первую очередь нужны ему, а не им, и он не вправе делать безответственных заявлений. — Не будем гадать, — прервал он себя. — Дело покажет. — И сухо добавил после небольшой паузы: — А сейчас ужинать. Внутренний распорядок не отменён. Всё.
Строй сломался.
Иванов повернул к канцелярии, но пограничники его окружили, ближе всех подошёл Новиков.
— Опять вопросы? — спросил Иванов.
— Никак нет, товарищ старший лейтенант. — Новиков на секунду запнулся. — Личный состав просит вас поужинать с нами.
«Просит! — больно укололо непривычное слово. — Не зовут, а просят. Неужели я так далёк от них? Или перестал понимать?»
До него не дошло другое звучание слова; тот единственный смысл, выражавший воинское единство и солидарность перед лицом близкой опасности, которая одинаково угрожала им и ему и была принята подчиненными как неизбежное, — этот нескрытый смысл он постиг намного позднее, забежав в затемненную одеялами казарму, где «крутили» киноленту о Богдане Хмельницком, и бойцы, едва завидев его, наперебой звали к себе.
— Ужинать? — переспросил, быстро справившись с обидой и взяв правильный тон. — Насколько я понимаю в медицине, от этого ещё никто не умер. Вы разделяете моё мнение, товарищ Ведерников?
— Верно, товарищ старший лейтенант. Ежели в меру и с понятием.
— Живы будем.
Повеселевшие, шумной гурьбой повалили в столовую; кому-то пришло в голову сдвинуть столики — будто предстояло шумное празднество, и когда повар с рабочим по кухне принесли алюминиевые тарелки с вареной треской и картофельным пюре, приправленным подсолнечным маслом с поджаренным луком, Иванову показалось, что ничего вкуснее он никогда в жизни своей не едал. Им было весело и тревожно. Всем, кроме Лабойко. Парень сидел сумрачный, молча жевал, не участвуя в разговоре.
Беспокойство остальных обнаруживалось в брошенном кем-нибудь из сидящих к окну мимолетном взгляде — там, за оградой, пролегала граница, оттуда лился пылающий свет, казалось, над горизонтом пылал, бушуя, пожар, и отблески его розово отражались на побелённой известью стенке столовой.
Потом был чай. Крутой и крепкий до тёмной коричневости «пограничный» чай. Его пили, обжигаясь, и от удовольствия крякая. Лабойко чая не пил.
— Чего засмутковав, Яков? Тащи балалайку, вдарь по струнам, чтоб ноги сами гопака вжарили. Га, Яков? Дело говорю, что молчишь? — Черненко, не поднимаясь из-за стола, раскинул руки, словно и впрямь собрался плясать. — Давай, земляче, уважь просьбу.
— Тебе абы плясать.
— А тебе?.. Чёрный кот дорогу перебёг? Ты же неженатый, девки письмами атакуют. Или ты их?
— Ну тебя.
— Не, правда ж. Сегодня целых два получил. Всё ему мало. От глаза завидущие, руки загребущие. Як тоби не ай-ай-ай, Лабойко! Батьки промашку дали: тебя в семнадцать оженить надо было… — Он запнулся на полуфразе, разом сбросив наигранную развязность. — З дому письма?
— Н-ну.
— Что там?
За столом стало тихо.
— Что? — переспросил Лабойко и сморщился. — Обоих братов призвали.
— Так что?
— А то, что своё отслужили давно. Женатые. В хате одни бабы да пацаны.
— Призвали и отпустят, — нашёлся Черненко. — Заварушка пройдёт, и братаны до дому повернутся. Нашёл заботу! Лучше про свадьбу подумай, бо мы все до тебя приедем. Верно, товарищ старший лейтенант, приедём все гамузом?
— Можно, — Иванов посмотрел на часы: они у него были крупные, с луковицу, с двумя крышками. — На свадьбу можно.
— Слыхал, Лабойко? Три к носу и раньше срока не заказывай панихиду.
Скупое воинское застолье длилось недолго, а под конец и не больно-то оживлённо. Старания Черненко были не в состоянии надолго отогнать напряженность, в какой они жили все эти последние месяцы и дни, ожидая самого худшего, что может ждать пограничника, и тайно надеясь, что оно их минет. Но вряд ли кто из сидящих сейчас за сдвинутыми столами догадывался, вряд ли кто из них, обминая пальцами бугристые «махорковые» сигареты, подумал, что никогда больше — ни завтра, ни через год — не собраться им месте, как собрались сейчас на последний свой мирный ужин, и не одному Лабойко суждено навечно остаться в холостяках.
— Спасибо, ребята, — поднявшись, сказал Иванов. — Кино сегодня. Вы не забыли?
— Как можно! — за всех отозвался Ведерников. — Закурите наших, товарищ старший лейтенант. — Он выщелкнул сигарету.
Иванов кивнул, закурив, хотел что-то сказать напоследок, но, махнув рукой, молча ушёл.
11
«…Не мог я смотреть кино: сосёт и сосёт тоска… Вышли на улицу. Темно, тихо… Разговорились. Я больше молчал. А Леша, Новиков, значит, в тот вечер душу приоткрыл. В тот вечер я понял, какой он человек. Предчувствие, как говорится, не обмануло… Как знал, что в последний раз вместе на границу пойдём…»
(Свидетельство С. Ведерникова)Ведерников порывался уйти, но Новиков возвращал его на прежнее место, придерживая за локоть.
Часто рвалась лента, и всякий раз, когда механик зажигал лампочку кинопроектора, чтобы при свете склеить концы, в наклонном конусе света возникали потные, возбужденные лица, слышались недовольные возгласы. Было душно, угарно, пахло ацетоном и распаренными телами — занавешенные окна не пропускали свежего воздуха. Снаружи, то усиливаясь, то ослабевая, доносился перестук работающего движка. Мотор чмыхал, сопел, будто захлебывался, снова стрекотал аппарат, опять рвалась лента.
— К чертям с таким кино! — чертыхнулся Ведерников. — Я пошёл, сержант, ты как хочешь. — Пригнувшись, стал выбираться к выходу.
Новиков пошёл вслед за ним.
Они прошли в глубь двора к скамье у ограды. Отсюда до реки было метров двести, не больше, веяло свежестью. Закурили. В темноте вспыхивали огоньки и тут же блекли под пеплом после каждой затяжки. Было темно и тихо, и, если бы не слышавшийся с далекого расстояния рокот, могло показаться, что на сопредельной стороне нет никого и немцы оттуда убрались.
Новиков снял фуражку, расстегнул гимнастёрку и подставил ветерку грудь и лицо. Он сидел к Ведерникову вполоборота, задумчивый, ушедший в себя.
— Глухо-то как, — сказал он.
— Не заскучаешь, — отозвался Ведерников.
В загустевшей тишине явственнее слышался неблизкий рокот, похожий на далёкий морской прибой.
В камышах дурным голосом проревела выпь. Прерывистый крик ее, похожий на рев быка, заглушил все другие звуки.
Новиков передернул плечами, надел фуражку и принялся застёгивать пуговицы своей гимнастёрки.
— Пошли спать, — сказал он и затоптал окурок.
— Ладно уж, разок недоспим, младший сержант. Вдругоряд прихватим. И ночка, гляди, какая славная.
— На границу скоро.
Ведерников раскурил новую сигарету.
— Спать-то осталось всего ничего, не успеешь лечь, дежурный подъём сыграет. Чего уж…
— Подраспустил я вас… Почувствовали слабинку.
— Ты распустишь!..
Новиков не то вздохнул, не то усмехнулся:
— Вот и вы убеждены, что мне больше всех надо, мол, в других отделениях сержанты покладистее. Так ведь? Думаете, я — придира и ещё там какой-то не такой, как все…
За рекой, далеко за монастырскими куполами, стушевав звёзды, в небе загорелись ракеты.
— С этим не больно уснешь, — сказал Ведерников, уклоняясь от ответа и провожая глазами опадающий вдали красный свет. — А ты говоришь — на границу, — закончил он непонятно.
Новиков тоже проводил взглядом беспорядочно распавшиеся и гаснущие комочки призрачного красного света.
— Не по себе мне нынче, — сорвалось у него с языка.
Ведерников, привыкший к сдержанности своего отделенного, обычно замкнутого, не очень общительного, удивленно посмотрел на него и, не различая лица, пригнулся.
— Двух не бывать, сержант. Одной, как говорится, не миновать. Одной, к слову сказать, даже святому не перепрыгнуть. Так что об этом не стоит. Что всем, то и нам. Думай не думай.
— Одна, две… Я о другом…
— Секрет?
После вспышки темнота стала гуще, плотнее. В беспредельном звездном бездонье переливался синеватый мерцающий свет, над горизонтом небо было угольно-черным и неподвижным, там оно как бы застыло. Но именно оттуда наплывал таинственный рокот, и Ведерникову казалось, что младший сержант непрестанно прислушивается к упрятанному и прорывающемуся от черного горизонта глухому гулу.
— Какой там секрет!.. Не понимаю, что со мной происходит. До вчерашнего дня все было просто и ясно, как таблица умножения: дважды два равно четырем. И вот за одну ночь…
— Другой счёт пошёл — дважды два равно трём? — Ведерников усмехнулся. — Мудришь, младший сержант, шуточки шутишь.
— Если бы…
— Тогда рассказывай. Ежели хочешь, конечно.
— Сложно это.
— Чего не пойму — догадаюсь, а нет — переспрошу. Переменился ты, любому видать. Наверное, к лучшему. Так мне сдаётся.
Новиков помолчал.
Было слышно, как в конюшне хрупают у кормушек «тревожные» кони.
— Ты мне авансом комплимент отпустил, а я вот не убеждён, что заслуженно. То, что происходит во мне, могло случиться значительно раньше. И дело даже не во мне, Сергей. Кто я такой? Младший сержант. Командир отделения. Тоже мне полководец и государственный деятель!.. У тебя есть сигарета? — Он закурил втянул в себя горький махорочный дым и закашлялся. — Фу ты, дрянь!.. — отшвырнул сигарету.
— Зазря добро переводишь.
— Добро!..
— Рассказывай, что ли.
— Расхотелось…
— Что так?
— Рассказывать не о чем. Тебе интересно, как я, учитель, оказался безграмотным человеком, а ты со своими пятью классами меня учил уму-разуму?
— Чтой-то не припоминаю такого.
— …Я видел — одно, а говорил — другое. Если любопытно, могу повторить.
— Зачем старое вспоминать!
— …Или как одной ночи достаточно оказалось, чтобы перевернуть во мне всё вверх тормашками? Это представляет для тебя интерес?
— А проще можешь?
— Говорить?
— Втолковать.
Новиков перевёл дыхание.
— Не случись той ночи, — сказал с горечью и так тихо, что Ведерников едва разобрал слова, — не случись её, так бы ходил до сих пор с завязанными глазами. Видишь, какой неинтересный разговор получается!
— По-честному, так я мало что понял. Слова вроде русские, а допетрить, что к чему, не могу. Ежели так своих учеников научал, я им не завидую.
— Почему?
Ведерников усмехнулся:
— В шутку сказано. А что путано говоришь — верно слово. Улавливаю пятое через десятое.
— Не умею проще. И вообще, не будем. Голова болит. У меня вот они где сидят, эти синие стрелы на карте Голякова! — сказал он вдруг без всякого перехода и, стремительно поднявшись со скамьи, ударил себя кулаком в грудь. — Ты карту не видел… Это когда мы поляка привели на заставу… Старший лейтенант спрашивал и знаки на неё наносил.
Упреждая вопросы, Новиков принялся рассказывать об увиденном и пережитом минувшей ночью, говорил, волнуясь, медленнее, чем разговаривал обычно, жестикулировал, и перед Ведерниковым как бы воочию предстали испещренная синими условными знаками карта, синие стрелы, уткнувшиеся остриями в советский берег, смятенное лицо отделенного, ослепляющий свет мотоциклетных фар на вражеской стороне и Новиков с Ивановым, распростертые в унизительной позе на своем берегу.
— Остальное ты знаешь. Шок быстро прошёл. Значительно скорее, чем я ожидал. До смерти этого не забуду. — Голос у него стал хрипловатым. — Ты вот побывал на войне, понюхал пороху, ранен. В общем, однажды уже пережил то, что всем нам ещё предстоит… Не знаю, о чем ты думал на финской, какие надежды вынашивал…
— В живых хотел остаться. В крайнем разе не шибко покалеченным.
— Это само собой… Но если мне суждено уцелеть, я обязательно вернусь в школу, к детям, и стану их учить, знаешь, чему?..
— Дважды два — четыре, трижды два — шесть. Известная наука. Угадал?
— И этому. Но главным образом постараюсь привить им ненависть к любому проявлению неправды. Вот чему я их стану учить. Ненавидеть ложь! — Новиков точными, рассчитанными движениями стал поправлять на себе обмундирование и делал это с такою неторопливой тщательностью, словно дела важнее для него в эту минуту не существовало. — Дай-ка ещё сигарету, — попросил, отгоняя рукой, назойливых комаров. — Так и привыкну к чертову зелью. С чего бы это?
— Надо ли?
— Что поделаешь… Захотелось.
Ведерников зажёг спичку и, пока отделенный, пригнувшись к его руке, неумело прикуривал, ловя ускользающий огонёк, успел заметить остро и ненавидяще вспыхнувшие глаза, дрожащую в губах сигарету, тонкую, с ложбинкой, мальчишечью шею в широковатом вороте гимнастерки и выступающие лопатки на тощей спине.
— Вот такие дела, Сергей, — ни к чему сказал он, совладав с огоньком. — И кино уже кончилось. Мы и не заметили когда.
Как ни старался он спрятать волнение — подражая Ведерникову, курил нечастыми длинными затяжками, придерживая в лёгких махорочный дым, произносил ни к чему не обязывающие слова будничным голосом, — скрыть своё состояние всё же не мог.
Ведерникова охватило дурное предчувствие. Ничего особенного Новиков не сказал, а жутковато стало, без видимой причины накатила тоска — будто холодными костлявыми пальцами стиснуло горло.
Через двор в калитку проследовал пеший наряд с собакой. За воротами пес заскулил, видно, упёрся, послышалось раздраженное понукание инструктора. Потом стихло.
Молчание становилось тягостным. Взгляд Ведерникова скользнул вдоль ограды и натолкнулся на других курильщиков. Оказывается, не одни они здесь с Новиковым, в нескольких шагах — тоже молча — попыхивали сигаретами двое, и ещё огоньки загорались под яблоней.
От дубов, росших напротив заставы прямо на берегу реки, пришёл тихий шелест потревоженной кроны.
Из дверей конюшни в полосе тусклого света показался дневальный с охапкой сена.
Новиков оглянулся на свет, и Ведерникова как бы отбросило вспять: перед ним был прежний — ушедший в себя — малоразговорчивый младший сержант, от всего отрешённый: дескать, можете обо мне думать, что вам заблагорассудится, ваши мысли меня мало волнуют.
— Поговорили — и хватит, — сказал Новиков. И зашагал к затемненной заставе, уверенный, что Ведерников от него не отстанет.
* * *
…Не пришлось им поспать. Рассредоточившись, окаменело лежали на берегу, вглядываясь и вслушиваясь в черноту по ту сторону реки, ловя и определяя на слух каждый шорох и звук. Новиков с ручным пулемётом расположился в центре, Ведерников лежал поодаль и левее, метрах в десяти, — Терентий Миронюк с автоматом.
Чужой берег застыл в неподвижности, притаился. Чернота летней ночи поглотила очертания монастырских куполов и дальнего леса, всё вокруг окутало тьмой. Из далёкой черноты, как из бездны, непрестанно гудело и рокотало, а здесь, у берега, бежала пахнущая нефтью, рыбой и водорослями речная вода, изредка в ней всплёскивала ненасытная рыбина, от распростершихся над рекой вековых дубов приходил шелест подсушенных зноем листьев. Река и чужой берег жили скрытой в темноте неспокойной жизнью, не было видно ни зги, но звуки прослушивались совершенно отчетливо: за изгибом реки, в густом травостое скрипуче прокричал коростель; в камышах у поросших осокой и ряской разводий сонно лопотал утиный выводок; застрекотали в траве умолкшие было к ночи кузнечики; издалека докатился гудок паровоза; из прибрежных кустов взметнулась ошалевшая птица и, тяжело хлопая крыльями, пошла зигзагами, низко, почти над самой водой.
Неожиданно близко, буквально у противоположного уреза воды, послышалась немецкая речь:
— Нох драй штунден… Ви лянге[6]!
— Штопф дих ден мунд, думмкопф[7]!
Ведерникова взяла оторопь. Рука инстинктивно потянулась к ручному пулемету, за которым лежал младший сержант. Ведерников понимал, что не станет бить на голоса с того берега, не имеет права открывать стрельбу на том лишь основании, что стало не по себе от близко раздавшейся чужой речи; понимая это, он тем не менее хотел взять в руки оружие — с «дегтярём» у плеча было бы гораздо спокойнее.
«Дегтярь» находился у отделенного, а тот, по-пластунски, неслышно отползая назад, поравнялся с Ведерниковым, на минуту замер возле него, прислушиваясь, затем, передав пулемёт с ещё нагретой его ладонью шейкой приклада, шепнул:
— Наблюдай, я скоро вернусь.
Ведерников остался один, теряясь в догадках, даже приблизительно не представляя себе, куда и зачем понесло Новикова. Темнота казалась ему ещё гуще, чем была до недавнего времени, и он, напрягая глаза, вглядывался в нее, но ни зрение, ни слух не помогали ему определить, где младший сержант.
Немцы молчали.
Новиков долго не возвращался, должно быть, с полчаса, если не больше, а когда Ведерников наконец услышал сзади себя тяжелое дыхание отделенного, ползущего по-пластунски, с трудом сдержал желание выругаться — так был зол на него — и пополз навстречу, к зарослям ольшаника, где тот, По-видимому, задержался передохнуть.
— Немцы… по всему берегу, — прошептал Новиков. — Беги на заставу… Доложи старшему лейтенанту. Скажешь, что я до самой часовни проверил… А ну, тихо… Слышишь?..
По реке, убывая, катилось эхо далекого грохота.
— Поезд на мосту, — догадался Ведерников. — На Брест.
— Беги, — опять заторопил Новиков.
12
«…Войну я встретил на ОКПП-„Брест“. Она не явилась для нас всех неожиданностью, потому что, общаясь с польскими железнодорожниками, мы часто получали ту или иную информацию… Да и сами видели, что фашисты готовятся к нападению на нашу страну… Разумеется, все, что нам становилось известным, мы немедленно докладывали по команде…
В ночь на 22 июня 1941 года, где-то часа за два до начала войны, из-за рубежа пришёл состав с польским углём. Я тогда был на службе и, досматривая состав, естественно, общался с обслугой, в том числе с машинистом Здиславом Камейшей. От него узнал, что через два часа начнется война…»
(Свидетельство Г. Скоритовского)В час сорок пять железнодорожный состав с силезским углем пересек мост через Буг, у блокпоста, замедлив ход, был взят под охрану советскими пограничниками и, медленно набирая скорость, отправился дальше. Паровоз, пыхтя и отфыркиваясь, потащил сорок четыре гружёных вагона. Машинист Здислав Камейша нетерпеливо поглядывал на чумазого, лоснившегося от пота помощника, но тот добросовестно делал своё дело — бросал и бросал в ненасытное жерло уголь, шуровал ломом, и в топке гудело так сильно, что казалось, её разорвёт.
В два часа ночи поезд прибыл на станцию Брест, обслуга сошла на перрон, пограничный наряд приступил к проверке состава.
Здислав, как всегда, оставался на своём месте, ждал окончания процедуры, и, когда пограничник, завершив её, хотел спрыгнуть на землю, придержал его на несколько минут.
В два пятнадцать в кабинете майора Кузнецова зазвонил телефон. Майор ждал звонка от командования округа и поспешно снял трубку. Докладывал начальник контрольно-пропускного пункта, чей наряд заканчивал досматривать прибывший из-за границы состав с силезским углём.
Майор слушал, заметно бледнея. Сидевшие по другую сторону стола комиссар и начальник штаба поднялись, ожидая окончания разговора.
— Ещё одно подтверждение, — положив трубку, сказал Кузнецов изменившимся голосом. — Через час сорок пять минут немцы начнут. — Он взглянул на настенные часы и поправился: — Через час сорок две. Сведения не вызывают сомнений. — Он поднялся: — Немедленно вызывайте комендантов к прямому проводу!
В два часа сорок минут Здислав Камейша отправился в обратный путь, увозя немцам сорок пять вагонов отборной пшеницы — договор неукоснительно соблюдался до самой последней минуты. Здислав не брался судить, хорошо это или плохо, размышлять ему было некогда — паровоз, миновав станционные стрелки, свернул вправо, в тупик.
* * *
В три часа двадцать минут 22 июня 1941 года, слабо светясь, взошёл узенький серп луны, обращённый к востоку своей вогнутой стороной.
До начала войны оставалось сорок минут.
13
«…Дурные предчувствия меня не обманули… То была наша последняя встреча… В четыре утра началась война. Встретили мы немца… Дали отсечку. Проще говоря, не допустили на своем участке переправу… Но фашист накрыл заставу и комендатуру артогнём… Побёг я на помощь своим, потому как там горело и шёл бой… Из боя уже не вышел — оторвало руку… Что дальше было, вспоминать не хочу…»
(Свидетельство С. Ведерникова)Они снова лежали рядом впереди траншеи, оба уставшие от непрерывного ожидания, и у обоих не оставалось сомнений относительно того, что их ждет и к чему готовились в течение ночи.
Ведерников достал из сумки гранаты, положил их по правую сторону от себя, аккуратно — одна к одной — все три. Новиков изготовил к стрельбе пулемет, запасной диск пододвинул напарнику.
— Скоро светать начнёт, — сказал Ведерников.
Новиков промолчал.
Воробьиная ночь была на исходе. В Дубице перекликались ранние петухи. Небо ещё оставалось черным, но при слабом свечении народившегося месяца на той стороне проступали контуры кустов и деревьев, угадывался белесый туман над водой, проглядывались редкие облака, желтовато подкрашенные по округлым краям — как каймой.
— Надо в траншею, — громко проговорил Ведерников. — Слышишь?
Можно было разговаривать не таясь, не опасаясь, что немцы услышат — гудом гудела земля, воздух наполнился лязгом и скрежетом; от невидного горизонта нарастал гул моторов — как будто железное чудище продиралось от леса, безжалостно ломая деревья и подминая под себя все живое; грохот усиливался, и не было нужды особенно напрягать слух, чтобы различить рокот десятков авиационных моторов, глушивший все остальное.
Предчувствие беды, охватившее Ведерникова на заставском дворе, у ограды, и исчезнувшее затем, возвратилось; ещё вечером, перед уходом на службу, была надежда — авось обойдется: не посмеют немцы сунуться через реку.
Теперь бывалый воин Сергей Ведерников яснее ясного понимал: чему быть, того не миновать, и, поняв это, подумал, что живыми отсюда не выбраться ни ему, ни Новикову, как бы окаменевшему у своего пулемёта, — никому из жидкой цепочки бойцов, рассредоточенных вдоль границы с винтовками, карабинами, автоматами. Не помогут и пулемёты. Что они против силищи, которая вот-вот надвинется и ударит из сотен орудий по окопчикам и траншеям.
Сознание неизбежности того, что должно случиться, вызвало в нем минутное замешательство. Он невольно оглянулся назад, где находилась застава и ещё спали после службы бойцы, подчиняясь пока не отменённому распорядку. Будь его воля, подумал Ведерников, немедленно поднял бы спящих да держал их в готовности, при оружии… Хорошо бы кто догадался подать команду «в ружьё!». А заодно и комендатурских поднять. Всех. С жёнами и детьми… Сами они там, что ли, не понимают?.. Приступ бессильной ярости охватил солдата, он привскочил, не сдержав гнева, и нечаянно задел Новикова рукой.
— Чего вы?.. Лежите тихо. — Новиков не повернул головы, пошире раздвинул ноги.
— Говорю — надо в траншею.
Новиков, будто не слышал, лежал в прежней позе, и Ведерников раздражённо подумал — красуется. Небось, даже слышать не приходилось орудийную пальбу, когда кажется, от грома лопаются барабанные перепонки. Откуда! Учений с частями поддержки и тех ни разу не проводили.
«Ну, что он ломается? — отчаянно думал Ведерников. — Ждёт — чего? Тут же каждый метр пристрелян!»
Младший сержант, вглядываясь в светлеющую на небосводе узкую полосу ранней зари, весь подобрался. Поза, в какой он, слегка подогнув ноги и опершись на согнутые в локтях руки, державшие «дегтяра», полулежал, напрягшись, говорила сама за себя.
«Сей момент сиганёт в траншею», — подумал Ведерников и приготовился последовать за своим отделенным: положил в сумку гранаты, взял в руки запасной диск к ручнику.
— С пулемётом — в траншею! — резко обернувшись, приказал Новиков. — Быстро!
Не дожидаясь, пока напарник выполнит команду, Новиков, загребая руками и ногами в росистой траве, быстро пополз вперёд, к защищенному кустарником береговому откосу, и замер там, что-то высматривая. В редеющей синеве стало заметно, как он вертит головой то вправо, то влево, немного с опаской приподнимает её над кустами, видно, силясь высмотреть нечто важное на вражеском берегу, где сейчас, слышно, возились немцы, не особенно прячась.
Ведерников, переместившись в траншею и установив пулемет для стрельбы, так же аккуратно, как прежде, положил по правую сторону от себя три гранаты и принялся наблюдать за младшим сержантом, не понимая, почему он так долго не возвращается; прошло всего две-три минуты, но ему казалось, будто Новиков непростительно долго, без нужды торчит на виду у противника, обнаруживая себя и позицию.
Темнота отступала, рассеивалась. До восхода солнца ещё оставалось порядочно времени, но бледные розовые отсветы уже стали подкрашивать небосклон, меркла узенькая долька луны и блекли звезды. Все это Ведерников схватил одним взглядом.
— Довольно ковыряться там, — в сердцах крикнул Новикову, с трудом сдержав желание выругаться. — Вертайся назад. — Ему показалось — отделенный оглянулся и что-то сказал.
Но Новиков, снявшись с места, уже не ползком, а пригнувшись, сделал короткую перебежку к повороту траншеи, где молча лежал Миронюк, оба затем спрыгнули вниз, и отделенный, сбив на затылок фуражку, не хоронясь, в полный рост устремился по ходу сообщения к пулемету, трудно дыша, рукой придерживая на боку туго набитую полевую сумку младшего командира.
С удесятеренной быстротой восприятия, какая возникает в минуты большого нервного напряжения, Ведерников без особого труда догадался — случилось что-то чрезвычайно серьезное. Он это понял чисто интуитивно, подался Новикову навстречу.
— Что там?
— Мало хорошего. — Новиков с трудом перевёл дыхание и, схватив пулемёт, крикнул, не оборачиваясь: — За мной! Они переправу наводят.
— Понтон?
— Бегом, туда!..
Не вдаваясь в объяснения, младший сержант сильным толчком выметнулся наверх, в считанные секунды достиг крайнего от реки дуба с двумя лазами в дупло. Почти одновременно с ним бросился на землю Ведерников, и едва успел лечь в удобном для стрельбы положении — вниз лицом, — как на той стороне, где теперь устрашающе ревели моторы, вспыхнули в небе ракеты красного цвета.
«Началось! — холодея, подумал Ведерников и втянул голову в плечи. — Сейчас дадут жизни!»
Ещё не угас красный свет сигнальных ракет, еще истаивали в небе призрачно-багровые островки, а оттуда, от горизонта, девятка за девяткой к востоку понеслись самолеты. В дрожащем воздухе грохотало, и душный, пропахший бензиновой гарью вихревой шквал гнул к воде камыши и поднимал метровую волну, со страшной силой разбивая её о берег.
Тумана как не бывало, его рассеяло первыми же порывами, обнажив левый берег реки, где, как в разворошенном муравейнике, у десантных лодок и плотиков, у дюралевых понтонов, окрашенных в зелёный цвет, копошились вражеские солдаты в касках.
Ведерников пробовал считать самолеты, но сбился. Они шли и шли, волна за волной, низко, почти стелясь над лугом, проносились, как смерч, набирая высоту, и исчезали в рассветной дымке над Брестом.
Новиков не сводил глаз с разводий в зарослях камыша, где теперь с лихорадочной торопливостью несколько вражеских солдат, видно, сапёры, крепили штормовой мостик на двух понтонах, а третий заводили на веслах другие.
Ещё вибрировал спрессованный воздух и не смолк грохот последнего косяка пикировщиков, а над Забужьем опять взмыли ракеты, с раскатистым треском раскололось заалевшее небо; всесокрушающий ураганный огонь обрушился на правобережье, перепахивая его вдоль и поперек и поднимая в воздух груды земли и тучи песка.
Вражеская артиллерия молотила прибрежную полосу методично и яростно, будто перед нею была не жиденькая линия траншей и окопов, обороняемая несколькими десятками пограничников, а долговременные железобетонные укрепления с мощной артиллерийской защитой.
Полузасыпанные землёй, оглохшие от адского грохота парни прижались к земле, ничего не соображая, задыхаясь от евшей лёгкие и глаза тротиловой вони. Вдоль всего берега взлетали фонтаны песка, искорежённые деревья вперемешку с кустарником, тяжело ухали, падая и рассыпаясь от ударов о землю, желтые глыбы слежавшегося песчаника, и над кошмарным этим хаосом, над закипевшей от ударов множества весел рекой, полыхавшей оранжевым пламенем, загорелся безмятежно оранжевый небосвод, розово распространяясь в бездонье.
Всходило солнце.
Двадцать минут прошло от начало войны.
Река, ещё недавно тихая, без морщинки, утихомирившаяся после шквалов, поднятых самолётами, опять забурлила: сотни лодок и плотиков под прикрытием огневого вала отчалили от берега.
Началась переправа.
В первые минуты Новиков обалдел от грохота канонады, из сознания ушло всё, кроме ужасающих громовых раскатов; страх прижал к гудящей, вздрагивающей от разрывов земле — будто связал по рукам и ногам; в груди была холодная пустота; по дубу, за которым лежал он рядом с Ведерниковым, глухо ударяли осколки мин и снарядов, на голову сыпалось крошево листьев и веток, нечем было дышать: пороховая гарь плотно стлалась над прибрежной травой.
Так длилось мучительно долго: минуту, две — вечность, пока где-то, у него за спиной и в отдалении, не рвануло трижды подряд, и докатившаяся взрывная волна как бы накрыла его с головой, обдав пылью и запахом гари.
Придя в себя, Новиков невольно оглянулся назад, туда, где между деревьями недавно проглядывали белые стены комендатуры и в отсвете зари алела черепичная крыша с красным флажком на фронтоне. Комендатуру он не увидел. Не было ни флажка, ни фронтона, исчезла красная черепица. В просвете между деревьями, где постоянно открывалось глазу двухэтажное здание с чисто вымытыми оконными стеклами и веселым зеленым балкончиком, теперь оседало облако рыжей пыли, а снизу к верхушкам кроны поднимались густые клубы белого дыма, и сквозь него прорывались огненные языки в глубине двора.
Новиков не поверил глазам. Ещё полностью не осознав размеров беды, ошеломленный увиденным, он, забыв об опасности, привстал, но Ведерников ударом под коленки свалил его на траву.
— Жить надоело? — прокричал боец и показал рукой в сторону реки. — Сюда гляди.
Взгляд Новикова, бессмысленно скользнувший по рябому лицу Ведерникова, чисто автоматически переместился на левый берег реки, от которого отчаливали первые лодки с врагами. Кто сидя, кто в рост, не прячась, как у себя дома, — уверенные, они переговаривались, смеялись, и смех этот, слишком громкий и не очень естественный, был для Новикова чудовищно оскорбительным.
Как в позапрошлую ночь, разом отрезвев, освободившись от страха, движимый мстительной ненавистью к этим гогочущим наглецам в касках, Новиков вдавил в плечо приклад «дегтяря», поймал в прорези прицела выдвинувшуюся вперед десантную лодку и, уже ничего не слыша, ничего не принимая в расчёт, лишь видя перед собой единственную надувную лодку, сцепив зубы и затаив дыхание, ударил по ней короткой расчетливой очередью. Стоявший на носу солдат с длинным шестом упал навзничь в воду.
Пробитая в нескольких местах резиновая лодка обвяла, солдаты бросились с неё врассыпную, попрыгали в воду, где их настигал огонь ведерниковского ППШ. И не только его — Ведерников скосил глаза влево и увидел в окопе Ивана Быкалюка, пулемётчика. Иван бил по еще не наведенному до правого берега понтонному мосту, несколькими очередями разметал копошившихся там сапёров, затем перенес огонь на десантников.
Тем временем, пока Новиков, потеряв интерес к сносимой вниз по течению тонущей лодке, брал на прицел другую, побольше, противник переместил огонь артиллерии в глубину; разрывы гремели за станцией, где-то у Белого озера, по всей вероятности, в расположении полков 75-й дивизии, а здесь, на правой стороне Буга, где, казалось, все живое перепахано вместе с землёй, здесь вдруг ожил истёрзанный берег — ружейно-пулемётная стрельба зазвучала на всём его протяжении, послышались крики, и было непонятно, орут ли тонущие, расстреливаемые с близкого расстояния гитлеровские солдаты или же победно разлетается яростный крик заставских хлопцев, отбивших атаку врага.
Река ещё кипела от взрывов гранат, всплесков барахтающихся вражеских десантников, ударов вёсел и ливня пуль, но десантные лодки и плотики, значительно поредев, теперь поспешно убирались вспять, даже не достигнув середины реки.
Первая атака врага захлебнулась.
«Дегтярь» в руках Новикова, ещё раз задрожав в длинной визжащей очереди, смолк. Отвалился от приклада своего автомата Ведерников, обернул к отделенному потное, в потёках гари, возбуждённое лицо с пожелтевшими оспинами на щеках и на лбу, но тут же снова припал к автомату и стал посылать на тот берег короткие очереди.
По траншее к Новикову подбежал Миронюк. Простоволосый, тоже в потёках гари, радостно сияющий, ещё издали крикнул:
— Далы жары гамнюкам!.. Во далы так далы. Тэпэр довго нэ сунутся, засраньцi. Закурыть е, младшый сержант?
— Не курю.
— Та в мэнэ самого е, — рассмеялся Миронюк. — То я так, про запас, як кажуць. — Он принялся сворачивать цигарку. — Ты як сэбэ чувствуешь?
— Нормально. — Новиков обратил взгляд к горящей комендатуре, где продолжал клубиться изжелта-белый дым и вырывались языки пламени.
— Почэкай, почэкай, нашi прыйдуць, отi врiжуць так врiжуць, отi жару дадуць. — Миронюк задрал голову кверху, в ту сторону, куда смотрел Новиков, но значительно выше — к небу. — Haшi лiтакы йдуць. Чуешь?
С востока нарастал мощный гул самолетов.
— Смотайся в комендатуру, посмотри, что там, — сдавленно сказал Новиков, не глядя в сразу помрачневшее лицо пограничника.
— Зараз, трохы покурю… Мо ты закуришь?
— Давай, Миронюк, быстро!
— Ще разок затягнусь.
Миронюк явно медлил — долго прятал спички, почему-то засовывал коробок в карман гимнастёрки, втягивал в себя махорочный дым медленными затяжками, всякий раз пригибаясь к земле, когда поблизости взвизгивали осколки мин или пуль, — противник продолжал обстреливать правый берег реки, и пальба становилась все сильнее, вызвав ответный огонь пограничников.
— Долго куришь, — недобрым голосом сказал Новиков. — Кончай волынить. Живо на заставу!
Миронюк дернулся, бросил окурок.
— Нэ можу, — посмотрел в лицо Новикову тоскующими глазами. — Нэ можу, младший сержант. Що хочэшь робы, хоть на смэрть посылай, я готовый… А туды не можу. Там, мабуть, дiты погорiлы…
— Не можешь?! Ведерников, а ну, вы давайте.
Ведерников сорвался с места, не дожидаясь повторного приказания, побежал к заставе, пригибаясь, лавируя между кустов. Серия минных разрывов вспыхнула значительно впереди него, подняла в воздух пешеходный мостик через ручей, разбив его вдребезги. Ведерников плюхнулся, где стоял, стал отползать в сторону, к стожку сена, быстро перебирая руками и ногами.
Пук ракет ударил по соседнему стожку и зажег его. Сухое сено, собранное в пятницу после просушки и ещё не свезённое на хозяйственный двор, задымилось и вспыхнуло ярким факелом.
Между тем огневой вал в районе Белого озера неожиданно переместился на береговую линию обороны, первые снаряды разорвались в реке, в воздухе возникли фонтаны грязной воды, во все стороны с воем и свистом брызнула галька.
Миронюк спрыгнул в траншею и уже оттуда, задрав голову, прокричал:
— Haшi лэцяць!
Сквозь грохот разрывов слышался ровный и мощный гул авиационных моторов; он нарастал непрекращающимся громом и вскоре заглушил разрывы снарядов, вобрал в себя все другие звуки разгоравшегося с новой силой артиллерийского налета — возвращались с бомбежки немецкие самолеты: волна за волной шли «юнкерсы» под прикрытием истребителей, шли победно и безнаказанно, и от грохота содрогалась земля.
Стремительно увеличиваясь в размерах, от Вялой Подляски неслась девятка «мессеров», над рекой разделились и, не набирая высоты, пошли вдоль траншеи, прошивая её пулемётным огнём.
С грохотом рвались снаряды и мины, воздух наполнился визгом и воем, узкая прибрежная полоса вздыбилась фонтанами песка, галечника, глыбами, вывороченной земли — немцы набросились на неё всей своей огневой мощью.
За огневым валом вражеская пехота возобновила переправу через границу, несколько лодок достигло советского берега, с них стали высаживаться с автоматами наперевес немецкие пехотинцы.
И тогда из полузасыпанных траншей и обрушенных окопов навстречу врагу поднялись врукопашную уцелевшие пограничники.
14
«…По пути в комендатуру я встретил двух бойцов 15-й заставы, которые доложили, что пытались попасть в подразделение, но не смогли, потому что застава вела бой в окружении. В районе, где я находился, расположились в обороне полки 75-й стрелковой дивизии. Я встретился с комдивом, генерал-майором Недвигой… просил оказать помощь окружённым подразделениям. Генерал ответил: „Разобьём противника перед фронтом дивизии, а потом поможем пограничникам“. Этого не случилось…
Командуя 220-м погранполком, я окончил войну. После освобождения Белоруссии был на местах, где находились застава и комендатура. Я увидел груды развалин. От местных жителей узнал, что все пограничники застав и комендатуры, находясь в окружении войск противника, в течение суток, упорно сражались и почти все погибли смертью храбрых. Кроме личного состава застав и комендатуры много погибло семей офицеров-пограничников, в том числе мои жена, дочь 5-ти лет и сын 2-х лет…»
(Свидетельство П. Яценко)Истребители проутюжили прибрежную полосу. Волна за волной они пронеслись вдоль жиденькой линии обороны, на которой уцелели одиночные пограничники, расстреляли боезапас и безнаказанно улетели на Бялую Подляску, будто возвращались с тренировочного полёта.
Артиллерийский обстрел не стихал, становился плотнее. Снаряды рвались так густо, как если бы враг задался целью перепахать всю эту землю. В клокочущем месиве земли, огня и металла рвалось, горело, визжало; все пространство между рекой и линией обороны превратилось в завесу огня — полыхали стоявшие в ряд копни пересохшего сена, курились подожженные кусты и торфяник, небо закрыл смрадный дым, и ветер нес хлопья черного пепла, устилая им всё окрест.
Пока длился артиллерийский налёт. Новиков лежал под защитой дуба в относительной безопасности. Натерпевшись страху в самом начале, пережив первый удар и познав первую радость победы, он готовился к отражению очередной переправы, ждал ответных ударов своих пушек и самолетов, которые, несомненно, вот-вот помогут. С возвышенности ему был виден окоп, где со свом «дегтярём» примостился Быкалюк. Иван пригнул голову, будто прислушивался к тому, что творилось снаружи. Ближе к дубу в траншее сидел Миронюк, тоже пережидая артналет. Он то и дело выглядывал из траншеи, обнаруживая своё нетерпение скорее выбраться наверх.
Новиков, сменив опустевший диск запасным, стал набивать патронами первый, не забывая наблюдать за противоположным берегом. Там пока было спокойно. Моментами чудилось, будто в тылу участка раздаются взрывы и слышатся отзвуки ружейно-пулемётной стрельбы, но тут же младший сержант себя успокаивал: в этом гуле и оглушающем грохоте всякое примерещится. Он продолжал жить тем, что творилось вокруг и за что отвечал головой — с него не сняли ответственности за порученный под охрану участок границы, за свое отделение. Значит, тут ему находиться с нарядом, тут ему стоять до конца.
Ведерников как ушёл, обратно не возвращался, должно быть, залёг под обстрелом, ждёт, когда поутихнет. Немец садил минами и бризантными, разрывающимися в воздухе на множество осколков, снарядами, с визгом прошивавшими воздух, как злые осы. Осколки вонзались в землю, засевая её горячим металлом.
Мысли о Сергее становились всё беспокойнее — может, ранен, нуждается в помощи.
— Миронюк! — крикнул он.
— Що?
— Посмотри, что с Ведерниковым. Быстро!
— Добрэ. Зараз. — Не мешкая, Миронюк выскочил наверх, но, не сделав ни шагу по направлению к тому месту, куда его посылали, перемахнул через бруствер. — Дывысь, що робыться! Направо дывысь!
Новиков обмер. На правом фланге, приблизительно в районе двести третьего погранзнака, с десантных лодок и плотиков высаживалась на берег вражеская пехота, а на подмогу ей подходили новые и новые силы; высадившиеся, с ходу подняв стрельбу, устремились к траншее, на берегу стало черным-черно и суетно.
— Миронюк, за мной!
Подхватив пулемет, не оглядываясь, бежит ли за ним Миронюк, Новиков бросился наперерез вражеским пехотинцам, рассчитывая опередить их и фланкирующим огнем придержать до подхода резервной группы с заставы. Он бежал, пригибаясь к земле, падал, поднимался и снова, петляя между навороченных глыб, стремился занять позицию у изгиба траншеи.
До немецких солдат было ещё порядочно, но отчётливо, как с близкого расстояния, слышались крики и автоматная трескотня. Сколько глаз хватал, враги шли и шли, цепь за цепью — по всей полосе, почти не встречая сопротивления; лишь изредка кто-нибудь падал в передней цепи, сбитый пулей пограничника, и тут же над ним смыкалась лавина.
«Надо их придержать! — толклась одна и та же беспокойная мысль. — Придержать, а там подоспеет резервная. С пулемётом и автоматом продержимся».
— Справа заходи, Миронюк, правее давай! — крикнул он бежавшему позади бойцу.
Крикнув, оглянулся, не видно ли помощи.
Над комендатурой по-прежнему висело облако дыма. Резервная группа задерживалась.
Раздумывать над этим было ему недосуг — немцы, заметив бегущих наперерез пограничников, открыли по ним автоматный огонь с далекого ещё расстояния, пока не причиняя вреда, — наверное, и, главным образом, для острастки, однако вынудили продолжать путь ползком, по-пластунски.
Между тем Быкалюк, не входящий в состав наряда Новикова, увидев высадившуюся на берег пехоту противника, перемахнул через бруствер и бросился с пулемётом наперевес значительно левее, ещё не открывая огня, напрасно не тратя патроны. Ему удалось просколить на сотню метров вперёд, и теперь он строчил из своего «дегтяря» по флангу наступавших немцев, заставив некоторых залечь, других — изменить направление.
Новиков не замедлил воспользоваться поддержкой — полусогнувшись, метнулся к черневшей воронке, скатился в нее одновременно с Миронюком, ударившись коленкой о торчавшее сбоку бревно, сгоряча не почувствовав боли, не сразу сообразив, где находится.
— Нэ встыгнем, — хрипло сказал Миронюк. — Трэба бигты, младший сержант. Тильки бигты.
— Пошли, Миронюк… Надо продержаться. Перекроешь выход на Дубицу. Давай, бегом!
— Пойнятно.
Ни одному из них не пришло в голову, что не удержать вдвоём такую лавину.
Миронюк выскочил наверх, побежал зигзагообразными скачками к петлявшей между кустами тропе.
Новиков, выбираясь для очередного броска, заметил развороченный участок траншеи с ошметками хворостяной изгороди, полузасыпанную зелёную фуражку с чёрным лаковым козырьком, диск ППШ, но все это увидал мельком, не восприняв сознанием, — от дуба, который он недавно оставил, не стреляя, наперехват Миронюку, бежало четверо пехотинцев в рогатых касках, охватывая бойца полукольцом, видно, решив его взять живым.
— Терентий!.. Миронюк!.. — не своим голосом закричал Новиков.
Ни Миронюк, ни преследователи оклика не услышали. Миронюк бежал в заданном направлении, маскируясь, как мог, между глыб вывороченной земли и слежавшегося песка, не видя врагов, не подозревая опасности.
В считанные минуты Новиков развернул пулемет, длинной очередью ударил по бегущим, вызвал у них замешательство, не дав опомниться, послал следующую, оглядел лежавшее перед ним пространство и рванулся на помощь Миронюку.
К своей радости, легко одолел десяток или сколько-то там прошитых смертью немереных метров, немного не рассчитал, повалился с разбегу на спружинивший холмик секундой раньше, чем над ним провизжала автоматная очередь; падая, успел заметить, что стреляли по нему справа, от куста, маскировавшего стрелковый окоп, в котором, он знал, должен находиться Лабойко.
«Что же Яша там зевает?» — подумалось вскользь. На большее времени не хватило — установил пулемет и послал долгую веерообразную очередь по тем, что стреляли от куста, и по четверым залёгшим. Пулемёт дрожал и дергался в руках, как живой, с холмика осыпался песок, хороня под собою стреляные гильзы.
Ответной стрельбы не последовало. Новиков смахнул пятерней пот с лица, размазал на нем копоть и грязь, приподнял голову, выглянул. И тут по нему опять секанули из двух автоматов — две очереди близко вспороли песок, обдав лицо колкой пылью.
Новиков дёрнулся в сторону, ткнувшись головой в основание холмика. От сознания близкой опасности ему стеснило дыхание, сильно заколотилось сердце, стало сухо во рту. Обострённым чутьём, всеми клетками напрягшихся мышц ощутил близость немцев, державших его под прицелом, подумалось со страхом: убьют. Пока живой, пока остается хоть маленькая возможность, надо выбираться из мышеловки, покуда она не захлопнулась.
«А ну, тихо! — сказал он себе. — Не паникуй. Действуй, Новиков».
Но стоило сделать движение, как по нему снова открыли огонь, и пули, зло повизжав, мягко вошли в толщу песчаного холмика, за которым он прятал голову.
С пугающей трезвостью понял, что влип. И Миронюку не поможет. Но всё же потянулся к неостывшему пулемёту, медленно, неприметно заводя руку к оружию, инстинктивно съежившись в ожидании выстрелов.
«Не паникуй», — снова приказал себе.
Немцы молчали.
Новиков приподнял голову, скосил глаза влево, вправо, определяя направление очередного броска. И вдруг вскочил, в ужасе безрассудно всего себя обнажив перед вражеской цепью — под осыпавшимся песком белело мертвое, без кровинки, лицо Саши Истомина.
То, что он принимал за песчаный холмик, было телом убитого бойца Истомина, лучшего бойца в отделении.
Злые слёзы обожгли Новикову глаза. Не помня себя от гнева и боли, пронзившей его, бросился к «дегтярю», забыв об опасности, обеими руками схватился за горячий ствол — будто единственно в пулемете заключалось спасение — и, брошенный на землю мстительной яростью, припал к оружию в нескольких шагах от Истомина. И это его в самом деле спасло; в ту секунду, когда, схватив пулемет, он распластался на земле, рой пуль впился в содрогнувшееся от ударов бездыханное тело погибшего.
— Сволочи!.. Гады, мёртвого бьёте!.. Мёртвого… — кричал, не слыша своего голоса за шитьём пулёмета.
Весь окружающий мир для него замкнулся сейчас на убитом товарище и нескольких вражеских солдатах, убивших его.
И когда, не в силах улежать, движимый ненавистью, поднялся и побежал с пулемётом наперевес, на ходу стреляя по сорвавшимся с места солдатам в серо-зелёных мундирах с закатанными до локтей рукавами, он увидел Миронюка, тоже стрелявшего на бегу, — это его нисколько не удивило.
— Бей их, Терентий! — заорал он. — Бей гадов!
Враги, отстреливаясь, повернули обратно, к границе, все трое разом — перепрыгнули через траншею как раз в том месте, где должен был находиться Лабойко.
Сгоряча Новиков не сообразил, что немцев осталось ровно наполовину меньше, чем было до недавней минуты, когда он обнаружил мёртвым Сашу Истомина. Он видел трёх живых, бил по ним, волнуясь, не попадал, и в нём клокотало возмущение — что ж он там мух ловит, этот Лабойко, чёрт его побери!
Он едва не задохнулся от возмущения, когда, обогнув раскидистый, в розовом цвету куст шиповника, чуть ли не наткнулся на своего бойца — упрятавшись в траншею по грудь, Лабойко преспокойно наблюдал за удиравшими пехотинцами.
— Труса празднуешь! — закричал Новиков в гневе. — Бей их, стреляй, Лабойко! Бей, тебе говорят!..
Движимый негодованием, Новиков перепрыгнул через траншею, подбежал к Лабойко, чтобы выдать ему по заслугам, и откачнулся назад, ощутив в груди пустоту и облившись холодным потом: Яков был мёртв. Засыпанный по грудь, простоволосый, он неподвижными глазами уставился в задымлённую даль за рекой, и ветер трепал ему волосы.
Новиков на мгновение оцепенел. Не хотел верить глазам. Ведь был, был. Вчера ещё тренькал на балалайке, спокойный, улыбчивый. Неужели это было вчера?
Он растерянно огляделся по сторонам и увидел Терентия, вслед за ним перемахнувшего через траншею. Миронюк бежал к развилке троп, преследуя убегающих и стреляя по ним навскидку, как бьют по зверю. Он всегда был метким стрелком, Миронюк, и сейчас ещё раз подтвердил это, сделав но бегущему впереди остальных низкорослому солдату единственный выстрел и сбив его с ног.
— Так его! — заорал Новиков. — Дай им жизни, Терентий, дай… — захлебнулся в крике. И охнул.
На пути Миронюка вспыхнули тёмные тучки минных разрывов, вздыбилась земля высоченным черным фонтаном и накрыла Терентия.
Влекомый отчаянием, не дожидаясь, пока осядет чёрное облако и развеется дым, Новиков устремился к гуще опадающей почвы, к развилке троп, где несколькими секундами раньше накрыло Миронюка и где снова рвануло со страшной силой и разбросало осколки, провизжавшие так близко, что зазвенело в ушах.
«Четвёртый!» — мысленно повторил Новиков непонятно к чему возникшее слово, ловя пересохшим ртом продымленный, смердящий взрывчаткой воздух. Он не сознавал смысла произносимого, не ощущал взаимосвязи между ним и тем, что случилось за несколько часов от начала войны.
Сейчас все помыслы его сводились к единственной, узко служебной задаче — выстоять до подхода своих. Одному не выдюжить — это он отчетливо понимал и невольно поискал глазами Быкалюка. Он увидел его всё на том же месте — за валуном. Впереди Ивана, на большом удалении от него, вспухали взрывы мин, и там, где они рвались, не было ни траншей, ни мало-мальских укреплений, ни пограничников.
«Пуляют в белый свет», — подумал Новиков со злорадством.
Тому, что Быкалюк жив, он обрадовался несказанно и, надеясь на чудо, стал звать Миронюка осипшим от крика натруженным голосом:
— Э-эй, Терентий!.. Миронюк, слышишь? Э-эй…
Крик глохнул в грохочущем, пронизанном металлом чадящем дыму.
Он снова звал, достигнув места, где накрыло Терентия, но Терентий не откликался.
Тогда он обогнул небольшую воронку, пробежал по инерции пару метров, обернулся назад, невольно ощутив тошноту от страха перед тем, что ему предстояло увидеть, и зажмурил глаза. Длилось это считанные мгновенья. Он ступил шаг обратно и вдруг услышал пронзительный, режущий слух звук летящей мины, всем своим существом безошибочно чувствуя — та самая, роковая.
Его ослепило и, оторвав от земли жестким, прожигающим ударом в грудь и плечо, бросило навзничь, приподняло и снова швырнуло о что-то твёрдое. Затем свет померк.
15
«…После того как фашисты открыли пулеметный огонь трассирующими по заставе и тут же вдарила артиллерия прямой наводкой от монастыря, не болын як з 350–400 м, мы одразу ж заняли круговую оборону. Застава и комендатура зачали гореть, стали груды кирпича и смород згара, дыхать нема чем. Но мы не давали фашисту переправляться через Буг, долбали з оружия по ихнему понтону… Боем руководил старший политрук Елистратов, з комендатуры. Вот уж настоящий герой! Тройчы раненный, он с рассвета до самой смерти руководил боем, расстреливали мы фашистов, а с носилок он подавал команды. Четвёртый раз миной его убило…
…Новикова я увидел в одиннадцать часов. Когда я подбежал, он был без сознания. Осколки мины вдарили ему в грудь и в плечо. Я его перевязал, как умел. Он очнулся, попросил пить. Ну, я его напоил з чайника, набил два полных диска патронов к ручному пулемёту, пообещал скоро вернуться и прыбег в комендатуру, где шёл бой. На границе защитников осталось мало. Одним словом, бились мы в окружении… Потом меня самого тяжело ранило. Это уже случилось часов в семь вечера, когда старший политрук Елистратов послал меня прикрывать отход… Почти все полегли. Остались раненые. Выносить Новикова не было кому…»
(Свидетельство И. Быкалюка)От начала войны прошло восемь часов. Стоял жаркий полдень. Немилосердно жгло солнце, пожухла трава, кусты привяли. На границе на время притихло, редкие выстрелы рвали прокаленный солнцем, сияющий воздух. На станции Дубица ревел паровоз, и где-то за станцией, в глубине, куда откатился бой, грохотало, рвалось, клубился дым и тревожно гремели колокола.
Может, не было колокольного звона, возможно, он Новикову лишь померещился. Сквозь гаснущее сознание пробилась четкая мысль — надо похоронить ребят. Обязательно надо похоронить. Такая жара стоит!
— Пить, — простонал сквозь стиснутые зубы.
Кто-то, придерживавший его свободной рукой, другой поднес ко рту чайник.
— На, трохи попей, полегчает… Разожми зубы.
Он не мог расцепить намертво сжатые зубы, вода проливалась ему на пропотевшую гимнастерку, носик чайника вызванивал дробь на зубах.
— Ну, пей же, пей, младший сержант, — торопил тот, что поддерживал его за плечи и пробовал напоить. — Напейся, одразу полегшает… Давай, младший сержант, чуешь?.. Некогда мне туточка прохлаждаться. Чуешь, что на заставе робится!
В голове звенело, и, кроме колокольного звона, слух не принимал других звуков. Новиков чуть приоткрыл глаза, но солнце сильно по ним полоснуло, как лезвием.
— Пятый я, — прошептал немеющими губами. — Запомни, Иван, я — пятый. — Хотел сказал, что его тоже убило, но Быкалюк умудрился влить ему в рот немного воды.
— Видешь, полегшало, — обрадованно сказал Быкалюк. — Ещё?
— Пятый я, — повторил он.
— Не хочешь… Ну, добре, младший сержант, добре, что живой остался. Зараз тебе отнесу в тенек, а справимся, придем с хлопцами за тобой. Чуешь?
И эти слова он услышал и, кивнув головой, полетел в бездну.
Долго падал, в беспамятстве не ожидая удара, не страшась боли, потому что не способен был её ощутить — из всех знакомых ему ощущений сохранилось лишь чувство полета; остальное истаяло за границей сознания. Он летел, летел, скорость нарастала с забившей дыханье стремительностью — как при затяжном прыжке с нераскрытым парашютом, и замирало сердце, и казалось, полёту не будет конца, и он ловил потрескавшимися губами неповторимый живительный воздух синей высоты.
Но когда Быкалюк, пронеся его на руках, опустил на уцелевший островок зелёной прохладной травы под густой тенью дуба, он на несколько мгновений очнулся с радостным чувством: Иван приведет своих. Свои вернутся, и тогда ему не будет так мучительно одиноко в этом воющем, брызжущем смертью аду, свои ударят и погонят фашистов, погонят. Надо лишь потерпеть, покуда вернутся свои.
— Ну, бывай, младший сержант, — как сквозь вату услышал голос Быкалюка. — Про всякий случай «дехтярь» — вось он. А я побёг.
Достало сил нашарить у себя под боком успевший остыть пулемёт, пальцы коснулись металла и слегка его стиснули: здесь «дегтярь», при себе. Он успокоенно смежил веки, погрузился в небытие: ни прожигающие укусы слепней, ни невесть откуда налетевшие зелёные мухи — ничто не в состоянии было его пробудить. Где-то возле заставы рвались гранаты, слышались крики, но и это проходило мимо, не затрагивая слух и сознание.
«Скоро свои придут, — тихонько поклёвывало в мозгу, — придут и погонят. Ой, погонят!.. Ой, дадут!.. За всё и всех. За живых и погибших…»
Его снова подняло над землёй, и возвратилось чувство полёта. С высоты, из сияющей синевы, где заливались жаворонки, увидал далеко внизу бегущих хлопцев в зелёных фуражках с винтовками при примкнутых штыках, и слитное, перекатывающееся над прибрежными перелесками «ура!» заглушило пение жаворонков.
«Хлопцы, миленькие, давайте быстрее. Лупите гадов!.. Никому пощады!.. Отомстите. За Серегу Ведерникова. За Тимофея Миронюка и Яшу Лабойко, Сашу Истомина… Сейчас я помогу, вот „дягтяря“ достану…»
И стал спускаться на землю, мягко паря в воздухе, как на крыльях, распластавшись — непозволительно медленно. Дёрнул же чёрт раньше времени потянуть за вытяжное кольцо! С испугу, что ли?.. Как новичок. Будто первый прыжок совершаешь. Вот и болтайся теперь под куполом парашюта… Щербакова вон где! Парашют гасит. А ведь второй прыгала…
На лётном поле аэроклуба полно ребят из педучилища, своих, ждут приземления Новикова. Ждут и губы кривят, над нерешительностью посмеиваются, над поспешностью.
— Поспешность при ловле блох нужна, — крикнул кто-то с земли.
Кажется, это директор педучилища крикнул, Бирюков. И улыбнулся не без иронии.
Тяжкий вздох вырвался из груди. Внутри хлюпнуло и отдалось болью между лопаток и где-то у горла. Пальцы ощутили холодную сталь пулемёта… Какой там еще парашют и летное поле аэроклуба?!. Они были давно, «на гражданке». Пулемёт — это да. Надо помочь ребятам… Великое дело — пулемёт. Хлопцы вон уже близко. Не бегут — летят, злые, как черти. Во главе с Ивановым. И своё, третье, отделение в полном составе.
— Отделение, слушай мою команду!
Услышали и остановились под дубом, разгорячённые боем, горя нетерпением, чёрные от порохового дыма — Черненко, Ведерников, Лабойко, Миронюк, Истомин — все, все… Целые, живые… Кто сказал, что погибли?..
— В атаку!.. Вперёд!..
Рванулся изо всех сил, подхлестнутый ненавистью…
Жгучая острая боль насквозь пронзила его.
Лежал в одиночестве, боясь пошевелиться, чтобы не растревожить, не вернуть боль, от которой мутился рассудок. Значит, прежнее — всего-навсего горячечный бред: не было ни бойцов его отделения, ни атаки, и вызванные из прошлого прыжок с парашютом над летным полем аэроклуба, ребята из педучилища, директор Бирюков — тоже мираж.
А что существует реально? Ведь он ещё жив, дышит, и глаза его видят. Что видят глаза?.. Синее, в легких белых облаках бездонное небо — вот оно над головой между прорех в кроне дуба; жужжащие зеленые мухи — взлетают, когда он подергивает то щеками, то ртом, и снова нахально садятся, где им заблагорассудится; тихий плеск воды у подмытого берега…
Хотелось пить. Жажда становилась пыткой, а всего в десятке шагов от него, на бруствере траншеи, блестел под солнцем алюминиевый чайник с водой. Не одолеть десятка шагов. До смерти ближе, подумал с горькой иронией, и шершавым языком облизал сухие и горькие, как полынь, онемевшие губы.
И ещё реально существовал пулемёт — рядышком. И запасной диск, полный патронов, холодил затылок. Оружие не было плодом воображения — его оставил рассудительный Быкалюк.
Очень мучила жажда. Казалось, что внутри у него все ссохлось. Жажда и боль в груди доводили до исступления. Не было сил терпеть. Хоть ты криком кричи. Но голос пропал, исчез голос.
Стал мучительно вспоминать что-то очень важное для себя. Мозг, как никогда до этого, активно работал.
Напрягал мозг, перебирал в уме нескончаемо долгий сегодняшний день — самый долгий в году, перебирал шаг за шагом, час за часом — от первого залпа вражеской артиллерии до сей минуты, сортировал события, выделив из длинной цепи потопленную десантную лодку с вражескими солдатами, трёх сражённых из «дегтяря» немцев неподалёку от изгиба траншеи, не ощутив особой радости на душе.
Но всё, всё буквально было трётьестепенным. Сортировал и шёл дальше, мысленно повторяя отрезок пути вдоль траншеи. Снова увидел Яшу Лабойко, Истомина… Наверное, и над ними кружат зелёные мухи… Такое солнце!.. Кто похоронит погибших хлопцев?.. Некому. Подумал, что Яшу осталось дохоронить — ведь и так погребен по грудь в разрушенной снарядом траншее.
Жажда иссушала. На бруствере белел чайник с водой. Она, видно, успела нагреться. Пускай. Пускай бы хоть тёплый глоток. Сделал глотательное движение. Оно причинило боль.
По странной ассоциации перед мысленным взором появилась другая траншея, та, что рыли вчера, в субботу, на заставском дворе, неподалеку от командирских квартир… Рыли — это он помнит. И тоже время от времени прикладывались к чайнику с квасом…
Дальше мысль не пробилась — кисловатый запах хлебного кваса затмил всякие мысли. Дальше провал — память отказалась соединить разорванные половинки цепи.
В цепи столь нужных воспоминаний не хватало единственного звена.
Пришлось начать сначала, по порядку.
Рыли траншею и ждали приезда майора. Все до одного ждали. На этот счёт он ни на йоту не ошибался: кого-кого, а своих бойцов он отлично знал. Еще как волновались за отделенного. Но он притворялся спокойным, будто, кроме траншеи, не примечает вокруг себя ничего. А глаз фиксировал каждую мелочь.
Во второй раз оборвалась цепь размышлений — почудилась отрывистая фраза на чужом языке, кажется, на немецком… Он почувствовал ледышку под сердцем. Толкнулась и застряла между ребер… Ждал с замирающим сердцем… Всё-таки почудилось.
Исподволь возвратился к прошедшему дню, к субботе.
У квартир начальства молча играли дети. Не по-детски молча. Поодаль, обособленно стоял маленький аистёнок в белой панамке — Миша. Незагорелый, бледный мальчишечка в красных сандаликах.
Потом между Ведерниковым и Черненко затеялась перепалка. Из-за чего-то они повздорили… По какому поводу?.. Впрочем, к искомому стычка двух бойцов касательства не имела.
А что имело?..
Надо сначала: траншея… Перепалка. Нет, она — потом, перепалке предшествовало появление мальчика.
Конечно же, так! Аистёнок. Зяблик. Мишенька. Ну, вот же, вот! Как наяву, возник игравший в песке у траншеи грустный ребёнок. Маленький смешной человечек. Неужели погиб?!.
Мысль привела в содрогание. Забыл об осторожности, притронулся ладонью к груди, где от резкого движения запекло, как огнём. Ладонь стала мокрой — от крови. Чувствовал, как она непрестанно сочится сквозь бинт. Бинт! Откуда? Ах да, Быкалюк перевязал. Медленно отвёл руку назад, вытер ладонь о траву.
От боли мутился рассудок, темнело в глазах, и огромный, в три обхвата, дуб вместе с зелёным островком вдруг начал клониться к зияющей черной пропасти.
Новиков чудом удержался на краю бездны, вдруг услышав за изголовьем удары весёл о воду. Подумал: начинается бред. От реки принесло запах табака, сладковатый, некрепкий. Наверное, табачный дым — тоже бред.
Хлясь, хлясь, раздавались за изголовьем несильные удары вёсел. Хлясь, хлясь…
Потом к всплескам прибавились новые звуки: лязг металла, глухие удары, будто колотили по дереву, характерный визг поперечной пилы, отрывистые вскрики.
— Схожу с ума, — прошептал.
Он бы утвердился в устрашившей его мысли, но явственно услышал удар колотушки и последовавший за ним натруженный вскрик:
— Нох… Нох айн маль[8].
Немцы.
— Нох айн маль… Шлаг, Эрни, бальд миттаг эссен[9].
Немцы! Рядом! Страшнее того, что случилось, быть не могло. Из глубины мозга и простреленной груди пришёл не леденящий душу страх — вспыхнула ненависть. Не предполагал, что она способна приподнять его над смертью и сотворить невозможное — притушить огненную боль в ранах, вдохнуть силу в обескровленное тело…
От чрезмерных усилий люди и предметы в его заслезившихся глазах расплылись в бесформенное, многорукое, огромноголовое шумное существо, уродливое, как спрут. Оно то сжималось в узкой прорези прицела, то с изворотливостью ящерицы ускользало, и мушка оказывалась выше или ниже его.
Набрать в грудь побольше воздуха, задержать дыхание, выровнять мушку, затем медленно и плавно, не дергая, нажать на спусковой крючок пулемета — как учили. Как не однажды проверено.
Мозг чётко воспроизвел правила стрельбы. Но грудь не держала воздух: под бинтом булькало, хлюпало и пузырилось.
Прикрыл глаза, чтобы отдохнули от напряжения, — так нужно, когда их застилает слеза. Огромным усилием воли заставил себя спустя несколько секунд приоткрыть левый. С фотографической точностью сосчитал — шестеро. Двое забивали сваи, четверо остальных заводили понтон, последнюю секцию заводили.
16
«…Правда всегда правда, какая она ни есть. Я старый человек, верующий, выдумывать не хочу. Ваш воин не произносил громких слов. Умирал он трудно, но, однако же, достойно. Ещё до того, как его принесли в монастырь, где в полдень 22 июня находилось какое-то немецкое воинское подразделение или часть, кажется, во главе с майором, я лично слышал хвалебные слова в адрес вашего воина. Он отправил на тот свет много фашистовцев, и немецкий майор говорил во всеуслышание, что с такими воинами, как этот русский, он бы победил любого противника. Ещё я собственными ушами слышал, как майор, когда ему было велено выкатить против русского пушку, ответил, что не желает стать посмешищем…
Мы, обитатели монастыря, были свидетелями отправки трех специальных групп фашистовцев для захвата сражающегося советского пограничника, но ни одна из них не вернулась.
На второй день войны майор отправил четвертую группу и повелел доставить к нему советского пограничника… Он был очень плох: бредил, в горячке звал мать, отдавал солдатам команды, выкрикивал бессвязные слова. Я запомнил: „Не дайте… понтон…“ О понтоне вспоминал несколько раз… К нему ненадолго возвращалось сознание, и тогда он что-то говорил отцу Дормидонту, наверное, назвал себя, потому что святой отец стал звать его по имени — Алексей… Много фашистовцев собралось посмотреть на вашего воина. „Это тот, с дуба?“ — спрашивали они. „Тот самый“, — отвечали пришедшие раньше… Мы все были поражены, когда майор, дождавшись кончины пограничника, сказал своим солдатам: „Таких мужественных русских солдат на вашем пути будет много. Лёгкой победы не ждите“. И велел похоронить его с отданием положенных почестей…»
(Свидетельство Е. Горбовца)Сознание оставалось ясным и четким — нельзя медлить, промахнуться тоже нельзя. Сначала следует ударить по двум, забивающим сваи, затем по четверым на понтоне — этим деваться некуда: на понтоне далеко не ускачешь.
Осталось нажать на спусковой крючок.
Тра-та-та!.. Тра-та-та-та!..
Один из двоих побежал, не выпуская из рук деревянную колотушку и размахивая ею над головой, будто отбивался от пуль. Куда делся второй — не заметил.
Тра-та-та!.. Тра-та-та!
Убегающий упал, но, мгновенно вскочив и далеко отшвырнув колотушку, кинулся наутек, смешно загребая руками и валясь вперёд головой.
По тем, на понтоне, расстрелял в горячке весь диск, до последнего патрона — нажимал и нажимал на гашетку, покуда не раздался глухой щелчок.
Лежал обессиленный, перебарывая слабость, стараясь не шевелиться, чтобы не потревожить свирепую боль, которая оставляла его на короткое время, неизменно возвращалась к нему и набрасывалась с такой лютой жестокостью, что казалось — конец, жизнь навсегда покидает измученное тело, и вязкая толща небытия пеленает его по рукам и ногам, погружая в вечную тишину. С ним однажды случилось такое, когда, спасая провалившуюся под лед школьную подружку, едва при этом сам не погиб.
До него вдруг донесся утробный крик. Кричали неподалеку, с противоположного берега:
— Эрни, Эрни… Хильфе. Их штэрбе, Эрнест. Майн гот, их ферблюте[10].
Улыбнулся, разобрав каждое слово — не зря, выходит, прилежно учил немецкий в школе и в педучилище.
Чужая боль и чужой крик о помощи душу не тронули, они были ему безразличны. Но при всем равнодушии, с каким слух внимал мольбам раненого врага на той стороне, не вызывая ни радости, ни печали, крик возвратил в реальный мир звуков, без которых он оказывался по ту сторону жизни.
Вокруг заставы шёл бой, оттуда слышались стрельба, разрывы мин и гранат. Особенно гулко звучали выстрелы из коротких кавалерийских карабинов.
Прислушиваясь к ним, Новиков вспомнил давнее желание попасть в кавалерию, в сабельное отделение. Ещё мальчишкой страстно любил лошадей, для него не существовало большего наслаждения, чем ездить в ночное на неоседланной каурой кобылке, поить ее в речке, не слезая с тощей спины, а затем, колотя босыми пятками по выступающим ребрам, нестись вскачь по пыльной дороге, мня себя знаменитым Чапаевым на лихом скакуне…
На том берегу раненый время от времени, будто очнувшись, снова звал на помощь того же Эрни, и крик его с каждым разом становился слабее и тише. Новиков еле различал его голос, тонувший в грохоте возобновившейся неподалеку от дуба беспорядочной перестрелки. Однако и она вдруг стала слабеть.
Невесть откуда появился Зяблик в красной панамке и белых сандаликах, разрумянившийся, с горящими, возбужденными глазками.
«Когда он успел поменять сандалики? — удивленно подумал Новиков, обрадовавшись появлению мальчика. — Сандалики-то у него на ногах были красные».
— Дядя, можно мне это? — спросил мальчик, остановившись напротив.
— Что, «это»?
— Из чайника.
— Квасу?
— Одну капельку, дядя. Я только капельку. Не бойтесь, всю не выпью. Там вода, а не квас. Я знаю. Квас был вчера, дядя. Можно?
— Пей, Зяблик, пей сколько хочешь…
Мальчишка жадно глотал, торопясь, разливал драгоценную влагу. У него булькало в горлышке. А рядом каурая со свистом всасывала в себя холодную речную воду, отфыркиваясь и брызгая во все стороны. И ещё, слышно, бежали к реке, топали сапожищами люди — всем некогда. И. самому не было резона задерживаться. Пнул кобылёнку под ребристые бока, хлопнул рукой по загривку.
— Пошла, ну!..
Каурая понеслась вскачь.
Очнулся от острой боли в груди. Перед глазами мельтешили ослепительно яркие искры, как горящие снежинки в морозный солнечный день; вихрились черные и оранжевые круги, острая боль прошила и ударила под лопатку, хлынула по всему телу, в голове набатно зазвонило, как на пожар, множество звуков толкнулось в уши, отдалось в висках упругими тычками крови.
«Откуда ей быть, крови-то?» — удивился, напрягшись. Знал: много её вытекло и продолжает сочиться. Потому и слабость, и звон, и горячечный бред, и холод.
Боль вновь сконцентрировалась в груди и левом плече; убавился хаос звуков, в висках ослабели толчки.
Тогда он снова совершенно ясно услышал немецкую речь, и всё повторилось сначала: окутанный ненавистью, подожженный ею, собрал остатки сил, сменил диск в пулемете, втиснул приклад в плечо, но, пока искал цель и, найдя ее, умещал в узкую прорезь, десантная лодка вышла из зоны обстрела.
Понял, что прозевал. Однако от этого в отчаянье не пришел. Только бы остаться при ясном сознании, думал, полегоньку тревожа левую руку, чтобы не потерять чувства боли. Зажмурил веки — надо отдохнуть глазам, — мысленно воспроизвёл в памяти профиль отмели… Немцы постараются зайти сбоку, от камышей.
«Вот где я вас встречу, — подумал и улыбнулся. Он отлично знал свой участок. — Тут и останетесь. Навсегда».
В третий раз его пытались взять перед вечером. Он был в полном сознании. Предзакатные краски оранжево ложились на верхушки дальнего сосняка и монастырские купола, ближе к реке оранжевый цвет густел, брался темным и разливался по воде расплавленной бронзой.
До полной темноты осталось часа полтора, прикинул в уме, фиксируя в зрительной памяти смену красок и движение времени. В голову не пришло, что в его положении ночь ничего не изменит — у заставы раздавались одиночные выстрелы, но они теперь не вселяли надежды, как прежде, когда там гремел бой.
Он остался один.
Один, окружённый трупами в серо-зелёных мундирах.
Убитые лежали на отмели, у камышей и дальше напротив дуба, неподалеку от понтона, ещё несколько остались вне поля зрения, в мертвой зоне. Он не считал ни тех, ни других. Зачем ему знать, сколько их уложил, не всё ли равно?..
Донимал холод.
Напитавшиеся кровью гимнастерка и брюки облепили тело леденящим бинтом. Лишь в груди и в плече продолжало по-прежнему жечь. Он подумал, что надо забраться внутрь дуба, в дупло, иначе до рассвета не продержаться.
Полз осторожно, сантиметр за сантиметром втискивал в сумеречную темноту отяжелевшее, словно налитое свинцом, непослушное тело, не слыша и не видя за дубовой толщей крадущихся немцев — после двух неудачных вылазок они стали осторожны, не шли напролом.
В дупле терпко пахло пересохшим дубовым листом, корой и прелью — как спиртом. Плотное тепло на мгновенье затуманило мозг, расслабило напряженное тело, и оно, готовое провалиться в черную пропасть, обвяло; он уронил голову, больно ударился виском о приклад пулемёта. И вдруг встрепенулся от звука разорвавшихся поблизости гранат. Голоса немцев услышал потом; сначала по дубу глухо застучали осколки, лишь по счастливой случайности ни один не угодил в широкую — больше чем в полметра — щель рассеченного молнией комля, в которой он растянулся, выставив в сторону реки пулемет.
Осколков он не страшился. Пугали сквозные щели: если немцы зайдут с тыла, тогда — конец, с тыла он беззащитен.
Немцы не торопились.
— Эй, русский, не валяй дурака, сдавайся.
Из чрева старого дуба не удалось разобрать, с какой стороны подходят немцы, во всяком случае, не с тыла, подумал несколько успокоенный.
— Балда! Всё равно никуда не денешься, прокричал тот же голос. Почти без акцента. — Сдавайся, балда. Тебе же лучше.
Не с тыла. Надо молчать.
— Эй, русский! Ты слышишь?..
Молчал, прислушиваясь к шорохам — ползли, приближались. В голове мутилось, и нестерпимо болели раны. На доли мгновения мозг отключался. Тогда становилось тихо, по-кладбищенски беззвучно. И все равно не мог определить, где враги. Моментами приходила мысль о скорой смерти и не пугала. Сосредоточиться на ней мешали голоса немцев.
— Герр обер-лейтенант, эр ист нихт да. Эр ист вэк геганген[11].
— Шау нох маль, ду камель[12].
— Шон алее гепрюфт, герр обер-лейтенант, эр ист нихт да[13].
— Дан гей форан. Ду хает гепрюфт унд гей форне[14].
— Цу бефель, герр обер-лейтенант[15].
— Форвертс, камель[16].
— Я, я…[17].
Он не торопился, этот верблюд с хрипловатым осевшим голосом. Со страху он так сипел? Скорее всего, не был уверен в себе, опасался подвоха. Верблюд?.. Кличка или фамилия?..
От реки над обрывом возникла каска. Приподнялась и резко, как от удара, нырнула вниз, чтобы через пару секунд снова появиться на том же месте.
— Русский! Эй, русский! — крикнули снизу, от воды.
«Вот вы где! — почти обрадовался Новиков. — Ну, давайте все гамузом. Сюда давайте. Тогда по одному бить вас не стану, силёнок не хватит по одному… Лишь бы сознание не покинуло… Скорее, Верблюд, тащишься, как три дня хлеба не ел…»
…Ночь миновала. Ночью немцы не приходили — после трёх вылазок у них поубавилось прыти.
…Убей не помнил, какими судьбами оказался в Грязнухе вместе со школьной подружкой Ниной Воздуховой. Ввалились в дом, иззябшие — зуб на зуб не попадал, со свернутой в узел обледеневшей на лютом морозном ветру одежонке, сели на лавку, до смерти напугав маму.
— Сынок!.. Девонька!.. Что случилось? Где вас угораздило?
Через силу улыбнулся, едва раздвинув настывшие губы:
— Пустяки, мама. Маленько окупнулись в речке. Ты нам просуши одежку-то. Вечером выступать будем. Артисты мы. Самодеятельность. Понимаешь?.. Зи ферштеен?
— Непутёвый. Выдрать вас некому обоих-то, — притворно сердилась мама. — Придёт отец, он те задаст. Ему-то правду скажешь…
Не сказал, что пришлось Нинку спасать, когда провалились на неокрепшем льду.
Разохалась, засуетилась мать, быстренько сняла с себя ватную телогрейку, закутала в неё Нинку, повесила сушить её мокрую одежонку, затем достала из сундука отцову праздничную одевку.
— На-кось, смени, — приказала.
Носилась по избе, готовя завар из липового цвета с мёдом, вздула самовар, словно не беда с ребятами приключилась, а праздник нагрянул в дом.
А он уснул рядом с Нинкой — сморило обоих прямо на лавке. Потом никак не мог взять в толк, почему оказался на тёплой печи, в сухом зное.
Ноги зябли. Ужасно зябли ноги.
— Сынок, Лёшенька!.. Разоспался, гляди, как заправский мужик после пахоты… Вставай, родимый, поднимись-ка, чайку испей… Маненечко перевяжу тебя, поменяю бинты.
— Ну что ты, мама! Выдумываешь. Каки таки бинты?
— Гляди, кровищи-то!.. Эко же тебя… Ну, Лёшенька.
— Холодно, мать. Лучше меня укрой. Не надо меня перевязывать. Целый я.
— Ах, горе ты моё! Ах, Лёшенька…
Опять бред. Голова мутится. А ногам зябко — мерзнут пальцы, заледенели ступни, спина как не своя — отнимается спина, хоть ты плачь, хоть криком кричи. Пришла бы какая живая душа, своя, близкая, чтобы по-русски промолвила пару словечек.
— Лёшка, слышь… Младший сержант Новиков, стройте отделение на боевой расчёт!.. Живо! Нашли время разлеживаться в теньке…
Верно ведь: пришло время боевого расчёта, ребята ждут не дождутся, им недосуг разводить тары-бары, покуда отделенный на травке-муравке по-барски манежится — бой идёт. Старший лейтенант Иванов не спеша к строю подходит…
…Какой силой его подняло над рекою, над лесами в самое небо, под солнце?.. Солнце било прямо в глаза, ослепительно яркое и горячее, но тело, схваченное ознобом, не успело ещё отогреться, ощущая леденящий холод и легкость. Тело долго парило над далёкой землей, то поднимаясь от лёгкого взмаха рук, то опускаясь пониже. С высоты удивительно ясно и четко вырисовывались строения, предметы и даже крохотные фигурки людей. Иногда землю закрывали набегавшие облака, но, легкие, летние, они быстро уносились в затканную маревом даль, и внизу обнажалась знакомая панорама Прибужья: близлежащие к заставе деревеньки и городки, железнодорожная станция Дубица, река, дороги и тропы. А вон и ребята в зеленых фуражках. Бегут парни к реке, размахивая оружием; он узнал бойцов своего отделения — Ведерникова, Черненко, Миронюка, Красноперова… Вон и Лабойко бежит, нахрамывая и кособочась. С чего бы это?.. Ранен Яков. Потому и отстал… Надо Лабойке помочь. Трудно ему. Конечно, помочь.
— Погоди, Яша, — крикнул вниз и стал опускаться с высоты. — Погоди, «дегтяря» прихвачу…
При нём оставалось теперь два пустых диска, онемевший «дегтярь», много стреляных гильз. И ничтожно мало крови в зябнущем теле. Впрочем, минуты просветления с каждым разом становились короче, и когда они наступали, он остро ощущал холод, жажду и боль.
…В полдень к нему пришел Зяблик. В зеленой фуражке, сбитой почти на затылок, с автоматом через плечо и огромным глиняным жбаном, с которого скатывались капли росы.
— Это вам, дядя. Пейте, сколько хотите. Пейте, дядя. Там много. А не хватит, ещё принесу.
Хотел спросить, как умудрился, крохотный, дотащить такую тяжесть — полный жбан холодного квасу, хотел, да не в силах был оторваться от горлышка: пил, пил, а утолить жажду не удавалось. Будто не в себя лил хлебный квас, приготовленный заставским поваром. Влага пощипывала язык, холодила гортань, а Зяблик изумлённо глядел на ненасытного дядьку синими, как небо, глазенками, не отводя взора, не мигая, в упор… Глаза под немецкой каской меняли цвет и выражение, двоились и троились каски: множество глаз смотрело теперь на него, беспомощно распростёртого, сверху вниз…
— Зяблик… Мишка, — позвал он мальчика. — Где ты, Зяблик? Дай ещё попить…
Зяблик молчал. Окликнул проходившую мимо мать, но мама даже не оглянулась. Все молчали. Как сговорились…
В недоумении увидел склоненные над собой бородатые лица, чужие, непривычные. И одеяние странное: черные рясы, чёрные наглавные шапочки. А на своей груди — свежие бинты с проступившими пятнами крови.
— Где я? — внятно спросил.
— У друзей, сын мой. В православном монастыре. Ты ведь православный?
— Пить.
— Вас хат эр гезагт[18]?
— Просит воды, герр майор.
— Эр золь нихт[19].
— Совсем немного воды. Разрешите, герр майор
— Немного, не возражает.
— Эр золь нихт.
Сознание медленно возвращалось к нему — как будто мальчик выныривал со дна глубокой ледяной реки сквозь мутную зеленую толщу к солнечным бликам на гранях быстро исчезающих волн. И казалось, что кровь вот-вот вскипит в мозгу, что воздух прорвет его уставшие легкие, что перехваченные судорогой жилы на ногах сейчас лопнут от неимоверного напряжения, что никогда, да, никогда ему больше не подставить головы под палящее июньское солнце, не слышать зеленого шума соснового бора, простиравшегося где-то там, выше воды, не смотреть в глаза любимой — никогда, ничего.
Но он вынырнул.
Тускло блестели наперсные кресты перевязывавших его монахов, шелестела лениво раскачивающаяся листва яблони, и лёгкий дым монастырской кухни шел в начавшее подниматься полуденное небо.
— Исповедуйся, сынок, — вдруг услышал он, но не сразу понял, что слова обращены к нему. — Облегчи душу.
— Воды. Пить.
— Нельзя тебе пить.
— Эс шадет им шон нихтс[20].
— Эр ист айн мутигер Кригер. Вен эс майнен зольдатен цуфален бефиль ист, виль их, дас зи кемпфен унд штэрбен ви эр. Юберзетцен зи, хайлигер Фатер[21].
Тело напряглось, как после неожиданного удара, он рванулся с холщовых носилок и, падая на рыхлую землю окопанной яблони, успел увидеть и сказавших эти слова офицеров, и немецких солдат у них за спиной. Сильнее жуткой боли, заталкивавшей его снова в зеленую стылую муть, было не сознание, что так неожиданно свалился на него плен, не собственное бессилие, даже не ярость, не находящая выхода, а чувство, охватившее его, когда он заметил среди немецких солдат, окруживших носилки, почти мальчика с засученными по локоть рукавами, со сдвинутой на затылок каской, который стоял, ел зеленое яблоко, улыбался и смотрел на него, как на муравья, которого только что притоптал из любопытства сапогом, и сейчас с нетерпением и откровенным интересом наблюдал, как тот выбирается из беды. Его снова положили на носилки.
— Больно мне, — проговорил он тихо. — Очень больно.
— Потерпи сынок.
Но вдруг его приподняло над носилками и монастырскими куполами, понесло в нагретый полуденным солнцем сияющий воздух.
Он заскользил над истерзанным пограничьем и снова увидел изрытый снарядами берег реки, развороченные траншеи и сгоревшие здания военного городка, груды развалин и вывороченную с корнем старую яблоню посреди двора. Взглядом искал и не находил живой души.
На пепелище хозяйничало молчаливое воронье. Среди мёртвых защитников пограничной заставы метались чёрные птицы, наполняя свистом крыльев безлюдную пустоту.
— Ребята! — позвал он в надежде, что хоть кто-нибудь да откликнется. — Эй, ребята, слышите?..
Молчание отдалось в груди обжигающей болью.
То была его последняя боль.
Он скользил в поднебесье и оттуда, из прозрачной лазури, звал и звал своих хлопцев, моля хоть одного из них подняться с перепаханной металлом и сдобренной кровью земли.
— Ведерников! Лабойко, Миронюк, Черненко, — закричал он изо всех сил. — Ну, что же вы?..
И вдруг увидел их, бегущих к реке, где вражеские сапёры в серо-зелёных мундирах кончали сборку понтона.
— Сюда, ко мне! — крикнул он так, что дыхания хватило только на эту короткую фразу. — Быстрее сюда, — звал он их. — Ну побыстрее!..
То был его последний зов.
Примечания
1
Господа солдаты, я обязан сегодня вернуться!.. Сегодня обязан вернуться (польск.).
(обратно)2
Не надо стрелять. Не надо (польск.).
(обратно)3
Капрал! Мне нельзя уходить далеко. Я должен возвратиться домой. Сегодня должен вернуться (польск.).
(обратно)4
Вернер! Толстый боров, хватай его. Надо уходить (нем.).
(обратно)5
Скрытый наблюдательный пункт.
(обратно)6
Ещё три часа… Как долго!
(обратно)7
Заткнись, болван! (нем.).
(обратно)8
Ещё… Ещё раз (нем.).
(обратно)9
Ещё раз… Лупи, Эрни, скоро обед (нем.).
(обратно)10
Эрни, Эрни… Помоги. Я умираю, Эрнест. Бог мой, я истекаю кровью (нем.).
(обратно)11
Обер-лейтенант, здесь его нет. Ушёл (нем.).
(обратно)12
Посмотри ещё раз, верблюд (нем.).
(обратно)13
Я хорошо смотрел, обер-лейтенант. Здесь нет его (нем.).
(обратно)14
Тогда иди первым. Ты смотрел, ты иди первым (нем.).
(обратно)15
Слушаюсь, обер-лейтенант (нем.).
(обратно)16
Вперёд, верблюд (нем.).
(обратно)17
Да, да… (нем.).
(обратно)18
Что он сказал? (нем.).
(обратно)19
Нельзя ему (нем.).
(обратно)20
Теперь ему ничего не повредит (нем.).
(обратно)21
Он мужественный воин. Если моим солдатам суждено погибнуть, я хочу, чтобы они дрались и умирали, как он. Переведите, святой отец (нем.).
(обратно)


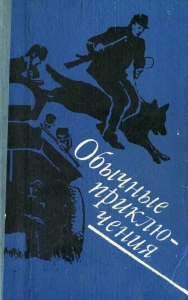

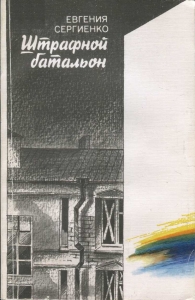





Комментарии к книге «Последний зов», Вениамин Семенович Рудов
Всего 0 комментариев