Хуберт Шрайнер РОКОВОЙ 1945 ГОД — МОЙ ПОБЕГ ИЗ РУССКОГО ПЛЕНА (Доклад от 31 июля 1975 года)
Май 1945 года — пушки в Германском рейхе начинают умолкать. В последней сводке вермахта (9 мая 1945 года) говорится:
«Заслугам и жертвам германских солдат на земле, в небесах и на море не сможет отказать в уважении и противник. Поэтому каждый солдат может с достоинством и гордостью сложить оружие и в самые тяжелые часы нашей истории храбро и уверенно приняться за работу во имя вечной жизни нашего народа. В этот тяжелый час вермахт отдает дань памяти своим павшим от рук врага соратникам. Павшие обязывают нас к безусловной верности, послушанию и дисциплине ради кровоточащего из бесчисленных ран Отечества».
Однако, для многих солдат вермахта и Ваффен СС каждодневная борьба за выживание не прекратилась. Их будущее оставалось совершенно неясным. Придется ли им, вместе с массами военнопленных в серых солдатских шинелях, бесконечными колоннами брести на восток? Страдать от голода и непогоды в лагерях западных союзников или же пробиваться в родные края, к своим близким? Хаос и необеспеченность существования, характерные для весенних и летних месяцев рокового 1945 года очень по-разному сказались на биографиях германских солдат. Разумеется, солдаты, в первую очередь, стремились избежать плена в России — стране, в которой все еще господствует их мировоззренческий противник № 1, в стране, которой война нанесла бесчисленные раны. Именно Россия, а не западные союзники, вынесла на своих плечах основное бремя войны и была, в первую очередь, ответственна за победу над Германским рейхом. В лице Красной Армии вермахт и Ваффен СС столкнулись с противником, который, после многочисленных тяжелых поражений, понесенных им в начале войны, сумел, благодаря огромным усилиям, направленным на восстановление и реорганизацию своих вооруженных сил, не только стать равноценным германской армии в военном отношении, но и проникнуться столь же высоким боевым духом.
Жертвы, людские и материальные потери, понесенные русскими, а кроме того — недостойное, бесчеловечное обращение немцев с пленными красноармейцами, равнодушное отношение служб вермахта к голодной смерти русских военнопленных позволяли ожидать актов мести и принятия беспощадных мер компенсации причиненного русским ущерба сразу же после окончания войны. Не может быть никаких сомнений в том, что обращение немцев с русскими военнопленными было военным преступлением, однако в то же время нельзя не упомянуть и о том, что на раннем этапе войны сдавались или попадали в плен целые подразделения Красной Армии, вследствие чего обеспечение столь больших масс военнопленных средствами к существованию очень быстро вышло за рамки возможностей службы снабжения вермахта. К тому же немалая часть русских, настроенных враждебно к большевизму, приняла решение перейти на службу в вермахт и Ваффен СС в качестве солдат, сотрудников оккупационных властей или же добровольных помощников. Таким путем многим русским солдатам удалось избежать судьбы многих своих товарищей, оставшихся в лагерях военнопленных.
Солдаты Русской Освободительной Армии (РОА).
Плакат РОА с российским флагом и свастикой.
Вернемся, однако, к роковому 1945 году и к его оценке, характерной для послевоенного периода. Тот, кто вырос в Федеративной Республике Германии — «витрине Запада» и государстве, являющемся фактически сателлитом США, и вписался в западногерманское общество, хорошо помнит, что подавляющее большинство средств массовой информации, политических деятелей и представителей «общественности» этого государства придерживалось мнения, что акты мести, совершенные «русскими», угон ими германских военнопленных на «варварский» Восток и т. д. являлись, якобы, главным злом, обрушившимся на немцев летом 1945 года. А вот западные союзники, напротив, проявляли к ним мягкость и стремились, главным образом, к взаимопониманию с побежденными германскими солдатами. Разумеется, западные союзники не угоняли немецких солдат в плен в таком большом количестве, как это делали русские, и в западном плену немцам не приходилось десятки лет, в крайне суровых условиях, заниматься каторжным трудом. Тем не менее, утверждения о «мягкости» западных союзников — не что иное, как мифы, продиктованные исключительно политической конъюнктурой. Никто в ФРГ не упоминал о созданных американцами на лугах Рейнской области «лагерях голода и смерти», в которых, несмотря на всю освободительную риторику, совершались военные преступления, обойденных вниманием юристов и не искупленных до сих пор. Число германских солдат, обреченных на смерть от голода и болезней в этих лагерях, составляет многие тысячи, а возможно — даже сотни тысяч.
Одной из причин нежелания заниматься расследованием военных преступлений, совершенных западными союзниками, так же основательно, как и расследованием военных преступлений, совершенных русскими, являлась «холодная война» и лежавший в ее основе дуализм двух «сверхдержав» — СССР и США. Новая элита Федеративной Республики Германии стремилась к интеграции с Западом любой ценой — даже ценой утраты шанса на создание нейтрального объединенного германского государства как основы Центральной Европы. При этом многие, по сути своей, национально-консервативные круги ФРГ с их вполне понятным, но совершенно гипертрофированным антикоммунизмом сыграли роль «полезных идиотов» США, игнорируя противоречие между американским и традиционным для немцев представлением о государстве, обществе и культуре. Тем самым они способствовали экспансии «американского образа жизни» и подготовили почву для безудержной американизации немецкой народной культуры, никогда не достигавшей подобных масштабов в другом послевоенном германском государстве — ГДР. В ходе этого процесса, разумеется, дело не доходило до полного пресечения попыток расследования и преследования преступлений, совершенных в отношении германских солдат западными союзниками, однако они всегда оставались как бы в «тени» советских военных преступлений. Путем придания преступлениям западных союзников политически безобидного характера их значение в общественном сознании как бы сводилось на нет.
Данный упрек не следует расценивать ни как принципиальный оправдательный вердикт в адрес Красной Армии и советских оккупационных властей, ни как принципиальное обвинение в адрес западных союзников, но как попытку дифференцированного подхода к фактам обращения с германскими солдатами в плену у западных союзников и в русско-советском плену, с учетом всех аспектов этого обращения. Совершенно независимо от того, как мы относимся к началу или ходу войны, нам представляется необходимым показать тем поколениям, которые придут на смену нашему, что многие германские солдаты, которые, как и их враги, выполняли свой долг, действуя в соответствии с воинской этикой, были в 1945 году лишены всех прав и попросту превращены в жертвы победителей. Им пришлось пережить самое худшее из всего, что только можно себе представить. Нам надлежит почтить их память и назвать совершенные по отношению к ним преступления преступлениями, независимо от актуальной политической конъюнктуры.
Далее мы приводим рассказ о пережитом Хуберта Шрайнера. В его лице мы даем слово германскому солдату, которому летом 1945 года довелось пережить как страшные, так и счастливые минуты и который, в конце концов, сумел вернуться в лоно семьи.
«История, которую я хотел бы вам сегодня рассказать, произошла ровно тридцать лет тому назад, в период с 8 мая по 7 июня 1945 года. Речь в ней пойдет о моем бегстве из русского плена. Перед лицом жесточайшей нужды и безмерного горя, выпавших в ту пору на долю многих немцев, мне казалось, что не стоит рассказывать о превратностях моей солдатской судьбы. Но сегодня, когда сменилось целое поколение и эти события стали частью истории, человеческие аспекты и авантюрный характер того, что тогда приключилось со мной, представляются мне более важными и назидательными. Поэтому я счел необходимым и полезным рассказать вам о них. Другая причина, по которой я, друзья мои, не намерен более умалчивать об этой истории — это все возрастающее, с возрастом, стремление рассказать о пережитом, поделиться с другими собственным опытом, повествуя о том, что представляется тебе важным лично для себя.
С начала войны (я был призван в армию 26 августа 1939 года) и до капитуляции 8 мая 1945 года я прослужил в одной и той же части — сформированной в районе Амберга команде аэродромно-технического обеспечения. Мы обслуживали персонал боевых эскадрилий на всех фронтах, во Франции, Бельгии, Югославии. В конце войны нам пришлось отступить в южную Венгрию, откуда мы, в самый разгар строительства нового аэродрома, были передислоцированы в Австрию, в район Вена-Пёхларн, где нас и застала безоговорочная капитуляция. Там нам и был дан последний приказ по части.
Тот, кто, будучи солдатом, пережил 8 мая 1945 года, никогда не забудет то чувство унижения, то чувство постыдного бессилия, с которым он сдавал свое оружие, окончательно превращаясь в «объект». Еще вечером 8 мая мы, сохранив часть нашего автомобильного и конно-гужевого транспорта, направились в лагерь для интернированных Прагартен, расположенный в 20 километрах севернее г. Линца. Там в последующие дни были согнаны в открытое, лишенное всякой тени поле, примерно 16 000 солдат всех частей 6-й армии, представители самых разных родов войск, авиации, полиции и СС. Американцы герметически отгородили лагерь танками, расставленными с интервалом 50 метров, между которыми были расставлены часовые и ходили патрули. Беззащитные, страдая от воздействия погодных условий, вынужденные довольствоваться остатками взятого с собой провианта, мы с каждым днем все яснее осознавали всю беспросветность существования военнопленных. Когда у одного из наших товарищей случился нервный срыв и он, одетый только в брюки, побежал в направлении одного из танков, его пристрелили на месте. Старший по лагерю (бывший командир моей части) подал, по всей форме, жалобу американскому коменданту. «Великодушные» американцы ответили ему, что «не нуждаются в немецких извинениях».
Утром 13 мая нам приказали по громкоговорителю построиться в «коробки» по 500 человек, лицом в направлении Линца. Я, вместе с моим товарищем, которому особенно доверял (унтер-офицером Первой мировой войны), встал во 2-й ряд 2-й «коробки». Когда мы дошли до проселочной дороги, направление марша внезапно изменилось. Нас погнали уже не на юг, в направлении Линца, а на северо-запад, в направлении Прегартена. Там каждой «коробке» был придан новый конвой, состоявший из 6 русских кавалеристов. Американские конвоиры ушли, а нам сообщили по громкоговорителю, что мы отныне — русские военнопленные, что мы идем на Восток восстанавливать разрушенный Сталинград и что всякая попытка к бегству будет пресекаться силой оружия без предупреждения.
В последующие дни солнце палило невыносимо. Много дней нам не хватало воды. Наш провиант давно закончился. На третий день марша мы пришли в район г. Цветтля, где нам впервые за все время выдали на так называемый «баррас», то есть 2 фунта хлеба, на пятерых. Так мы и брели все дальше, чаще всего храня полное молчание. Тем не менее, я догадывался, что мой товарищ Мартин Кремер, сельский хозяин и краснодеревщик по профессии, шагавший рядом со мной, с таким же беспокойством и с такой же тоской в душе, как и я, думал о доме. Кроме того, он внимательно обдумывал наше положение. А это положение казалось совершенно безнадежным…
На привале конвоиры обыскали наши личные вещи. В ходе обыска в вещах одного солдата «Люфтваффе» был найден пистолет. Его тут же оттащили на обочину дороги и пристрелили. Кто не мог идти дальше или пытался присесть передохнуть на обочине, ликвидировался выстрелом в затылок. Поскольку среди согнанных в колонну безо всякого разбора военнопленных было немало пожилых и больных военнослужащих, выстрелы, уже в первые дни марша, раздавались очень часто.
21 мая, на девятый день марша, мы дотащились до района севернее г. Пресбурга (Братиславы). Рано утром, проходя через лес, мы дошли до трех больших прудов. Первая «коробка» не смогла устоять перед искушением прикоснуться к воде, напиться и оросить влагой кожу, и, несмотря на предупредительные выстрелы конвоиров (перемежавшиеся с выстрелами «на поражение»), бросилась к прудам. На звуки пальбы половина кавалеристов, конвоировавших нашу «коробку», поскакала вперед, чтобы принять участие в стрельбе по живым мишеням. Вследствие этого увеличились интервалы между нашими конвоирами. Справа от дороги — строевой лес и подлесок, охрана отвлеклась, конвой ослаблен… Мгновенно оценив сложившуюся выгодную для нас обстановку, я свернул на обочину, сделав вид, что собираюсь оправиться (дело обычное на марше), чтобы обезопасить себя как с фронта, так и с тыла. Я крикнул: «Бежим, сейчас или никогда»! Мартин Кремер последовал за мной, и мы мгновенно скрылись в лесу. Конвоиры вряд ли заметили бы наше внезапное исчезновение, если бы другие товарищи, поддавшись стадному чувству, не побежали бы следом за нами. Мы не успели убежать далеко, русские в любой момент могли появиться на опушке. Инстинктивно мы предоставили возможность бежать через подлесок тем, кто побежал вслед за нами, а сами, сделав крюк, преодолев несколько живых изгородей и кустов, время от времени прячась в мелколесье, вскарабкались вверх по каменистому склону, усеянному валунами. Над нашими головами в кронах деревьев просвистело несколько пуль, но были ли они предназначены именно нам, я не знаю. Лошади и русские не обладают собачьим нюхом и свойственной горным козам и сбежавшим из плена немецким солдатам способностью взбираться на горные кручи. К тому же русские нашли в подлеске более легкую добычу. В силу этих причин, мы вскоре почувствовали, что ушли от погони, и минут через 20 впервые позволили себя немного передохнуть. Звучавшие внизу под нами автоматные очереди не оставляли никаких сомнений относительно судьбы, постигшей наших товарищей, вознамерившихся бежать вместе с нами. Я заранее не договаривался с Мартином бежать, мы с ним не обсуждали никаких деталей. Но каждому из нас были известны все мысли другого, и мы были готовы действовать совместно, помогая друг другу во всем. Мы лишились защиты наших товарищей и могли отныне рассчитывать только на самих себя. Это была игра со смертью, и ставкой в этой игре была наша жизнь.
Малейшая неосторожность могла привести нас к гибели. Еще при расформировании нашей команды аэродромно-технического снабжения я прихватил несколько карт, спрятав их в моем авиаторском рюкзаке. Мы установили по карте наше местонахождение и маршрут, сразу осознав, какое расстояние и какие огромные трудности ожидают нас в пути. При помощи карт, карманных часов Мартина и нескольких созвездий на небе мы определяли ориентиры и направление наших ежедневных переходов. Поначалу мы строго придерживались железного правила — передвигаться только по ночам. Временами нам приходилось идти осторожно, как охотникам, опасающимся излишним шумом спугнуть дичь. Поначалу было сложно добывать пищу. Мы очень скоро поняли, что, несмотря на познания Мартина в области съедобных трав, лес и поле не способны прокормить весной и летом 2 голодных немецких солдат. Значит, нам придется просить пропитания у местного населения. Жители Австрии, но в первую очередь — «фольксдойчи» (этнические немцы), проживавшие в Чехии, помогали нам, как могли. Они делились с нами своими скудными запасами пищи, позволяли нам передохнуть, укрывшись в сарае, коровнике или конюшне. Постепенно мы стали позволять себе передвигаться в утренние часы, продолжая путь с наступлением сумерек. По-прежнему трудно было переправляться через реки. Мартин был небольшого роста (1 м 66 см), не умел плавать и потому он испытывал стойкое предубеждение к преодолению водных преград глубиной более 1 м 40 см. Особенно мне запомнилась река Влтава, которая текла прямо поперек линии нашего маршрута, с ее притоком Нижней Влтавой, оставшаяся в моей памяти гораздо менее симфонической, чем в известном музыкальном произведении Сметаны. Но, переправив предварительно на другой берег наши личные вещи, нам удалось, сделав несколько глотков воды из Влтавы, объединенными силами, переправить туда же и Мартина. Судя по карте, мы уже давно миновали широту Вены и приближались к г. Цветтлю. Если мы правильно считали дни, то наступило уже 26 мая, когда мы, около полудня, решили пересечь довольно плоскую, заросшую густым кустарником и мелколесьем низменность, за которой, как нам казалось, должна была располагаться деревня. Только мы собрались быстро перебежать через лежавшую перед нами дорогу, как из-за поворота неожиданно показался русский солдат на велосипеде. Мы быстро отползли от дороги в кусты и. внезапно очутились в центре русского бивуака. Конец мечте? Нет, только не сдаваться! Три конвоира привели нас в расположенный примерно в 3 км от бивуака дом, в котором, как мы разобрали из слов охраны, жил их комиссар.
Фрише Нерунг. Восточная Пруссия, май 1945 г. Германские солдаты сдаются в плен Красной Армии.
Солнце уже приближалось к зениту и нещадно жгло нас своими лучами, когда в дверях дома появился комиссар в землисто-коричневой форме, с золотой звездой на фуражке. На безупречном немецком языке (почти без акцента) он умозаключил: «Вы сбежали из транспорта военнопленных. Знаете ведь, что вас ожидает?»
Даже если бы мы этого не знали, нам все живо стало бы ясно. Он указал солдатам на примыкавшую к дому песчаную яму. Один из солдат принес лопату и крикнул нам: «Шталиноргель («Сталинский орган» — так немцы называли советский гвардейский реактивный миномет-«Катюшу» — прим. пер.)! Гитлер капут!»
Между тем, Мартин опустился на колени на ступенях лестницы, ведшей в дом, и начал тихо молиться. Он уже отрешился от всего земного. Я же решил попытаться сделать все, что в моих силах, чтобы избежать уготованной мне участи.
Сначала я показал штамп об увольнении в наших солдатских книжках (который сам проставил в них еще 8 мая). Когда это не помогло, я попытался заболтать русских и стал говорить о тоске по дому и семье, рассказывать о них, подчеркивая при этом, что мы, как и наши противники, всего лишь выполняли наш воинский долг. Я пытался объяснить, что война уже закончилась, говорил о спорте, охоте и о своем ремесле. Но комиссар остановил мой безудержный словесный поток сухим замечанием, то он не может позволить себе возвращением каждого сбежавшего военнопленного в транспорт, из которого он сбежал. Однако и я не сдавался. Решив совершить еще одну попытку спастись, я сделал вид, что засовываю бумажник с солдатской книжкой в задний брючный карман и намеренно уронил его на землю. Все члены нашей семьи — наследственные и заядлые фотографы-любители. Я всегда носил с собой качественные фотографии своих близких, которые теперь в большом количестве выпали из моего бумажника. Солдаты заинтересовались, подобрали их и отдали комиссару фотографию, на которой были запечатлены мои братья и я, музицирующие в квартете с фортепиано. Эта фотография вдруг развязала язык комиссару, дотоле весьма немногословному. Он спросил, что мы играем? Может быть, «Песню Хорста Веселя» или, может быть, Рихарда Вагнера? Я ответил, что в таком составе можно исполнять лишь одно произведение Вагнера — «Лист из альбома». Однако, камерная музыка, продолжал я, есть во всех странах, в том числе и в России. Он поинтересовался, известно ли мне, кто в России сочинял камерную музыку. Я буквально забросал его именами известных мне русских композиторов — Чайковского, Римского-Корсакова, Стравинского, Рахманинова, Мусоргского — и другими именами, пришедшими мне в голову. Я заверил его, что мы хорошо знаем и очень ценим русскую музыку.
Мои знания, сообщенные ему моим возбужденным, запинающимся голосом, явно произвели на него впечатление. Выражение его лица внезапно изменилось, и он сказал почти дружелюбным тоном:
«Сейчас проверим. Я задам Вам три вопроса. Если Вы дадите на них правильный ответ — значит, Вы мне не солгали, и я дам Вам шанс».
Сперва он спросил, могу ли я напеть ему мелодию «Вальса цветов» из балета Чайковского «Щелкунчик». Сюиту из «Щелкунчика» мы дома играли в четыре руки на фортепиано. Я сразу вспомнил мелодию и напел ее, насколько это позволяла моя сдавленная от волнения, пересохшая глотка.
Русский был доволен и задал свой второй вопрос — могу ли я напеть ему мелодию из балета Игоря Стравинского «Жар-птица». У нас дома была сюита из «Жар-птицы» на грампластинках, а финальная тема на рожке уже давно исполнялась в нашей части в качестве сигнала. Я вознамерился насвистеть эту тему, как часто делал это раньше. Однако внутреннее напряжение и нехватка слюны не позволили мне издать ни одного свистящего звука, и я попытался напеть эту тему своим хриплым голосом. Изданные мной звуки никак нельзя было счесть музыкальным шедевром, но были благосклонно приняты комиссаром.
Его третий вопрос оказался самым сложным. Он касался Первого концерта Чайковского для фортепиано с оркестром. Грампластинку с этим произведением брат положил мне на рождественский столик для подарков в 1938 году. Мы часто слушали фрагмент для фортепиано с этой пластинник. И вот теперь я, с мужеством отчаяния, стал выдавливать из себя мелодии, барабанить пальцами по воображаемой клавиатуре пианино, дирижируя воображаемым оркестром, исполняя роль рожков, щипковых инструментов и тарелок. Наконец комиссар, на которого я явно произвел большое впечатление, прекратил этот мрачно-комическое выступление, взяв меня за руку и втащив в дом. Я, в свою очередь, схватил за руку Мартина и втащил его за собой. Внутри комиссар запер входную дверь, указал мне на коридор и исчез в своей комнате. Мы же выбежали через заднюю дверь и, преодолев — то бегом, то ползком! — еще несколько километров, добежали до зарослей кустарника и спрятались там.
Благодаря объединяющей силе музыки, тоненькая ниточка, на которой висела наша жизнь, стала для нас спасительным канатом. С новым мужеством и с новой уверенностью в будущем, мы тем же вечером продолжили наш путь и даже нашли милосердных людей, оказавших нам гостеприимство, но одновременно вновь призвавших нас к осторожности.
В следующее соприкосновение с противником мы вошли лишь по пересечении демаркационной линии близ Каплица в Чехии, оказавшись на этот раз уже на территории, оккупированной американцами. Проявив инстинкт самосохранения и хитрость, присущие преследуемой дичи, мы убедили жующих резинку завоевателей отпустить нас с миром. Мы окончательно почувствовали себя в безопасности (хотя с учетом того, в описываемые дни происходило у нас в стране, до подлинной безопасности было еще далеко!), лишь очутившись на территории Баварии — чуть южнее Драйзесселя — в месте на стыке трех стран. На 16-й день нашей одиссеи мы наконец постучали в дверь дома Мартина в г. Венге. Его младшая дочь, отворившая дверь, не узнала отца и позвала мать.
Кобленц, 1945 г.: Молодой немецкий солдат идет по брошенному на землю национальному флагу в американский лагерь для военнопленных.
После двухдневного отдыха я раздобыл американское разрешение на пользование велосипедом и, огибая крупные населенные пункты, проехал последние 130 километров до своего родного дома на велосипеде. По прошествии еще двух дней моя мать смогла, наконец, заключить в объятия второго из своих четырех мальчиков, вернувшегося домой из плена.
Для меня же завершилось приключение, которое сегодня кажется похожим на сказку, но которое еще много лет преследовало меня в ночных кошмарах.
ПРИЛОЖЕНИЕ
В районе г.г. Аахена и Эшвайлера. 1945 г.: Бои идут уже на улицах немецких городов и сел. Эта стрелковая часть может рассчитывать лишь только на себя. Солдаты знают, что их уже не увенчают победными лаврами, но выполняют свой долг.
«В Румынии я сам стал свидетелем попыток ликвидировать как можно больше немцев (военнопленных). Там лежат 50 000 германских военнослужащих, в том числе более 20 000 солдат бывшей армии Маккензена времен Первой мировой войны, а остальные — павшие во Второй мировой. Даже в России, где я провел 5 лет военнопленным, мне не приходилось ощущать такой ненависти к немцам. Разумеется, там были и фанатики, но большая часть русского населения была рада, что все кончилось; немецкие военнопленные были превосходными рабочими; нас уважали, мы получали такие же пайки, как и русские (…) За пять лет плена я многое уяснил себе и понял, что русские не «недочеловеки», это Илья Эренбург превратил солдат «Красной Армии» в «недочеловеков» своими подстрекательскими статьями, которые мне тоже доводилось читать».
(«Невероятное» письмо читателя в журнал «Феникс» № 1, 2008 г.)
Перевод с нем.: В. Акунов, 2010 г.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg

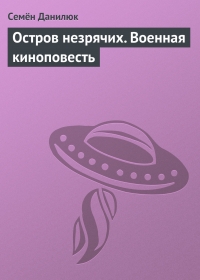
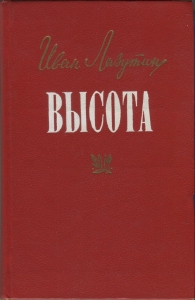
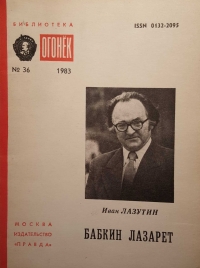


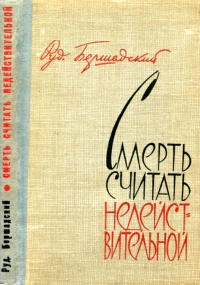






Комментарии к книге «Роковой 1945 год - мой побег из русского плена», Хуберт Шрайнер
Всего 0 комментариев