Николай Матвеев ПАРОЛЬ — «БРУСНИКА» Героическая биография
О людях первой шеренги
В годы Великой Отечественной войны, когда в бою складывалась тяжелая обстановка, раздавался призывный клич: «Коммунисты, вперед!»
Солдаты партии Ленина устремлялись навстречу шквалу огня, показывая пример отваги, мужества и презрения к смерти. Вслед за ними, охваченные неудержимым боевым порывом, подымались в атаку поредевшие цепи и с новой силой громили ненавистного врага.
Коммунисты, вперед!
Под этим боевым кличем сыны и дочери ленинской партии действовали на самых трудных участках; они отправлялись в глубокий тыл противника, вели кропотливую разведывательную работу, мобилизовывали советских людей на диверсионно-партизанскую борьбу, громили днем и ночью на шоссейных дорогах, полях и в населенных пунктах живую силу и технику врага; жгли склады с военным имуществом, пускали под откос вражеские эшелоны, уничтожали линии связи, создавали невыносимые условия фашистам, наносили им удары везде, где только можно было, не давая ни минуты передышки.
Весна 1942 года… Леса… Густые, похожие на таежные… Еще недавно стояли они в ничем не тревожимой тишине. Сегодня в них неожиданно вторглась боевая жизнь партизанского отряда. Пришли из-за линии фронта разведчики-диверсанты Красной Армии, за спиной которых сотни километров трудного с боями пути: командир разведчиков-диверсантов чернобородый, широкоплечий капитан Красной Армии Василий Васильевич Щербина, и худощавый, среднего роста, с ясными глазами капитан Давид Ильич Кеймах (Дима Корнеенко), и еще четверо разведчиков.
В сосняке, прорезанном солнечными лучами, собрались командиры, политработники партизанского отряда. Собрались, чтобы послушать товарищей, прибывших с Большой земли. Обступив плотным кольцом гостей, партизаны расспрашивали их о Москве, о Красной Армии, как живут советские люди на Большой земле. Кругом царило оживление, еще бы: ведь совсем недавно прибывшие были в столице. Пригласили гостей на наш партизанский обед. Угощали их лучшим, что было, — картошкой с жаренными на сале свежими грибами сморчками. После обеда капитан Щербина высказал просьбу подпольному РК КП(б) Белоруссии:
— Нам нужна ваша помощь. Направьте в нашу спецгруппу двух-трех местных коммунистов или комсомольцев для того, чтобы обучить их нашему делу. Кроме того, передайте в наше распоряжение группу коммунистов и комсомольцев, работающих по вашему заданию на подпольной работе в Минске, и закрепите за нашей спецгруппой несколько деревень для обеспечения ее продовольствием и бытовыми услугами.
Логойский подпольный РК КП(б) Белоруссии полностью удовлетворил скромную просьбу командования спецгруппы. Закрепили населенные пункты, направили в спецгруппу коммуниста Петра Алисионка, участника Логойского коммунистического подполья с первых дней фашистской оккупации.
И наконец, в распоряжение прибывших поступила группа коммунистов и комсомольцев-подпольщиков, работавших в городе Минске по заданиям подпольного райкома во главе с опытным коммунистом-подпольщиком Марией Борисовной Осиповой под кличкой Черная.
Война… Многие не успели выехать из Минска. Осталась в городе и Мария Борисовна Осипова со своими малыми детьми. Тревогой была наполнена ее жизнь. Где выход из создавшегося положения? Что делать? Не может же она, коммунистка, сидеть сложа руки и ждать! С врагом надо бороться. Но как?
Мария Борисовна присматривалась к своим прежним сослуживцам, к людям, проживавшим в соседних домах. Необходимо было безошибочно определить, кто как настроен, чем дышит. Вскоре подобралась группа надежных людей. Стали собираться вместе, разрабатывали планы действий, начали вести пропагандистскую работу среди населения.
Деятельность подпольщиков развивалась в весьма тяжелых условиях оккупационного режима. В городе был введен комендантский час. По улицам ходили бесконечные патрули. Проводились массовые облавы, аресты. Тюрьмы и застенки были набиты советскими людьми. Свирепствовали войска СС, полиция безопасности и СД, тайная полевая полиция, жандармерия, полиция охраны порядка, уголовная полиция и контрразведка абвера. Террором, погромами, расправами и виселицами, страшными издевательствами, массовыми расстрелами вводили фашистские оккупанты так называемый «новый порядок».
А вести с фронта шли в это время безрадостные: враг подступал к нашей столице Москве, к колыбели революции — Ленинграду. Немецкие газеты кричали о том, что столица русских вот-вот падет. Фашисты готовили своим прихвостням пропуска для поездки в покоренную Москву.
В эти черные дни фашистской оккупации каждый думал о том, как укрепить в людях веру в нашу неизбежную победу. Ответ нашелся: смело глядя в лицо смерти, уничтожать гнусных двуногих зверей фашистов.
«Группа советских работников» — так именовалась подпольная партийная группа, руководимая Марией Осиповой, вела пропагандистскую работу, собирала оружие, боеприпасы, переправляла многих патриотов в партизанские отряды, действовавшие на западе и севере города Минска.
Логойский подпольный РК КП(б) Белоруссии поддерживал постоянную связь с группой, получая от нее оружие, боеприпасы, медикаменты и людей для партизанских отрядов. В то же время райком партии оказывал помощь группе листовками, сводками Совинформбюро и газетами. Часто Мария Борисовна через Петра Алисионка направляла членов своей группы в Логойский подпольный РК КП(б) Белоруссии для уточнения различных вопросов подпольной работы.
После того как райком решил передать подпольную группу Черной в ведение спецгруппы капитана Кеймаха (Димы), Осипову пригласили прибыть в расположение спецгруппы для личного знакомства с командиром и для уточнения заданий по дальнейшей работе.
В июльский жаркий день Петр Алисионок привел Марию в лагерь Димы. Капитан Кеймах принял Черную с большим уважением, предложил ей отдохнуть и пообедать. Пока Осипова отдыхала, Дима отправил ко мне связного с сообщением, что Черная прибыла, и просил меня приехать к нему в лагерь. Под вечер я прибыл в лагерь диверсантов-разведчиков.
Кеймах представил мне Марию Борисовну. Мы обменялись рукопожатием, я поинтересовался, как чувствует себя в нашем лесу гостья.
— Так, как чувствуют себя советские люди, попавшие в свою родную стихию, где можно свободно говорить, слушать нашу родную Москву, прочитать «Правду», отдохнуть, не опасаясь, что тебя схватят фашисты, — ответила Мария Борисовна.
А я слушал ее и думал: «Вот какая ты, Черная!» Все в ней прекрасно: и стройная фигура, и лицо, сверкающие искорками карие глаза, и тихий плавный голос. Ее логический ум, спокойствие и смелость вызывают искреннее уважение тех, кому приходится с ней встречаться и иметь дело. Я всматриваюсь в лицо Осиповой, на котором пережитое оставило свои тяжелые следы, и стараюсь представить себе Марию Борисовну тех счастливых предвоенных лет…
— Я рада, — продолжала Осипова, — что теперь моя подпольная партгруппа будет иметь постоянную опору, будет с кем посоветоваться в трудные моменты.
— Но, Мария Борисовна, вы знаете, какую нелегкую задачу мы ставим перед вашей группой?
— Нас интересует дислокация вражеских войск в городе Минске, — вмешался в разговор капитан Кеймах. — Их место расположения, количество, вооружение, номера и названия частей, и еще больше интересует передвижение воинских частей по железной и по шоссейной дорогам. Если будет невозможно установить номер или наименование воинской части, тогда ограничивайтесь опознавательным знаком, нарисованным на автомашинах, танках и указателях дорог. Было бы очень хорошо, если в ближайшее время вы достанете нам план города Минска, указав на нем дислокацию воинских частей противника. Должен вас предупредить: начиная разведывательную работу, надо крепко-накрепко запомнить, что разведчик ничего не записывает и не фотографирует. Он все сведения запоминает, фотографирует в своем мозгу. Разведчик не должен знакомиться с кем бы то ни было без указания командира группы. Нам известно, Мария Борисовна, что вы работаете с подпольной группой, которая вами создана, хорошо знаете друг друга. Если придется увеличить вашу группу, мы сами рекомендуем вам, кого следует взять. Связь с вами мы будем поддерживать через нашего связного Петра Алисионка. Если потребуется увеличить количество связных, мы вас поставим в известность и познакомим с ними. И наконец, еще одна просьба: не завязывайте связей с другими партизанскими группами и отрядами. Помните русскую пословицу: «У семи нянек дитя без глаза».
Получив задание, Осипова вернулась в оккупированный Минск.
Из города Мария Борисовна направляла в партизанскую зону все, чем только могла помочь: оружие, боеприпасы, медикаменты и, главное, людей, готовых отдать свою жизнь за Родину.
В июне — июле из прибывших по «путевкам» Осиповой был организован партизанский отряд численностью более 150 человек. Немалое количество присланных Марией Борисовной людей было зачислено в основную разведывательно-диверсионную группу Димы. Впоследствии они показали себя хорошими разведчиками и диверсантами. Пройдя школу подпольной борьбы, они являли всем пример стойкости, самоотверженности, несгибаемой воли.
Нелегко было нашим минским, друзьям бороться с врагом в городе, где царил жесточайший фашистский террор. Они, как настоящие коммунисты, находились на самом опасном рубеже невидимого фронта. За ними день и ночь охотились вымуштрованные фашистские разведчики, контрразведчики, предатели…
На одной из очередных явок капитан Кеймах предложил Марии Борисовне организовать группу диверсантов по уничтожению палача белорусского народа — гаулейтера фон Кубе.
По приговорам рейхскомиссара Белоруссии Вильгельма фон Кубе в республике гитлеровцы уничтожили в лагерях смерти, тюрьмах и казематах 2 миллиона 320 тысяч советских патриотов, сожжено более 9 тысяч населенных пунктов и 209 городов.
— Мы, товарищ капитан, готовы выполнить любое задание Родины, — спокойно ответила Осипова.
— Мария Борисовна, я знал, что вы ответите именно так, — остановил ее Кеймах. — Другого ответа от вас я и не ожидал… Но подумайте еще раз. А сейчас, прошу вас, идите спать, утро вечера мудренее. Завтра все решим.
На следующее утро они обсудили план действий. Марии Борисовне было подсказано, на кого следует ориентироваться в этом деле. Долго обсуждали кандидатуры — ведь эту диверсию мог совершить только тот, кто имеет доступ в резиденцию палача или по своим служебным обязанностям связан с самим гаулейтером или его прислугой.
Были рекомендованы те люди, к которым надо было найти пути: Ирина Прилежаева, дочь профессора, переводчица в канцелярии Вильгельма Кубе, Елена Мазаник, работавшая горничной у гаулейтера, и директор кинотеатра Николай Похлебаев.
Мы просили Осипову не привлекать к этой операции много людей. Наказали Марии Борисовне быть предельно осторожной, никогда не брать с собой в Минск литературу, издаваемую партизанами, и также выносить из Минска для доставки партизанам что-либо ее компрометирующее. Специально разрешили приносить в партизанскую зону газеты и журналы, издававшиеся оккупационными властями, что должно было послужить маскировкой для Осиповой при выходе ее из города. Условились, что о ходе работы Мария Борисовна будет лично докладывать только капитану Кеймаху и больше никому, а через связных будет передавать условные сообщения: «Дела идут неплохо», что означало: «Подготовка идет успешно», или: «Чувствую себя нездоровой», что означало: «Мало успехов в работе».
Как-то в начале сентября 1943 года Мария Борисовна явилась в партизанский лагерь Димы и с волнением доложила, что найдены пути к уничтожению фон Кубе. Она попросила, чтобы ей дали маломагнитные мины для диверсии. Отдохнув немного в лагере и получив две маломагнитки, Осипова отправилась в Минск, благополучно добралась до города и передала мины Елене Мазаник.
В ночь с 21 на 22 сентября 1943 года приговор народа был свершен: фашистский палач, ставленник Гитлера в оккупированной Белоруссии Вильгельм фон Кубе был уничтожен.
Подполье, партизанская борьба, разведка и диверсии. Нелегкой была военная дорога. Этот путь могли выдержать только советские люди, руководимые славной ленинской партией, солдаты которой стояли в первой шеренге.
Секретарь подпольного Логойского райкома партии,
комиссар Первой антифашистской партизанской бригады
Герой Советского Союза ИВАН ТИМЧУК
Минск, август 1971 года
Глава 1
Мария торопилась. Мыльная пена летела на землю пышными белыми хлопьями, а брызги оставляли темные пятна на блеклом ситцевом халатике. Одна за другой шлепались в старенькую детскую ванночку выстиранные вещи. К влажному лбу молодой женщины то и дело прилипали надоедливые тополиные пушинки, щекотали ноздри. Мария с досадой провела мокрой Ладонью по лицу, поправила растрепавшиеся волосы.
«Неужели опоздаю? — думала она, с силой выкручивая белье. — Получится нехорошо: всех предупреждала, а сама явлюсь последней. Не вовремя, наверное, я затеяла эту стирку. Хотя, пожалуй, правильно. Когда вернусь, все высохнет, а вечером поглажу и Томе чемодан соберу».
Еще быстрее замелькали ловкие руки, и пахнущее свежестью, выполосканное белье доверху наполнило таз.
«Ну вот и все, — облегченно вздохнула Мария. — Теперь наверняка не опоздаю».
Она ловко подняла свою ношу и направилась в глубь двора, подальше от тополей, туда, где на столбах были натянуты веревки. Яркое солнце плавилось на металлических боках ванночки, пекло блестящие черные волосы Марии и заставляло ее жмуриться. Да, сегодня погода была как по заказу: ясная, теплая, солнечная, с небольшим ласковым ветерком — лучше для праздника и не придумаешь. А нынешний день, 22 июня 1941 года, для жителей Минска был не рядовым воскресным днем, а особым. В 12 часов дня должно было состояться торжественное открытие озера. Именно открытие, потому что раньше такого места, где можно было бы купаться, кататься на лодке, загорать, лежа на берегу, и гулять среди зелени у минчан не было. Идею вырыть озеро среди парка подал комсомол. Хорошую мысль одобрили, и было вынесено решение: каждый житель города Минска должен был вырыть несколько кубометров земли. Не один месяц в свое свободное время люди копали котлован для будущего озера. Рыли все, и старые и молодые, кто сколько мог, и дело двигалось успешно. Когда котлован был готов, на помощь пришли специалисты, и вскоре в парке появилось новое, светлое и глубокое озеро. Открытие его было всеобщим праздником, всем не терпелось взглянуть на дело рук своих.
Вместе с другими рыла котлован и Мария. Она возглавляла бригады студентов и преподавателей своего института.
Бригада подобралась дружная, и была в этом заслуга Марии. Не случайно несколько лет подряд ее выбирали секретарем партийной организации Юридического института, и сейчас, хотя ее освободили от этой важной и хлопотливой работы, чтобы дать возможность как следует подготовиться в аспирантуру, все равно по старой памяти прислушиваются и тянутся к ней люди: поговорить по душам, посоветоваться. Вот и вчера она всем напоминала, что праздник начнется ровно в двенадцать, и просила быть в институте вовремя, чтобы потом всем вместе идти на озеро.
Думая о своем, Мария привычными жестами стала развешивать белье, прикрепляя его к веревке деревянными защепками. Как пестрые флажки, забились, затрепетали на ветру разноцветные детские вещички.
— Горе! Горе какое! — пронзительный крик разорвал тишину, заставил Марию вздрогнуть. Из окна барака по пояс высунулась соседка Лида. Лицо ее неестественно побледнело, а в широко раскрытых глазах застыл ужас.
— Горе! Война, началась война! — Крик звенел в ушах…
У Марии выпало из рук белье. Машинально она нагнулась, подняла выпачканную в пыли белую кофточку и повесила ее на веревку.
— Маруся, ты слышишь, война! — продолжала кричать соседка.
Не понимая, что она делает, Мария кинулась на середину двора, где на столбе висел громкоговоритель. Со всех сторон сюда бежали люди.
Только первые слова из обращения Молотова дошли до сознания Марии, дальше она все воспринимала как сквозь сон.
— Брест горит, Барановичи горят, — доносились до нее отдельные фразы.
Смысл их был настолько нереален, что в них нельзя было поверить. Ее ум привычно воспринимал слова «Брест», «Барановичи», «гореть». Они были знакомы и привычны, но сочетание их никак не хотело проникать в сознание.
«Война! Война с Германией! Нет, этого не может быть. Я, наверное, что-то не так понимаю», — билась неотвязная мысль.
Мария оглянулась по сторонам. Как все сразу изменилось, даже трудно узнать людей. Женщины плачут, лица мужчин непривычно суровы. И белье на веревке, и тень от дома, и чириканье воробьев на тополе — все это заставляло сжиматься сердце, все приобрело необыкновенную четкость и значимость.
Горячие слезы побежали по щекам Марии.
— Не смей плакать, ты же коммунистка! — вдруг закричал на нее Жора, муж ее соседки. — Мы их сразу разобьем.
Мария попыталась улыбнуться, но не смогла. Почему он напомнил ей, что она коммунистка, подумалось ей, ведь раньше Жора никогда так не говорил. И тут же поняла, что с этой минуты слово «коммунист» приобретало в сознании людей новый смысл.
— Сидите дома и никуда не смейте уходить, — сказал сосед, — а я пойду в военкомат, все узнаю. Ждите меня.
Он ушел, ушли и другие мужчины, плачущие женщины остались во дворе.
«Но я-то ждать не могу, — сообразила Мария. — Надо бежать в институт. Там товарищи, там друзья, надо же решить всем вместе, что делать».
— Лида, родная! Ты никуда не уходи, — попросила она соседку, — а я побегу в институт, узнаю, что там, а потом домой вернусь. Если вдруг Тома приедет или Юру привезут, ты их встреть, пусть пока у тебя посидят, а я скоро буду.
Мария выскочила на улицу и только тут вспомнила, что она в старом халатике и в тапочках на босу ногу. Вернулась, быстро накинула платье и побежала в институт.
В институтском дворе толпились люди. Никто толком не знал, что надо делать, — трудно было поверить в страшную весть.
Ректор взял слово.
— Товарищи, — негромко объявил он, — положение сложное. Договоримся так: сейчас все расходимся по домам, а к вечеру собираемся вновь в институте.
Вот пока все…
Двор быстро опустел, но в кабинете ректора собрались несколько преподавателей и студентов — членов партбюро.
— В институт придет тот, кто сможет, — начал разговор ректор. — Сейчас нельзя сказать, что будем делать дальше, ясно одно: сложа руки сидеть не придется. Поэтому, товарищи, тратить время не стоит, делать выводы придется позже. Расходитесь. А тебе, Мария, — обратился он к Осиповой, — вообще не обязательно приходить: у тебя ведь двое ребят. Смотри сама, как получится.
Мария медленно побрела домой. Ее тихая улица, деревянные дома, похожие друг на друга, и двухэтажный домик, в котором она жила, затененный высокими тополями, казались ей сейчас совсем другими. Вроде бы ничто не изменилось вокруг, все оставалось на месте, но все стало иным. Мария не смогла сразу сообразить, что же все-таки произошло. Она еще и еще раз оглядывалась и вдруг поняла: улица, всегда такая многолюдная в воскресенье, теперь была пуста, даже не было детей, которые вечно путались под ногами и мешали прохожим. Стояла непривычная и пугающая тишина.
Дома Марию ждала заплаканная соседка.
— Жора еще не вернулся. Твоих ребят тоже нет. Что же это теперь будет, Марусенька? — Женщина растерянно посмотрела на Марию и снова заплакала.
— Не плачь. Подожди, все выяснится, — пыталась утешить ее Мария. — Не может быть, чтобы не разобрались. Скажут, что надо делать, и Жора скоро придет.
Лида затихла и только время от времени вопросительно поглядывала на Марию. Та молча гладила белье, складывая его в аккуратную стопочку.
Наступил вечер, и Мария снова пошла в институт. Около здания института, как и днем, толпились люди. Многие из них, видимо, так и не успели переодеться, и белые праздничные рубашки мужчин были далеко видны в уже сгущавшихся сумерках. Мария огляделась по сторонам: пришли не только те, кто был утром, явились и другие — в основном все студенты.
Среди них Мария увидела третьекурсника Рафу Бромберга — руководителя институтского джаза. Он что-то говорил товарищам и возбужденно размахивал руками.
— Рафа! — негромко окликнула его Мария.
Он тут же подошел и вопросительно посмотрел на нее. Кудрявый, черноволосый, с белыми зубами, такими заметными на смуглом лице, Рафаэль всегда обращал на себя внимание. Он пользовался всеобщей симпатией, и везде и всюду у него было множество друзей. Его знали и любили не только товарищи по институту, но и молодые рабочие-строители (среди них было много цыган), в клубе которых он организовал самодеятельность, и ребята с завода, откуда Рафаэль пришел в институт. Не было ни одного праздника в городе, куда не приглашали бы студенческий джаз с его веселым и остроумным руководителем. Популярность Рафы была велика и заслуженна.
Рафаэль жил в семейном студенческом общежитии на Заславской улице вместе с женой Галей Липской и маленькой дочкой Светланой.
— Что будем делать, Маруся? — деловито спросил он и, не дожидаясь ответа, продолжал: — Мы с ребятами, как услышали сообщение, прямо с экзаменов побежали в военкомат. А нас обратно отправили, сказали — идите и занимайтесь, когда надо будет, позовем. Вот мы здесь и ждем…
Мария не успела ничего ответить. Из дверей института вышел ректор и коротко сообщил, что сейчас все должны разойтись, — к го будет нужен, того вызовут.
— В парткоме и в дирекции всегда кто-нибудь будет дежурить, так что связь друг с другом будем держать через институт, — закончил он свое сообщение.
— Я буду в общежитии на Заславской, — предупредил Рафа Марию, — а если вдруг меня не будет дома, мои всегда скажут, где меня найти.
Так и договорились на будущее, и Мария вернулась домой.
Жоры все не было…
Мария сидела у соседки и молча смотрела, как та возится с детьми. Генка безмятежно уснул в своей кроватке, а Толик капризничал и не хотел ложиться. Наконец и он угомонился. Мария сидела выпрямившись, положив руки на колени, и машинально поправляла сползающее с мальчика одеяло.
— Где Жора? Может, с ним что случилось? — все время повторяла Лида. — Что теперь будет?
— Ничего с ним не случилось. Придет Жора, — отвечала уверенно Мария, но мысли ее были о другом. Думала о своих детях: где теперь дочь Тома? Может быть, еще у тетки на стекольном заводе «Октябрь», а может, уже торопится домой в Минск? И поехать за ней нельзя — разминешься в пути, и кто знает, удастся ли когда-нибудь встретиться. А как быть с Юриком? Наверное, привезут ребят с детским садом в город. А если нет — что делать тогда?
Так и молчали обе женщины, каждая думала о своем и в то же время об одном и том же: как же теперь жить?
За окном уже была глубокая ночь, когда раздался стук в дверь. Обе женщины кинулись открывать. На пороге стояла молоденькая руководительница детского сада, держа на руках сонного Юру.
— Завтра будут детей эвакуировать, — не проговорила, а прошептала она: от волнения и усталости у нее почти пропал голос. — Подготовьте смену белья и пару носков. Больше ничего брать не надо. — Места очень мало…
Она ушла не попрощавшись, а Мария с Лидой так и остались стоять, растерянно смотря ей вслед.
В эту ночь Жора так и не пришел…
Новый день принес с собой неожиданности: в небе появились фашистские бомбардировщики. Нагло и уверенно они шли над городом, сбрасывали бомбы на дома, на мирных жителей.
У Марии больно сжалось сердце, когда она увидела, как маленький и такой хрупкий на вид ястребок с красными звездами на крыльях стремительно бросился в атаку. Он яростно атаковал фашистский самолет, расстреливающий из пулеметов сбившихся в беспомощную толпу женщин и детей. Ястребок отвлек на себя внимание врага и упал вниз, оставляя за собой черный дымный хвост…
Больше всего бомбили аэродром. Небо заволокло дымом, сквозь который прорывался огонь. Дым менял свою окраску и становился черно-красным — горели бензобаки, пылали ангары и другие строения на аэродроме. Дым становился все гуще, и казалось — траурная пелена медленно накрывает город. Фашисты сбросили еще бомбы — теперь на товарную станцию, — а потом уже стали бомбить жилые кварталы. В разных местах города расцветали пышные рыжие цветы пламени.
…Мария, крепко держа за руки спотыкающихся и всхлипывающих ребятишек, быстрыми шагами шла к детскому саду. Юра и Толя, сын соседки, сжимая изо всех сил в ручонках узелки со своим нехитрым имуществом, с трудом семенили за ней. Лида осталась дома с маленьким Генкой — не могла уйти, провожала Жору на фронт.
Вот и двор детского сада, освещенный странным дрожащим светом — рядом горело какое-то здание. Прижимаясь к кустам, стояли люди, а в глубине двора шофер хлопотал у автобуса. Мария уже направилась к руководительнице, когда ее окликнул кто-то:
— Иди к нам, и ребят давай сюда, к кустам поближе. А то не ровен час попадете под обстрел, видишь, как низко летает.
Мария подвела мальчишек к кустам, сама стала рядом. Ребята крепко вцепились в ее руки. Вдруг резкий свист разорвал воздух — совсем близко за дорогой упала бомба, вверх взлетела пыль и земля…
Мария кинулась к мальчикам, закрыла своим телом Юру и Толю. Замерла… Самолет спустился ниже и обрушил свинцовый поток на «важный стратегический объект» — аккуратный деревянный домик среди тополей, яркие деревянные грибы возле песочниц и перепуганных детей с узелками. Взрослые судорожно хватали плачущих ребят и вталкивали их в автобус. Казалось, машина уже полна и больше в ней не поместится ни один человек, но каким-то чудом она принимала все новых и новых ребятишек, пока во дворе не осталось ни одного. Мария даже не успела попрощаться с сыном. Чьи-то руки подхватили его и понесли к автобусу.
— Мама, мамочка! — надрывался Юрка.
— Тетя Маруся, возьми меня домой! — вторил ему Толик.
Их крики рвали душу Марии. От горя у нее потемнело в глазах. Откуда-то из дымной пелены выскочил самолет. Может быть, это вернулся все тот же фашист, а может, и другой такой же ас, заработавший славу на расстреле женщин и детей. Снова визг и грохот раскололи плотный от пыли воздух.
Когда Мария пришла в себя, автобуса во дворе уже не было — шофер каким-то чудом умудрился благополучно вывести громоздкую машину на дорогу.
Мария медленно шла, а в голове звучали одни и те же фразы:
«Возьми меня домой! Мама! Не уходи! Домой! Домой!» — надрывали душу детские голоса. А есть ли вообще этот дом, цел ли? Как жить дальше? Как остаться одной, оторванной от детей? Мысли метались как испуганные птицы, а на землю все ниже и ниже опускались гарь, дым и копоть — дышать становилось все труднее и труднее…
На другой день снова был налет. Теперь уже во многих местах возникли пожары. Горел центр, полыхали привокзальные кварталы, огонь перебрасывался с одного здания на другое, жадно захватывал все, что могло гореть. Неожиданно по улицам потекли грязные ручьи, они стремились вниз к реке, прихватывая на своем пути бумажки, щепки, все, что могли унести. Как будто наступила весна и бурно тающий снег на глазах превращался в мутноватые потоки воды. Но это не были весенние радостные воды — бомба прорвала водопроводные трубы.
Сначала люди пытались тушить пожары, как-то остановить воду, но бомбежка не давала работать. Огонь рушил стены, выгибал железные балки, начисто выжигал все внутри зданий, и на месте теплых, уютных домов оставались закопченные пустые коробки, зиявшие провалами окон. От гари и дыма першило в горле, перехватывало дыхание.
Пожар миновал дом, где жила Мария, хотя соседние улицы скрылись за черным дымом. А над горящим городом появлялись все новые и новые фашистские бомбардировщики…
В Кузнечном переулке было людно: устанавливали зенитные батареи. Возле дома Марии тоже поставили орудие. Чтобы его замаскировать, жильцы дома срубили тополя и ветками прикрыли пушку…
Женщины с жалостью смотрели на усталые лица зенитчиков, на их покрасневшие от бессонницы глаза, пропыленную одежду и растоптанные сапоги. Видно, пришлось им совершить изрядный марш-бросок, прежде чем они установили здесь свои зенитки.
— Сынки, вы бы поспали, а мы пока подежурим, — предложил кто-то из женщин. — Все равно мы не ляжем, а вы хоть немного отдохнете. Как их самолеты появятся — мигом разбудим.
Так и сделали. Артиллеристы, оставив по одному человеку у орудий, разошлись по квартирам, а женщины сидели на крылечке и слушали настороженную тишину. Дежурила со всеми и Мария, напряженно всматривалась в темное небо, как будто можно было заранее знать, откуда появятся вражеские самолеты.
Начало светать, небо из темно-чернильного становилось каким-то сиреневатым, потом посерело, а затем стало совсем светлым. С первыми лучами солнца начался массированный налет…
И так каждый день — город горел, задыхался в дыму и гари. Толпы людей покидали Минск. Трудно было поверить, что в городе так много детей. Глядя на бесконечные вереницы женщин, несущих детей на руках или толкающих перед собой коляски с малышами, Maрия впервые поняла, какая огромная ответственность лежит на всех тех, кто может защищаться сам и защищать другого.
Мария не находила себе места. Она еще раз сбегала в институт и поняла, что ничего конкретного ей там пока сказать не могут. Договорились, что она сама будет держать связь с институтом, а не ожидать, когда ее вызовут.
— Тебе ведь надо дочку найти, — сказала Марии Лида. — В такое время порознь плохо…
Легко сказать — найти дочку, а где она теперь? Наверное, все ждет мать у тетки, вряд ли кто отпустит ребенка одного в такое тревожное время в город, а везти Тому в Минск некому: у сестры сейчас своих хлопот достаточно. Мария решила идти за девочкой. Фашисты уже успели превратить в пылающие развалины большую часть города, и толпы людей, захватив самое необходимое, покидали Минск.
В ночь на 26 июня Мария, Лида и еще одна соседка вышли из города по Могилевскому шоссе. Мария с узелком шла размеренным шагом и несла переброшенное через руку недавно купленное демисезонное пальто. Когда собирала вещи, то машинально подумала: «Новое пальто не надену — изомнется в дороге». Мысли все еще работали по-прежнему, как будто бы женщины отправлялись за город на прогулку, а пальто дорогое, и его просто так не расстелешь на траве или на берегу речки, чтобы отдохнуть и позагорать. Это все были «вчерашние» мирные мысли, и от них не так-то просто было сразу отключиться.
Мария шла, погруженная в свои невеселые думы. Иногда она брала на руки кого-нибудь из ребят и продолжала идти вперед, не чувствуя их тяжести. Так добрались они до деревни Заболотье, где остановились на ночлег, а утром, когда проснулись, то увидели людей в военной форме.
— Это наши, — обрадовалась соседка. — Смотри, Маруся, наши.
Действительно, в деревне расположились красноармейцы.
«Что это они тут делают? — мелькнула мысль у Марии. — Свободна ли впереди дорога?» Она направилась к солдатам, но вдруг ее ноги точно примерзли к земле. Солдаты говорили по-немецки.
«Наверное, послышалось, — подумала Мария, — не может этого быть».
Она не знала еще, что немцы выбросили на парашютах своих десантников, переодетых в красноармейскую форму. Уже через несколько дней все поняли, кто такие эти «красноармейцы», но сейчас красноармейцы, говорящие по-немецки, были для Марии полной неожиданностью.
— Ком, фрау! — позвал один из них Марию. — Ком! — Человек поманил ее рукой. Сколько раз потом приходилось ей слышать эту ставшую привычной фразу и видеть этот жест, но сейчас все это казалось странным, как в кошмарном сне. Мария быстро вернулась к своим спутницам.
— Пошли отсюда скорей, пока не поздно, — позвала она. — Это не наши, это немцы…
Женщины задворками выбрались из деревни и пошли обратно в Минск.
Когда Мария уходила из города, пробираясь среди черных руин и искореженных балок, она с горечью думала:
«Всего несколько часов надо на то, чтобы превратить целый город в развалины, а сколько сил и средств было затрачено, чтобы его построить?»
Мария даже попыталась прикинуть, сколько требуется времени, чтобы построить хотя бы один новый дом, но мысли разбегались, и она перестала считать. Сейчас они возвращались по другим улицам, но и здесь было все то же самое: мертвые здания и люди в перепачканной, изорванной одежде. За эти два дня, пока женщины отсутствовали, случилось самое страшное: в Минск вошли гитлеровцы.
26 и 27 июня наши войска вели жестокие неравные бои на подступах к городу, но 28 июня части второй и третьей танковых групп врага прорвались и захватили Минск.
И вот теперь Мария увидела, как по улицам ее родного города бесконечной лавиной идут фашистские танки и машины, трещат мотоциклы, слышится незнакомая лающая речь. Мария чувствовала, как у нее комок стоит в горле, даже трудно было дышать, но не от гари и дыма, а от ненависти и боли. Невыносимо было смотреть на все это. За сорок восемь часов город стал неузнаваем. Так бывает и с людьми, перенесшими неожиданное горе.
Мария не помнила, как добралась до своего дома, сколько времени шла. Все привычное стало чужим, и даже, казалось бы, не подвластный никому белый тополиный пух стал теперь от сажи и копоти черным и, как траурная вуаль, медленно покрывал опустевшие улицы.
Началась новая, не укладывающаяся ни в какие понятия жизнь, и надо было жить. И жить, не просто существовать, а бороться…
Гитлеровцы начали устанавливать новые порядки. Сразу же ввели комендантский час, по улицам ходили бесчисленные патрули, проверяющие документы. Осипова с удивлением обнаружила, что ее документами интересуются довольно часто. Казалось, ничего не было в ней особенного, но невольно на ней задерживался взгляд, и так было с самых первых часов оккупации. Она никак не могла понять, почему такое происходит, и даже спросила об этом у соседки Лиды.
— А ты выглядишь очень гордой и смотришь прямо, — не задумываясь объяснила та и, заметив недоумевающий взгляд Марии, продолжала: — Когда ты рядом, себя как-то уверенней чувствуешь и не так страшно, вроде ты помочь и заступиться можешь.
Больше Лида ничего не добавила, но в этих нескладных словах она сформулировала основное: всех поражало то непоколебимое спокойствие, чувство силы и уверенности, которое исходило от Осиповой. Наверное, эти качества были в ней и раньше, но война выявила, подчеркнула их. Мария при любых обстоятельствах оставалась Человеком, и это чувствовали все, кто имел с ней дело. Ощущали это и немцы: недаром ее так часто останавливали патрули и полицаи — лицо этой женщины, одетой или в поношенное ситцевое платье, или стиранную кофточку с юбкой, ее прямой и честный взгляд вызывали у них глухое раздражение; но придраться было не к чему, и, грубо обругав или толкнув, ее отпускали. Но то, что раздражало врагов, привлекало к ней друзей. Те, кто знал Осипову до войны, могли бы сказать, что так было и раньше: к парторгу Юридического института Марии Борисовне люди шли со своим самым личным. Знали: Осипова внимательно выслушает, правильно рассудит и сделает все, что может. Она не читала нотации, не поучала, не смотрела сверху вниз, не прикидывалась всезнайкой. Но люди инстинктивно чувствовали ее внутреннее тепло, такт, желание помочь.
Никто никогда не учил Марию высокому искусству дипломатии, она всегда руководствовалась своей совестью, совестью коммуниста. А в партию Осипова вступила, как только ей исполнилось восемнадцать лет. Мария хорошо знала по собственному опыту, как трудно может быть человеку, особенно молодому, когда он еще почти не знает жизни и попадает в сложную обстановку. И в то же время знала Мария, Что если человек по-настоящему чего-нибудь захочет, то он обязательно этого добьется. Она сама, дочь рабочего стекольного завода в Серковицах, рано узнала, что такое труд. Марильке, как ее звали в семье, было одиннадцать, когда она пошла на завод разносить ломкие оконные стекла. Это считалось «легким» трудом. А как же ей было не работать, когда в семье, кроме нее, еще шестеро братьев и сестер. На этом же заводе работали и остальные дети. Отработав шесть часов, Марилька помогала дома, но все же, несмотря ни на что, она еще успевала бегать в школу. При заводе была трехклассная школа, умещавшаяся в одной большой комнате. Мария окончила школу, пройдя за год два класса.
Мария по-прежнему работала на заводе, училась, вела большую общественную работу. Девушку приняли в комсомол, а потом как лучшую активистку рекомендовали в партию. 8 марта в клубе завода в торжественной обстановке первичная организация приняла Марию в партию. Оставалось дело за райкомом.
С замирающим сердцем вошла Мария в кабинет секретаря райкома, тихо поздоровалась. Секретарь пристально смотрел на стоящую перед ним Марию.
— Садись, Марилька, — сказал он. — Послушай, что я тебе скажу.
То, что секретарь назвал ее Марилькой, сразу расположило к нему девушку — так называли ее родные, друзья и подруги.
— Понимаешь, в чем дело, — ласково продолжал секретарь, — не можем мы тебя сейчас в партию принять, придется подождать.
У Марии от обиды и неожиданности даже слезы брызнули из глаз.
— Почему же? — только могла она спросить.
— По Уставу нельзя, тебе только семнадцать недавно исполнилось. Подождем немножко, обязательно примем. Да ты не плачь. — Секретарь райкома вышел из-за стола, сел рядом с Марией.
— Ну не плачь, Марилька, — утешал он ее. — Я тебе говорю, как исполнится восемнадцать, сразу же примем. О тебе и твои заводские просили, но Устав для каждого нельзя менять, ты же сама понимаешь. — Секретарь достал из ящика стола бумажный кулек и дал его Марии.
— Ну а пока ты иди, не огорчайся так, скоро сам тебе билет вручу.
Мария вышла из кабинета с бумажным пакетом в руках и так, не вытирая слез, пошла по коридору. Уже выйдя на улицу, она раскрыла кулек — там были конфеты «Раковые шейки».
«Он меня считает совсем маленькой, — подумала Мария, — ну и пусть…» Она шла по улице, плакала и ела хрустящие полосатые конфеты, не обращая внимания на удивленные взгляды прохожих…
Через несколько месяцев, в 1928 году, Марию Осипову приняли в партию. В 1933 году вся семья переехала в Минск, и здесь Мария начала учиться в Высшей партийной школе имени Ленина, но ее мечтой было поступить в Юридический институт, чтобы потом стать судьей. Осипова добилась своего — она поступила в Юридический институт. Пришлось трудно: у Марии была уже своя семья — двое маленьких детей. Надо было и учиться и работать, времени было в обрез. Но все равно Мария не могла быть в стороне от общественной жизни — ее три года подряд выбирали секретарем партийной организации Юридического института. Осипова отлично окончила институт, ее рекомендовали в аспирантуру, а одновременно с этим на нее поступила заявка из Верховного суда, и Марию направили туда на работу. Но Осиповой очень хотелось стать специалистом высшей квалификации и только потом посвятить себя любимой работе. Она настойчиво просила, чтобы ее отпустили в институт, и в конце концов добилась своего: ее зачислили в аспирантуру, одновременно доверив заведовать кабинетом истории партии в институте. Все дни были насыщены до краев. Особенно много времени отнимала общественная работа: люди шли к ней со своими радостями и печалями — знали, что она поймет, посоветует и, если надо, поможет.
Вот почему, когда началась война, сразу потянулись к ней люди: они знали, что ей можно безоговорочно верить. Марии было трудно измениться, не умела она ходить, смиренно склонив голову, и опустив глаза вниз, но это нужно было делать, чтобы тебя не раскрыли враги. И Мария научилась перевоплощаться то в развязную и наглую спекулянтку, то в запуганную крестьянку, то в самоуверенную жену полицая, то в бесправную жительницу гетто.
Впоследствии этот дар перевоплощения не раз выручал Осипову, спасал жизнь не только ей, но и другим. Но все это было позже, а пока Мария училась сдерживать себя и быть незаметной. Она никак не могла решиться уйти из Минска искать дочь, трудно было сразу сообразить, где лучше находиться ребенку. В городе с каждым днем жизнь становилась все сложнее и опаснее: приказы следовали один за другим. В числе первых появился приказ о том, что все мужчины в возрасте от 17 до 25 лет должны явиться для регистрации на площадь к Театру оперы и балета.
Сначала на этот приказ никто не реагировал, и вслед за ним незамедлительно появился второй, лаконичный и убедительный: «За невыполнение приказа — расстрел».
На регистрацию шли неохотно, но все-таки шли. Одни — чтобы выяснить, в чем дело, а потом уйти, другие — чтобы выполнить, как им думалось, простую формальность. Но у фашистов были свои планы. Вблизи театра расположились немецкие солдаты с винтовками. Когда первая группа мужчин приблизилась к зданию театра, их ловко окружили и, уже никуда не отпуская, повели на Сторожевское кладбище, где, как выяснилось позже, немцы создали гражданский лагерь. Солдаты оцепили растерянных и недоумевающих людей, а при попытке покинуть лагерь, не вдаваясь ни в какие объяснения, безжалостно расстреливали их на месте.
Никто больше не шел добровольно на регистрацию, и фашисты начали без разбора хватать всюду всех мужчин и «сортировать» их на военных и штатских. Основной приметой для такого разделения являлась прическа: всех остриженных под гребенку считали красноармейцами и направляли в лагерь для военнопленных. Условия в этих лагерях были ужасны: пленных оставляли без воды и пищи по нескольку суток. Особенно тяжело было переносить отсутствие воды, а если при этом учесть, что совсем рядом перед глазами измученных людей текла река, то страдания становились невыносимыми. Наиболее решительные пробовали спуститься на берег, но смельчаков методично расстреливали. Возле лагеря стояла толпа женщин, пришедших к своим близким. Время от времени им разрешали передать в лагерь немного пищи и воды, но, так как среди задержанных было много приезжих, к которым никто не мог прийти, местные жители делились с ними, и этих передач хватало ненадолго…
День ото дня к военнопленным подойти становилось все сложнее. Правда, в самые первые дни оккупации фашисты, чтобы завоевать симпатии местного населения, отпускали домой военнопленных минчан. Если какая-нибудь женщина, придя в лагерь, подтверждала, что там находится ее муж, отец, сын или брат — житель Минска, то его отпускали. Многим пленным спасли жизнь такие самозванные родственники…
Но так продолжалось недолго.
Через некоторое время в четырех километрах от Минска в деревне Дрозды фашисты огородили колючей проволокой небольшой участок земли и организовали там концлагерь. Вот туда-то без суда и следствия сгоняли под конвоем задержанных и держали там, несмотря на то, что люди гибли от жары, голода и жажды. Из этого лагеря уже нельзя было уйти только потому, что ты местный житель. Теперь фашисты уже не пытались заигрывать с местным населением. Начались массовые расстрелы евреев. Хотя даже незнакомые люди сплошь и рядом отдавали свои паспорта, чтобы выручить человека, попавшего под подозрение, их старанья были напрасны: немцы безжалостно расстреливали евреев.
Мария уже знала обо всем этом, она вместе с другими женщинами приходила туда, где держали пленных, передавала им хлеб и воду, но все время остро чувствовала, что этого мало, что нужно делать что-то еще, что-то большее.
«Надо действовать!» — эта мысль неотвязно преследовала ее, не давала покоя ни днем, ни ночью.
Стоило Марии лечь, как перед ее глазами возникали разрушенные дома, груды битого кирпича на месте добротных, красивых зданий, заборы, на которых были наклеены объявления на белорусском и немецком языках.
Все объявления, хотя на первый взгляд говорили о разном, сводились к одному и тому же — они запрещали людям жить.
«За оскорбление немецкой армии — смерть».
«За укрытие беглых военнопленных — смерть».
«За укрытие оружия, боеприпасов, радиоприемников — смерть».
Большинство объявлений были на обычной бумаге, а некоторые — о смертной казни — на ярко-красной, как будто кровь невинных жертв выступила на бумаге.
А вперемешку с немецкими объявлениями на остатках стен — углем, мелом или просто выцарапанные чем попало — взывали о помощи и справедливости написанные разными почерками лаконичные строчки.
«Где вы? Я нахожусь…» — далее следовал адрес и подпись. Люди искали своих близких.
Каждый день приносил все новые запреты. Появился приказ, в котором сообщалось, что за укрытие «коммунистов, комиссаров и большевиков — смерть», а за выдачу их — награда. С немецкой точностью указывалась сумма, положенная за коммунистов и комсомольцев. Разве можно было спокойно жить, видя и помня все это?..
Мария поняла, что оставаться сейчас в городе опасно, надо уходить и искать связь с теми, кто уже начал действовать. Но сначала она решила пойти на стекольный завод к сестре и выяснить, где дочь. С трудом она добралась до завода «Октябрь» и застала там Тамару. Оказывается, девочка сразу же, как только услышала объявление по радио о начале войны, умолила взрослых, чтобы ее отправили домой в Минск. Ее с трудом усадили в поезд, но состав так и не дошел до места назначения, до города оставалось еще тридцать километров. Люди пошли пешком, вместе со всеми шла и двенадцатилетняя Тамара. Уже на подступах к Минску встретившиеся солдаты посоветовали беженцам вернуться назад, не заходя в город. И побрела обратно худенькая девочка с упрямым лицом и тонкими косичками. Так шла она несколько дней, оставив за собой сто тридцать километров. Еле живая, со сбитыми в кровь ногами добралась Тома к тетке на стекольный завод.
Осипова появилась на заводе «Октябрь» неожиданно. Сестра встретила ее слезами, дочка красноречивым молчанием, которое часто говорит больше всяких слов.
«Больше ее не оставлю, — решила Мария, — возьму с собой в город, а там видно будет…»
Переночевали, а утром мать с дочерью снова отправились в Минск. Шли медленно: у Томы болели ноги. Впрочем, если бы даже и не болели, быстрее идти было невозможно: впереди них шли люди. Шли густой толпой, очень медленно. У многих не было сил идти быстрее, они уже прошагали изрядный кусок земли, и невольно остальные включались в этот ритм и тоже шли, сдерживая шаги, как это бывает на похоронах, где все равняются по самым первым, по тем, кто идет за гробом…
Когда Мария с дочкой дошли до уже занятых немцами Осиповичей, девочка не смогла идти дальше, заболела. Сначала Мария растерялась. Остаться в чужом, оккупированном врагом месте с заболевшей дочерью казалось немыслимым. В голову приходили дикие мысли — пойти в больницу, дать телеграмму домой, на работу в Юридический институт, в конце концов обратиться за помощью в райком партии. Но мимо проходили чужие патрули, и не было больше той жизни, которая была так привычна, так нужна. Не было ни больницы, ни телеграфа, ни Юридического института и уж подавно райкома. Был вот этот краснощекий немец с приклеенной к нижней губе сигаретой, стоявший, слегка расставив ноги, посреди улицы и проверявший документы у испуганной девушки. На груди у него висел автомат. Он стоял уверенно, как хозяин, а девушка сжалась, втянула голову в плечи, как нахохлившаяся птица, не смея поднять глаза. Наконец солдат протянул бумаги. Девушка поклонилась и заспешила прочь. Он был хозяином, а она рабыней. Так, во всяком случае, хотелось думать этому красномордому солдату и так не хотелось думать Марии. И, может быть, именно в эту секунду Мария с предельной ясностью поняла, что будет рисковать жизнью, скрываться, перевоплощаться, красть, стрелять — делать все, абсолютно все необходимое для того, чтобы именно она, Мария Осипова, ее дочь Тамара и только что ушедшая девушка были хозяевами, а не этот вот немец с автоматом на груди.
На второй день пребывания в Осиповичах Тамара почувствовала себя лучше, и Мария Борисовна стала искать хоть какую-нибудь возможность добраться до Минска. На статную черноволосую женщину с озабоченным лицом обратил внимание немецкий переводчик и остановил ее.
— Кто ты и куда идешь? — спросил он, бесцеремонно хватая ее за отворот жакета.
Мария сразу нашла ответ, и потом много раз ее выручала находчивость.
— Вдова я. Моего мужа и всех родных большевики расстреляли. Вот идем с дочкой в Минск, а она заболела…
Переводчик поверил. Быстро отдал приказание, и Марию вместе с девочкой пропустили на платформу. Вскоре поезд тронулся к Минску.
Удивительная все-таки вещь человеческая психика. Если бы каких-нибудь две недели назад Марии сказали, что она почти три дня будет трястись на открытой железнодорожной платформе с больной дочерью и быть при этом благодарной судьбе, она бы даже не рассмеялась, настолько дикой показалась бы выдумка. А сейчас, полулежа на грязном, выщербленном полу платформы и прижимая к груди спящую девочку, она понимала, что ей повезло, что пешком Тамара, наверное, не дошла бы до Минска. Колеса ритмично постукивали на стыках, усыпляли, и Мария то и дело встряхивала головой, чтобы прогнать сон. Надо было загораживать солнце, чтобы не пекло оно спящего ребенка, отгонять мух. Но эти трое суток пути не прошли даром. В десятый, сотый раз обдумывала Мария будущее, рисовала в своем воображении все то, что сделает, борясь против оккупантов.
В конце третьего дня они, наконец, добрались до Минска. Мария не рискнула сразу идти домой: кто знает, что ее там ждет, — ведь всем известно, что она коммунистка. Правда, большинство соседей — свои, надежные люди, но все же надо быть осторожной, тем более что с ней ребенок. Тома пошла домой, а Мария сидела на чьей-то чудом уцелевшей лавочке перед разрушенным домом и ждала. Девочка вернулась с хорошими известиями: дом пока цел, никто Марию не искал, можно смело идти. То и дело оглядываясь, Мария пробралась до своей улицы, незаметно проскользнула во двор. Теперь они дома.
Лида, соседка, встретила их как самых близких.
Мария назавтра утром пошла на Заславскую в общежитие искать там верных людей…
Глава 2
На Заславской Марию поразила тишина. Мария не один раз бывала здесь, в студенческом общежитии, и всегда невольно сравнивала свой дом на Кузнечном с этим домом, похожим на него как две капли воды. Такой же, но в то же время и другой. И здесь, и там здание барачного типа, с маленькими квартирами, где в каждой комнате жила семья, двор с натянутыми веревками, где всегда сушилось, хлопая на ветру, выстиранное белье. Веревок было маловато, и небольшие вещи за неимением места часто висели одна на другой. И здесь, так же как и у Марии, во дворе копошилась детвора, а за врытым в землю столом сидели люди. Но если жильцы ее дома, главным образом женщины, разговаривали о хозяйстве, о своих мужьях и детях, то на Заславской больше всего толковали о лекциях, зачетах, экзаменах и конспектах. Конечно, и здесь тоже говорили о житейских делах, но главным была студенческая неповторимая жизнь, полная своих забот и волнений. Марии всегда нравилось бывать среди этого шумного веселого народа.
Сейчас во дворе было пусто, а на веревках сиротливо висела, по-видимому, забытая кем-то одна-единственная детская рубашонка. Мария постучала в дверь комнаты, где жил Рафа Бромберг со своей семьей. Несколько мгновений никто не отвечал, но когда она уже повернулась, чтобы уйти, дверь стремительно распахнулась. Перед ней стоял улыбающийся Рафа, а за ним видно было еще несколько человек.
— Маруся, как хорошо, что ты пришла, — я не открывал, пока не увидел в щелочку, кто там, — обрадовался Рафаэль. — Мы вот тут собрались и думаем…
Мария огляделась: конечно, здесь, как она и предполагала, товарищ Рафы, его однокурсник Матиас Столов, и соседка Реня Дрозд. Жена Рафы Галя Липская, тоже студентка, правда, медицинского института, хлопотала возле кроватки, где капризничала маленькая Светлана.
На Марию вопросительно смотрели синие, серые, карие глаза. От нее, как всегда, ждали совета, что делать, как жить, на что надеяться, во что верить. К ней теперь в тяжелую минуту обращались со своими сомнениями, как обращались в дни, когда она была секретарем партийной организации института.
— Сейчас подумаем, что будем делать, а пока ты, Рафа, расскажи, что за эти дни у вас было и кто остался в Минске.
Рафа обстоятельно изложил, как группа студентов собралась и решила идти к своим по шоссе Минск — Москва. Они действительно пошли по шоссе вместе с другими беженцами. Сначала двигались быстро, потом замедлили шаг, так как постепенно от идущих впереди стали передаваться, как по цепочке, вести, что дальше идти нельзя: немцы выбросили десант. И пришлось возвращаться, уже заранее зная, что они идут в город, занятый врагом, и теперь вся их жизнь пойдет по другим законам. Пришли обратно в свое общежитие, и стали разыскивать товарищей.
А тут расклеили приказы о регистрации всех мужчин.
На первый приказ решили не реагировать: никуда не ходить, а отсиживаться дома. Но когда появился второй приказ, грозящий расстрелом, то Рафа и Матиас Столов решили пойти на площадь к Оперному театру. Их, как и остальных, фашисты загнали на Сторожевку и продержали сутки. Потом была дана команда разделиться по национальному признаку — евреи в одну сторону, все остальные — в другую. Рафаэль сначала хотел присоединиться к евреям, но его отговорили товарищи. Сейчас самое главное было уйти из лагеря, а немцы решали пока этот вопрос очень просто: если еврей, то останешься, если нет — можешь уйти. Вместе с Рафаэлем на регистрацию пришла группа цыган — рабочих со стройки, в клубе которых Бромберг часто выступал со своим джазом.
— Будешь, как и мы, цыганом, — решили товарищи.
Понадобилось немного времени, чтобы цыганки принесли в лагерь сапоги, шаровары, яркую рубаху и жилет. Рафа тут же переоделся. Черноволосый и кудрявый, он мало чем отличался от остальных цыган и вышел вместе с ними из лагеря, даже не предъявляя свой паспорт. Столов, светлый и голубоглазый, вообще не вызвал подозрений и тоже благополучно вернулся домой. Правда, из предосторожности Рафаэль дошел с цыганами до того места, где они жили, и только потом пробрался на Заславскую. На первый раз все сошло благополучно, но, конечно, надо что-то придумать.
— Вот и будешь теперь цыганом, — перебила его Мария, — это хорошо получилось. Но пока у тебя нет соответствующего документа, по улицам не очень-то расхаживай, а то попадешься. А сейчас мы вот что наметим. Надо пойти в Юридический институт посмотреть, что там происходит. Время еще есть, так что можно успеть обернуться.
— Я пойду, — вскочил Рафаэль.
— Нет, — отрезала Мария, — я же сказала, что пока будешь дома. Пойдет Матик Столов. Согласен?
Вопрос был излишен.
Столов ушел и не возвращался очень долго, вернее, так показалось ожидающим. Ведь нет ничего дольше времени, когда приходится кого-либо ждать. Секунды тянутся как минуты, а минуты кажутся часами. Наконец послышались знакомые шаги и вошел Столов. Он держал в обеих руках тяжелые свертки, которые бережно опустил на пол.
— Попить бы, — как-то виновато попросил он, — а то очень жарко.
Галя бросилась за водой. Матиас выпил кружку залпом, вытер рот и лицо.
— А что в институте делается, Мария Борисовна! — негромко сказал он. — Просто смотреть страшно. Все перевернуто, разломано, по всему двору бумаги летают. Немцы заняли помещение и портят все как могут. Я все-таки в канцелярию и в деканат прошел. Там все разбросано, машинки все разбиты, целых нет. Я вот что взял. — Столов показал на свертки. — Это чистая бумага и копирка. Пригодится нам, наверное. Хотел еще взять, но мне помешали…
Он не объяснил, как ему помешали, не стал рассказывать, что его чуть не пристрелил немецкий солдат, и, закончив свое сообщение, молча сел на кровать.
— До чего же ты молодец, Матик, — похвалила его Мария. — Теперь будет на чем листовки писать, правду людям рассказывать.
Хотя время было не позднее, около шести, но Мария решила остаться в общежитии ночевать. Надо было подчиняться новым порядкам: немцы разрешали гражданскому населению ходить по городу с пяти часов утра до семи часов вечера. Чтобы быть на улице позже или раньше, требовалось получить специальный пропуск. Для выхода из города пропуск был вообще необходим. Чтобы дойти от общежития до Кузнечного переулка, нужно было немало времени, тем более что любой немец мог остановить на улице каждого, кто по каким-либо причинам привлек к себе его внимание, и задержать его. Не обязательно увести с собой, но просто задержать, обыскать, отнять любую понравившуюся ему вещь и заодно отнять у человека драгоценные минуты, которые оставались ему до комендантского часа. Фашистам доставляло удовольствие останавливать молодых женщин и девушек и не спеша издеваться над ними, чувствуя свою безнаказанность. Враги редко пропускали случай задерживать прохожих перед самым комендантским часом, а потом сопровождали гоготом и свистом бегущего из последних сил человека.
Хотя с начала войны и прошло больше трех десятков лет, но если спросить любого, кто попал в оккупацию даже на короткий срок, хорошо ли он помнит то время, то в ответ вы услышите недоуменный вопрос:
— Разве можно такое забыть?
Разве можно забыть время, когда твой дом в любой момент мог перестать быть твоим и в него бесцеремонно врывались гитлеровские молодчики? В лучшем случае они уходили, забрав с собой все ценное, а то просто выгоняли всех жильцов на улицу и как хозяева располагались в их домах. Или уходили, уводя с собой всех тех, кто почему-либо вызывал у них подозрение, а то и без всякой причины для ареста.
Разве можно забыть ту лютую ненависть и боль, которые как тиски сжимали сердце и комком застревали в горле, мешали дышать? Те, кто был посильнее, чувствовали, что хоть какое-то спокойствие можно найти только в действии, причем немедленном и как можно более активном.
Вот почему всем собравшимся у Рафы не терпелось начать писать листовки сейчас же, немедленно.
— Будем слушать радио и записывать сводки Информбюро, — сказала Мария, — а потом их переписывать под копирку.
Но сводок сейчас не было, так как на Заславской не имелось радиоприемника, а откладывать еще на два дня не хотелось, потому что оккупанты всюду расклеили свои объявления о том, что Москва уже взята и с большевиками покончено.
Все стали сочинять текст первой листовки. Она не отличалась особыми литературными красотами и не была длинной и обстоятельной. Несколько строк этого обращения к населению опровергали фашистскую ложь и говорили о том, что Москва по-прежнему столица Советской Родины, и что врагу не видать ее как своих ушей, и что верить ему ни в чем нельзя.
Сначала все старательно выводили четкими буквами слова надежды, а потом начали писать скорописью, под копирку, следя лишь за тем, чтобы текст можно было легко прочитать. Пятьдесят листовок было написано в этот вечер, а утром подпольщики разошлись в разные районы, чтобы наметить наиболее подходящие для расклейки места. Оказалось, что лучше всего ориентироваться по немецким приказам — они были вывешены со знанием дела, на самых удобных местах. Разыскали клей (к счастью, в общежитии нашлось несколько тюбиков, и их разделили на всех) и засветло разошлись, чтобы с наступлением темноты сделать свое дело.
Операция прошла благополучно, никто из подпольщиков не вызвал у немцев подозрений, когда шел на задание с листовками и клеем, и никто не попался во время работы. На Заславской в этот вечер было радостно, как будто на мгновение вернулось прежнее, ставшее таким далеким дооккупационное время — уже был сделан первый шаг, а первый шаг, как известно, самый трудный на длинном и тяжелом пути борьбы с врагом.
Теперь Мария твердо знала, что рядом с ней есть товарищи, готовые выполнить все, что они решат. Но она прекрасно понимала, что нельзя руководить, полагаясь только на себя, и Осипова начала искать контакты с представителями подпольного райкома. Это было не так-то просто. Городскую подпольную парторганизацию в целях конспирации перестроили по производственно-территориальному признаку. За основу принималась ячейка во главе с секретарем, в которую входило не более пяти человек, работавших на данном предприятии или в учреждении. Ячейки были полностью законспирированы друг от друга. Работу ячеек направляли и координировали кустовые комитеты. Через своих членов и специально выделенных связных они поддерживали с ячейками постоянную организационно-оперативную связь. Для руководства кустовыми комитетами создавались подпольные городские райкомы партии.
Марии удалось найти хорошо знающего ее по партийной работе товарища, и через него она познакомилась с представителем райкома партии. Первая встреча состоялась днем на Бетонном мосту, где они договорились о дальнейшей связи. Здесь же Осипова получила первое задание: ее группе поручалось подготовить как можно больше оружия для партизан, собрать сведения о расположении воинских частей и, конечно, распространять листовки. Наконец-то Мария почувствовала себя спокойней: она связалась с представителем подпольного райкома, включилась в общее дело и может внести своим трудом хоть какую-то частицу в дело борьбы против захватчиков.
Когда у Марии спросили, справится ли она и есть ли у нее надежные помощники, она уверенно ответила одним словом:
— Да!
Так возникло ядро подпольной группы, которая позже, значительно расширившись, вошла в официальные документы под лаконичным названием «группа преподавателей и студентов Юридического института», а Мария Борисовна Осипова под псевдонимом «Черная» стала руководителем этой группы.
Наступили трудовые будни подпольщиков. Именно трудовые, потому что война — это и есть изнуряющий труд, когда люди забывают о своем личном и работают без отдыха и срока, чтобы ускорить победу.
Каждый день приносил с собой новости. Большей частью это были известия о бесчинствах захватчиков, но одновременно появлялись все новые и новые люди в подпольной группе. Однажды к Рафе Бромбергу пришел на Заславскую комсомолец Владимир Сенько, с которым он был знаком еще по работе на заводе. Володя сказал, что он ищет контакта с подпольщиками и хочет бороться против гитлеровцев.
— Ты можешь мне верить, Рафа! — горячо говорил он. — У меня и надежные ребята есть, одного ты знаешь, это мой брат Костя, ну и другие тоже не подведут.
— А почему с этим ты ко мне пришел? — поинтересовался Рафа.
Владимир даже растерялся от такого вопроса.
— Не может быть, чтобы такой боевой парень, как ты, в стороне от дела стоял. Ты что, мне не веришь? — вдруг вспыхнул он от обиды. — Тогда прямо так и скажи…
Рафаэль успокоил товарища и сказал ему, что он кое с кем посоветуется и пусть он придет завтра вечером.
— Только ты имей в виду на будущее, — предупредил Рафаэль Володю, — дело будешь иметь только со мной. Мы не в игрушки играем. Подбирай надежных ребят, формируй их в пятерку и учти, никто не должен знать друг друга — так надо.
* * *
В первые же месяцы войны в городе уже существовала широкая сеть законспирированных разведывательных групп, созданная партийным подпольем вместе с партизанскими отрядами и бригадами. Подпольщики всюду имели своих людей: они наблюдали за прохождением воинских эшелонов, собирали подробные сведения о численности и вооружении местного гарнизона. Они разведывали расположение и характер воинских объектов в городе и его окрестностях — под наблюдением были всевозможные оборонительные сооружения, аэродромы, стоянки автомашин, заправочные пункты, склады, базы. Все эти сведения сосредоточивались в подпольных партийных комитетах Минской области и в партизанских отрядах, а наиболее ценные разведданные направлялись за линию фронта.
Всю эту работу проводили специальные разведчики, привлекая себе в помощь самых разных людей. Такой разведчицей стала и Осипова (Черная). Ее обеспечили документами, в которых говорилось, что она работает на железной дороге. Этот пропуск давал ей возможность благополучно миновать уличные патрули. Правда, Мария редко ночевала у себя дома вместе с дочерью, а большей частью где придется, но все же эти бумаги давали ей возможность быть на легальном положении.
В группу Черной, кроме Бромберга, Сенько и Столова, впоследствии вошли Антонина Соколова и Мария Молокович — преподаватели Юридического института, преподаватель Политехнического института Николай Николаевич Кречетович, студентки — Галя Романенко, Валентина Мочальская, доцент Белорусского университета Илья Некрашевич, Франтишка Злоткина и другие.
По законам конспирации подпольщики не знали, кто еще входит в группу. Члены первоначальной группы подбирали себе для подпольной работы двух-трех, редко пять человек и имели дело только с этими людьми. Каждый имел свое задание и о выполнении его докладывал своему старшему по группе. Почти никто не знал настоящее имя Черной, кто она и где живет.
Задания у подпольщиков были разнообразные: то надо было разъяснять населению истинное положение дел, писать и расклеивать листовки, помогать медикаментами и продуктами раненым воинам, укрывать еврейское население от гитлеровцев, организовывать побеги военнопленных из лагерей, переправлять людей к партизанам.
Кроме группы Осиповой, в Минске уже действовали еще несколько подпольных групп. Иногда получалось так, что эти группы делали одну и ту же работу. Бывало, что подпольщики Черной, выходя на задание, обнаруживали на заранее намеченном ими месте «чужую» листовку или, придя за оружием, уже не находили его и т. д. Так происходило потому, что подпольные группы старались соблюдать строжайшую конспирацию — иначе им грозил провал. В таких случаях подпольщики не испытывали чувство досады, что их кто-то опередил, а радость, что с ними рядом борются за общее дело пусть не известные им, но настоящие советские патриоты.
Уже с самого начала оккупации подпольщики организовали десятки явочных квартир, где они могли встречаться, проводить свои совещания, принимать партизанских связных, хранить оружие и боеприпасы, слушать сводки Совинформбюро по радио и т. д.
Такая надежная квартира была и у группы Черной. Старый рабочий Николай, Прокофьевич Дрозд со своей семьей жил рядом с общежитием на Заславской улице. И вот сюда, в дом № 33, приходили на связь партизаны и подпольщики, здесь проходили совещания, а в подвале дома хранились оружие и медикаменты. Вся семья Дрозд — хозяйка Елена Адамовна, две дочери — девятнадцатилетняя Регина, или, как ее все ласково называли, Ренечка, и младшая Яня — все принимали самое деятельное участие в работе. Реня Дрозд была в числе первых, кто вошел в подпольную группу Марии. У Черной было несколько таких явочных квартир: на Полевой улице в доме Татьяны Мазняковой (Тони), в общежитии на Заславской у Галины Липской, в деревне Столовое, на Германовской улице у колхозников Александры и Вячеслава Стефанович. В хату Александры Яковлевны и Вячеслава Павловича приходили связные, здесь прятали оружие и медикаменты, укрывали бежавших военнопленных. Никто не предлагал Стефановичам делать то, что они делали, — это получилось само собой. Они просто не могли жить иначе.
И вот с чего все началось.
Когда мимо дома Стефановичей фашисты погнали первую колонну военнопленных и еще каких-то изможденных людей в штатском и Александра Яковлевна увидела их бледные, худые лица и неуверенную походку, у нее перехватило дыхание. Она кинулась в дом, сгребла в платок всю еду, что была у нее, и выскочила на обочину дороги. Дрожащими руками она совала проходящим куски хлеба, сало, огурцы, картошку, а когда конвойный с силой отпихнул ее и прогнал за калитку, пригрозив расстрелом, она продолжала бежать вдоль забора, выдирая из грядок зеленый лук, и кидала его в середину колонны.
Колонны прошли, а она не находила себе места — не могла забыть лиц и глаз пленных. Особенно ей запомнился совсем молоденький солдатик, с тонкой мальчишеской шеей и светлыми, как лен, волосами. Ему уже не досталось хлеба, но она успела бросить ему огурец и большой пучок зеленого лука. Шура смотрела на своего сына и ясно представляла себе, что вот так в этом строю обреченных мог бы шагать ее Мишка, родись он на десяток лет раньше. Нервы не выдержали, и женщина заплакала, глядя на нее, заревели дети…
Такой и застал ее вернувшийся муж.
— Ты что, мать? — с испугом спросил он.
Шура рассказала ему о том, что было.
— Немцы здесь укрепления строят, — объяснил ей Вячеслав Павлович, — значит, все время будут наших мимо дома гонять.
Когда немного стемнело, Стефанович пошел на соседнее поле и начал собирать валявшееся возле убитых оружие. Он прятал его в укромное место на меже и в сарае, где раньше был колхозный ток. Часть оружия спрятали в погребе.
— Помоги мне, — позвал Стефанович жену, — тут одежда валяется, надо взять — кому-нибудь пригодится.
Шура пошла к нему на подмогу: у нее не хватило смелости совсем близко подойти к мертвецам, а их стало намного больше, чем раньше, — фашисты не жалели пленных. Она взяла из рук мужа одежду и только собралась идти домой, как ее взгляд упал на лежащего ничком красноармейца. Это был тот солдатик с тонкой шеей и светлыми волосами — она сразу узнала его, — из кармана его рваных брюк торчали зеленые луковые перья. От жалости и горя у Шуры закипело сердце. Она даже не могла заплакать, а механически, как заводная, подошла к убитому поближе и так стояла над ним, не в силах сделать шага. Муж увел ее домой, и с этого дня Шуру как будто подменили: она бесстрашно ходила на поле в поисках оружия и помогала Вячеславу прятать его.
Однажды к Стефановичам пришла сестра Шуры Татьяна и привела с собой молчаливую черноволосую женщину, Александра Яковлевна, ничего не спрашивая, поставила перед гостьей миску с картошкой, положила хлеб.
— Кушайте, — просто предложила она.
— Это Мария, — представила женщину Татьяна, — она к тебе будет приходить или разных людей присылать. Тогда помогай им всем, чем можешь.
Много осторожных ног прошло по тропинке, ведущей к невзрачной хате Стефановичей. Всегда находились здесь еда, одежда и доброе слово, что бывает иногда дороже всего для измученного, потерявшего веру в себя человека.
У Вячеслава Стефановича — Ватика, как его звали товарищи, остались только одни брюки и рубашка — вся остальная его одежда «ушла на военнопленных». Потом, когда одевать беглецов было не во что, Шура ходила по знакомым и соседям и выпрашивала старые мужские вещи. Большинство, ни о чем не спрашивая, отдавали все, что могли. Это было время, когда вообще люди старались задавать меньше вопросов. Доверие, которое в те страшные годы было необходимо как воздух, завоевывалось временем и делом. И так шли дни, и все это было просто и обыденно. Многие потом вспоминали добрым словом Стефановичей, и было за что: не одному и не двум нашим людям спасли они жизнь.
Недалеко от хаты Стефановичей, на этой же Германовской улице, была другая явочная квартира. Ее хозяева — тоже колхозники — Василий Иванович и Анастасия Александровна Марчук, их дочери Клава и Нина и сын Шура всем, чем могли, помогали подпольщикам и партизанам. Они прекрасно знали, что им за это грозит мучительная смерть, но все равно делали все, что было в их силах. Восемнадцатилетний Шура со своими товарищами подбирал оружие и прятал его в соломенную крышу дома, в погреб и даже в хате. Это оружие забирали партизанские связные, приходившие к Марчукам на явочную квартиру. Старшая дочь Клава сообщала ценные сведения партизанам, а младшую дочь Нину устроили на работу в аптеку, откуда немало медикаментов перешло в лес в партизанские отряды.
Мария бывала и у Стефановичей, и у Марчуков. Она появлялась иногда и без предупреждения, но чаще сообщала о своем приходе заранее, чтобы встретиться со связными от партизан и подпольщиками, сообщавшими Осиповой всевозможные сведения или получавшими от нее задания. Осипову хорошо знали в этих домах, и достаточно было пришедшему сослаться на нее, чтобы хозяева сделали все возможное для этого человека.
Однажды Мария пришла к Марчукам и застала всю семью в волнении: фашисты издали очередной приказ, по которому юноши и девушки должны были явиться для отправки на работу в Германию. Шестнадцатилетняя Нина попадала под этот приказ (у Клавы был маленький ребенок, и отправка ей не грозила).
— Что будем делать, Мария? — растерянно спросил Василий Иванович. — Надо девку выручать.
На Осипову с надеждой смотрела заплаканная мать, в углу всхлипывала испуганная Нинка.
«Что же придумать? — размышляла Мария. — Достать справку о болезни? Долгое дело, да и соседки могут проболтаться. Спрятать девчонку тоже нельзя: родителей начнут таскать за укрывательство. Что же делать?»
И вдруг неожиданная мысль осенила ее.
— Замуж ее выдадим, а я буду свахой! — сказала она. — И жениха подходящего найдем.
Через день по всей улице прошла торжественная процессия: Мария с большой бутылкой самогона, а рядом с ней гордо выступал высокий, красивый, светловолосый парень с белой повязкой полицая на рукаве, чуть сзади шли остальные сопровождающие.
— Такой видный парень, а полицай!
— Неужели за предателя дочку отдадут? — шептал кто-то.
— Повезло Нинке, хорош жених!
— Теперь будет у Марчука зять полицай — живо разбогатеют.
Много реплик летело вслед идущим, и злых, и презрительных, и завистливых, но цель была достигнута. Соседям все было ясно: к Марчукам идут сваты с женихом. Сваха и ее спутники прошли в дом и начали обсуждать, когда будет свадьба, сколько готовить угощения и самогонки. Не забыли позвать на сговор соседок, выбрали тех, у которых ничего не держится на языке: им достаточно было нескольких минут, чтобы растрезвонить новости по всей деревне. Потом Нина проводила «жениха» через всю улицу, и только тогда они распрощались. Никому из соседей не могло прейти в голову, что вся эта свадьба — ловкая выдумка. Уж больно естественно вела себя «сваха» Мария, несшая четверть самогонки (в бутыль была налита обыкновенная вода) и красавец полицейский (партизанский связной Миша Алисионок). Так и ходила Нина в невестах, пока не донесли на Марчуков и не забрали всех, кроме Нины, в гестапо.
Нину успели предупредить соседи, что всех ее родных арестовали и, хотя она видела у окна хаты на привычном месте чуть сутулую фигуру отца (Анастасию Александровну увезли сразу), она не вошла в дом. Три дня держали фашисты у окна старого Марчука как приманку: вдруг кто-нибудь придет из партизан и попадет в засаду, но соседи всех успели предупредить, и разъяренные гитлеровцы уехали, забрав с собой Василия Ивановича. Нина несколько дней пряталась у знакомых и у чужих людей, а потом ее вывели из города и помогли добраться до партизан.
Как ни старались гестаповцы узнать у Анастасии Александровны и Василия Ивановича, с кем они связаны, все было напрасно: не сломился дух этих мужественных людей ни от угроз, ни от побоев. Три недели держали в подвалах гестапо Анастасию Александровну и Василия Ивановича, но ничего они не сказали, не выдали товарищей, и их, обессиленных и избитых до полусмерти, отпустили, а их старшую дочь Клаву, на которую был донос, что она тесно связана с партизанами, — отправили в лагерь смерти.
Прошло с тех пор три десятка лет, но по-прежнему в дом на Германовской улице приходят и приезжают те, кому помогли славные патриоты в те черные дни. Их встречают как родных. Марчукам есть о чем вспомнить: никогда не забудут старики застенки гестапо, а Клава — лагерь смерти, из которого она чудом вышла живой, Нина и Александр — партизанские будни.
Особенно много воспоминаний бывает, когда в гости приезжает Михаил Иванов. Впервые он переступил порог этого дома, когда бежал из лагеря военнопленных. Его, ни о чем не спрашивая, накормили, переодели и спрятали. Сегодня нам иногда трудно представить себе, как много могут значить такие простые, в сущности, слова «пустить», «накормить», «спрятать». Но в те времена каждое из этих простых слов часто было синонимом слова «жизнь», а отказ — слова «смерть». Поэтому-то до конца своих дней будет помнить Михаил Иванов слово «входите», которое он, обессилевший и все еще не веривший в то, что и впрямь вырвался из фашистского ада, услышал в дверях домика на Германовской улице. Там он прожил несколько дней, а потом ушел, и его вновь арестовали и отправили в лагерь смерти Тростенец. Узнав, что «их» военнопленный находится в Малом Тростенце, Клава Марчук вместе с сестрой Александры Яковлевны Стефанович — Татьяной Мазняковой, которая тоже в свое время прятала другого военнопленного, Григория Бологова, отправились в лагерь смерти.
Женщины шли через лес. Они почти не разговаривали, изредка перебрасываясь ничего не значащими фразами. Их объединяло одно и то же желание — во что бы то ни стало спасти этих малознакомых им людей. Клава шла и думала о своем муже. Кто знает, может быть, и он попадет в тяжелое положение и кто-нибудь поможет ему? О том же думала и Татьяна. Занятые своими мыслями, женщины не заметили, как дошли до лагеря.
Огражденный в несколько рядов колючей проволокой лагерь выстроили, вырубив часть леса. Его ворота охраняли специально обученные овчарки. Они кидались на каждого, кто не был одет в немецкую форму, и безжалостно рвали его. Свирепые псы были настолько надежной охраной, что часовые не боялись оставлять на них единственный выход из лагеря. Женщины осторожно начали подходить к воротам, и Татьяна стала спокойно разговаривать с собаками. Она говорила с ними, как с людьми, не повышая голоса, уверенно и деловито, и все ближе и ближе приближалась к воротам. Молча, сжав зубы и сдерживая дыхание, за ней шла Клава. Трудно объяснить, почему собаки беспрепятственно пропустили женщин, но это произошло, и они вошли в дом, где расположилась охрана.
Удивлению часовых не было предела.
— Как вы сюда попали? — наконец спросил старший по званию охранник.
— Через ворота, — ответила Мазнякова.
— А собаки где? — продолжал допрашивать немец.
— Они остались у входа.
— Этого не может быть, — рассердился охранник. — Говорите правду. Что вы с ними сделали?
— Ничего, — спокойно сказала Татьяна. — Они живы и здоровы. Просто мы объяснили им, зачем нам надо в лагерь.
Начальник послал часового проверить ее слова. Тот вскоре вернулся, подтвердив, что овчарки на месте.
— Немедленно пристрелить всех собак, — приказал старший. — Они не годятся для охраны. А вы для чего пришли? — обратился он к женщинам.
Те рассказали, что в лагерь случайно попали их родственники и они просят, чтобы тех отпустили.
— Мы, господин начальник, пришли к вам не с пустыми руками, — уговаривали женщины, — разрешите их взять. Сделайте милость.
Тот согласился, пропустил женщин в лагерь, где они нашли Иванова и Бологова, без сил лежащих на земле.
— Давайте, что принесли, и забирайте своих родственников, — распорядился начальник.
Женщины отдали ему самогонку и золотую царскую пятерку и стали пытаться помочь подняться пленным с земли. Все их старания были напрасны, потому что Михаил и Григорий не могли держаться на ногах — так они были избиты. Пришлось женщинам нести их на спине. Под смех и грубые шутки охранников они вынесли пленных за ворота и медленно побрели со своей тяжелой ношей к лесу. Последнее, что им запомнилось, это неподвижно лежащие в канаве собаки.
Хотя обратный путь был долгим и нелегким, женщинам казалось, что они прошли его быстрее — их силы поддерживало сознание, что они спасли людей. На опушке мужчины стали пытаться идти сами, опираясь на палку и на плечи своих спутниц. Так, шаг за шагом, часто останавливаясь, они дошли до города. Здесь, дома, Михаил и Григорий постепенно собрались с силами. Впоследствии они вошли в группу Осиповой.
Было еще одно явочное место, о котором Марии Борисовне до сих пор страшно вспоминать, — это пошивочная мастерская, находившаяся во дворе… тюрьмы. Здесь надзирательница женского отделения тюрьмы Мария Скоморохова помогала Марии встречаться с подпольщиками из гетто.
…Однажды, когда Мария пришла в общежитие на Заславской, она застала Рафаэля Бромберга дома, он о чем-то доверительно разговаривал с симпатичным парнем в рабочей куртке.
— Миша Коваленко, — представил он его Осиповой, — а это наша знакомая Мария.
Соблюдая законы конспирации, он больше ничего не сказал об Осиповой.
— Вот тут говорим, что надо Мише на работу поступать. Есть возможность работать на грузовой шофером.
— Конечно, работа хорошая, — подтвердила Мария, — стоит подумать…
Коваленко побыл еще немного и, попрощавшись, ушел.
— Мишка тоже с нами, — объяснил Бромберг. — Он будет хорошим связным. Что мне делать с моим паспортом? — вдруг спросил Рафа. — Ведь надо его сдавать на регистрацию.
Немцы вывесили очередной приказ о том, что все жители города должны сдать паспорта на регистрацию, за невыполнение, как всегда, — смерть. А в паспорте Бромберга четко была выведена его национальность — еврей. Долго сидели Мария и жена Рафы Галя Липская над его паспортом. Они никогда не были ни художниками, а тем более подделывателями документов. Но тут вопрос стоял о дальнейшей судьбе человека, надо было что-то предпринять. Долго практиковались обе женщины сначала на старой зачетной книжке — на ней пробовали стирать и заново писать другие отметки, а когда рука уже привыкла, взялись за паспорт. В общем, получилось кустарно, но все-таки приемлемо. Теперь Бромберг стал цыганом Рафаэлло и должен был по виду соответственно оправдывать свой новый документ. Рафа ходил одетый в длинную синюю рубашку навыпуск с многочисленными белыми пуговками, в широкие брюки, заправленные в сапоги. Белоснежные зубы, смуглый цвет лица и кудрявые волосы как нельзя лучше подтверждали его национальность (а впоследствии Рафаэль отпустил пышные черные усы). Он получил кличку «Цыган», под которой долго работал.
Хотя женщины старались на совесть, исправляя документ, но идти с ним самому Рафе на регистрацию все же было рискованно. Единственная надежда, что все пройдет благополучно, основывалась на том, что в управе служила Лида Драгун. Девушка до войны работала на том же заводе, что и Рафаэль, и он дружил с ее братом. Никто не знал, почему Лида пошла работать в управу, но все же хотелось попасть с паспортом именно к ней. С документом пошла Галя Липская. С замиранием сердца пришла она в управу, дождалась, когда Драгун освободилась, и молча подала ей паспорт мужа. Лида внимательно посмотрела на лицо Гали, потом достала штамп и сделала в документе необходимую отметку. Когда Галя радостная вернулась домой, Рафа торжествовал.
— Я знал, что все так обойдется, — говорил он. — Не могла Лида, дочь потомственного рабочего, не помочь своим.
Он был прав: девушка впоследствии помогала многим нашим людям.
На этот раз интуиция не обманула подпольщиков, не обманывала она их еще много раз, хотя, конечно, были просчеты и провалы. Но доверие часто было тем ключом, который открывал сердце человека. Единомышленники находили друг друга даже среди малознакомых людей, и этот контакт возникал уже надолго. Образовывалась своеобразная цепочка, которую нелегко было разорвать, а еще труднее обнаружить. В такую цепочку включилась и Мария со своей группой, стала одним из основных звеньев, прочным и надежным. Она знакомилась с разными людьми, но только через кого-нибудь из товарищей. Так, однажды к Осиповой пришла знакомая ей по Юридическому институту Тоня Соколова и предложила привести, как она выразилась, «хорошую женщину» — Франтишку Злоткину.
— Она может нам очень пригодиться, свой человек, надежный, — говорила Соколова. — Немецкий язык знает хорошо, да и польский тоже в совершенстве. Франя родилась в Польше и приехала из Варшавы в 1933 году, ее в Минске все считают полькой, а то, что она еврейка, никто не знает.
Мария разрешила Соколовой познакомить с ней Злоткину, и эта встреча состоялась в сквере на Бобруйской улице. Марии сразу понравилась и внушила доверие эта женщина с высокой прической и быстрыми, энергичными движениями, но она не подала виду и продолжала беседу на нейтральные темы. Зашел разговор и о работе.
— Я слышала, что нужен переводчик в железнодорожную больницу, — осторожно сказала Осипова. — Там был переводчик, правда, он работал на русских, и об этом узнали немцы, но гестапо опоздало — переводчик успел скрыться.
— А откуда узнали, что он связан с нашими? — спросила Злоткина. — Выдал кто-нибудь, или он сам был неосторожен?
— Скорее всего кто-то выдал, он умело работал, — задумчиво продолжала Мария. — Народ там подобрался всякий, вот и донесли. Но он все же многим успел помочь, хотя мог бы сделать еще больше, если бы продолжал работать в больнице. Очень, очень нужен там надежный человек.
— Наверное, сейчас администрация устраивает очень строгую проверку, — заметила Злоткина. — Вряд ли теперь немцы будут брать на это место кого попало…
— А нужно, чтобы взяли не кого попало, а кого нам надо, — перебила ее Мария. — Вот я и говорю вам, Франя, подумайте об этой работе.
Франтишка даже растерялась от неожиданности.
— Я, наверное, ничего не сумею сделать, если даже такого опытного работника раскрыли. Да и какая, правда, от меня может быть польза в этой больнице — я ведь не врач и вообще в медицине мало что понимаю.
— Вы попробуйте устроиться в больницу, а что делать — это мы вам сообщим, — успокоила ее Мария. — А может быть, вы, Франя, боитесь, так прямо и скажите. Дело ответственное, опасное. Никто на вас за правду в обиде не будет.
— Я, конечно, боюсь, — честно призналась Злоткина, — но это, как бы вам объяснить, ничего не значит. Я все сделаю, что надо, иначе теперь жить нельзя. Только смогу ли?
— Сможешь, Франя, конечно, сможешь. — Мария подошла поближе к женщине, обняла ее. — А ты очень многим сможешь помочь, даже сама не представляешь.
— А ты думаешь, я справлюсь? — Женщины не заметили, как перешли на «ты».
— Будет трудно, но справишься, — заверила Мария.
Через несколько дней Злоткина пошла устраиваться на работу в железнодорожную больницу. Долго плутала она среди путей и, наконец, дошла до здания, где разместилась администрация. Встретиться с начальством помогло превосходное знание немецкого языка и располагающая внешность. Администратор расспросил Злоткину, кто она, и, по-видимому, остался доволен.
— Ваш паспорт, — немец протянул руку за документом.
Франя с готовностью открыла сумочку и вынула свой новый, выданный уже в управе паспорт.
Немец внимательно просмотрел его и вернул.
— Завтра приходите на работу, — лаконично сказал он.
Франтишка распрощалась и ушла. Она уже уходила с территории больницы, когда почувствовала, как бешено бьется сердце и дрожат ноги.
«А что было бы, если б он отказал?» — испуганно подумала она и сама удивилась своему испугу. Она боялась не того, что ей предстояло делать, а того, что немец мог отказать и не взять ее на работу. Франя пошла не домой, а к Марии.
— Все в порядке, — облегченно выдохнула Франтишка. — Меня приняли.
— Значит, одобрили нашу работу, — улыбнулась та.
А поработать Осиповой действительно пришлось: снова нужно было подделывать документы. Правда, тут она была на второстепенной роли. Основным исполнителем был преподаватель Политехнического института Николай Николаевич Кречетович, у которого обнаружились незаурядные способности к тонким графическим работам. Осипова и Кречетович сделали Франтишке новую метрику. Оккупанты ввели такой порядок: паспорта выдавались при двух условиях: 1) на основании документов — тогда паспорт был без красной полосы и 2) на основании свидетельских показаний — паспорт с красной полосой.
У Франтишки была метрика, в которую Кречетович умело вписал, что она, Злоткина Франтишка Яковлевна, католического вероисповедания. Документ был подделан виртуозно и не вызывал никаких сомнений — паспорт выдали без задержки, причем это был паспорт без красной полосы.
Вот с помощью этого паспорта и был выдержан ответственный экзамен — Злоткину приняли на должность переводчицы к главному администратору железнодорожной больницы. Теперь уже можно было приступать к выполнению различных заданий. Но Осипова пока ничего не поручала, а только советовала Фране:
— Не торопись, оглядись сначала, разберись хоть немного, что к чему.
Никогда не забудет Франтишка свою работу в больнице. Особенно трудно было в первые дни, когда она себя чувствовала совершенно одинокой среди незнакомых и в большинстве своем враждебно настроенных людей. С этими людьми ей теперь предстояло работать, любезно им улыбаться, принимать участие в их разговорах и всячески показывать свою преданность новому порядку. Непосредственный начальник Злоткиной — господин шеф, как все его называли, самодовольный и надменный немец, не упускавший случая подчеркнуть свое чистокровное арийское происхождение, казалось, не замечал новую переводчицу. Но несколько раз Франтишка ловила на себе его быстрые пристальные взгляды, насторожившие ее.
«Не доверяет, ждет, что я буду делать, — подумала Злоткина. — Ну что же, постараюсь выдержать экзамен».
Перед тем как выйти из комнаты, шеф каждый раз подчеркнуто тщательно убирал со стола все бумаги, запирал их в стол. Но однажды он, как обычно, собрал все документы, положил их в ящик и быстро вышел. Франя краем глаза увидела, что из замочной скважины торчит головка ключа.
«Не может быть, чтобы шеф забыл ключ, — мелькнула мысль. — Это, конечно, проверка».
Злоткина, не поднимая головы, продолжала спокойно работать — переводить очередной текст. Резкий стук открывающейся двери заставил ее вздрогнуть: немец буквально влетел в комнату. Он даже не сумел скрыть своего разочарования, увидев занимающуюся своим делом переводчицу, он подошел к столу, открыл ящик: все было на месте, все бумаги лежали нетронутыми, а это были очень ценные документы: бланки, удостоверения личности для передвижения по железной дороге, очень нужные партизанам и подпольщикам. Особенную ценность представляли бланки с круглой печатью. С таким документом люди могли свободно передвигаться не только по железной дороге, но по улицам и окрестностям Минска. Каждый такой бланк предоставлял его владельцу большие возможности, и понятно, что достать их было крупной удачей.
У многих железнодорожников были такие документы. А железнодорожникам-подпольщикам они очень облегчали работу. Не случайно именно на железной дороге возникла одна из первых подпольных групп города Минска. Подпольщики организовывали диверсии, ремонтировали паровозы так, что они могли двигаться день-два, а потом снова требовали ремонта; срывали график движения поездов с гитлеровцами, направляющихся к линии фронта; вывели из строя водокачку и трубопроводы. Железнодорожники были связаны с подпольным городским комитетом партии и партизанами, выполняли их ответственнейшие задания. Именно с помощью подпольщиков-железнодорожников из города вывозили людей и доставляли их к партизанам. Фашисты довольно быстро поняли, что на железной дороге работают бесстрашные патриоты, и стали принимать свои меры, но все было напрасно. Несмотря на то, что фашисты привезли из Германии рабочих разных специальностей и тем самым чрезвычайно усложнили условия работы подпольщиков, в депо по-прежнему появлялись листовки с сообщениями Советского Информбюро, продолжались диверсии и саботаж.
Обо всем этом Франя узнавала постепенно, но пока главное ее внимание было направлено на то, чтобы как можно больше войти в доверие к администратору, и она не жалела сил, чтобы играть роль исполнительной и ограниченной службистки. Немец постепенно начал ей доверять. Он еще несколько раз оставлял для ее обозрения свои бумаги, но все было напрасно: переводчицу явно не интересовало ничего, кроме ее работы, и шеф перестал обращать на Злоткину особое внимание. Франя работала уже больше месяца, а Мария даже не давала о себе знать. Франтишка беспокоилась. Иногда к ней приходили ненужные, расслабляющие волю мысли.
«А вдруг товарищи передумали и мне не доверяют? — размышляла она, но тут же сама себе и возражала: — Не может этого быть, просто еще не время».
И время наконец настало. Однажды к ней домой пришла соседка Марии Лида Дементьева и громко, чтобы слышала хозяйка, объявила.
— А я за тобой. Мария платье продает, как раз на тебя. Пойдем, посмотришь.
Злоткина не заставила дважды повторять приглашение. Быстро надела жакетку, привычным жестом проверила, не растрепалась ли прическа. Мария уже ждала их…
— Ну как, привыкаешь понемногу? — и, не дожидаясь ответа, продолжала. — Слушай, что я тебе скажу. Беда у нас.
У Франи бешено забилось сердце, но вслух она только спросила:
— Что случилось? Говори.
А беда действительно была большая: гестапо арестовало связную Тоню Соколову… По заданию подполья Соколова перебралась в одну из деревень Уздинского района, где она держала связь со скрывающимися в лесу в землянке нашими ранеными. Тоня снабжала их медикаментами, одеждой, передавала им документы и выполняла еще целый ряд заданий. В этой же деревне находилась и семья Соколовой — ее мать и двухлетний сын.
В этот раз Тоня, как обычно, пришла к Марии, сообщила ей очередные сведения и сказала:
— Маруся, еще раненые прибыли. Много тяжелых. Срочно нужны йод и перевязочный материал…
Мария собиралась недолго, накинула платок на голову, надела старенькую жакетку, и женщины ушли. Они шли по знакомой им дороге по направлению к гетто, выбрали удобный момент и поодиночке с разных сторон подлезли под проволоку. Также, делая вид, что они не связаны друг с другом, пошли в больницу, где подпольщица — врач Любовь Исааковна Иргер приняла их и снабдила всем, чем могла. Получилось два довольно объемистых узла: перевязочные материалы, вата, четыре килограмма соли и большая граненая бутыль с йодом. Теперь надо было уйти незамеченными из гетто и добраться до Кузнечного переулка, где жила Мария. А путь был неблизкий. Выйти из гетто помогли свои люди: одни отвлекли внимание полицаев, а другие прикрыли отход подпольщиц. Женщины ловко пролезли под проволокой и разошлись в разные стороны, договорившись встретиться у Марии. На этот раз все сошло благополучно — никто не остановил их по дороге домой. Рано утром, едва начало светать, Тоня встала, нагнулась над Марией.
— Ты не спишь? — шепотом спросила она. — А я сама не знаю, что со мною. Всю ночь не могла заснуть. Все о своих думаю, прямо сердце извелось. Наверное, что-то случится — вот чувствую, не надо мне домой идти, а не могу…
Никогда Тоня так не говорила, ее всегда можно было считать образцом сдержанности и спокойствия. Ее волнение передалось и Марии.
— Ну что ты, Тоня, говоришь, ничего с твоими не случилось. А если домой сейчас идти не хочешь, то не ходи. Подожди у меня. Я сама туда схожу.
— Нет, я обязательно пойду, нельзя иначе. Там ведь люди гибнут. А тебе туда и подавно идти не стоит. Ладно, не обращай на меня внимания, наверное, устала я. — Соколова улыбнулась какой-то вымученной улыбкой.
Мария еще раз попыталась ее уговорить остаться, но все было бесполезно, Мария решила проводить Тоню. Как только стало возможно выйти на улицу, подпольщицы отправились в дорогу. Они обе несли сумки с разными поношенными вещами, под которыми были спрятаны медикаменты и соль. Им пришлось пройти через два поста, прежде чем они оказались за пределами города. Скромно одетые женщины, несущие менять на продукты старые кофточки и ношеные платья, не возбудили каких-либо подозрений у полицаев, хотя они вдосталь поиздевались над их «плохим товаром». Пройдя еще немного, Мария остановилась.
— А то давай, Тоня, я пойду, — еще раз предложила она.
— Даже и не думай, — решительно оборвала ее та.
Осипова отдала Антонине свою поклажу, а та вдруг обняла Марию, резко повернулась и ушла.
Мария шла в город другой дорогой. Скверно было у нее на душе: никогда Антонина не говорила таких слов и никогда не обнимала ее, прощаясь. Осипова так задумалась, что не заметила, как подошла совсем близко к аэродрому. Она послушно остановилась по первому требованию часового, и ее под конвоем отвели к начальству. Подробно рассказала Мария, что она ходила в деревню к знакомым договориться о продаже буфета.
— У меня дети маленькие, господин начальник, — со слезами объясняла она и показывала фотографию сына и дочки, — а есть нечего…
Полковник задал ей еще несколько вопросов, потом поднялся и перчаткой несколько раз ударил ее по лицу.
— Пошла вон, — сказал он по-русски и демонстративно бросил перчатку в мусорную корзину.
Осипову отпустили и вывели с территории аэродрома…
Через день к Марии пришли из деревни, где жила Соколова, и рассказали, что Антонину по доносу предателя забрало гестапо. Она успела перед тем, как войти в дом, отдать в условленном месте все, что принесла с собой, а когда пришла домой, то там ее ждала засада. Связной, сообщив печальное известие, уже давно ушел, а Мария все еще сидела и не могла сдвинуться с места. По лицу ее текли слезы, она их даже не вытирала, и соленые капли падали одна за другой на ее выцветшее ситцевое платье.
«Не надо мне было отпускать Тоню, не надо. Переждала бы она еще немного, может быть, и спаслась бы, — казнила себя Мария. — Надо бы мне пойти вместо нее в деревню, хоть я не имела права это делать.
Да, не думала я, что все это окажется таким страшным. Эх Тоня, Тоня, как тебе не повезло!»
Мария плакала, а перед ней стояло решительное лицо Антонины, каким она видела его в последний раз, снова и снова чувствовала, как горячие руки Соколовой обнимали ее шею… Наконец Осипова собралась с силами, вытерла покрасневшие глаза, умылась и тихо вышла из дому. Надо было узнать, что с Соколовой, а потом уже действовать. Эта необходимость и заставила искать контакт с Марией Скомороховой — надзирательницей женского отделения, которая была связной между подпольщиками и заключенными. Но все это было несколько позже, а сейчас Осипова могла рассказать Фране только об аресте Соколовой и о том, что та находится в минской тюрьме.
— Так что, Франя, подумай еще раз перед тем, как начать с нами работу!..
— Я твердо решила, — перебила ее Злоткина. — Что надо делать, говори.
Осипова дала ей первое задание: надо достать бланки с круглой печатью и вообще все документы, какие только можно: медицинские справки, пропуска и т. д. Чем больше их будет, тем лучше, и это надо делать систематически, используя каждый удобный момент. Хорошо, если бы первые документы можно было бы получить дня через три.
— Не побоишься, справишься? — Мария близко подошла к Злоткиной, внимательно посмотрела на нее.
Франтишка ничего не ответила, но, наверное, Мария прочла ответ в ее глазах.
— Да, вот ты еще чем займись, — по-деловому продолжала Мария. — Выучи наизусть молитвы, а то тебе, как католичке, их надо хорошо знать. Выучи на всякий случай.
Франтишке не нужно было объяснять, для чего это надо. Часто гестаповцы, захватив кого-нибудь по подозрению, что он еврей, а не католического вероисповедания, как было написано в документах, чтобы застать человека врасплох, неожиданно заставляли его читать молитвы, которые он должен был учить еще в детстве.
— А я их уже все знаю, — успокоила Марию Франя. — Хочешь, хоть сейчас прочту?
Обо всем было договорено — встреча через три дня, и Злоткина заторопилась домой, приближался комендантский час. Хозяйка явно ждала ее и откровенно уставилась на ее пустые руки.
— Где же платье? — поджав губы, поинтересовалась она. — Или не подошло?
— Мало оказалось, — нашлась Франя, — а из маленького большого не сделаешь.
Она пришла к себе в комнату, закрыла дверь и, не раздеваясь, села на кровать.
Еще раз подтвердились ее мысли, что хозяйка в чем-то ее подозревает. Только в чем? То ли, в том, что она, Франя, связана с подпольщиками, то ли в том, что она не полька, а еврейка? Но не это сейчас волновало Франтишку, она до сих пор не могла прийти в себя от той страшной новости, что сообщила ей Мария. И если тогда она сдержалась, то сейчас слезы побежали по щекам. Тоня Соколова в гестапо. Та самая Тоня, с которой она виделась совсем недавно и разговаривала. А сейчас ее мучают в гестапо: бьют, всячески издеваются, пытают, стараются вырвать признание. Она ничего не говорит, и все повторяется снова…
Франя так ясно все это представила, что холодный пот выступил у нее на лбу.
«А если на ее месте окажусь я? Выдержу ли? Смогу ли промолчать? — размышляла она. — Но ведь то, что мне поручили, — это ведь очень, очень важно, от этого зависит многое. Я должна это сделать», — твердо решила она и стала раздеваться.
«Какая необыкновенная женщина Мария — она рискует каждую секунду куда больше, чем я, и, наверное, никогда ничего не боится. Попробую и я как следует взять себя в руки». С этой мыслью она и заснула. Через несколько дней Франя узнала, что Соколову увезли в Узду, а потом в минскую тюрьму. Товарищи пытались устроить ей побег, но он не удался, и в конце января 1942 года Тоню расстреляли.
А в этот вечер Мария сидела в маленькой комнатке у Бромберга и слушала его взволнованный рассказ.
Рафаэль по заданию Черной поручил своей группе собирать оружие и медикаменты, чтобы в дальнейшем все это переправить партизанам. Сам он тоже принял участие в выполнении задания. Ему повезло: он достал автомат. С большими трудностями Рафа принес оружие к себе домой, чтобы потом, когда стемнеет, спрятать его у Николая Дрозда в тайник на чердаке. Вся семья села за скромный ужин, как вдруг раздался громкий стук в дверь.
Проверка документов!
Хотя эти слова уже стали привычными для слуха, но каждый раз они, как хлыстом, ударяли по нервам.
Проверка документов!
Сейчас, когда в доме оружие, эта проверка документов может стоить жизни всей семье.
Мгновенье все сидели оцепенев. Первой сообразила, что надо делать, мать Гали Липской, Ольга Алексеевна. Она схватила автомат и сунула его в постель, где мирно спала Светлана, подоткнула тщательно одеяло и открыла дверь.
На сей раз проверка прошла благополучно: документы у всех были в порядке. Правда, немец, взяв паспорт Рафаэля, молча поджал губы, прочитав национальность — цыган, но еще больше его удивило то, что русская замужем за цыганом.
— Какая неразборчивость, — брезгливо процедил он сквозь зубы.
Галя только подобострастно улыбнулась. Немец взял ее за подбородок, оценивающе осмотрел с ног до головы. Трудно сказать, сколько усилий стоило Рафе, чтобы сдержаться и не дать по рукам наглецу, но он помнил об автомате в кровати спящей девочки и не сделал ни одного движения. Проверка закончилась, и немцы ушли. Только тогда Галя дала себе волю и, зарыдав, упала на диван. Ночью автомат был спрятан в надежное место, а Рафаэль дал себе слово больше никогда не подвергать без крайней необходимости такому риску свою семью.
— До сих пор не могу прийти в себя, — сказала Ольга Алексеевна Липская. — Как подумаю, что могло быть, если бы нашли автомат. Светланку тоже бы убили, — тихо закончила женщина, — а она ведь совсем маленькая…
Мария слушала их рассказ, переживала все происшедшее, а сама думала о своей дочке Тамаре. Худенькая, плохо одетая двенадцатилетняя девочка по своей комплекции вполне могла сойти за девятилетнюю, и это помогало ей в тех случаях, когда ей поручали задания. Своими руками зашивала Мария листовки в рваное пальтишко Тамары. Каждый стежок вызывал в душе матери такую боль, как будто бы она шила не по материи, а по своему живому телу…
Не один раз посылала она девочку, чтобы передать нужному человеку донесение или листовки, отправляла ее на явочные квартиры, чтобы предупредить кого-либо или сообщить что-то срочное. И каждый раз, пока Тома не возвращалась домой, время это было для Марии хуже жесточайшей пытки. Сколько было передумано, сколько пережито страха и волнений за эти горькие минуты, наверное, трудно вместить в годы. Часто Мария говорила себе, что это последний раз, но наступал следующий раз, когда это было НАДО, и никто другой, кроме этого бесконечно дорогого для Марии человека, не мог сделать необходимое дело.
И снова шла в любую погоду девочка в стареньком пальтишке, шла, несмотря на усталость и на то, что каждый ее неверный шаг мог привести к смерти, и Мария прекрасно знала об этом, и знала она еще то, что, если понадобится, то она снова пошлет свою дочь, потому что иначе сейчас она не сможет поступать…
«Пусть думают, что я жестокая мать, — горько размышляла Мария, — но как я могу требовать жертв от других, если сама не буду безжалостна к себе. Нельзя иначе… А может быть, можно? Нет, нельзя!» Мария тряхнула головой, как бы отгоняя от себя мучительные мысли, возвращаясь к разговору об автомате.
— Рисковать зря нечего, — спокойно сказала она, — но без риска тоже не обойдешься. Будем действовать по обстановке. Но тебе, Рафа, надо быть поосторожнее, а то ты иногда сначала делаешь, а потом думаешь…
Рафа смущенно промолчал. Он хорошо знал свой горячий, неуравновешенный характер, свою нетерпимость к подлости, знал и боялся, что может не выдержать и сорваться.
— Вижу, ты все понял, Рафа, — спокойно продолжала Мария, — задача твоей группы прежняя, очень нужны медикаменты и оружие. И последнее. Прочтите, — сказала она как-то торжественно и протянула Бромбергу сложенную пополам бумагу.
— Читай вслух, — попросила Галя Липская.
— «Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, верный сын героического белорусского народа, — негромко начал Рафа, — присягаю, что не пожалею ни сил, ни самой жизни для дела освобождения моего народа от немецко-фашистских захватчиков и палачей и не сложу оружия до тех пор, пока родная белорусская земля не будет очищена от фашистской погани.
Я клянусь строго и неуклонно выполнять приказы своих командиров и начальников, строго сохранять воинскую дисциплину и беречь военную тайну.
Я клянусь за сожженные города и деревни, за кровь и смерть наших жен и детей, отцов и матерей, за насилия и издевательства над моим народом, не останавливаясь ни перед чем, всегда и всюду смело, решительно и безжалостно уничтожать немецких оккупантов.
Я клянусь всеми путями и средствами активно помогать Красной Армии повсеместно уничтожать фашистских палачей и тем самым содействовать быстрейшему и окончательному разгрому кровавого фашизма.
Я клянусь, что скорее погибну в жестоком бою с врагом, чем отдам себя, свою семью и белорусский народ в рабство кровавому фашизму.
Слова моей священной клятвы, произнесенные перед моими товарищами партизанами, я подтверждаю собственноручной подписью и от этой клятвы не откажусь никогда.
Если же по своей слабости, трусости или по злой воле я нарушу свою присягу и изменю интересам народа, пускай умру я позорной смертью от рук своих товарищей».
Рафаэль читал партизанскую клятву, и все присутствующие понимали, что он приносит присягу на верность Родине.
Наступило молчание. Мария первая нарушила его.
— Так вот, за оружием и медикаментами к тебе придут от тети Нюры. А клятву спрячь получше и дай почитать своим ребятам.
— Все сделаем, — заверил Черную Рафа.
Попрощавшись, Мария ушла. Она не стала говорить товарищам, что это задание подпольного райкома, а от «тети Нюры» придут из партизанского отряда капитана Николая Никитина, с которым Мария тоже была связана. Наступит время — сообщит членам группы все, что необходимо.
Мария шла домой и размышляла о том, как мудро решило наше правительство, призвав всех советских людей, оставшихся в оккупированных районах страны, на борьбу с врагом.
Совсем недавно она узнала, что есть специальное постановление ЦК ВКП(б) от 18 июля 1941 года «Об организации борьбы в тылу германских войск». В нем так и говорилось: «Для улучшения руководства партизанским движением Центральный Комитет обязал партийные комитеты заблаговременно организовать подпольные партийные и комсомольские ячейки из числа опытных, боевых и до конца преданных нашей партии, лично известных руководителям парторганизаций и проверенных на деле товарищей». Конечно, Осипова не помнила всего обращения наизусть, но смысл его запал ей в душу, и сейчас, торопясь по немноголюдным улицам домой, где ее ждала Тамара, она мысленно прикидывала, что ею лично уже сделано для этой борьбы.
— К тебе какие-то люди приходили, — встретила Марию дочь. — А тетя Лида так плакала и кричала…
Осипова, не раздеваясь, пошла в комнату соседки.
Теперь Лида Дементьева жила только со своим младшим сынишкой Геной: муж был на фронте, а старший Толя вместе с Марииным Юрой в эвакуации.
— Что случилось? — спросила Мария с порога.
— За тобой немцы приходили. Кто-то им донес, что ты комиссар. Ну уж тут мы все постарались доказать, что это ошибка. Не только я плакала, но и другие соседки тоже. Сама знаешь, заплакать сейчас нетрудно. Видно, поверили: покрутились, покрутились, взяли у меня вышитую дорожку, что на комоде лежала, и ушли. Так что будь поосторожнее.
Мария слушала ее рассказ, и так ей было странно слышать, что ее, Марию Борисовну Осипову, дочь простого рабочего со стекольного завода, называют комиссаром. Она привыкла, чтобы комиссарами называли легендарных людей, вошедших в историю Советского государства. И само слово такое значительное: «комиссар», а тут, оказывается, ее удостоили такой чести. Значит, в представлении фашистов каждый коммунист — комиссар. «Ну что же, постараюсь соответствовать!»
— Спасибо, Лидочка, — Осипова обняла соседку, ласково погладила ее по светлым волосам. — Конечно, постараюсь быть поосторожнее, а там видно будет…
Глава 3
Только на третий день Франтишка Злоткина смогла выполнить задание Черной. Господина шефа неожиданно вызвали, и он на сей раз действительно забыл ключ в дверке ящика. Она никогда не думала, сколько нужно решимости и присутствия духа, чтобы сделать всего несколько шагов, отделяющих ее стол от массивного стола шефа. Сколько раз она приподнималась со стула, чтобы перейти это пространство, и опять без сил опускалась на свое место — не хватало смелости. Наконец решилась — энергично встала, деловой походкой подошла к письменному столу начальника и уверенно, даже спокойно открыла ящик и взяла несколько бланков. Так же деловито положила их в свою сумочку и хотела продолжать работу. Но сосредоточиться она уже не могла. Мысль о лежащих в сумочке документах как раскаленным железом жгла ее. Ей казалось, что господин шеф непременно спохватится недостающих бланков и начнет их искать или кто-нибудь другой обязательно догадается, что находится в ее изящной сумочке, и тогда ей не миновать гестапо. Она так волновалась, что красные пятна то и дело вспыхивали на ее лице и шее, и она украдкой вытирала пот со лба. Ее волнение не укрылось от шефа, вернувшегося к своему столу.
— Что с вами? Вы больны? — спросил он.
— Да, мне нездоровится, — ухватилась Злоткина за спасительную подсказку.
— Идите и отдохните, вы сегодня хорошо поработали, — разрешил ей немец, — и примите вот это. — Он протянул ей лекарство в яркой упаковке.
— Благодарю вас, господин шеф, — обрадовалась Франтишка, — вы очень добры.
Она говорила эти любезные слова, а сама с трудом сдерживалась от нервного смеха.
«Интересно получается, — думала она, — первый раз за все время меня похвалили за хорошую работу; ну что же, постараюсь и впредь оправдывать надежды начальства».
Не заходя к себе домой, Злоткина отправилась к Осиповой, чтобы отдать ей документы. Мария была дома. Хотя сразу было видно, что документы есть — такая нескрываемая радость была написана на лице Франи, — Осипова все же спросила:
— Как дела, Франтишка?
— Все в порядке, задание выполнено, — гордо отрапортовала та, потом совсем неожиданно добавила: — Начальство меня похвалило.
— Какое начальство? — удивленно спросила Мария.
— Сам господин шеф сказал, что я могу уйти пораньше, так как сегодня хорошо работала.
Осипова поглядела на сразу помолодевшее и ставшее необычайно привлекательным лицо Франтишки, на ее сияющие глаза, и сама не могла удержаться от улыбки.
Еще одно важное дело сделала Злоткина для подпольной группы Черной. Она познакомила Осипову с доцентом Политехнического института Николаем Николаевичем Кречетовичем, с женой которого Франя училась в институте. Впоследствии Кречетович наладил подпольную радиостанцию…
* * *
Вместе с другими беженцами шел по Московскому шоссе Николай Кречетович с годовалой дочкой на руках. Рядом молча шагала жена. Вышли они из Минска во время бомбежки. Шли километр за километром, лишь изредка перебрасываясь отдельными короткими фразами. Так дошли до леса и только тогда рискнули сделать привал. Летняя короткая ночь показалась измученным людям мгновением, а утром, когда надо было идти дальше, Елена Кречетович не смогла встать: видимо, сказались усталость и нервное напряжение — у нее отнялись ноги.
— Бери дочь, Николай, и уходи, а я уж как-нибудь, — сначала просила, а потом требовала Елена.
Но ее просьбы, слезы и требования были напрасны — Кречетович твердо стоял на своем.
— Будем вместе.
С величайшим трудом добрались они до ближайшей деревушки и нашли приют в одной из хат.
Так прошло несколько дней, а однажды утром хозяйка вбежала в комнату Кречетовичей с криком:
— Немцы пришли!
Николай быстро выскочил в окно и спрятался в амбаре за мешками. В избу первым вошел немецкий офицер в новенькой форме, за ним группа солдат.
— Где хозяин? — спросил офицер по-немецки.
Женщины молчали.
— Где хозяин? — еще раз повторил он. — Обыскать дом и двор!
Солдаты бросились выполнять приказ. Через несколько минут из амбара вытащили упирающегося Кречетовича.
— Это хозяин? — спросил офицер. — Убрать его.
Солдаты потащили Николая снова к амбару.
— Не трогайте его, пожалуйста, господин офицер, — на превосходном немецком языке взмолилась Елена. — Это не хозяин, это мой муж. Он ни в чем не виноват. Он профессор, пострадавший от Советов. Мы возвращаемся в Минск.
Теперь, тридцать лет спустя, Елена Давыдовна Кречетович, преподаватель немецкого языка в техникуме, невольно улыбается, вспоминая эту сцену: самодовольного, выхоленного немецкого офицера с презрительным взглядом водянистых глаз и безукоризненным пробором и стоящего перед ним покрытого с ног до головы соломенной трухой, с растрепанными светлыми волосами Кречетовича. Но тогда ей было не до смеха.
— Откуда фрау так хорошо знает немецкий? — поинтересовался офицер.
— Я студентка последнего курса института иностранных языков и всегда преклонялась перед языком Гёте и Шиллера, — нашлась Елена.
Офицер благосклонно кивнул, и «господина профессора» отпустили. Пришлось Елене и дальше играть роль переводчицы и угощать незваных гостей. Едва фашисты отбыли, Кречетовичи отправились дальше. Они прошли несколько деревень и наконец остановились в одной, где их приютила семья учителя.
Так продолжалось полтора месяца, и жить Николаю стало невмоготу. Невозможно было сидеть сложа руки и слушать рассказы о зверствах захватчиков, и Николай Кречетович стал действовать. Никакого опыта у него не было. Многолетнее преподавание в институте и общение с молодежью приучили его быть очень требовательным к себе и к своим поступкам. Он никогда не мог пройти мимо, если на его глазах кто-либо оскорбил женщину, обидел ребенка, проявил неуважение к старику. А сейчас он считал своим долгом причинить как можно больше вреда фашистам, нагло попирающим его родную землю. Но как? С чего начать? Что понимал в саботаже преподаватель средних лет, который никогда в жизни ничего специально не ломал и не портил? Как-то он вдруг вспомнил о скандале, который за несколько лет до войны приключился на их улице.
Мостовую только что покрыли асфальтом, а кто-то из мальчишек утащил дорожный знак с «кирпичом», запрещающим проезд. Вскоре машины одна за другой стали вылетать на ремонтируемую полосу. Ремонтники ругались, грозили расправой, но без дорожного знака так и не смогли остановить поток машин. Эта сцена почему-то всплыла в памяти, когда Кречетович лихорадочно думал, как одному бороться с немцами. «Начну с дорожных знаков».
Первый раз был самым трудным. Кречетович облюбовал указатель, стоящий на повороте к деревне, и пытался его выдернуть из земли. Но, видимо, столб был поставлен на совесть, и Николаю Николаевичу пришлось немало потрудиться, прежде чем он добился желаемого результата. Наконец, столб поддался и был заброшен далеко в кювет, а выпачканный землей и глиной Кречетович вернулся домой. По дороге он решил, что проще путать указатели на столбах, а не выдергивать их: нецелесообразно расходуются силы и время. Он мысленно представил, как бы реагировали его студенты, если бы в мирное время застали его за таким занятием. «Диверсант-одиночка!» — мысленно иронизировал над собой Николай Николаевич. Но ничего не делать, а оставаться в стороне, ходить в чистом костюме и корректно уступать дорогу самодовольным немецким молодчикам Кречетович не мог. Теперь он не терял время: он ходил по дорогам и деревням, выбирал удобный момент и менял дорожные указатели. Получалась путаница и неразбериха, слухи о которой стали доходить и до их деревни.
Замена дорожных знаков была только началом. Теперь, когда Кречетович выработал свою систему действий, он поставил перед собой более сложную цель. Он быстро заметил, что немцы со свойственной им оперативностью налаживали связь с фронтом: вешали кабель на деревья и на столбы. Конечно, испортить линию связи — это дело посложнее замены указателей, здесь надо больше осторожности и в то же время смелости. Николай Николаевич сделал себе специальное приспособление — усовершенствовал кусачки и носил их, тщательно спрятав в одежде. Обычно он старался портить линию в сумерках, на рассвете или ночью и всегда потом маскировал место повреждения. Но бывало и так, что ярко светило солнце, но уж больно удобный был момент, упустить который было бы просто грешно. Движениями, уже ставшими автоматическими, Кречетович доставал свой инструмент, и через несколько секунд очередной кабель выходил из строя…
Так продолжалось до тех пор, пока однажды Николай Николаевич не увидел объявление, вывешенное на видном месте. Вот что оно гласило:
«В г. Минске перерезан немецкий военный кабель, за это расстреляно 50 человек заложников. В дальнейшем за каждый перерезанный кабель будет расстреляно 100 человек».
Кречетович дважды перечитал лаконичный текст и решил, что больше действовать в одиночку он не будет, надо идти в Минск, чтобы найти кого-нибудь из тех, кто активно борется с оккупантами. Но прийти просто так, с пустыми руками, тоже не хотелось, надо было подготовиться. Правда, за это время Кречетовичи вместе с учителем спрятали в лесу довольно много оружия, которое они подбирали, и, кроме того, у них накопились запасы медикаментов. Дело в том, что недалеко от деревни, где скрывались беженцы, находился военный городок со складом медикаментов. Пока гитлеровцы не разобрались как следует в обстановке, местные жители выносили из склада лекарства. Не сидели сложа руки и Кречетовичи. Медикаменты были хорошо спрятаны на нескольких чердаках и сеновалах, и найти их практически было невозможно. Лекарства не расходовались, и было решено ни в коем случае не трогать их, пока Кречетович не вернется из Минска.
Но сдержать данное слово не удалось: нельзя было не давать лекарство нашим военнопленным, которых гнали через деревню.
Невозможно было смотреть без боли на колонны людей, которые шли, с трудом волоча ноги, в изодранной, белой от пыли и пота одежде. Люди шли с непокрытыми головами под безжалостным солнцем, которое ярко освещало их заросшие щетиной лица и запавшие глаза. Среди них было много раненых, забинтованных черными от грязи повязками; они едва переставляли ставшие свинцовыми ноги. Если кто-нибудь из них не выдерживал и падал, то его тут же приканчивал конвоир, не заботясь о том, что очередь из автомата скашивает и других, идущих рядом…
На все это нельзя было смотреть спокойно, и люди старались делать все возможное, не думая о том, что оказанная пленным помощь может стоить жизни им самим.
Однажды, когда на глазах у Кречетовича пристрелили раненого пленного, Николай Николаевич не выдержал.
— Я не могу больше бездействовать, — твердо сказал он. — Сегодня же иду в Минск, свяжусь там с людьми… А тебе, Леля, лучше всего остаться с Людой здесь в деревне. В Минске тебя многие знают, опасно…
Он не объяснил жене, почему опаснее быть в городе, где ее знают, но Елена и так поняла: здесь, в деревне, она выдавала себя за грузинку, и ей верили. А в Минске, где фашисты уже создали гетто, евреи не могли жить вне его. Тем, кто укрывал евреев, грозила смерть.
Николай ушел, а Елена еще долго стояла во дворе, смотрела на все уменьшающуюся фигуру мужа и думала свою невеселую думу: увидятся ли они еще когда-нибудь?..
Кречетович вошел в город незамеченным. Он медленно брел по знакомым местам и не узнавал их. Всюду, где совсем недавно были улицы с зелеными дворами и' аккуратными домами, теперь громоздились груды кирпичей. Руины, руины, руины без конца. Они отличались друг от друга только количеством битого кирпича и чудом державшимися стенами, с которых слепыми глазами смотрели на редких прохожих окна с выбитыми стеклами. И всюду пепел, покрывший серой мягкой пеленой мертвые развалины. При каждом порыве ветра пепел поднимался в воздух и снова оседал, запорашивая, как снегом, все вокруг.
Кречетович пошел к Злоткиной, не заходя в свой дом. Он даже и не знал, было ли цело само здание, где когда-то (полтора долгих месяца прошло с тех пор) была его квартира. Ему не терпелось найти людей, уже начавших борьбу против гитлеровцев. Франтишка была дома. Она не удивилась, увидев Кречетовича. Не удивила ее и цель визита.
— Как Елена, как дочка? — только и спросила она.
— Живы, — ответ был лаконичен. Кречетович сразу же приступил к делу. — Послушайте, Франя, мне очень нужно связаться с подпольщиками. Помогите мне, — попросил Кречетович.
— Подождите здесь, а я схожу узнаю. Только никуда не уходите, я скоро вернусь.
Франтишка направилась домой к Осиповой. Дверь открыла соседка Лида.
— Марии нет, — сразу с порога объявила она, — и неизвестно, когда будет.
— Скажите ей, пожалуйста, что приходила Франя, — попросила Злоткина, — и что она мне очень срочно нужна. Я буду сегодня дома ее ждать, а если она не сможет, то завтра в четыре часа на Бетонном мосту. Только обязательно передайте.
Лида обещала. В этот вечер Черная так и не появилась, напрасно ждали ее товарищи.
Утром Франтишка заторопилась на работу в больницу, договорившись с Кречетовичем, что они встретятся в четыре часа на Бетонном мосту. К назначенному часу туда же пришла и Мария. Франтишка распрощалась и ушла, а Кречетович и Осипова медленно пошли по улице.
Николай Николаевич вкратце рассказал о том, что он делал, и попросил Марию связать его с кем-нибудь из подпольщиков.
— Считайте, что вы уже связаны, — улыбнулась Черная.
— Тогда дайте мне задание. Я не могу больше оставаться в стороне.
Мария помолчала немного.
— Хорошо бы вам устроиться в городскую управу, — сказала она.
Кречетович даже изменился в лице.
— Работать в управе?! Как я буду людям в глаза смотреть! Я честный человек…
— Это очень надо для дела, — мягко прервала его Мария. — А вы для работы в управе весьма подходящая кандидатура.
Некоторое время продолжалось молчание.
— В качестве кого устраиваться? — наконец спросил Кречетович.
— Не надо отказываться ни от какого предложения. Самое главное — это стать там служащим, а потом разберемся… Связь с вами я буду поддерживать сама, а если понадоблюсь срочно, сообщите Злоткиной. Она меня найдет.
Они расстались, пожав друг другу руки, и каждый пошел в свою сторону. Осипова вспоминала свой разговор с Кречетовичем и пришла к мысли, что в ее группу вошел стоящий человек. «Как я буду людям в глаза смотреть? — мысленно повторила она слова Николая. — А как же мне и многим другим приходится лгать и изворачиваться? Ничего не поделаешь — так надо до поры до времени».
Она так была погружена в свои мысли, и от них лицо ее стало настолько решительным и суровым, что шедший ей навстречу немец остановил ее.
— Подойди сюда, — позвал он ее по-немецки. — Документы.
Льстиво заулыбавшись, Мария протянула немцу свой паспорт и справку, что она работает на железной дороге. Придраться было не к чему, и немец неохотно отпустил ее.
— Проваливай побыстрее, — грубо сказал немец.
— Спасибо, господин офицер, — подобострастно поклонилась Мария.
«Вот посмотрел бы ты сейчас на меня, — продолжала она свой мысленный разговор с Кречетовичем, — и понял бы кое-что. Ничего, поживет немного в городе — разберется».
А в это время Кречетович шел домой уверенно и спокойно: теперь он знал, что ему делать. В доме, где он жил до войны, в наиболее комфортабельных квартирах обосновались бургомистр, его заместитель, архиерей, начальник полиции и другие высокопоставленные немецкие прислужники. Кречетовичу разрешили возвратиться в его квартиру из двух маленьких комнат на четвертом этаже. Кроме того, когда он предложил свои услуги в управе в качестве электромонтера, его даже без особой канители взяли на работу в технический отдел. По-видимому, здесь сыграло положительную роль его «чистосердечное признание» в том, что его жена-еврейка пропала без вести с ребенком и что он ее не собирается разыскивать.
В управе работало около ста человек. Служащие из разных отделов мало общались между собой, но слесари, электромонтеры и телефонисты имели доступ и право передвижения по всему зданию. Кречетович мог свободно заходить почти в любую комнату, даже в кабинет к начальству, правда по вызову, и устранять различные неполадки. Проводка в управе портилась довольно часто (не без участия монтера), и Кречетович никогда не сидел без дела. Его высокая сухощавая фигура мелькала то тут, то там, и во всех отделах привыкли видеть спокойного, молчаливого человека в синем комбинезоне с маленьким плоским чемоданчиком в руках. Он стал своеобразным человеком-невидимкой, который видит и слышит все и которого перестают замечать окружающие.
А Николай Кречетович обладал цепким умом, превосходной памятью и незаурядной наблюдательностью. Немало ценных сведений сообщил он Черной и о людях, работающих в управе, и о разрабатывавшихся планах. А кроме того, Кречетович никогда не упускал случая позаимствовать из шкафов бланки удостоверений и паспортов. Но, пожалуй, самое ценное было то, что Николай Кречетович имел радиоприемник. Один из первых приказов, вывешенных гитлеровцами, объявлял, что лица, имеющие радиоприемники, обязаны их немедленно сдать; в случае невыполнения приказа виновные будут расстреляны. Каждый сданный приемник регистрировался, и его бывшему владельцу выдавалась справка. Через некоторое время немцы внесли дополнение к приказу, что люди будут привлекаться к ответственности не только за найденный приемник, но даже за радиолампы или за любую деталь.
Кречетович подобрал возле разрушенной радиомастерской остатки какого-то приемника, привел его в относительный порядок и сдал его, получив взамен оправдательный документ-справку. Свой радиоприемник он спрятал на чердаке управы, причем умело его замаскировал. Властям меньше всего могло прийти в голову, что один из активно действующих приемников находится буквально над головой у начальника полиции. Но это было именно так. Кречетович аккуратно слушал передачи из Москвы и передавал их содержание Осиповой. Появление электромонтера и на чердаке дома никого бы особенно не удивило, но Николай был осторожен и умело действовал, не попадаясь никому на глаза. Более того, он успел себя зарекомендовать исполнительным и безотказным работником, хорошо знающим свое дело. А после того как он починил испортившийся радиоприемник у одного из начальников, репутация его окончательно упрочилась.
Немцы то и дело приносили ему на починку испортившиеся радиоприемники, и Николай спокойно чинил их, оборудовав в своей комнате что-то вроде мастерской. На верстаке всегда лежали в беспорядке радиодетали, но это был только кажущийся беспорядок. Требовалось всего несколько минут, чтобы такой специалист, как Кречетович, мог собрать простейшую схему и настроиться на Москву. И когда приемник па чердаке был все-таки обнаружен, а хозяин его не найден, Николай полностью перешел на такие одноразового пользования приемники-схемы. Меньше всего могли предполагать полицейские и другие доверенные лица, что с их помощью подпольщики получают ценнейшую информацию. Не раз слышал Кречетович, как, не замечая его присутствия, бургомистр распекал своих подчиненных за то, что снова на улицах появились листовки со сводками Советского Информбюро и что распространители этих сведений не обнаружены.
«Ищите, ищите, — злорадно думал он, — а они у вас все под носом…»
И снова допоздна горит свет у услужливого электромонтера. Он сидит за своим верстаком, перед ним навалены детали, а он сам старательно что-то паяет и настраивает. Ему не страшно, если кто-нибудь придет — пожалуйста, два-три ловких движения, и умолкает говорящая «груда деталей», а за такое усердие — приготовить к утру приемник для господина начальника — можно только похвалить… Так и получил у подпольщиков прозвище «нелегальной радиостанции» скромный человек и настоящий патриот Николай Кречетович.
Хотя больше четверти века прошло с тех пор, как прозвучал салют Победы, по-прежнему свежи в памяти события тех незабываемых лет. И, пожалуй, каждый, кому пришлось пережить Великую Отечественную войну, помнит, с каким нетерпением и волнением ожидали люди сообщений от Советского Информбюро. Затихали разговоры, приостанавливалась работа, когда из черной тарелки репродуктора раздавался знакомый всем голос диктора Левитана: «От Советского Информбюро».
Эти сводки сделались частью жизни любого советского человека, они никого не оставляли равнодушными, несли с собой радость или горе. Так было на Большой земле, там, где не было гитлеровцев, а в оккупированных районах сообщение о положении на фронте ценилось буквально на вес золота. Маленький листок бумаги, написанный от руки, нес людям надежду, придавал им силы и удесятерял ненависть к смертельному врагу. Вот почему, когда у подпольной группы Осиповой появилась своя нелегальная радиостанция, это было радостным событием. Теперь на Заславскую сведения поступали почти регулярно, и текст листовок не был самодельным, как раньше, а составлялся на основании сводок Информбюро. Мария была довольна: ее группа становилась все более и более жизнедеятельным организмом. Уже потянулись первые ниточки связи к партизанам, возникли надежные квартиры, где можно было укрыть нужного человека, спрятать медикаменты и оружие. А самое главное — все больше и больше людей включалось в борьбу. Это было для Марии и радостно и ответственно. Радостно потому, что не ошибалась она в людях, и страшно оттого, что еще один настоящий, преданный Родине человек подвергался угрозе смерти, или — что еще хуже — страшных мучений, в которых так изощрялось гестапо.
Огромной удачей было то, что теперь в группе были люди, имеющие доступ к подлинным немецким документам: Николай Кречетович и Франя Злоткина снабжали справками, бланками, паспортами и другими бумагами подпольщиков. А эти документы спасали жизнь военнопленным, уберегали людей от безжалостной расправы.
* * *
Через несколько дней после того, как в Минск вошли гитлеровцы, жители города с удивлением прочли вывешенный на всеобщее обозрение приказ коменданта «О создании еврейского района в городе Минске».
Приказы, которые были обнародованы до этого, почти все содержали слово смерть. «За укрытие военнопленных — смерть. За хранение радиоприемников — смерть». Теперь появился еще один лаконичный приказ, который тоже не обошелся без слова «смерть»: все евреи должны переселиться в специальный район гетто и неукоснительно выполнять все указанные правила: не ходить по улицам, жить за колючей проволокой и т. д. Очень скоро были внесены новые дополнения: каждый еврей обязан нашить на одежду приметную издали желтую лату и носить ее не снимая. За невыполнение — расстрел.
Немцы со свойственной им пунктуальностью и любовью к порядку наметили район, в котором должно было разместиться гетто. Это были улицы Островского, Немиги, Республиканская, Обувная, Опанского, Сухая, Татарская, Юбилейная площадь и другие. В этом районе преобладали небольшие деревянные дома, но были и каменные, особенно на Немиге, Островского и Республиканской. Район гетто обнесли колючей проволокой, вдоль которой установили пулеметные вышки и поставили охрану. Никто не думал о том, в каких ужасных условиях предстоит жить людям; никого не интересовало, что среди намеченных к переселению в гетто ста тысяч евреев преобладают женщины, дети, старики и больные. И вот потянулись в гетто скорбные вереницы людей. Все, даже самые маленькие дети, хоть что-нибудь несли в руках: по приказу можно было взять с собой лишь то, что унесешь за один раз. Люди входили в дома и пытались найти свободную комнату, но это мало кому удавалось. Конечно, те, кто пришел раньше, заняли просторные комнаты, но ненадолго. В уже занятое помещение вселялась новая семья, за ней еще и еще. В результате в каждой комнате ютилось по две, а то и по три семьи. Например, в десятиметровой комнате, где жила семья Сарры Левиной, несколько позже вошедшей в группу Осиповой, ютилось девять человек. Как известно, ничто так не сближает людей, как общее горе. В такие моменты предельно обостряются все чувства и качества человека, накрепко завязываются новые отношения или ломаются старые, которые до этого казались прочными. Здесь, в гетто, обстоятельства сложились так, что все попали в равные условия и только от самого человека зависело — останется ли он Человеком или превратится в безропотное существо или животное. Определить все это надо было в короткий срок, буквально с первой минуты, когда в твое с трудом найденное жилье вторгаются все новые и новые люди в поисках места и надо найти в себе силы и человечность, чтобы не загородить дверь и в без того переполненную комнату, не закричать на измученных людей, а молча освободить для пришедших драгоценную площадь. И ждать дальше, не придется ли сделать невозможное и найти хоть крохотный кусочек свободного пола для следующих беженцев.
Плач детей, проклятья взрослых — все сливается в общий гул, — от шума закладывает уши, кружится голова. И так продолжается бесконечно долго, пока обессиленные люди не затихают, кое-как разместившись в набитых до предела помещениях.
Семья Левиных из четырех человек тоже с трудом устроилась в маленькой комнатенке, куда вселились еще две семьи. Можно представить, в каких условиях предстояло жить взрослым и детям, если на каждого человека приходилось меньше метра жизненного пространства!
Когда Левины переселялись в гетто, они даже в кошмарном сне не могли представить, что их ждет. Не сразу они решились на такой шаг, но положение было безвыходным — они не могли ставить под угрозу жизнь укрывавших их людей.
Сарра Левина знала, что такое фашизм, она родилась и жила в Польше, где, прекрасно владея немецким языком, учительствовала. В то время она была в тесном контакте с польскими подпольщиками, и, когда фашизм на ее родине стал поднимать голову, ей пришлось уехать в Западную Белоруссию, в город Лида. Там и жила Сарра с мужем, талантливым поэтом и художником Моисеем Левиным (Бер Сарин) и двумя дочерьми. Война обрушилась на город Лиду в первый же день, город пылал, и беженцы, в числе которых были в Левины, потянулись на Восток. Цель у всех была одна — дойти до Минска, и никто не мог предполагать, что гитлеровцы так быстро займут его.
Левины никого не знали в Минске: так получилось, что до войны им даже не пришлось побывать в этом замечательном городе, но все равно они твердо верили, что надо дойти до Минска, а дальше будет проще. Но когда беженцы подходили к городу, враг уже стягивал вокруг него петлю. Обратной дороги не было — за спиной осталась оккупированная территория.
Наступили сумерки, когда Левины добрались до окраины. Запыленные, в измятой одежде, усталые люди растерянно осматривались по сторонам.
— Пойду посмотрю какое-нибудь жилье, — сказал Левин и бережно опустил на землю трехлетнюю дочку, которую он нес на плечах. Высокий, широкоплечий, с белокурыми волосами и открытым, приятным лицом, он сразу располагал к себе и вызывал доверие. — А ты никуда не уходи, — продолжал он, обращаясь к жене. — Я постараюсь быстро вернуться…
Сарра Хацкелевна почти без сил опустилась на край кювета, посадила рядом с собой девочку, положила себе на колени вторую, годовалую дочь. Из-за забора небольшого домика на них внимательно смотрела какая-то женщина. Подошла поближе к калитке, постояла немного, а потом решительными шагами направилась к Сарре.
— Беженцы. Откуда? — спросила она.
Левина, едва шевеля губами от усталости, сказала, что они поляки и идут из города Лиды.
— Рядом с нами есть пустая комната в доме железнодорожников. Пойдемте, я вас отведу, — предложила женщина. — Хозяева все ушли, и можно расположиться.
— Сейчас муж вернется, если можно, подождите немного, — тихо попросила Сарра.
Женщина, не говоря ни слова, взяла с колен Левиной девочку.
— Пошли пока ко мне, отдохнете, а мужа вашего мы увидим в окно.
Вскоре накормленные дети спали на большой кровати, а Сарра Хацкелевна сидела лицом к окну, опустив сбитые ноги в таз с водой, и чувствовала, как к ней возвращаются силы. Она издали увидела высокую фигуру мужа, его озабоченное лицо и позвала его в дом. Хозяйка, не задавая вопросов, накормила Левиных, а потом отвела их в пустующую комнату соседнего дома.
Так прошло несколько дней, и каждый из них приносил новые законы. Теперь на тихой зеленой улице стало многолюдно — многие семьи беженцев устроились в покинутых прежними хозяевами домах. Местные жители помогали чем могли: делились скудной пищей, давали одежду, лекарства. Люди старались держаться ближе друг к другу. Узнав о регистрации всех мужчин, Сарра Хацкелевна и еще несколько женщин спрятали мужчин в подвале, а сами как могли старались добывать продукты. Левина смело ходила по улицам, пользуясь тем, что внешне она ничем не напоминала еврейку, вместе со своей трехлетней дочкой просила милостыню. Почти никто не отказывал в помощи, хотя люди часто делились последним, и если проситель уходил с пустыми руками, значит действительно в доме уже ничего не было. Но вот наступил день, когда по распоряжению гитлеровского коменданта вывесили приказ о создании гетто и о том, что за укрывательство евреев грозит смерть.
Наверное, Левины не пошли бы в гетто, если бы на них не донесли. Донос грозил Левиным жестокой расправой и, что еще важнее, она распространялась и на их новую знакомую, устроившую им жилье и всячески им помогавшую.
Сообщила им о надвигающейся опасности одна из соседок.
— Я слышала, сегодня в полицию бумагу отнесли, что вы евреи, — скороговоркой зачастила она. — Мы-то все подтверждали, что вы поляки, но ничего не вышло.
Девочка-то твоя только по-еврейски разговаривает. Уходить вам надо…
Действительно, трехлетняя дочка Сарры говорила по-еврейски. Поздно вечером вся семья вылезла через окно во двор. Задворками ушли на еврейское кладбище, там переночевали, а утром вместе с другими пошли в гетто.
Уже после войны пыталась Левина найти тот дом, где ее с семьей укрывала та простая белорусская женщина, но теперь на этом месте не осталось не только тех старых домиков, но даже и маленькой тихой улицы — все властно заняли новые многоэтажные дома. К сожалению, не могла она разыскать и следов своей первой спасительницы, стерлось из памяти ее имя, и никого не нашлось из живших здесь раньше, но доброта и щедрость человеческая навсегда остались в сердце…
Много замечательных людей встретила Левина и в гетто. Тех, кто, несмотря ни на что, не утратил в себе мужества и человеческого достоинства. Эти люди не могли смириться с произволом и сдаться без борьбы. И вот здесь, в гетто, в этом одном из дантовых кругов ада, начали возникать подпольные группы, которые впоследствии переросли в подпольную организацию. Нелегко было сразу разобраться, кому можно верить, а кого надо всячески остерегаться — жизнь задавала сложные загадки. Трудно было понять, почему вдруг всеми уважаемые люди шли на работу к немцам на заводы, в мастерские, в больницы, управу, в газету, на железную дорогу. Как определить, кто из них друг, а кто враг? Ошибки здесь не должно было быть — она могла стоить жизни.
Но рисковать приходилось, хотя поведение некоторых известных всему Минску людей вызывало теперь всеобщее возмущение. Пожалуй, не было в городе человека, который не знал бы Бориса Дольского — режиссера Театра имени Янки Купалы — или заслуженного артиста БССР Михаила Зорова. Их имена, напечатанные крупным шрифтом на афишах театра, были известны не только минчанам, но и всем тем, кто хоть раз побывал в этом замечательном театре. И вдруг эти уважаемые и заслуженные люди идут работать к врагу! Борис Дольский становится заведующим жилищным отделом в юденрате, а Михаил Зоров там же возглавляет отдел помощи. Довольно долго даже подпольщики не знали, что Дольский и Зоров выполняют задание. Нелегко патриотам было делать свое дело, надо было войти в доверие к немцам и в то же время не утратить человеческого достоинства, сохранить силы и не сорваться, когда твои бывшие друзья и знакомые с болью и ненавистью высказывают тебе свое презренье.
В воспоминаниях подпольщицы гетто Софьи Садовской есть запись, которая точно показывает складывавшиеся тогда взаимоотношения.
«Как-то утром, идя в больницу, я столкнулась с Борисом Дольским — артистом и режиссером Театра имени Янки Купалы. Мы хорошо знали друг друга. До войны наши семьи дружили, мы часто встречались. Но эта встреча была мне неприятна. Я знала, что Дольский заведует жилищным отделом юденрата, а значит — служит немцам. В ответ на его приветствие я еле кивнула головой и хотела пройти мимо, не сказав ему ни слова. Но он остановил меня.
— Я слышал, твой тесть знает немецкий язык? — спросил он. — Есть возможность устроить его моим заместителем.
Хотелось обругать его грубо, резко. Но я, отчеканивая каждое слово, ответила:
— Мой тесть в юденрат работать не пойдет, он за чечевичную похлебку не продастся.
Дольский посмотрел на меня с удивлением, потом вспыхнул.
— Я считал тебя умнее, — прошептал он, — неужели ты не понимаешь, что там нужны свои люди?..»
Действительно, помощь таких, как Дольский, была неоценима. Сотни людей обязаны им жизнью.
Это он доставал «удостоверения специалистов» для подпольщиков, вписывал в справки о смерти фамилии людей, уходивших в партизанские отряды, предупреждал тех, кому грозила опасность, кем начинало интересоваться СД, собирал ценнейшие сведения. Михаил Зоров по поручению подпольной организации убедил немецкую администрацию открыть столовую, где по специальным талонам можно было получить тарелку супа и кусок хлеба. Благодаря тому, что в столовой были свои люди, помощь получали наиболее нуждающиеся, а в самой столовой могли встречаться подпольщики.
* * *
Хотя фашисты пытались изолировать гетто от общения с внешним миром, контакты постепенно налаживались. Пренебрегая опасностью, пробирались к колючей проволоке, окружающей гетто, минчане, передавали туда хлеб, продукты, лекарства. Среди тех, кто стремился помочь жителям гетто, были и подпольщики из группы Осиповой, особенно молодежь, которой руководил комсомолец Рафаэль Бромберг. Они помогали людям, бежавшим из гетто, переправляться к партизанам.
С каждым днем партизанских отрядов становилось все больше и больше. Партизанское движение началось в районах, примыкающих к Минску, и было тесно связано с минским партийным подпольем. Минский подпольный комитет партии помог формированию отдельных партизанских групп, которые, все время пополняясь, перерастали в отряды. Эти отряды, в свою очередь, всячески помогали минскому подполью. О боевых делах партизанских отрядов немедленно узнавали и друзья и враги — об этом заботились подпольщики, рассказывая правду в листовках. Одним из таких отрядов, пользующихся большой популярностью, был отряд капитана Николая Никитина, с которым вначале была связана Мария Осипова. Посоветовавшись с товарищами из подпольного горкома, Мария решила рассказать членам своей группы, что им в основном предстоит работать с никитинцами. Черная пришла в общежитие на Заславской и сообщила, что люди, приходящие «от тети Нюры», — это товарищи из отряда Никитина и теперь группа будет держать связь с этим отрядом.
— Будем собирать для них оружие и медикаменты. Отправлять людей из гетто и из лагеря военнопленных, — сказала она. — Кстати, в отряде большинство наших, минчан…
— Наверное, много знакомых, — обрадовался Бромберг, — это здорово…
— Вполне возможно, — строго оборвала его Черная, — но ты, Рафа, не увлекайся и будь осторожен, а то опять получится, как тогда на мосту…
Рафаэль смутился, кровь прилила к его смуглому лицу. Действительно, тогда он вел себя как мальчишка, не смог удержаться, чудом не погиб сам и едва не сорвал задание. Осипова поручила Бромбергу достать наборный шрифт, необходимый для партизан. Этот шрифт собирали по частям, но все-таки некоторых букв не хватало, в частности буквы «р», без которой работать было очень трудно. Бромберг должен был пойти к знакомому наборщику в типографию и принести недостающие литеры. Он надел широкий пояс, чтобы спрятать в него шрифт, взял на руки дочку и пошел по нужному адресу.
Для большей конспирации у Бромберга были забинтованы пальцы на руке, а соответствующая справка, которую достала Франя Злоткина, подтверждала, что он железнодорожник, но в данный момент освобожден по болезни от работы. Кроме того, в кармане у Рафы лежал документ, удостоверявший, что предъявитель его немец из Поволжья. Надо сказать, что Бромберг имел две клички: Цыган и Немец. Цыганом его прозвали за яркую внешность, а Немцем за то, что он превосходно говорил по-немецки с настоящим берлинским акцентом. Он изучал язык еще в техникуме, а в институте немецкий язык преподавал профессор, который когда-то учился в Германии, и Рафаэль оказался очень способным его учеником.
Бромберг благополучно встретился с нужным человеком, взял шрифт, зашил его в пояс и в самом радужном настроении возвращался домой, как вдруг он увидел, что на Бетонном мосту стоит патруль и проверяет документы. Другой дороги домой не было, да если бы она даже и была, то свернуть в сторону на глазах у немцев — значит сразу привлечь к себе внимание.
«Надо идти прямо к главному, причем идти уверенно и даже нахально», — подумал Рафа.
Спокойным, размеренным шагом он направился к патрулю и, любезно улыбаясь, приветствовал офицера на прекрасном немецком языке.
— Добрый день, господин офицер!
— Фольксдейч? — спросил тот в ответ на приветствие.
— Я воль! — с готовностью подтвердил Бромберг и быстро предъявил свой паспорт и справку. Немец посмотрел документы, окинул взглядом Бромберга: перед ним стоял черноволосый мужчина с миловидной девочкой на руках и спокойно ждал окончания проверки. Видимо, ничто не смутило гитлеровца, он протянул бумаги Рафаэлю и вдруг, подняв вверх руку в приветственном жесте фашистов, резко выкрикнул:
— Хайль Гитлер!
— Хайль Гитлер! — не задумываясь, ответил Рафаэль и поднял сжатый кулак так, как приветствовали друг друга антифашисты-ротфронтовцы. Тут же сверкнула мысль: «Что я наделал»? — и она как хлыстом обожгла его.
Но, к счастью, немец не обратил на это внимания. Рафаэль так же неторопливо пошел дальше, но весь остаток дороги ругал себя за забывчивость и несобранность.
Когда он вернулся домой, где его с нетерпением ждали, и рассказал о происшедшем, то Мария пригрозила, что отстранит его от ответственных заданий. Бромберг дал честное комсомольское слово, что подобное никогда не повторится. Но даже и теперь упоминание случая у Бетонного моста приводило Рафу в дрожь.
— Так что имейте в виду, теперь гости от «тети Нюры» будут приходить чаще, старайтесь не отпускать их с пустыми руками, — продолжала разговор Мария. — Что им нужно, они сами скажут, и готовьтесь, скоро им многое понадобится.
Хотя Бромберг и его товарищи и до этого беспрекословно выполняли все задания Черной и старались делать все, что в их силах, Рафаэлю было очень приятно узнать, что теперь у них есть «свой подшефный» партизанский отряд. Через несколько дней Осипова привела на Заславскую двух незнакомых ранее Бромбергу парней.
— Трегубов Костя, — представился один из них, темно-русый широкоплечий парень.
— Иосиф, — коротко сказал второй.
Это были связные из отряда капитана Никитина, с которыми подпольщикам потом пришлось не один раз встречаться. Трегубов сразу понравился Рафаэлю, расположил его к себе, позже они стали друзьями.
Накрепко были связаны друг с другом подпольщики — минчане и партизаны. Несмотря на огромные трудности, было налажено систематическое снабжение партизан медикаментами, оружием, одеждой, табаком, боеприпасами, пишущими машинками, бумагой и многим другим.
Недолго фашисты чувствовали себя уверенно в оккупированном городе. В самых неожиданных местах и в самое разное время стали исчезать немцы. Причем их трупы так и не были в большинстве случаев обнаружены, а если их и находили, то без документов и оружия.
Фашисты в ответ проводили жестокие акции: уничтожали первых попавшихся под руку людей, устраивали погромы. На улицах Минска появились виселицы, и ветер раскачивал трупы повешенных с фанерными дощечками на груди. По-немецки и по-русски на них было написано: «Мы партизан стрелял немецки золдатен». Трупы снимать не разрешалось, тех, кто с сочувствием смотрел на убитых, хватали и тащили в гестапо.
Особенно лютовали фашисты в те дни, когда у них были неудачи на фронте. Устраивали налеты в русских районах и в гетто: вооруженные до зубов немцы и полицаи оцепляли дома, совершали насилия и убийства. Повода для этого не нужно было никакого — гитлеровцы просто отводили душу. В гетто выгоняли на улицу всех без разбора и загоняли в душегубки. Тех, кто пытался сопротивляться, убивали тут же на месте. Если в русских районах погромы большей частью устраивали днем, то в гетто бесчинства творились и утром и вечером.
Однажды к Рафаэлю пришел Миша Коваленко, бледный и взволнованный.
— Опять в гетто погром был, — начал он, едва войдя в комнату. — Многих убили. Помоги мне моих выручить…
Семья Миши Коваленко — жена, мать жены и маленький сын — были в гетто. Бромберг, все взвесив, согласился.
Связь с гетто подпольщики держали постоянную, с самых первых дней. Вплотную подбирались к проволоке, передавали хлеб, махорку. Когда евреев колонной гнали на работу, по дороге уводили людей, прятали их или отправляли к партизанам.
Немцы отбирали в гетто людей по профессиям: сапожники, портные, столяры и т. д. были на особом учете и работали по специальности. Остальных собирали в колонны и отправляли на любые работы, не считаясь с их возможностями. Так, например, двор тюрьмы мостили камнями еврейские женщины, а камни надо было носить, разбивать и укладывать…
Шли колонны на работу под вооруженной охраной. На одежде людей ярко горели желтые латы, а белый прямоугольник на груди и спине с номером указывал номер дома, где живет данный человек. Колонны были закреплены за определенными объектами, что облегчало подпольщикам связь с нужными людьми. Была тюремная колонна: в нее вошли сапожники и портные (они работали в швейной мастерской), штукатуры и маляры. В эту колонну был включен подпольщик художник Моисей Левин, он назвался маляром. Там, где работа была наиболее тяжелой, давали восемьдесят граммов хлеба в день.
Подпольщики гетто старались сделать так, чтобы в каждую колонну попадали свои, надежные товарищи, которые помогали чем могли другим, привлекали к борьбе все больше и больше людей.
Проходила в гетто и Мария. Она надевала потрепанную кофту с желтой латой и, выбрав удобный момент, подлезала под колючую проволоку, а дальше уже зависело от обстоятельств: или Осипова оставалась на ночь в гетто, если ей надо было спрятаться, или же, взяв перевязочные материалы и медикаменты, которые подготавливали ей подпольщики, работающие в больнице, вновь проделывала свой страшный путь под колючей проволокой. Сразу же снимала с кофты лату и исчезала в руинах. И так было не один раз…
Бромберг связался с Черной и сообщил ей о просьбе Коваленко. Мария дала согласие. Решили помочь бежать семье Коваленко в лаз под проволкой, но для этого нужна была некоторая подготовка.
Подпольщики уже до этого тщательно изучили, где стоят часовые, когда происходит смена, и, кроме того, пригляделись к самим солдатам, охраняющим гетто. Были среди них и такие, которые не так строго соблюдали все правила и иногда делали вид, что не замечают происходящего, особенно если в этот момент они могли чем-нибудь разжиться. Выручать Коваленко направили троих: Михаила, Рафу и знакомого Бромбергу еще со времен работы на заводе котельщика — разметчика Петра Гордеева. Отчаянный парень, любитель поозорничать, посмеяться, быстрый на драку, он был известен на заводе как заводила. Зная его вспыльчивый характер, многие рабочие держались от него в стороне. Но те, кто был знаком с Петром поближе, знали, что он парень надежный и товарищ настоящий. И вот в это тяжелое время Гордеев проявил себя. Он бесстрашно проходил к гетто, перебрасывал через проволоку продукты и табак. Встречал идущие на работу и с работы колонны и, не боясь конвоя, совал в руки медленно идущим усталым людям то кусок хлеба, то горсть махорки — вообще все, что мог достать. Он не искал кого-нибудь из своих друзей, просто старался помочь любому человеку.
Петр раньше не знал Коваленко, но сразу вызвался идти вместе с ним. Подпольщики заранее разработали четкий план: надо было всячески отвлечь внимание охранников, и только тогда действовать. Долго думали, какое лучше выбрать время для побега. Решили организовать побег незадолго до комендантского часа: все-таки ближе к концу дня и не так светло, кроме того, люди, идущие торопливой походкой, в это время не привлекут к себе особого внимания, так как все спешат скорее попасть к себе домой. Так и порешили прийти в гетто за полтора часа до комендантского часа. Через надежных людей передали план побега жене Коваленко: она должна была быть готовой и вместе с сыном и старой матерью находиться в определенном месте недалеко от проволоки. С собой она должна была обязательно взять платок, чтобы прикрыть себе голову и подбородок, платок также был необходим и старухе. Через идущих в город на работу подпольщиков Михаилу пришел ответ: будем вовремя.
В назначенный час товарищи были на месте, Рафа и Михаил порознь подошли к проволоке. Петр Гордеев, не обращая на них никакого внимания, тоже подошел к проволоке. В руках он держал яркий кисет с махоркой. Он не таясь шел по направлению к охраннику. Тот вопросительно глядел на него, не двигаясь с места.
— Разрешите хлеб другу передать? — попросил его Петр. — А вам вот махорка.
Немец, видимо, не очень понял, но подошел к нему поближе.
Одновременно Рафа и Михаил сделали несколько шагов к проволоке.
Гордеев снова повторил свою просьбу, показывая жестами, что кисет предназначается немцу.
— Пожалуйста, очень прошу, — говорил Петр, подобострастно улыбаясь охраннику, — а махорка очень хорошая, вам, господин начальник, понравится.
Гитлеровец уже давно понял, что просит у него этот человек, но все-таки не давал согласия.
— Господин начальник, разрешите, — заискивал перед ним Петр, — я передам хлеб — и все…
Наконец охранник соблаговолил взять кисет и сделал рукой разрешающий жест: мол, иди давай, ладно.
Петр медленно пошел к проволоке, за которой стоял один из его заводских знакомых. Гордеев не спеша достал полбуханки хлеба и протянул ее через проволоку. Охранник стоял совсем рядом и смотрел на них во все глаза. Мужчины обменялись несколькими малозначащими фразами, и тут часовой счел нужным вмешаться.
— Уходи отсюда, — приказал он Гордееву.
— Еще два слова, господин начальник! — попросил его Петр. — Минуточку!
Охранник ворча разрешил.
В это время Бромберг и Коваленко не теряли даром времени. Очень трудно было за считанные секунды бесшумно вызволить из-за колючей проволоки старую беспомощную женщину и маленького ребенка. Жена Миши Коваленко не нуждалась в помощи. Товарищи действовали слаженно — они заранее распределили свои роли: Рафа помогает старухе, а Михаил сыну. Но до лаза беженцам из гетто предстояло незаметно проползти три десятка метров.
Ева, жена Коваленко, ползла по земле к проволоке, одной рукой прижимая к себе мальчика. Больше всего она боялась, что он заплачет. Правда, уже два дня, как она старалась ему внушить, что, если он скажет хотя бы словечко, то «ему, маме и бабушке будет очень плохо — нас всех немцы убьют». Она повторяла это ему все время, и малыш вроде бы понял. Ева делала все, что могла, даже запугивала сына, и, кажется, добилась результатов; мальчик замирал при виде человека в немецкой форме, но разве можно было быть вполне уверенной в трехлетием ребенке, что он сделает все так, как надо.
Женщина ползла по земле, обдирая в кровь колени и локти, и каждый оставшийся метр земли казался ей бесконечным. Коваленко ждал ее по другую сторону проволоки — его сердце обливалось кровью, когда он смотрел на медленно передвигающуюся по пыльной земле жену. Он видел, чего стоило ей каждое движение, видел и ничем не мог ей помочь. Как можно ближе подобрался он к проволоке, забыв о приготовленной заранее палке, которой надо было раздвигать проволоку. Он голой рукой схватил проволоку и, не обращая внимания на безжалостно раздирающие ладонь колючки, буквально выдернул жену на эту сторону. Михаил прижал к себе сына, и его поразило лицо ребенка и побелевшие от напряжения ручонки, судорожно вцепившиеся в одежду отца. Половина дела была сделана, теперь надо было незаметно добраться до развалин.
Темный платок прикрыл лату на кофточке, и теперь она не бросалась в глаза. Почувствовав, что вновь приближается опасность, сын потянулся к матери и мертвой хваткой уцепился ручонками за ее шею. Жалобный стон, именно не крик, а стон вырвался из груди ребенка, когда Михаил потянул его к себе.
— Не трогай его, — прошептала Ева. — Бежим.
А бежать-то как раз было нельзя. Это сразу привлекло бы внимание охраны. Спокойным шагом Коваленко дошли до угла и вошли в первые же развалины. Здесь было сыро, омерзительно пахло плесенью, но можно было хоть вздохнуть спокойнее.
— Боренька, это папа, ты не бойся! — ласково уговаривала сына Ева. — Он тебе ничего не сделает. Это папа.
С трудом ей удалось уговорить мальчика, чтобы он перешел на руки к Михаилу. Ева сорвала ненавистную метку-лату с кофточки, а платок закрыл голову и часть лица женщины. Михаил вышел первым, огляделся, все было спокойно. Выбирая короткую дорогу, они вышли из руин и пришли на Заславскую.
А в это время Гордеев продолжал вести обстоятельный разговор с охранником. Так как тот не знал ни русского, ни белорусского языков, а Петр знал всего несколько слов по-немецки, то объясняться было трудно. Одно было ясно охраннику: этот наглец хочет остаться подольше у проволоки и что-то еще передать находящимся там людям. Гитлеровец, угрожая прикладом, стал гнать его от проволоки, но упрямец не уходил. Более того, подошло еще несколько человек, которые тоже стремились пробраться к запретной зоне. К охраннику на помощь пришел второй часовой, настроенный довольно благодушно, и они стали отгонять Гордеева подальше от изгороди. Пока это даже походило на какую-то своеобразную игру: взрослые люди перебегают с места на место и становятся друг против друга по разные стороны заграждения.
Гордеев уже почувствовал, что охранники начинают злиться и скоро перейдут к решительным действиям — откроют стрельбу. Он понимал это, но знал, что не уйдет, пока Коваленко и Бромберг не выполнят намеченного плана. Но вот Петр увидел, что Михаила уже нет на месте.
«Значит, здесь все в порядке, — подумал он. — А как, интересно, у Рафы?» Он повернул голову и увидел, что Бромберг уходит, бережно поддерживая под руку старую женщину.
«И здесь порядок, — удовлетворенно подвел итоги Петр, — еще немного, и я тоже уйду».
Бромберг вел едва передвигающую ноги мать Евы. Наконец они добрались до развалин (они уходили в другую сторону, — не в ту, что Михаил с семьей), и их уже нельзя было заметить с территории гетто.
— Сядьте, отдохните, — предложил Рафа задыхающейся от волнения и усталости старой женщине.
— А нас здесь не найдут? — робко спросила она.
— Нет, — уверенно ответил Рафа. — Отдыхайте спокойно.
Через некоторое время женщина пришла в себя, тоже сняла лату, и они пошли на Заславскую, где их уже заждались… Теперь на Заславской ждали Гордеева.
— Неужели с ним что-то случилось? — казнила себя Ева. — Ну почему он не идет?..
Наконец появился и Петр.
— Все в порядке, — заявил он, — вы вовремя ушли, там никто ничего не заметил. Фрицы, правда, стрелять начали, но это уже наша работа…
Ева, плача, целовала Гордеева.
— Ты, Михаил, лучше смотри за женой, а то она, видишь, на чужих мужиков бросается, — грубовато отшутился Петр. — Ну ладно, ладно. Я пошел.
Он бережно освободился из рук плачущей женщины и ушел.
Вся семья Коваленко ночевала на Заславской. Галя Липская уложила мальчика спать, и он наконец заснул, всхлипывая и крича во сне. Сказалось напряжение этих дней, непосильное для взрослого человека, а не то что для ребенка. Остальные так и не сомкнули глаз до утра, просто сидели молча, только изредка перебрасываясь словами, мысленно вновь переживая все происшедшее.
Утром на Заславскую пришла Мария, зашла как случайная знакомая — кто она, незачем было знать родным Коваленко. Рафа рассказал ей, как прошел побег, и получил от нее дальнейшее распоряжение, что делать и как вывести из города семью Михаила. Вскоре Коваленко были переправлены в безопасное место.
Немало людей таким путем покинули гетто, и им помогали в этом подпольщики из группы Черной. Но в гетто оставалось еще много людей, с которыми немцы день ото дня обращались все хуже и хуже. Незадолго до Октябрьских праздников жителям гетто стало известно, что фашисты хотят сократить территорию гетто по улицам — Немига, Островского, Республиканская. На этих улицах в каменных домах разместилось больше четверти еврейского населения. Никто толком не знал, в чем выразится это сокращение, но на всякий случай людей с этих улиц пытались переселить в дома вне этой черты. Это было очень трудно, так как все жили в ужасающей тесноте.
Наступило 7 ноября. Уже утром фашисты окружили гетто. Они силой выгнали людей на улицу. Потом всех согнали в складские помещения, которые заперли. Больше суток держали несчастных узников в заключении, а потом на машинах повезли в Тучинку и расстреляли у заранее подготовленных рвов. Еще долго шевелилась земля на этом страшном месте, спаслось только несколько человек, сумевших выбраться из могилы…
В тот день погибло двенадцать тысяч человек.
Бесчеловечная жестокость гитлеровских палачей еще раз напомнила минчанам, что их единственная цель — мстить за невинно погибших. И мстили… Все чаще ветер приносил из руин тяжелый трупный запах, все реже можно было встретить на улицах гитлеровцев, идущих в одиночку. Страх стоял за спиной каждого фашиста, и они стремились подавить его новыми кровавыми делами. Полицейские внимательно разглядывали лица прохожих: за хмурый взгляд, брошенный исподлобья, без разговоров тащили в СД. Редко кто выходил оттуда на свободу. Так зверствовали немцы в городе, а в гетто они применяли более усовершенствованные методы — уничтожали людей не только физически, но, что было не менее страшно, убивали их морально.
Каждый день нес с собой новое горе: никто не знал, где сегодня прольется кровь. Погромы были почти ежедневно: опять окружали улицы, строили жителей в колонны и гнали на расстрелы. А иногда уничтожали жителей определенных домов, причем то мужчин, то детей, то женщин. Люди жили под непрестанной угрозой смерти, никто не знал, когда и за что он будет уничтожен. Кроме того, каждое воскресенье гитлеровцы устраивали для себя развлечение.
На знакомую каждому минчанину Юбилейную площадь под страхом смерти сгоняли всех евреев из гетто. На помост, поставленный среди площади, поднимались представители власти, которые сообщали, что еще запрещается делать евреям. Строго запрещалось смеяться, читать, писать, общаться со знакомыми, покупать продукты и т. д. Призывали всех, кто знает что-либо о партизанах, немедленно сообщить в СД — иначе смерть.
Это было начало, а потом гитлеровцы заставляли певцов, находящихся в гетто, исполнять народные песни. Нервы у измученных людей не выдерживали: плач и рыдания заглушали мелодию. Стоящие на помосте палачи издевательски хохотали. И все же, несмотря ни на что, подпольная организация гетто действовала.
Слушали сводки Совинформбюро и передавали друг другу правду о положении на фронтах, формировали группы и с помощью городского подпольного комитета отправляли из гетто людей. Помогали организовывать побеги военнопленных из лагерей. Заготавливали медикаменты и передавали их связным для партизан. И кроме того, через подпольщиков гетто был налажен контакт с узниками в тюрьме.
Тюрьму обслуживала специальная колонна. В пошивочной мастерской, находившейся во дворе тюрьмы, работало довольно много подпольщиков, и у Осиповой здесь была явка. Начальницей женского отделения тюрьмы была Мария Скоморохова, и с ее помощью происходили свидания нужных людей.
Не поднимая головы, работают швеи. Только слышно, как стрекочут швейные машинки да звякают ножницы, разрезая ткань. Гитлеровцы получают готовую одежду в соседней с пошивочной комнате. Приходят сюда и другие заказчики: полицейские или их жены, использующие возможность бесплатно сшить себе обнову у хорошего портного.
Мария Скоморохова вводит статную черноволосую женщину, женщина идет, гордо подняв голову и брезгливо оглядываясь по сторонам.
— Готова моя блузочка с буфиками? — спрашивает она нетерпеливо.
— Еще разок примерить надо, — отвечает мастер. — Вот сюда, пожалуйста…
Они уходят за перегородку, и через несколько минут заказчица выходит.
— Опять плохо сидит. Еще раз мерить придется, — недовольно говорит она и, не прощаясь ни с кем, уходит.
Скоморохова провожает ее через все фашистские посты, говорит сменившемуся часовому:
— Это жена полицейского. Пропустите…
Кивнув на прощание Скомороховой, «жена полицейского» достойно удаляется, и никому, и меньше всего часовому, не может прийти в голову, что на груди у этой женщины спрятана бумажка с важными сведениями, а сама она — подпольщица Черная, за которой уже охотятся СД и гестапо.
«Жена полицейского» оказалась капризной заказчицей. Она несколько раз заставляла переделывать злополучную блузочку с буфиками и каждый раз приходила ее примерять в швейную мастерскую. Пароль «блузочка с буфиками» действовал безотказно — по нему подпольщики узнавали Марию, передавали ей нужные сведения, сообщали ценные данные.
Несколько раз Черная встречалась в мастерской с подпольщицей Аней. Под кличкой «Аня» работает Сарра Левина. После того, как по приказу генерального комиссара Белоруссии Вильгельма фон Кубе был убит ее муж (один из руководителей подполья) художник Моисей Левин и уничтожены обе ее маленькие дочери, Левина старалась как могла отомстить за их смерть фашистским убийцам.
Гаулейтер Белоруссии фон Кубе приехал в Минск в начале сентября 1941 года. Наместнику Гитлера были даны самые широкие полномочия, а после окончания войны фюрер обещал фон Кубе отдать всю Белоруссию. Поэтому фон Кубе не стеснялся в средствах, когда укреплял новый немецкий порядок: вешал, расстреливал и вообще любым путем уничтожал тех, кто осмеливался противиться оккупантам.
Сначала фон Кубе доставляло садистское удовольствие присутствовать на казнях, но потом он все больше и больше впадал в бешенство от упорства русских: даже перед смертью они не просили пощады, а утверждали, что гитлеровская Германия будет разбита, а гаулейтер и его свора расстреляны. Вскоре он стал изыскивать и другие пути укрепления своего положения. По его приказу белорусские националисты, привезенные гитлеровцами с собой, начали создавать различные организации. Самой первой из них была БНС (Белорусская народная самопомощь), которая должна была официально готовить из белорусов кадры для государственного управления, а на самом деле подготовляла агентуру для засылки в подпольные организации, в партизанские отряды — всюду, где действовали советские патриоты.
Шли в БНС уголовники, предатели, бывшие помещики-эмигранты, появившиеся вместе с оккупантами как грибы после дождя. Эта организация была быстро разоблачена советскими людьми, и поэтому вербовка в нее провалилась. Молодежь, силой записанная в подразделения БНС, при первой же возможности, захватив с собой оружие и боеприпасы, уходила в партизаны. Были еще и другие организации, но белорусский народ быстро распознавал их истинное назначение и всячески их бойкотировал.
Планы фон Кубе — с помощью белорусских националистов обезвредить деятельность советских патриотов — провалились. Фашисты по приказу гаулейтера принимали самые жестокие меры и добились того, что Вильгельм фон Кубе вполне заслуженно и прочно завоевал звание «палача белорусского народа».
Вот в одной из таких кровавых, бессмысленных рас-прав вместе с другими невинными людьми погиб и Левин. Место Левина в тюремной колонне заняла его жена…
Меньше всего могла подумать Сарра, что здесь, в тюрьме, ей пригодится умение писать готическим шрифтом.
Фашисты платили за предательство дополнительными пайками, и по специальному списку их выдавала Скоморохова.
— Списки должны быть написаны готическим шрифтом, — приказало начальство.
Начались поиски нужного человека, который умел бы это делать. Скоморохова посоветовалась с подпольщиками, и ей рекомендовали Левину.
По просьбе Марии Скомороховой Левину перевели в кладовую на подсобную работу — помогать выдавать пайки.
Она очень старалась: переписанные каллиграфическим почерком списки один за другим ложились на стол к начальству, а копии их, написанные мелкими буквами, уносила с собой Мария Осипова.
Через Левину шла нелегальная переписка заключенных с теми, кто их ждал на воле.
Передавал Левиной записки от заключенных и сообщал сведения о них старший надзиратель по караулу Андрей Дизер, немец из Поволжья. Этот замечательный человек с самого начала старался всем, чем мог, помогать заключенным. Он носил передачи и вместе с пустой посудой приносил от узников записки. Это он вместе с полицейским Липаем помогал готовить восстание в тюрьме, и, когда это восстание провалилось, он после пыток был убит вместе с остальными заключенными.
Левина была связана с теми подпольщиками, которые помогали организовывать побеги людей из гетто и налаживать тесный контакт с военнопленными в лагере на Широкой улице. Сарре Левиной было поручено ответственное задание: вывести из гетто к партизанам еврейских полицейских, известных своей жестокостью. Предателей надо было привести в отряд, где народ должен был судить их справедливым судом и привести приговор в исполнение. Левина не только привела полицаев, но спасла большую группу людей, которым уже нельзя было больше находиться в гетто. После ухода Левиной из гетто Мария Осипова с ней уже регулярно не встречалась, но все же они виделись несколько раз…
Приближался 1942 год. Обстановка на всех фронтах была очень напряженной. Главное командование вермахта поставило задачу во что бы то ни стало занять столицу. Захватить Москву, по мнению фюрера, значило нанести удар в самое сердце советского народа.
Операция захвата Москвы носила название «Тайфун». Название это очень точно раскрывало намерения фашистов — снести, смять, уничтожить все на своем пути, чтобы не осталось камня на камне. Гитлер дал приказ, чтобы город был окружен так, что «ни один русский солдат, ни один житель — будь то мужчина, женщина или ребенок — не мог его покинуть. Всякую попытку выхода подавлять силой». Всех москвичей предполагалось сначала уморить голодом, а потом затопить город и его окрестности так, чтобы не осталось никаких следов и на месте огромного города образовалось бы море.
Генеральное наступление на Москву немцы начали 30 сентября 1941 года: гитлеровские войска встретили ожесточенное сопротивление — весь народ встал на защиту столицы.
19 октября 1941 года Государственный комитет обороны ввел в Москве и в прилегающих к ней районах осадное положение. Внутри города москвичи возводили укрепления. Все, кто мог, помогали строить внешний оборонительный пояс: люди рыли противотанковые рвы, ставили надолбы, делали завалы из бревен. В Москве формировались части и соединения народного ополчения.
«Не бывать фашистам в Москве!» — таков был лозунг советского народа.
И когда 7 ноября 1941 года на Красной площади состоялся парад войск, то этот парад прозвучал как клятва в верности советскому строю и вера в Победу… Тщетно гитлеровцы старались захватить Москву — все их попытки потерпели неудачу. Началось контрнаступление советских войск. Военная обстановка резко изменилась.
В оккупированном Минске, как и везде, с волнением ждали сообщений о боях под Москвой. Текст этой сводки передал Осиповой Николай Кречетович.
Вечером 13 декабря 1941 года Николай Кречетович, как обычно, наладил приемник. Начал слушать. Радостный голос диктора Левитана сразу заставил его насторожиться, а уже через несколько минут он скорописью записывал текст сообщения.
Мелькали названия городов, знакомых каждому русскому человеку: Клин, Калинин, Солнечногорск, Истра… Наши войска предлагают фашистам, засевшим в Клину и Калинине, капитулировать; фашисты бегут, сжигая все за собой, — они сами боятся попасть в окружение.
Кречетович представил себе, как бегут, кутаясь в награбленные у населения теплые вещи, фашистские молодчики… Доблестные немецкие вояки отступают, накинув теплые платки и меховые горжетки.
Кречетович дослушал сводку до конца и аккуратно разобрал приемник.
«Немедленно надо увидеться с Марией, — подумал он, — такие новости не должны залеживаться. Сейчас они нужнее хлеба».
На другой день незадолго до обеденного перерыва Осипова сама пришла к Кречетовичу, спокойно поднялась наверх, где жил Николай Николаевич, открыла взятым из условного места ключом дверь и терпеливо стала ожидать его прихода. Он не заставил себя долго ждать — точно явился домой обедать. Поделился с Марией скудным обедом и передал ей бесценную сводку.
— Завтра утром ее многие прочтут, — удовлетворенно сказала Осипова. — Это уж мы постараемся…
На другое утро листовки с сообщением Совинформбюро висели на улицах рядом с аккуратно расклеенными приказами и сообщениями немецкого коменданта — подпольщики Черной не тратили зря времени.
Новый, 1942, год Мария Борисовна встречала у Кречетовича. Их было всего трое: сам Кречетович, его жена Елена, тайком пробравшаяся к нему в этот вечер, и Мария.
Недолго прожила Елена Кречетович в деревне. Она взяла дочку и уговорила знакомых крестьян, едущих на подводе в Минск на рынок, захватить ее и приехала в город. Сразу же пришла к Франтишке, а та позвала Марию, и женщины стали думать, что делать.
Незаметно пробралась Елена в свою же собственную квартиру, потом туда же Мария принесла ребенка. Девочке строго-настрого приказали говорить только шепотом, чтобы никто не слышал ее голоса, запретили ей бегать и шуметь, а разрешили только ходить на цыпочках, причем на ноги ей надели мягкие валенки, которые она должна снимать только на ночь. Но так Кречетовичи прожили недолго. Однажды утром Николай Николаевич уже отправился на работу в управу, как вдруг вернулся.
— Проверяют документы у всех живущих в доме, — нарочито спокойно предупредил он жену. — Держись естественно, и все обойдется.
Елена схватила дочку и кинулась на кухню. Посадила девочку, белокурую и миловидную, за стол, налила ей чашку чая, дала кусок хлеба с вареньем, а сама быстро надела кокетливый довоенный фартучек и, ударив себя несколько раз по бледным щекам, чтобы появился румянец, стала хлопотать у плиты. Кречетович встретил патрульных у входа в квартиру, любезно пригласил войти. Уже побывав в квартире бургомистра, архиерея, начальника полиции и других высокопоставленных лиц, живших в этом же доме ниже этажами, патрульные были в благодушном настроении.
Бегло проверили документы Кречетовича.
— Кто еще в квартире? — осведомился старший.
— Никого, кроме моей жены и дочери, — с достоинством сказал Николай Николаевич. — Пожалуйста, пройдите.
Немцы вошли на кухню; мирная картина предстала перед их глазами: девочка за столом и женщина в ярком переднике у плиты. Елена, приветливо улыбаясь, приветствовала их на прекрасном немецком языке.
— Какой настоящий немецкий ребенок! — восхитился один из немцев. — До свидания, фрау!
Они ушли, даже не поинтересовавшись бумагами Елены. Когда за ними закрылась дверь, моментально побледневшая как полотно Елена без сил упала на табуретку. На сей раз счастливый случай спас всю семью, но больше рисковать было нельзя.
Мария предложила прописать к себе Елену.
— Но ведь если разоблачат, что она еврейка, то и вас убьют, — говорил Николай Николаевич, — а вам нельзя рисковать.
— Ничего, что-нибудь придумаем. А прописать Лелю необходимо, иначе не миновать ей гетто.
Опять Мария с Кречетовичем занялись ставшей уже привычной работой — подделывать паспорт на сей раз для Елены. Николай Николаевич уже хорошо научился делать печати и штампы. Он даже освоил цинкографию и прятал готовые клише в щели пола. И на сей раз паспорт был сфабрикован на славу, и Елену прописали. Любопытным соседкам Марин было объяснено так: Осипова работает на железной дороге, часто не бывает дома, а ее девочка одна, и за ней надо присматривать. Кроме того, жиличка будет кормить за свой счет Тому, что тоже важно. Преданная Лида Дементьева всячески подтверждала этот вариант. Так и жила Елена у Марии, переводила ей различные документы на русский язык, письма немцев, в которых они жаловались на трудности, вообще выполняла все задания, какие ей поручали. А Кречетовичу пришлось взять для ухода за дочкой молодую девушку, в честности и надежности которой можно было не сомневаться. Очень редко Елена приходила к мужу навестить девочку. Эти визиты были очень тяжелы для Елены: какая мать может без слез смотреть на своего ребенка, который шепотом называет ее тетей, неподвижно сидит на противоположной стороне дивана. Поэтому Елена Кречетович приходила к себе домой в крайнем случае, но в такой день, как канун Нового года, она не могла не прийти.
Николай Николаевич приготовил торжественный ужин — кислую капусту и картошку (он украл их из подвала, где хранили свои запасы его важные немецкие соседи). В углу комнаты стояла маленькая елочка, и ее приятный свежий запах напоминал о довоенных счастливых праздниках.
— За победу! — был единственный общий тост.
Правда, вина и водки не было, в стаканах была вода. Но это был настоящий тост — торжественный и от всей души. Потом сидели до поздней ночи, пели шепотом революционные песни и говорили о том, как отметят день победы, когда он наступит. Никто из собравшихся не знал, доживет ли он до победы, но то, что победа будет, в этом никто не сомневался…
Наступило морозное утро. Кречетович попрощался с женой, и она, закутавшись до бровей, тихонько выскользнула из квартиры. За ней вышла Мария и через несколько кварталов догнала ее.
— Ты иди домой, Леля, а я приду поздно, а может, и совсем сегодня не вернусь, так что ты не беспокойся. — И Осипова исчезла.
Елена Кречетович благополучно добралась до квартиры Осиповой. Пока здесь было безопасно. Соседка Лида на совесть постаралась по просьбе Марии внушить окружающим, что Осипова работает у немцев на железной дороге, часто задерживается, а чтобы зря комната не пустовала, пустила к себе жиличку, которая бы присматривала за дочкой.
— А еще коммунистка, — фыркала одна из соседок, — на ее месте я бы постыдилась сейчас работать у врага…
Возможно, говорившая постыдилась бы так поступать, будучи на месте Марии, но на своем месте стыд не мешал ей самой устроиться на фармацевтический склад, красть медикаменты и продавать их любому, кто хорошо заплатит. Этим воспользовалась Мария и не раз присылала к ней за лекарствами свою дочку.
Была выработана такая система. Тамара с видавшей виды старой кошелкой в руках подходила к складу, к тому окошку, возле которого работала спекулянтка. Стучала в стекло условным стуком, и та выбрасывала пакет с медикаментами в форточку. Девочка подбирала пакет, прятала его под тряпки в кошелку и шла по адресу, где ее уже ждали.
Ждали же девочку каждый раз в новом месте, так что если кто за ней и следил, то предугадать заранее ее маршрут было нелегко. Иногда Тома шла на Заславскую, иногда «на свидание» где-нибудь на улице или сквере, а иногда пересекала весь город и приходила к «тете Шуре» Стефанович в деревню Столовое. Приходилось Тамаре носить и листовки и крохотные клочки бумаги с записанными на них важными данными. Девочка была надежной связной — ее вид не вызывал подозрений. И хотя Мария поручала дочери многое, она никогда не пыталась дать ей одно, пожалуй, самое трудное задание — доставку мин. По заданию подпольного райкома Осиповой несколько раз приходилось переносить в город магнитные мины и передавать их нужным людям. Хотя мины были маленькие и легкие, доставлять их было так рискованно, что Мария это делала только сама. Вот когда ей пригодился незаурядный дар перевоплощения, которым она обладала. Ее останавливали много раз для проверки, и тогда только ее выдержка и находчивость выручали ее. Таких случаев было немало.
Однажды Мария пробиралась в город под видом крестьянки, идущей на рынок. На дне корзинки, которую она несла, находились толовые шашки и мины, и сверху они были щедро засыпаны сенной трухой, в которой лежали яйца «для продажи» и связанная живая курица. Ноги и крылья у нее были связаны слабо, так, чтобы, если надо, ее можно было в любой момент освободить. Мария спокойно шла по краю дороги, как вдруг ее нагнала немецкая машина, в которой сидели немецкий офицер и полицай. Женщина посторонилась, пропуская машину, но та вдруг резко затормозила и остановилась.
— Иди сюда! — позвал Марию полицай.
Осипова беспрекословно повиновалась и направилась к немцам, успев незаметно дернуть за завязку, сдерживающую курицу. С радостным кудахтаньем курица слетела с корзинки и, хлопая крыльями, побежала по дороге. С причитаньями Мария бросилась за ней, нарочно споткнулась, упала.
— Дура, брось корзинку, все побьешь! — кричал ей полицай.
— Пан полицай, помогите поймать, — умоляла его Осипова.
Смеющийся офицер и полицай, растопырив руки, стали ловить курицу и наконец поймали ее.
— Не знаю, как вас благодарить, — кланялась им Мария и, достав из корзинки десяток яиц, протянула их офицеру, пяток дала полицаю.
Офицер что-то сказал полицаю.
— Садись в машину, мы тебя подвезем, — предложил он.
Марии пришлось принять приглашение. Так и ехала она ни жива ни мертва, прижимая к себе курицу и думая, что будет, если все же решат посмотреть, что же лежит у нее в корзинке. По немцев она уже не интересовала. Как только подъехали к окраине, Мария сказала, что ей теперь идти недалеко и, поблагодарив «панов» за любезность, ушла. Машина отъехала, и Мария села в придорожную канаву — она не могла идти, надо было прийти в себя от пережитого.
В другой раз было так: Мария уже почти не жила дома. По дороге на явочную квартиру, где она должна была взять мины и передать дальше по назначению — их ждали товарищи на вагоноремонтном заводе, — решила навестить дочку. Через час соседка пошла за водой и прибежала взволнованная.
— Маруся, не ходи никуда. Опасно! Немцы и полицаи кого-то ищут, всех обыскивают.
— Не могу я, Лида, не идти. Меня ждут товарищи.
— Но как ты пройдешь? Я же тебе говорю, всех задерживают и проверяют.
— Что-нибудь придумаю, но пойду.
— Ну вот что, — решительно сказала Лида, — ты возьмешь моего Генку.
— Ни в коем случае, — запротестовала Мария, — я мальчика не могу взять.
— Почему? Вот увидишь, с ним легче будет.
Что могла на это ответить Мария? Она не имела права говорить, на какое задание она идет, — этого Лиде незачем было знать. А с другой стороны, если что-нибудь случится и ее поймают, то никто не пожалеет малыша— его тоже убьют. И как о таком не сказать матери?!
Черная сделала последнюю попытку.
— Ты пойми, Лидуша, со мной Генку нельзя отпускать — опасно. Всякое может случиться…
Лида, видимо, поняла, она задумалась, но не надолго.
— Если я сама ничем не могу помочь, то пусть хоть мои дети помогут, — спокойным, но каким-то не своим, а чужим, хриплым голосом, тихо сказала она.
Потом Дементьева принесла своего трехлетнего сынишку.
Мария молча взяла ребенка на руки и вышла. Она шла по своему Кузнечному переулку, и легкое тело мальчика казалось ей непосильным грузом.
«Никогда я не подумала бы, что Лида так поступит, — думала она, — может быть, все-таки вернуть ей ребенка?»
Мария даже повернула обратно к дому, но в конце переулка появился патруль.
«Значит, придется идти с ним», — решила Мария.
Они шли долго: Генка то шел сам, мелко семеня рядом с ней, то просился на руки. Их ни разу не задержали полицаи, и у Марии стало легче на душе. Наконец Белорусская улица, здесь явочная квартира. Взять мину — недолгое дело, теперь предстоит самое главное — донести ее до дому.
Мария взяла маленькую черную коробочку, начиненную смертью, и положила се в шаровары к мальчику. Она посадила ребенка себе на плечи и крепко держала его одной рукой за ногу, придерживая сползшую к резинке шаровар мину. В другой руке Черная несла корзинку с детскими вещами. Благополучно прошла три четверти дороги, еще недолго, только пройти Бетонный мост — и будет Кузнечный переулок, а там и дом…
У моста оживление: группа полицаев и немцев задерживает и обыскивает всех без разбора.
Что делать? Повернуть некуда и нельзя, тогда обязательно привлечешь к себе внимание. Значит, надо идти прямо к патрулю.
— Геночка, милый, плачь, а то нас убьют, — попросила мальчика Мария.
А тот не хочет плакать, а наоборот, смеется.
— Геночка, плачь, очень надо! — еще раз попыталась уговорить его Мария. — Плачь, а то нам плохо будет.
Но разве объяснишь трехлетнему ребенку, что от его поведения зависит их жизнь!
Тогда Мария сильно ущипнула его за ногу. Удивленный и обиженный малыш громко заплакал.
— Это немец тебя штыком уколол, — прошептала Мария, — сейчас еще больнее уколет.
При виде людей в немецких мундирах мальчик зашелся криком.
— Иди сюда, обыскивать буду, — позвал Марию полицай.
Черная послушно пошла к нему.
Генка вцепился обеими руками ей в волосы и кричал изо всех сил.
— Брось своего щенка, — разозлился полицейский, — и подойди ближе.
Осипова сделала еще несколько шагов. Генка вырывался из ее рук и бил ногами по ее шее. Мария почувствовала, как мина выскальзывает из его шаровар, еще немного — и она упадет.
На крик ребенка подошел второй полицай, видимо старший.
— Что здесь происходит? — спросил он. Посмотрел на женщину, с трудом удерживающую плачущего мальчишку, и неожиданно сказал:
— Давай сюда, что несешь.
Мария безропотно протянула корзинку, полицейский поковырялся в ней и вернул.
— Проходи!..
Мария быстро прошла мост, сняла ребенка со своих плеч и положила мину под тряпье в корзинку. Как она дошла до дома, она не помнила. Наверное, не она вела Генку, а он ее… Поднялась к себе на второй этаж и замертво повалилась в чем была на постель. Несколько часов она не могла сказать ни слова. Вечером пришел человек с завода и унес мину. Задание было выполнено. Мария ничего не рассказала Лиде, но та поняла, что было трудно. Когда на другой день Мария собралась идти, Лида сказала ей вслед:
— Всегда будешь брать Генку, когда надо, так и знай!..
Мария ничего не смогла ей ответить: горький комок застрял в горле.
Хотя Черная старалась быть предельно осторожной, все-таки ее квартира попала на заметку. Трудно сказать, почему так произошло: вероятнее всего, постарался кто-то из соседей.
Однажды поздно вечером, когда Мария шла домой, ее встретил малознакомый человек. Он явно ждал ее, хотя делал вид, как будто он что-то исправляет в своем велосипеде.
— Немедленно уберите из города дочку. Сегодня же и сами уходите. Если вас не найдут, то ее возьмут заложницей…
Он поставил ногу на педаль велосипеда, оттолкнулся от земли и уехал. Мария сразу поверила ему, хотя с трудом могла вспомнить его имя — Володя. «Володя-водопроводчик»!
Уже наступила ночь, а ночью отправлять девочку она не могла. Тамара спала, а Мария так и не сомкнула глаз до рассвета. Она нашла немного овсяной муки и испекла из нее лепешку — больше в доме ничего не было. Рано утром она разбудила дочку, отдала ей лепешку и пачку сахарина — все свое богатство.
— Сейчас ты пойдешь на завод «Октябрь» к тете и там останешься. В город ни в коем случае не возвращайся, я тебя сама найду или кого-нибудь пришлю, когда будет можно. И никому не говори, куда ты идешь.
Тамара, уже привыкшая ничего не спрашивать и только выполнять поручения, повиновалась. Мария окинула взглядом дочь: ей трудно было удержаться от слез — маленькая, худенькая, с тонкими косичками, в поношенном платье, один ботинок порван, на лице только и есть что глаза, да и го не детские, а глаза человека взрослого, повидавшего многое. Ей бы бегать с подружками в школу и в кино, а не идти одной за сто тридцать километров через весь этот ад. Мария нашла в себе силы улыбнуться, расцеловать дочь и тихо, чтобы никто не заметил, вывести ее на лестницу. Потом Мария бросилась к окну и стояла до тех пор, пока маленькая детская фигурка не скрылась из виду. О том, что Тома добралась до места благополучно, Мария узнала только через несколько недель…
Почти сразу за девочкой ушла и Мария. Но прежде она разбудила Лиду и сказала, что уходит и придет теперь неизвестно когда.
— Всем говори, что я уехала, кажется, в Слуцк и что ты больше ничего не знаешь, мы с тобой в ссоре, — предупредила она соседку. — А я к тебе людей буду присылать, когда надо. Тот, кто будет у тебя спрашивать: «Не продаются ли кожаные подметки?», а потом: «Нашла ли Маруся Юрика?» — это значит — мой человек.
Так и договорились. Только Мария вышла и пошла не переулком, а огородами, как к дому подъехала машина с гестаповцами. Они опоздали на несколько минут, но этого было достаточно, чтобы Черная смогла скрыться.
Каждую ночь Мария ночевала в новом месте: в общежитии на Заславской, или у Стефановичей, или еще у кого-нибудь. Приходилось ей ночевать и в чужих и в «ничейных» сараях, укрываясь своим старым, видавшим виды пальто. Но несмотря на все трудности Осипова продолжала руководить своей группой и выполнять сложные задания.
Обстановка в городе усложнилась: фашисты стали вводить еще более строгие порядки, например, теперь обязаны были явиться на регистрацию цыгане (они тоже по плану гитлеровцев должны были быть уничтожены). Пришлось перейти на нелегальное положение и Рафе Бромбергу — его паспорт, где четко стояла национальность «цыган», больше не был защитой. Вместе с Марией Рафа прятался и у Николая Дрозда и в других местах. Уйти из города Рафа мог только после того, как выполнит важное задание — сделает карту города с нанесенными на нее вражескими объектами.
Задание было очень ответственным и сложным: план города с разведданными с нетерпением ждали в партизанском отряде капитана Никитина, откуда он должен был быть переправлен на Большую землю. Рафаэль позвал братьев Сенько и разъяснил им задание.
— Надо, ребята, сделать все, что можно и что нельзя. Очень это важно, — так закончил он свой инструктаж.
Возражений не последовало — надо, значит надо. Решили действовать планомерно: у Рафаэля была карта-путеводитель города, изданная еще до войны. Разбили карту на квадраты, и каждому члену группы был поручен определенный участок. Потом все данные Бромберг должен был свести на эту карту. Братья Сенько ушли, чтобы сообщить задание своим помощникам, а Рафаэль с товарищами занялся своим участком.
На сбор сведений ушло несколько дней. Зато картина получилась ясная: на плане четко обозначалось расположение воинских частей, батарей, складов, важных военных объектов, несколько позже этот план был передан на Большую землю, и советские летчики знали, куда бросать свой смертоносный груз.
Теперь Рафаэль мог готовиться к уходу в партизанский отряд: он еще раз встретился с товарищами, выполняющими его задания, сказал им, с кем они дальше будут держать связь и от кого получать дальнейшие распоряжения (для связи с отрядом вместо него остались братья Сенько). Запомнил и, кроме того, записал на крохотном клочке папиросной бумаги последнее донесение и попрощался с семьей. Проводить в отряд Бромберга и еще двоих взялась Мария, которая хорошо знала дорогу.
До отряда добрались без каких бы то ни было осложнений, если не считать бесконечного напряжения, в котором находились подпольщики: все они прекрасно знали, что если попадут к немцам или полицаям, то живыми им не быть. Для вынесения смертного приговора было более чем достаточно того, что у всех у них было оружие, не говоря о плане города и остальном.
Партизаны встретили Бромберга радушно, как своего. Здесь был его старый знакомый Костя Трегубов — связной, не раз приходивший к нему на Заславскую, а так как отряд на три четверти состоял из минчан, то Рафаэль увидел много знакомых.
— До чего я рад, ребята, что вижу всех вас, — говорил Рафа, пожимая протянутые к нему со всех сторон дружеские руки. — До чего здорово видеть кругом человеческие лица, а не эти поганые морды с оловянными глазами. Можно хоть душу отвести.
А Марии предстоял обратный путь.
— Ты, Рафа, пока в отряде останешься, а потом, когда командир скажет, вернешься в Минск, так что, наверное, скоро увидимся. Помни, никакой самодеятельности — дисциплина прежде всего…
Черная ушла не оборачиваясь, а Рафа долго смотрел ей вслед. Он не знал, что расстаются надолго — война разбросает их в разные стороны.
Сведения и карта были доставлены Бромбергом своевременно: их передали связному с Большой земли, находившемуся в это время в отряде.
Командир позвал к себе Рафаэля и сказал ему, что он вместе с отрядом перейдет линию фронта и поступит в распоряжение Центрального штаба партизанского движения. И там уже получит дальнейшее задание.
Отряд продвигался к линии фронта — надо было войти в Витебскую зону, а оттуда пробиться на Большую землю. Шли медленно, с боями. За это время Рафаэль еще больше сблизился с Трегубовым, они стали друзьями.
Однажды разведчики сообщили, что по шоссе Лепель — Ушачи идет немецкая медицинская машина с медикаментами, конечно, под охраной, но не очень сильной.
Решение было принято сразу:
— Сорок пять человек идут на эту операцию, — объявил командир.
Повел группу сам капитан Никитин.
Пошли на задание и Бромберг с Трегубовым. Бесшумной партизанской походкой шли бойцы по лесу. Это уже стало привычкой — идти как тень, не оставляя за собой следов и не производя никакого шума. Не отставал от товарищей и Рафа: правда, он иногда оступался, и под его ногами трещали сучья.
Наконец вышли к шоссе. Залегли вдоль дороги, надежно укрывшись за деревьями, стали ждать. Ждать вообще нелегко, а когда ждешь ответственного боя — то труднее в десять раз. Рафа лежал с автоматом и косился на Трегубова. Константин замер, не отрывая глаз от дороги. Наконец послышался шум моторов — едут!
Впереди шла санитарная машина, следом за ней полуторка с пятнадцатью солдатами. Партизанские автоматы застрекотали разом — четыре гитлеровца упали на дорогу. Остальные залегли за машиной. Снайперскими выстрелами убили шофера санитарной машины и офицера, сидевшего рядом с ним. Вскоре было покончено и с остальными фашистами. Партизаны собрали все оружие, вынесли медикаменты из машины.
Вдруг опять раздался шум. С пригорка дорога просматривалась далеко.
— Идут одиннадцать машин! — крикнул кто-то.
Быстро решили: часть партизан с оружием и медикаментами отходят, остальные до команды задерживают врага.
Партизаны снова залегли в засаду. Первая машина резко затормозила перед перевернутой полуторкой. Солдаты выскочили на шоссе. Короткое замешательство, подъехали и остановились остальные. Партизаны пока ничем не выдавали своего присутствия, но солдаты растянулись цепью, приготовившись прочесывать лес. Тогда по команде никитинцы открыли огонь. Немцы тоже залегли по другую сторону дороги — притаились, видимо выжидая, что будет дальше.
— Отходить! — пошла по цепи команда.
Партизаны начали скрываться в лесу, когда Костя Трегубов привстал на одно колено и бросил гранату в группу немцев, залегших в придорожном кювете. Взрыв! В воздух полетели комья земли и клочья одежды. Трегубов не успел уйти. Автоматная очередь прошила ему грудь, и он рухнул на землю.
— Костя, ты жив? Можешь идти? — подполз к нему Рафа.
Тот молчал. Бромберг прислонился к его груди: сердце бьется — значит, жив. Он взял товарища на руки, поднялся во весь рост и понес его, шатаясь от тяжести. И немцы, и партизаны перестали стрелять от неожиданности. Рафа перебрался через кювет, вот он уже на краю опушки, а там дальше надежный лес и товарищи, которые прикроют. Шаг, еще шаг… И тут Рафаэль зацепился за что-то и упал, не выпуская из рук Константина. Немцы очнулись от растерянности и открыли огонь по лежащим. Собрав все силы, Бромберг рукой перехватил Константина поперек груди и пополз. Одной рукой держать неподвижное, ставшее чугунным тело было трудно. Взвалить себе на спину Трегубова Рафа не хотел, уж очень низко и рядом свистели пули. Тогда Бромберг схватил зубами воротник полушубка Константина, мертвой хваткой прижал рукой его тело и пополз к лесу. Так он добрался до деревьев. Здесь их ждали партизаны. Раненого Трегубова капитан Никитин приказал отправить в заградотряд бригады Дубровского, где был госпиталь. Бромберг доставил его по назначению, потом догнал свой отряд и вместе с ним двинулся к Большой земле.
Рафаэлю не пришлось вновь вернуться в Минск. Партизанский центр решил иначе, и Бромберг встретился с Черной только после войны.
Несколько изменилась работа и у Марии. Теперь она подчинялась и получала задания от Логойского подпольного райкома, где секретарем был Иван Матвеевич Тимчук. По решению райкома Мария была связана с партизанским отрядом капитана Кеймаха, дяди Димы. Не раз приходилось Марии ходить пешком в отряд, а до него было шестьдесят километров, и, отдохнув несколько часов, возвращаться обратно. Часто товарищи предлагали Марии отдохнуть подольше, но она всегда отказывалась.
— Отдыхать будем после победы, — отшучивалась Осипова, — а сейчас работать надо. — И женщина уходила твердой походкой и, только уже скрывшись из виду, позволяла себе замедлить шаг или идти прихрамывая, чтобы щадить стертые до крови ноги. Такого ценного разведчика, как Мария Черная, старались беречь: ей строго-настрого запретили самой носить и раздавать листовки или сводки Информбюро, а также лично принимать участие в любой рискованной операции, не согласовав свое участие с подпольным райкомом. У нее были свои очень важные задачи, и она должна была их выполнять. Непосредственную связь с отрядом Черная держала через Петра Алисионка, Дядю Петю, бывшего председателя колхоза. Это его младшего брата, работавшего по заданию подпольщиков полицаем, «посватала» Мария Нине Марчук.
Чаще всего для встречи с Марией Дядя Петя приезжал на Заславскую к Николаю Прокофьевичу Дрозду. Каждый раз Николай Прокофьевич дежурил во дворе, делая вид, что занимается домашней работой, а в переулке находилась его дочь Реня, которая тоже следила, не появятся ли откуда-нибудь подозрительные люди. Много оружия доставил в отряд на своей подводе Петр Алисионок в сопровождении Осиповой. Вместе они выполняли очень ответственное задание — выводили из лагеря военнопленных.
Очень спокойный и выдержанный, Петр Алисионок был надежным товарищем и не терял самообладания в самых сложных положениях. Мария знала, что на него можно во всем положиться и, что было очень ценным, он сразу понимал и, если было нужно, поддерживал любую ее выдумку.
Было много рискованных моментов в работе подпольщиков, но в памяти особенно ярко запечатлелись некоторые. Одним из таких эпизодов Осипова считает доставку оружия партизанам из Грушевского поселка. Задание было поручено двоим: ей и Петру Алисионку. На дно телеги положили мешок с патронами, винтовки, а сверху навалили всевозможный железный лом. Весь этот груз засыпали сеном и накрыли подстилкой. Петр правил лошадью, а Мария сидела рядом с ним. Не торопясь, телега ехала по городу. Подпольщики тоже внешне были спокойны, но нервы их были напряжены до предела.
Проехали Московскую улицу, выбрались на Советскую — и вдруг резкий, как удар хлыста, окрик:
— Стой!
Алисионок натянул вожжи, лошадь послушно остановилась. К телеге подошел полицейский.
— Слазь с подводы! — грубо обратился он к Черной.
Мария не растерялась, хотя чувствовала, что сердце вот-вот выскочит из ее груди.
— Не могу, ноги так болят, что с места стронуться сил нет.
К телеге подошел немецкий офицер, стоявший рядом с какими-то узлами. Не иначе, как в них была награбленная добыча, которую им нужно было срочно увезти. Он недовольным тоном что-то сказал полицейскому, видимо распекая его за задержку.
Полицейский подошел поближе к Марии и начал за руки стягивать ее с телеги. В этот момент вмешался Петр, так спокойно и вежливо, что полицейский отпустил женщину:
— Господин полицай, будьте ласковы, не трогайте мою сестру, у нее ноги больные, еле ходит. Вот приехали показаться доктору. А вещи ваши, если надо куда подвезти, то пожалуйста.
Немец согласился. Петр и полицай погрузили узлы на подводу.
Лошадь плелась еле-еле, и тут вдруг Мария услышала какой-то звон: по-видимому, звенели железки, ударяясь друг о друга. Осипова плотнее уселась на мешок с патронами.
Полицай насторожился.
— Что это у вас звенит? — недоверчиво спросил он.
Мария с вызовом посмотрела на него.
— Оружие! — с усмешкой ответила Мария.
— Ты, чертова баба, ври, да знай меру, — рассердился полицай, — нашла с кем шутки шутить.
— Не обращайте на нее внимания, господин полицай, — вмешался Алисионок. — Дура-баба, что с нее взять!
Осипова объяснила:
— Понимаете, пан офицер, — теперь она обращалась к немцу, — жить-то ведь нужно. Мой муж, кузнец, делает из разных железок что может, а потом продает. Вот сейчас в город приехали, в развалинах брат железа набрал, теперь домой повезем.
Полицай и офицер не удостоили ее ответом, видимо поверив сказанному.
— Куда теперь ехать прикажете? — спросил Алисионок, когда они доехали до конца улицы.
Полицай небрежно показал пальцем — во двор… СД!
«Попались! — замерла Мария. — Что теперь делать?!»
Единственно, что ей оставалось, это с невозмутимым видом сидеть на подводе с оружием.
Полицай нагрузил на Петра узлы, сам взял те, которые были полегче, и они понесли их к зданию. Немец тоже куда-то ушел. Осипова осталась одна, а всюду, куда ни кинь взгляд, люди в немецкой форме. Мария недолго пробыла одна. К телеге подошло несколько полицейских.
— А ну-ка слезай! Нам нужны подводы.
— Никуда не слезу. Мне господин офицер разрешил, я больная, — уперлась Мария.
— Слезай, кому говорю! Вернем твою подводу часа через два. Подождешь.
— Что с ней разговаривать, — вмешался второй. — Тащи ее, и все.
Мария запричитала, заголосила. Она вцепилась обеими руками в телегу и кричала изо всех сил.
Из здания выскочило несколько немцев, подошли поближе.
Мария заметила одного чином повыше и продолжала плакать, адресуясь уже к нему.
— Больная я! Брат меня к врачу привез, а сейчас он вашему господину офицеру вещи понес. Мы всегда немцам помогаем, мой муж тоже в полиции работает, только сейчас он на дежурстве. Прикажите, чтобы лошадь не трогали…
Черная обратила внимание, что немец пристально смотрит в угол телеги, где стояла корзина с яйцами.
— Господин офицер, скомандуйте, чтобы нас выпустили. А я вас отблагодарю.
В это время подошел Петр. Он низко поклонился офицеру и передал ему в руки корзинку. Офицер что-то сказал полицаям, и Марию с Петром выпустили за ворота…
Некоторое время они ехали молча, потом Алисионок сказал:
— Ну и наволновался я за тебя, Мария. Несу узлы, а сам все думаю, как ты там, а когда твой голос услышал — прямо ноги отнялись. Стою как столб, а полицай злится, в спину меня толкает. Мол, неси, не задерживай. Чего я только не передумал. А потом, когда вышел, увидел, ты сидишь, а вокруг тебя фрицы, решил, что придется отстреливаться…
Мария молчала, да и что она могла сказать, когда за эти страшные минуты ей пришлось пережить такое, что иному не выпадет за целую жизнь.
— Все обошлось, — повторила она слова Петра. — Сошло благополучно.
Еще одно задание Мария будет помнить всю жизнь. Подпольный райком поручил Черной вывести из лагеря большую группу военнопленных. В этот раз, кроме Дяди Пети, ей помогали и другие товарищи. Среди них были Иван Толстиков, бывший военнопленный Михаил Иванов и волжский немец Андрей (так его представили Марии), много сделавший для подпольщиков. Освобождение военнопленных из лагеря Масюковщина было его последним заданием в городе — после этого он уходил в партизанский отряд.
Операцию наметили провести 20 марта 1943 года, руководить ею должна была Осипова. Этот мартовский холодный день ничем не отличался от других дней, но для тех, кто находился в лагере и знал, что сегодня решается его судьба, он был особенным. В этот день, как обычно, колонны пленных под конвоем отправились на работу. Одни шли пешком, подгоняемые грубыми окриками и пинками, другие, предназначенные для работы в более отдаленном районе, грузились на машины. В морозном чистом воздухе далеко разносились лающая немецкая речь и ворчание моторов.
Не отставал от других конвойных и этот среднего роста немецкий солдат, выстраивающий в аккуратную колонну изможденных людей, одетых в рваную военную форму. Старались заслужить одобрение начальства и его помощники. Наконец колонна вышла из лагеря и послушно зашагала к окраине города. Конвоиры и полицаи не спускали глаз со своих подопечных, подгоняли и покрикивали на отстающих. Правда, отстающих почти не было, все старались идти как можно быстрее. Встречные прохожие меньше, всего могли предположить, что конвоиры и полицаи, охраняющие пленных, всего лишь несколько часов назад вместе с командиром партизанского отряда в последний раз обсуждали предстоящую операцию. Впереди колонны на некотором расстоянии шел одетый в крестьянскую одежду мужчина. Это был Петр Алисионок. Он нес на спине белый мешок с большой темной заплатой, заметный издалека, своего рода маяк, на который ориентировалась колонна. Петр шел размеренной походкой человека, привыкшего много ходить, и белый мешок мерно раскачивался в такт его шагам. Мария тоже держалась в отдалении от замыкающих колонну, и надо было обладать необыкновенной проницательностью, чтобы признать в этой скромной женщине командира группы.
Колонна вышла из города, не вызвав ни у кого никаких подозрений: обыкновенная картина — пленных гонят на работу. Дорога довела до поворота и вильнула в сторону на тропинку. Пленные, теперь шедшие в колонне по одному, должны были быть очень внимательными, чтобы не сбиться с пути.
Тропинка раздвоилась. Алисионок уверенно пошел прямо, за ним потянулись остальные. Почти все, кроме одного, который машинально свернул вправо.
Этот один был Михаил Иванов. Он, как и все, шагал в колонне и нес небольшой, но тяжелый мешок. Никто, кроме Марии и Петра Алисионка, не знал, что в этом мешке находились патроны, которые надо было доставить в партизанский отряд. Драгоценную ношу доверили Михаилу — проверенному, надежному человеку.
Иванов шел медленно, задумавшись. Дорога, петляющая среди деревьев, напомнила ему тот страшный путь, когда его вместе с другими военнопленными гнали в лагерь смерти Малый Тростенец. Перед его глазами, как кадры фильма, промелькнули бараки, огромные овчарки со злыми человеческими глазами и наглые морды охранников. Вспомнил он, как его, обессиленного и полуживого, под гогот и грубые шутки солдат несла на спине тоненькая, сгибающаяся под тяжестью его тела женщина, вырвавшая его из рук смерти. Вспомнил он, как, тяжело опираясь на плечо своей спутницы, делал он первые шаги заплетающимися от слабости ногами по упругой, покрытой листьями и сосновыми иголками земле. Правда, тогда пахло листвой, хвоей и тем неповторимым терпким запахом, который бывает только в осеннем лесу, а сейчас пахло морозом, скрипел снег под подошвами и густые ели сердито отряхивали белые лапы. Михаил помотал головой, чтобы отогнать непрошеные мысли, и вдруг остановился, как будто наткнулся на невидимое препятствие. Он был один!
Не маячил впереди белый с темной заплатой мешок на широкой спине Дяди Пети, не шли рядом товарищи.
«Где же все? — растерянно подумал он. — Куда же идти дальше? Наверное, я отстал, а остальные ушли вперед».
Михаил сделал несколько шагов по дороге. Пусто. Нет ни души. «Вернусь до развилки, наверное, они там», — решил Иванов и повернул назад. Из-за деревьев на него выскочил человек в немецкой форме и кинулся к нему. Михаил выхватил нож…
В колонне никто не заметил, что Иванов пошел другой дорогой. Все были слишком поглощены одним желанием: скорее добраться до своих. Через некоторое время Мария обратила внимание, что в колонне нет Михаила. Она замедлила шаги, отстала. Надо узнать, что с ним.
— Андрей, — приказала она конвоиру. — Иванов отстал. Проверь, не пошел ли он не в ту сторону.
Андрей бегом помчался выполнять приказ, он знал, что надо как можно скорее найти товарища. Если он пошел другой дорогой, то она приведет его в немецкий гарнизон. Чтобы выиграть время, Андрей побежал напрямик, сокращая расстояние, и вскоре увидел идущего по дороге человека с мешком на спине.
— Иванов! — позвал он громким шепотом. Кричать нельзя — рядом враги.
Михаил не услышал.
— Стой! — еще раз попытался остановить его Андрей и одним прыжком выскочил на дорогу. Он едва успел увернуться от ножа и отскочить в сторону.
— Меня Маруся послала, — с трудом переводя дыхание, сказал он.
Рука с ножом опустилась, недоверчивые глаза уставились на Андрея. Несколько мгновений Михаил раздумывал над услышанным. Потом взгляд его потеплел, он узнал в немце подпольщика.
— Еще немного, и ты притопал бы в гарнизон, — продолжал Андрей. — Там бы с тобой поговорили…
— Не пришлось бы разговаривать, — спокойно сказал Иванов, — убил бы первого, кто сунулся, а потом себя…
Коротким путем догнали остальных.
— Надо быть внимательнее, — с укоризной сказала Михаилу Осипова, — не время мечтать…
Иванов смущенно молчал, он не мог объяснить Марии, какие мысли заставили его утратить контроль над собой. Осипова больше не укоряла Михаила, видимо, поняла, что творится в его душе.
— Ну ладно, со всяким может случиться, — подбодрила она Михаила. — Только больше не теряйся.
К Осиповой подошел Алисионок посоветоваться, как идти дальше: впереди дорога, на которой большое движение, а ее надо обязательно пересечь. Решили опять идти колонной.
— Колонна, подтянись, конвойные и полицаи охранять пленных, — скомандовал Алисионок. — Сейчас будем переходить магистраль.
Едва колонна продвинулась на несколько метров, как появились три машины с немцами. Визг тормозов, передняя машина остановилась.
— Кто такие? Откуда? — спросил офицер.
Андрей отрапортовал по форме, предъявил документы.
Ничто не насторожило гитлеровцев, и они уехали. Колонна пересекла магистраль и скрылась в лесу. Уже начало смеркаться, когда решили остановиться и передохнуть. Мария смотрела на своих спутников. Бледные, даже несмотря на мороз, лица; люди замерзли, но держатся хорошо — никто не показывает виду, как дорого ему дается эта бодрость.
— Недалеко деревня Малиновка, а в ней много полицаев, — предупредил Алисионок. — Что будем делать, Мария?
Осипова еще раз оглядела товарищей: конечно, им надо отдохнуть, погреться, поесть. Хорошо было бы переночевать в теплой избе, но нельзя — провалится вся операция.
— Ты, Петр, Андрей и Ваня Толстиков, идите в деревню к старосте, — решила она. — Предупредите, что идет колонна с пленными и что для сопровождающих офицеров нужны лошади и подводы. Шесть штук. Договоритесь и придете за нами.
Так и сделали. Ждать пришлось довольно долго, тем более что каждая минута ожидания тянулась как час.
Никто не разговаривал, тишину нарушал лишь скрип снега под ногами переминающихся от холода замерзших людей да приглушенный кашель. Послышались приближающиеся быстрые шаги.
— Кто идет? — спросила Мария.
— Свой, — коротко ответил Андрей.
Он доложил, что в деревне срочно готовят шесть подвод для «господ офицеров» и ждут дальнейших распоряжений.
— Ваня был у меня за переводчика, — сообщил Андрей, — так здорово он переводил, что староста как ошпаренный бегал.
Мария не могла удержаться от улыбки — Иван Толстиков в роли переводчика! Это надо было придумать: из трех отправленных в деревню товарищей он был единственным, кто не знал по-немецки ни одного слова.
Колонна пришла в деревню, когда было совсем темно. Быстро все погрузились на подводы (староста постарался, дал лучших лошадей) и тронулись в путь. Женщины совали пленным хлеб, сало, все съестное, что было под руками, с ненавистью глядели на полицаев и конвойных; видно было — дай им волю, не уехали бы живыми фашистские помощнички. Мария ждала подводы за околицей, села на последнюю, низко опустила платок до бровей, подняла воротник полушубка — незачем, чтобы чужие глаза видели ее лицо.
Лошади резво бежали по дороге, только скрипели полозья, попадая на голую смерзшуюся землю. Скоро будет и Острошицкий городок. Если его минуют незамеченными, то дальше добираться будет легче. Уже недалеко свои.
— Луна-то какая! — нагнувшись к Марии, прошептал сидевший с ней рядом партизан.
Действительно, десять часов вечера, а светло как днем: яркая луна старательно освещает белую землю, заглядывает во все уголки. Не вовремя она вышла, может сорваться операция! Резкий трубный сигнал тревоги со стороны городка вдруг разорвал морозный воздух. Потом еще раз! Еще!
— Тревога!
У Марии сжалось сердце.
«Неужели что-то заподозрил староста в Малиновке и предупредил полицаев в Острошицком городке? Неужели где-то совершили промах? — Она мысленно перебрала все с самого начала. — Нет, действовали правильно. Здесь что-то другое; может, кто-нибудь увидел быстро несущиеся подводы с людьми и сообщил гитлеровцам? Ясно, что пока ехать дальше нельзя».
Передняя подвода остановилась. Алисионок соскочил с нее и торопливо подошел к Осиповой.
— Ехать дальше нельзя. Надо проверить, почему тревога, я пойду в разведку.
— В разведку пойдем вдвоем, — сказала Мария.
Она была права: немолодой мужчина в крестьянской одежде и женщина с узелком, идущие по дороге в город, вызовут меньше подозрений, чем одинокий путник. Петр не возражал: Осиповой виднее, она знает, что говорит и делает.
Быстро раздали винтовки Ивану Толстикову, Иванову, Андрею и еще нескольким надежным людям: они проследят, чтобы никто из деревенских возчиков не тронулся с места, а в случае необходимости примут нужные меры Все ждут возвращения разведчиков или специального распоряжения и только потом действуют.
Мария и Петр пошли по направлению к городку, как вдруг Алисионок остановился.
— Пошли обратно, Мария, — спокойно сказал он.
Осипова вопросительно взглянула на него.
— Я вспомнил, в городке детский дом, и это сигнал отбоя, а не тревога.
Разведчики все-таки подождали еще немного, но кругом все было тихо: Петр оказался прав.
Как можно быстрее старались промчаться через городок, а то собаки начали так лаять, что гитлеровцы могли поднять настоящую тревогу. Но вот городок остался позади, дорога снова повела в лес. Проехали лес — вдали показалась деревушка, притаившаяся в низине. Дальше возчиков нельзя было брать: отсюда начинается путь к партизанам, который им знать не положено. Мужиков всех собрали вместе, и Алисионок с Толстиковым объявили им такое решение.
— Скажите, что лошадей и подводы у вас забрали партизаны. Если кто-нибудь из вас донесет немцам, куда мы поехали, то пеняйте на себя. Возвращайтесь домой пешком, но уходить можете только через час после нашего отъезда. Всё.
Возчики не возражали: лошади и подводы принадлежали старосте и полицаям, так что жалеть о них не приходилось… Вряд ли староста Малиновки расскажет своим хозяевам, как он помог партизанам. С гитлеровцами такие шутки плохи…
Группа добралась до отряда, где ее давно уже ждали. Усталых и замерзших людей гостеприимно встретили партизаны и разобрали по своим землянкам.
В партизанском дневнике было отмечено, что 20 марта 1943 года отряд пополнился на тридцать два человека. А «транспортный парк» увеличился на шесть лошадей.
Мария отдохнула в отряде только один день, а потом, получив очередное задание, взяла узелок с вещами и, поплотнее запахнувшись в старенький тулупчик, одна отправилась в Минск.
* * *
Весна 1943 года принесла с собой перемены. На фронтах Великой Отечественной войны наступило затишье. Линия фронта далеко переместилась на запад, и обстановка для гитлеровских войск и их союзников значительно осложнилась. После разгрома фашистов под Сталинградом перспектива войны для них становилась все мрачнее. Для того чтобы восполнить людские ресурсы, Гитлер объявил тотальную мобилизацию: все мужчины в возрасте от 17 до 60 лет, способные носить оружие, подлежали мобилизации. Гитлер и его приспешники все еще надеялись выиграть войну. Намеченный удар по советским войскам в районе Курска должен был стать своего рода реваншем за Сталинград и поднять авторитет гитлеровской Германии в глазах ее союзников. В то же время фашистское руководство делало все, чтобы улучшить и увеличить выпуск военной продукции: создавались танки, артиллерийские орудия нового типа, новые, более совершенные самолеты. К лету 1943 года гитлеровское командование на советско-германском фронте сосредоточило около пяти миллионов человек. Кроме того, пятьсот двадцать пять тысяч человек насчитывалось в войсках сателлитов.
Но война шла не только на линии фронта. За линией фронта, в тылу врага, огромную помощь Советской Армии продолжали оказывать партизаны, нанося по врагу неожиданные сильные удары и отвлекая тем самым с фронта значительные силы и средства.
Особенно активны были белорусские партизаны, их действия приняли такой размах, что гитлеровцам пришлось для проведения карательных экспедиций против партизан снять часть дивизий, направлявшихся в район Курской дуги.
По указанию ЦК партии Белоруссии и приказу Центрального штаба партизанского движения партизаны приступили к операции «рельсовая война». Надо сказать, что к этой операции привлекли ленинградских, смоленских, орловских, калининских и частично украинских партизан. Немцы лютовали. Например, по специальному приказу против партизанских отрядов и бригад северо-западной части Минской области была направлена карательная экспедиция в составе более пятидесяти тысяч солдат. Привлекались танковые батальоны, артиллерия, авиация. План этой карательной экспедиции был заранее разработан в Главной ставке гитлеровцев еще в феврале 1943 года. Но все попытки оккупантов задавить народных мстителей не увенчались успехом — борьба продолжалась.
Кубе и его помощники свирепствовали, но изменить положение дел не могли. Как осенние мухи, чувствующие, что приближается их конец, они злобно жалили всех, кто попадался на их пути. Атмосфера подозрительности и жестокости еще больше усилилась. Это почувствовали на себе и члены группы Осиповой. Одним из первых попал под подозрение Николай Николаевич Кречетович. Он стал замечать на себе слишком пристальные взгляды некоторых сослуживцев. Правда, никто ему ничего не говорил, но он чувствовал, что привлек к себе ненужное внимание. Несколько раз к нему в самое неподходящее время являлись на квартиру немцы с просьбой-приказом исправить забарахливший радиоприемник. Кречетович спокойно находил дефект и старательно устранял его. Гость с неохотой уходил, задавая множество вопросов. Сначала Николай принимал эти визиты как должное, потом насторожился. Но вот однажды, когда он починил приемник одному из пришедших к нему домой немцев и тот ушел, оставив на стуле свой портфель, за которым так и не вернулся, Кречетович окончательно убедился, что им интересуются неспроста. Он, не раскрывая портфеля, отнес его в управу и отдал своему начальству, объяснив происшедшее. Потом он встретился с Марией и рассказал о случившемся.
— Будь осторожен, Николай, тебя взяли на заметку, — сразу сказала Осипова. — Подержись еще немного, а потом ищи другую работу. Скоро тебе придется уходить в другой город.
Кречетович согласился. К тому же по решению начальства Николая Николаевича выселили из квартиры в полуподвал, где было холодно и неудобно. Он и не пытался возражать, а даже обрадовался — тем правдоподобнее будет его уход с работы и отъезд из города — нельзя жить в таких условиях. Однажды, когда Кречетович шел по улице, к нему подошел молодой человек.
— Здравствуйте, Николай Николаевич, — любезно приветствовал он Кречетовича, — вы меня помните?
Кречетович с трудом узнал в этом одетом более чем в скромную одежду человека своего бывшего студента. Перекинулись ничего не значащими фразами, кто где живет, где работает.
— Я живу в Слуцке, — сообщил Николаю Николаевичу студент, — работаю на электростанции.
— На электростанции? — удивился Кречетович. — А разве она работает?
— Недавно пустили, — охотно объяснил приезжий.
— А работы там не найдется? — поинтересовался Николай Николаевич.
— Для вас, конечно, — заверил его собеседник, — поможем устроиться.
Они договорились, что Кречетович приедет в Слуцк, познакомится там с обстановкой и примет решение. Не откладывая надолго, Кречетович отпросился с работы и отправился в Слуцк. С помощью своего знакомого он был представлен местному начальству и произвел на него хорошее впечатление. Сыграло роль и то, что он, Кречетович, преподаватель института и теперь работает в управе. Ему предложили заведовать электростанцией, и Кречетович немедленно согласился.
Он взял расчет, сообщив, что перебирается в другой город, так как в Минске очень голодно и нет подходящих условий для жилья.
Кречетович уехал из города исключительно своевременно, так как за несколько дней до его отъезда с ним произошел инцидент, который мог его окончательно погубить.
Кречетович уже под вечер возвращался к себе домой и на одной из небольших улиц встретился с полицаем, конвоирующим двух людей, одетых в штатское.
По их внешнему виду было ясно, что это или партизаны, или подпольщики, которых ведут на допрос. Николай оглянулся: улица была пустынной, изредка появлялись одинокие прохожие.
— Господин полицай, — окликнул Кречетович конвоира, — разрешите обратиться!
Полицай остановился и с удивлением смотрел на Кречетовича. Тот подошел к нему совсем близко и неожиданным сильным ударом сбил его с ног. Задержанные не стали дожидаться развязки и бросились бежать со всех ног. В другую сторону кинулся бежать Кречетович и спрятался в ближайших руинах. Он выждал немного — полицай не попытался его догнать, а потом другим путем вернулся к себе домой.
На другой день Николай Николаевич нашел Марию и рассказал ей о происшедшем.
— Немедленно уезжай, — приказала она, — теперь тебе оставаться в городе рискованно.
Кречетович почти не выходил из дому, чтобы случайно не встретиться с пострадавшим, и ходил в управу совсем не теми улицами, по которым он ходил раньше. Правда, при виде человека в полицейской форме, идущего к нему навстречу, у Николая замирало сердце, но все обошлось благополучно — тот полицейский так ему больше и не встретился.
В Слуцке он поселился в маленьком домике недалеко от электростанции и вскоре привез к себе дочку, а в няньки к ней нанял… свою собственную жену. Елена Кречетович перекрасила волосы в соломенный цвет и изображала неграмотную белорусскую девку из глухой деревни. Так и жила она, маскируясь так умело, что ни у кого не закралось ни малейшего подозрения, что она совсем не та, за кого себя выдает.
По договоренности с Осиповой Николай Николаевич два раза в месяц по определенным дням приезжал в Минск и встречался с ней в условленном месте.
После того как гестаповцы пытались арестовать Осипову, она фактически больше не жила дома, но изредка появлялась на Кузнечном, чтобы встретиться с кем-либо из товарищей или передать что-нибудь соседке Лиде. Заходили к Лиде и те, кому нужно было срочно найти Марию, и таким способом по цепочке поддерживалась связь. Бывала на Кузнечном и Франтишка Злоткина. Правда, редко — она появлялась лишь в крайнем случае.
Обычно Мария присылала к Франтишке Реню Дрозд, и через нее Злоткина передавала различные сведения, похищенные ею бланки с круглой печатью и медикаменты. Теперь Франтишка стала уже опытной подпольщицей. Правда, всякий раз, когда она вынимала бланки из стола своего шефа или выносила из железнодорожной больницы медикаменты, у нее замирало сердце и дрожали руки (трудно привыкнуть играть со смертью), но она уже не менялась в лице, спокойно разговаривала и даже улыбалась.
Однажды Реня пришла и сказала, что Мария ждет Франтишку у Бетонного моста. Злоткина еще издали заметила женщину, спокойно идущую ей навстречу. По статной фигуре и уверенной походке она сразу узнала Марию и заторопилась к ней. Женщины обнялись, как будто давно не виделись. Разговор был недолгим: Осипова поручила Фране связаться с группой пленных поляков, работающих в ремонтной железнодорожной бригаде.
Превосходное знание польского языка, располагающая внешность сыграли свою роль, и Франя познакомилась с руководителем подпольной группы Яном Кежковским, и в дальнейшем между ними был налажен контакт. Встречалась с руководителем польской подпольной группы и Мария. Много ценных сведений о передвижении поездов с боеприпасами, техникой и живой силой передали Осиповой польские товарищи. По ее заданию Ян и другие члены группы ездили на аэродром, где собирали сведения о расположении огневых точек, о количестве самолетов. И, наконец, они подавали сигналы нашим самолетам, где стоят составы с военным грузом, куда надо сбрасывать бомбы. Связь с польской группой прервалась, когда поляков перевели из Минска в другое место.
А Злоткина продолжала быть на хорошем счету у господина шефа, ему и в голову не могло прийти, что робкая, услужливая переводчица может иметь хоть какое-нибудь отношение к пущенным под откос составам. Поэтому, когда к нему однажды пришли двое одетых в штатское представителей СД и стали жаловаться на переводчицу, якобы отказавшуюся от работы, он был крайне удивлен.
— Объясните, в чем дело, — потребовал он у Злоткиной, — какое распоряжение вы отказались выполнить?
Франтишка объяснила, что эти люди пришли к ней и стали расспрашивать о каком-то человеке, якобы работающем в больнице. Она ответила, что не знает такого. Тогда ей было предложено написать официальную справку, что такого человека нет на территории больницы. Сделать это Франя отказалась.
— Я сказала им, господин шеф, что давать какие-либо справки я не имею права, я только переводчица, а по всем вопросам надо обращаться к вам, — оправдывалась Франтишка со слезами в голосе. — Разве я могу брать на себя такую ответственность?
Возразить ей было трудно, и господин шеф отправил посетителей ни с чем. Когда же Злоткина рассказала об этом факте Кречетовичу, который зашел к ней сообщить о своем отъезде в Слуцк и условиться о дальнейшей связи, то тот даже не дал ей договорить до конца.
— За вами, Франя, начинается слежка. Что-то вызвало подозрение. Будьте очень осторожны и внимательны, посоветуйтесь с Марией, как действовать дальше.
Франтишка обещала так и сделать.
«Что же все-таки их насторожило? — размышляла она и в который раз перебирала в памяти все детали своей подпольной работы. — Нет, прямых обвинений против меня никто не мог предъявить, в этом я уверена. Значит, тут что-то еще».
Прошло несколько ничем не примечательных дней. В больнице все было по-прежнему. Никто не приходил из СД, хотя теперь в каждом незнакомом посетителе Франя видела переодетого полицая или гестаповца. По-прежнему вежлив и требователен был с ней шеф. Одно только удивляло и настораживало Франтишку — это поведение ее квартирной хозяйки. С самого начала хозяйка относилась к ней неприязненно, и Франя не раз ловила на себе ее косые взгляды, а в последнее время, особенно после того, как хозяйке пришлось отказать в квартире приглянувшейся ей переводчице из СД (Злоткина занимала единственную пригодную для жилья комнату), та едва здоровалась с ней. Но вдруг что-то с ней произошло: женщина сделалась ласковой и внимательной. Она стала приходить к Фране, чтобы спросить, не надо ли ей что-нибудь, несколько раз угощала ее своей стряпней и всегда подолгу жаловалась на жизнь и на новую власть. В общем, человек совершенно переменился, стал неузнаваем.
Однажды хозяйка пришла к Франтишке и предложила ей поехать вместе в Вильнюс за покупками.
— Меня с работы не отпустят, — отказывалась Франя, — а просить я не буду, господин шеф строгий.
Отказ был вполне обоснован, и хозяйка прекратила свои уговоры. Через три дня шеф вызвал к себе Франтишку.
— Надо сделать следующее… — как обычно, начал он разговор и вдруг перебил сам себя: — Уж не больны ли вы? У вас скверный вид. — Не дожидаясь ответа Франтишки, удивленно смотревшей на него, неожиданно закончил: — Идите домой и отдохните денька два, вы это заслужили…
Потрясенная таким необычайным вниманием, Злоткина растерянно поблагодарила шефа и ушла. Хозяйка встретила ее приветливо.
— Что так рано домой? Не заболела ли?
— Меня шеф отпустил на два дня, — машинально ответила Франтишка.
— Вот и замечательно, — обрадовалась та. — Теперь поедем в Вильнюс на денечек.
Злоткина пыталась отказаться, но хозяйка была настойчива. Она быстро организовала все, что было необходимо для поездки, и они уехали.
Франя так и не могла понять, для чего все это было нужно: целый день они ходили по городу, зашли в костел, а потом вернулись обратно в Минск. Хозяйка была явно довольна поездкой и так трещала всю дорогу о всяких пустяках, что у Франтишки разболелась голова.
На следующий день, едва Франтишка возвратилась с работы, ее арестовали и увезли в гестапо. Злоткина не сопротивлялась: она совершенно спокойно села в машину и за всю дорогу не проронила ни слова.
— Вылезай, чертова жидовка, — приказал один из ее спутников, толкая в спину.
От этих грубых слов у Франи сразу стало легче на душе: так вот почему ее забрали — значит, кто-то донес, что она еврейка!
Ее привели в большую комнату, где несколько следователей допрашивали арестованных. Злоткину подвели к следователю, приказали сесть на стул, стоящий вблизи. Она послушно повиновалась.
Началась обычная для фашистов процедура допроса, сопровождаемая оскорблениями, а потом и побоями. Следователь сразу начал с того, что Злоткина скрыла свою национальность и за это понесет суровое наказание.
— Это неправда, — уверенно возражала Франя, — я полька, и это подтверждено документами.
Следователь быстро пробежал глазами по какой-то бумаге.
— Врешь, ты еврейка! Если бы ты была полька, то молилась бы в костеле, а не глазела бы по сторонам!
«Вот, значит, зачем надо было везти меня в Вильнюс… — как молния сверкнула мысль. — Теперь все ясно. Хозяйка донесла».
— Я не молилась?! Это ложь! Хотите, сейчас прочту молитву? — И Франтишка, не дожидаясь разрешения, зачастила священный текст.
Не зря ее предупреждала Мария, что надо быть готовой к такой проверке, — вот сейчас и пригодились выученные молитвы.
Следователь, видимо, не ожидал такого поворота дела.
— Замолчи! — крикнул он. — Все равно ты еврейка, посмотри на себя!
— Ну и у вас, господин следователь, черные волосы и нос с горбинкой! — нашлась Злоткина. — А ведь вы-то не еврей!
От такой наглости следователь даже растерялся, но быстро нашел убедительный довод — с силой ударил женщину по лицу. Кровь хлынула из ее разбитых губ и носа, Франтишка упала на пол.
— Убрать ее, — приказал следователь, и Злоткину вытащили из комнаты.
Франтишку бросили в камеру, битком набитую взятыми по подозрению людьми. Обвинения у всех были разными: за кражу, по подозрению, что они скрыли свою национальность, за связь с партизанами. Некоторых вызывали на допрос, и они возвращались избитыми и истерзанными.
Франтишку не вызывали два дня. Многое передумала и пережила она за это страшное время, проведенное в сыром и темном подвале, и твердо решила для себя, что она будет отрицать все. А если придется умереть, то она найдет силы это сделать достойно.
Наконец настала ее очередь. На сей раз она попала к другому следователю. Он как-то неуверенно обвинил ее в сокрытии национальности, а когда Злоткина начала горячо возражать, то перебил ее и вернул документы, сказав, что она свободна. Франтишка не верила в свое освобождение, уж больно хорошо все обошлось. Когда она пришла домой, то хозяйка даже не могла скрыть своего удивления, настолько она была уверена, что Злоткина не вернется.
— А я уж договорилась с другой жиличкой, — наконец нашлась она, — так что ты уж, пожалуйста, освободи комнату.
Франя попросила отсрочки до конца недели: она не могла сменить адрес так, чтобы об этом не знал никто из товарищей, но стала немедленно подыскивать себе квартиру.
В намеченный день приехал из Слуцка Кречетович и, как договаривались, зашел к Злоткиной. Она сообщила ему о происшедшем, дала свой новый адрес.
— Трудно сразу разобраться, в чем тут дело, — размышлял Николай Николаевич. — Возможно, что донос хозяйки оказался несостоятельным, и вас отпустили. Но может быть и так, что отпустили, чтобы ослабить вашу бдительность и поймать на чем-либо серьезном. Одно могу сказать — без приказа Марии ничего не делайте, а ей обо всем немедленно расскажите.
Осипова внимательно выслушала Франтишку и посоветовала ей пока поработать в больнице, а потом она скажет ей, что делать. Так и порешили.
Злоткина продолжала добросовестно выполнять свои обязанности, готовить переводы для шефа, запоминать все ценное и передавать через связных Марии. Пока ее не трогали, но теперь Франтишка еще больше ощущала, что она ходит над пропастью. Она уже один раз побывала в гестапо и знала, что дважды оттуда живыми не выходят. Но Франя знала еще и другое, что теперь для нее возможна только такая жизнь, она просто не сможет стоять в стороне от борьбы, ничем не помогать подпольщикам.
Однажды днем к ней домой прибежала взволнованная Лида Дементьева, соседка Марии, с тревожной вестью: гестаповцы опять ищут Осипову, уже приходили несколько раз, а сейчас у нее дома оставили засаду, а Мария должна обязательно прийти. Сама Лида вряд ли сможет предупредить Марию о грозящей ей опасности: она и сейчас-то едва выбралась из дому. Ускользнула от надзора. Сообщив все это, Лида ушла.
«Что делать?» — лихорадочно думала Франя. Пойти искать Марию, а вдруг за ней, Злоткиной, следят? Нет, идти ни в коем случае нельзя, она не имеет права подвергать хоть малейшей опасности Осипову. Вот кто поможет: Кречетович! Он сегодня приезжает из Слуцка, и это на встречу с ним придет Мария домой. Франтишка не могла усидеть на месте, металась по комнате. Единственно, что ее удерживало от того, чтобы выбежать на улицу встречать Николая, — это уверенность в его точности Если он сказал, что придет в назначенный час, то в этом можно быть уверенным. Николай Николаевич пришел вовремя. Едва он переступил порог, как Франтишка сообщила ему страшную новость.
Кречетович никак не показал своего волнения. Как всегда, медлительно и спокойно он поинтересовался, давно ли приходила Лида, что-то прикинул в уме и сказал:
— Время еще есть, правда, не очень много. Пойду к Марусе навстречу. Она может идти домой только через Бетонный мост. Значит, ждать ее надо там.
— Но ведь у моста нельзя долго находиться… А спрятаться там негде? — беспокойно спросила Франя.
— У меня есть пропуск на въезд и выезд из города. Буду объяснять, что жду свою машину, — нашел выход Кречетович.
Несколько часов он провел около моста, не уходя от него ни на шаг. На него несколько раз обращали внимание проходившие мимо немцы и полицаи, но он уверенно предъявлял документы, где говорилось, что он заведующий электростанцией в Слуцке, и объяснял, что ждет свою неизвестно почему запаздывающую машину. Уже начало смеркаться, когда появилась Осипова. Кречетович быстрыми шагами направился к ней и лаконично сообщил:
— У вас дома засада. Гестаповцы. Немедленно уходите и больше домой не возвращайтесь.
Николай Николаевич не сказал ей, что от усталости и волнения он едва держится на ногах, не сказал, сколько раз пришлось ему повторить гитлеровцам маловразумительную историю о задержавшейся машине и сколько раз он переживал мучительные минуты, когда решалась его судьба в зависимости от того, поверят ему или нет. Все это было второстепенным в этот момент, а главным было то, что он нашел и предупредил Марию.
Осиповой ничего не надо было объяснять, она все поняла и, крепко пожав товарищу руку, повернула обратно.
— Связь с вами я сама налажу, — только и сказала она.
Николай Николаевич зашел к Фране, успокоил ее, что все в порядке, — Осипова предупреждена и на первой же подвернувшейся машине уехал к себе в Слуцк.
После этих тревожных дней Осипова больше не появлялась в Кузнечном переулке, а на связь по-прежнему приходила Реня Дрозд. Через некоторое время Злоткиной передали приказ, что ей надо уйти с работы и покинуть город. Она его выполнила. Ей предстояли другие задания.
* * *
План «рельсовая война», разработанный Центральным штабом партизанского движения, проводился в жизнь. Первыми «рельсовую войну» начали партизаны Орловщины, за ними партизаны Белоруссии, Калининской, Смоленской, Ленинградской и других областей. Особенно отличались белорусские партизаны, наносившие врагам непоправимый ущерб.
Оккупанты, чувствуя, что им недолго осталось бесчинствовать на чужой земле, старались сделать все, чтобы создать атмосферу страха и недоверия. Сотни невинных людей были схвачены и брошены в застенки, где их ожидала мучительная смерть. Но все попытки фашистов укрепить таким путем свою власть были напрасны — с каждым днем почва уходила из-под их ног. Об этом же рассказывали многочисленные письма гитлеровцев, написанные ими для отправки родным в Германию.
В свою очередь, отовсюду в Белоруссию шли письма советских людей со словами поддержки и участия. Получило широкое распространение письмо-обращение комсомольцев и молодежи Московского автозавода, адресованное комсомольцам, и комсомолкам, и всем партизанам Белоруссии.
Автозаводцы писали: «С любовью и гордостью следим мы, москвичи, за вашей героической борьбой. Мы горды, товарищи, что вы беспощадно уничтожаете фашистских извергов, разрушителей нашей молодости и счастья, убийц наших отцов и матерей. Лютая ненависть к гитлеровским захватчикам зовет нас на героический труд. Свою ненависть мы воплощаем в тысячи тонн боевой продукции, выработанной сверх плана.
Родные и любимые друзья! Будьте смелы и отважны! Не давайте проклятым поработителям ни минуты покоя. Беспощадно уничтожайте немцев! Не давайте фашистам угонять на немецкую каторгу наших людей… Молодежь Белоруссии! Ваше место в рядах народных мстителей. Всюду и везде уничтожайте гитлеровцев, боритесь с оружием в руках за свое освобождение, свою жизнь, молодость и счастье! Смерть немецким оккупантам!»
Об этом письме знали не только партизаны и подпольщики, но и гитлеровцы, лишний раз убедившиеся в сплоченности советских людей.
Наступила пора возмездия…
Даже высшие чины гитлеровской армии и оккупационных властей не могли чувствовать себя в безопасности. Усилил охрану и принял чрезвычайные меры палач белорусского народа рейхскомиссар Белоруссии Вильгельм фон Кубе, стараясь обезопасить себя от справедливой кары патриотов.
Подготовка к акции против Кубе началась еще в 1942 году. Рейхскомиссар Белоруссии был очень видной фигурой, и уничтожению его придавалось огромное значение. Наиболее опытные разведчики и диверсанты были направлены на это задание. Разрабатывались всевозможные планы, но осуществить их пока не удавалось. Фон Кубе знал о том, что ему вынесен приговор, и старался принять все меры предосторожности. Например, с лета 1943 года Минск был объявлен на осадном положении и была установлена очень сложная и запутанная система контроля. В город можно было въезжать, а также выезжать только по некоторым улицам, причем в определенное время, предъявляя специальные пропуска. И пропуска, и время, и улицы систематически менялись.
Один из планов приведения приговора в исполнение разработали в спецотряде Градова (С. Ваупшасова) — убрать Кубе во время банкета, который фашисты наметили на 6 сентября. Лучшие разведчики принимали участие в этой операции, в их числе комсомольцы, братья Владимир и Константин Сенько, начинавшие свою подпольную работу в группе Осиповой. Перед тем как отправиться с заданием в партизанский отряд, Рафа Бромберг оставил в Минске себе «заместителя» — Володю Сенько. Владимир поддерживал связь с молодежью, работающей в группе Рафы, и, кроме того, сам был руководителем пятерки.
Братья Сенько всегда отличались отчаянной смелостью и большой ловкостью. Они не боялись даже среди бела дня нападать на гитлеровцев и уничтожать их. Все документы убитых они собирали и потом передавали по назначению. Это они помогли Бромбергу сделать подробную карту Минска, нанести на нее важнейшие военные объекты. На счету братьев Сенько числилось много ценнейших донесений, собранных документов, убитых фашистов. Сестра Володи и Кости Мария Сенько была в партизанском отряде Градова, работала там поваром.
В отряде вскоре убедились, что комсомольцы Сенько опытные и смелые люди. И вот при каких обстоятельствах. Однажды днем в отряде услышали сигналы автомобильного гудка, а потом из-за деревьев появился большой немецкий грузовик, за рулем которого сидел человек в черной эсэсовской форме, а рядом с ним расположился второй. Партизаны окружили машину, и тут выяснилось, что это не гитлеровские молодчики, а комсомольцы Сенько. Они, переодетые в эсэсовскую форму, угнали от немецкого склада машину с бесценным для партизан грузом — солью, табаком, сахаром и мукой. За удачно проведенную операцию командир отряда объявил им благодарность, но в то же время предупредил, чтобы не было никакого необдуманного лихачества.
Но Сенько не могли удержаться, когда обстоятельства складывались так, что можно было нанести врагу хоть какой-нибудь ущерб. И вскоре они опять угнали у гитлеровцев машину. На сей раз в операции принял участие и Михаил Иванов (однофамилец подпольщика из группы Осиповой). Володя Сенько устроился шофером в гараж, где работал Михаил Иванов. Однажды Сенько по официальному наряду получили продукты, и Владимир повез их только не по назначению, а в отряд. Конечно, ему помогал брат, выступавший в роли подсобного рабочего. Машина как трофей осталась в отряде, а братьям командир строго-настрого запретил возвращаться в город (вдруг их кто-нибудь узнает из гаража) и зачислил в подрывную группу, которая занималась диверсиями на железной дороге. Командование отряда понимало, что Володю и Костю с их великолепным знанием Минска, связями и наконец смелостью и умением выбрать верное решение в критической обстановке следует использовать на разведывательной работе в городе. И поэтому, когда на 6 сентября была намечена ликвидация Кубе, Сенько предложили принять в ней участие. Братья с готовностью согласились.
План был таков.
Через подпольщика Кузьму Лаврентьевича Матузова удалось узнать, что банкет, на котором должен был присутствовать сам фон Кубе, состоится в помещении столовой службы безопасности СД в университетском городке, в том здании, где раньше находился историко-филологический факультет. В этой столовой официантками работали две молодые девушки-подпольщицы из группы Матузова — Капитолина Гурьева и Ульяна Козлова. Им поручили спрятать в столовой взрывчатку, в которой будет маломагнитная мина с часовым механизмом. Обсудили, где лучше всего разместить пятнадцать килограммов взрывчатки. Подходящее место было найдено под перевернутой бочкой, на которой стоит кадка с пальмой. Тол к столовой привез Михаил Иванов. Он вызвал гудками девушек и передал им опасный груз. Капа и Ульяна положили тол в ведра, набросали наверх тряпок, так и пронесли взрывчатку в зал. Потом, погасив свет, чтобы никто не видел, они с трудом подняли тяжелую кадку (ее обычно поднимали три человека) и поставили ее на пол. Если бы до этого у девушек спросили, могут ли они поднять такой груз, то они, наверное, долго колебались, прежде чем ответить положительно. Но в минуты высокого нервного напряжения силы удесятеряются. Теперь надо было действовать быстро и умело. Дрожащими от волнения руками Капа вынула спрятанный под тряпками тол и мину с взрывателем и по всем правилам уложила заряд под бочкой, на которой стояла пальма. Через двадцать часов взрыватель должен сработать. Молча девушки взялись за кадку и водрузили ее на место.
Ульяна зажгла свет и посмотрела на подругу, на ее бледное, без кровинки лицо, на трясущиеся губы. Хотела ее подбодрить, но язык не слушался.
— Какая ты бледная, Уля, — вдруг тихо сказала Капитолина, — просто как мел…
— А ты тоже! — только и могла ответить Ульяна.
Забрав ведра и тряпки, девушки вышли из столовой и пошли домой. Подругам предстояла бессонная ночь, особенно Капе, которая должна была обслуживать банкет (Ульяна была выходная).
— Ты когда завтра уйдешь с банкета? — спросила Ульяна.
— За пятнадцать минут до взрыва.
— А если взорвется раньше? Что тогда?
— Ничего. Раньше уходить мне ни в коем случае нельзя — могут обратить внимание, заподозрить… А ты, когда придешь на другой день на работу, постарайся побольше разузнать, а потом сообщишь руководителю группы.
Девушки обнялись, поцеловались. Кто знает, может быть, они видятся в последний раз…
На другой день шли тщательные приготовления к предстоящему банкету. Сотрудники СД проверили все помещение, заглянули и в кадку с пальмой. Капа едва сдержалась, чтобы не выдать своего волнения, когда охранник обследовал кадку. Но все прошло благополучно, никто не обратил внимания на побледневшую официантку. Наступил вечер… Банкет должен был начаться, но никто не садился за роскошный стол, уставленный всевозможными изысканными яствами и винами — ждали фон Кубе. В последний момент выяснилось, что Кубе, возможно, не приедет, и была дана команда начинать ужин. Капа старательно обслуживала гостей, машинально улыбалась, а в уме все время вертелась одна настойчивая мысль: до взрыва осталось полтора часа, час, сорок минут… Девушка даже перестала бояться, все ее чувства сосредоточились на стрелке часов, быстро бежавшей по циферблату.
Наконец раздался условный сигнал — гудок автомобиля: Миша Иванов прибыл со своей машиной. Капа спокойно вышла из столовой и, как была в одном платье с белым передничком и кружевной наколке, села в машину. По улицам они ехали с предельной скоростью, надо было еще заехать домой к Капитолине, захватить ее семью — мать и двух сестер, чтобы увезти их в лес к партизанам, и успеть до взрыва проскочить мимо контрольных пунктов.
Машина уже была вне пределов досягаемости, когда до беглецов донесся звук сильного взрыва. Над зданием, где была столовая, взметнулся столб пламени и черного дыма.
— Полный порядок, — подвел итоги Иванов. — Жаль, что Кубе не приехал…
Капитолина и ее семья благополучно добрались до опушки леса и отправились в партизанский отряд, а Иванову надо было ехать обратно. Вместе с ним, одетые в мундиры эсэсовцев, пошли на операцию братья Сенько. Им поручалось напасть на машину Кубе и попытаться убить гаулейтера.
Никто не знал точно, по какой дороге на сей раз поедет осторожный гаулейтер, и поэтому при виде каждого «опеля» (в такой машине обычно ездил Кубе) подпольщики настораживались. Однажды братья Сенько ехали с Ивановым на его машине на очередную ловлю фон Кубе. Вдруг на шоссе появился «опель».
— Это он, — прошептал Иванову Владимир Сенько.
Михаилу ничего не надо было объяснять — в его руках машина послушно изменила направление и встала поперек проезжей части, преградив путь «опелю». На мостовую из «опеля» выскочило двое гитлеровцев, одновременно с ними из своей машины вышли братья Сенько. Меткими выстрелами они уложили фашистов на месте, Иванов застрелил третьего, который сидел за рулем. Больше в «опеле» никого не было, и на сей раз Кубе ушел от расправы. Иванов отправился в город в гараж, где он работал, а Сенько на «опеле» вернулись в лес в отряд.
Михаил Иванов и братья Сенько еще раз пытались напасть на машину Кубе среди дня и убить его на глазах у всех. Осипова сообщила им номер машины, на которой ездил гаулейтер, и они притаились в засаде на шоссе Минск — Лощица. По этой дороге Кубе обычно ездил в свою загородную резиденцию. Партизаны просидели в засаде несколько дней, но совершить нападение так и не представилось возможности…
Опыт показал, что надо действовать иначе, а именно — через человека, имеющего доступ в дом Кубе. Выбор пал на Елену Мазаник, работающую горничной у гаулейтера, и бывшего военнопленного подпольщика Николая Похлебаева (подпольная кличка «Чиль»).
Похлебаев предложил свой план — заминировать кинотеатр (он был его директором) и взорвать, когда туда приедет Кубе. Но после взрыва в столовой гитлеровцы удесятерили бдительность и так проверяли все помещения, где бывал гаулейтер, что мина почти наверняка должна была быть обнаружена.
— Познакомьте меня с Еленой, — попросила Похлебаева Мария. — Это можете сделать только вы. За ней так следят, что она в любом человеке видит подосланного агента. Уговорите ее на встречу со мной, а ответ сообщите через связную Реню Дрозд, что работает в часовой мастерской.
Прошло несколько дней, и на явочную квартиру, где находилась Мария, прибежала Реня Дрозд.
— Завтра в десять утра на Потемкинской лестнице внизу вас будет ожидать Чиль с теми, кто вам нужен.
Потемкинской лестницей назывался участок улицы Карла Маркса между Центральным сквером и парком имени Горького. Множество ступенек вело вниз, к берегам реки Свислочи и городскому парку.
Осипова и Похлебаев пришли ровно в десять. Мария издали увидела Николая, одетого в черный плащ и серую шляпу, больше на улице никого не было. Осипова прошла по набережной. Никого! Вдруг на набережную вышло несколько немцев. Мария чуть ускорив шаги, направилась к Похлебаеву.
— Приглашайте меня в кино, — не разжимая губ, прошептала она.
— Приходите в кино, — стал уговаривать ее Николай. — Я возьму билеты и буду ждать вас у входа.
— Что будем делать? — тихо спросила Мария. — Их нет.
В это время на лестнице появились две женщины: Мазаник и ее сестра Валентина.
— Которая Елена?
— Та, что повыше, — ответил Чиль.
— Значит, билеты достанете? — кокетливо засмеялась Осипова.
Гитлеровцы скользнули по ним равнодушным взглядом и пошли дальше. Подошедшие женщины приветливо поздоровались с Николаем и Марией, как со старыми знакомыми, и, перебрасываясь ничего не значащими фразами, все четверо пошли по набережной.
Похлебаев взял под руку Валентину и пошел с ней вперед.
— Я Черная, — представилась Мария. — Николай вам сообщил цель нашего знакомства. Решайте.
— На такое дело я не пойду, — сказала Мазаник и пристально посмотрела на Марию.
Осипова сразу почувствовала, что Елена ей не доверяет.
— Что надо сделать, чтобы вы мне поверили?
— Хочу встретиться с кем-нибудь из командования.
— Но оно в лесу!
— Пусть с вами пойдет Валентина.
Так и договорились. На другой день Мария отвела Валентину в лес в бригаду Димы.
Когда они вернулись в Минск и Валентина подтвердила, что Черная действительно связана с партизанами и минскими подпольщиками, Мазаник дала свое согласие. Было решено подложить в комнате Кубе мину замедленного действия.
— Есть такие магнитные мины замедленного действия величиной с коробку папирос, — объяснила Елене Осипова, — ее можно пронести в дамской сумочке. А как с нею обращаться, я покажу.
Так и договорились. На следующий день Мария пошла в бригаду Димы за минами. Вместе с ней пошла и Мария Григорьевна Грибовская. Когда они дошли до бригады, уже совсем стемнело. Осипова доложила заместителю командира бригады Н. П. Федорову, как обстоят дела.
— Завтра утром мины с часовым механизмом, будут, — заверил он, — а пока отдыхайте.
Женщины отправились ночевать в деревню Янушковичи, и тут Осипова встретила знакомую девушку, сестру связной Рени Дрозд.
— Мария Борисовна, вы не отнесете моим в город бруснику? — попросила Яня.
Осипова быстро прикинула: корзина, полная брусники, — хорошая маскировка для мин.
— Конечно, отнесу, — согласилась она.
На самое дно корзины насыпали слой брусники, на нем, закутанные в тряпки, положили две мины, а сверху щедро — опять брусника, крупные, спелые ягоды. На самом верху лежат несколько десятков яиц. Такая же тяжелая корзина, наполненная брусникой, и у спутницы Марии.
Не первый раз приносила в город Мария мины. Прятала их в корзинки с продуктами или с вещами, приготовленными «для продажи». Прибавились седые нити в ее волосах после того, как она несла мину, спрятав ее в шаровары к соседскому мальчугану Генке. Каждое такое поручение оставляло в душе неизгладимый след, проводило тонкие черточки морщин на лице, заставляло в течение секунд переживать всю свою жизнь. Каким бы волевым и сильным ни был человек, он никогда не сможет до конца привыкнуть к опасности и не испытывать никакого волнения. Вот и теперь Мария несла тяжелую корзину и волновалась, как все будет в этот раз.
Женщины медленно шли по направлению к городу. Шли молча. Тишина вокруг стояла такая, какой она бывает только в начале осени. С деревьев изредка падали листья и мягко ложились на землю. Этот пасмурный осенний день не располагал к разговорам, он сосредоточивал мысли на чем-то одном, заставлял по многу раз осмыслять и взвешивать все предстоящее. Путницы дошли до речки. Узкая река Вяча, струящаяся среди рощ и не скошенных теперь лугов, до войны была любимым местом рыболовов. На ее берегах всегда можно было увидеть застывшие, неподвижные, как изваяния, фигуры с удочками в руках. Сейчас здесь было пустынно. Вяча стала своеобразной границей партизанской зоны. На этом берегу уже начиналась территория, где свирепствовали гитлеровцы. Подпольщицы договорились, что будет лучше, если они сделают вид, что незнакомы друг с другом. Так будет проще проходить проверку на контрольном пункте, а первая засада обязательно будет у деревни Вишневка. Так все и получилось. Около деревни женщин остановили полицаи. Проверка!
Осипова внутренне сжалась: сейчас начнется первое испытание. Ну что ж, надо приготовиться ко всему, даже к самому худшему.
Сначала к полицаям подошла Грибовская. Низко поклонилась, заулыбалась.
— Добрый день, паны!
Она кланялась и улыбалась, пока проверяли ее документы и корзину с продуктами.
— Можешь идти, — разрешил ей полицай.
— Спасибо вам, паны! — Мария Григорьевна подняла корзину и пошла по дороге к городу.
— Теперь ты показывай, что у тебя, да побыстрее!
Осипова медленно пошла к полицаю.
«Только бы он не смотрел, что в корзине, иначе все пропало. Вся операция провалится, да и меня убьют».
Негнущиеся ноги едва держали Марию.
— Да шевелись ты поживее! — заорал на нее полицай. — Вот сейчас как дам по корзинке, все полетит!
— Вы не только мне убыток принесете, — спокойно сказала Мария. — Вам ведь тоже жить нужно.
Полицай сразу понял, к чему она клонит, и, окинув жадными глазами корзинку, посмотрел на Марию.
— Полдесятка яиц давай и сорок марок, — безапелляционно заявил он.
— Откуда у меня такие деньги? — возмутилась Мария. — Двадцать марок — все, что есть.
— Не торгуйся, а то и корзину отберу, — прикрикнул полицай.
Осипова еще немного поторговалась (сошлись на 25 марках), потом отсчитала полицаю деньги, и он ее отпустил.
Перед Минском была еще одна проверка. Всех останавливали около небольшого деревенского домика, где находился сторожевой пост, и опять проверяли документы и все вещи.
Теперь обе Марии шли рядом, они решили говорить, что ходили в деревню Паперню, чтобы присмотреть лошадь для покупки, а теперь возвращаются домой.
На сей раз с полицаем был и немецкий офицер. Стали проверять документы: ничего подозрительного в них не было.
Пока шла проверка, женщины жаловались, что их дома ждут голодные дети, а их все время задерживают и обижают. Один из полицаев вдруг подошел к Осиповой и ткнул штыком в ее корзинку. Один раз, потом другой! У Марии потемнело в глазах, поплыли какие-то цветные круги, и земля ушла из-под ног. Ведь в корзинке мины, вдруг он зацепит их штыком!
— Господин офицер! — в голос запричитала она. — Спасите! Дети уж два дня не евши сидят. Ягодок им насобирала, а он что делает! Ведь все раздавит! Чем же я их кормить буду!
Настоящие слезы полились по ее лицу, и она, всхлипывая, вытирала их рукавом. Офицер сжалился над нею.
— Корзины у вас проверяли? — спросил он.
— Как же! Конечно проверяли, — рыдала Мария. — Всюду господа полицаи смотрели. Да что тут смотреть— и так видно, что ягоды да немного продуктов…
Офицер приказал пропустить женщин, и они, поблагодарив его, ушли. Мины были доставлены в город. Теперь надо было передать их Елене.
Но тут начались неожиданные осложнения: в назначенный день Мазаник не пришла на улицу Энгельса. Напрасно Мария целый час с миной в сумочке прождала ее на улице. — Елена так и не появилась. Мария ничего не могла понять: видимо, что-то помешало Елене, Осипова не знала, что Кубе неожиданно уехал, и поэтому операция отложилась.
Мария решила пойти в кинотеатр к Похлебаеву, чтобы договориться о дальнейших действиях. В вестибюле ее встретила сильно накрашенная женщина, кассир или администратор.
— Что вы хотите? — спросила она.
— Мне нужен директор, — ответила, не растерявшись, подпольщица.
— Он занят. Вместе с господами шефами, приехавшими из Варшавы, осматривает зрительный зал.
— Можно я его подожду? — попросила Мария.
Женщина не успела ничего ответить, как на лестнице появились несколько немцев и с ними Похлебаев.
Увидев Осипову, Николай побледнел.
— Кто будет директор? — спросила Мария.
— Я, — ответил Николай.
— Меня направили к вам на работу.
— Я занят. Освобожусь минут через пятнадцать. Подождите.
— Хорошо. Я подожду.
Она вышла и пошла в сквер на площади Свободы, села на скамейку. Вскоре пришел Николай.
— Надо срочно выяснить, что с Еленой, — сказала Мария. — Уже все готово, дело за ней.
Николай обещал все узнать. Вечером он встретился с Валентиной, и она передала, что Кубе уехал до четверга и что днем в четверг Елена встретится с Марией. Мария пришла к Мазаник под видом спекулянтки, продающей туфли. Она долго и громко торговалась, чтобы было слышно живущему за стеной полицаю, а в то же время показывала Елене, как надо заводить часовой механизм мины и как класть ее между пружинами матраца. Мазаник заметила прилипший к мине маленький клейкий листочек брусники.
— Это наша партизанская примета, — зашептала ей в ухо Мария. — Наши люди знают — если где брусничные листья пристали, значит, посылочка из леса. Такой человек может быть с партизанами связан. Брусника прямо как пароль действует, и говорить ничего не надо…
Елена сняла хрупкий листочек, бережно разгладила его на ладони.
Осипова ушла, а Елена тщательно спрятала мину. Вечером она закопала ее под окном у полицая: вдруг взорвется раньше времени или фашисты сделают обыск? Поздно ночью на другой день Мазаник принесла мину к себе и поставила механизм ее на два часа ночи. Через сутки она должна была взорваться.
На другое утро Елена Мазаник пробралась в спальню Кубе, обманув охрану, и положила мину между пружинами матраца…
В это время Мария ждала ее на Центральном сквере и взволнованно поглядывала на часы. В девять часов Мазаник должна быть на сквере, ее у театра будут ждать с машиной, а ее все нет…
Чтобы не привлекать к себе внимания, Осипова сняла туфлю, прислонилась к дереву и стала вытряхивать из нее несуществующие камешки и песок.
Но вот показалась Елена. Она торопилась и почти бежала.
— Все сделано, — шепнула Мазаник.
С другой стороны показалась Валентина.
— Идите к Оперному театру, — сказала Мария. — Там ждет машина.
Через несколько минут грузовик нагнал Валентину с Еленой. Шофер Николай Фурц отвез женщин километров за шестнадцать от Минска. Документы у него были безупречные. Дальше женщины пошли пешком. Мария заранее приготовила кошелки, где лежали разные детские вещички и самогонка. Если остановят патрульные, то они скажут, что идут на крестины к родственникам. Их пропускали без задержки. Помогали и документы Елены Мазаник, где было написано, что она горничная у самого Вильгельма фон Кубе. Без приключений женщины дошли до партизанской зоны.
В назначенное время, в ночь с 21 на 22 сентября 1943 года, приговор над палачом белорусского народа Вильгельмом фон Кубе был свершен: взрывом его разорвало на куски…
Специальный самолет прилетел за героинями и доставил их на Большую землю в Москву.
29 октября 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Мария Борисовна Осипова и Елена Григорьевна Мазаник были награждены высочайшей правительственной наградой — орденом В. И. Ленина и Золотой Звездой Героя Советского Союза.
* * *
3 июля 1944 года — дата, которую не забудет ни один минчанин: этот день принес Минску освобождение после трехлетней оккупации. Хотя война еще не кончилась, но на стенах многих разрушенных зданий уже можно было прочесть полные глубокого смысла слова:
«Восстановим наш родной Минск!»
В этих лаконичных словах исстрадавшиеся люди выражали преданность своему городу, своей любимой Отчизне.
И здесь подпольщики и партизаны были в первых рядах. Эти люди, которые совсем недавно взрывали здания, уничтожали мосты, теперь с энтузиазмом взялись восстанавливать разрушенное. Участвовала в этой работе и Мария Осипова.
16 июля 1944 года на бывшем ипподроме был проведен небывалый в истории парад. Двадцать тысяч партизан собрались на поле, построившись в колонны.
В двенадцать часов дня Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко от имени Правительства БССР, ЦК Компартии Белоруссии поздравил минчан, партизан и подпольщиков с освобождением Минска и поблагодарил армию, прогнавшую захватчиков с белорусской земли. Громовое «ура» далеко разнеслось над городом. Находилась здесь и Мария Осипова со своими боевыми товарищами.
«Какое счастье дожить до этого дня и знать, что какая-то доля твоего труда есть в этой победе», — думает Мария.
Сверкают радостные искорки в ее карих глазах, и в то же время слезы бегут по впалым щекам. Радость пополам с горем! У многих такие же взволнованные лица, и никто из этих людей не скрывает своих слез — они знают: каждый, кто пережил то, что они, поймет и разделит их чувства.
* * *
Прошло больше четверти века. Восстановлен красавец Минск, он стал лучше, чем раньше. В самом центре города стоит красивое здание — Музей Великой Отечественной войны. Там в огромном зале на белых мраморных стенах золотом написаны имена лучших дочерей и сыновей белорусского народа. Среди них имя Марии Борисовны Осиповой, почетной гражданки города Минска. И после окончания войны Мария Осипова принимает деятельное участие в жизни города: четыре созыва ее выбирают депутатом Верховного Совета БССР, и даже сейчас, несмотря на преклонный возраст, она ведет большую общественную работу. По-прежнему к Марии Борисовне тянутся люди за советом и помощью — знают, что они всегда найдут поддержку у этого замечательного человека, настоящего коммуниста.
Иллюстрации
Довоенный Минск. Улица Советская (ныне проспект имени Ленина), 1930 год.
Минск в 1941 году.
Минск сегодня.
Мария Борисовна Осипова, 1971 год.
Антонина Алексеевна Соколова, 1940 год.
Франтишка Яковлевна Злоткина, 1942 год.
Николай Николаевич Кречетович, 1970 год.
Рафаэль Монусович Бромберг, 1939 год.
Сарра Хацкелевна Левина, 1948 год.
Вячеслав Павлович Стефанович. (Послевоенное фото.)
Александра Яковлевна Стефанович. (Послевоенное фото.)
Дом Стефановичей, в котором во время войны была явочная квартира.
Василий Иванович Марчук.
Анастасия Александровна Марчук.
Нина Васильевна Марчук-Лукашевич.
Клавдия Васильевна Марчук-Тюрина, 1970 год.
Дом В. И. Марчука, в котором во время войны была явочная квартира.




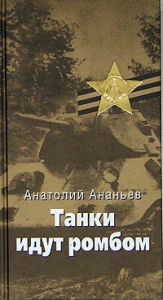


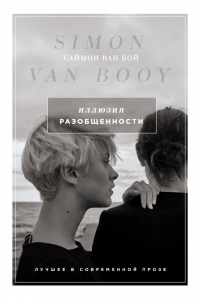




Комментарии к книге «Пароль — «Брусника»», Николай Сергеевич Матвеев
Всего 0 комментариев