Владимир Николаевич Першанин Я прошел две войны!
© Першанин В.Н., 2017
© ООО «Издательство «Яуза», 2017
© ООО «Издательство «Эксмо», 2017
Глава 1 Зимняя война
Рота понесла первые потери и залегла. Я лежал за большим валуном, покрытым шапкой снега, и всматривался в нагромождение спиленных сосен и каменную гряду, откуда нас обстреляли. Вели огонь два станковых пулемета, которые за короткое время выбили не меньше полутора десятков бойцов и тяжело ранили командира роты.
Мимо меня полз раненный в ногу красноармеец из соседнего взвода, ему помогал санитар. Когда они выползли на открытое место, снова заработал финский пулемет. Вернее, пулемет был немецкий, МГ-08 старого кайзеровского образца, похожий на наш «максим», только без щитка.
Расстояние составляло метров триста. Финский пулеметчик вложил одну и другую очередь довольно точно. Пули выбили крошево мерзлой земли и снега в метре от санитара и раненого бойца.
– Оставайся на месте, – приказал я санитару, рябоватому парню лет двадцати. – Наложи жгут потуже.
– Сейчас сделаю, товарищ лейтенант, – кивнул санитар. – Только его все равно надо поскорее на сборный пункт доставить. Крови много потерял.
– Под таким огнем ты его и себя на тот свет доставишь. Подожди немного, пока мы снова атаку не продолжим.
Короткими перебежками до моего укрытия добрался связной и сообщил:
– Через десять минут атака.
– Кто роту поведет? – спросил я.
– Политрук. Велел передать, чтобы наступали без остановок. Если его подранят, роту возглавит командир первого взвода Чередник.
Я кивнул и, пригибаясь, добрался до расчета «максима», который пристроился среди камней.
– Когда поднимемся, постарайся заглушить их станковый МГ-08.
Командир расчета, сержант Захар Антюфеев, рыжеволосый, широкий в груди и плечах, возился с прицелом.
– Сделаю, что смогу. Но у лопарей пулемет на салазках, они позицию все время меняют.
Коротко взыкнула пуля. Мы отчетливо услышали удар о человеческое тело. И тут же вскрикнул, заголосил санитар:
– Убили… мамоньки, убили меня.
Он ворочался, держась за бедро, а снег вокруг него набухал красным.
– Снайпер, – ахнул кто-то.
Я послал бойца помочь санитару, а в центре залегшей ротной цепи неуклюже поднялся в полный рост старший политрук Пуняев. Размахивая над головой наганом, закричал срывающимся голосом:
– В атаку! За родину!
Но рота продолжала лежать неподвижно. Топтался лишь политрук. Дважды выстрелив вверх, снова крикнул:
– В атаку!
Со стороны финских позиций хлопнули несколько винтовочных выстрелов. Раненный в живот Пуняев упал на колени, но упрямо поднялся. Командовать он уже не мог, но своим примером пытался воодушевить людей. В морозном воздухе сухо треснул одинокий выстрел. Пуля угодила политруку в лицо, он был убит наповал.
Цепь зашевелилась, некоторые бойцы открыли огонь из винтовок, но вставать никто не рискнул. Тем более снова заработали оба финских пулемета, ввинчивая над головами тягучий свист пуль.
Это был мой первый бой. Я запомнил его до мелочей. И неожиданную храбрость нашего политрука Пуняева, бывшего секретаря колхозного парткома, который ничем не выделялся. И залегшую роту, которая еще вчера бодро распевала: «Но от тайги до британских морей Красная армия всех сильней», а сейчас боялась поднять головы.
Я зашевелился. Мелькнула мысль, что надо встать и вести за собой роту. Я даже передернул затвор пистолета ТТ и поймал напряженный взгляд своего заместителя, старшего сержанта Михаила Ходырева, решительного и далеко не трусливого парня.
Михаил тоже не торопился вставать навстречу пулеметным очередям и метким выстрелам охотников-лопарей. Возможно, он ожидал, что нам, как было обещано, поможет артиллерия. Но легкие полковые «трехдюймовки», выпустив перед атакой полсотни снарядов, переключились на другие цели.
В этот момент раздался голос командира первого взвода Григория Чередника. Он командовал негромко, но отчетливо:
– Рота, слушай команду! Приготовить гранаты, вставить запалы.
Люди зашевелились, доставая гранаты из подсумков. Следом прозвучала очередная команда, более громкая:
– Рота, встать!
Бойцам уже не оставляли времени для раздумий и страха. Это была команда, которой учили красноармейцев до автоматизма, и она сработала. Люди торопливо поднимались, держа наперевес винтовки с примкнутыми штыками. Некоторые тяжело дыша, как после быстрого бега, – сказывалось напряжение последних минут перед броском под пули.
– В атаку! – звенящим командным голосом крикнул лейтенант Чередник.
Сейчас залечь никто бы не посмел. Вступал в действие жесткий армейский Устав, за нарушение которого людей отдавали под трибунал. Усилил огонь финский МГ-08, направляя трассы в сторону моего взвода. Навстречу ему частыми вспышками заработал «максим» сержанта Антюфеева.
Стреляли на ходу еще двое-трое сержантов, держа на весу ручные пулеметы Дегтярева. Во время атаки полагалось вести огонь всем, но люди были слишком напряжены, занятые одной мыслью: быстрее преодолеть это каменистое заснеженное поле.
Никто не пытался даже на минуту спрятаться за разлапистые ели или валуны. Вперед! «Ура!» не кричали, но когда снова стали падать убитые и раненые, по цепи прокатились невнятные выкрики многих голосов, которые превращались в рев.
В длиннополых шинелях, островерхих буденовках, со штыками, узкие лезвия которых сверкали под холодным зимним солнцем, эта ревущая цепь, ускоряющая свой бег, не могла не внушать страх, хотя перед нами был смелый противник. Финны будут до последнего драться за свою каменистую землю, леса и замерзшие озера.
Мы несли потери. В нескольких шагах от меня выронил винтовку боец моего взвода. Пуля, прошедшая навылет, вырвала клок шинели на спине, разбрызгивая мелкие капли крови. Красноармеец шатнулся и осел на подвернувшихся ногах в снег.
Упали еще несколько человек. Один из МГ-08 замолк. Но продолжал почти без остановок молотить второй станковый пулемет. Его поддерживали несколько ручных пулеметов и не меньше десятка автоматов «суоми».
Возможно, финны заставили бы нас снова залечь. Но над головой с характерным воющим звуком пронеслись несколько шестикилограммовых снарядов наших полковых пушек. Кто-то из бойцов шарахнулся в сторону от близкого воя, но основная масса красноармейцев ускорила бег.
Два запоздалых артиллерийских залпа сыграли свою роль. Осколочные и фугасные снаряды свалили несколько елей, подняли фонтаны древесных обломков, камней и снега. Снаряды упали довольно точно, заставив финнов на какое-то время прекратить огонь и нырнуть на дно траншеи и в укрытия.
Когда они поняли, что русская артиллерия замолчала, первый, а следом и второй взвод уже приближались к их позициям.
Гриша Чередник, один из лучших курсантов нашего выпуска, командовал умело и четко:
– Огонь гранатами!
Бойцы встряхивали заряженные РГД-33, и увесистые шестисотграммовые гранаты, кувыркаясь, летели в траншею. Мой третий взвод немного отстал: преодолевали покрытую льдом низину и склон, усеянный камнями. Когда до траншеи осталось метров семьдесят, я увидел первого финна.
Настойчивая пропаганда убедила нас, что мы сражаемся с наймитами империализма, фашистами-шуцманами из нацистского корпуса «Шуцкор», обманутыми солдатами из бедноты, и несем свободу финскому народу.
Обросший рыжей бородой финский солдат, ловко вскарабкавшийся на бруствер, не напоминал наймита или фашиста. Одетый в перепоясанный полушубок без знаков различия и овчинную шапку с кожаным верхом, он отчаянно матерился, вскидывая автомат «суоми» с дырчатым кожухом и круглым диском, очень похожий на наш автомат ППД-34.
– Курва русская… Молетов, Сталин нашу землю хотят!
Дальнейшее я не услышал. Бородач, прижимая автомат к плечу, водил стволом, опустошая емкий магазин на 71 патрон. Сноп огня, веер блестящих отстрелянных гильз, и оцепенение в предчувствии неминуемой смерти.
С такого расстояния он мог бы уложить и пять, и десять бойцов моего родного третьего взвода. Но нас спасло то, что финн недостаточно хорошо владел своим оружием. Тяжелый автомат, весом семь килограммов, ходил в его руках ходуном, выбрасывая сноп огня и шестнадцать пуль калибра 9,0 миллиметра в одну секунду.
Бородач выпустил диск меньше чем за минуту и торжествующе выругался напоследок, потрясая над головой автоматом. Я выстрелил в него дважды, но, видимо, промахнулся. На снегу лежал один из бойцов, зажимая ладонями живот.
– Степана убил, гад!
Автоматчик спрыгнул в траншею, а взвод прыжками бежал вперед. Снег был вытоптан, передвигаться стало легче. Высунулись несколько голов: в немецких касках, овчинных шапках, суконных кепи. Винтовочные выстрелы и торопливые очереди финского ручного пулемета опрокинули еще двух бойцов, но остальные красноармейцы уже сблизились с врагом, стреляя сверху вниз.
Возможно, я допустил ошибку, не дав команду забросать траншею гранатами. Но события разворачивались слишком быстро. Пока бойцы возились бы с гранатами, половину бы перебили ружейным и пулеметным огнем.
Красноармейцы прыгали в траншею. Этот дружный напор заставил часть финских солдат отшатнуться, чтобы избежать летящих сверху смертоносных штыков. Другие отбивали удары или передергивали затворы своих винтовок со сложенными штыками, иначе в траншее с ними не развернуться.
Несколько секунд я стоял на бруствере. Внизу разворачивался ожесточенный рукопашный бой, с криками и руганью на русском и финском. С треском ломались от ударов приклады винтовок, стучали редкие выстрелы, вскрикивали раненые.
Я спрыгнул вниз, как прыгал с обрыва в холодную весеннюю воду нашей реки. Финский сержант, отбив удар штыка, выстрелил из карабина в красноармейца. Это был выстрел в упор, который отбросил бойца к стенке траншеи. Обмякшее тело сползало на мерзлую землю, глаза невидяще закатились в подлобье. Другая пара глаз, из-под наползающей на лоб массивной немецкой каски, ловила каждое мое движение.
Финский сержант лихорадочно передергивал затвор карабина. Понял, что не опередит меня, и прыгнул, замахнувшись прикладом. Я успел выстрелить три раза подряд. Сержант падал на меня, не выпуская из рук оружия. Хотя удар частично утратил силу, окованный металлом затыльник обрушился на мое левое плечо, едва не сбив с ног.
Помкомвзвода Ходырев, смуглый, небольшого роста, владел штыком хорошо, и с маху вонзил его в живот финскому солдату. От удара слетела каска, я увидел светлые льняные волосы и широкоскулое, с нашими, русскими, чертами лицо.
Эта схожесть заставила меня невольно задержать взгляд на белокуром парне, а заминка в бою может мгновенно оборвать жизнь. Рослый солдат в серо-голубой шинели вскинул винтовку, но его опередил старший сержант Ходырев, успевший выдернуть штык и бросившийся на здоровяка.
Штык пропорол шинель, а пуля пронеслась в десятке сантиметров от головы, звонко врезавшись в ледяную стенку траншеи. Они сцепились, бросив бесполезное в эти минуты оружие – невысокий, но мускулистый и жилистый Миша Ходырев и рослый финский лесоруб, явно сильнее моего помкомвзвода.
– Уй-ее, арва! – рычал, перехватывая инициативу, финн, но ему мешала винтовка Ходырева, пробившая шинель и кожу на боку.
Она болталась, сковывая движения мощных рук. На помощь Ходыреву кинулся еще один красноармеец, но рослый финский солдат схватил рукой направленный на него штык и, согнув его, отбросил винтовку в сторону.
Я выпустил в него оставшиеся в обойме заряды. Затвор, лязгнув, отошел назад, показывая, что все патроны истрачены. Пока я перезаряжал свой ТТ, раненый финн, шатаясь, выбирался из свалки, понимая, что, несмотря на огромную физическую силу, его добьют. И он сумел уйти, хотя я видел, что как минимум две моих пули угодили в него.
Наша рота вытеснила финнов из первой траншеи. В горячке кинулись преследовать отступавшего врага, но выставленный заслон открыл довольно меткий огонь, Григорий Чередник приказал преследование прекратить и закрепляться в занятой траншее.
На участке нашего взвода мы насчитали пять убитых финских солдат. Бойцы рассказали мне, что тяжелораненых санитары быстро вывозили на деревянных лодочках-волокушах. Возможно, вывезли и часть своих погибших.
Из пятидесяти двух человек моего взвода погибли восемь бойцов, полтора десятка красноармейцев были ранены. В двух других взводах потери были несколько меньше. Рота в целом потеряла более двадцати человек погибшими и сорок с чем-то раненых.
Такие потери действовали угнетающе. Один бой – и едва не половина личного состава выбыла из строя. Погиб политрук, тяжело ранили командира роты, остались только взводные лейтенанты, принявшие свое первое крещение.
Григорий Чередник, мой старый товарищ, обходил позиции. Мы были с ним ровесники, закончили одно училище. Но, приняв на себя роту, он заметно изменился. Нет, он не заставил меня козырять и обращаться к нему по званию. В этом отношении Гриша не выпячивал своего превосходства.
Но когда я доложил потери взвода, он покачал головой и негромко заметил:
– Промедлил ты перед последним броском.
Я стал объяснять, что помешал скользкий склон и внезапно появившийся автоматчик, который открыл огонь длинными очередями едва не в упор. Будь на месте Чередника прежний ротный, он бы перебил меня и скорее всего отчитал на глазах у бойцов. Григорий выслушал доклад молча, достал папиросы, мы закурили.
– Много людей потеряли, когда ротного ранили, – сказал Чередник. – Пока суетились, на месте топтались.
– Ты молодец, Гриша. Под таким огнем роту сумел поднять.
– Тоже промедлил, – отмахнулся лейтенант. – Ждал, пока политрук команду даст. Ну ладно, первый рубеж одолели. Я у твоих бойцов трофейные автоматы видел.
– Три штуки взяли.
– Ну-ка, давай глянем.
Сержант Ходырев принес один из захваченных «суоми». Мы осмотрели трофей и пришли к выводу, что здесь, в лесной местности, автомат – штука эффективная.
– Да и тебе автомат бы не помешал, – заметил Чередник. – Взводные в первых рядах идут, а пистолеты или наганы – оружие для боя слабое.
Мой заместитель согласно кивнул, хотя автомат отдавал мне с явным сожалением.
– Берите, товарищ лейтенант. Я себе другой достану.
Ходырев отстегнул подсумок с запасным диском и протянул вместе с автоматом.
– Не жалко? – усмехнулся Гриша Чередник.
– Может, и жалко, но товарищу лейтенанту он нужнее. Я пока винтовкой обойдусь.
– Ладно, ребята, – поднялся Чередник. – Закрепляйтесь на новом рубеже, а мы с вашим командиром пойдем оглядим получше местность.
Когда отошли немного в сторону, мой старый товарищ по училищу, а теперь командир роты коротко обрисовал обстановку:
– Мы хоть и понесли потери, но боевую задачу выполнили. А вот первому батальону не повезло. Завяз на нейтралке под огнем, наверное, к вечеру снова будут атаковать. Ну а наша задача – удержать взятую траншею. Посты проверяй каждый час. До второй линии финской обороны всего полкилометра, а для них это не расстояние. За считанные минуты на лыжах проскользнут, тем более лопари каждый куст здесь знают.
Я кивнул, соглашаясь с Григорием. В его бинокль мы по очереди оглядели вторую линию траншей. Знаменитая линия Маннергейма, с ее мощными дотами и укреплениями, начиналась где-то впереди. На нашем участке дальнейший путь преграждал очередной завал из спиленных деревьев и плоский серый дот.
Задача продвигаться дальше пока перед нами не стояла – требовались более сильная артиллерия и танки. Главной задачей было удержать захваченные позиции. Чередник ушел на свой командный пункт, а я занялся взводными делами.
В тот день, после первого боя, я понял: все мы еще слабо представляли, что за война нас ожидает.
Мы гордились мощью Красной армии, когда на парадах по Красной площади проходили стройными рядами наши подтянутые бойцы. Потоком двигались танки; тягачи везли огромные дальнобойные орудия, способные смести любую преграду. В небе плыли четырехмоторные бомбардировщики, целые авиаполки, заполняя все вокруг гулом мощных двигателей. Проносились стремительные истребители с красными звездами на крыльях.
Я видел, как задирали головы иностранные дипломаты, внимательно наблюдая, что нового появилось в Красной армии. Смотрите! Наша армия самая сильная в мире. Мы не хотим войны, но сумеем обуздать любого захватчика или прийти на помощь братьям по классу, если они нас попросят. Никто не устоит перед мощью Красной армии!
А в захваченной с большими потерями вражеской траншее мерзла наша восьмая рота в ожидании контратаки, которая не станет для нас внезапной. Мы сражаемся за светлое будущее финских трудящихся и свой долг выполним.
Мой третий взвод удерживал траншею протяженностью метров четыреста – один боец на 10–12 метров. Жидковатая оборона. Но у нас имелся «максим», два ручных пулемета Дегтярева и три трофейных автомата «суоми». Кроме доставленных снабженцами боеприпасов, мы нашли в траншее два ящика немецких гранат М-24 с удобными для броска длинными деревянными рукоятками.
Взвод покормили пшенной кашей с тушенкой. Чай хоть и остыл, но был крепкий и сладкий. В блиндаже спали свободные от дежурства бойцы, а мы со старшим сержантом Ходыревым по очереди проверяли посты.
Но как бесконечно долго тянулась северная декабрьская ночь! Не выдержав, я часов в шесть утра заснул, и Миша Ходырев проверил посты вместо меня.
– Почему не разбудили! – накинулся я на своего помощника, но Михаил, отогревая над печкой ладони, лишь пожал плечами.
– Все нормально, товарищ лейтенант. Вам отдохнуть надо, а я привычный. Мы тут чайку согрели. Пейте.
– Как обстановка? – спросил я, принимая кружку.
– Финны ракеты пускают. Напротив первого батальона стрельба была, но не сильная. Наверное, разведку проводили.
– Ну вот. А ты говорил, что все спокойно.
– Разведка – обычное дело, – невозмутимо ответил сержант. – Да и стреляли далеко от нас. Захар Антюфеев почти всю ночь у «максима» дежурил.
– Ему отдохнуть бы.
– Я его поспать отправил. Вон, храпит в углу.
Выпив горячий чай, я потянулся, перекинул через плечо автомат и пошел проверять посты. За спиной скрипел валенками по свежевыпавшему снегу Ходырев.
Странный и какой-то зловещий был тот рассвет. Заметно похолодало. Густой синеватый туман расползался по окрестностям. Он словно размывал все вокруг. В нем тонули, исчезали деревья, каменистые бугры, перелески. Видимость не превышала метров семидесяти, стояла тишина.
Я оглянулся и посмотрел на своего помощника Михаила Ходырева. Ресницы, отросшая щетина и суконный подшлемник были покрыты инеем.
– Чего не отдыхаешь? – спросил я.
Впрочем, причину я понимал. Ничего хорошего от такой тишины не дождешься – самая погода для финнов внезапно атаковать.
Я подошел к пулеметчику Карпухину Петру. Сняв рукавицы, он дышал на озябшие пальцы.
– Ну-ка врежь, Карпуха, пару очередей для сугрева.
Сержант оживился.
– Это мы можем.
Короткие трассы, выпущенные из Дегтярева, ушли в туман. Финны молчали. Напряжение усиливалось как натянутая пружина. Бойцы стояли, держа наготове оружие. Но какой редкой была цепочка обороняющихся! Выбьют одного-двух красноармейцев, и образуется брешь, сквозь которую прорвут нашу оборону и ударят с тыла.
Я невольно оглянулся назад. Там слышался скрип снега. Но это были свои. В ста метрах устанавливали легкую полковую пушку. Сержант Гриднев, старший расчета, сообщил, что их прислал командир полка.
– Место у вас на отшибе и лес близко подходит. В случае чего поможем.
Петр Гриднев считался одним из лучших командиров артиллерийского расчета – за плечами два года службы. В голосе сержанта слышались покровительственные нотки. Артиллерия – бог войны, а его короткоствольная пушка способна выпустить в минуту десяток шестикилограммовых осколочных или фугасных снарядов. Сметет любую наступающую цепь. Эти небольшие орудия называли «полковушки», они не обладали большой мощностью, но мы верили в мастерство наших артиллеристов.
Но как мало мы знали о характере будущей войны и повадках лесных жителей маленькой республики, которую собирались завоевать за считаные недели. Они крепко сплотились, готовые отдать свои жизни, но отстоять любой ценой свою землю.
Финны ударили с двух сторон. С небольшим опережением, почти бесшумно скользя на широких охотничьих лыжах, отделение финских разведчиков обрушилось на расчет сержанта Гриднева.
Они торопились вывести из строя скорострельную русскую «трехдюймовку», способную сорвать атаку своими увесистыми осколочными снарядами.
Все шесть финских разведчиков открыли огонь одновременно, из четырех автоматов и двух винтовок. Можно было сказать, что они добились своей цели. Почти весь расчет был убит или тяжело ранен в первые же минуты.
Финны уже прикрепляли к казеннику орудия связку динамита и подтаскивали ящик со снарядами, чтобы взрыв наверняка уничтожил пушку. Однако на войне даже хорошо подготовленные операции порой идут наперекосяк из-за торопливости или излишней самоуверенности.
От траншеи с карабином в руках бежал к своему орудию Николай Гриднев. Он определял сектор обстрела и, услышав автоматные очереди, торопился выяснить, что происходит. Увидев финских разведчиков в коротких меховых курточках, суетившихся вокруг пушки, понял ситуацию.
У него хватило выдержки остановиться и залечь за камнем. Горечь при виде неподвижных тел своих товарищей и злость на себя, что так не вовремя покинул расчет, мешали сержанту точно прицелиться. Лихорадочно передергивая затвор, он выпустил всю обойму и тяжело ранил одного из финнов.
В ответ ударили автоматные очереди, высекая каменную крошку из валуна, который прикрыл Гриднева от пуль. Обозленные разведчики прикончили бы сержанта, но у них не оставалось времени.
Взрыв разнес затвор орудия и выбил одно из колес. Разведчики уложили раненого на две пары скрепленных между собой лыж и спешили уйти подальше от траншеи. Но приходилось тянуть тяжелый груз, а один из солдат, оставшийся без лыж, шагал по колее, тоже замедлял движение. Ничего, самое главное – свое задание они выполнили.
Для наших бойцов такие внезапные удары с тыла стали неприятной неожиданностью. Но и финны быстро почувствовали, что имеют дело с решительным врагом. Из-за валуна продолжал стрелять им вслед русский сержант, а из тумана выдвинулась размытая фигура подносчика боеприпасов.
Выстрел опрокинул пешего разведчика. Он был убит наповал, пуля угодила между лопаток. В сторону стрелка понеслись автоматные трассы, но он уже исчез в тумане. Летели пули из-за камня, взбивая снег под ногами лыжников.
– Погибшего оставим здесь, – дал команду старший разведгруппы. – Заберите его автомат и быстрее уходим, пока нас всех не перебили.
Об этой короткой схватке я узнал позже. А на роту обрушился огонь двух минометов – оружия, незнакомого большинству из нас. Мины с воем набирали высоту, замирали где-то в верхней точке, а затем с шипением падали почти отвесно вниз.
Самое дрянное, что от них не защищала даже глубокая траншея. Одна, вторая мина взорвались перед бруствером. Третья глухо рванула в узкой траншее – послышался крик. Ко мне подбежал Ходырев.
– Там Строкова Терентия убили. Ногу оторвало и всего осколками изрешетило. У финнов какие-то новые пушки появились. Вот, гляньте, товарищ лейтенант.
Старший сержант протянул на ладони хвостовик немецкой 80-миллиметровой мины. Мы изучали такие штуки в училище. Немцы приняли на вооружение минометы в середине тридцатых годов и поставляли их во время гражданской войны в Испании франкистам.
Преподаватели говорили, что это эффективное оружие. Мины летели довольно точно, видимо, траншея была заранее пристреляна. Но большинство мин взрывались позади или перед бруствером. А те немногие, которые падали в траншею, взрывались, почти не причиняя вреда.
Часть красноармейцев укрылись в блиндаже, другие вжимались в стрелковые гнезда или прятались в отсечных ходах. Наши бойцы быстро схватывали ситуацию, хотя лежать под минометным огнем было жутко. Мины падали сверху, такого никто не ожидал.
Раздался еще один приглушенный взрыв. Попадание в траншею. Один красноармеец погиб, а другой вымахнул за бруствер и побежал в сторону тыла. Его догнал Михаил Ходырев и потащил за шиворот снова в траншею.
– Ты что творишь, гад? За такие штуки трибунал…
Он не договорил и повалил струсившего бойца на землю. Мина рванула неподалеку, осколки с шипением пронеслись над головой, издалека ударил пулемет, нащупывая очередями двоих русских, оказавшихся наверху. Ответный огонь, несмотря на падающие мины, открыл из «максима» Захар Антюфеев. Под его прикрытием Ходырев толкнул в траншею беглеца и спрыгнул сам. Пули запоздало хлестнули по мерзлому брустверу.
– Подбери винтовку, чувырло! – не сдержавшись, закатил затрещину струсившему бойцу Ходырев.
Минометный обстрел длился недолго. Затем финны пошли в атаку. И снова они действовали неожиданно. Под прикрытием минометов на правом фланге скопилось несколько десятков лыжников и пеших солдат. Они не пошли в лоб на пулеметы, как наш батальон, а ударили во фланг девятой роты.
Фланги любого подразделения, как правило, самое слабое место. Соседний полк, выполняя свою задачу, наступал в стороне, отделенный от нас лесистой низиной. Наш командир полка Усольцев, предвидя возможный удар, выдвинул в помощь девятой роте две «сорокапятки».
Но они мало чем помогли. Десятка четыре лыжников в белых маскировочных куртках вылетели из заснеженного леса бесшумно и с разгона обрушились на девятую роту.
«Сорокапятки» успели сделать лишь несколько выстрелов. Вести дальнейший огонь было опасно – финны сблизились с нашими бойцами и двигались вдоль траншеи, забрасывая ее гранатами и стреляя на ходу из автоматов.
Я хорошо знал командира девятой роты, старшего лейтенанта Тимофея Козырева. То, что он командовал последней по нумерации ротой в полку, совсем не означало, что Козырев слабый командир. Ему было лет тридцать пять, и армейского опыта он имел достаточно, хотя и не воевал.
Козырев грамотно расставил своих людей. На фланге был установлен «максим» и один из ручных пулеметов. Однако бросок финских лыжников оказался настолько стремительным, что расчет «максима» успел дать две-три очереди и был расстрелян из автоматов.
В считаные минуты девятая рота понесла значительные потери. Торопливая винтовочная стрельба по мелькавшим лыжникам оказалась неэффективной. Бойцы просто не успевали прицелиться, и пули в основном шли мимо.
Взрывы гранат и плотный автоматный огонь заставляли красноармейцев искать укрытия, и рота в какой-то момент оказалась на грани уничтожения. Бойцы из молодняка растерялись. Те, кто пытался бежать, падали под пулями. А следом за лыжниками из лесной низины уже приближался усиленный пехотный взвод – не меньше полусотни финнов.
Старший лейтенант послал своего вестового, расторопного парня, к артиллеристам.
– Передай им, пусть отсекают пехотный взвод.
Сам Козырев собрал вокруг себя несколько надежных бойцов. Старшина раздавал им гранаты, а Козырев коротко и отрывисто приказывал:
– Дальше этого места не отступать, иначе все погибнем. Стрелять только прицельно, а когда лопари приблизятся, пускайте в ход гранаты.
Сам Козырев открыл огонь из ручного пулемета. К своим тридцати пяти годам Тимофей Филиппович не достиг высоких званий и должностей, но в сложных ситуациях действовал смело и решительно.
Очередями Дегтярева он свалили одного, другого лыжника. Сержанты и бойцы из старослужащих не хуже своего командира понимали опасность положения. Стреляли, выцеливая фигуры в белых маскхалатах, а затем стали бросать гранаты. Осколки «лимонок» и увесистых РГД-33 ранили еще несколько лыжников, в том числе финского лейтенанта.
Из клубящегося облака размельченного снега и дыма вынырнул одинокий лыжник. Понимая, что впереди его ждет смерть, он круто развернулся в обратную сторону.
Лыжники начали атаку стремительно, пользуясь своим мастерством, приобретенным с детства. Разогнавшись, они умело уходили от пуль, постоянно меняя направление и стреляя на ходу.
Они имели все шансы на успех, однако упустили его, наткнувшись на встречный огонь и взрывы гранат. Лыжники несли не такие и большие потери, но, утратив стремительность атаки, стали мишенью для винтовок и двух ручных пулеметов.
Прятаться наверху было негде. Финны залегли в снег, но это не спасало их от пуль и осколков гранат. Русские пришли в себя, а их командир, старший лейтенант, уверенно ломал ход боя.
В это же время открыли огонь осколочными и картечными снарядами обе «сорокапятки», накрыв наступавший пехотный взвод. В ответ вели огонь финские снайперы, пытаясь выбить расчеты небольших скорострельных пушек.
Как рассказывал нам позже Тимофей Козырев, и лыжники, и финские пехотинцы действовали смело. Оказавшись под огнем и неся потери, оба взвода пытались довести атаку до победного конца.
Догадавшись, что из ручного пулемета стреляет русский командир роты и под его началом усилили сопротивление красноармейцы, финский лейтенант, несмотря на ранение, предпринял отчаянный шаг.
Вместе с двумя другими лыжниками он попытался броском приблизиться к Козыреву и сбившимся вокруг него бойцам, чтобы уничтожить главный очаг сопротивления. Он выбрал момент, когда русский командир менял пулеметный диск. Счет шел на секунды, и если бы старший лейтенант промедлил, то угодил бы под автоматные очереди.
Ротного командира выручил многолетний опыт. Точным движением он поставил на место заряженный диск, передернул затвор и нажал на спуск. Финны открыли огонь, но Козырев их опередил. Несколько пуль пробили тело финского лейтенанта и опрокинули его на утоптанный снег, покрытый пятнами крови.
Помощник лейтенанта успел достать очередью с десяти шагов сержанта, командира отделения, но тоже угодил под пулеметную очередь. Из тройки финских лыжников, пытавшихся повернуть ход боя, уцелел лишь один.
С простреленной рукой, сжимая в другой автомат, он, пригнувшись, скользил на лыжах. Иногда оборачивался и грозил незваным пришельцам кулаком, что-то выкрикивая. В него стреляли из винтовок, бросали гранаты, но смелым везет. С силой отталкиваясь ногами, он достиг склона и покатился на лыжах вниз.
Следом быстро, как и появились, уходили остальные лыжники. Это была отчаянная и не слишком продуманная атака. Финны переоценили свою смелость. Рассчитывали, что красноармейцы, кое-как захватившие первую линию траншей, не выдержат напора и побегут.
Они почти добились своей цели. Но опытный русский командир и спаянная крепкой дисциплиной девятая рота хоть и дрогнули, но сумели отбить атаку. Несмотря на усилившийся огонь, лыжники отступали хладнокровно, увозя на самодельных салазках раненых товарищей и погибшего лейтенанта. Их отход прикрывали несколько автоматчиков.
Израсходовав большую часть боеприпасов, они огрызались короткими очередями и одиночными выстрелами. Восемь убитых лыжников остались лежать на снегу.
Пехотный взвод, наступавший следом, понес меньшие потери. Они вовремя поняли, что скорострельные русские пушки не дадут им достичь цели, и благоразумно отступили. Снайперскими выстрелами были убиты двое артиллеристов.
Девятая рота старшего лейтенанта Козырева и два расчета «сорокапяток» не просто отбили атаку, а сорвали подготовленный удар с фланга. В случае успеха роту бы просто смяли, а затем навалились бы на нашу немногочисленную восьмую роту.
Финны скопили для этого достаточно сил. Когда в низину обрушились снаряды дивизионных «трехдюймовок», перелесок спешно покинули сотни полторы солдат и ополченцев.
Для дальнейших действий им не хватало артиллерии. Финский батальон располагал всего лишь батареей 37-миллиметровок, не способных обеспечить прикрытие пехоты из-за своего малого калибра.
Минометы, которые крепко встряхнули нас, молчали. К ним не хватало боеприпасов.
Атака на нашу и седьмую роту также не увенчалась успехом. Атакующие ждали прорыва с фланга и большой активности не проявляли. Нас обстреливали все те же 37-миллиметровые «бофорсы». Снаряды весом семьсот граммов поднимали небольшие фонтаны снега и оставляли в мерзлой земле мелкие ямки.
Против пехоты они были малоэффективны, однако броню наших легких танков пробивали на расстоянии 500–700 метров.
В сторону моего третьего взвода продвигалась группа пехотинцев. Они проползли по снегу метров двести, умело используя ложбины и занесенные снегом камни. Наиболее активные солдаты ползли, выбирая сугробы.
Попав под обстрел, финны продвижение прекратили, но не тропились отступать, хотя в их сторону вели огонь два «максима» и несколько ручных пулеметов. Под ударами десятков пуль снег взлетал фонтанами, заставляя финнов искать более надежные укрытия – крупные валуны. Прячась за ними, снайперы огрызались редкими прицельными выстрелами.
Когда сорвалась атака на фланге, взвод так же неторопливо стал отползать, продолжая вести прицельный огонь из винтовок. Наши бойцы стреляли им вслед и кричали:
– Ну что, еще хотите?
При этом, воодушевленные успехом, некоторые красноармейцы высовывались по грудь над бруствером, чтобы лучше прицелиться.
– Не лезь под пули! – потянул я за шинель одного из красноармейцев.
– Они же удирают, – улыбаясь, возразил тот.
Такая неосторожность обходилась дорого.
У меня во взводе погиб от снайперского выстрела молодой боец. В то время у нас было мало касок, большинство красноармейцев носили шапки или буденовки из толстого сукна с подшлемниками. Боец как раз имел каску, но она его не спасла. Пуля, выпущенная с расстояния трехсот метров, пробила и каску, и голову.
В отместку мы открыли огонь из всех стволов, но вряд ли он был результативным. Финские солдаты в своих маскировочных костюмах сливались со снегом, одеты были легко и быстро перемещались.
Самые большие потери понесла девятая рота. В строю у старшего лейтенанта Козырева остались около пятидесяти человек (треть личного состава), в том числе несколько легкораненых. Они не захотели покидать своего командира.
Наш комбат Ягупов получил выговор от командира полка. Комбат был из молодых выдвиженцев, лет в двадцать семь получил «капитана» и батальоном командовал с полгода.
– Теперь ты понял, что такое фланги? – отчитывал его долговязый полковой командир Павел Петрович Усольцев, начинавший воевать еще в Первую мировую. – Я ведь тебя предупреждал, чтобы ты усилил девятую роту. Не просто так я им две «сорокапятки» выделил. И ты бы мог пару пулеметов из резерва дать. Если бы не расторопность товарища Козырева и меткий огонь артиллеристов, твой батальон бы смяли и уничтожили.
– Кишка у лопарей тонка третий батальон смять, – вызывающе и как-то по-детски оправдывался капитан Борис Ягупов. – Разве плохо ребята дрались?
– Ребята воевали нормально. Но удар для них оказался неожиданный, и здесь твоя вина. Бежать кинулись поначалу.
– За это я с ротного спрошу, – пытался показать свою решительность комбат.
– Ты что, ничего не понял? – покачал головой полковник Усольцев. – Удар был нанесен во фланг твоего батальона. Ты ночью обходил посты девятой роты?
– Это обязанность старшего лейтенанта Козырева.
– Ладно, пусть он что-то недосмотрел. А ты где был? Финны сосредоточили в перелеске сотни две своих солдат. Не по воздуху же они летали. Какой-то шум, голоса можно было услышать.
На этом небольшом совещании присутствовали все ротные командиры. По их лицам полковник угадал, что хватит искать виновных. Надо сделать выводы, чтобы подобное не повторилось. И Усольцев сменил тон:
– Перед нами сильный противник. Финские подразделения мобильны, боевой дух солдат высокий. Это мы должны учитывать и прекратить ненужные разговоры о том, что финская армия после первых ударов развалится. Недооценивать противника – последнее дело. У них мало танков, самолетов, но это компенсируется смелостью и высокой активностью личного состава.
Мой товарищ, лейтенант Гриша Чередник, которого официально утвердили на этом совещании в качестве командира нашей восьмой роты, рассказывал мне, что впервые слышал такую объективную оценку врага. Не боясь, что его одернет вышестоящее политическое руководство, полковник Усольцев говорил откровенно с командирами рот и батальонов, призывая их трезво оценивать сильные стороны финской армии.
Многое из сказанного подтвердилось в ходе дальнейших боев.
В течение двух дней мы получали пополнение. Полк был усилен артиллерией, нам была придана танковая рота, и вскоре мы продолжили наступление.
Артиллерия и танки нам помогали крепко. Танковая рота состояла в основном из машин Т-26 и БТ-7. На меня произвел особое впечатление танк БТ-7, скоростной, с мощным двигателем и сильным вооружением – пушкой калибра 45 миллиметров и двумя пулеметами.
Легкие танки мы изучали в военном училище, умели даже водить некоторые из них. Но как они действовали в бою, я видел впервые.
Во время атаки к БТ-7 иногда цепляли (если позволяла местность) металлические волокуши с высоким передним бортом. Там помещалось 10–12 бойцов, несколько человек садились на броню.
Несмотря на такую нагрузку, танк с его мощным двигателем в 400 лошадиных сил разгонялся до 30–40 километров в час и «доставлял» красноармейцев вплотную к финским позициям.
Я слышал, как пули звенели о броню танка и металлический борт волокуши. Десантники, которые находились на броне, зачастую несли потери и спрыгивали на ходу. Волокуша была более надежным средством доставки, но применять ее можно было на ровной местности.
БТ-7, когда шел в атаку без грузовой волокуши, развивал скорость свыше пятидесяти километров. Мы с гордостью наблюдали, как мчатся на врага эти скоростные машины. Другой легкий танк Т-26 уступал ему, двигался медленнее. Но любая танковая поддержка поднимала дух бойцов.
Башенные «сорокапятки» и пулеметы вели непрерывный огонь. Град снарядов поднимал фонтаны дыма, снега, раскидывал древесные завалы. Несмотря на свою храбрость, финны прятались в траншеи, ослабевал огонь, и это помогало нам занять очередной рубеж с меньшими потерями.
В то же время тягостно было видеть, как снаряды замаскированных 37-миллиметровых пушек пробивали броню и поджигали наши танки, работающие на бензине.
На захваченных позициях мне приходилось видеть разбитые противотанковые пушки и 37-миллиметровые снаряды. Пушки не производили грозного впечатления своими тонкими стволиками длиной чуть больше полутора метров. А небольшие снаряды с ярко-желтыми гильзами и разноцветными головками казались игрушечными.
Но летящие со скоростью 750 метров в секунду, эти раскаленные головки с донными взрывателями прошивали броню, тела танкистов, отрывали конечности и воспламеняли бензиновые двигатели.
Во время одного из боев на моих глазах был подбит легкий танк Т-26. Этот самый многочисленный в Красной армии танк образца 1931 года имел броню толщиной всего 15 миллиметров. Хотя машина не обладала высокой скоростью (километров до 30 в час), экипаж, лавируя, вел огонь из башенного орудия и двух пулеметов и быстро приближался к вражеским позициям.
Мы бежали под его прикрытием. Я отчетливо услышал звук удара. «Игрушечный» снаряд просадил насквозь лобовую броню. Эти снаряды раскалялись в полете до малинового свечения. Брызнули снопом искры, машина дернулась и застыла.
Механик пытался запустить двигатель и уйти с линии огня. Следующий снаряд ударил в башню, танк задымил, показались языки пламени. Они вырвались из открытого люка, пробоин. Спустя считаные минуты вспыхнул двигатель.
Успели выскочить двое ребят из экипажа. На одном из них горел комбинезон, он катался по снегу, сбивая пламя. Мы помогали ему, сорвали тлеющий комбинезон, накинули шинель.
Старшина-танкист крикнул мне:
– Уходим, сейчас рванет. В машине почти сотня снарядов.
Я оглянулся на бегу. Никогда бы не мог подумать, что так может полыхать металл. Пламя гудело, как в топке, поднялось грибовидное облако маслянистого дыма. Внутри что-то трещало и лопалось. За какие-то пять минут боевая машина превратилась в огненный шар.
Дым прикрывал нас от пуль, которые летели со стороны финских позиций. Бросившись в снег, я стрелял по вспышкам из трофейного «суоми». Вели огонь из винтовок бойцы моего взвода.
Сильный взрыв заставил нас прикрыть головы – сдетонировали снаряды. Полукруглую башню накренило, разлетелись мелкие обломки и какие-то горящие клочья, которые гасли на снегу.
Снаряды взрывались пачками, сотрясая машину, в нескольких местах лопнула броня. Выбило переднюю часть башни, пушка повисла на исковерканных креплениях стволом вниз. Закопченная снарядная гильза взлетела как ракета и упала в снег рядом с нами.
– А командир там остался, – кивнул в сторону горящего танка старшина. – Не успели мы нашего лейтенанта вытащить.
Гибель машины и ее командира произвела на нас тягостное впечатление. Хотя нам не раз приходилось видеть сгоревшие танки, этот эпизод крепко врезался в память.
Если до этого мы зачастую ворчали на танкистов, которые, по нашему мнению, недостаточно активно поддерживали нас, то теперь изменили свой взгляд.
Вспомнили, как горели и взрывались машины, которые поддерживали пехоту в наступлении. А ведь нередко погибал весь экипаж, чтобы проложить пехотной роте дорогу и погасить пулеметные точки.
Быстрой победы не получалось. Финны дрались упорно. Большинству из нас и в голову не приходило, что мы ведем несправедливую войну. Да и не положено солдату размышлять, что верно, а что неверно. Получил приказ – выполняй его!
В опасной близости от Ленинграда находилась буржуазная страна, от которой, согласно советской пропаганде, можно было ожидать чего угодно. Нашей задачей являлось предотвратить опасность внезапного нападения. Что мы и делали, неся немалые потери, вторгнувшись на чужую землю.
Глава 2 Линия Маннергейма
Война с Финляндией продолжалась с 30 ноября 1939 года по 12 марта 1940 года. Получившая название Зимняя война, она не принесла Советскому Союзу славы. Наша страна, как агрессор, была исключена из Лиги Наций.
По данным, обнародованным в 90-х годах, Красная армия потеряла в этой короткой войне убитыми, умершими, пропавшими без вести 130 тысяч бойцов и командиров. Финны потеряли 25 тысяч человек убитыми и 45 тысяч ранеными.
Некоторые историки считают, что непродуманные операции нашей армии в Зимней войне, за ходом которой внимательно наблюдал Адольф Гитлер, привели его к выводу о слабости Красной армии, ее командования, и укрепили намерение напасть на Советский Союз.
Но, говоря о Зимней войне, следует отметить, что вооруженные конфликты редко возникают на пустом месте.
Осенью 1939 года, видя, как фашистская Германия упорно продвигается на восток, Советское правительство обратилось к Финляндии с предложениями обмена территориями, чтобы отодвинуть границу на Карельском перешейке, которая проходила в 30 километрах от Ленинграда и крупной военно-морской базы. Кроме того, выдвигались настойчивые требования отдать Советскому Союзу в долгосрочную аренду порт Ханко.
Если переговоры насчет Карельского перешейка имели какие-то перспективы, то отдать порт Ханко финны категорически отказывались. Он прикрывал вход в Финский залив и являлся важной стратегической точкой в обороне Финляндии.
Финская армия насчитывала всего 200 тысяч солдат и офицеров, слабую артиллерию, небольшое количество легких танков «Виккерс» и около 300 самолетов. Говоря об авиации, следует отметить, что малочисленные финские авиационные соединения сбили в воздушных боях около 200 советских самолетов, потеряв лишь 62 свои боевые машины.
Красная армия на 30 ноября 1939 года имела на границе с Финляндией и вблизи нее 2900 танков, три тысячи самолетов, а общая численность личного состава составляла около полумиллиона человек.
На «освобождение» Финляндии советским командованием отводилось три недели, и победоносный поход должен был закончиться до 21 декабря, ко дню рождения Сталина. Но упрямые финны испортили праздник.
Красная армия натолкнулась на стойкую оборону регулярных частей и ополченцев. Мы еще не дошли до знаменитой линии Маннергейма, главной оборонительной линии этой небольшой страны, но сразу почувствовали, что война легкой не будет.
Я уже дал описание одного из первых боев, в котором мне пришлось участвовать. Оценивая высокие боевые качества финской армии, я категорически не согласен с публикациями 90-х годов, когда некоторые военные историки и журналисты с плохо скрытым злорадством пытались показать, что Красная армия воевать не умела. Мол, наши командиры, запуганные сталинскими репрессиями, проявляли беспомощность, страх перед вышестоящим начальством, а полками и бригадами командовали вчерашние лейтенанты, не имевшие ни опыта, ни нормальной подготовки.
Это было не так, хотя какая-то часть истины в подобных утверждениях имеется. Но, вспоминая Зимнюю войну 1939–1940 годов, могу уверенно сказать, что воевали мы не так и плохо.
Главной ошибкой считаю, что наше командование не учло специфики будущей войны. Откуда взялось ложное убеждение, что финские солдаты побегут после первых залпов нашей артиллерии? Что они не желают воевать за свое «буржуазное» правительство и с нетерпением ждут прихода Советской власти?
Главнокомандующий финской армии Карл Маннергейм, опытный военачальник, трезво оценивающий ситуацию, хорошо понимал, что даже самая мощная оборонительная линия не спасет его страну. Любая крепость рано или поздно будет разрушена и взята врагом.
Маннергейм создал мощную оборонительную линию, названную его именем, шириной 130 километров и глубиной 90 километров. Но главную надежду он возлагал на своих солдат, офицеров, а также простых ополченцев. Моральный дух защитников страны был высок, они были твердо намерены сражаться, несмотря на явное превосходство Красной армии.
Компенсируя недостаток тяжелого вооружения, маршал Маннергейм сделал свою армию маневренной, способной наносить быстрые удары с тыла и флангов. Многочисленные лыжные батальоны, роты, просто отряды, хорошо знающие местность, воевали налегке, были хорошо вооружены и способны преодолевать десятки километров за считаные часы.
Я отвлекусь от общих фраз и расскажу лишь несколько эпизодов.
Наш батальон продвигался по зимней дороге. Впереди, как положено, шла разведка. Уставшие от долгого перехода роты растянулись километра на полтора.
Валенки – хорошая теплая обувь для зимы. Но если кому приходилось шагать в них долго, да еще и с оружием и грузом на плечах, тот знает, как утомляет эта ходьба. Кажется, что ноги отваливаются, и с нетерпением ждешь привала.
А груз я вам перечислю. Винтовка, 100–150 патронов, две-три гранаты, саперная лопатка, фляжка с водой, котелок, запасное белье, индивидуальный санитарный пакет и что-нибудь, навьюченное старшиной, из ротного имущества (коробка с пулеметной лентой, кусок брезента, кирка и т. д.) – повозок, как всегда, не хватало.
Время перевалило за полдень, люди устали, стихли разговоры. Кто-то поскользнулся на обледеневшей дороге, загремел котелок, винтовка упала в снег. Молодому бойцу помогли подняться, а старшина приказал:
– Прочистить ствол не забудь.
– Ладно…
– Не ладно, а сейчас же. Иначе первым же выстрелом разорвет.
Первого выстрела долго ждать не пришлось. Из овражка, метрах в ста пятидесяти от дороги, ударили сразу 5–6 автоматов и захлопали винтовки. Одновременно поднялась стрельба в голове колонны.
– Ложись! – крикнул наш ротный Григорий Чередник.
Обстрел батальона на марше всегда является неожиданностью, хотя за эти дни мы уже изучили повадки финских диверсионных отрядов. Внезапного удара можно ждать в любом месте.
Судя по всему, нас обстреливала группа численностью 15–20 человек. Что происходило впереди, мы не знали. Большинство красноармейцев залегли после первых же выстрелов. Щелкали затворы винтовок, сержант Антюфеев разворачивал свой «максим».
Спустя считаные минуты колонна огрызнулась ответным огнем. В нашей восьмой роте имелись два «максима» и несколько ручных пулеметов Дегтярева. «Максимы», ровесники Первой мировой войны, не считались тогда устаревшим оружием. Они имели хорошую прицельность, и финны предпочитали сразу уходить из-под их плотного огня.
Цепочка лыжников быстро скользила по заранее определенному маршруту, прячась за деревья и кустарник. Когда группа исчезла, оставив убитого лыжника, санитары доложили Череднику, что в роте погибли трое красноармейцев, несколько человек были ранены.
Самые большие потери понесла седьмая рота, идущая впереди. Их обстреляли из миномета. Кроме того, финны перегородили дорогу и обочины противопехотными минами, на которых подорвались двое бойцов и лейтенант, командир взвода.
Но и финские диверсанты угодили под пулеметный огонь. Попытались вынести своих убитых и раненых, образовалась толкучка. Командир седьмой роты и отделение разведчиков воспользовались суматохой, открыли прицельный огонь и уничтожили семь-восемь финских солдат во главе с офицером.
На сани спешно грузили раненых, их набралось более двадцати человек, и отправили под охраной в санчасть. Вскоре появился командир полка Павел Петрович Усольцев. Соскочив с коня, постоял возле погибших бойцов (их было одиннадцать).
– Теряем людей, – хриплым простуженным голосом проговорил он. – И не в наступлении, а на марше. Твоя вина, Ягупов.
Наш комбат молча стоял навытяжку.
– Ну, докладывай, как финны вам бока намяли.
Капитан, запинаясь, доложил о внезапном нападении.
– Внезапное, – с невеселой усмешкой проговорил Усольцев. – Внезапно только муж с командировки возвращается. А все остальное можно предусмотреть заранее. Почему именно на ваш третий батальон напали, а не на второй?
– Потому что мы последними шли, – угрюмо отозвался капитан. – Легче ударить и отойти. Но и мы отпор дали, девять «шуцкоровцев» положили.
– И своих бойцов больше тридцати потеряли.
– Война без жертв не бывает…
Временами мне казалось, что полковник Усольцев относился к командиру нашего третьего батальона предвзято. Хотя хорошо понимал, что мое мнение, молодого взводного лейтенанта, всего полгода назад закончившего училище, никто всерьез не примет.
А командир полка тем временем отрывисто перечислял ошибки, допущенные комбатом Борисом Ягуповым. Батальон отстал от других подразделений, растянулся на полтора километра, а это значит, ослабил свою боеспособность.
– По дороге плелись три роты, почти не связанные между собой, – не повышая тона, говорил полковник. – Пару часов назад помощник начальника штаба вам делал замечание, но вы мер не приняли. Наблюдение за флангами велось из рук вон безобразно. Отделение разведки сбилось в кучу и было наполовину уничтожено в первые же минуты боя. А надо ли было собирать их всех вместе? Часть разведчиков следовало рассредоточить на флангах, тогда мы бы избежали внезапного удара с двух сторон.
Ничего не скажешь, полковник Усольцев был прав. Теперь я видел наш батальон другими глазами. Молодой комбат Борис Ягупов, быстро продвигавшийся по служебной лестнице, нас, взводных, замечал, лишь когда мы допускали промахи.
За те месяцы, что он командовал батальоном, он ни разу «не опускался» до простого разговора со мной, как и с остальными взводными лейтенантами. Сейчас я невольно испытывал чувство удовлетворения, что высокомерный комбат получил заслуженную оценку. Нехорошее это чувство (что-то вроде злорадства), но я даже ожидал, что Ягупова снимут с батальона.
Однако комбат был оставлен на своей прежней должности. Уезжая, полковник даже приободрил Ягупова:
– Смотри веселее, капитан. За одного битого двух небитых дают. Не простая здесь обстановка, будь начеку и строже взыскивай со своих командиров.
С настоящими трудностями мы столкнулись, когда подступили к линии Маннергейма. Эти укрепления, практически перегораживающие весь Карельский перешеек, упирались своими флангами в Финский залив и Ладожское озеро. Строительство линии началось почти сразу же после обретения Финляндией независимости в 1918 году и продолжалось с перерывами до 1939 года. Десятки больших и малых дотов маскировались среди лесного массива, каменных уступов, огромных валунов. Каменистые гряды тянулись в разных направлениях, их пересекали речки. На перешейке было много озер.
Наряду с небольшими дотами постройки двадцатых годов позже были возведены более мощные доты. Все они отличались большой толщиной железобетонных стен (до 2 метров) и горизонтальных перекрытий.
Что представляла собой линия Маннергейма, можно судить по трехкилометровому участку между озером Сумма-Ярви и незамерзающим болотом Мунасуо.
На левом фланге возвышался мощный дот длиной 60 метров и шириной 12 метров. Вооружение гарнизона составляло три пушки и более десятка пулеметов. Полутораметровый бетонный потолок был усилен каменной насыпью в два человеческих роста. Помещение для гарнизона, склады боеприпасов и продовольствия располагались на десятиметровой глубине.
В километре от этого дота находилось второе укрепление с лобовой бронированной стеной толщиной полметра. На этом трехкилометровом участке находились еще два таких же мощных дота, а между ними 13 дзотов.
Подходы к дотам прикрывали противотанковые рвы, проволочные заграждения и многочисленные каменные надолбы. С тыла эту оборонительную систему защищала бетонная стена с амбразурами для пушек и пулеметов.
В период Зимней войны линия Маннергейма удерживала наступление Красной армии около двух месяцев. Наши войска несли огромные потери, проводя лобовые атаки. Многочисленные полевые пушки и даже гаубицы калибра 122 и 152 миллиметра не могли разрушить эту оборонительную систему.
Скажу прямо, если бы наш полк после первых боев бросили на штурм линии Маннергейма, он был бы уничтожен в считаные дни или недели.
Нам в какой-то степени повезло. Мы около месяца воевали на другом участке. Слово «повезло» можно смело взять в кавычки. В течение декабря мы испытали на себе, что такое не подготовленная толком война в лесистой, горной местности, среди болот и речек.
Декабрь 1939 года стал для меня школой, какую я не прошел бы и в самом лучшем военном училище. Вскоре перестали быть неожиданностью внезапные налеты лыжников или штурмовых пехотных групп, которые широко практиковали финны.
– Какая внезапность? – говорил ротный Козырев, прошедший пятнадцать лет службы. – Кто это слово выдумал? Глядеть надо в оба и схватывать привычки врага.
Кстати, вскоре старший лейтенант Козырев заменил комбата Ягупова. Вроде тот отморозил пальцы на ногах и был отправлен в санбат. Но, как мы понимали, это был лишь повод.
Тимофей Филиппович Козырев оказался куда более сильным командиром, чем капитан Ягупов (вскоре Козырев тоже получил капитанское звание).
Учитывая то, что мы постоянно действовали в лесистой местности, он обеспечил хорошую дозорную службу. На марше впереди батальона всегда шла группа из 5–7 разведчиков на лыжах с ручным пулеметом.
Разведчики по штатному расписанию в стрелковом батальоне предусмотрены не были, лишь при штабе полка имелся взвод пешей разведки. А между тем батальоны по штатам 1939 года насчитывали три стрелковых роты и пулеметно-минометную роту, всего 600–620 активных штыков, не считая вспомогательных подразделений.
Без хорошо налаженной разведки и дозоров в условиях карельских скал и лесов это была бы толпа – хорошая мишень для снайперов и замаскированных засад.
Пулеметно-минометная рота в нашем полку числилась лишь на бумаге. Минометов у нас не было, а «максимы» распределялись по батальонам. Какое-то количество этих надежных, но устаревших пулеметов держал в резерве командир полка.
Козырев через своих приятелей в службе снабжения дивизии обменял две повозки, которые постоянно вязли в снегу, на сани и установил на них «максимы». Это сразу дало результаты.
Разведчики в один из дней обнаружили впереди завал из спиленных елей. Приближаться не стали, а, высмотрев в бинокль засаду, открыли с трехсот метров огонь из «максима».
Финны, находившиеся в засадах, имели, как правило, легкое стрелковое оружие – автоматы, винтовки, иногда один-два ручных пулемета. И огонь открывали, подпустив наших бойцов на сто – сто пятьдесят шагов. На триста метров эффективность таких засад была невелика.
Между тем «максим» на своем тяжелом станке клал очереди в цель на пятьсот метров и дальше. Расчет Антюфеева, самый сильный не только в роте, но и в батальоне, прижал засаду к земле, а бойцы стали окружать финнов с двух сторон.
Им нельзя было отказать в решительности. Три десятка лыжников оборонялись отчаянно, но переоценили свои силы. Скорострельные автоматы «суоми», эффективные в ближнем бою, сыпали пули с большим разбросом. Ручной пулемет тоже не обеспечивал нужного эффекта.
Точные очереди «максима» пробивали древесные стволы, за которыми прятались финны, и выбивали стрелков одного за другим. Хорошие охотники и умелые лыжники, финские солдаты и ополченцы зачастую свысока воспринимали красноармейцев в их длиннополых, громоздких шинелях, с трудом преодолевающих сугробы.
Но чем сильны были наши взводы и роты, это – слаженностью и дисциплиной. Батальон нес потери от точных выстрелов снайперов, но упорно замыкал кольцо. Финская засада, порой наносящая нам немалые потери, сама оказалась в полукольце. А когда стала прорываться, угодила под очереди второго «максима» и дружный огонь сразу двух взводов.
Я видел, как финны пытались вывезти на волокушах своих раненых. Это упорство и самопожертвование внушало уважение. Командир финского взвода, держа на весу ручной пулемет, стрелял, укрываясь за сосновым стволом. У ручных пулеметов сильная отдача, и такая стрельба бесполезна, хотя подобные сцены часто можно видеть в военных фильмах.
Но реальный бой – это не кино. Финский лейтенант показал свою храбрость, не более. Хотя ему следовало командовать и спасать остатки взвода, который смешался и действовал разрозненно.
Очередь «максима» выбила древесное крошево, в разные стороны брызнули куски коры. Лейтенант выронил пулемет и, пригибаясь, заскользил прочь на своих коротких лыжах. Одна рука бессильно свисала, он что-то выкрикивал, затем свалился в снег.
Его подхватили двое солдат. Михаил Ходырев выстрелил, ранил одного из солдат и передернул затвор.
– Поздно, лопари хреновы. Все здесь останетесь.
Как и другие красноармейцы, сержант был обозлен потерей товарищей и постоянным холодом, который выматывал людей, – почти все мы страдали от цистита, обморожений, лопались губы.
Я стрелял из трофейного автомата, подаренного мне Михаилом. Кажется, подранил второго солдата. Из засады, ставшей ловушкой, сумела вырваться лишь половина диверсионного отряда. На месте боя мы насчитали четырнадцать финнов.
Один из них был еще жив. Он лежал окровавленный, с перебитой ногой. Когда к нему приблизился молодой младший лейтенант из девятой роты, финский сержант выстрелил в него из «парабеллума». Пуля вырвала клок кожи из полушубка, младший лейтенант застыл от неожиданности с наганом в руке.
Выстрелить второй раз у финна не хватило сил. Кто-то из бойцов добил его ударом штыка и протянул командиру «парабеллум»:
– Возьмите на память, товарищ лейтенант. Сегодня вы заново родились. С пяти шагов редко промахиваются.
Козырев не скрывал удовлетворения, что не дал развернуться вражеской засаде и уничтожил половину финского взвода. Усольцев скупо его похвалил и, глядя на разбросанные в снегу тела, проговорил:
– Это только начало. Тяжело нам даже мелкие успехи достаются.
Капитан Козырев, да и мы с Гришей Чередником не считали этот успех мелким, но благоразумно промолчали. В ходе боя погибли семь-восемь красноармейцев. Если бы мы не открыли огонь первыми, жертв было бы больше. Стычки с финнами, как правило, обходилось нам дорого.
Правоту нашего бывалого командира полка Усольцева мы поняли, когда подступили к укреплениям линии Маннергейма. Здесь полк хватанул в полной мере фунт лиха.
Говорят, что весной и летом здешние места исключительно живописны. Голубые озера, высокие ели и сосны на скалах, прозрачные горные ручьи. Даже хорошую лирическую песню сочинят:
Долго будет Карелия сниться, Будут сниться с этих пор Остроконечных елей ресницы Над голубыми глазами озер…Душевная песня. Хорошо ее петь у костра на берегу озера или речки. И мне часто снилась Карелия до сорок первого года, в хорошее теплое время я там ни разу не побывал. И воспоминания остались совсем другие.
В серый декабрьский день полк окапывался в сосновом лесу. Впрочем, «окапывался» – слишком громко сказано. Долбили мы каменистую промерзшую землю. Гнулись и ломались саперные лопатки. Одолеть промерзшую землю можно было лишь ломами и кирками, а обломками лопат, как совками, выгребали мерзлое крошево.
От тяжелой безостановочной работы стало жарко. Сбросили полушубки, шинели, телогрейки, оставшись в гимнастерках или даже в нательных рубашках.
Во время коротких перекуров оглядывались по сторонам. Земля была покрыта снегом, но все вокруг казалось серым и мрачным. Скалы с пучками бурого мха, холодное небо, сплошь затянутое облаками, и даже вода в незамерзающей речке казалась темной и густой, хотя, когда ее приносили в котелках, чтобы утолить жажду, она была совершенно прозрачная, родниковой чистоты.
Серой глыбой проглядывал крупный дот, с которого бомбежкой сорвало маскировку. Командиры рот во главе с комбатом Козыревым разглядывали его в бинокль. Там же находился командир гаубичной 122-миллиметровой батареи, приданной нашему батальону.
Меня, как и других взводных, на это совещание (или рекогносцировку) не приглашали. Наше дело телячье, закапывайся и жди команды. Мой вестовой Балакин Егор, накинув на гимнастерку, взмокшую от пота, свою прожженную у костров шинель, сворачивал самокрутку и рассуждал:
– Это хорошо, что гаубицы подвезли. Нашими полковыми «трехдюмовками» только ворон пугать. А у гаубиц снаряды двадцать два килограмма весом. Ударят крепко.
Я машинально кивнул, соглашаясь с ним, хотя на душе от всей этой беспросветной серости было муторно. Да и старые гаубицы образца 1909 года, короткоствольные, с деревянными тележными колесами, не казались мне таким уж грозным оружием. Говорят, толщина пушечных финских дотов полтора метра. Такую стену не просто проломить.
– Что из дома пишут? – спросил я Егора.
– Ждут, когда война кончится. Обещали одним могучим ударом с врагом покончить, а конца что-то не видно. Зато сколько уже людей погибшими да покалеченными потеряли.
– Ты поменьше на эту тему распространяйся, – посоветовал я Егору. – Сам знаешь, как за длинные языки люди страдают.
– Я вам, товарищ лейтенант, как своему рассказываю, о чем все думают.
– А ты сам не видишь? Не так все просто получается. Кто рассчитывал на такое упорное сопротивление!
– За свою землю они крепко драться будут. Упрямый народ, – не скрывая уважения к врагу, просто, по-крестьянски рассуждал Балакин.
Мы были с вестовым земляками. Сам себя он называл ординарцем. Балакин жил в небольшой деревне Проломиха, километрах в тринадцати от моего родного села Коржевка. Он пришел с недавним пополнением. Егору было лет тридцать, а в армию он не попал в свое время, так как работал на оборонном предприятии, лесозаводе, где поставляли для нужд армии добротные мачтовые сосны и деревянные брусья.
Егор был физически крепок, и как многие сильные люди, добродушен по характеру.
Его хотели поначалу поставить третьим номером в расчет «максима», но я забрал Егора вестовым, сославшись, что с четырьмя классами в пулеметчиках ему делать нечего. Взвод нередко растягивался в извилистую цепочку, и мне нужен был расторопный боец для связи с командиром роты и другими взводами.
Но главной причиной было то, что у Балакина было трое детей, и я хотел в какой-то степени обезопасить отца большого семейства, не имевшего военного опыта. Хотя и вестовые, и ординарцы нередко попадали под пули.
На следующий день мы начали штурм укреплений. Гаубичный дивизион (12 орудий) обрушил на финские позиции град снарядов. Артиллерийская подготовка длилась минут сорок. Вокруг гремело и ухало, пелена дыма застилала скалы и лес.
– Пушкари что-нибудь видят в этом дыму? – пробормотал Гриша Чередник, отрываясь от бинокля.
– Наверное, цели заранее пристреляны, – предположил я, – вчера вечером сколько-то снарядов выпустили.
– Да сделайте передышку! – с досадой сказал лейтенант. – Или они решили весь запас снарядов сразу выпустить.
Мы не были специалистами в артиллерийском деле, но эта торопливая стрельба по целям, утонувшим в дыму, доверия не внушала.
Комбат Козырев, обходя роты, напоминал командирам:
– Когда начнем атаку, ни в коем случае не останавливаться. Нас поддержат танки и полковая артиллерия.
Мы согласно кивали в ответ. За последнее время роты были пополнены до штатной численности. Мой взвод насчитывал пятьдесят два человека, а наша восьмая рота – сто шестьдесят.
Меня тревожило, что пришла слабо обученная молодежь и люди, призванные из запаса. Некоторым было лет под сорок, и они проходили службу в двадцатых годах. С тех пор многое изменилось. Но по крайней мере, они обладали хоть какими-то навыками, умели окапываться, хорошо знали наше основное оружие, трехлинейную винтовку Мосина.
Во взводе по-прежнему имелись два ручных пулемета Дегтярева и станковый «максим». Кроме того, мы получили на роту шесть автоматических винтовок Симонова (АВС-36), по две на каждый взвод.
По своим боевым качествам (по крайней мере, теоретически) винтовка выгодно отличалась от других образцов, в том числе «самозарядки» СВТ-38. У симоновской винтовки был емкий магазин на 15 патронов. Кроме того, она могла вести автоматический огонь. Упором служил штык, который втыкался в землю. В какой-то мере она могла служить как легкий ручной пулемет. Обе винтовки в моем взводе получили опытные сержанты, в том числе одну из них – Михаил Ходырев.
Перед штурмом нас неплохо снабдили гранатами. В основном РГД-33 и старыми осколочными гранатами системы Рдутловского образца 1914 года. Я бы предпочел более простые и более сильные «лимонки» Ф-1. Но они давали большой разброс осколков и для наступательного боя считались неподходящими.
Граната Рдутловского весила восемьсот граммов, и реально ее можно было использовать на расстоянии метров пятнадцати. Тяжеловатая для броска штука. Граната РГД-33, более легкая (600 граммов), была довольно сложной в обращении для неопытных бойцов.
Для броска требовалось вставить запал (их обычно носили отдельно), провернуть рукоятку, встряхнуть гранату и лишь затем бросать ее во врага. Бывалые солдаты умело пользовались этими довольно сильными гранатами. Новички, не прошедшие обучение, терялись, боялись встряхивать заряженные РГД-33 и порой швыряли их как камни.
В целом я бы сказал, что роты были неплохо вооружены, имели в достатке боеприпасов, и в тот декабрьский день я надеялся, что штурм первых укреплений пройдет успешно. Особенно после такой мощной артподготовки и при поддержке танков.
Местность перед укреплениями была в свое время очищена от деревьев и представляла бугристое поле, усеянное валунами, торчали сухие пни и редкая молодая поросль.
Мы наступали через лес, обходя укрепления с флангов. Ночью здесь поработали саперы, извлекли какое-то количество мин и растяжек. Поганая штука – растяжка. На тонкой проволоке, натянутой между деревьями, да еще утопленная в снегу, подвешена обычная ручная граната и несколько брусков тола в жестяной банке, набитой гайками, мелкими болтами, рублеными гвоздями.
Эта штука посильнее, чем противопехотная мина, и если бойцы идут кучно, взрыв и осколки могут убить, искалечить сразу несколько человек.
Иногда гранат подвешено несколько, обычно «лимонки». Заметить такую ловушку, если ее предварительно не обезвредили саперы, практически невозможно. Поэтому бойцы моего взвода шагают осторожно, глядя себе под ноги. Мы наступаем на правом фланге, а через поле идут два танка Т-26.
Первую сотню метров прошли в тишине, недоброй, зловещей, готовой внезапно обрушить на нас вой снарядов и пулеметные очереди. Словно обломанная ветка, сухо прозвучал одинокий выстрел. Шагах в двадцати от меня ворочался и стонал тяжелораненый пулеметчик. Это сработал снайпер.
Пуля ударила сержанту в грудь. Его торопливо перевязывали. Я спросил второго номера:
– Справишься один?
– Справлюсь. Но желательно бы помощника, диски нести. С таким грузом стрелять несподручно.
Помощника выделили, а раненого торопливо унесли в санчасть.
Этот одиночный выстрел стал слово сигналом. Бойцы, прижимаясь к соснам, открыли огонь из винтовок. Куда они стреляли, было непонятно, а продвижение замедлилось.
– Вперед! – кричали сержанты.
Взвод заторопился. Я подтолкнул в плечо молодого красноармейца, упорно не хотевшего выбираться из-за сосны, которая казалась ему надежным убежищем.
– Егор! Балакин! – позвал я вестового. – Не давай людям останавливаться.
Старший сержант Михаил Ходырев и несколько других командиров отделений вели взвод вперед. Я шел вдоль края просеки. Оба танка сопровождения обогнали нас и открыли огонь из пушек. Много ли было толку от стрельбы из «сорокапяток» по бетонному доту? Но в ответ полетели вражеские снаряды.
Неплохо разогнавшийся мой третий взвод вдруг выскочил на просеку. Финны не успели очистить ее от спиленных деревьев, а может, специально оставили – здесь было негде прятаться.
Люди на несколько секунд замерли. Кончился защищавший их лес, впереди был открытый участок, а за ним массивный дот. Этой бетонной глыбе досталось от гаубичных снарядов. Я видел щербины, закопченные пятна, а в одном месте снаряд отколол кусок бетона – он повис на арматурных прутьях.
– Не останавливаться! – размахивал пистолетом командир роты Григорий Чередник. – Пулеметчики, огонь!
Но огонь открыли финские пулеметы. Их было штук пять, и по крайней мере три из них МГ-08 с высокой точностью стрельбы. Оба танка, сопровождавшие наш батальон, отреагировали мгновенно. Скорострельные башенные «сорокапятки» посылали снаряд за снарядом, целясь в амбразуры.
Вести огонь на ходу малоэффективно. Одна из машин приостановилась, успела выстрелить раз-другой и, кажется, угодила в амбразуру. Но за уничтоженный финский пулемет пришлось заплатить дорогую цену. Из амбразуры в верхней части дота вырвался узкий язык пламени. Стреляла легкая пушка, наверное, 37-миллиметровка «бофорс», которые поставляла финнам Швеция. Малый калибр компенсировался высокой скоростью снаряда – 800 метров в секунду, который раскалялся до малинового свечения.
Я успел разглядеть при сумрачном зимнем свете мелькнувший огненный трассер, ударивший в лобовую часть Т-26. Наверно, он угодил в механика-водителя, пробив, как картонку, 15-миллиметровую броню.
Двигатель взревел, заглушая орудийные выстрелы второго танка, пулеметную стрельбу и сразу заглох. Из башенного люка выскочили двое танкистов, их догоняло пламя, разгоравшееся в машине, работающей на бензине.
Второй Т-26 дал задний ход. В его сторону вела огонь еще одна пушка, скорее всего трехдюймовая. При всей своей решительности финны не были опытными артиллеристами. Два снаряда врезались в мерзлую землю и отрикошетили, не задев Т-26. Машина уходила задним ходом к лесной полосе, продолжая вести огонь из пушки и обоих пулеметов.
Все это я наблюдал мельком, затем побежал к просеке, где за поваленными соснами прятался мой взвод. Бойцы вели огонь, стараясь не высовываться из-за деревьев. Пули свистели, звонко вонзались в мерзлую древесину, выбивали искры из каменистой земли и валунов.
Вместе с Егором Балакиным мы подбежали к месту, где скопилось десятка полтора красноармейцев.
– Не сбивайтесь в кучу. Накроют одним снарядом. Продвигаемся вперед.
Пока это было возможно. Сваленные деревья, защита от танков, спасали атакующих красноармейцев. Но плотный огонь пулеметов находил свои жертвы. Бежавший впереди сержант и один из бойцов упали одновременно. Красноармеец так и остался лежать, а более опытный сержант отполз за дерево.
Я сумел поднять десятка два бойцов, и мы продвинулись еще на полсотни метров. Нас неплохо прикрывал уцелевший танк и пулеметный расчет Захара Антюфеева. Но эти полсотни метров обошлись новыми убитыми и ранеными.
Замолчала после удачных попаданий одна, другая амбразура, но после короткой паузы возобновили огонь финские пулеметы.
«Трехдюймовка» из громоздкого дота достала Т-26, стрелявший из-за деревьев на краю просеки. Бронебойный снаряд врезался в сосну. Мерзлое дерево словно взорвалось от удара шестикилограммовой раскаленной болванки. В разные стороны брызнули дымящиеся куски древесины. Перебитая почти пополам, высокая сосна обрушилась на молодые деревья, а танк оказался на открытом пространстве.
Командир погнал машину под защиту растрескавшегося массивного камня. Второй снаряд (это был фугас) рванул в двух метрах от танка. Перебил гусеницу, смял скрепленные металлическим каркасом четыре небольших колеса и обездвижил машину.
Младший лейтенант упрямо разворачивал пушку в сторону дота, но следующий снаряд пробил башню, сорвав ее с погона. Успел выскочить лишь механик-водитель. Для десятитонного Т-26 с его тонкой броней попадание такого снаряда было смертельным.
Огонь охватил машину, взорвался боезапас, вскрыв броню. Сквозь трещину вырывался скрученный язык огня, на снег падали хлопья сажи. Почти одновременно вышел из строя наш станковый пулемет. Очередь финского МГ-08 пробила в нескольких местах кожух, из отверстий текла парящая на морозе вода, разогретая от быстрой стрельбы.
И все же наша рота медленно продвигалась вперед, как и весь батальон. Над нами висел приказ, нарушить который мы не имели права. Командиры рот, взводов и сержанты подталкивали бойцов, однако напор явно слабел.
Для успеха не хватало артиллерийской поддержки. Я видел, как снаряд «бофорса» угодил в станковый пулемет девятой роты и разбросал по снегу искореженные обломки. Два человека из расчета погибли.
Люди нервничали, некоторых охватил страх. Михаил Ходырев бегло стрелял из своей автоматической винтовки. Но я видел, что мой помощник, отличавшийся хладнокровием, сейчас с трудом владел собой.
Вместе с ним и еще пятью бойцами мы добежали до каменного валуна, наполовину вросшего в землю. Камень был размером с небольшой сарай, высотой чуть больше метра. Это было последнее укрытие перед финскими дотами, до которых оставалось метров сто двадцать.
Я понял, что дальше нам не продвинуться. В нашу сторону вели огонь два пулемета и полдесятка автоматов. Стоял непрерывный треск ударяющихся о камень пуль. Сверху сыпались мелкие каменные осколки, фырчали и свистели на все лады сплющенные пули.
Два снаряда, выпущенные противотанковой пушкой «бофорс», довольно точно взорвались на краю глыбы. Сноп осколков раскидало в разные стороны, а пучок каменного крошева ударил в снег в нескольких шагах от нас.
Мы невольно поджали ноги. Если финны пустят в ход минометы, то долго мы здесь не протянем. Я с тоской осознавал, что завел своих бойцов в ловушку. Если высунуться, то можно отчетливо увидеть амбразуры, но нам не дадут сделать и нескольких выстрелов.
Первый взвод во главе с Чередником вдруг поднялся и побежал, охватывая укрепления с фланга. Я понял, что старый товарищ пытается продолжить атаку и выручить меня. Гриша рассчитал верно. Внимание финнов было приковано к моему взводу, и ему удалось вместе с двумя десятками бойцов зацепиться за край каменистой гряды.
Сделал попытку прорваться к укреплениям и мой третий взвод. Как я понял, людей пытался поднять оставшийся без пулемета сержант Антюфеев. Но далеко они не продвинулись и снова залегли за сваленными деревьями. На снегу остался лежать убитый красноармеец. Другой уползал, волоча пробитую ногу. Рядом плясали фонтанчики мерзлой земли и снега. Через минуту он дернулся и застыл. Вокруг него парила на морозе растыкающаяся лужа крови.
Не иначе как от отчаяния я высунулся из-за камня и открыл огонь из автомата, целясь в ближнюю к нам амбразуру. Ответная пулеметная очередь прошла в метре от меня, выбивая искры из камней. Одна из пуль, отрикошетив, ударила в казенник автомата с такой силой, что я невольно выпустил его из рук.
В ту же секунду я почувствовал, как чьи-то руки тащат меня под защиту валуна, а пулеметная очередь крошит каменный уступ, раскидывая искры и острые осколки.
– Василий, ты чего под пули суешься? Взвод без командира оставить хочешь?
Надо мной склонилось лицо сержанта Ходырева. Приходя в себя, я сел, привалившись спиной к камню.
– Вот черт, автомат испортили, гады! – Кто-то нервно засмеялся в ответ, а я достал свой ТТ и передернул затвор. – Гранаты у всех есть?
– Есть, – откликнулись сразу несколько голосов. – Пусть попробуют сунуться!
Думаю, что нашу роту добили бы, а остальной батальон откатился с большими потерями назад, если бы не комбат Козырев. Он вернулся под пулями на командный пункт полка и убедил Усольцева поддержать гаубицами атаку.
– Восьмая рота в ста метрах от укреплений находится. Две другие роты тоже хорошо продвинулись. Надо срочно поддержать их.
– Твои роты наступают, а ты что в тылу делаешь? – усмехнулся комиссар полка Залевский. – От пуль прячешься или жаловаться прибежал?
Увидев, как побагровело лицо Козырева от незаслуженного обвинения, половник Усольцев сделал знак комиссару, чтобы тот помолчал.
– Твой участок, товарищ Козырев, у нас не один. Но две полковые «трехдюймовки» мы, пожалуй, сумеем выделить. Правда, снарядов в обрез. По десятку на ствол.
Опытный командир Козырев хорошо понимал, что две короткоствольные «полковушки» с прицельной дальностью четыреста метров в данной ситуации ничем не помогут.
– Нужны гаубицы, – упрямо мотал головой комбат. – И чем быстрее, тем лучше. Хотя бы десятка два снарядов, и роты сделают последний бросок.
Неизвестно, как повернулась бы ситуация. Гаубичный дивизион, поддерживающий полк, подчинялся своему начальству и не входил в штат нашего пехотного полка. Но Козырев рисковал не зря, проделав почти километровый путь под пулями и оставив в нарушение Устава свой батальон без командира.
На командном пункте полка находился заместитель командира дивизии, молодой полковник, примерно одних лет с капитаном Козыревым. Он внимательно оглядел комбата. Тот еще не пришел в себя от быстрого бега, рукав шинели был пробит осколком, на тыльной стороне ладони запеклась струйка крови.
– Больше никогда не вздумайте оставить свой батальон без командира, – сухо обронил полковник. – Если не хотите угодить под трибунал. Немедленно возвращайтесь к себе.
– А что с гаубицами?
– Мы поможем вам сделать рывок. Гаубичная батарея окажет поддержку. Но для вас обратного пути нет. Либо вы берете вражеские укрепления, либо…
– Так точно, – бросил ладонь к виску Козырев.
Четыре гаубицы с расстояния семисот метров после короткой пристрелки дали еще восемь залпов. Мощности их снарядов не хватило, чтобы разрушить доты или нанести им серьезные повреждения. Для этого требовался куда больший калибр, чем 122 миллиметра.
И не от большой доброты помог нам молодой полковник, замкомандира дивизии. Просто он оценил умелые действия комбата Козырева, который сумел продвинуть свои роты ближе всех к финским укреплениям. На остальных участках дела обстояли куда хуже.
Фугасные снаряды били в мощные лобовые стены дотов. Дым разрывов рассекали снопы искр от ударов тяжелых снарядов о крепкий железобетон. Он не поддавался. Нам помогло мастерство артиллеристов. Хотя гаубицы предназначены в основном для ведения навесного огня, но с расстояния семисот метров все четыре пушки имели возможность бить прямой наводкой.
Помогло и то, что финские специалисты считали сильной стороной своих бетонных дотов довольно большое количество амбразур. Они помогали обеспечить высокую плотность огня. Простреливались перекрестным огнем все подходы, но броневые заслонки не обеспечивали достаточно высокой степени защиты.
Один из снарядов проломил двухдюймовую заслонку и разбил скорострельную пушку «бофорс». От близких разрывов заклинило две заслонки на пулеметных амбразурах, получили контузии и были оглушены несколько расчетов.
Мы бросились в атаку (последний рывок!), когда еще не рассеялся дым сгоревшей взрывчатки. Это позволило приблизиться к укреплениям метров на пятьдесят. Но оседающую дымовую завесу уже прорезали трассы пулеметных и автоматных очередей.
Тройной ряд колючей проволоки был разорван во многих местах снарядами. Однако обрывки торчали повсюду, проволока сплелась в клубки, которые надо было обходить под огнем.
Этот участок обошелся батальону в десятки погибших и раненых бойцов. Те, кто замедлил бег или пытался найти укрытие от пуль, падали один за другим. У нас был только один выход: как можно быстрее достичь укреплений. На таком расстоянии спрятаться от сплошного потока пуль было невозможно.
В какой-то момент я с отчаянием подумал, что тоже останусь лежать среди поваленных столбов и цепляющихся за валенки обрывков проволоки.
– Ребята, только вперед!
Был ли толк в моих командах, которыми я глушил собственный страх и подбадривал своих бойцов? В нескольких шагах от меня осел на подломившихся ногах красноармеец. Пули пробили его насквозь, вырвав клочья шинели. Пулеметная очередь приближалась ко мне. Я пригнулся, бросился вперед и свалился, угодив ногой в проволочную петлю.
– Товарищ лейтенант!
Рядом залег мой вестовой Егор Балакин, а я разглядел пулеметчика, стрелявшего в меня. Он стоял в окопе и менял магазин своего ручного пулемета. Над бруствером виднелась его голова в немецкой каске и руки, вставляющие в паз массивный диск на сто патронов. Он нервничал, и нервничал старший сержант Ходырев, посылающий пулю за пулей из своей автоматической винтовки.
Финский солдат с лязгом отвел назад затвор (нас разделяли четыре десятка метров), а плечистый, длиннорукий красноармеец Балакин, встав на колени, швырнул гранату.
Я стрелял в финского пулеметчика из своего ТТ, не надеясь опередить его, но и погибать без боя, запутавшись в проволоке, тоже не хотел.
Граната, брошенная Балакиным, взорвалась с недолетом. Уклоняясь от осколков, пулеметчик пригнулся. Вестовой поднял облепленную снегом винтовку и дергал затвор, не сводя завороженного взгляда с пулеметного рыльца – с такого расстояния финн не промахнется.
Михаил Ходырев в разорванной о колючую проволоку шинели целился из своей автоматической винтовки в пулеметчика. Он послал две короткие очереди подряд, я отчетливо слышал сквозь треск выстрелов, как лязгает затвор, досылая очередной патрон из магазина в казенник.
И еще я услыхал характерный звук пули, пробивающей металл. Пуля оставила на каске хорошо различимое небольшое отверстие. Тяжелораненый пулеметчик сползал в окоп, продолжая цепляться за рукоятку. У Ходырева опустел магазин, он торопливо менял его на новый.
Мы с Балакиным стреляли, отгоняя от пулемета солдата, который пытался перехватить рукоятку.
– Щас я его гранатой, – выкрикнул кто-то из моих красноармейцев и, поднявшись в рост, швырнул РГД.
Она взорвалась в окопе, раскидав в стороны обоих солдат и подкинув вверх пулемет с расщепленным прикладом.
С помощью Балакина я торопливо выпутывался из колючей петли. Ходырев и остальные красноармейцы вели дружный огонь из винтовок. Плоский дот с разводами камуфляжной краски, похожий на притаившуюся черепаху, окутался гудящим пламенем – он угодил под струю огнемета.
Бойцы, покинув укрытия, бежали вперед. Наконец выпутавшись из колючки, я догнал их. Едва не на каждом метре лежали убитые и раненые красноармейцы.
Но рубеж был преодолен. Восьмая и девятая рота уже оказались в «мертвой зоне», недостижимой для огня из амбразур.
Часть из них были закрыты броневыми заслонками, из других продолжали стрелять.
В отверстия летели гранаты, бойцы карабкались вверх на крыши дотов и здесь в упор схватывались с защитниками укреплений. Один из красноармейцев достал завернутую в тряпки бутылку с горючей смесью. Бросить ее в люк не успел, его в упор застрелил унтер-офицер. Бутылка разбилась, но не загорелась, растекаясь по бетонной крыше.
Я дважды выстрелил в унтер-офицера и, отцепив от пояса «лимонку», швырнул ее в люк. Взрыв прозвучал глухо, где-то в глубине бетонного колодца.
Сапер поджег связку толовых шашек и крикнул нам:
– Уходите с крыши! Сейчас здесь все в огне будет.
Связка полетела в люк, а бутылка с горючей смесью воспламенила дот. Мы убегали от шипящего липкого пламени вместе с финнами. Внутри дота начали взрываться боеприпасы, вывернуло броневую заслонку, из прямоугольного отверстия вырвались языки огня.
Саперы взрывали и поджигали остальные доты. Финны отходили, огрызаясь винтовочными выстрелами и автоматными очередями. Из этого гарнизона их осталось совсем немного, но и мы несли потери.
Глядя на многочисленные тела погибших красноармейцев, я с тоской подумал, что вряд ли судьба сбережет меня в этой жестокой войне. Я собирал своих бойцов, мы перевязывали раненых. Я был оглушен сильным взрывом и плохо слышал.
Спустя несколько недель, в конце января, я получил тяжелое ранение и был отправлен в госпиталь. Кроме двух пуль, пробивших грудь и правую руку, я обморозил пальцы на ногах, которые долго заживали, причиняя боль не менее мучительную, чем раны.
В госпитале я как бы со стороны узнавал о событиях, происходящих на Зимней войне. После двух месяцев неудачных попыток прорыва линии Маннергейма было заменено командование фронтом, разработаны более эффективные методы.
В ход пустили восьмидюймовые гаубицы Б-4 калибра 203 миллиметра. Но даже стокилограммовые снаряды зачастую не могли пробить мощные доты. Взрывом бетонобойных снарядов глушили и выводили из строя гарнизоны укреплений, лишали их способности эффективно сопротивляться.
Авиация сбрасывали тяжелые бомбы, которые пробивали перекрытия и обрушивали доты. Из развалин и замаскированных люков выползали контуженные, оглушенные защитники укреплений с поднятыми руками.
Солдаты и их командиры сражались отчаянно, но, видя безнадежность сопротивления, сдавались в плен, рассчитывая на милость победителей. Они не хотели умирать.
Я не слышал ни об одном случае расстрела пленных. В бою мало кого щадили, но после боя сдавшихся не трогали и даже оказывали медицинскую помощь. Такова была специфика той войны.
Тогда же я узнал, что нам приходится сражаться с армией, которая была вооружена гораздо лучше, чем мы рассчитывали. Финляндия получила от Франции через посредников 170 самолетов, около пятисот тяжелых орудий и большое количество боеприпасов. Двести пушек и более 100 самолетов поступило из Англии. Наши «добрые друзья» англичане не поскупились и передали Маннергейму десять тысяч противотанковых мин и 18 тысяч авиабомб, в основном крупного калибра.
Так что не такой простой была эта недолгая война, которая дорого нам обошлась. В марте 1940 года, увидев, что наступление Красной армии успешно развивается, финское правительство пошло на подписание мира. Оно согласилось отодвинуть границу с Советским Союзом на Карельском перешейке и передать нашей стране в аренду на 30 лет полуостров Ханко с прилегающими островами.
И вопрос здесь стоял не только в территории, которая была не слишком велика. Можно по-разному оценивать Зимнюю войну, но мы сумели значительно укрепить наши северо-западные границы и обезопасить от внезапного удара Ленинград.
Я был награжден медалью «За боевые заслуги». Григорий Чередник получил орден Красной Звезды.
И еще одна маленькая подробность. Когда я выписывался из госпиталя, со мной провел беседу комиссар. Он пожелал хорошо отдохнуть (я получил двухмесячный отпуск), похвалил «за умелое командование и личную храбрость» и деликатно посоветовал не вести лишних разговоров о наших потерях в войне, возможных ошибках. Больше пропагандировать отвагу красноармейцев и преданность присяге.
Я молча кивнул. Сейчас я хотел только одного – быстрее вернуться домой и провести эти два месяца с родными.
Глава 3 Между двумя войнами
Я родился 11 апреля 1918 года в селе Коржевка Инзенского района, в 45 километрах от небольшого уездного городка и станции Инза. До областного центра – Ульяновска – 140 километров. Кто-то скажет: «Глухое место!» Может, оно и так. До железнодорожной станции целый день добираться надо. А весной, в распутицу, по нашему раскисшему проселку лучше вообще не соваться – липкий чернозем и талые ручьи между холмами.
Впрочем, я свою Коржевку глушью не считал, а город меня не интересовал. Село располагалось среди лесов, рядом река Сура. Огромные сосны, березовые рощи, много грибов, ягод, росли орехи.
Поляны среди деревьев в июне – июле усыпаны земляникой. Она поменьше городской, садовой, но запах и вкус совсем другой. В избу лукошко с земляникой внесешь, запах такой, что слюнки текут.
Помню, что сахара постоянно не хватало. Мама насыпала собранную землянику в большое глиняное блюдо, часть ягод давила ложкой и наливала молоко. Получалась такая вкуснятина, что мы оторваться не могли, всей семьей хлебали, пока блюдо не опустеет. Избалованы мы не были, время не слишком сытное.
Семья, как и большинство других в тогдашних селах, была у нас не маленькая. Пятеро детей. Старшая сестра Катя, затем я, брат Федя и две маленьких сестренки. Из довоенных событий наибольший след оставила во мне коллективизация, которая началась весной 1929 года.
Не берусь судить, насколько необходима была эта мера, но проводилась она, как и многое в стране, поспешно, под сильным давлением властей, с криками, перебранкой… и слезами. Крестьян поделили на две категории: середняки и бедняки. Насчет кулаков скажу, что их у нас почти не было.
Выселили из кирпичного дома одну зажиточную семью и увезли на станцию под охраной милиционеров и активистов. Ходили слухи, что у них обнаружили крупную сумму денег и золотые царские монеты. Позже объявили кулаками или подкулачниками еще одну семью, которая упорно не хотела вступать в колхоз. Их тоже куда-то выселили, отобрав почти все, кроме одежды и домашнего скарба.
Скажу прямо, что в колхоз люди шли с большой неохотой. Особенно крепкие работящие крестьяне, которых причисляли к середнякам. Такие семьи жили и питались неплохо, за счет постоянного упорного труда всей семьей. Те, кто победнее, завидовали им, злословили. Не хотели видеть, что это относительное благополучие дается нелегким трудом.
Помню, забегала к нам соседка попросить в долг то соли, то спичек или постного масла полстакана. Принюхается и давай жаловаться: вот, мол, вы хлеба вволю едите, а у нас мука давно кончилась и рожь на мельницу не на чем отвезти. На самом деле с хлебом было много возни, и ленивые хозяйки не любили возиться с выпечкой, не спать ночью.
Мама очень не хотела вступать в колхоз, до слез жалела нашу корову, которую надо было сдавать в общественное стадо.
Мой отец Николай Афанасьевич был хорошим строителем. С весны до осени ездил с небольшой бригадой по окрестностям селам и районам, строил дома, амбары, помещения для скота. При этом он успевал вести и собственное немалое хозяйство, тут уж работали мы все, начиная лет с десяти. Каждый получал задание, исходя из возраста и своих возможностей.
Но если мама наотрез отказывалась от вступления в колхоз, то отец, грамотный и рассудительный человек, понял, что деваться некуда. Грозили отобрать приусадебный участок, лишить права пользоваться сенокосными угодьями. А могли и выселить к черту на кулички.
Мне было одиннадцать лет, я учился в третьем классе. Разговоры о колхозе, брожение в селе, ругань между соседями прошли как-то краем, человек ко всему приспосабливается. Мама стала работать на ферме, отца назначили бригадиром строителей. Жить стали похуже, но мы и до этого большого достатка не имели. Помню, меня удивила первая «колхозная зарплата», то бишь плата за трудодни, положенная за сезон отцу и матери.
На большом куске брезента возле амбара стояли мешка четыре немолотой ржи, гороха, ячменя, которые мы долго очищали от мусора и остяков.
Прожить на эти трудодни было невозможно. Тем более рожь еще требовалось везти на мельницу и отдать какую-то часть за помол.
Нас выручала картошка, чем славится Ульяновская область. Каждую весну вспахивали плугом огород и собирали неплохой урожай хорошей картошки. Выращивали тыквы, огурцы. В лесу собирали грибы, варили из них суп с пшеном и сушили на зиму.
Как правило, в сентябре солили грузди. Тщательно мыли их, перекладывали смородиновыми листьями, и грузди квасились в погребе месяца полтора. Ели их с луком, добавляя немного подсолнечного масла. Картошка, грибы, слегка подслащенный чай – чем не ужин? Держали десятка полтора кур, иногда выращивали уток.
Хлеб пекли в русской печи, большие ржаные ковриги. Запах печеного хлеба остался в памяти, ели его с удовольствием. Мясо бывало лишь по праздникам, осенью или зимой. В остальное время его заменяли все те же грибы или яйца.
Я увлекался рыбалкой. На Суре вместе с братом Федей и соседскими ребятами ловили удочками небольших голавлей, пескарей, подлещиков. Но чтобы рыбачить всерьез, требовалось время, а его у меня не было. Лет с тринадцати я активно работал в домашнем хозяйстве, летом подрабатывал на колхозном току или в бригаде отца.
И мать и отец хотели, чтобы я закончил семилетку. Во многих семьях считали, что пять-шесть классов вполне достаточно. Тем более в школу в те годы начинали ходить с восьми лет. А в селе лет с четырнадцати, и даже раньше, начинали трудиться наравне со взрослыми.
Учился я неплохо, в основном на «хорошо». Отличные оценки имел по физкультуре, географии, истории. Хотя роста я был не слишком большого, но работа по хозяйству хорошо развивала мышцы. Зимой любил ходить на лыжах. Читал довольно много. В детстве мне нравился Жюль Верн, Майн Рид, позже с удовольствием читал Чехова, Станюковича, Бориса Лавренева (один из моих любимых писателей) и других авторов.
В пятнадцать лет я окончил семилетку и вступил в колхоз. Хотел работать строителем вместе с отцом, но требовались подсобники в колхозной конюшне, куда меня и определили.
Какие события вспоминаются в те годы? В село часто приезжала кинопередвижка. Я посмотрел знаменитого «Чапаева», «Путевку в жизнь», «Веселые ребята». Любовь к кино, так же как и к книгам, сохранилась во мне до преклонных лет.
В 1934 году у нас в библиотеке появилась недавно вышедшая книга Николая Островского «Как закалялась сталь». Она меня буквально потрясла. Я видел себя в образе Павки Корчагина, сражался с белогвардейцами, строил какую-то очень важную для страны железную дорогу. Тогда же я сделал попытку вступить в комсомол.
Мне отказали как выходцу из семьи середняков, которые ставят выше всего личное благо. Припомнили, как неохотно вступала в колхоз наша семья.
– Павка Корчагин таким не был, – подвел итог наш секретарь Анатолий Бондарь. – Прояви себя, Гладков, покажи, что ты предан делу партии и комсомола. Тогда посмотрим.
– Где я себя проявлю? – огрызнулся я. – На конюшне, что ли?
– Трудись, умножай колхозное добро. Принимай участие в общественной жизни. А пока ты еще не созрел.
Я ушел с собрания расстроенный дальше некуда. Дело в том, что уже в то время я подумывал о поступлении в военное училище. Но сына крестьянина-середняка, да еще и не комсомольца, вряд ли туда примут. «Ну и черт с вами, проживу и так», – злился я на Бондаря и его приспешников.
Но вскоре все изменилось. Меня перевели в строительную бригаду, а моя старшая сестра Катя, закончив педагогическое училище в городе Корсун, стала работать учительницей начальных классов. Передовиком я не был и вперед не лез, но свою работу старался делать на совесть, как нас приучил отец. Да и не хотел его подводить, ведь я трудился под его началом.
В комсомол я вступать больше не пытался. Тем более на танцах поссорился с комсомольским вожаком Бондарем из-за девушки, Зины Матюшиной. Не сказать, что у нас была большая любовь, но она мне нравилась, я ее провожал домой, мы целовались. А о чем-то более серьезном я и думать в семнадцать лет не мог. Вернее, думать-то думал, но нравы были другие. Не скажу, что довоенное село жило как монастырь. Были у нас и молодые вдовы, и девушки, которые жили с парнями. Бабки им косточки перемывали, осуждали, но этим дело и ограничивалось. Жизнь есть жизнь, всякое бывает.
Зина была о себе высокого мнения, хорошо одевалась, а со мной встречалась, словно делала одолжение. Может, потому что со мной можно было поговорить о книгах, кино, и парень я был не из последних. Физически крепкий, мог за себя постоять и отшить соперника.
Но спустя какое-то время я Зине, видимо, надоел, и она стала встречаться с Анатолием Бондарем. Из-за этого мы едва не подрались, но комсомольский секретарь сделал вид, что он выше всяких склок. Думаю, на самом деле он меня просто боялся.
А в комсомол я вступил с помощью Кати. Вернее, с помощью ее подруги Киры Мельниковой. Они учились вместе в педагогическом училище, но Киру выдвинули на работу в райком комсомола.
Как инструктор, она ездила по селам, проводила собрания, проверяла работу комсомольских ячеек. Приехав в Коржевку, она осталась ночевать в нашем доме. Стройная, короткостриженая, в потертой кожаной тужурке, она сразу мне понравилась. Кира была на два года старше меня, но я почувствовал в ее взгляде интерес.
За ужином она рассказывала нам новости, шутила, а я порой ловил ее взгляд. Помню, что это было ранней весной тридцать шестого года, мне исполнилось в апреле восемнадцать лет. Она поинтересовалась, состою ли я в комсомоле.
– Не достоин, – резко ответил я.
– Это почему? – не обращая внимания на мой тон, поинтересовалась Кира.
Я рассказал свою историю. Отец, более мудрый, перебил меня:
– Какие середняки-бедняки! Из-за девки они с вашим секретарем сцепились. Та девка уже замужем, ребенка родила. Дело прошлое, а Бондарь все забыть не может.
Мне показалось, что Кира, узнав, что я давно не встречаюсь с Зиной (и вообще ни с кем не встречаюсь, так как работы много), поглядела на меня более внимательно и решительно заявила:
– Такие отсталые взгляды противоречат линии партии и комсомола. Я переговорю завтра с парторгом.
После ужина Кира попросила меня показать Коржевку. Весна уже подступала, но к вечеру хорошо подмораживало. Мне было приятно пройтись с симпатичной девушкой, да еще и «городской». Но я знал нравы нашего села. Завтра будут сплетничать и нести что на ум взбредет. Затея прогуляться вместе уже не казалась мне столь привлекательной.
И действительно, все встречные здоровались, провожали нас мнозначительными взглядами. Кира приветливо здоровалась в ответ, держалась непринужденно, видно, что она привыкла общаться с людьми. Заметив мое смущение, Кира засмеялась:
– Боишься, что невеста заревнует?
– Нет у меня никакой невесты, – мой ответ прозвучал поспешно и как-то бурчливо.
– Почему? Парень ты видный, мышцы вон какие.
Она слегка сжала мою руку выше локтя. Какое-то время мы шли как бы под руку. Я осторожно освободил руку. Так у нас ходили женихи с невестами, молодожены. Кира поняла мое смущение и перевела разговор на другую тему. Мы болтали о всякой всячине, я понемногу оттаивал.
– Дальше учиться не собираешься? – спросила она.
Не скрывая, я рассказал о своей мечте поступить в военное училище, но здесь наверняка станет препятствием моя анкета. Мало того, что из семьи крестьянина-середняка, да еще и не комсомолец.
– Ваш Бондарь живет отсталыми понятиями, – возмущенно сказала Кира. – Еще товарищ Ленин говорил, что нам необходим крепкий союз с крестьянином-середняком. Сейчас ты никакой не середняк, а колхозный пролетарий. Ты ведь строителем работаешь?
При свете луны я отчетливо видел лицо Киры. Она была хороша, особенно когда разгорячилась. Красивые губы, короткостриженые каштановые волосы, вязаный берет и эта кожаная «комиссарская» куртка.
Когда заходили в калитку, получилось, что я пропустил Киру вперед, но она задержалась, и мы оказались друг к другу вплотную, лицом к лицу. Я замешкался, Кира тоже. Я чувствовал ее дыхание и вдруг неожиданно для себя поцеловал ее в щеку.
– Тогда уж лучше в губы, – хрипло проговорила девушка и прижалась ко мне.
Со стороны это выглядело бы нелепо. Мы целовались, торопясь захлопнуть за собой калитку, – не дай бог кто увидит. Рядом прыгал наш дворовый пес. Заскрипели двери в сенях, и мы отпрянули друг от друга.
– Прогулялись? – спросила сестра Катя. – Холодно небось. Вон ветром как надуло, лица красные у обоих. Чай пойдем пить.
На следующий день инструктор райкома комсомола Кира Мельникова уехала на попутной подводе в другое село. Мы увиделись лишь мельком, я уходил на работу рано. Перекинулись несколькими ничего не значащими словами и попрощались, будто ничего и не было.
А меня и еще двух-трех парней из числа строителей и тракторной бригады пригласили на срочно созванное комсомольское собрание. Пришел даже секретарь парткома и выговорил нашему «главному комсомольцу» Бондарю, что он мало уделяет внимания сельскому пролетариату.
– Сегодня Василий Гладков коровники строит, а завтра Днепрогэс возводить будет. А Захар Давыдов? Лучший слесарь в тракторной бригаде. Что, не достоин быть в комсомоле?
Бондарь побаивался секретаря парткома. Кроме того, до него дошел слух, что меня поддерживает райком комсомола. Вопрос с приемом меня и других ребят решился быстро.
С Кирой мы встретились снова спустя месяц, когда она привезла в село кандидатские карточки. Но общение наше было скованное, Кира опасалась сплетен, и я ее понимал.
В том году мне не удалось поступить в училище. Я слишком поздно подал документы. Проходил в Инзе медицинскую комиссию, какие-то проверки и собеседования, и в конце концов получил ответ, что я зачислен в резерв, буду направлен на учебу, как только представится возможность.
Зато мы почти каждый день встречались с Кирой. Она занимала комнату в доме для приезжих при Горсовете. Иногда я даже оставался у нее ночевать. Уезжая в Коржевку, я предложил Кире пожениться. В ответ она невесело улыбнулась:
– Не надо пока об этом. Тебе всего восемнадцать лет.
– Ну и что? Я работаю, и родители против не будут.
– Сомневаюсь, – покачала она головой. – Кроме того, я собираюсь учиться.
Была ли между нами любовь, о которой часто пишут в книгах? Я нравился Кире, а она стала первой женщиной в моей жизни. Казалось, что больше мне никого не надо. Мы устроимся у нас в селе, а если Кира не захочет, я поеду в Инзу. При этом я не задумывался, что накрепко привязан к колхозу. У меня даже паспорта не было, а из документов имелась лишь кандидатская карточка КИМ (Коммунистического интернационала молодежи) и удостоверение о сдаче норм ГТО.
Летом Кира уехала в Саратов и поступила в университет, прислав мне короткое письмо. Больше писем я от нее не получал, ответы на мои письма не приходили. Я переживал разлуку и однажды даже крепко выпил.
Вообще алкоголь я практически не употреблял. Да и в селе до войны выпивали мало. Выходные дни выпадали лишь поздней осенью и зимой, плюс работа по хозяйству. Чаще ограничивалось бражкой, настоянной на красной смородине. На свадьбу или какие-то важные события гнали самогон (его называли «перегонка»). Водку покупали редко – дорого. Ведь денег в колхозе мы не получали.
Отец за ту выпивку мне нотаций не читал, но неодобрительно покачал головой и сказал:
– Как Петя-дурачок хочешь быть?
Был у нас такой никчемный мужик, шатался без дела, выпрашивал выпивку и жил бобылем в полуразваленной избе.
– Больше не повторится, – пообещал я.
В мае 1937-го я получил повестку из военкомата, снова прошел медкомиссию и был направлен в Буйнакское военное училище. Вообще-то я просился в Саратов, зная, что там имеются несколько училищ.
– Саратов же ближе, – наивно сказал я, не желая раскрывать главную причину своей просьбы: остаться ближе к Кире Мельниковой.
– А что такое приказ, ты еще не знаешь? – жестко проговорил военком. – Пришли запросы из Буйнакского училища. Через день-два отправим вас. Молодец, что в дорогу нормально собрался.
Он оглядел мои старые, но еще крепкие башмаки, вещмешок с едой и запасным бельем.
В тот день я узнал, что город Буйнакск (бывший Темир-Хан-Шура) назван так в честь участника борьбы за советскую власть в Дагестане Уллубия Буйнакского, погибшего в 1919 году, и расположен в 40 километрах от Махачкалы.
Далеко от дома! У меня сразу и настроение испортилось. Я рассчитывал, что буду учиться где-нибудь поближе. Один из будущих курсантов сказал:
– Дагестан – это еще ничего. Могли отправить в Томск или Хабаровск. Япошки по-прежнему шебуршатся, там крепкую группировку сколачивают, особенно после ареста генералов-предателей.
Он имел в виду маршалов Тухачевского, Якира и других, обвиненных в заговоре и расстрелянных. Я в ответ промолчал. Что я мог знать, проживая в сельской глубинке? А отец меня еще с детства отучил болтать языком, если в чем-то не разбираешься.
До Буйнакска добирались четыре дня. Оказалось, что мы приехали рано, занятия еще не начались. Группу будущих курсантов использовали на строительных и земляных работах. Кому-то это не нравилось, но для меня труд был привычным делом.
Нам выдали временно старую военную форму. Начальник училища не терпел, когда на территории болтаются «всякие штатские». Работали по восемь-девять часов, кормили нас хорошо – мясо было каждый день. Правда, в основном мясо буйвола, а по утрам – сливочное масло, каша и горячий сладкий чай.
Главное, мы постепенно втягивались в военную службу. Я познакомился со своим будущим командиром взвода лейтенантом Шишкиным. Было ему лет тридцать, добродушное лицо и очень спокойный характер.
Так как я был неплохим строителем, Шишкин меня выделял и назначил кем-то вроде бригадира. Иногда меня отпускали в город, выдавая каждый раз заверенный печатью пропуск. Помню местный базар, который ломился от обилия фруктов и овощей. Денег у меня было немного, но хватало, чтобы попробовать очень сладкий виноград, абрикосы, черешню.
Попробовал я и местное вино. Наскреб мелочи на стакан, а вторым стаканом меня угостил хозяин, дав на закуску твердый, но вкусный рассыпчатый чурек. Я поблагодарил его. Еще меня хотели угостить какие-то бородатые мужчины, но я отказался и поспешно вышел из подвальчика.
Несмотря на «полную победу советской власти», в горах скрывались люди, настроенные враждебно к новой власти. Не скажу, что там постоянно велась какая-то война, но нас предупреждали, чтобы мы не шатались по окраинам.
Первого сентября началась учеба. Третий батальон, в который я попал, представлял собой целый городок со своим штабом, хозяйством, столовой. Я был зачислен во взвод лейтенанта Шишкина, в первую роту. Новой формы на всех не хватало, но мне достался вполне приличный комплект обмундирования, крепкие сапоги и суконный шлем-буденовка с большой красной звездой.
Запомнилось, что будил нас не дежурный по роте, а ишак, который заводил свою «песню», словно знал, что нам скоро вставать. Это сразу настраивало на веселый лад, хотя некоторые ребята бурчали, что им не дали доспать пять-десять минут.
Подъем был в шесть часов утра (летом в 5.30), зарядка и обязательный стрелковый тренаж 20 минут. Не знаю, был ли такой порядок в других училищах, но тренаж запомнился мне особенно.
С первых дней нас приучали к оружию, чтобы винтовками мы владели, как портной своей иглой. За 3–4 секунды требовалось сдернуть винтовку с плеча, дослать в ствол холостой патрон, прицелиться и «выстрелить» в цель. Поначалу мне казалось это невозможным, но тренировки делали свое дело, и я укладывался в положенные три секунды.
После завтрака на шесть часов уходили быстрым шагом (или бегом) в горы. С полной выкладкой: винтовка, противогаз, подсумки, учебные гранаты, фляжка с водой и шинельная скатка. На месте занимались тактической подготовкой, ходили в атаку, рыли окопы, оборонялись.
Я подружился со многими ребятами, но ближе всех сошелся с Гришей Чередником из поселка Яблоневый Овраг, который расположен в живописных Жигулевских горах на берегу Волги. Гриша не отличался особой физической силой, но был образован, окончил десятилетку, проучился один курс в институте. Наши двухъярусные койки стояли рядом, и мы быстро подружились.
Немного отвлекаясь от темы учебы, скажу, что у обоих неудачно сложилась первая любовь. Я больше года не имел никаких вестей от Киры Мельниковой, позже сестра Катя написала мне, что она вышла замуж.
Гриша встречался со своей однокурсницей, но когда он уехал в училище, получил одно-другое письмо, и его подружка замолчала. Нашла кого-то другого.
Теперь снова об учебе. После обеда нам давали час на сон, и начинались теоретические дисциплины: уставы, связь, химзащита, строевая подготовка. Много внимания уделялось штыковому бою.
В ходу была знаменитая суворовская поговорка: «Пуля – дура, а штык молодец». Несмотря на то что отношения с Германией были в то время более-менее нормальные, мало кто сомневался, что нам придется рано или поздно столкнуться с германским фашизмом.
«Немец штыка боится!» – часто приходилось слышать. Поэтому занимался с азартом.
Тренировались, разбившись на пары, постигая разные хитрости, или кололи соломенные чучела. «Коротким коли! Длинным коли!» Только клочья от чучел летели. Умелое владение штыком в будущем мне не раз спасало жизнь.
Но время штыковых атак и поединков уходило в прошлое – армии всех развитых стран все более насыщались автоматическим оружием. Например, стрелковый полк Красной армии по штатам 1939 года (2900 бойцов и командиров) имел на вооружении 58 станковых пулеметов «максим» и 80 ручных пулеметов Дегтярева.
В армии Германии в пехотном полку имелось 26 станковых пулеметов и 85 – легких. Но к легким пулеметам немцы относили и новые мощные «машингеверы» МГ-34 со сменными стволами и металлической патронной лентой. Они значительно превосходили наши Дегтяревы и могли состязаться с «максимами».
Следует отметить, что в немецких полках в тот период состояло на вооружении довольно много устаревших станковых пулеметов МГ-08, (похожие на наши «максимы») и ручных пулеметов МГ-08/15 «Шпандау», массой около 15 килограммов, громоздких и не слишком удобных в маневренном бою.
Кроме того, немецкие пехотные роты (особенно штурмовые) имели на вооружении пистолеты-пулеметы. Кроме устаревших автоматов системы Гуго Шмайссера, применявшихся еще в Первой мировой войне, они имели на вооружении австрийские пистолеты-пулеметы Бергмана. А с 1938 года, после выпуска пистолета-пулемета МП-38 (затем МП-40), это оружие стало поступать в войска массово.
У нас к пистолетам-пулеметам отношение высшего командования сложилось довольно прохладное. Было выпущено около пяти тысяч автоматов ППД-34 системы Дегтярева, но почти все они осели на складах. Хотя пограничные войска были неплохо обеспечены автоматическим оружием, и в том числе американскими пистолетами-пулеметами «Томпсон».
Позже, в ходе войны с Финляндией, отношение к этому оружию изменится.
В нашем училище неплохо была организована огневая подготовка, которая проводилась три раза в неделю. До стрельбища добирались только бегом – восемь километров туда, столько же обратно. В месяц после первых недель теории выпускали по мишеням до сотни патронов. Кроме винтовок стреляли из ручного пулемета Дегтярева. Сотня патронов в месяц – это нормальное количество для хорошей тренировки. Тем более стреляли с разных расстояний, по разным мишеням, в том числе двигающимся.
Целая наука была овладеть ручным пулеметом. Лейтенант Шишкин, опытный командир, учил нас плотно вдавливать сошки Дегтярева в землю, а приклад крепко прижимать к плечу. Отдача при очередях в 5–7 выстрелов была сильная. Не удержишь пулемет как следует, пули уходят вразброс. Длинными очередями, которые эффектно смотрятся в кинофильмах, Шишкин стрелять запрещал.
– Это вам не коса, чтобы траву скашивать, – говорил лейтенант. – В цель попадут лишь первые пули. Остальные в «молоко» уйдут, да и перегревается «Дегтярев» быстро.
Подготовка в училище была разносторонняя. Могу с уверенностью сказать, что большинство лейтенантов-выпускников не уступали финским или немецким лейтенантам. Навыки, полученные в Буйнакском училище, помогли мне пройти две войны и выжить, будучи почти все время на передовой. Хотя имелись и недоработки, которые мы постигали уже в ходе боев, что называется, на собственной шкуре.
Достаточно сказать, что мы были просто ошеломлены, когда впервые столкнулись на Финской войне в ближнем бою с огнем едва не в упор сразу нескольких автоматов. Они выбивали брешь в наступающей цепи.
Во избежание несчастных случаев мало проводилось занятий по метанию боевых гранат. Не были мы готовы к оборонительным боям и правильному отступлению. Рассчитывали на скорую победу над любым врагом, на лихие танковые и штыковые атаки.
Одним из главных недостатков считаю, что мы пренебрегали таким видом артиллерии, как минометы. Маршал Григорий Кулик, который длительное время командовал артиллерией Красной армии, не относился всерьез к минометам.
Труба какая-то на ножках и бьет всего на три километра, то ли дело орудия, особенно большого калибра – ударят так ударят! И Финская и Отечественная войны внесли свои коррективы. По оценкам специалистов, в Отечественную войну мы несли в боях до 30 % потерь от минометного огня. Несмотря на недальновидность маршала Кулика, минометы на вооружение Красной армии все же вводились, но происходило это медленно. Опыт Финской войны заставил пересмотреть отношение к минометам.
В училище было несколько легких танков БТ-2, Т-26 и БТ-7. Танк БТ-2 к тому времени уже устарел, он имел броню 10–13 миллиметров и 37-миллимитровую пушку. Выпуск их был уже прекращен, но в качестве учебных машин они вполне подходили. У нас был специальный предмет Автобронетанковое дело (АТБ), мы учились вождению танков. Не скажу, что из нас получились классные механики-водители, но в случае нужды мы могли сесть за рычаги. Прошли также краткий курс артиллерийской подготовки, изучали и стреляли из танковых 37– и 45-миллиметровых пушек. Мне эти навыки позже пригодились.
Особенную гордость у нас вызывал танк БТ-7. Он имел более современную обтекаемую форму, мощный двигатель 400 лошадиных сил, башенную пушку калибра 45 миллиметров и обладал скоростью более пятидесяти километров в час. Он превосходил немецкие танки Т-1 и Т-2, мог вести поединок с основным немецким танком Т-3, но, к сожалению, имел относительно слабую броню.
В середине мая 1939 года нас всех выстроили на плацу, зачитали приказ об окончании училища и присвоении воинского звания «лейтенант». Мы рассчитывали, что получим краткосрочные отпуска, чтобы проведать родных, немного отдохнуть после учебы, но в связи со сложной обстановкой были сразу направлены в войска.
Меня и еще девять человек направили в Орловский военный округ, а затем в стрелковый полк, который располагался в 20 километрах от небольшой станции Дмитриевск. Я и мой товарищ Гриша Чередник были назначены командирами взводов в восьмую роту третьего батальона.
По штатам того времени батальоны являлись крупными воинскими подразделениями. Наш третий батальон под командой капитана Ягупова насчитывал около тысячи человек: три стрелковые роты по 160 бойцов и командиров, пулеметная рота, санитарный взвод, взвод снабжения и штаб батальона.
Артиллерии в батальоне не было, а предусмотренное штатами минометное вооружение было сосредоточено при штабе полка. Там же находилась и артиллерия: батарея легких 76-миллиметровых пушек и батарея противотанковых 45-миллиметровок.
Рота была вооружена неплохо: два станковых «максима» и пять ручных пулеметов Дегтярева. Ни одного автомата в полку я не видел, но отсутствие их компенсировалось довольно большим количеством пулеметов (по штату – 58 «максимов» и 80 «Дегтяревых»).
В батальоне нас, молодых лейтенантов, встретили тепло. Мы с Гришей Чередником получили личное оружие, пистолеты ТТ, плащ-палатки, кое-какие бытовые мелочи. Жили мы в палатках и с первого же дня активно включились в службу. Мой взвод насчитывал около 50 человек, в основном молодежь (сельские ребята), но были и бойцы в возрасте 30–35 лет.
Их призвали в связи с обострением обстановки на Дальнем Востоке. В августе 1938 года произошел вооруженный конфликт на озере Хасан, когда японская армия пыталась захватить часть нашей территории и господствующие высоты.
Как сообщалось в средствах массовой информации, в ходе боев, которые продолжались около двух недель, японские захватчики были наголову разбиты, потери их составили 650 солдат и офицеров убитыми, две с половиной тысячи были ранены. О наших потерях скромно умалчивалось.
Как стало известно в 90-х годах, дела на Хасане обстояли совсем не просто. Наша группировка составляла 15 тысяч красноармейцев и пограничников, мы имели около 300 танков и 250 самолетов. В том числе несколько десятков самых современных на то время скоростных бомбардировщиков СБ-2, способных нести полторы тонны бомб. У японцев в районе озера Хасан авиации не было вообще.
К сожалению, командующий Особой Дальневосточной армией герой Гражданской войны Василий Блюхер не сумел правильно организовать взаимодействие войск, допустил некоторые ошибки и был отстранен от командования.
Наши потери составили 960 бойцов и командиров погибшими и без вести пропавшими. Из них более ста человек скончались от полученных ранений в санбатах, а всего выбыло по ранениям и болезням 2700 человек. О низком уровне подготовки войск говорил и тот факт, что более 500 красноармейцев выбыли из строя в связи с острыми желудочно-кишечными заболеваниями (употребление воды, не пригодной для питья).
Конечно, мы об этом ничего не знали, но Сталину были известны все детали конфликта. Были приняты меры по укреплению Дальневосточной армии. Кстати, в ходе боев хорошо проявила себя наша авиация, нанося точные удары по японским укреплениям.
Японское командование сделало свои выводы и менее чем через год предприняло еще одну попытку. В мае 1939 года японцы перешли государственную границу Монголии, начались ожесточенные бои на реке Халхин-Гол.
По существу, это была уже локальная война с широким применением танков, артиллерии, авиации, которая длилась несколько месяцев и закончилась разгромом крупной группировки японских войск. Историки считают, что этот сокрушительный удар удержал японское правительство в ходе Отечественной войны от присоединения к гитлеровской агрессии против Советского Союза.
На Халхин-Голе проявил свой полководческий талант командир Особого корпуса Георгий Жуков, будущий Маршал Победы. Но это будет позже. А пока я делал первые шаги в военной службе.
Мой взвод был немалым подразделением. В период Отечественной войны, когда я командовал ротой, ее численность в 1942–1943 годах не превышала 90–100 человек, а здесь пятьдесят с лишним бойцов и сержантов в одном взводе. Еще в училище командир учебного взвода Шишкин часто повторял:
– Опирайтесь на сержантов, они ваша главная опора. Выдвигайте сметливых инициативных бойцов, ставьте их во главе отделений.
Вскоре у меня сложился довольно крепкий сержантский костяк. Моим помощником (помкомвзвода) стал негласный лидер в коллективе старший сержант Михаил Ходырев. Небольшого роста, смуглый, родом с низовьев Волги, он служил года полтора, имел немалый опыт, знал каждого бойца.
Последовал я и другому совету лейтенанта Шишкина – не изображать из себя всезнающего командира и не создавать дутый авторитет бесконечными ненужными командами и указаниями.
Если с сержантом Ходыревым мы сошлись как-то сразу, то с другим сержантом, командиром пулеметного расчета Захаром Антюфеевым, отношения складывались сложнее. Осматривая его «максим» и знакомясь с бойцами расчета (всего их было четыре человека вместе с Антюфеевым), я сделал несколько замечаний.
Проверяя коробки с патронными лентами, я заметил, что одна из лент слегка отсырела. Брезентовые ленты требовали постоянного внимания. Сырая или пересохшая на солнце, она могла стать причиной перекоса патрона и задержки в стрельбе. Не понравился мне внешний вид подносчика боеприпасов: кое-как почищенные сапоги, плохо затянутый ремень и еще какие-то мелочи.
Я не повышал голос, старался, чтобы замечания прозвучали доброжелательно. Но рослый сержант Антюфеев, светло-рыжий, широкоплечий, воспринял мои слова с легкой усмешкой. В нем явно играло самолюбие.
– Я сказал что-нибудь смешное, товарищ сержант?
– Никак нет. – Выше меня на полголовы, Антюфеев смотрел куда-то в сторону. – Недостатки устраним.
– О чем доложите вечером, – взыграло и мое командирское самолюбие.
– Доложу…
Я зашагал дальше. Спустя какое-то время сказал Михаилу Ходыреву:
– Самолюбивый у нас пулеметчик.
– Лучший в батальоне по итогам боевых стрельб, – отозвался Ходырев. – И расчет крепко в руках держит.
Я понял, что помкомвзвода на стороне Антюфеева, а я что-то сделал не так. Позже, поговорив со своим товарищем по училищу Гришей Чередником, услышал его мнение:
– Наверное, перехватил ты со своими замечаниями. Все же лучший командир расчета, главная ударная сила во взводе, а ты его перед подчиненными отчитывал.
Я не считал, что кого-то отчитывал или цеплялся по пустякам. Но выводы сделал, невольно вспомнив нашего комбата, Ягупова Бориса, который не мог пройти мимо, чтобы не сделать какое-то поучительное замечание по любой мелочи.
С Захаром Антюфеевым мы вскоре сошлись ближе, пустяковые обиды забылись. Тем более он по итогам стрельб был повышен в звании до «старшего сержанта» и получил краткосрочный отпуск.
Четыре месяца мы провели в лесном лагере. Свободного времени выдавалось мало. Я получил небольшое пополнение, да и кроме новичков во взводе было десятка два слабо обученных бойцов. С ними приходилось заниматься особо.
Заметно поднялся мой авторитет, когда я продемонстрировал приемы штыкового боя, а на соревнованиях по скоростной стрельбе из винтовки занял второе место в полку.
И все же я не был удовлетворен качеством боевой подготовки красноармейцев. Занятий проводилось много: тактическая подготовка на местности, учебные атаки, штыковой бой, строевые занятия, химзащита, изучение уставов, политзанятия. Трехлинейную винтовку Мосина, наше основное оружие, бойцы изучали до винтика.
Однако за четыре месяца лишь дважды проводились боевые стрельбы из винтовок. Причем выдавали всего по шесть патронов: три на пристрелку и три зачетных выстрела.
По общим итогам мы кое-как отстрелялись на «тройку». Ручные пулеметчики, и особенно расчеты «максимов», тренировались в боевой стрельбе чаще. Вместе со своими расчетами я ходил на стрельбище. Командир полка Павел Петрович Усольцев, из старых боевых командиров, одобрял, когда офицеры подавали личный пример.
Он дал указание начальнику арттехвооружения полка дополнительно выделить для командиров патроны (обычно 50–60 штук). Я часто стрелял из ручного пулемета Дегтярева и не уступал большинству штатных пулеметчиков.
Наш родной «максим» нравился мне точностью прицела. Это достигалось благодаря массивному станку и большой массе пулемета (64 килограмма). Очередями «максима» мы поражали мишени за 600–800 метров и даже за километр.
В то же время громоздкий пулемет служил легкой добычей для снарядов, особенно во время наступления. Два-три осколка в кожух, и «максим» выходил из строя.
Наша учеба в летнем лагере возле станции Дмитриевск в октябре была свернута, и полк перебросили под Ленинград. В первых числах декабря 1939 года мы вступили в войну с Финляндией, о чем рассказал в первых главах.
Глава 4 Вставай, страна огромная…
Апрель и май 1940 года я провел в своем родном селе Коржевка. Председатель колхоза организовал мне торжественную встречу, на которой меня называли «героем», говорили много хороших слов. Я выступил с небольшой речью, стараясь обойтись общими фразами о мужестве наших бойцов и мощном вооружении Красной армии.
Однако некоторые вопросы ставили меня в сложное положение. Почему не довели войну до победного конца и не установили в Финляндии советскую власть? Вспоминая ухоженные поселки и добротные дома финнов, хотелось ответить: «Они и без нее хорошо живут», но получился бы скандал.
Я ответил, что наша армия добилась главного: обезопасили Ленинград, Балтийский флот и наши северо-западные границы. А такие важные политические вопросы, как изменение власти, решают по согласованию с финским народом наша Партия и правительство под руководством товарища Сталина. Мне дружно захлопали и больше тему политики не поднимали.
Много вопросов задавали о боях, штурме линии Маннергейма, как воюют финские солдаты. Всей правды, особенно о тяжелых потерях нашей армии, я рассказать не мог. Поведал односельчанам о нескольких боях, как смело поднимали в атаку красноармейцев политрук Пуняев, а после его гибели лейтенант Чередник.
– Ну а танки? – перебивая друг друга, выкрикивали мальчишки. – Наверное, дали жару финнам?
– Танки хорошо нас поддерживали в атаке, – отвечал я. – Но, к сожалению, тоже несли потери, особенно когда финские пушки вели огонь из дотов.
– Наверное, не всякая пушка танк пробьет. Как там в песне поется: «Броня крепка, и танки наши быстры».
Этот вопрос задал бывший комсомольский секретарь Анатолий Бондарь. Он почему-то не служил в армии, проходил какие-то краткосрочные курсы политработников и сейчас сменил на должности нашего старого секретаря парткома. За те три года, что мы не виделись, он потолстел, был по-городскому одет – полувоенный френч, начищенные сапоги, защитного цвета картуз.
Я недолюбливал Бондаря еще с тех давних пор, когда он свысока решал вопрос о моем приеме в комсомол. Мне хотелось резко ответить ему: «Горят наши танки на поле боя, как скирды соломы. Пятнадцать миллиметров брони даже 37-миллиметровка, самая мелкая пушка, за километр пробивает».
Но ответил, как подсказывал мне здравый смысл:
– Наши танки очень маневренные, экипажи хорошо обучены, но война есть война. В бою они также несут потери.
И сразу перевел разговор на то, что со мной вместе храбро воевал красноармеец Егор Балакин, наш земляк из деревни Проломиха.
– Знаем его, – раздались сразу несколько голосов. – Мужик серьезный, такой не подведет.
Дома было все как прежде. Конечно, за эти три года подросли младшие сестренки, а у Кати родился сын, назвали в честь отца Колей. Мама, увидев мои шрамы, когда я утром умывался, заплакала:
– Как же ты страдал, Васенька!
– Перестань, мама, – весело отозвался я, а Федя спросил:
– Тебя из пулемета или винтовки подранили?
Феде было шестнадцать лет, совсем взрослый парень, но по-деревенски наивный. Я потрепал его по голове:
– Какая теперь разница. Легкое не задело, рука срослась. Вот пальцы на ногах только в сырость или холод ноют. Обморозил я их – ну это ерунда.
– А сколько ты финнов убил? – не отставал братишка.
– Плохое слово «убил». На войне врагов уничтожают. Стрелял, как и все, иногда попадал в цель. А кого чья пуля срезала, неважно.
У меня скопилось довольно много денег. Часть выдали в финчасти наличными, часть лежала на сберкнижке. Я посоветовался с отцом, что надо купить для хозяйства.
– Ты, Василий, для себя прибереги деньги. Тебе уже двадцать два года, женишься скоро. А нам ты и так целый чемодан подарков привез.
После выписки из госпиталя я провел два дня в Ленинграде. В магазине Военторга купил ситца, штапеля и еще каких-то тканей для матери и сестренок. Отцу и Феде приобрел ботинки и рубашки – знал, что в селе с одежкой плоховато. Младшие сестры Таня и Вера радовались как дети, разглядывая яркий ситец, из которого собирались шить платья.
– Какая женитьба, батя? – отмахнулся я. – Через два месяца мне в часть надо возвращаться.
– Ну и по девкам бегать – не дело. У человека семья должна быть, дети.
Действительно, я на второй или третий день уже не ночевал дома, нашел подругу, муж которой с год назад уехал в город и вестей о себе не подавал.
Я все же убедил отца купить досок для крыши, кое-какой инструмент и посуду. С женитьбой, несмотря на все попытки отца и матери, у меня не получилось.
Бывает такое. Одна из девушек, с которой меня пытались свести, по душе не пришлась. Другая не хотела уезжать от родителей. Наладились было теплые отношения с молоденькой учительницей, но я протянул время, и когда надо было что-то конкретно решать, у меня уже подходил к концу отпуск. Возможно, я не мог забыть свою первую любовь Киру Мельникову, а может, как многие молодые мужики, сильно не стремился заводить семью. Хотелось побыть «свободным».
Но учительница младших классов Татьяна Григорьевна Шугаева все же пришла меня провожать. Когда прощались, в глазах ее стоял укор. Тане было двадцать лет, и я стал первым мужчиной в ее жизни.
– Напиши, если время будет, – сказала она.
– Напишу обязательно, – пообещал я.
Мы расцеловались, Таня заплакала, а я пообещал:
– Как устроюсь на новом месте, вызов тебе пришлю. Приедешь?
Таня кивнула сквозь слезы. Водитель «полуторки», которая подвернулась мне до станции, нетерпеливо сигналил. Когда машина выехала из села и поднималась на меловой холм, откуда была хорошо видна Коржевка, окрестные леса и голубая извилистая лента реки Суры, у меня невольно сжалось сердце. Когда я снова увижу родные края?
Наш полк дислоцировался на окраине районного города Новохоперск. Жили уже не в палатках, личный состав размещался в двухэтажных кирпичных казармах, ангары для техники, спортивный городок, добротный забор, проходная, где постоянно находился дежурный наряд.
Доложил о своем прибытии командиру полка Павлу Петровичу Усольцеву. Полковник, которого я привык видеть в полевой форме или походной шинели, сидел за столом в кителе, на груди блестели ордена, на петлицах – четыре «шпалы». Он поднялся, пожал мне руку, расспросил о семье, здоровье.
– Готов продолжать службу, Василий?
– Так точно, – бодро отозвался я. – И хорошо бы снова в своей восьмой роте.
– Ну как герою откажешь? – улыбался полковник. – Сходи в строевую часть, оформи документы. Жить будешь в общежитии для командиров. Если надумал жениться, то придется искать частную квартиру. Ну, с этим в городе не проблема, а жилье частично оплачивает финчасть.
– Пока не надумал. Поживу в общежитии.
В строевой части штаба, к своему удивлению, встретил своего бывшего комбата Бориса Ягупова. Не скажу, что у нас были с ним очень теплые отношения, но все же вместе прошли Зимнюю войну. Тоже пожали друг другу руки, он быстро оформил необходимые документы. Я обратил внимание на новенький орден Красной Звезды на кителе Ягупова.
– С наградой вас, товарищ капитан, – сказал я.
Мой бывший комбат как-то странно посмотрел на меня, хотел что-то сказать, но промолчал. В ответ на поздравление лишь молча кивнул. Я понимал причину. В разгар боев Ягупова сняли с должности комбата. Могли вообще не наградить, но, видимо, решили во избежание лишних разговоров представить к ордену. Все же батальоном командовал, хоть и не слишком удачно, на переднем крае находился.
Не день, а сплошные встречи с однополчанами и друзьями! Обнялись с Гришей Чередником. На петлицах у него поблескивали три «кубаря» – старший лейтенант, а к ордену Красной Звезды прибавилась медаль «За боевые заслуги», которую он получил, наверное, когда я лежал в госпитале.
– Я вообще-то хотел тебя на первый взвод поставить, – сказал Чередник. – Сам знаешь, считается вроде как заместитель командира роты. Но прислали старшего лейтенанта Репнина Антона. Он в армии с тридцать пятого года, готовят на выдвижение.
– Ерунда, – не совсем искренне отмахнулся я. – Если третий взвод доверишь, буду доволен.
Так я снова оказался в своей родной роте и третьем взводе. Из «старичков» увидел в строю Михаила Ходырева, пулеметчика Захара Антюфеева и своего вестового Балакина Егора, который тоже носил в петлицах сержантские «угольники».
Вечером отметили мое прибытие в комнате общежития, где кроме меня жил командир второго взвода и старшина-сверхсрочник из девятой роты. Младший лейтенант Савенко Юрий, недавно окончивший краткосрочные курсы, к водке, видимо, не привык, перехватил и лез обниматься.
– Везет мне, – оживленно восклицал он. – И ротный орденоносец, и Василий Николаевич войну прошел. Есть у кого поучиться.
– Закусывай получше, Юрка, – со смехом перебил его старшина. – Иначе не налью больше.
Я обратил внимание, что старшему лейтенанту Репнину слова молодого взводного не слишком понравились. Дело в том, что командир первого взвода не воевал, находился в резерве, и легкомысленная болтовня девятнадцатилетнего парня неприятно задела его.
Егор Балакин пожаловался мне, что рассчитывал демобилизоваться, все же семья, дети.
– Говорили, что на год из запаса берут, а теперь до осени сорок первого трубить придется.
– Обстановка сложная, в Европе воюют, в Африке, – сказал Григорий Чередник. – Вон Михаил Ходырев тоже переслуживает.
– Мне в армии нравится, – заявил мой заместитель. – Порядок, форма добротная. Повоевал, обкатался, медалью наградили. Может, в военное училище попрошусь. А тебя, Егор, от навоза никак не оттащить.
– У меня семья, детей поднимать надо.
– Успеешь. Погуляй, пока возможность есть.
Григорий Чередник посидел с нами недолго и ушел, сославшись на дела. Мой давний товарищ гордился своей должностью (сто шестьдесят бойцов и командиров в подчинении) и не хотел, чтобы его видели выпившим.
– И тебе, Юрий, хватит. Не дело, если бойцы тебя пьяненьким заметят.
– Я меру знаю. Да и не собираюсь где-то шататься. Посидим еще, и спать залягу.
– А подъем в шесть ноль-ноль, пробежка, тренаж. Тебе бойцам пример показывать надо, а не плестись позади.
Савенко недовольно засопел, но промолчал. Вскоре собрался и Антон Репнин, который снимал с семьей квартиру в городе.
– Надо идти, а то жена беспокоиться будет.
– Сейчас не война, чего ей беспокоиться? – сказал старшина. – Давай, Антон Денисович, опрокинь стопку на дорожку.
От стопки старший лейтенант не отказался, но, когда прощались, посоветовал Юрию Савенко:
– А ты спать ложись. Хватит ему наливать, мальчишка еще.
Началась обыденная военная служба. Занятия по боевой и политической подготовке, дежурства, утренние и вечерние построения на плацу. Спустя неделю-другую я с удивлением отметил, что подготовка личного состава ничем не отличается от той, довоенной, учебы, которую я проходил год назад.
Как будто и не было во многом неудачной для нас Зимней войны. Конечно, ее вспоминали, слишком свежа была память о ней. Но говорили в основном о героизме наших бойцов, об их умелых действиях. Выводы из неудач не делали.
Удивляло меня, что о «славных боях» часто упоминал наш старший политрук Раскин Аркадий Борисович, который в этой войне не участвовал. В роте действовал целый политаппарат: младший политрук, парторг, комсорг, агитатор. Причем штатами была предусмотрена лишь должность младшего политрука, а остальные помощники Раскина были сержантами, но исполняли совсем другие обязанности – собрания, политзанятия, политинформации, выпуск боевых листков и так далее.
По-прежнему много времени занимала строевая подготовка, занятия по химзащите, изучение уставов. Не выдержав, я как-то пришел к Череднику.
– Григорий, мы стрелять когда-нибудь будем? За месяц ни разу боевые стрельбы не проводились.
Рота насчитывала более 160 человек, и у старшего лейтенанта всяческих забот накапливалось в достатке. Он устало отодвинул в сторону какие-то бумаги, предложил мне папиросу.
– На конец июля запланированы стрельбы из винтовок, ручных пулеметов и личного оружия командиров. Так что готовься.
– Что, теперь стрелять будем раз в два-три месяца?
– План боевых стрельб утвержден начальником штаба полка.
– Гриша, у меня из полусотни бойцов во взводе половина новички. Зелень, можно сказать. Двадцать человек стреляли боевыми патронами лишь перед принятием присяги. По три патрона на ствол. Тридцать четыре красноармейца никогда не метали боевых гранат. Это как? Неужели мы так быстро забыли уроки той войны?
У командира роты задвигались желваки на скулах.
– Слушай, Василий, давай оставим пустые разговоры. Занимайся по плану. И потом… не видишь, что я занят?
– Вижу. Но когда мы по три часа в день убиваем на разные политзанятия и зубрежку уставов, меня просто тошнит от этого. Веришь, Григорий?
– Ты на людях меня по имени не называй, – сказал Чередник. – Замполит уже замечание делал, что за кумовщина?
– Да кто он такой, чтобы командира роты одергивать?
– А ты кто такой? – выкрикнул Чередник. – У тебя есть взвод, им и занимайся. Раскин уже отмечал, что в твоем взводе дисциплина не на высоте, люди на занятиях спят, не знают даже должности руководителей страны и армии. Твой помкомвзвода Ходырев распоясался. Младшему политруку дерзит, лезет, когда не надо, со своим мнением. Кстати, почему Ходырев вместо тебя строевые занятия проводит?
– Два раза всего было. Больше не повторится.
– А с ногами у тебя что?
Я от неожиданности опешил. Это была моя личная небольшая тайна. Если пулевые раны довольно быстро затянулись и почти не беспокоили меня, то отмороженные пальцы на ногах снова воспалились. Я был сам виноват.
Когда в мае вспахивали наш большой семейный огород под картошку, в основном за плугом ходил я. Отец был занят в колхозе, а младший брат Федя был еще жидковат для такой тяжелой работы. Не позаботился я тогда о чистоте.
Три пальца воспалились, распухли. Мама лечила меня подорожником, вызвала фельдшера. Пальцы понемногу отошли, но сейчас, когда я целыми днями не снимал сапоги, началось снова воспаление. В санчасть я не обращался. Сосед по комнате, старшина, приносил мне бинты, зеленку, мазь. Но мою хромоту заметили, и Чередник приказал:
– Иди в санчасть. После доложишь, что у тебя там. Все, свободен.
Заместитель старшего врача лейтенант Наталья Викторовна Климова, осмотрев мои ступни, категорично заявила:
– Дня на три-четыре я положу тебя в санчасть. Может начаться заражение. Сапоги свои снимай, походишь в тапочках. Как заслуженному командиру, отдельную комнату предоставлю.
– Наталья Викторовна, – взмолился я. – Не надо меня никуда класть. Буду приходить к вам на перевязку и вообще… я дисциплинированный.
Наталья засмеялась. Она была года на два постарше меня, светловолосая, довольно привлекательная. При встречах я шутливо отдавал ей честь, а Наталья улыбалась в ответ. Сейчас она тоже улыбалась, но заявила:
– Предпочитаешь в госпиталь попасть?
– Не хочу я в госпиталь, но и здесь в санчасти неохота болтаться… скажут, вот командир, пальцы посбивал и отлеживается.
– Ты отморозил пальцы в ходе боевых действий, стыдиться нечего. Такое нередко случается. И мне не скучно будет, а то санчасть почти пустая. С воспалением шутки плохи, может гангрена начаться, а там и до ампутации недалеко.
Суровым предупреждениям врача я не очень-то поверил, но вынужден был подчиниться.
– Только в халат меня не обряжайте. Схожу в общежитие за спортивными брюками и тенниской.
– Сходи, – разрешила лейтенант. – И не надо мне «выкать». Я что, такая старая?
– Бросьте, Наталья Викторовна. Вы… ты очень даже симпатичная женщина.
– Ну вот, а ты лечиться у меня не хочешь.
Так я угодил в санчасть. Больных в ней было немного – двое красноармейцев из молодняка. Один до крови растер ногу на марше, тоже началось воспаление, и его срочно принялись лечить. У второго было расстройство желудка. Подозревали дизентерию и держали в изоляторе, дожидались, пока придут анализы.
Делать мне было абсолютно нечего. Иногда сидели, перекуривали с двумя санитарами. Они были дядьки в возрасте, общих тем мы не находили, и я читал книжки или писал письма домой. Через день меня навещал Михаил Ходырев, рассказывал, как обстоят дела во взводе, приносил свежие пупырчатые огурцы и яблоки.
С ним мы крепко сблизились за время войны и могли сидеть подолгу, вспоминая ту зиму. Но обычно он неожиданно прерывал разговор, смотрел на трофейные часы (память о войне) и торопился в роту.
– Пошел я, Василий Николаевич, а то политрук гундеть начнет.
К моему удивлению, замещать меня оставили не Ходырева, прошедшего огонь и воду и хорошо знавшего службу, а младшего политрука, парня лет двадцати из комсомольских работников, закончившего лишь трехмесячные курсы политработников.
Гриша Чередник меня посещениями не баловал. Но мое лечение затягивалось, пальцы подживали плохо, и через неделю старший лейтенант явился лично, задал несколько дежурных вопросов о здоровье, озабоченно наморщился:
– Смотр через три недели, а ты, как нарочно, в санчасти завяз. Долго еще лежать будешь?
– Об этом у Натальи Викторовны спроси. Пальцы пока не зажили, не отпускает, хотя я просился.
Чередник позвал через санитара нашего врача и стал объяснять ей, что лейтенант Гладков очень нужен в роте. Предстоят боевые стрельбы, смотр, а он тут клопов давит. Я вдруг отчетливо заметил, как изменился мой старый товарищ. В голосе сквозили командирские требовательные нотки, и на врача он смотрел как-то свысока. Я вдруг вспомнил разговор о том, что готовится какое-то перемещение по службе, и Чередника прочат на должность комбата. Видимо, многое зависело от результатов стрельб и смотра, поэтому он торопил меня с выпиской.
– Клопов у нас никто не давит, – резко отозвалась Наталья, – потому что в санчасти их нет. А Гладкова я выписать не могу. Что толку? Походит в сапогах день-два, и снова пальцы воспалятся.
– Ну хотя бы через недельку, – приумерил свою прыть мой старый товарищ (может, уже бывший?).
– Посмотрим. Через неделю, возможно, и выпишем.
Наталья Викторовна ушла, а Григорий, посмотрев ей вслед и оценив стройную фигурку, обронил:
– Хорош ты, Васек, здесь пристроился возле красивой врачихи.
– Чего ты несешь, Гриша? – вспылил я. – Скажи лучше, какого рожна политрука моим взводом командовать поставил? Ведь есть помкомвзвода Михаил Ходырев. Или, по-твоему, он бы не справился? Тем более смотр впереди, а он дисциплину умеет держать и подготовку бы лучше организовал.
– Знаешь, Василий, лежи возле своей красивой врачихи и в служебные дела не лезь. Как выпишешься, тогда и продолжим разговор.
Чередник ушел, оставив пакет, который я не трогал до вечера. Потом развернул. Там было несколько хороших крупных яблок, плитка шоколада, печенье и чекушка «Столичной», аккуратно завернутая в газету. Яблоками и печеньем я поделился с бойцами, а вечером набрался храбрости и пришел в кабинет к Наталье Викторовне.
Опыт общения с женщинами у меня был невеликий. Не зная, с чего начать разговор, я помялся и ляпнул напрямик:
– Вот тут шоколадка для вас. И еще маленькая бутылка водки. На двести пятьдесят граммов. Может, выпьем по рюмочке?
Наталья окинула меня удивленным взглядом. Думаю, что в эти секунды она решала, как выставить меня за дверь. Я ее опередил:
– Извините, если что-то не так.
Я оставил шоколадку на столе, чекушку торопливо сунул в карман брюк и попятился к выходу. Думаю, если бы врач увидела во мне опытного ловеласа, я бы вылетел пробкой. Наталья усмехнулась, внимательно посмотрела на меня.
– Ну вот, еще один соблазнитель появился. Присаживайся, раз пришел, Василий Николаевич.
– Спасибо, – присел я на кончик стула.
– А чего ж ты с водкой к даме явился? Обычно шампанское несут и цветы.
– Нет у меня шампанского, а шоколад хороший. Угощайтесь.
– К нему бы чай надо, но не хочется санитаров тревожить. Подумают невесть что, а ты ведь просто выпить водки пришел, так? От скуки…
Я шумно вздохнул и повернулся к окну, за которым сгущались летние сумерки. Я не был опытным сердцеедом, но и давно перешагнул порог деревенского парня-простачка. Я бы не рискнул прийти к нашему красивому врачу. Но что-то подсказывало, что она питает симпатию ко мне и, возможно, ждет, когда я сделаю первый шаг.
Наталья развернула фольгу, отломила несколько долек.
– Угощайся.
– Спасибо.
– А в селе небось невеста осталась.
– Нет у меня невесты.
– Что, девушек стороной обегаешь?
– Почему обегаю? Встречался с одной, но теперь все в прошлом.
Прости меня бог, если он есть на свете, что я предавал в ту минуту мою коржевскую любовь, учительницу Таню. Ведь она ждала меня и прислала уже два письма. Мы разговорились. Наталья вскипятила чаю, потом насмешливо сказала:
– Доставай свою чекушку. Правда, рюмок я не держу. Стаканы есть и мензурки. Тебе что лучше?
– Мензурку.
– Тогда ты до ночи сидеть здесь будешь.
Она поставила стакан. Я выковырнул пробку и налил граммов семьдесят.
– Наталья Викторовна, давайте со мной за компанию.
– Хватит «выкать», – и с этими словами достала мензурку.
– За что пить будем?
– В санчасти только за здоровье водку употребляют.
Мы выпили, и врач-лейтенант торопливо убрала со стола стакан и мензурку.
– Глупость какая-то, – откусывая шоколадку, проговорила она. – Врач с пациентом водку пьет. Если увидят, сплетен не оберешься. Убирай подальше свою бутылку. Раны не беспокоят?
– Нет, – запихивая чекушку в карман, замотал я головой.
– Пулевые ранения. Повезло тебе, что ниже на пяток сантиметров пуля не угодила. Пробитое легкое годами не заживает.
– Повезло, – согласился я. – Пулеметчик сильно нервничал. Мы уже вплотную к укреплениям подобрались, гранаты вовсю летели.
– Больно было?
– Я тогда ничего не понял. Удар, толчок – и в глазах все помутнело. Очнулся на снегу, а меня уже перевязывают. Спасибо ребятам, а то бы кровью истек. Больно было, когда в санях в санбат везли. Вроде снег мягкий, а на каждом ухабе словно спицу раскаленную в спину втыкают.
Я пробыл у Натальи часа полтора. Когда уходил, она проводила меня через темный коридор. Внезапно остановившись, я повернулся к ней и, обняв, поцеловал в губы. Она ответила мне, затем слегка оттолкнула:
– Иди к себе.
Голос ее звучал хрипло. На следующий вечер я снова пришел к ней, и мы закрылись в перевязочной, где стояла кушетка.
– Наташа, милая…
Женщина, стоная, обнимала меня. Я никогда не чувствовал такого желания и возбуждения. У нее были удивительно мягкие и одновременно тугие бедра, которые я стискивал пальцами обеих рук. Не помню, когда возвращался к себе, шатаясь, как пьяный. Мы не говорили о будущем, я не объяснялся в любви, но близость с созревшей, красивой женщиной, неравнодушной ко мне, ошеломляла. Такого раньше я не испытывал.
Когда вернулся в роту, перемену во мне заметил даже девятнадцатилетний младший лейтенант Юрий Савенко. Я энергично принялся за подготовку к смотру.
Проницательный командир первого взвода Антон Репнин только посмеивался и как-то негромко заметил:
– Крепко тебя подлечили.
– А я больным и не был, – с вызовом ответил старшему лейтенанту.
Боевые стрельбы прошли так-сяк. Высокими результатами ни одна из рот не блистала. Ничего удивительного, этого следовало ожидать. Есть единственный способ научить людей метко стрелять – постоянные тренировки.
У нас упор делался в основном на теорию, бойцы зубрили технические данные оружия, без конца собирали и разбирали винтовки, чистили их. Конечно, это необходимо, но важнее постоянная практика. В Буйнакском военном училище мы выпускали по различным мишеням до сотни пуль в месяц, а здесь за два месяца всего по шесть патронов на стрельбище давали. Пулеметчикам немного побольше, но это ничего не решало.
Некоторые молодые бойцы закрывали глаза, нажимая на спуск, или вздрагивали в ожидании сильной отдачи. Но все же на «тройку» с горем пополам отстрелялись. Выручали «старички», те, кто прошел войну, бывшие охотники, призванные с Алтая или Урала.
Помогли выровнять результаты и активисты ОСОАВИАХИМа. Это были городские ребята или парни, призванные из райцентров. Правда, тренировались они до войны в основном в стрельбе из малокалиберных винтовок, но изучали и «трехлинейки». Среди них выделялся высокий худощавый паренек из города Вольска Никита Супонин, который вложил и пристрелочные пули, и зачетные в центр мишени.
Я мог гордиться, что в числе лучших стрелков в батальоне назвали троих ребят из моего взвода: Михаила Ходырева, алтайца Долгова Андрея и новичка Супонина Никиту. Среди пулеметчиков призовое место занял Захар Антюфеев со своим расчетом «максима».
Но большинство бойцов в моем третьем взводе стреляли слабовато, так же как и во втором взводе Юрия Савенко. Нашу восьмую роту вытянул в основном хорошо подготовленный первый взвод старшего лейтенанта Антона Репнина – сказался большой опыт службы.
Командир роты Григорий Чередник меня ни в чем не упрекал. Мы даже посидели с ним и Репниным, выпили, поговорили о жизни. Вскоре произошли передвижки в должностях.
Наш комбат Козырев был назначен помощником командира полка по разведке. Это было не бог весть какое повышение, но капитана Козырева прочили на должность начштаба, и ему необходим был опыт штабной работы.
Григория Чередника, моего товарища по Буйнакскому военному училищу, назначили командиром третьего батальона. По возрасту он был немного старше меня, осенью ему исполнилось двадцать три года.
Говоря откровенно, я не считал себя командиром слабее, чем он. Но в душе сознавал, что Гриша схватывал ситуацию быстрее и принимал верные решения. Во время нашего первого боя в Финляндии он, не раздумывая, взял на себя командование ротой после гибели нашего ротного командира и политрука, успешно провел атаку благодаря своей решительности.
Эго сразу заметил и оценил командир полка Усольцев. Григория поставили во главе роты. Видимо, и в конце войны, пока я лежал в госпитале, Чередник показал себя способным командиром, был повышен в звании и награжден медалью.
И вот сейчас, спустя год с небольшим после окончания училища, Чередник стал комбатом. Быстрый рост по службе, можно сказать, стремительный. Я загонял куда-то вглубь свое самолюбие. Полковник Усольцев – опытный и расчетливый руководитель. Значит, он разглядел в Череднике задатки большого командира, и это надо признать.
Антон Репнин, как я и ожидал, стал командиром нашей восьмой роты. У него служебный рост происходил куда медленнее, он лет пять командовал взводом. Спустя какое-то время Гриша Чередник вызвал меня. Мы вспомнили училище, бои на Карельском перешейке.
– Ты неплохо тогда действовал, – сказал он. И после короткой паузы посоветовал: – Но тебе надо поактивнее быть. Выступать на собраниях, выдвигать какие-то предложения. И подавай заявление в партию. Я тебе дам рекомендацию, наш парторг не против.
– Можно попробовать, – согласился я. – Только получится ли?
– Почему нет? Ты хоть и молодой, но заслуженный командир. Прошел войну, был ранен. Кстати, я подал представление на присвоение тебе «старшего лейтенанта». Бумаги уже ушли в штаб дивизии.
– Спасибо, Григорий, – от души поблагодарил я его. – Это приятная новость, а то родня в письмах спрашивает, мол, почему в лейтенантах засиделся.
Мы оба рассмеялись, с души словно свалился камень. Гриша, несмотря на свою высокую должность, остался прежним простым человеком и не забывает старых друзей.
В начале ноября я получил очередные «кубари» на погоны. Как полагается, обмыл их. Не скрываю, я был доволен. Некоторые считали, что меня зачислили в резерв на выдвижение и скоро повысят в должности.
Но недаром говорят, что жизнь штука полосатая. Светлые полосы легко меняются на черные. Я освоился во взводе, снова наладились отношения с Гришей Чередником, нашим комбатом. Мы продолжали встречаться с Натальей, уже заводили разговор о будущей совместной жизни. Но внезапно все изменилось.
Как чувствовал я, что не следовало лезть мне с заявлением о приеме кандидатом в партию. Вопрос рассматривался на открытом партийном собрании, и здесь меня крепко уделал комиссар полка, недавно пришедший в армию из горкома партии.
Две кандидатуры прошли без особых замечаний. Но когда комиссар с непроницаемым лицом стал перебирать мои документы, я понял, что хорошего ждать нечего. Не зря так долго проверялась моя биография. Хорошо запомнились мне такие слова комиссара:
– Старший лейтенант Гладков молодой и, я думаю, перспективный командир. Но для коммуниста этого мало…
И понес. Оказывается, комиссар направлял запросы в Инзенский райком партии и райком комсомола. Характеристики пришли неплохие. Но в них упоминалось, что я из семьи крестьянина-середняка, долго не желавшего вступать в колхоз и предпочитавшего использовать для заработков труд наемных рабочих. Вспомнили, как мне отказали в приеме в комсомол, и лишь с помощью непонятных связей я все же был принят.
– С червоточиной яблоко, – потрясал какими-то листами наш комиссар. – И в полку не слишком-то комсомолец Гладков себя проявил. Держится в тени, взвод сдал зачеты на «троечку», пока он больные пальцы полмесяца в санчасти лечил…
Не выдержав, вскочил Козырев. Командир девятой роты и наш бывший комбат, а теперь начальник разведки полка был импульсивным и прямым человеком.
– Товарищ комиссар, кто вам такой ерунды наплел? Мы с Васей Гладковым бок о бок воевали, он за чужие спины никогда не прятался. Тяжелое ранение получил, когда людей за собой вел.
Тимофей Козырев пользовался в полку авторитетом. Кроме того, по роду своей службы он контактировал с особым отделом, а ведомство Берии побаивались даже большие политработники. Козырев говорил громко, горячо, и симпатии однополчан явно склонялись в мою сторону. Раздавались выкрики:
– Гладков парень честный и воевал смело.
– Надо разобраться!
– Так любого очернить можно.
Подняла руку врач Наталья Климова и заявила:
– Тут насчет больных пальцев что-то говорили. Так ведь Гладков их не на гулянке повредил, а обморозил в ходе боевых действий. На фронте!
Внезапно воцарилась тишина. Нехорошая тишина. Наш военврач лейтенант Наталья Климова была красивой женщиной, на которую в полку засматривались многие. И многие получали от ворот поворот. О наших отношениях с Натальей было известно большинству командиров. У некоторых играло самолюбие, что их отвергли, а предпочли какого-то взводного.
Комиссар, поднаторевший в разных склочных разборках еще на гражданке, мгновенно уловил ситуацию:
– Слушаем вас, Наталья Викторовна.
– Я все сказала, – пожала плечами военврач и опустилась на свое место.
– А я думаю, не все. Речь идет о том, достоин ли старший лейтенант Гладков быть принятым кандидатом в ряды ВКП(б), и его моральном облике. Вы ведь Гладкова хорошо знаете… очень хорошо.
Комиссар полка, с бритой по тогдашней моде массивной головой, выжидающе уставился на военврача. В его словах явно слышался намек, что сама Наталья имеет какие-то грехи и выгораживает не слишком надежного командира. В повисшей тишине раздались смешки. Это ожидали скандала отвергнутые Натальей в свое время ухажеры.
Я увидел, как покраснела молодая женщина, поднялась было, желая выбежать из помещения, но ее остановил зловеще спокойный голос комиссара:
– Только без истерик. Здесь партийное собрание, а не колхозные посиделки.
Не знаю, чем бы все закончилось, но вмешался командир полка Усольцев:
– Вот именно, что партийное собрание, а не перелопачивание разных слухов. При чем тут лейтенант Климова? Речь идет о приеме в кандидаты Василия Гладкова, грамотного командира, которого уважают сослуживцы и который проявил себя в боевой обстановке как смелый и решительный воин.
Павел Петрович сумел погасить сплетни, но выручить меня не смог. Под давлением комиссара мое заявление отклонили и проголосовали за то, чтобы вернуться к его рассмотрению через полгода.
Полгода – большой срок. Вскоре уехала на переподготовку Наталья Викторовна. Всем было ясно, что в полк она не вернется. Прощание вышло скомканным, я проводил свою подругу до поезда. Оба знали, что это прощание навсегда. Мы были всего лишь две песчинки в огромной армии, готовящейся к неминуемой войне.
Она грянула 22 июня 1941 года, и все, что казалось важным, отошло на задний план. Уже через считаные дни стало ясно, что война будет тяжелой и долгой. 28 июня немецкие войска взяли столицу Белоруссии Минск, 1 июля мы оставили после жестоких боев Ригу, а затем много других городов.
В первые недели войны Красная армия понесла огромные потери: 850 тысяч человек убитыми и ранеными, более миллиона пленными. Вермахт потерял 100 тысяч человек убитыми, продвинувшись в глубь страны на несколько сот километров.
Наша дивизия стояла в резерве. Многие командиры подали рапорта с просьбой отправить их в действующую армию. Как правило, рапорта оставляли без рассмотрения. Когда надо, тогда и пошлют.
Спустя месяц после начала войны в штаб стали вызывать командиров рот и взводов. Вскоре группу из десяти командиров и полутора десятков сержантов мы провожали к новому месту службы. В тот период срочно формировались полки и дивизии, опытных командиров не хватало. Из нашей роты уезжал старший лейтенант Репнин и кто-то из сержантов.
Вместо Репнина командиром роты назначили меня. Это была инициатива Григория Чередника, который к тому времени получил «капитана».
– Кто взводом меньше двух лет не командовал, тот службы не знает, – весело проговорил мой старый товарищ, пожимая мне руку.
– Ну, ты за эти два года и взвод, и роту прошел, до комбата дослужился.
– Кому как везет, – пожал плечами Чередник и достал из сейфа начатую бутылку водку. – Такое дело надо обмыть не откладывая.
Выпили граммов по сто, закусив яблоком. Обсудили первостепенные дела, которые мне предстояло решать. Пока не прислали нового командира взвода, поставили временного вместо меня Михаила Ходырева.
– Наталья пишет? – спросил Гриша.
– Редко. Татьяна чаще письма присылает. А я не знаю, что ей отвечать.
– Разбирайся со своими женщинами. Это не дело – сразу двоим голову морочить.
– Никому я ничего не морочу. Да и на фронт не сегодня завтра отправят. Все дела после войны придется решать.
Поговорили о положении на фронтах. Ничего хорошего. 10 июля 1941 года немцы прорвали Западный фронт и в течение десяти дней овладели Оршей, Смоленском и Кричевом. Под Смоленском шли ожесточенные бои, была блокирована большая группа наших войск.
21 июля Ставка Верховного командования предприняла попытку контрнаступления широким фронтом. Отбросить немцев не удалось, но в то же время войска под командованием генерала Рокоссовского остановили продвижение частей группы «Центр» на Москву. Шли бои, которые позже получат название Смоленское сражение.
В результате активных действий наших войск части вермахта впервые за полтора месяца войны приостановили наступление на Москву, ввязавшись в затяжные бои с войсками Центрального фронта. На остальных направлениях немцы упорно продвигались вперед.
Мы находились в напряжении, ожидая, что полк со дня на день перебросят на фронт. Отдельные подразделения нашей дивизии, особенно артиллерия, уже были брошены на борьбу с наступающим врагом. Ходило много разговоров, почему так неудачно началась для нас война. Средства массовой информации основной упор делали на внезапность, вероломность удара, несмотря на подписанный Советским Союзом и Германией пакт о ненападении.
Мол, кто мог ожидать такой подлости от бывшего союзника? Но все эти объяснения звучали как-то несерьезно. Огромная немецкая армия, по сути, открыто накапливалась возле границ нашей страны.
В 80–90-х годах очень много говорили об ошибках Сталина, который многое не учел, не предусмотрел. В исторических статьях и передачах без устали повторяли о репрессиях, которые обескровили нашу великую армию. Причем слово «репрессии» подразумевало расстрел или десятки лет лагерей, откуда большинство уже не возвращалось.
Долгие годы гуляла цифра о 40 тысячах погубленных (расстрелянных, сгинувших в лагерях) лучших военачальниках. Без конца повторялось, что дивизиями командовали капитаны, а полками – лейтенанты.
Каково было мое удивление, когда один из главных телевизионных каналов России в полнометражном документальном фильме «22 июня» открыто расшифровал эту цифру. В ходе чистки в тридцатых годах было расстреляно около трех тысяч военных, сколько-то осуждены к лагерям. Но в число этих 40 тысяч включали также уволенных из армии командиров, пониженных в звании и должности, получивших строгие взыскания.
Прямо говорилось о серьезных просчетах в подготовке нашей армии к войне. Их было немало, и валить все на Сталина просто бессмысленно.
В ходе работы над книгами о Великой Отечественной войне мною были опрошены более 200 ветеранов. Я не слышал от них легенд, как дивизии, полки вели в бой капитаны и лейтенанты.
Но вернемся к тем тяжелым для нас первым месяцам войны. Я уже достаточно прослужил, чтобы объективно, как бы со стороны оценить свой полк. Я считал его хорошо подготовленным подразделением. Во главе полка и батальонов стояли вполне опытные командиры: полковник Усольцев, капитан Козырев, Григорий Чередник и другие офицеры.
В последние полгода было проведено немало боевых стрельб, красноармейцы хорошо владели своим оружием. В то же время, зная о мощных танковых ударах, которыми немцы прорывали фронт и окружали целые армии, я видел, что наш полк к борьбе с вражеской бронетехникой подготовлен слабо.
В стрелковом полку, насчитывающем по штату 2900 бойцов и командиров, имелось всего десять пушек: шестиорудийная батарея противотанковых 45-миллиметровок и батарея легких короткоствольных орудий калибра 76 миллиметров (их называли «полковушки»).
Считалось, что в нужный момент на помощь придут орудия и гаубицы из артиллерийского полка. Но артиллерийский полк в дивизии был всего лишь один, а стрелковых полка – три. Сумеют ли артиллеристы оказать пехотинцам вовремя эффективную артиллерийскую поддержку?
Для сравнения, в каждом германском пехотном полку имелись два 150-миллиметровых пехотных орудия и шесть 75-миллиметровок. Имелась также противотанковая рота, в которой насчитывалось двенадцать 37-миллиметровых противотанковых пушек. Разница в артиллерийском вооружении наглядно видна.
В этот период Усольцев и Козырев (назначенный начальником штаба и получивший «майора») активно готовили полк к борьбе с танками. Во всех ротах организовали боевое метание противотанковых гранат.
Добиться разрешения стоило командиру полка больших трудов. Дело в том, что противотанковая граната РПГ-40 конструкции Пузырева при постановке ее на боевой взвод становилась очень чуткой. Механизм мог сработать, даже когда гранату случайно роняли на землю или задевали при броске о ветку или куст.
Это было не лучшее оружие против танков. Граната весила 1200 граммов, и добросить ее до цели можно было лишь метров за 15–20, рискуя, что тебя срежет пулемет вражеской машины. Все же при умелом обращении РПГ-40 неплохо срабатывали против легких танков, а удачный бросок мог разорвать гусеницу более тяжелого танка Т-3 или Т-4.
Более эффективным средством для борьбы с танками я считал бутылки, наполненные горючей смесью. С этой штуковиной я столкнулся на Финской войне. Бутылки с горючей смесью (КС) только начали поступать в наши войска, но бойцы относились к ним с опаской.
Когда эта липкая густая смесь загоралась, потушить ее было практически невозможно. Она давала очень высокую температуру горения, и люди, на которых попадала жидкость, сгорали заживо. Бойцы из «старичков», прошедшие Финскую войну, обращаться с ней умели, но тоже брали в руки опасные бутылки настороженно.
Вместе с Михаилом Ходыревым и Юрием Савенко мы продемонстрировали красноармейцам эффект горючей смеси. Привезли остов старого трактора и бросили в него одну за другой три бутылки. Жар от огня был настолько сильный, что металл плавился, а в некоторых местах лопался, разбрасывая сноп искр.
Недостатком КС была сложность зажигания под дождем или в сырую погоду. Специальные спички, закрепленные у горлышка, и серные терки, которые полагалось носить с собой, быстро намокали и не срабатывали.
В первых числах августа полк срочно погрузили в эшелон и мы двинулись на северо-запад.
Это был период, когда немецкие войска на большинстве направлений стремительно продвигались вперед. Мы еще не сбили им уверенность в себе. Приближаясь к тому или иному городу, летчики сбрасывали вместе с бомбами листовки, в которых, не скрывая своих планов, немецкие генералы открыто заявляли: «Этот город будет взят завтра, а следующий через два или четыре дня».
И они выполняли, черт возьми, свои зловещие обещания! Танковые клинья прорывали с флангов оборонительные рубежи. Оставляя за спиной окруженные дивизии, корпуса, расчлененные армии, бронетехника и моторизованные штурмовые батальоны захватывали города, узловые станции и продолжали свой бег.
Но не зря много позже они назовут тяжкий для нас июль сорок первого года «месяцем успехов, не ставших победой». Гитлер планировал разгромить Красную армию и захватить Москву за 8–10 недель. «Блицкриг» – молниеносная война, война моторов, где непременно победит превосходство германского оружия и воля арийской нации, – уже начал давать сбой.
Но как глубоко вклинились в нашу землю захватчики! Линия фронта, разорванная во многих местах, проходила в тот период вблизи городов Холм, Великие Луки, Ельня, находилась в плотном кольце Одесса, а от Москвы передовые части немецкой группы «Центр» отделяло расстояние в четыреста километров.
Наш стрелковый полк спешно окапывался. В сорок первом, да и в первой половине сорок второго года не было принято рыть сплошные траншеи. Каждый красноармеец копал свой индивидуальный окоп, а пулеметные расчеты – гнезда на 2–3 человека.
Это было не слишком удобно. Ходили слухи, что командир корпуса генерал-лейтенант Рокоссовский провел день в таком окопе и убедился, что бойцы оказываются как бы каждый сам по себе, не чувствуют локтя товарища. Возникали сложности для командиров взводов и рот в управлении подразделением во время боя.
Тогда Константин Рокоссовский приказал рыть траншеи с отсечными ходами и пулеметными гнездами, что позволяло вести более маневренную оборону. А ротным и взводным командирам, сержантам, стоявшим во главе отделений, не приходилось бы в сложной ситуации бегать под пулями от окопа к окопу.
Командир полка Усольцев не имел права нарушать устав. Мы рыли траншеи для взводов, соединяли их неглубокими ходами друг с другом. А чтобы не придирались проверяющие из штаба дивизии, в разных местах копали индивидуальные окопы для наблюдателей.
Где-то за нашими спинами находился захваченный немцами Смоленск. Там не смолкала канонада. Ко мне на командный пункт пришел Григорий Чередник, осмотрел участок обороны с полкилометра по фронту.
Потерь в роте пока еще не было, и сто шестьдесят человек составляли довольно плотную оборонительную линию. Мы закурили, обсуждая, что предстоит нам в ближайшие дни. Высоко в безоблачном летнем небе медленно кружил двухфюзеляжный самолет-наблюдатель «Фокке-Вульф-189», сразу получивший у бойцов прозвище «рама».
Несмотря на свой опыт, мы были пока новичками на этой войне и не знали многого. Например, того, что не просто кружит над нашим полком «рама» – высматривает цель для бомбежки. А ведь в нашем трехтысячном полку не было ни одной зенитки или крупнокалиберного пулемета.
Справа находилась девятая рота, начинался мелкий подлесок, и мы невольно вспомнили похожую ситуацию зимой тридцать девятого года. От соседнего полка нас отделяла такая же низина, и мы оба понимали, что это слабое место в обороне.
Правда, там окапывалась батарея дивизионных трехдюймовых пушек Ф-22. Это были сильные дальнобойные орудия, но довольно громоздкие, массой более полутора тонн в боевом положении. Неизвестно, как они покажут себя против маневренных немецких танков.
Конечно, они выглядели более грозно, чем небольшие «сорокапятки», производство которых перед войной было свернуто. В подразделениях не хватало этих скорострельных противотанковых пушек. Начальник артиллерии Красной армии маршал Кулик не считал «сорокапятки» (как и минометы) серьезным артиллерийским оружием, отдавая предпочтение крупным калибрам.
Между тем «сорокапятка», которую без особого труда перемещал в бою расчет из 5–6 человек, пробивала в начале войны за полкилометра броню почти всех немецких танков.
Поговорить с Чередником нам толком не дали, раздался сигнал воздушной тревоги. Люди торопливо ныряли в узкие защитные щели, ложились на дно траншей, прятались в окопах. Григорий Чередник побежал на свой КП.
В этот августовский день я впервые побывал под бомбежкой. Шестерка пикирующих «Юнкерсов-87» с воем сирен обрушалась на наши позиции. Мне запомнилась оранжевая окантовка крыльев, торчавшие, как шпоры, шасси, а затем раздался пронзительный вой сирен, который заставил меня сжаться в комок.
Взрывы были такой силы, что меня и командира второго взвода Юрия Савенко подкидывало на полметра, из стены траншеи выбрасывало комья земли, все вокруг сотрясалось. Огромные облака дыма, размолотой земли и частиц обугленной травы превратили день в сумерки.
Шарахнуло совсем близко, снесло бруствер. Младшего лейтенанта Савенко засыпало по пояс землей, он пытался выбраться и, наверное, кричал. Но я его не слышал. Меня контузило, в ушах стоял звон. Я разгреб землю, а девятнадцатилетний командир взвода, оглядев меня расширенными от страха глазами, вдруг попытался выпрыгнуть из траншеи. Я стащил его за пояс вниз:
– Сиди здесь… убьют.
– Нас тут заживо похоронит.
Голос перепуганного парня звучал как сквозь вату. На помощь пришел ординарец Егор Балакин и навалился на младшего лейтенанта всем телом.
– Сиди, тебе говорят…
Наверху творилось невообразимое. Тяжелые бомбы взрывались короткими вспышками, поднимая столбы земли. Волна дыма клубилась над головой. Я закашлялся, вдыхая отравленный тротилом воздух. Юрий Савенко тоже задыхался, и сержант Балакин приподнял его.
– Сейчас все закончится. Дыши…
И действительно, через несколько минут наступила тишина. Спасаясь от ядовитой гари, мы выползли из траншеи наверх.
В сорок первом году «Юнкерсы-87» были способны нести тысячу килограммов бомбовой нагрузки. На наш полк сбрасывали в основном тяжелые «стокилограммовки» и даже авиабомбы весом двести пятьдесят килограммов. После таких ударов мир вокруг перевернулся.
Зеленая трава стала серой и словно неживой от осевшей пыли. Глубокие воронки диаметром пять – семь метров еще дымились. Взрывы разломили твердую почву, вокруг змеились трещины, траншеи во многих местах обвалились.
Я обошел свою роту. Бойцы смотрели на меня ошалелыми глазами. Несколько человек были сильно контужены, на лицах запеклись струйки крови, вытекшие из носа и ушей. Прямым попаданием разнесло окоп наблюдателя. Человек просто исчез, нашли обрывки шинели и согнутый винтовочный ствол. Двое бойцов пропали без вести.
Четверых сильно контуженных красноармейцев отправил в санчасть. Я приказал расчищать траншеи – в любой момент можно было ожидать атаки. Бойцы понемногу приходили в себя.
Старшина Родион Сочка и пулеметчик Захар Антюфеев задавали тон, энергично работая штыковыми лопатами, которыми предусмотрительно запасся старшина. Нашлись двое пропавших без вести бойцов – мы откопали два сплющенных тела с желто-фиолетовыми от удушья лицами.
Политрук Раскин вылез из блиндажа и, пошатываясь, брел по траншее. Увидев тела погибших, сглотнул и попятился от них.
– Землей ребят завалило, – сказал старшина. – Вроде как заживо похоронило. Жалко парней, обоим и двадцати нет.
Ко мне подошел красноармеец.
– Товарищ старший лейтенант, контузило меня шибко. В санчасть надо бы…
Оглядев крепкого на вид бойца, я коротко ответил:
– Иди, полежи немного в окопе и приходи в себя.
Старший политрук потоптался рядом со мной. Он, наверное, тоже хотел пойти в санчасть, но не решился и сообщил мне:
– Надо бы к батальонному комиссару… узнать, какие будут указания.
Я посмотрел на него в упор. Старший политрук Аркадий Раскин обладал такими же правами, как я, а в некоторых вопросах даже более обширными. Например, мог в своем еженедельном политдонесении наплести что угодно про мой моральный облик или политическую сознательность. Поэтому я старался не обострять с ним отношения.
Но сейчас не выдержал. Я видел, что рота никак не придет в себя после бомбежки. Три человека погибли, четверо отправлены в санбат. Еще пять-шесть красноармейцев, и в том числе мой надежный помощник Михаил Ходырев, исполнявший обязанности командира третьего взвода, тоже получили контузии и с трудом приходят в себя. Командир второго взвода Юрий Савенко хоть и остался в строю, но руководить людьми пока не в состоянии.
Первым взводом временно командовал младший политрук Виктор Новиков, старательный, но не имевший опыта политработник. Он, как и остальные бойцы взвода, расчищал саперной лопаткой траншею, на поясе, мешая работать, болталась полевая сумка, набитая ненужными сейчас бумагами.
Что будет, если немцы предпримут внезапную атаку? Первым и вторым взводом руководят люди, ни разу не бывавшие в бою. Новикову не в земле копаться надо, а срочно проверить пулеметы. Впрочем, вряд ли он в них разбирается. Надежда только на сержантов. Гранаты и патроны, хранившиеся в нишах и небольшом ротном складе, были засыпаны землей. Винтовки, и в первую очередь пулеметы, надо чистить и смазывать.
– Аркадий Борисович, обойди позиции, поговори с людьми… Сам видишь, в каком они состоянии.
– Конечно, – закивал старший политрук. – Сейчас посижу пяток минут и пойду.
Я обратился к старшине:
– Родион, займись боеприпасами. Готовь противотанковые гранаты и бутылки с горючей смесью.
Подозвав Новикова, приказал ему:
– Приводите вместе с Савенко в порядок оружие. И спрячь куда-нибудь свой портфель, он тебе ходить мешает.
– Это полевая сумка. Там список комсомольцев, боевые призывы, протоколы собраний.
– Ты ими воевать собрался? Шагай, занимайся делом. Траншею без тебя расчистят.
– Сейчас я тоже оружием займусь, – сказал Михаил Ходырев.
– Ты в себя-то пришел?
– Все в порядке…
Когда старший сержант шел вдоль траншеи, его заметно покачивало. Но Михаил парень упрямый. За его взвод я был спокоен, порядок он наведет.
Думаю, если бы немцы сразу же после бомбежки повели наступление, нам пришлось бы очень туго. Как обстояли дела на левом фланге, я не знал, но наш третий батальон тряхнули крепко.
В девятой роте погибли тринадцать человек, более двадцати бойцов выбыли из строя раненными и контуженными. Седьмая рота понесла меньшие потери, но крепко досталось нашей артиллерии, прикрывающей батальон и фланг полка.
Одно орудие разбило близким попаданием, второе было повреждено: выбило из оси колесо, крупным осколком рассекло и согнуло щит. Но самое главное: погибли девять артиллеристов, а более десятка эвакуировали в тыл с тяжелыми ранениями.
Ко мне подошел начштаба майор Козырев и предупредил:
– Основной удар по вашему флангу был нанесен. Будьте готовы к отражению танковой атаки. Чередника я уже предупредил.
Кивнув на огромную воронку от бомбы весом 250 килограммов, обронил:
– Такими чушками крейсера топят или форты разрушают. А они на пехоту их сбрасывают. Морально задавить хотят. И отчасти им удалось это. Многие бойцы до сих пор в себя не придут. Во втором батальоне трое бойцов без вести пропали.
– Может, землей завалило?
– Двое точно дезертировали, а третий вроде надежный парень. Мог под прямое попадание попасть. Ладно, Василий Николаевич, готовься к бою. Пошли старшину и пару-тройку бойцов на склад боепитания, пусть захватят побольше противотанковых гранат. Ну и патронов, конечно. Артиллерию повыбило, туго придется.
Майор Козырев, наш бывший комбат, говорил со мной откровенно. В его присутствии командир батареи сделал проверочный выстрел из поврежденного и кое-как приведеного в порядок орудия.
Выстрел ударил необычайно громко. Сработало почти незаметное искривление ствола. Бронебойный снаряд разорвал лепестками конец ствола, сильная отдача выбила затвор.
– Вот черт! – выругался комбат Чередник и, помолчав, спросил: – У тебя, Гладков, хоть пулеметы в порядке?
– Один «максим» барахлит. Вызвали арттехмастера, ну и сами пытаемся наладить.
– Много вы там сами наковыряетесь!
– Если сумеем, то сделаем.
И я, и комбат Чередник знали, что полно работы – когда еще до нашего «максима» очередь дойдет. Просто мой товарищ хоть и стал комбатом, однако нервничал, как и все мы.
Я было направился к своим, но Гриша Чередник остановил меня. Протянул папиросу, мы закурили.
– Думаю, что гансы на рассвете ударят. Время уже к вечеру, а они с утра любят начинать.
– Тебе виднее, что они любят, – огрызнулся я.
Меня задел его назидательный, свысока тон. Нам вместе воевать, веди себя с людьми нормально. Папиросу я твою взял, но это не значит, что прибавилось к тебе уважения.
Комбат с минуту раздумывал, поставить меня на место или лучше не обострять отношения со своим старым товарищем накануне боя. Примирительно заговорил, что должна подойти танковая рота, а у немцев, судя по всему, не так уже много возможностей непрерывно наступать. Бои под Смоленском целый месяц идут.
– Замполит людям уже все растолковал, – язвительно заметил я. – Колотим их в хвост и в гриву.
Капитан Чередник затоптал окурок и молча зашагал к себе.
Глава 5 Окружение
Они прорвали нашу оборону. В то раннее августовское утро я убедился, насколько силен враг и подготовлен к стремительным ударам.
Основная масса танков и штурмовых орудий, не распыляя силы на затяжной бой с довольно сильным и многочисленным советским полком, с ходу смяла девятую роту и остатки дивизионной батареи. Перед этим участок прорыва был обстрелян минометами.
За полчаса на девятую роту и уцелевшие орудия Ф-22 обрушилось не меньше двух сотен 80-миллиметровых мин. Так кроме бомбежки мы впервые испытали на собственной шкуре, что такое интенсивный минометный огонь.
Стоял сплошной треск не таких уж и мощных, но зловредных и смертельно опасных осколочных мин, от которых трудно найти спасение в окопах или защитных щелях. Мины взрываются, едва касаясь земли, а скорость разлета осколков достигает 900 метров в секунду. Прыгающие мины («шпрингены») взрывались на высоте полутора-двух метров, наполняя воздух свистом и шипением раскаленных осколков.
Осколки выкосили половину орудийных расчетов, большие потери понесла девятая рота. Танки и самоходки шли довольно узким клином, стремясь обезопасить себя от противотанковых мин. На скорости вели непрерывный огонь из пушек и пулеметов.
Я сразу понял, что остановить этот разогнавшийся бронированный кулак мы вряд ли сумеем. Примерно 30 машин, не замедляя хода, смяли девятую роту, оба орудия и продолжили свой бег, явно окружая нас и готовясь уничтожать тылы.
Нет, этот прорыв дался им не так просто, как это происходило в завоеванных странах Европы. Наши саперы успели выставить какое-то количество мин, и два танка подорвались на мощных противотанковых «тарелках».
Побитые осколками орудия с ополовиненными расчетами подбили тяжелый танк Т-4 и вскрыли, как консервную банку, легкий чешский танк Т-38. Израненные, но оставшиеся на своих местах артиллеристы сделали все, что было в их силах, и почти все погибли.
Наверное, немцы не ожидали сопротивления от бойцов девятой роты. Через нее прошел каток бронированной техники, большинство красноармейцев и командиров были вмяты в землю, изорваны гусеницами. Часть людей пытались убежать от неминуемой смерти, их расстреливали пулеметными очередями в спину.
Какой-то отчаявшийся красноармеец, понимая, что спасения нет, остановился и, отцепив от пояса противотанковую гранату, швырнул ее в приближающийся «панцер». Тяжелая РПГ-40 до цели не долетела. Боец готовил для броска вторую гранату, но был срезан пулеметной очередью. Немецкий танк осторожно объехал тело и лежащую рядом гранату.
Из люка высунулся танкист и, мстя мертвому русскому солдату, несколько раз выстрелил в него из пистолета.
Командир девятой роты погиб в первые минуты боя. Вставший на его место командир взвода Валентин Дейнека собрал вокруг себя уцелевших бойцов. Остановил часть убегающих и, укрывшись в глубокой, добротно вырытой траншее, сумел дать отпор нескольким танкам, двинувшимся вдоль линии обороны.
Можно было только гадать, как он восстановил боеспособность тех двух десятков красноармейцев, видевших гибель роты и чудом вырвавшихся из-под стального катка.
Когда двадцатитонный «панцер» Т-3 приблизился к траншее, сразу несколько бутылок с горючей смесью полетели в него. Брошенные наспех, две-три ударились о землю, одна разбилась о камень, но досталось и слишком уверенному в себе экипажу.
Черная бутылка с шипящим спичечным запалом разбилась о лобовую броню и загорелась. Механик-водитель поторопился прикрыть смотровую амбразуру, но в оставшуюся узкую щель не мог ничего разглядеть, мешали огонь и густой маслянистый дым. Пушка и оба пулемета стреляли куда попало, им тоже мешал дым.
Механик дал задний ход, но о броню разбилась еще одна бутылка с КС. Экипаж задыхался от дыма. Пламя перекинулось на двигатель, и командир танка приказал покинуть обреченную машину. В любую минуту могли взорваться бензобаки и боезапас. Экипаж торопливо выскакивал, стреляя из укороченных автоматов и пистолетов. Двое угодили под пули и осколки ручных гранат, остальные танкисты отбежали подальше.
Враг, с которым мы столкнулись, был такого высокого мнения о себе, что всегда считал своим долгом отомстить за своих убитых камрадов. На траншею двинулся еще один танк, легкий Т-2, вооруженный 20-миллиметровой автоматической пушкой и пулеметом.
«Панцер» не рискнул подойти близко к траншее и открыл огонь с расстояния семидесяти метров. Снаряды сметали бруствер, взрывались или горели голубым искрящимся пламенем. Нанести существенного вреда укрывшимся в траншее бойцам во главе с лейтенантом Дейнекой они не могли. Требовалась пушка более крупного калибра. Хотя часть бойцов были ранены мелкими осколками.
– Их надо выручать, – сказал я Михаилу Ходыреву.
Не отошедший от контузии, старший сержант Ходырев, кашляя, показал на Т-3, который горел, выстилая пелену дыма.
– Можно рискнуть… подползти поближе и поджечь гада бутылками с горючкой.
Я огляделся по сторонам. Слишком рискованное дело, добровольцев не находилось. Бойцы отворачивались, боясь встретиться со мной взглядом.
Вперед выступил наш лучший стрелок, крепко сбитый алтаец Андрей Долгов.
– Я могу. Давайте бутылки, две гранаты у меня есть. Только с винтовкой ползти несподручно, наган бы мне.
Старшина Сочка достал из кобуры старый, вытертый до белизны наган и протянул Долгову:
– Вернешь, когда все закончишь.
Нужен был еще один человек. Я окликнул красноармейца Янютина. Он был юркий, небольшого роста и отличался исполнительностью.
– Янютин, пойдете вместе с Долговым. Возьмешь две бутылки с КС и две гранаты.
– Есть, – без особого воодушевления откликнулся тот. – Только нога у меня побаливает.
– Ползти-то сможешь? – вызывающе спросил старшина. – Или очко от страха играет?
– Смогу и без ваших подковырок, – вскинулся Янютин, рассовывая гранаты и бутылки с горючей смесью.
– Смотри не взорвись раньше времени.
– Не бойся, я их отдельно кладу.
Михаил Ходырев дал ему свой наган и ободряюще хлопнул по плечу:
– Все нормально будет.
– Удачи, ребята, – напутствовал я обоих бойцов. – Вперед. Мы прикроем вас огнем.
Первым выскочил наверх Андрей Долгов и уверенно пополз, выбирая ложбины между буграми. От него не отставал Янютин.
– Герои ребята, – сказал старший политрук Раскин. – Подпалят они фашиста.
Остальные промолчали. Слова политрука прозвучали казенно и как-то неуместно. Старшина Сочка отвернулся, и, сплюнув, поднял винтовку, проверил обойму и пристроил ее на бруствере.
Этот Т-2 был приземистый и широкий, с удлиненным стволом автоматической пушки. Своим непрерывным огнем он все же прижал лейтенанта Дейнеку и его бойцов. В некоторых местах снаряды обрушили края траншеи и могли достать ребят.
Открыл огонь один из ротных «максимов», тот, который пострадал при бомбежке. Своего лучшего пулеметчика, Захара Антюфеева, я держал пока в резерве. Отремонтировать «максим» толком не удалось. Он давал одну-другую очередь и захлебывался. Приходилось возиться с затвором, выравнивать ленту. Танк повернул башню в сторону нашего «максима». Тонкий ствол пушки с небольшим раструбом дал пристрелочную очередь, затем ударил в полную силу, выбрасывая сноп пламени.
Лязгнуло железо, с треском взорвались два-три небольших фугасных снаряда. Пулемет с продырявленным щитом и разорванным кожухом опрокинулся вниз, придавив сержанта, командира расчета. Мы бросились ему на помощь и невольно отшатнулись.
Снаряд сорвал каску и верхнюю часть черепа, глаза выбило из орбит динамическим ударом.
– Господи, что же это творится…
Я не понял, кто шептал эти слова. Слух вернулся ко мне еще не полностью.
Долгов и Янютин ползли к «панцеру». Пока их прикрывал дым. Они бросили свои бутылки с горючей смесью метров с сорока, и обе они не долетели до танка. Одна ударилась о ком сухой земли. Шипя, загорелась трава, а танк разворачивал в их сторону башню.
Он бы накрыл обоих бойцов, но я перехватил ручной пулемет и открыл огонь, вжимаясь в бруствер, который меня все равно бы не защитил от снарядов 20-миллиметровки. Одновременно в сторону Т-2 понеслись очереди «максима» Захара Антюфеева и вразнобой застучали винтовочные выстрелы.
Неожиданная помощь бойцов сыграла свою роль. Не такая и сильная броня была у этой десятитонной машины. Хотя наши пули ее не пробивали, но удары были довольно чувствительные. «Максим» вколачивал, как зубилом, длинные очереди, сбивая немецкому артиллеристу прицел. Пушка выпустила веером десятка полтора снарядов и замолчала.
Андрей Долгов, пробежав несколько шагов, бросил еще одну бутылку с горючей смесью, которая разбилась о башню. Из люка высунулся танкист с огнетушителем, но сразу же был ранен одной из пуль и снова исчез внутри машины.
Танк, развернувшись, набирал скорость и вскоре исчез за бугром. Возможно, экипаж сумел погасить пламя, а в нашу сторону обрушился град мин. Нас обстреливали не меньше часа, но атаку пока не предпринимали.
В роте несколько человек были убиты и тяжело ранены. Комбат Чередник приказал собрать раненых и эвакуировать их в санчасть. Человек пять погрузили в повозку, еще сколько-то понесли на носилках. Кто мог, шли сами, поддерживая друг друга.
Тягостно было смотреть на вытянувшуюся цепочку наших товарищей, которую в любую минуту могли перехватить немецкие самолеты.
– А ведь в тылу у нас прорвавшиеся танки, – проговорил я.
Чередник ничего не ответил, а вскоре за нашими спинами поднялась орудийная стрельба. Одновременно последовала атака на левом фланге, а в нашу сторону двинулись два бронетранспортера и не меньше сотни немецких пехотинцев.
Численно мы их превосходили. Седьмая и восьмая роты понесли не такие и большие потери. К нам присоединились остатки девятой роты, около двадцати человек во главе с лейтенантом Валентином Дейнекой. Светловолосый, крепко сложенный, он держал в руке трофейный автомат.
– Где нам занять позиции? – спросил он.
Я показал место и спросил:
– Гранаты остались?
– Почти нет, да и с патронами туговато.
– Надо обеспечить товарищей боеприпасами, – вмешался наш старший политрук Раскин.
Боеприпасы у нас имелись. Старшина Сочка вместе с помощником принесли ящик патронов и гранаты. Комбат Чередник, вглядываясь в бинокль, коротко обронил:
– Валентин, ты теперь командуешь ротой. Дрались вы хорошо.
– Есть, – козырнул лейтенант. – Только нас всего девятнадцать человек.
– Сколько есть. Держись ближе к Гладкову.
Двадцатилетний Валентин Дейнека закончил в июне первый курс Саратовского пехотного училища. Когда началась война, он пришел в наш полк лейтенантом.
Минометов в полку почти не было, и не хватало взводных командиров. И вот вчерашний курсант Дейнека, хорошо показав себя в бою, возглавил остатки девятой роты.
Кроме ручного пулемета Дегтярева его бойцы имели только винтовки. Старшина Сочка с помощниками принесли им вместе с патронами и гранатами ящик бутылок с горючей смесью. Новый ротный действовал энергично, быстро расставил людей, и через несколько минут его бойцы уже были готовы к отражению атаки.
В отличие от нас немецкие пехотинцы не шли цепью, а передвигались перебежками группами по 10–15 человек. Их поддерживали пулеметы бронетранспортеров, по два «машингевера» на каждом, в том числе крупнокалиберные.
В штурмовых отделениях тоже имелись пулеметы. Немцы продвигались довольно быстро, их трудно было взять на мушку. Я заметил, что бойцы теряются, особенно молодые. Пряча головы от пуль, они торопливо выпускали обоймы, у некоторых заклинивало затворы.
Пока атаку в какой-то степени сдерживали наши немногочисленные пулеметы и опытные бойцы. Андрей Долгов целился не спеша, но я видел, как после его выстрела упал немецкий солдат.
Захар Антюфеев со своим «максимом» угодил под очередь 13-миллиметрового пулемета. Пуля пробила щит и тяжело ранила второго номера расчета. Старший сержант торопливо сменил позицию.
– Нам бы пушечку самую захудалую, – крикнул он мне. – Эти гробы с высоты как метлой все подметают.
Оба бронетранспортера не рисковали приближаться ближе трехсот метров, имея тонкую броню. Зато штурмовые отделения уже залегли в сотне метров от нас. Наиболее ушлые солдаты начали швырять гранаты с длинными деревянными рукоятками. Они не долетали до наших траншей и окопов, но взрывы вызывали сумятицу, и одно из штурмовых отделений приблизилось метров на пятьдесят.
Я понимал, что через считаные минуты они ворвутся на позиции и начнут уничтожать автоматным огнем наших бойцов. Это был критический момент. Оставался только один выход: выбить их контратакой.
Второй взвод поднялся по моей команде, когда в них уже летели гранаты. Юрий Савенко с винтовкой наперевес вел своих людей уверенно. Несколько человек упали, но остальные схватились с прорвавшимися немцами.
Это стало вроде сигнала для остальных вражеских групп. Теперь в ближний бой вступила почти вся рота. Я тоже с самозарядкой СВТ бежал вместе со всеми – командиров не хватало.
Началась рукопашная схватка, в которой бронетранспортеры уже не могли оказать своим солдатам помощь – все смешалось в один клубок. Автоматы сыграли свою роль, выбив не меньше десятка наших бойцов.
Но штурмовые группы, расстреляв на бегу магазины своих МП-40, лишились преимущества. Достать запасной магазин и перезарядить автомат – для этого требовались считаные секунды. Но в бою играют нервы, магазин никак не вставляется в паз, когда навстречу бежит рослый красноармеец, готовый вонзить в тебя узкий четырехгранный штык.
Примерно половина наступающих были вооружены винтовками «маузер» с ножевыми штыками. Они умели ими владеть, но столкнулись с наполненными ненавистью русскими, которых до этого уничтожали на расстоянии.
Сейчас ситуация изменилась. Мой ординарец Балакин ударил штыком в живот унтер-офицера. Прямо передо мной упал лицом вниз молодой красноармеец, а навстречу вымахнул рослый солдат. Не пройди я усиленную тренировку штыкового боя в Буйнакском училище, эта схватка стала бы для меня последней.
Я едва успел отбить обманное движение опытного гренадера. На мгновенье наши взгляды встретились. Немец, уклоняясь от удара, отшатнулся в сторону. Я догнал его заученным ударом. В бою поединки не могут длиться долго – нарвешься на пулю или другой штык. Солдат упал на колени, я выдернул штык, пробивший ему низ живота возле поясной пряжки ремня с вещей надписью «С нами бог».
Другой унтер-офицер, управляя группой солдат, теснил наших. Вперед вырвался пулеметчик, держа на весу ручной пулемет «дрейзе» с барабанным магазином на 75 патронов. Очередь опрокинула на землю двух бойцов из моего родного третьего взвода.
В пулеметчика выстрелили одновременно Михаил Ходырев и Андрей Долгов. Они вели за собой взвод, с ходу врезавшись в группу наступающих. Трудно описать рукопашный бой, настолько он стремителен, наполнен ненавистью и требует мгновенной реакции.
Младший политрук Новиков выпустил три пули подряд в немецкого ефрейтора. Сумел ранить его, и сам едва не стал жертвой набегающего на него солдата. Штык пропорол гимнастерку и кожу на боку – Новиков успел отшатнуться. Солдата ударили в основание шеи саперной лопаткой и выбили винтовку из рук.
Рядом со мной угодил под автоматную очередь красноармеец из недавнего пополнения. Пули, пробивая тело насквозь, рвали на спине гимнастерку, разлетались брызги крови. Автоматчик слишком увлекся стрельбой, и я сумел ударить его штыком в бок, под правую руку.
Но рукопашный бой так же быстро кончился, как и начался. Немцы отступили под прикрытие своих бронетранспортеров. Несколько красноармейцев кинулись вслед и угодили под пулеметный огонь. Мне с трудом удалось вернуть роту в укрытие.
Люди никак не могли прийти в себя, возбужденные смертью, которая пронеслась мимо каждого. Несколько человек собирали трофеи. По ним стегнул очередью крупнокалиберный пулемет, они кинулись в траншею.
– Повоевали, – нервно закуривал папиросу старшина Сочка, который тоже участвовал в рукопашном бою.
У Егора Балакина, моего ординарца, тряслись руки и рвалась тонкая бумага, пока он сворачивал самокрутку.
– Возьми папиросу, – протянул я ему полупустую смятую пачку «эпохи».
Он меня не слышал и повторял:
– Двое детей… а меня штыком в брюхо. Как вырваться сумел?
– Егор, очухайся. На папиросу, покури, и собери сведения о потерях.
– Спасибо… щас курну и обойду взвод.
Санитары, сняв с младшего политрука гимнастерку и нательную рубаху, промокнули кровь и рассматривали почти напрочь срезанный клок кожи.
– Чего уставились? – подошел к ним Андрей Долгов, доставая хорошо отточенный охотничий нож. – Спирт есть?
– Разбился флакон.
– Вылакали небось.
У меня оставалось немного одеколона. Алтаец протер им лезвие и подступал к Новикову, которого била мелкая дрожь.
– Не бойся, я мигом.
Прежде чем кто-то успел среагировать, он отхватил лезвием болтавшийся клок кожи.
– Ну, вот и все. Бинтуйте.
– Мне в санчасть, наверное, надо бы, – клацая зубами, проговорил младший политрук.
– На вот, рубаху и гимнастерку возьми, – протянул ему новую одежду запасливый старшина Сочка. – А до санчасти вряд ли доберешься. Там, кажись, бой идет.
Михаил Ходырев, присев рядом, предложил:
– Может, автомат трофейный возьмете. Удобная штука, только патронов мало, всего два магазина.
– Спасибо, Миша, оставь себе. Я к винтовке за последний год привык. Тем более самозарядка.
– Ну-ка дай глянуть, – потянулся наш старший политрук Раскин.
– Берите, – великодушно уступил трофей Ходырев.
Подошел Валентин Дейнека и грустно проговорил:
– У меня в рукопашке еще двое бойцов погибли. Теперь не рота, а отделение.
Егор Балакин доложил, что наша рота потеряла семнадцать человек погибшими, почти тридцать бойцов ранены. А четверо без вести пропали.
– Удрали, что ли?
Балакин пожал плечами.
– Надо санчасть искать, – озабоченно добавил он.
Вскоре мы получили приказ сниматься и отступать. Комбат Чередник, связавшись по телефону с командиром полка, рассказал, что немецкие танки пытались смять штаб и тылы полка. Артиллеристы атаку отбили, но расстреляли почти все снаряды и потеряли половину орудий.
– Танков-то много подбили? – спросил я.
– Не знаю, – рассеянно ответил Чередник. – В первом батальоне всего триста человек осталось.
– И у нас не намного больше. У Дейнеки меньше двадцати бойцов. У меня в строю девяносто восемь человек.
– Политрук Новиков серьезно ранен?
– Нет. Штыком кожи клок содрали.
– Идти сможет?
– Может. И взводом нормально командует.
– Я после боя толком с ним и не виделся. Надо глянуть.
– Бойцы голодные, покормить бы людей.
– Посыльный сказал, что выслали полевые кухни и повозку с сухим пайком.
Сделав в темноте короткий привал, оба отступавших батальона перекусили остывшей пшенной кашей. Кроме того, выдали сухой паек: хлеб, по кусочку сала и сахар. С полкового склада привезли на грузовике ЗИС-5 патроны и гранаты.
– Разбирайте, кто сколько унесет, – великодушно разрешил пожилой капитан интендантской службы.
Но уставшие бойцы разбирали боеприпасы неохотно. Идти наверняка предстояло всю ночь, а что будет утром, один бог знает. Прекращая ненужный гвалт, я приказал:
– Всем взять по двести патронов и четыре гранаты. На каждый взвод – ящик противотанковых гранат.
– Куда столько…
Старшине приказал загрузить боеприпасами повозку.
– Лучше бы консервов привезли, – ругался Сочка.
– Мне бы гимнастерку со звездами, как положено, – обратился к капитану наш малорослый политрук Новиков.
Солдатская гимнастерка была ему велика и свисала почти до колен.
– Нет у меня одежки, – ответил капитан. – Возьми-ка лучше гранат. Вон «лимонок» могу пару-тройку дать. Умеешь обращаться?
– Умею.
– Вот и бери.
Окружение. Зловещий смысл этого понятия многие из нас тогда еще не знали. В Финской войне мы порой несли большие потери, но у финнов не хватало ни техники, ни людского ресурса, чтобы окружить советский полк или дивизию, не говоря о более крупных подразделениях.
В исторических документах говорится так: «Под ударами 2-й немецкой армии, усиленной 2-й танковой группой, советские войска начали отступать в южном направлении». Эта фраза относилась и к нашей дивизии, куда входил мой стрелковый полк.
Канонада не стихала всю ночь. Зарницы орудийных залпов вспыхивали с разных сторон. Мы прошли мимо горящего села. Вдоль грунтовки, изрытой воронками, стояли грузовики, распряженные подводы. В кювете дымил тяжелый танк КВ-1. Попадались брошенные орудия.
Григорий Чередник решил проявить инициативу и прихватить одну из легких пушек. Большинство были выведены из строя, но одна из «сорокапяток» оказалась целой и даже с лафетом, наполненным снарядами. Все это хозяйство весило 1200 килограммов (плюс снаряды).
Десятка полтора бойцов, облепив пушку, с трудом катили ее. Кто-то предложил отцепить лафет, но комбат запретил:
– На хрен она бы сдалась без снарядов!
В эту ночь отступления я убедился в энергичности и дальновидности нашего комбата. Чередник приказал мне задерживать одиночные повозки, а старшина Сочка привел двух брошенных лошадей. Для транспортировки «сорокапятки» требовалось четыре лошади, но мы обошлись двумя – бойцы помогали конягам толкать наше орудие.
Интендант, под началом которого двигались три повозки, стал возмущаться, но Чередник поставил его по стойке «смирно» и обвинил в дезертирстве, так как он двигается отдельно от своего подразделения и не может назвать маршрут. Старший лейтенант лет сорока, довольно упитанный, в добротной форме, понял, что дело может закончиться плохо. Козырнув, сообщил, что готов поступить в распоряжение нашего полка (а точнее, батальона).
В повозках обнаружили с полсотни плащ-палаток, комплекты нательного белья, сапоги и ботинки, несколько ящиков консервов, мешок сахара, канистру спирта.
Часть имущества тут же раздали бойцам и посадили на повозки человек шесть легкораненых. Я убедился, какая опасная вещь – легкое ранение, если людям не оказать вовремя медицинскую помощь.
Запомнились двое красноармейцев и сержант из роты лейтенанта Дейнеки. Все они получили по несколько ранений мелкими осколками от 20-миллиметровых снарядов. Эти крошечные кусочки металла было трудно разглядеть даже днем, люди не обращали на них внимания. А к ночи раны воспалились, бойцов трясло и бросало в пот.
Единственное, чем мы смогли им помочь, – сменить повязки, налить понемногу спирта и покормить.
На рассвете мы соединились со штабом полка и вторым батальоном, который получил приказ отойти раньше. Узнали, что понесли потери и тыловые подразделения (что не вызвало у нас особого сочувствия). Командир полка Усольцев обнял Чередника, поздоровался за руку с командирами и, улыбаясь, сказал:
– Ну что, прошли первое знакомство с немцами?
Командиры рот, хоть и не слишком весело, улыбались в ответ.
– Сильный враг, ничего не скажешь, – продолжал полковник. – Но бить его можно. Они с тылу хотели нас смять, но артиллеристы не дали им разгуляться. Четыре танка сожгли, а еще три подбили – на буксире уволокли.
У нашего комполка, прошедшего три войны, не было привычки выставлять напоказ успехи. Но сейчас, видя поредевшие батальоны, сумевшие прорваться, измученных долгим переходом бойцов, множество раненых, он старался нас подбодрить.
– Раненых в санчасть, – дал команду Усольцев. – Комбатам доложить о наличии людей, потерях. Через час покормим бойцов горячим.
– Наш батальон тоже отпор дал, – как-то ни к месту и слишком бодро заявил старший политрук Раскин. – Пять танков уничтожили и штурмовую роту хорошо потрепали.
– Чем же вы танки одолели? Гранатами, что ли? – скептически поинтересовался начштаба Козырев.
– Товарищ политрук немного напутал, – отозвался Григорий Чередник. – Две машины на минах подорвались, две – батарея «трехдюймовок» Ф-22 уничтожила. Кстати, и сама батарея почти целиком погибла. Один танк взводный Дейнека из девятой роты бутылками с КС поджег. Ну, еще пару машин слегка подпалили, но они уйти сумели. Ходатайствую: лейтенанта Дейнеку командиром девятой роты назначить. Правда, у него людей осталось меньше двух десятков.
– А всего в батальоне? – спросил Усольцев.
– В седьмой и восьмой роте двести десять человек и плюс семнадцать в девятой.
– Дезертиры были?
– Ночью на марше около десятка бойцов потерялись.
– Чего там потерялись! – жестко перебил Чередника майор Козырев. – Удрали. В этой войне серединки нет. Либо ты с нами, либо с врагом.
– Точно сказано, товарищ майор, – снова подал голос старший политрук Раскин.
– Твоя недоработка, между прочим. Если в бою не участвуешь, так хоть с людьми работай.
– Политработники тоже на переднем крае, – возразил Раскин. – У меня младшего политрука Новикова штыком ранили, и сам я в фашистов стрелял.
– Все, достаточно, – прервал ненужную перепалку полковник Усольцев. – Лейтенант Дейнека назначается командиром девятой роты. Ягупов, оформи приказом. Подбросим ему людей из тыловых служб, но на многое не рассчитывайте. Второй батальон серьезные потери понес, тоже танковую атаку отбивали.
Нам дали отдохнуть часа два, и мы принялись рыть укрепления. Тогда мы еще не знали, что всем выжившим рытьем окопов и траншей предстоит заниматься десятки и сотни раз. Такая война. Иначе не спрячешься от вражеских самолетов и постоянного артиллерийского обстрела, особенно минометного.
К нам в батальон пришел Тимофей Козырев, наш бывший комбат. Мы уже получили пополнение, человек тридцать тыловиков и несколько бравых ребят из комендантского взвода.
Одетые в добротную форму, рослые, «комендачи» держались особняком, считая свое пребывание в стрелковой роте явлением временным. Увидев начальника штаба, обрадовались, думали, что он пришел их забрать. Кто же штаб будет охранять?
Но Козырев привел двоих артиллеристов.
– Принимайте специалистов, – присаживаясь и доставая папиросы, сказал он. – Молодец товарищ комбат, что догадался пушку подобрать. С артиллерией у нас туговато, да и с боеприпасами тоже.
Подозвал поближе лейтенанта Валентина Дейнеку.
– Расскажи людям, как танк «горючкой» сжег.
– Да они видели.
– Эффективная, значит, штука?
– В лесной местности или среди домов в городе – эффективная. Там можно из укрытий и в жалюзи, и в моторную часть попасть. А на равнине и в окопах немного пользы. Половина бутылок во время артобстрела разбивается и сгорает. Люди начинают бояться, потому как некоторые бойцы живьем сгорают. Из окопа высунешься, чтобы горючку бросить, а в тебя очередь из пулемета уже несется. Но когда деваться некуда, бери себя в руки и выжидай момент. Можно их танки «коктейлем Молотова» жечь, только я думаю, что без артиллерии не обойдемся.
Довольно обстоятельный и смелый в своей откровенности рассказ лейтенанта Дейнеки заставил меня по-новому посмотреть на него. Кажется, Валентин отслужил год или два срочной службы, затем поступил в училище и службу знает во всех мелочах. Да и решимости ему не занимать. Я понял, что в батальоне появился сильный и грамотный командир, который знает себе цену и в рот начальству заглядывать не станет.
– Ты свои откровения при себе держи в присутствии личного состава, – не слишком дружелюбно заметил комбат Чередник. – Не та обстановка, чтобы в рассуждения пускаться. Фашиста надо бить всем, что под рукой имеешь, и не ждать, пока тебе пушки подкатят.
Я уловил в тоне своего старого друга нотки ревности. Пришел какой-то недоучка-взводный, сумел поджечь немецкий танк. За неимением более опытных командиров был выдвинут на роту и теперь умничает.
«А ведь к таким людям надо прислушиваться, они откровенно о сложностях говорят», – подумал я.
Но Козырев поддержал Чередника, не желая ронять его авторитет.
– Артиллерия, конечно, хорошо. Но ваш комбат прав. В такое тяжелое время надо бить врага любыми способами. Наши саперы за неимением горючей смеси и противотанковых гранат сделали связки тола и подорвали тяжелый Т-4, который на командный пункт прямиком шел.
Я уже слышал эту историю. Молодой лейтенант-сапер возглавил группу подрывников, и они забросали немецкий танк связками тола. Вторую машину вынудили отступить. Почти все саперы (около пятнадцати человек) погибли, попав под огонь пулеметов. Говорят, лейтенанта представили посмертно к ордену Красного Знамени. Они, конечно, герои, но обидно терять по пятнадцать человек, чтобы уничтожить один немецкий танк. Только кто осмелится это сказать? Летчики на таран идут, горящие самолеты на вражеские колонны направляют.
Почувствовав, что эта тема касается его, не преминул вставить свое мнение старший политрук Раскин. Показал пальцем на своего помощника Новикова, раненного штыком.
– Комиссары в рукопашную схватку вступают без всяких рассуждений. А товарищ Дейнека…
Козырев поморщился как от кислого. Он терпеть не мог пустой болтовни, а младший политрук Новиков исполнял обязанности командира взвода и вел людей в бой, как предписывает Устав.
– А чего вы младшего политрука с собой таскаете? Его взвод укрепления копает, он должен со своими бойцами находиться. И найдите ему новую гимнастерку, эта вся в пятнах крови. Напоказ, что ли, выставляете?
Виктор Новиков покраснел и мгновенно вскочил. Он был скромный, исполнительный парень, и Раскин вертел им как хотел. Хотя в настоящее время исполнял обязанности строевого командира.
Старший политрук съежился, зная резкий характер начальника штаба. Но Козырев сдержался и заговорил о сложившейся обстановке. Дивизия скорее всего отойдет на новые рубежи, так как немцы прорвались вперед и могут захлопнуть мешок. Нашему полку предстояло прикрывать отход дивизии и соседних частей, заняв полосу обороны около двух километров – наиболее вероятное место удара главных сил противника.
– Не забывайте, что в тылах передвигается немецкий танковый отряд. Так что будьте готовы отразить атаку с тыла.
– Сколько времени надо будет продержаться? – спросил Григорий Чередник.
– Минимум сутки, а желательно двое.
– Как насчет артиллерии?
– Батальоны получат в свое распоряжение по две-три легких пушки. Кроме того, вблизи линии обороны окапываются две батареи «трехдюймовок» Ф-22. В распоряжении штаба полка имеется неполный гаубичный дивизион 122-миллиметровок. Он поддержит огнем участки, где сложится тяжелая обстановка.
– Неполный дивизион – это сколько стволов? – спросил комбат-1, майор Крайнюк, грузный дядька лет сорока пяти, с вислыми усами и старым потускневшим орденом Красного Знамени на груди.
– Девять стволов, Игнат Пахомович. Кроме того, к вам уже направлен взвод «сорокапяток» – три пушки.
Командир первого батальона был самый опытный комбат в полку. По возрасту ровесник полковника Усольцева, участник Гражданской войны. К его мнению прислушивались, руководил людьми он обдуманно, вникая в каждую мелочь.
– Значит, всего у нас штук двадцать пять орудий разного калибра. В принципе не так и мало. Желательно как можно быстрее заготовить достаточный запас боеприпасов.
– Снабженцы уже этим занимаются.
– А что насчет минометов?
В полку имелась батарея тяжелых 120-миллиметровых минометов, с ограниченным запасом мин. Сформировали также взвод легких 50-миллиметровых минометов, но это оружие еще толком не освоили, боеприпасов не хватало.
– Тяжелые минометы дадут в начале вражеской атаки десяток залпов и затем будут эвакуированы. Как следует маскируйтесь, возможен налет немецкой авиации.
По приказу Сталина еще в июле в ротах и батальонах были созданы специальные команды «истребители танков», вооруженные бутылками с горючей смесью, противотанковыми гранатами и взрывчаткой.
– Проверьте и обновите при необходимости эти команды, – напомнил Козырев.
При этих словах его взгляд невольно остановился на командире второго батальона старшем лейтенанте Фатьянове. Молодой командир лишь вчера заменил погибшего комбата. Петр Фатьянов опыта почти не имел, хотя в первом бою проявил себя энергичным командиром.
Хотели вернуть на батальон капитана Ягупова, все же прошел Финскую войну. Но Усольцев отмахнулся:
– Уже покомандовал! Пусть в штабе бумажки пишет. Я бы Гладкова Василия предложил, но он только недавно роту принял. Не хочется ослаблять третий батальон.
– Петро, – попросту обратился к Фатьянову начштаба. – Из артиллерии получишь две трехдюймовые «полковушки» и две «сорокапятки». Считай, батарею принимаешь, хоть и сборную. Пулеметов «максим» у тебя три штуки, если не ошибаюсь. Получишь для ровного счета еще один. Людей тоже подбросим, но стоять насмерть. Никакого отхода без приказа.
– Так точно, товарищ майор. Второй батальон свою задачу выполнит.
До вечера немцы нас особенно не тревожили. Где-то на левом фланге дважды поднималась орудийная пальба. А ближе к закату нас атаковала тройка легких бомбардировщиков «Хеншель-123».
Это были довольно тихоходные бипланы, разукрашенные в серо-голубой цвет, с массивными капотами и торчащими, как у «Юнкерса-87», шасси. Самолеты не обладали броневой защитой. И сбросили авиабомбы (в основном «полусотки») с высоты метров восемьсот.
Два «хеншеля» отбомбились по линии траншей и окопов, а третий атаковал уходящие в тыл грузовики. Две машины остались гореть на обочине, а мы потеряли человек шесть погибшими и более десятка ранеными.
Затем все три «хеншеля», избавившись от бомбового груза (полтонны на самолет), немного снизились и совершили разведывательный облет позиций. Обозленные бойцы открыли огонь из ручных пулеметов и винтовок.
Несколько пуль уходили в цель, и летчики, как пришпоренные, поспешили набрать высоту и скрылись в облаках. Когда темнело, на правом фланге, в двух-трех километрах от нас, проследовали на восток десятка полтора танков, несколько бронетранспортеров и легких грузовиков с пехотой.
Они промелькнули вдоль кромки леса, не открывая огонь. Мы тоже себя не обнаруживали. Было ясно, что наш полк все глубже увязает в окружении, в котором нам и предстоит сражаться.
Перед рассветом, после ночной проверки постов, я обычно ложился поспать час-другой, чтобы отдохнуть перед долгим днем. На этот раз мне не дала заснуть и подняла с нар смутная тревога. По каким-то признакам я понял, что вот-вот начнется артиллерийская подготовка. В траншее увидел Михаила Ходырева.
Взводный напряженно прислушивался, затем прошептал:
– «Рама» уже в воздухе. Наверное, артобстрел будет корректировать.
К нам присоединился старший политрук Раскин. Он был тоже встревожен и предложил:
– Может, в штаб полка сходить.
– Зачем?
– Доложить, что «рама» появилась.
– Они и без нас ее разглядели.
Пулеметчик Захар Антюфеев вместе с помощниками убирали под бревенчатый настил свой «максим», укрыв его брезентом. Красноармейцы, которые в это время обычно спали, занимали свои места в тревожном ожидании. Кто-то окликнул Антюфеева:
– Не рано пулемет прячешь? Вдруг немцы попрут.
– Попрут, – согласился старший сержант, – но вначале передний край из всех стволов обработают. Держи штаны крепче.
– О своих позаботься.
Гаубичные снаряды зашелестели, ввинчивая над головой зловещий вой. Затем послышались залпы. Фугасы и осколочные снаряды летели, опережая звук выстрелов. Вели огонь 105-миллиметровые гаубицы, не меньше двух дивизионов.
Они не обладали высокой скорострельностью (5–7 выстрелов в минуту), но посылали пятнадцатикилограммовые снаряды с немецкой равномерностью. Грохот взрывов не стихал, над головой шипя проносились осколки. Мы успели вырыть защитные щели, два блиндажа, перекрытые тремя накатами бревен и метровым слоем земли.
В один из блиндажей угодил фугасный снаряд. Обрушилась земля и часть бревен. Разгребая землю, из дымящейся ямы сумели выползти человек восемь бойцов. Еще столько же остались внутри, раздавленные осевшим перекрытием.
Гаубицы замолкли, а на смену им открыли огонь полевые 75-миллиметровые пушки. Скорострельность у них была вдвое выше. Высунувшись из защитной щели, я увидел, что земля просто исчезла, накрытая фонтанами взрывов и густыми клубами дыма.
Затем послышался гул танковых двигателей. Нас собирались смести, не дав прийти в себя после сотен снарядов, обрушившихся на полк. Бойцы занимали свои места, наскоро протирали и готовили оружие. В эти минуты на высоте 50–70 метров начали вспухать небольшие облачка, и послышался характерный треск. Это рвались бризантные снаряды, осыпая нас сверху осколками и шрапнелью.
– В укрытия! – крикнул я.
Что-то кричали командиры взводов и отделений. Сержант с помощником, мостившие на бруствере ручной пулемет, не успели среагировать. Шрапнельная круглая пуля, звякнув, пробила каску сержанта, другая ударила и сорвала диск, разбросав вокруг блестящие желтые патроны. Второй номер расчета успел отползти.
В ста метрах позади наших траншей и окопов стояли в капонирах две короткоствольные полковые «трехдюймовки». Уцелели они или нет? Артиллерийский огонь прекратился, а сквозь оседающий дым показались головные танки. До них было менее километра, может, метров восемьсот.
Красноармейцы откапывали засыпанные в нишах землей противотанковые гранаты и бутылки с горючей смесью. Я обошел траншею. То в одном, то в другом месте лежали погибшие и тяжелораненые.
Захар Антюфеев вместе с расчетом устанавливали «максим». Через десяток шагов я наткнулся еще на одно мертвое тело. Андрей Долгов предупредил меня:
– Там за поворотом бутылка с КС разбилась. Жидкость не загорелась, я послал бойца прикопать ее, не дай бог, полыхнет.
– Погибшего уберите.
– Сейчас. Люди в себя еще не пришли, а гансы уже танки пустили.
Крайним на правом фланге был взвод Михаила Ходырева. Старший сержант доложил мне:
– Троих ребят снарядами накрыло.
Он перечислил фамилии погибших, я молча кивнул. Времени выражать сочувствие не оставалось, танки неумолимо приближались. Ударила батарея дивизионных орудий Ф-22. Я обратил внимание, что ведут огонь три пушки – значит, четвертую накрыло одним из снарядов.
– Фугас из «стопятки» в капонир угодил, – подтвердил мои опасения Ходырев. – Наверное, и расчет погиб. Рвануло крепко.
Открыла огонь на левом фланге вторая батарея Ф-22, затем ударили гаубицы. Танки вели беглую стрельбу на ходу. Над головой снова пронесся снаряд. Небольшого калибра, наверное, 50-миллиметровый, но разорвался он звонко, неподалеку от наших короткоствольных полковых пушек. Заметили их все же, гады!
Какое-то время результатов стрельбы видно не было. Затем «трехдюймовка» Ф-22 угодила в один из танков, и он застыл. Остальные машины ускорили свой бег. В основном это были танки Т-3 и пара-тройка массивных Т-4. Немного отставая от них, маневрируя, шли легкие машины Т-2 и чешские Т-38.
По мере приближения головных танков открыли огонь «сорокапятки» и короткоствольные «полковушки». Две полковые легкие пушки, установленные позади нашей роты, явно поторопились. Несмотря на свой трехдюймовый калибр, снаряды в коротких стволах разгонялись лишь до 370 метров в секунду и на дальности пятьсот метров в лучшем случае могли пробить броню не толще 25 миллиметров.
Я видел, как снаряд угодил в лоб танка Т-3. Брызнули искры, машина дернулась. Посреди броневой плиты появилось пятно обгоревшей краски. Снаряд не пробил броню, а взвод легких «полковушек» обнаружил себя.
Возле капониров взорвались несколько снарядов. Скорострельные «полковушки» открыли беглую стрельбу. Эти легкие орудия могли выпускать десяток снарядов в минуту. Но торопливые выстрелы не дали результатов. Еще два-три попадания в головные танки также не взяли броню, а вспышки отчетливо обозначили немецким танкистам цель.
Через считаные минуты одна из пушек была разбита прямым попаданием. Верхнюю часть щита другой «полковушки» сорвало с креплений, осколки угодили в командира орудия и наводчика – главных людей в расчете.
«Сорокапятка», которую мы прихватили с собой во время ночного марша, действовала более эффективно. Она просадила броню «панцера» Т-3. Пробоина была еле заметна, но высокая скорость раскалила бронебойный снаряд до малинового свечения. Кто-то из экипажа был убит, другие ранены, вспыхнул порох в смятых от удара орудийных гильзах.
Из открывшихся люков сумели выскочить трое танкистов. Дым окутал машину, сквозь него пробивались языки огня, затем стали пачками детонировать снаряды. Сорвало обе половины бокового люка, взрыв выбросил мелкие горящие обломки, смятые гильзы.
Боезапас Т-3 составлял 120 снарядов. Сильный взрыв перекосил башню, а из образовавшейся щели вырывалось пламя горящего бензина. Лопнула решетка жалюзи, вспыхнул двигатель.
Поднялась в атаку немецкая пехота. На участке нашего батальона группами по 20–30 человек перебежками приближались не менее полутора сотен солдат. Не так и много, но бежали они следом за танками, и каждая штурмовая группа была вооружена пулеметами, а треть атакующих имели автоматы.
Мы пока огонь не открывали – слишком далеко. Стучали отдельные выстрелы бойцов, у которых не выдержали нервы. Пока работала наша артиллерия и вели огонь немецкие танковые пушки. Я стоял возле расчета рыжего здоровяка Захара Антюфеева, лучшего пулеметчика в батальоне. Он мог бы уже достать своими точными очередями вырвавшихся вперед немецких пехотинцев, но сразу бы угодил в прицел танковых пушек.
– Не торопись, Захар…
– Я не тороплюсь, Василий Николаевич.
Мой ординарец Балакин стучал кулаком по брустверу и бормотал:
– Столько стволов бьют, а танки прут как к себе домой. Плохо пушкари стреляют…
Не так и плохо вели огонь наши артиллеристы. Два танка горели, еще три-четыре машины были повреждены. Т-4, подбитый в начале атаки, рывками уходил назад, но его башенное орудие посылало снаряд за снарядом.
Ничего не скажешь – немецкие танкисты действовали активно. Две машины с поврежденной ходовой частью (это были Т-3) сползли в низину и тоже продолжали вести огонь. Остальные танки, приближаясь, непрерывно маневрировали. Это мешало им целиться. Однако и наши тяжелые «трехдюймовки» Ф-22 и гаубицы не успевали поймать в прицел быстрые бронированные машины.
Напряженно наблюдая за этой артиллерийской дуэлью, я наглядно убедился, как необходимы нам легкие противотанковые «сорокапятки». Их в полку была всего одна батарея, а короткоствольные трехдюймовые «полковушки» не могли пробить броню вражеских машин и несли потери. Но темп атаки по мере приближения танков резко упал.
Загорелся еще один Т-3, а тяжелый Т-4 остановился в ста пятидесяти метрах от наших траншей. Взрыв гаубичного фугаса разорвал гусеницу и смял массивное ведущее колесо. «Сорокапятка» успела сделать три выстрела и пробила нижнюю часть лобовой брони. Но ответный осколочный снаряд калибра 75 миллиметров накрыл ее прямым попаданием.
Изорвало осколками и скрутило щит, раскидало расчет. Почти все артиллеристы были убиты или тяжело ранены. Массивная башня Т-4 продолжала вращаться, теперь снаряды летели в сторону батареи Ф-22, в которой остались всего два орудия.
Единственная уцелевшая «полковушка» стреляла в Т-4 фугасными снарядами. Удары шестикилограммовых снарядов не пробивали броню, но ударяли по ней, как огромный молот: глушили экипаж, смяли курсовой пулемет, сорвали крепления бокового башенного люка, который распахнулся.
– Врежь яму еще! – выкрикивал малорослый боец в долгополой шинели и, вжимаясь в бруствер, посылал пулю за пулей из своей «трехлинейки».
Двое других красноармейцев вставляли запалы в противотанковые гранаты РПГ-40, которую мы называли «Ворошиловские килограммы».
– А ведь прорвутся танки к окопам, – проговорил, обращаясь ко мне, один из красноармейцев.
Он ожидал от меня ответа.
– Ну и что? Пропускай через себя и гранатой в корму. А лучше бутылкой с горючкой. Она дальше летит.
Что я мог ему еще ответить? Обернувшись к Егору Балакину, попросил:
– Дай мне бутылку с горючей смесью. Крутая каша заваривается.
В эту минуту тяжелый гаубичный фугас угодил в изрядно побитый Т-4. Сильный взрыв сорвал с погона башню и вывернул орудие. И все же несколько танков приблизились вплотную. Это были Т-3 и легкие машины Т-2 и Т-38. На участке нашего батальона наступил критический момент боя.
Снаряды и пулеметные очереди рушили траншеи, доставая бойцов даже на дне, раскидывая взрывами тела погибших и раненых красноармейцев. Кто-то из сержантов и наиболее смелых бойцов бросали гранаты и бутылки с горючей смесью. Как правило, они не долетали, но и не давали танками раздавить наши окопы.
Бледный, с запекшейся кровью на лбу, комбат Чередник кричал на меня, размахивая пистолетом:
– Ты что, не видишь? Твою роту танки сейчас сомнут!
– Все я вижу… не ори.
Неподалеку от нас Т-3 уже приближался к траншее, непрерывно стреляя из пулеметов. Андрей Долгов бросил в него бутылку с КС, следом другую. Одна из бутылок разбилась о подкрылок Т-3, гусеница растащила коптящее пламя вдоль корпуса. Машина дала задний ход.
Еще один танк, это был Т-2, вел огонь из автоматической пушки и пулемета. Красноармеец швырнул навстречу ему противотанковую гранату, но не добросил. Высунувшись по грудь, с руганью примерился бросить вторую гранату.
– Я тебя, гада, сейчас…
Договорить он не успел. В него угодил 20-миллиметровый снаряд и сразу несколько пуль. Граната выпала из руки и взорвалась в траншее, разметав тело. Танк подмял бруствер, готовясь перевалить через траншею. Догнал очередью убегавшего красноармейца, прибавил газу и вдруг стал оседать кормой вниз.
Эта машина была короче большинства немецких «панцеров», и кроме того, взрыв противотанковой гранаты хорошо встряхнул стенку траншеи. Пласт земли обвалился под тяжестью двенадцатитонного танка, корма завязла в рыхлой почве. Механик дал газ, но машина проваливалась кормой все глубже – танк застрял пушкой вверх.
Выбраться без посторонней помощи Т-2 уже не мог, а растерявшийся механик-водитель прибавил газ, сжигая коробку передач. Командир машины, видимо, приказал заглушить двигатель, лихорадочно обдумывая, как выскочить из ловушки.
В застрявший танк полетели гранаты. Они взрывались, не долетая до цели, а башня, проворачиваясь, открыла огонь сразу из пушки и пулемета. Боец, высунувшись из-за поворота траншеи, метнул тяжелую РПГ-40. Снаряды и пули разорвали тело едва не пополам, а граната рванула в двух метрах от танка. Снова заработал двигатель, пытаясь мощностью всех своих двухсот лошадиных сил вытолкнуть машину из траншеи.
Я приготовился бросить бутылку с КС, но капитан Чередник властно протянул руку и выдернул ее у меня.
– Дай сюда… дождались, пока комбат прибежит танки взрывать. Больше некому!
– Терку возьми, – только и успел ответить я. – Спички зажечь надо.
– Спички-папиросы… вояки хреновы!
Не обращая на меня внимания, Григорий Чередник, с кем я вместе прошел военное училище и Финскую войну, бросил бутылку точно на шасси ревущего на полной мощности двигателя. Жидкость просочилась внутрь и вспыхнула от жара перегретого мотора. Башня провернулась в нашу сторону, снаряды и пули прошли над головой – я успел толчком опрокинуть на дно траншеи своего командира и упасть рядом с ним.
Его помощник, младший лейтенант, не успел уйти от трассеров и свалился на подломившихся ногах. Загремела слетевшая каска, дернулась в агонии рука.
Горючая жидкость охватила корму танка. Пламя пробивалось сквозь решетку жалюзи, вспыхнул бензин, клубясь огненным шаром. Экипаж, четыре человека, выскакивали прямо в огонь и спрыгивали, сбивая с комбинезонов пламя, закрывая ладонями глаза.
Чередник и здесь опередил всех. Выдернув из кобуры ТТ, он с руганью расстреливал вражеский экипаж.
– Россию решили, б…и, завоевать! Жрите!
Капитан был метким стрелком, его пули попадали в цель. Но, даже пробитые в нескольких местах, танкисты не ощущали боли от ран и продолжали бежать, крича и пытаясь сбить пламя, сбросить горящие куртки.
Выпустив обойму за считаные секунды, Чередник все же свалил двоих танкистов. Третий, в горящем комбинезоне, бежал прямо на него, стреляя из «парабеллума». Боль мешала ему целиться. Находившийся в шоке завоеватель упал только после трех моих выстрелов.
Бежавший последним командир танка, с непокрытой головой и сгоревшими до основания светлыми волосами, прицелился из массивного «вальтера» в Чередника, но его опередил Михаил Ходырев, ударив штыком в живот. Пуля обожгла ему скулу и надорвала мочку уха – выстрелить второй раз лейтенант-танкист не успел.
Мы попятились от горящего танка. Там взрывались снаряды и трещали пулеметные ленты, выбрасывая из распахнутых люков мелкие обломки и хлопья пепла.
– Вот так их надо бить, – вызывающе глядя на меня и взводного Ходырева, выкрикнул капитан и подобрал с земли «парабеллум». – Законный трофей, не возражаешь, товарищ старший лейтенант? А «вальтер» пусть Ходырев забирает. – Он помолчал и продолжил: – Ты, Михаил, иди, перевяжись, царапнуло тебя, – и после новой паузы добавил: – Спасибо, что своего комбата спас.
Ходырев козырнул в ответ и, сняв с убитого танкиста часы, протянул мне. Жест получился вызывающим. Чередник усмехнулся, но нам было уже не до него – приближалась немецкая пехота. Я побежал к пулеметчикам.
Мы отбили эту атаку. Артиллеристы размолотили еще один танк, бой с переменным успехом длился до вечера. Улучив несколько минут, Михаил Ходырев промыл рану. Санинструктор пытался ее перебинтовать, но взводный отмахнулся:
– Заклей пластырем. Чего я с бинтом через всю башку людей буду пугать. Царапнуло! – передразнил он Чередника. – Ухо-то не отвалилось?
– На месте ухо, – засмеялся санинструктор. – Мочку слегка надорвало и кожу на скуле полоснуло.
– А жжет, будто кипятком плеснули. И в ушах звон.
– Еще бы. Пуля, считай, в голову угодила.
– А кто-то считает, что царапнуло, – не мог успокоиться сержант. – Комбат даже спасибо догадался сказать. На здоровье, товарищ капитан, но это наш долг вас беречь. Куда же нам без комбата!
– Ладно, угомонись, Михаил. Пойдем глянем, что у нас осталось.
– Пойдем, Василий Николаевич. Слезы остались, – кивнул взводный на избитую траншею и полузасыпанные тела погибших.
В строю в нашей восьмой роте остались всего три десятка человек. Из них несколько бойцов были легко ранены или контужены. Не лучше обстояли дела в седьмой и девятой ротах.
Остатки гаубичного дивизиона эвакуировали. Сказали, что не осталось снарядов. Из двух батарей «трехдюймовок» Ф-22 уцелело всего одно орудие. Эти громоздкие пушки сложно было замаскировать, а стояли они на переднем крае. Досталось им по полной программе. Позиции были перепаханы взрывами, валялись обломки, торчали искореженные стволы.
К немногим уцелевшим «сорокапяткам» снарядов тоже почти не осталось, расчеты были на две трети выбиты.
Рыжий сержант Антюфеев, с перевязанной шеей и замотанной окровавленной тряпкой ладонью, кое-как свернул самокрутку и хрипло проговорил:
– Нас в расчете осталось двое, и оба ранены. Кожух «максима» протекает, штук шесть осколков словили.
– Как с патронами?
– К пулемету неполная лента и россыпью штук сто патронов. Передохнем чуток и ленту набьем.
У командира девятой роты Валентина Дейнеки остались в строю менее двадцати бойцов и уцелел единственный ручной пулемет. Он был контужен близким взрывом, почти ничего не слышал. Остатками его роты командовал сержант.
Командир полка Усольцев долго колебался, начать отход или остаться до утра. Собрали небольшое совещание и пришли к выводу, что боеприпасов не хватит, чтобы отбить даже одну атаку.
– Готовимся к отходу, – наконец принял решение полковник.
Ракеты взлетали и слева и справа. Слышались орудийные выстрелы и пулеметные очереди в том направлении, куда отходила дивизия. Мы не знали, вырвалась ли она из окружения, но в том, что остатки полка окружены со всех сторон, никто уже не сомневался.
Колонна двинулась на восток. Словно салют прогремели четыре выстрела из «трехдюймовки» Ф-22. У нас не хватало лошадей, чтобы вывезти эту пушку. Затем артиллеристы подорвали ее.
От полка осталось триста пятьдесят человек. Лошади тянули две «сорокапятки» – это все, что осталось от нашей артиллерии. Люди шли молча, изредка перебрасываясь отдельными фразами. Приближался рассвет. Мы не знали, что ждет нас впереди. Но, пройдя первые бои в этой тяжелой войне, твердо намеревались прорваться к своим. У нас недоставало боеприпасов, но решимости хватало.
Глава 6 Тяжкая осень сорок первого
Мы торопились, рассчитывая соединиться с основными силами дивизии. Шли всю ночь, сделав лишь короткий привал, и продолжили шагать, когда уже солнце поднялось довольно высоко. Идти при свете дня было опасно. Нас могла перехватить немецкая авиация, но не меньшую опасность представляло возможное столкновение с механизированной немецкой группой.
Три-четыре танка могли разметать нашу колонну. К двум «сорокапяткам» оставалось всего по десятку снарядов – в основном осколочно-фугасные. Бронебойные заряды были почти все истрачены во вчерашнем бою. Гранат и патронов тоже оставалось в обрез.
Ближе к полудню нас обстреляла четверка «мессершмитов». На высокой скорости они вынырнули из-за деревьев, сбросили десятка три небольших осколочных бомб, а затем открыли огонь из 20-миллиметровых пушек и пулеметов. Каждый из четырех «мессеров» словно выстилал полосу срезанных кустов, фонтанов взбитой земли, вспышек разрывов мелких снарядов.
Люди бросались под защиту деревьев, кто-то падал прямо в траву, прикрыв голову ладонями. У других не выдерживали нервы, и они бежали непонятно куда. «Мессершмиты» шли на высоте двухсот метров, догоняя убегавших очередями скорострельных пулеметов (шестнадцать пуль в секунду), не жалея на нас и снаряды – наших «соколов» в воздухе не было.
В результате налета погибли более двадцати человек, около сорока получили ранения – в основном тяжелые. Наша санчасть была эвакуирована, остался лишь хирург Марков Василий Васильевич, медсестра, два санинструктора и несколько санитаров. Хирургу приносили наскоро перевязанных людей, и он оперировал их на куске брезента и расстеленных белых халатах.
Пока оперировал одного, кто-то умирал, а очередной раненый истекал кровью, и капитан-хирург делал знак:
– Этого уже не спасти… несите другого.
Снаряды авиапушек наносили, как правило, смертельные ранения, дробили или отрывали напрочь конечности. Множественные пулевые ранения тоже оставляли мало шансов выжить. Среди людей, лежавших в очереди к хирургу, я увидел нашего бывшего комбата капитана Ягупова.
Пробитый двумя пулями, он потерял много крови, бледное лицо осунулось. Он узнал меня и слабо улыбнулся:
– Отвоевался… забери мои документы и пистолет. Напишешь жене…
Закончить фразу он не успел, изо рта потекла кровь, Борис Ягупов потерял сознание. Санитар, пожилой дядька, передавая мне стопку окровавленных документов и пистолет ТТ, сказал вздыхая;
– Кончается товарищ капитан. Пули левое легкое порвали, кровь ничем не остановишь.
В стороне рыли братскую могилу, расширяя воронку от бомбы-«полусотки». Возле нее лежали в ряд погибшие и умершие от ран.
Один из полков и часть штаба нашей дивизии мы все же к вечеру догнали. Но живых среди нескольких сотен бойцов и командиров не было. Мы еще не отошли от собственных потерь, а теперь перед нами предстало зрелище куда страшнее.
Как мы поняли, немецкие танки ударили по отступавшим прямо на марше, не дав времени организовать оборону. Дорога и обочины были перепаханы гусеницами танков. Многие тела наших товарищей были смяты, сплющены. Экипажи немецких «панцеров» догоняли и давили живых людей. Возможно, экономили патроны, а скорее всего это доставляло им удовольствие.
Стояли разбитые и сгоревшие грузовики, орудия разных калибров. Командиры пытались организовать сопротивление, мы увидели сгоревший танк Т-3 и разбитый тяжелым снарядом чешский Т-38. Наверное, немцы понесли и другие потери, но поврежденные машины эвакуировали.
Неполная рота наших легких танков застыла на опушке березовой рощи. Это были Т-26 и БТ-7. Почти все они сгорели, остались лишь каркасы и обугленные тела танкистов.
Среди погибших я увидел полковника, который в декабре 1939 года при штурме линии Маннергейма распорядился выделить нашему батальону гаубицы. Тогда они нам крепко помогли. Полковник лежал в окровавленном кителе, ордена были выдраны, портупею вместе с кобурой сняли.
– Замкомандира дивизии, – сказал Козырев, снимая фуражку. – Молодой, перспективный, его в комдивы прочили… не дожил.
– Господи, – оглядывался по сторонам мой ординарец Егор Балакин. – Сколько людей сгинуло, страшно подумать.
Похоронить погибших мы не имели возможности. Нас оставалось всего триста человек, многие ранены, контужены, вымотаны долгой дорогой. Усольцев приказал собрать документы погибших, подобрать уцелевшие боеприпасы и продовольствие.
Кроме пистолета у меня имелась винтовка. Ходырев принес мне две гранаты и несколько винтовочных обойм. Часть оружия собрали немцы, но патронами мы немного разжились. Старшина Сочка снял с подбитой бронемашины пулемет ДТ (Дегтярев танковый) и штук пять запасных дисков к нему.
Из еды сумели отыскать какое-то количество консервов, мешок крупы и раздавленную бочку селедки, на которую сразу накинулись оголодавшие бойцы. Старшина отогнал их:
– Куда столько соленого жрать? Желудки загубить хотите, а потом из кустов не вылазить?
Уже темнело, и Усольцев поторопился увести остатки полка подальше от места боя. Сотни тел погибших начали разлагаться, да и наши люди были подавлены увиденным.
Что запомнилось мне в течение последующей недели? Очень много хлопот было с нашими ранеными. Спустя годы, смотря кинофильмы или читая книги о первых месяцах войны, где прослеживалась судьба окруженцев, пробивающихся к своим, я заметил, что тема раненых как-то проходила вскользь.
Шагают себе бойцы с перевязанными головами или руками, бодро шагают, да еще немцев по пути из засад нещадно бьют. Глядишь, все уже с трофейными автоматами, отбитые пулеметы на плечах тащат. К сожалению, действительность была куда более горькой.
Через пару дней пришлось остановиться. Наш хирург, капитан Марков, сделал несколько операций и потребовал от Усольцева, чтобы люди отдохнули, а оперированные пришли в себя.
– Вы, товарищ полковник, думаете, если я самых сложных оперировал, то главная проблема решена? Как бы не так! Эй, боец, иди сюда, – позвал он одного из красноармейцев. – Ну-ка, покажи свою ногу.
Мы увидели содранную до мяса кожу, потертости на ступнях.
– Прикажите всем тщательно вымыть ноги, постирать портянки, я осмотрю каждого человека. У нас не полк, а хромая рота получается.
Василий Васильевич был сугубо гражданским человеком и выражений не выбирал.
– Как раненые? – спросил Усольцев.
– Двое безнадежные. Человек пятнадцать сами идти не смогут, а у меня всего две повозки. Значит, восемь или девять бойцов придется нести. Нужны носилки и по четыре человека на одного раненого. Продовольствие заканчивается, но это вы и без меня знаете.
Смоленская область – не Сибирь, таких лесов здесь нет. Три сотни красноармейцев сидеть или лежать неподвижно не заставишь, а в небе едва не каждый час появляются немецкие самолеты. День-два – и нас обязательно заметят.
Пока нас спасала жесткая дисциплина, которую поддерживали командиры, и в первую очередь начштаба Козырев, который лично проверял посты и не позволял людям бесцельно шататься.
Старшина Сочка и пятеро бойцов отправились за продовольствием в ближайшую деревню. По дороге наткнулись на картофельное поле. Прикинув, что лучше синица в руках, чем журавль в небе, Родион Петрович Сочка приказал копать картошку. Она еще не до конца созрела, была мелковатая, но мешков шесть-семь нарыли.
Вечером ели молодую вареную картошку с остатками селедки, а на завтра довольный собой Сочка обещал достать в деревне мяса и хлеба.
– Самогона поищи. Желательно покрепче, – инструктировал его хирург. – Да не ухмыляйся, выпить я и сам не против. Спирт кончился, раны нечем обрабатывать.
– Гусиный жир пойдет, – подсказал Савелий Долгов. – Подорожник хорошо всякую дрянь из ран вытягивает.
– Подорожника мы здесь наберем, но им не спасешься. Бинтовать раны нечем. Попробуй, Родион, марли найти или чистых ситцевых тряпок.
Но следующая вылазка закончилась хуже некуда. Опасаясь наткнуться на немцев, Усольцев увеличил группу, включив в нее пулеметчика Карпухина Петра с напарником. Но восемь человек – это не шесть, как в первый день. Да еще повозка. Проскользнуть незаметно труднее.
Впрочем, количество играло не главную роль. Немцы выставили на подходе к деревне пост, замаскировав мотоцикл в кустах. Пост состоял из двух местных полицаев, двух солдат и унтер-офицера комендантской службы.
Старшина Родион Сочка не был новичком и соблюдал осторожность. Впереди двигались оба пулеметчика, а метрах в ста двадцати следом шли остальные вместе с повозкой. Но и унтер-офицер разглядел в бинокль группу русских окруженцев еще издалека. Немец знал, что большинство русских солдат, попав в окружение, сопротивления не оказывают и сдаются в плен. Нет у них другого выхода. На этот раз унтер насторожился. Двое русских шли с ручным пулеметом, были подтянуты и не напоминали упавших духом побежденных, которые брели по дорогам без оружия с листовками-пропусками.
Когда до поста осталось метров сто, русские приостановились – засаду выдали сороки, которые оглушительно трещали на верхних ветках березы. Сержант подал знак остальным, что впереди опасность, и снял заряженный «Дегтярев» с предохранителя.
Унтер-офицер понял, что если русские откроют огонь, то с такого расстояния не промахнутся, хотя пост прикрывали кусты и деревья. Он решил не рисковать и приказал пулеметчику:
– Кончай с ними.
Открыл огонь «машингевер» МГ-34, стреляли из винтовок оба полицая, и короткими прицельными очередями бил из автомата опытный унтер-офицер. Хотя Степан Карпухин прятался за сосной, она не могла защитить его от града пуль скорострельного МГ-34.
От сосны летели в разные стороны щепки и куски коры. Уже в первую минуту сержант был ранен в лицо и открыл огонь в ответ. Он успел выпустить половину диска, но получил сразу две пули в плечо и выпустил из рук «Дегтярев».
Второй номер суетился вокруг него, пытался помочь подняться, но тоже угодил под пулеметную очередь и упал рядом с товарищем. Старшина Родион Сочка, меняя обойму, понял, что бой складывается не в их пользу. Был ранен молодой красноармеец, а добраться до Степана Карпухина и его напарника возможности не было – слишком плотный огонь вели немцы и полицаи.
– Отходим, – дал команду старшина.
– А как же ребята? – растерянно спросил кто-то из красноармейцев.
Очередь прошла рядом с повозкой, выбила одну из спиц колеса, другая отрикошетила от земли, заставив лошадь шарахнуться в сторону. Вопросов старшине больше не задавали. Все поняли, что выход один – уходить из-под огня.
Усольцев, выслушав Сочку, приказал немедленно сворачивать лагерь.
– Полицаи по вашим следам немцев сюда через час-два приведут. Быстро они предателей находят.
– Дерьмо, оно сразу всплывает, – обронил Родион Сочка, который чувствовал вину за гибель товарищей.
Ни Усольцев, ни Козырев ни в чем не упрекали старшину. Сейчас важно было как можно скорее покинуть стоянку. Когда я строил роту, невольно стал свидетелем случая, который надолго врезался в память.
Лейтенант, лежавший в повозке с ампутированной ногой и сильно мучившийся от боли, достал из-под шинели наган. Он хотел приставить ствол к груди или голове, но к нему кинулся санитар, чтобы отобрать оружие. Тогда лейтенант, торопясь, выстрелил себе в живот. Его перевязали, но раненый потерял сознание и вскоре умер.
Ночью исчезли несколько бойцов, в том числе один человек из моей роты. Он оставил противогаз, гранаты, часть патронов, но винтовку прихватил с собой. Комиссар полка Залевский, оглядев меня, сказал:
– Один предатель сбежал. Сколько еще из твоей роты сбегут?
– Не знаю, – вызывающе ответил я.
– А то, что ты за своих бойцов отвечаешь, знаешь?
– Так точно.
– Если сбежит кто-нибудь еще, разговор будет другой. Разложения полка я не допущу.
И хлопнул ладонью по деревянной коробке «маузера». Когда комиссар ушел, Миша Ходырев сплюнул и передразнил его:
– Разложения он не потерпит! От трех тысяч в полку три сотни бойцов осталось. Такие у нас командиры и комиссары. Зато денщик ему каждый день ордена да пряжки драит, «маузер» чистит. Хотя на хрен ему такой хороший пистолет, он на переднем крае никогда не бывает.
Всего дезертировали в ту ночь человек шесть. Чередник вместе с Раскиным тоже получили выговор, как и другие командиры и политруки. Днем мы угодили под бомбежку, хотя двигались осторожно и постоянно следили за небом.
Но пару истребителей «Мессершмит-109» прозевали. Если бомбардировщики были слышны издалека, то эти скоростные машины словно выныривали из ниоткуда (скорость – почти сто метров в секунду). Снова посыпались осколочные бомбы, а со второго захода нас обстреляли из пушек и пулеметов.
Мы уже кое-чему научились, разбегались под деревья шустрее (хотя надо ли этим хвалиться?) и от обстрела спасались. Но «полусотки» и десятикилограммовые бомбы успели натворить дел. Потери были меньше, чем в первую бомбежку, – но восемь человек мы похоронили, а трое бойцов позже умерли от ран. Ночью снова исчезли несколько красноармейцев. Залевский поднял шум, грозил нам трибуналом, даже размахивал своим «маузером», который и правда был до блеска начищен и смазан.
– Ладно, Яков Ильич, успокойся, – осадил его командир полка Усольцев. – Пока драпаем да люди голодают, они так и будут по домам разбегаться.
– Почему драпаем? Слово какое-то дурацкое, – взвился комиссар. – Пробиваемся сквозь окружение для соединения с главными силами.
Вмешался начштаба Козырев.
– Пробиваться означает отступать с боем, пробивать себе путь оружием и уничтожать врага. Товарищ полковник прав, надо поднять боевой дух бойцов и хорошо ударить по фрицам.
Кажется, тогда, в конце первого военного лета я впервые услышал слово «фрицы», которое накрепко приклеится к нашим врагам. Фрицев надо бить – и весь разговор!
Чтобы сохранить полк, Усольцев и Козырев круто изменили тактику и без лишних обсуждений сразу перешли от слов к делу. Старшина Сочка получил дополнительные инструкции. Осторожно проверив подходы к небольшому селу, нашел председателя сельсовета и, не церемонясь, заявил:
– Для воинской части требуется продовольствие. Частично мы оплатим его стоимость, и кроме того, оставим расписку с печатью за подписью командира полка.
Председатель оказался мужик неплохой. Выделил со склада два больших бидона молока, топленого масла, картошки и крупы. Пригнали двух овец, дали несколько ковриг ржаного хлеба и даже четверть самогона. Деньги председатель брать поначалу отказывался, затем согласился – для колхозных нужд, и хорошо накормил старшину и его «продотряд».
А через сутки мы нанесли удар по немцам. Усольцев и Козырев хорошо понимали, что бездействия им не простят. Время военное, и полк не может бездействовать. По ночам по-прежнему исчезали то один, то два бойца, иногда больше. Но мы пополнялись группами окруженцев, намеренных и дальше воевать. Они, как правило, охотно присоединялись к нашему полку, в котором поддерживались порядок и дисциплина.
Шел, что называется, естественный отбор. Трусы уходили, а на смену им вставали в строй настоящие бойцы и командиры.
Были сформированы две боевые группы по пятьдесят человек. Во главе одной из них поставили командира первого батальона майора Крайнюка, второй группой назначили командовать меня. Моя группа состояла в основном из бойцов нашего третьего батальона. Заместителем был командир девятой роты Валентин Дейнека. Со мной были старые испытанные сержанты и красноармейцы Ходырев, Антюфеев, Долгов, Балакин.
Из новичков, присоединившихся к нам, – шестеро танкистов с двумя пулеметами. Свои танки они вынуждены были сжечь из-за отсутствия бензина, и теперь Усольцев решил испытать их в бою.
Обе группы разошлись в разные стороны, чтобы запутать следы в случае преследования. Засады было приказано организовать не ближе чем в 8–10 километрах от нашего временного лагеря. Я отчетливо понимал, что это рискованный шаг. Полк вместе с присоединившимися к нам бойцами других частей насчитывал без малого четыреста человек. В санчасти находилось около двадцати тяжелораненых, примерно столько же насчитывалось бойцов и командиров с контузиями и менее серьезными ранениями.
Нас довольно легко могли обнаружить с воздуха и зажать в кольцо. Но и продолжать отход, уклоняясь от боевых действий, Усольцев и большинство командиров считали неприемлемым.
Наша группа устроила засаду на лесистом участке дороги. Место выбирали вместе с лейтенантом Валентином Дейнекой и Михаилом Ходыревым. Дорога в этом месте опускалась в низину, и немецкие машины в любом случае должны были уменьшить скорость.
У нас имелся станковый «максим», два ручных пулемета Дегтярева и два пулемета, снятых со своих машин танкистами. Я считал, что оружия и боеприпасов хватит, чтобы нанести чувствительный удар по врагу.
Однако не все оказалось так просто. Вначале прошла довольно большая колонна, затем несколько одиночных грузовиков, которые нас не устраивали. Примерно через час напряженного ожидания показалась еще одна колонна: три мотоцикла, бронетранспортер и четыре автомашины с солдатами и грузом.
– Ударим? – шептал возбужденный лейтенант Дейнека. – Пока будут карабкаться по уклону, врежем сразу из пяти пулеметов. А бронетранспортер подобьет группа истребителей танков.
Но я понимал, что мы ввяжемся в затяжной бой. Немцев не менее сорока человек, пулеметов у них тоже хватает, а шеститонный разведывательный бронетранспортер «ганомаг» близко к себе не подпустит.
В тот период партизанских отрядов практически еще не было. Отступавшие разрозненные части старались в бои на дорогах не ввязываться, но немцы, привыкшие к дисциплине и осторожности, соблюдали правила безопасности.
Бронетранспортер взбирался по склону. За щитом над кабиной дорогу внимательно просматривал пулеметный расчет. В бронированном десантном отсеке находились трое или четверо автоматчиков, готовые в любую минуту открыть огонь.
Я почувствовал, как напряглась вся наша группа. Вслед за «ганомагом» поднимались грузовики: три «опеля» и более тяжелый трехосный вездеход «Бюссинг-НАГ» с массивной кабиной. Я приготовился дать сигнал открыть огонь, понимая, что вряд ли мы останемся незамеченными.
Два мотоцикла с колясками увеличили скорость и вырвались вперед. Причем один из них, делая быстрый обгон, съехал с дороги и столкнулся едва не вплотную с расчетом ручного пулемета, который несколько минут назад по своей инициативе сменил позицию и перебирался ближе к дороге.
Расчет Дегтярева опередил мотоциклистов. Очередь угодила в водителя. Массивный «цундапп» опрокинуло на вираже, а пулеметчик за щитком «ганомага» ударил длинными очередями, нащупывая засаду.
Захар Антюфеев прошил очередями кузов тяжелого «Бюссинга» и вел огонь по солдатам, спрыгивавшим на землю. Танкисты действовали неплохо, подожгли грузовой «опель» и расстреляли второй мотоцикл. Удачно брошенная граната взорвалась под колесами другого «опеля».
На подножку выскочил немецкий лейтенант, командир взвода, и, стреляя из автомата, отдавал команды. Его снял точным выстрелом алтайский охотник Андрей Долгов.
Вместе с Ходыревым мы стреляли в пулеметчика за щитком «ганомага». С высоты двух метров он имел хороший обзор и уже срезал двух бойцов. Мы сумели его тяжело ранить, МГ-34 замолчал.
Сержант и один из саперов отделения истребителей танков бежали к бронетранспортеру, но бросить свои гранаты не успели. Их прошили очередями автоматчики из боевого отсека, а место пулеметчика занял опытный унтер-офицер.
Ситуация стала меняться не в нашу пользу. Солдаты, спрыгнувшие с машин, залегли и вели ответный огонь. В нашу сторону летели гранаты с длинными деревянными рукоятками. Автоматов у солдат тоже хватало, и в бою на короткой дистанции они прижимали наших бойцов, не давая вести прицельный огонь.
Один из мотоциклов присоединился к бронетранспортеру – два пулемета вели огонь длинными очередями. Никита Супонин, сержант и меткий стрелок из города Вольска, поднялся в рост, и, укрываясь за сосной, достал точным выстрелом пулеметчика-мотоциклиста.
«Машингевер» из бронетранспортера обрушил на него град пуль, пробив насквозь сосну и тяжело ранив сержанта. К нему кинулся его товарищ и упал, не добежав нескольких шагов.
– Надо кончать с броневиком, – как глухому, кричал мне в ухо Михаил Ходырев. – Он выбьет всю группу. И мотоцикл там же с пулеметом.
Ходырев оставил мне свою самозарядку и вместе с Балакиным и Долговым побежали через лес к бронетранспортеру. Лейтенант Дейнека, отчаянный командир девятой роты, тоже пробирался к «ганомагу» с гранатами в руках.
Я стрелял в унтер-офицера из самозарядки. Винтовка, которую не очень хвалили бойцы, хорошо почищенная, с аккуратно набитыми магазинами, служила Ходыреву верно. Не подвела она и меня.
Скорострельность СВТ давала возможность вести беглую стрельбу, не сбивая прицела передергиванием затвора. Бронебойно-зажигательные пули били в щиток, высекая снопы искр и заставляя немецкого пулеметчика убирать голову от амбразуры.
Сержант Антюфеев довернул «максим» и тоже ударил по унтер-офицеру. Ходырев, обойдя «ганомаг» с тыла, бросил две гранаты, которые вывернули переднее колесо и повредили тяги. Мой ординарец и земляк Егор Балакин швырнул бутылку с горючей смесью, которая разбилась о щебень на дороге, не долетев до бронетранспортера.
Его подсекла автоматная очередь и свалила на траву. Балакин был спокойным уравновешенным бойцом и старался не лезть вперед, помня о своей многочисленной семье. Что-то толкнуло его в самое пекло боя, он лежал, пытаясь отползти, но сил уже не оставалось. Андрей Долгов угодил гранатой в десантный отсек, откуда успели выскочить лишь двое автоматчиков.
Механик-водитель пытался увести поврежденную машину с линии огня, но подломилась ось, и шеститонный бронетранспортер уткнулся капотом в землю, где быстро разгоралась чадным пламенем горючая жидкость из разбитой бутылки.
Оба выскочивших автоматчика попали под пулеметный огонь. Механик-водитель распахнул дверцу, но покинуть машину не успел. Андрей Долгов, лучший стрелок в роте, поймал его на мушку и нажал на спуск. Тело механика вывалилось наружу, где разгоралась горючая жидкость.
Ходырев вместе с Долговым успели сорвать с креплений пулемет, подхватить несколько коробок с лентами и, обжигаясь, выбраться из огня.
Нас вынудил отступить пулеметный огонь, который вели уцелевшие солдаты и мотоциклисты, сумевшие присоединиться к ним на своем громоздком «цундаппе». Мы понесли слишком большие потери и торопились вынести раненых и погибших.
Когда группа втянулась в лес, я еще раз оглядел место боя. На дороге и обочинах горели три грузовика, бронетранспортер, чадили два мотоцикла, лежали тела убитых немцев. Однако мое приподнятое настроение быстро изменилось.
На двух повозках вповалку лежали мои погибшие и тяжело раненные товарищи. Еще несколько человек несли на самодельных носилках. Я много чего насмотрелся на Финской войне, но эти повозки с телами навсегда врезались в мою память.
Убитых было одиннадцать человек, восемь – тяжело ранены. Самое разумное было похоронить погибших, но я не решался это сделать. Получалось вроде того, что я заметаю следы неудачного боя, который не сумел толком провести. Километров через пять, когда остановились на привал, лейтенант Дейнека сказал мне:
– Лошади едва плетутся, и люди вымотаны. Надо похоронить ребят.
Земля в лесу была влажная. За час мы вырыли яму, опустили в нее тела погибших (еще один боец умер от ран) и, постояв над обложенным хвойными ветками бугорком, двинулись дальше. Сделав крюк, чтобы не навести на наш след погоню, через несколько часов мы вернулись в расположение полка.
Нас встречали каким-то недобрым молчанием. Во всяком случае, так мне показалось.
– Докладывай, Василий Николаевич, – коротко кивнул мне полковник Усольцев.
– В ходе боя с механизированной немецкой группой погибли двенадцать бойцов. Семь – тяжело ранены, еще несколько товарищей получили менее серьезные ранения и контузии, им требуется медицинская помощь.
– Ты врач или командир? – вмешался майор Козырев. – Каковы результаты боя?
– Подбили и сожгли бронетранспортер, три грузовых автомашины и два мотоцикла. Убиты около двадцати немецких солдат и один офицер. В числе трофеев захвачен пулемет МГ-34, пять автоматов и тысячи полторы патронов к ним.
Я сделал паузу, хотел добавить что-то еще, но меня качнуло, и я с трудом устоял на ногах – сказывалась контузия от близкого взрыва гранаты.
– Ранен, Василий? – спросил Усольцев.
– Нет. Гранатой слегка оглушило.
– Разрешите доложить, товарищ полковник? – козырнул Валентин Дейнека.
– Докладывай.
– В ходе боя не меньше семи-восьми немцев получили ранения. Гранатами разбили два пулемета. Захватили часть документов убитых фрицев, десятка три гранат, индивидуальные медицинские пакеты.
– А что, неплохо команда Гладкова сработала, – обернулся к начальнику штаба Усольцев. – Шесть единиц техники сожгли, два десятка фрицев уничтожили. Трофеи жидковатые захватили, но бой, судя по всему, тяжелый был.
Я молча кивнул в ответ, подтверждая, что бой действительно был нелегкий.
– Двенадцать павших товарищей похоронили как положено, – сказал я. – Донести не сумели, раненых много.
Я ожидал, что мне выговорят за немалые потери, но Усольцев и Козырев промолчали. Главное, врагу нанесен реальный урон, да еще пулемет трофейный захватили.
Комбат Крайнюк, возглавлявший другую группу, действовал более осторожно. Его бойцы уничтожили два грузовика и около десятка немцев. В бою потерь не понесли, но на обратном пути были обстреляны самолетом-разведчиком «Хеншель-126».
Двухместный «хеншель» на малом ходу перехватил группу, сбросил несколько осколочных бомб и открыл огонь из двух скорострельных пулеметов. Погибли шестеро бойцов и молодой лейтенант, командир взвода.
Дорого обходились нам эти вылазки и удары по врагу. Хорошо организованные немецкие части не только быстро продвигались вперед, но и старательно охраняли свой тыл.
В общей сложности мы выходили из окружения двадцать шесть дней. Много таких подразделений (батальонов, полков, просто разрозненных групп) упорно пробивались в тот период на соединение с нашими отступавшими частями.
Больше всего страдали раненые, которым мы не могли при всем желании оказать нормальную медицинскую помощь. Если бы не наш хирург, многие из них бы не выжили. В распоряжении капитана и его небольшой санитарной команды имелось лишь немного бинтов, зеленки, йода, еще некоторые самые простые медикаменты. Самогон или спирт служил обезболивающим средством, им обеззараживали раны, когда кончался йод.
Каждый раз, когда очередная группа отправлялась на боевое задание или в село за продовольствием, Усольцев напоминал:
– Медикаменты… обязательно ищите медикаменты и перевязочный материал.
Что больше всего врезалось в память за эти четыре неполных недели выхода из окружения.
Однажды я увидел наших пленных. Несколько сот человек брели по дороге колонной по шесть человек в ряд. Подходил к концу август, было еще жарко, но большинство красноармейцев шли в шинелях, без поясов, зачастую распахнутых, без знаков различия. Обмотки многие сняли, они висели на плечах. Пилотки, буденовки, даже зимние шапки со следами от звездочек.
А вышитые на буденовках крупные звезды остались, и конвоиры не обращали на них внимания. Некоторые бойцы несли за спинами вещмешки, другие – сумки из-под противогазов, но каждый нес котелок или литровую консервную банку с проволочными дужками.
Бряцание сотен котелков, банок и шарканье подошв разносились вдоль дороги. Люди шли молча, лишь изредка перебрасываясь короткими фразами. Конвоиров было немного. Думаю, не больше тридцати-сорока человек на колонну, насчитывающую около тысячи пленных.
Позади колонны следовали несколько повозок, в которых сидели конвоиры, а также раненые или обессилевшие бойцы.
У меня мелькнула мысль напасть на конвой, но из этого ничего хорошего бы не получилось. Колонна растянулась на полкилометра. Часть конвоиров шли впереди, часть ехали на повозках сзади или шагали по обочинам. Кроме того, колонна перегораживала дорогу. Немецкие машины или мотоциклы невольно замедляли ход, объезжая пленных.
Клубилась пыль, и некоторые бойцы могли бы сбежать. Однако бежать никто не пытался. Видимо, люди были обессилены и морально подавлены. Спешивший по своим делам вездеход «Штевер» слишком близко прошел от колонны и сбил красноармейца.
Машина продолжила свой путь, а покалеченный пленный стонал и просил помощи. Из повозки в хвосте колонны вылезли конвоиры, осмотрели его и коротко посовещались. Сухо хлопнул винтовочный выстрел, тело спихнули в кювет.
Когда мы вернулись в полк, я рассказал об увиденном полковнику Усольцеву и начштаба Козыреву.
– Ты помалкивай, что видел, – посоветовал командир полка. – А то обвинят в паникерстве.
А начштаба Козырев спросил:
– Раненых много в колонне было?
– Не слишком.
– Чего же они как овцы на бойню шли? – разозлился майор. – Такая толпа, а конвоиров всего неполный взвод. Кинулись бы, передушили, винтовки похватали – и в лес.
Наш бывший комбат Тимофей Филиппович Козырев сверлил меня жестким взглядом и, наверное, ждал моей реакции, но я молчал.
– Пулеметы у конвоя были? – спросил Козырев.
– Нет. Винтовки и несколько автоматов.
– Могли они охрану смять, – убежденно повторил майор. – Но духу не хватило, шкуру свою спасали.
Насколько прав был решительный начальник штаба Козырев, прошедший Финскую войну, доказавший свою смелость и умение воевать, судить не могу.
Много позже станет известно число наших бойцов и командиров, попавших в 1941 году в немецкий плен. Три с лишним миллиона человек – огромная цифра! Да и в сорок втором году попадут в плен более 800 тысяч бойцов.
Не очень хочется вспоминать эти цифры. И причины приводились самые разные: внезапность нападения, непродуманные оборонительные операции, ошибки высшего командования, приводившие к окружению целых корпусов, армий, прорыву фронтов. Долго можно говорить на эту тему. Один из простых бойцов много лет спустя прямо сказал мне:
– Многие и не очень-то хотели жизни свои класть. Непростая обстановка в стране была. В период коллективизации сколько дров наломали, крестьянских хозяйств порушили и в ссылки людей сотнями тысяч отправляли. Вот и аукнулось все это в начале войны.
А полк с боями продолжал выходить из окружения. В одном месте ночью натолкнулись в деревне на штаб немецкого механизированного полка. И хотя столкновение было неожиданным, ударили мы крепко, расплачиваясь за погибших товарищей и все наши лишения.
Что ни говори, а Усольцев сколотил крепкую команду: начштаба Козырев, комбаты Фатьянов Петр и Чередник Григорий. Неплохо действовала наша восьмая рота, да и остальные бойцы, включая танкистов и других окруженцев, примкнувших к нам.
Сильная техника охраняла тот штаб: бронетранспортеры, зенитные установки, вездеходы, даже 2–3 танка. У нас осталась лишь одна «сорокапятка», стрелковое оружие, гранаты… и злости через край. В стремительно завязавшемся бою на улицах ночной деревни немецкая техника развернуться толком не успела.
Танк Т-3, стоявший у входа в штаб, забросали гранатами и бутылками с бензином. Вторая бронированная машина (тоже Т-3) оказалась неспособной обороняться. Внутри него находились лишь двое танкистов, а трое спали в избе. Их расстреляли сквозь смотровые щели, а трех других танкистов, выбежавших из дома, закололи штыками.
Довольно быстро расправились со штабом. Полуодетые офицеры выскакивали с пистолетами наготове, но их положили пулеметными очередями и ударами штыков. Комбат Петр Фатьянов вместе с несколькими бойцами ворвались внутрь. Там жгли секретные документы. Капитан Фатьянов, которому было всего двадцать четыре года, в упор застрелил двух немецких офицеров и успел крикнуть своим бойцам:
– Документы соберите, они пригодятся.
Это были его последние слова. Выбежавший из дальней комнаты лейтенант очередью из автомата смертельно ранил Фатьянова, убил еще двоих бойцов и хотел взорвать помещение.
Уцелевший красноармеец вцепился ему в горло:
– Сучонок… здесь тебе и конец придет.
Когда боец выпустил обмякшее тело, лейтенант был мертв. А из-под ногтей красноармейца капала кровь – сжимая глотку врагу, он вывернул пальцы и сорвал ногти.
Об этом эпизоде мне стало известно позже. Я со своей ротой, насчитывающей три десятка человек, вел бой на улице, освещенной пламенем горящих штабных машин. Кроме того, какое-то время продолжал работать генератор в кузове грузовика, давая электричество прожекторам.
Михаил Ходырев бросил в кузов гранату. Генератор и машина вспыхнули от электрического разряда, а старший сержант едва успел отшатнуться от автоматной очереди. Я дважды выстрелил в солдата, спрыгнувшего с кузова.
Генератор и запас бензина к нему горели вместе с кузовом. Прикрываясь рукой от жара, я подобрал автомат, выдернул из подсумка запасные магазины и потянулся к часам на запястье убитого. Эта привычка забирать трофейные часы (большой дефицит в нашей стране до войны) едва не оборвала мою жизнь.
Фельдфебель, начальник передвижной электростанции, направил на меня массивный «вальтер». Этот пистолет калибра 9,0 миллиметра не давал осечек, а с расстояния трех метров опытный служака точно угодил бы в цель.
Меня спасла случайность, которая отучила хватать без оглядки трофеи. Рванул бензобак. Горящий бензин выплеснулся на фельдфебеля и отчасти мне на ноги. Пуля прошла мимо. Фельдфебель срывал с себя горевший френч, а я нажал на спуск автомата.
Смерть, едва не настигшая меня, так ударила по нервам, что я выпустил в немца остаток магазина и застыл, глядя на свои горящие сапоги. Боль привела меня в чувство, а Михаил Ходырев помог потушить огонь.
Мы понесли в том бою большие потери. Бойцы из первого батальона угодили под огонь счетверенной зенитно-пулеметной установки. Расчет нес ночное дежурство, и застать зенитчиков врасплох не удалось.
Четыре скорострельных пулемета МГ-15 обрушили град трассирующих пуль и в течение считаных минут скосили более десятка бойцов штурмового взвода. Его командир, младший лейтенант, попытался бросить гранату, но тоже был убит. Зенитная установка буквально изрешетила расчет нашего лучшего пулеметчика Захара Антюфеева, который пытался подавить ее. Старший сержант и оба его помощника лежали возле исхлестанного пулями «максима» с разорванным кожухом. Установку уничтожили двое бойцов. Они зашли с тыла и бросили несколько гранат.
Легкий танк Т-38, находившийся на окраине села, тоже нанес немалые потери. Он был хорошо замаскирован и ударил сразу из двух пулеметов и 37-миллиметровой пушки.
Расчет нашей «сорокапятки» не успел развернуть свою пушку и угодил под снаряд. Орудие было повреждено, половина расчета выбита. Но командир «сорокапятки» сумел всадить бронебойный снаряд в ведущее зубчатое колесо и разорвать гусеницу.
Чешский танк Т-38 добил нашу единственную пушку, из расчета уцелели всего два человека. Лейтенант Дейнека вместе с ординарцем вскочили на корму танка и стали стрелять в смотровые щели. Когда немецкие танкисты попытались открыть люк и оказать сопротивление, Валентин Дейнека в упор выпустил остаток обоймы, а затем бросил внутрь машины гранату.
Бой длился до рассвета. Можно сказать, что он прошел успешно, хотя мы потеряли около пятидесяти человек погибшими. Был убит в числе других командир первого батальона, один из самых опытных офицеров в полку, майор Крайнюк Игнат Пахомович. Наша рота лишилась самого надежного пулеметного расчета во главе со старшим сержантом Захаром Антюфеевым, с которым я служил вместе с тридцать девятого года.
Мы оставили позади горящие немецкие машины и три танка, десятки трупов немецких солдат и офицеров. Захватили довольно большое количество трофейного оружия, боеприпасов, продовольствия и медикаментов.
Однако допустили непростительную ошибку – слишком долго задержались в селе. По дороге нас догнали два легких бомбардировщика «Хеншель-123», а затем два «мессершмита». Хотя мы уходили по лесной дороге, летчики получили приказ не выпускать русскую воинскую часть, разгромившую штаб немецкого полка. Они снижались до полутора сотен метров и ожесточенно бомбили, а затем обстреливали нас из многочисленных пулеметов и авиапушек.
Мы несли большие потери, гибли раненые, которых не смогли укрыть от огня с неба. Самолеты преследовали нас до вечера, а на следующий день мы приняли бой с батальоном военной полиции и несколькими подразделениями поменьше.
Остатки полка прорвались и ушли от преследования. Но многие втихомолку переговаривались, что зря мы раздразнили немцев. Услышав, как недовольно высказывается один из командиров, майор Козырев сорвал с него капитанские «шпалы» и едва не расстрелял на месте.
– Спокойно прожить хотел? Идет война, и наш долг сражаться, а ты панику разводишь.
Мы соединились с нашими войсками в начале сентября. Запомнилось, что нас было немногим более ста пятидесяти человек, включая бойцов и командиров, примкнувших к нашему полку во время выхода из окружения. По-разному встречали такие подразделения. Бывало, и расформировывали, разжаловали командиров.
Нам, можно сказать, повезло. Сыграли свою роль документы, захваченные в разгромленном немецком штабе: оперативные карты, удостоверения личности офицеров, среди которых были два подполковника. Произвело впечатление и многочисленное трофейное оружие, которое наглядно доказывало, что мы не отсиживались, а воевали.
Глава 7 Бои под Москвой
Будет преувеличением сказать, что встретили нас тепло. Неудачное начало войны, большое количество бойцов и командиров, попавших в плен (а может, сдавшихся добровольно?), порождали недоверие.
Наш полк вышел из окружения со своим знаменем, партийными документами, мы сумели доказать, что неплохо воевали. Но какое-то время судьба полка висела на волоске.
Кто-то из наших командиров неосторожно обмолвился о дезертирах, которых хватало в сорок первом году с избытком. За это крепко уцепилось Политуправление. Командиров обвиняли в развале дисциплины и, как пример, тыкали в глаза, что из трех тысяч личного состава полка осталось немногим более ста человек (остальные пятьдесят наших товарищей были из других подразделений).
Нас дергали на допросы, воспитательные беседы, пока не нашелся боевой генерал, который обошел наши землянки, поглядел на оборванных, изможденных бойцов и поговорил по душам с полковником Усольцевым. Вывод был сделан следующий:
– Хватит людей мурыжить! На переднем крае ополченцы воюют, а здесь готовый костяк полка или бригады. Дайте людям отдохнуть и срочно формируйте полноценный полк.
Но недоверие к окруженцам все же играло свою роль. Полковника Усольцева прочили на должность командира дивизии, но оставили командовать полком. Майора Козырева хотели поставить во главе вновь формируемого стрелкового полка, но тоже передумали.
– Пусть докажет свои боевые качества на прежней должности.
У нас имелись опытные, прошедшие жестокие бои командиры. Но первым и вторым батальоном назначили командовать офицеров из резерва. Новые люди пришли на должности комиссара и заместителя командира полка по тылу.
Впрочем, меня это касалось мало. Я принимал людей в свою восьмую роту. Вернее – мы со старшим политруком Аркадием Раскиным. Он изо всех сил старался доказать свою старательность, снова сколотил «политкоманду» в лице младшего политрука, парторга, комсорга, ротного агитатора. Регулярно выпускались боевые листки, проводились многочисленные собрания и митинги.
На Аркадия Борисовича Раскина даже обратил внимание новый комиссар полка Мироненко и привел как положительный пример на одном из совещаний.
Обратил внимание комиссар и на меня:
– Давно служите, товарищ старший лейтенант?
– С июня тридцать девятого года, – доложил я. – В полк был назначен после окончания Буйнакского военного училища.
– Медаль получили за участие в войне с Финляндией?
– Так точно. Там же был тяжело ранен.
Зачем я ляпнул про свое ранение? Может, потому что слегка прихрамывал из-за обмороженных пальцев. Но комиссара Мироненко мое ранение не заинтересовало. Он строго спросил:
– Вы командуете ротой – немалое подразделение, а почему-то до сих пор не вступили в ряды РКП(б). В чем причина?
Я коротко объяснил ситуацию и то, что прием меня в кандидаты был временно отложен. Мироненко напоминал телосложением прежнего комиссара Залевского – такой же крупный, грузноватый, уверенный в себе.
– Надо разобраться, – бросил он старшему политруку Раскину. – Рота не взвод, во главе ее должен стоять член партии, надежный, испытанный командир.
Я с трудом сдержался. Невольно сжал вытянутые по швам ладони и хотел ответить: «Ставьте снова на взвод, если не доверяете». Но промолчал. Меня незаметно толкнул в плечо Раскин, с которым мы неплохо сработались: «Молчи, мол!»
Мироненко оттопырил губу, может, хотел поддеть меня, но тоже промолчал и зашагал дальше по своим делам. Комиссар прекрасно знал, что опытных кадров не хватает, особенно на уровне стрелковых рот. А взводными ставили недоучившихся курсантов или сержантов, прошедших пару-тройку месяцев учебы на созданных в начале войны шестимесячных курсах.
Михаила Ходырева в качестве командира взвода не утвердили, а прислали младшего лейтенанта, старательного, но практически неподготовленного парня. Первый взвод возглавил лейтенант запаса Давыдов Иван Никифорович, служивший в армии еще в конце двадцатых годов, мужик обстоятельный, сразу вызвавший у меня доверие.
Впрочем, нас пока не торопили, и мы учили новобранцев новой для них науке.
Во всем чувствовалась нехватка. Если до войны практически все новички приходили в полном обмундировании, то сейчас многие стояли в строю в своей гражданской одежде. Как правило, в старье: потертых телогрейках, изношенных пальто, дырявых башмаках. Винтовки выдавали учебные, а если проще сказать, наскоро вытесанные из дерева макеты. Пулеметные расчеты вооружались трещотками.
В моей восьмой роте на 130 человек личного состава приходилось всего 40 боевых винтовок, два ручных пулемета, ну и пистолеты (или «наганы») у командиров взводов. Но занятия по тактической подготовке проходили азартно. Обычные темы «Взвод в обороне» и «Взвод в наступлении» сопровождались шумным ребяческим напором, дело доходило порой до потасовки.
– А что, рукопашный бой, – вытирая разбитый нос, оправдывался конопатый боец. – На войне разве не так?
Недостаток винтовок не позволял в полной мере осваивать это оружие. Гранаты использовались только учебные, а «штыковой бой» на деревяшках вызывал у бывалых красноармейцев усмешки. Но неожиданно все изменилось, и это было связано со следующими событиями на фронте.
Немецкие войска начали 30 сентября 1941 года мощное наступление. Это было начало операции «Тайфун». Предполагалось, что после затяжных боев под Смоленском и хорошего удара под Ельней, который получил вермахт, группа армий «Центр» подобно тайфуну сметет советскую оборону и захватит Москву.
Вторая танковая группа генерал-полковника Гудериана в составе пятнадцати дивизий (10 из них танковые и моторизованные) наступала на Орел и Брянск и сумела прорвать фронт. Две наши армии, 3-я и 13-я, оказались в окружении, или, как деликатно указывалось в некоторых штабных документах, «управление этими армиями было потеряно».
События развивались стремительно. Третьего октября был захвачен Орел, а шестого октября – Брянск и Карачев. Общее руководство операцией «Тайфун» осуществлял фельдмаршал Ф. фон Бок, которому было выделено около 2 миллионов человек, тысяча семьсот танков, 20 тысяч орудий и минометов, полторы тысячи самолетов.
Это были огромные силы. Они, как катком, должны были смять сопротивление Красной армии и ворваться в Москву. Группа армий «Центр» превосходила противостоящие ей советские войска в полтора-два раза и в людях, и в технике. Это помогло быстро развить наступление. Под Вязьмой попали в окружение четыре армии, в результате чего были захвачены в плен более 600 тысяч красноармейцев и командиров, 380 тысяч человек были убиты и ранены.
В середине октября развернулись ожесточенные бои на рубежах Можайского и Волоколамского укрепрайонов. 19 октября Москва была объявлена на осадном положении.
Многого мы не знали. Наши средства массовой информации всегда грешили недосказанностью. Истинная оценка положения заменялась множеством статей и заметок о больших потерях немецких войск. Но, оставив в стороне пропагандистские статьи, где немцев колотили в хвост и в гриву, следует отметить, что наступление на Москву стало для вермахта отнюдь не легкой прогулкой.
По данным современных исторических источников, за октябрь и ноябрь 1941 года немцы потеряли свыше 500 тысяч убитыми и ранеными, 1300 танков и полторы тысячи сбитых самолетов.
Но я пишу не историческое исследование, а рассказываю о людях, воевавших рядом со мной. Об этом и пойдет дальше речь.
Где-то в начале октября состоялось совещание командирского состава полка, где выступил представитель политотдела дивизии. Это было какое-то странное выступление. Политработники высокого ранга всегда умели вязать концы с концами, но события под Вязьмой явно выбили политаппарат из колеи.
Дивизионный комиссар долго говорил о мужестве наших бойцов и командиров. Приводил примеры, как некоторые батальоны, роты и батареи уничтожали десятки танков и сотни фашистов. Говорил о самоотверженности коммунистов, но после долгого вступления неожиданно повернул речь в другую сторону.
Оказалось, что положение на фронте очень сложное, и нас призывали быть готовыми драться насмерть с фашистскими завоевателями.
В этот же период полк стали активно насыщать оружием. Привезли комплекты зимнего обмундирования, и наши бойцы наконец сбросили гражданское тряпье, в котором ходила едва не четверть личного состава моей восьмой роты.
Оружие, к моему удивлению, было сборное, самых разных систем. За два с половиной года службы я привык к отечественным «трехлинейкам», самозарядным винтовкам СВТ, пулеметам Дегтярева и станковым «максимам». Времена изменились. Большие потери в людях и технике заставили извлечь из арсеналов резервные запасы трофейного оружия.
На батальон выдали девяносто польских винтовок системы «маузер». Винтовки были неплохие. Но брали их неохотно из-за того, что патрон к ним был калибра 7,92 миллиметра. А командиры рот хорошо знали, какие возникнут трудности на фронте со снабжением «чужими» патронами, если даже своих не хватает.
Комбат Чередник, не вступая в долгие разговоры, распределил винтовки на три роты поровну – по тридцать штук. На каждую роту выделили по одному «максиму» и четыре ручных пулемета Дегтярева. Этого было явно недостаточно, и вскоре мы получили дополнительно несколько английских пулеметов «Бренган», которые состояли на вооружении польской армии и достались нам в 1939 году как трофеи.
Пулеметы были вполне современные, с магазином на 30 патронов, но калибр их был 7,7 миллиметра. А это значит, что начнутся проблемы с боеприпасами.
Кроме «трехлинеек» мы получили на каждую роту по десятку самозарядных винтовок СВТ-40. Они требовали особого ухода, и бойцы их не слишком любили. Я распределил самозарядки между сержантами и опытными бойцами. Одну винтовку СВТ-40 оставил себе. Я уже хорошо знал, что ротные командиры воюют практически так же, как и остальные красноармейцы. В бою требовалось оружие более серьезное, чем пистолет. А самозарядку я освоил неплохо в начале войны, и она меня устраивала. Может, я предпочел бы автомат, но их на батальон не выдали ни одного.
Если сказать честно, то наш заново сформированный стрелковый полк был пока слабее того довоенного, который вступил в бои под Смоленском. Командиры в большинстве имели в начале войны за плечами двухгодичное военное училище. Приходили, окончив 6–8-месячные курсы младших лейтенантов, «сверхсрочники» из числа бывших сержантов, уже отслуживших год или два в армии.
Командиров рот и взводов не хватало. Приходили младшие лейтенанты, окончившие всего-навсего трехмесячные курсы, не имевшие никакого опыта. Учеба в полку длилась с утра до вечера. Мы учили бывших крестьянских парней ползать по-пластунски, быстро окапываться, следить за исправностью оружия и многим другим премудростям.
Нас хотели отправить на фронт в начале ноября. Но комиссия, проверяющая уровень подготовки, оказалась дотошной и пришла к выводу, что большинство красноармейцев не подготовлены к боевым действиям. Думаю, что это был редкий случай в тот период. На фронт направляли новобранцев, прошедших считаные недели обучения.
Полковник и два его помощника посмотрели, как неумело ковыряют землю малыми саперными лопатками некоторые бойцы. Весь второй батальон заставили проползти по-пластунски триста метров. Зрелище получилось жалкое, люди не прижимались толком к земле, передвигались едва не на четвереньках, роняли винтовки.
– Их же перебьют из пулеметов за километр! – воскликнул представитель штаба корпуса. – Товарищ Усольцев, вы же опытный командир. Почему люди не подготовлены?
– Потому что времени не хватило, – ответил наш командир полка. – За две недели из колхозника солдата не сделаешь. Впрочем, готов нести ответственность. Моя вина!
Так нам дали еще какое-то время на подготовку, что спасло впоследствии многие жизни. Усольцев и Козырев получили строгие выговоры. С них потребовали принять срочные меры по устранению недостатков.
Важным событием в тот период стал военный парад на Красной площади в честь 24-й годовщины Октябрьской революции, проведенный 7 ноября 1941 года. Прошедшие перед Мавзолеем колонны бойцов, военная техника, приветственная речь Сталина положили конец всевозможным слухам о том, что правительство эвакуировалось, а Москва обречена.
Каждый понимал, что если Сталин остался в Москве, то столицу врагу не отдадут. Это было смелое, хорошо обдуманное мероприятие, которое подняло боевой дух армии и укрепило веру людей в силу нашего государства. Об этом периоде много говорили и писали, он стал наглядным свидетельством, что Красная армия не побеждена и сражается.
Тем временем бои под Москвой продолжались с неослабевающим упорством. 23 ноября немцы начали очередное наступление на правом фланге Западного фронта. В этот день они захватили Клин, Истру, затем переправились через канал Москва – Волга, а третьего декабря вошли в Красную Поляну (всего 27 километров от Москвы).
Наш полк был срочно поднят по тревоге, и тридцатого ноября мы заняли оборонительные позиции на участке фронта неподалеку от поселка и станции Крюково. Я веду рассказ о своем полке, но оборону вела вся дивизия: три стрелковых и один артиллерийский полк.
В отличие от прежних месяцев обстановка в те дни напоминала сжатую пружину. Впереди, не смолкая, гремела канонада. Немцы наступали на поселок и станцию Крюково, которую в числе других частей обороняла и дивизия имени генерала Панфилова, погибшего 18 ноября 1941 года.
Пока наш полк окапывался, я получил приказ взять несколько бойцов, ручной пулемет и сопроводить начштаба майора Козырева, который проводил рекогносцировку местности.
Комбат Григорий Чередник был не слишком доволен, что вместо строительства укреплений я отправляюсь куда-то вместе с Козыревым.
– А ротой кто будет заниматься? – с нотками раздражения спросил он. – Или тебя в штаб переводят в помощники к Козыреву? Хорошее место…
– Никто меня никуда не переводит. Приказали, я иду. Да и нам неплохо будет знать, что впереди происходит. Вместо себя я оставил временно лейтенанта Савенко. Как вернусь, сразу доложу обстановку.
– Ну-ну, – буркнул мой товарищ по военному училищу, а теперь командир батальона, в который входила моя рота. – Людей с собой много не бери, хватит двух человек с ручным пулеметом. Отобьетесь от фрицев, если что…
Выехали на «полуторке». Вместе с Козыревым был начальник разведки полка, молодой лейтенант, которого я видел до этого только мельком. Он сидел рядом со мной в кузове, напряженно оглядываясь по сторонам и держа наготове автомат.
Сержант-пулеметчик наблюдал за небом. Он был опытный солдат и знал, откуда нам грозит главная опасность. Я не догадывался, что спустя считаные дни долгая оборона Москвы сменится мощным контрнаступлением Красной армии.
Возможно, более проницательные и опытные командиры, такие, как Тимофей Филиппович Козырев, прослужившие долгое время, видели приметы, говорящие об изменении обстановки. В тот период немцы уже выдыхались, и хотя по-прежнему вели наступление, шло оно рывками.
Танковые части вермахта, натыкаясь на сильную оборону, откатывались и, меняя направление, искали слабые места в нашей обороне. Такое бывает, когда над головой висит неумолимый приказ «Любой ценой только вперед!», а сил уже недостаточно, и русские цепляются за каждый клочок земли.
Мы дважды видели группы немецких «бомбардировщиков» (по 15–20 машин) в сопровождении истребителей. Парами пронеслись несколько «мессершмитов». Один из них начал было снижаться, увидев наш грузовик, но не стал тратить время и пронесся метрах в пятистах над головой.
– Загоняй машину вон в ту рощицу, – приказал водителю Козырев, – а мы пешком прогуляемся.
Пулеметный расчет он оставил рядом с «полуторкой», а мы втроем, Козырев, начальник разведки и я, поднялись на бугор, поросший кустарником. До станции было километра два. Она горела. Тяжелый маслянистый дым клубился над пакгаузами, домами. Шла непрерывная стрельба из всех видов оружия.
Вдоль редкой сосновой гривы тянулась цепочка санитарных повозок. Раненые, которые могли идти, шли, немного отстав. Некоторые ковыляли, опираясь на самодельные костыли.
Метрах в пятистах от нас вели огонь две короткоствольные гаубицы. Я разглядел в бинокль еще два орудия, они были разбиты. Поле, остатки одинокой батареи, которую наверняка разбомбят или сомнут немецкие танки, если прорвутся. Почему они выбрали такое неудобное место?
– Дорогу обстреливают, – сказал Козырев. – С их позиции она хорошо видна.
Мы пробыли здесь часа полтора. Станцию и поселок наши пока удерживали. Мои мрачные прогнозы насчет гаубиц сбылись. На них спикировали два «юнкерса» и сбросили несколько авиабомб, судя по-всему «стокилограммовок».
Оба самолета дождались, пока рассеется дым, и, убедившись, что орудия разбиты, повернули в сторону сосновой гривы, вдоль которой по-прежнему двигалась цепочка раненых. Обстреляв наших бойцов из пулеметов, «юнкерсы» торопливо сделали разворот. Мы увидели, что их догоняет тройка истребителей И-16.
Догнали наши «ишачки» немцев или нет, мы не поняли. Козырев приказал срочно идти к машине. Обходя горящую станцию с тыла, в сторону нашего полка двигались штук шесть танков, а к роще, где пряталась «полуторка», прямо через поле катил вездеход БМВ. Это была открытая сверху легковая машина со скошенным капотом. В ней сидели четверо немцев в белых маскхалатах (наверное, разведка) и торчал пулеметный ствол.
Шестерка танков прошла вдалеке, а разведчики задержались на несколько минут у разбитой гаубичной батареи. Козырев, матерясь, передернул ствол пистолета.
– Лезут куда ни попадя… шесть танков зачем-то пустили. Тоже разведка. Эй, сержант, справишься с вездеходом или Гладкову пулемет взять?
– Обижаете, товарищ майор. Я в армии с сорокового года. Не промахнусь.
Но столкновение с немецкой разведгруппой обошлось нам дорого. В БМВ сидели знающие свое дело солдаты во главе с унтер-офицером.
Их машина резко изменила прежний маршрут и обошла наш бугор с тыла. Уже с расстояния метров пятисот они заметили «полуторку» и открыли с ходу огонь из своего МГ-34.
Я отчетливо слышал, как пули щелкают о доски кузова, звякает пробитый капот. Сержант дал в ответ пристрелочную очередь, а затем ударил очередями по 8–10 пуль. Он стрелял неплохо, угодил в вездеход, ранил одного из немцев. Но закрепленный на треноге более скорострельный «машингевер» МГ-34 с оптическим прицелом бил точнее, а пулеметчик не жалел патронов.
Вокруг нас плясали фонтанчики мерзлой земли и снега, пули косили кусты. Я тоже открыл огонь из своей самозарядки, стрелял из ППШ начальник разведки. Но немецкий пулеметчик видел цель через оптику куда лучше.
Звякнула и покатилась по снегу пробитая каска лейтенанта – он в азарте слишком высоко приподнялся. Из простреленной головы текла кровь, лейтенант сжимал ладонями снег, ноги мелко подергивались.
Сержант сменил плоский магазин Дегтярева, снова прицелился. Сверкнувшая трасса выбила пулемет из его рук, из шинели брызнули клочья. Козырев подтянул к себе автомат и дал несколько очередей.
Он бы нас прикончил, этот МГ-34, но мы повредили машину, ранили двоих немцев, и водитель, развернув БМВ, стал уходить, дав полный газ. Машина дымила, двигалась рывками, но убегала довольно резво. Я выпустил вслед второй магазин, в горячке потянулся за третьим, но меня толкнул Козырев.
– Хватит, навоевались… давай раненых спасать.
Но лейтенанту помощь уже не требовалась, он умер от пулевого ранения в голову. Сержанту-пулеметчику пробило в двух местах плечо, и мы наложили тугие повязки. Его помощник растерянно вертел в руках пулемет с разбитым казенником.
– Забрать бы его надо.
– Бери, может, починишь.
Водитель подогнал «полуторку», и мы погрузили в нее погибшего лейтенанта. Пулеметчика, бледного от потери крови, усадили в кабину. Когда вернулись в полк, Козырев протянул мне автомат начальника разведки:
– Возьми на память. Все же командир роты, а таскаешь с собой оглоблю со штыком. Благодарю за службу!
Я машинально козырнул в ответ. Тимофей Козырев когда-то командовал ротой в нашем батальоне. Он чутко улавливал отношения между комбатом и ротными командирами.
– Не надувайся, – с легкой усмешкой оглядел он Чередника. – Хорошие у тебя командиры. Не сегодня завтра вступим в бой, никто в стороне не останется.
Когда исклеванная пулями «полуторка» уехала, я коротко доложил комбату обстановку. Я стоял перед ним, держа в одной руке винтовку, на другом плече висел автомат.
– Сдай самозарядку старшине и сходи умойся, – сухо обронил он. – Лицо кровью забрызгано, не пугай народ.
Я пошел умываться. Винтовку сдавать не стал, потому что к автомату имелся всего один заряженный диск. На десяток минут боя. А винтовочных патронов было запасено в достатке.
Спустя какое-то время я поделился тем, что видел, с командирами взводов, старшиной Сочкой и Михаилом Ходыревым.
– Те шесть танков в стыке между первым батальоном и соседним полком прорвались, – сказал Родион Сочка. – Десятка два бойцов подавили и пошли дальше. Говорят, на артиллерийский дивизион напоролись, раздолбали их. А патронов к ППШ я тебе, Василий, коробку дам. Сто штук. Автомат в бою всегда пригодится.
Последующие три-четыре дня слились для меня, как, наверное, и для всего полка, в сплошной грохот взрывов, вой пикирующих самолетов и танковые атаки.
Уже на второй день после нашей рекогносцировки немцы, продолжая бои по захвату Крюково, хорошо «пугнули» нас залпами шестиствольных минометов. Видимо, атаковать вновь прибывшие советские полки сил пока не хватало, но артиллерии было в достатке.
С утра, оставляя черные дымные полосы, в нашу сторону полетели с устрашающим воем реактивные мины калибра 158 миллиметров. Их зачастую использовали перед танковыми атаками, сосредоточив огонь двух-трех батарей на узком участке. Осколочно-фугасные мины весом тридцать четыре килограмма взрывались, сметая брустверы окопов и траншей, осколки полосовали воздух шипящими кусочками раскаленного металла.
Обстреливали все подряд, стараясь накрыть в первую очередь нашу немногочисленную полковую артиллерию. Затем ударили обычные 80-миллиметровые минометы. За два часа обстрела в нашем батальоне выбыли убитыми и ранеными человек пятнадцать.
Наши пушки и минометы отвечали довольно слабо, наверное, не хватало боеприпасов. Запомнилось, что первую атаку немцы предприняли, когда в основном вытеснили наши войска из Крюково, хотя бой там еще продолжался.
Десятка два танков и штурмовых орудий узким клином атаковали позиции второго батальона, видимо, стараясь разорвать полк надвое. Это была какая-то мрачная и жутковатая атака. На нас шли закопченные, кое-где подлатанные машины, недавно вышедшие из боя и намеренные смести нас с ходу.
Танки двигались без предварительной артподготовки, примерно на одной скорости, километров 35 в час. Уверенный в себе батальон, состоявший в большинстве из средних танков Т-3 и нескольких тяжелых Т-4, набирал ход пока молча, без выстрелов. Стоявшая в полукилометре батарея трехдюймовых орудий Ф-22, не выдержав, открыла огонь.
Бронебойные снаряды не дают разрывов. Выпущенные с расстояния километра, они исчезали еле заметными светлячками или ударялись о мерзлую землю и рикошетили, поднимая фонтаны снега.
В сторону батареи полетели мины укрытой за буграми 80-миллиметровой минометной батареи. Танки, уклоняясь от снарядов, маневрировали и увеличили ход. Взвод легких «сорокапяток» дал залп, когда головные машины приблизились к позициям метров на триста. Общее расстояние составляло четыреста метров – это было далековато.
В принципе на таком расстоянии бронебойные снаряды «сорокапяток» по техническим нормам пробивают сорок миллиметров брони. Но это не полигон, и снаряды летят под разными углами, да и броня многих танков уже усилена, висит дополнительная защита – гусеничные звенья.
Я отчетливо разглядел, как чиркнул о броню головного Т-4 небольшой снаряд «сорокапятки» и ушел рикошетом. В сторону противотанкового взвода потянулись пулеметные трассы и полетели первые ответные снаряды.
По траншее шагал бледный и напряженный капитан Чередник. На батальон недавно выделили два противотанковых ружья с расчетами, но они пока молчали.
– Открывайте огонь! – потребовал капитан.
– Далековато, – возразил сержант-бронебойщик. – Сейчас подпустим поближе.
– Гладков, – повернулся он ко мне. – Истребители танков на месте? Если артиллерия атаку не отобьет, будем действовать сами.
– На месте, – кивнул я.
Рослые, наиболее подготовленные бойцы с гранатами и бутылками с КС прижимались к стенке траншеи, ожидая, когда танки подойдут ближе.
Основная часть двигалась на второй батальон, но пара машин катила прямо на нас, Т-3 с 50-миллиметровыми пушками. По ним выстрелили наши бронебойщики, целясь в борт. Удивительно, но они сработали точнее, чем артиллерия. Пули угодили в моторную часть одного из танков, и двадцатитонная машина дернулась, замедлила ход и даже остановилась.
– Бейте еще! – кричали бронебойщикам.
Танк попятился назад, сквозь решетку жалюзи шел дым, выбился один, другой язычок пламени. Выскочивший на броню танкист набросил на жалюзи брезент, сбивая огонь.
В поврежденный танк угодил снаряд «сорокапятки», а танкиста сбросила на снег очередь «Дегтярева». Дальнейшие события развивались стремительно, сменяя друг друга, как в ускоренном кинофильме.
Дымящаяся машина продолжала рывками отступать, непрерывно стреляя из пушки и пулеметов. «Сорокапятка» догнала его еще одним снарядом – и тут же исчезла среди фонтана мерзлого крошева и закопченного снега.
Фугасный снаряд, выпущенный из 75-миллиметрового орудия тяжелого «панцера» Т-4, разбил «сорокапятку», раскидав в стороны ее отважный расчет. Еще два снаряда разнесли вторую пушку, третья молчала, видимо, была повреждена.
Ближний ко мне бронебойный расчет стрелял в борт Т-4. Я видел, как лихорадочно посылают пулю за пулей бронебойщики, но взять тяжелую машину не могли. Угловатая башня с коротким орудием развернулась в их сторону. Снаряд взорвался с оглушительным грохотом, от которого заложило уши.
Когда рассеялся дым, я увидел исковерканное ружье, торчавшее из груды земли, и ползущего бойца с окровавленной головой. Командир первого взвода Давыдов и его бойцы бросили несколько противотанковых гранат и бутылку с горючей смесью.
Гранаты были нового образца, РПГ-41, довольно мощные, но весили без малого полтора килограмма. Они не долетели до цели и взорвались шагах в десяти от траншеи. Более легкая бутылка с КС лопнула рядом с танком. Растаскивая гусеницей липкое пламя, Т-4 перемахнул траншею и оказался за нашими спинами.
Вслед за ним шел легкий танк Т-38 и бежали десятка три автоматчиков. Нас брали в клещи. Тяжелый Т-4 раздавил последнюю «сорокапятку» и вел огонь по траншее из пушки и пулеметов.
– Он нас прикончит, – подбегая ко мне, крикнул лейтенант Давыдов.
– Бери двух бойцов и попробуй приблизиться к нему по отсечной траншее.
– Она всего метр высоты. Не добежим.
– Добежишь, если жить хочешь, – со злостью оборвал я взводного.
На позициях второго батальона творилось вообще черт знает что. Танки утюжили траншею и окопы, с десяток машин прорвались вперед и шли по направлению к штабу и тылам полка. По ним вела огонь батарея трехдюймовых орудий Ф-22 и гаубицы. Наш третий батальон после гибели взвода «сорокапяток» мог рассчитывать только на свои силы.
Я бежал по траншее, подбадривая людей и указывая цели. Нельзя было подпустить близко чешский танк Т-38 и автоматчиков. Если они приблизятся – вряд ли мы сумеем выстоять. И еще этот чертов «гроб» Т-4! Он хладнокровно всаживал снаряды и пулеметные очереди с расстояния ста шагов.
Второй противотанковый расчет был тяжело ранен, ружье лежало на бруствере. Я подозвал старшину Сочку:
– Родион, бери помощника, бей по гусеницам.
– Да я ни разу не стрелял из этой кочерги, – отозвался всегда уверенный в себе старшина. – Ладно, попробую…
– Ты что, не видишь, у тебя танк за спиной? – рванул меня кто-то за воротник шинели. – Раскрой глаза пошире!
Это был капитан Чередник. В овчинном полушубке, шапке-кубанке, с пистолетом в руке, он толкнул меня к брустверу. Я больно ударился грудью о замерзший край траншеи. Через секунду новый толчок свалил меня и комбата. Снаряд, выпущенный в нас, взорвался с недолетом.
Ком мерзлой земли ударил в лицо бойца, который подавал старшине патроны к противотанковому ружью. Пулеметная очередь выбила из бруствера фонтаны крошева, а Сочка, успев выстрелить, бросился на дно траншеи. Он сделал это вовремя. Снаряд калибра 75 миллиметров на этот раз прошел чуть выше, динамическим ударом сбросил ружье и взорвался метрах в семи от нас.
Лейтенант Давыдов с двумя бойцами сумели подбежать по отсечной траншее ближе к «панцеру» Т-4 и запустили в него несколько бутылок с горючей смесью.
Две штуки угодили в борт, пламя стекало по гусенице, колесам. Экипаж, развернув башню, выстрелил из орудия и попытался уйти подальше от траншеи. Но Сочка, видимо, повредил гусеницу, которая через минуту лопнула.
– Добивайте его, – крикнул Чередник и несколько раз подряд выстрелил в горящую машину из пистолета.
– Товарищ старший лейтенант, – бросился ко мне невысокий широкоплечий боец, прижимая к груди окровавленную руку. – Взводного убили… разорвало снарядом вместе с сержантом.
Красноармейца трясло как в лихорадке, он был без шапки, телогрейка забрызгана кровью.
– Мы его подпалили… а товарища Давыдова и сержанта снарядом…
– Что с рукой?
– Осколок. Но пальцы шевелятся.
– Молодец, Щербак, – вспомнил я фамилию бойца. – Сейчас тебя перевяжут.
– Горит, сучонок, – не мог отойти от возбуждения красноармеец.
Но для меня главным в эти минуты было отбить атаку автоматчиков и обезвредить, отогнать, поджечь или взорвать чешский недомерок с его 37-миллиметровой пушкой.
– Гладков, ты… – начал было давать указания комбат, но я отвернулся и зашагал вдоль траншеи.
Маши сколько влезет своим пистолетом, а мы справимся без твоих истеричных выкриков!
Рота вела огонь из винтовок и трех ручных пулеметов, включая английский «бренган» с торчавшим сверху изогнутым магазином.
Меня беспокоило, почему молчат «максим» и еще один «Дегтярев». Помогая встать старшине, коротко приказал:
– Проверь ПТР. Если исправно, бери на прицел «чеха».
«Дегтярев», как я и думал, заклинило от быстрой стрельбы. Младший сержант осторожно обстукивал затвор, сцепившийся со стволом. Второй номер набивал диск патронами, время от времени выглядывая из-за бруствера.
– Сейчас исправим, товарищ старший лейтенант.
– Головы не высовывайте.
Траншея была во многих местах обрушена, лежали убитые бойцы. Политрук Раскин стрелял из винтовки, неловко передергивая затвор.
– Лезут, гады, – сказал он.
Я машинально кивнул. От политрука большего сейчас и не требовалось. В пулеметах он не разбирается, а вести политинформации не время.
В одном месте траншею засыпало доверху. Когда перебирался, автоматная очередь просвистела в метре над головой. Немец стрелял на бегу с расстояния сотни шагов. Я перебрался на другой край осыпи и едва не споткнулся о ботинки, торчавшие из земли.
Младший лейтенант Савенко Юрий, самый молодой из взводных командиров, но уже прошедший бои под Смоленском и в окружении, напряженно следил за «чехом» (легким танком Т-38). Поворачивая башню, танк посылал один за другим небольшие снаряды из своей 37-миллиметровой пушки. О его броню отчетливо звякнула пуля ПТР, которую выпустил старшина Сочка.
Эти десятитонные увертливые машины имели для того времени довольно сильную лобовую броню 25 миллиметров толщиной. Бортовая защита была слабее – 15 миллиметров. Сбросив шинель и каску, щуплый взводный, похожий на мальчишку, держал наготове бутылку с горючей смесью. Рядом с ним стрелял из английского пулемета по автоматчикам сержант из его взвода.
– Что с «максимом»? – спросил я.
– У них одна болезнь, – отозвался Савенко, продолжая следить за танком. – Кожух снова пробило.
Человек семь автоматчиков сделали рывок и, пробежав с десяток шагов, залегли в низине. Один не добежал – его срезал очередью из пулемета сержант. Танкисты, видимо, получили приказ по рации идти напролом. Т-38 увеличил газ и пошел в сторону засыпанной взрывом траншеи, где образовалась перемычка.
Раскрашенный в серый, с белыми пятнами камуфляж, Т-38, с его массивной башней, непрерывно стрелял из обоих пулеметов и приближался к траншее на полной скорости. Блестели отполированные звенья гусениц, а броня с крупными заклепками казалась непробиваемой.
Прижимаясь к танку, скрытые снежным вихрем, бежали человек двенадцать солдат штурмового взвода, тоже стреляя на ходу. Град пуль бил по брустверу. Сержант-пулеметчик протянул руку, принимая запасной магазин. Второй номер, вскрикнув, стал сползать по стенке траншеи.
Двое красноармейцев торопливо дергали затворы винтовок и палили не целясь. Я пристроил ППШ и окликнул бойцов:
– Стреляйте в цель. Иначе сомнут.
Дал одну, другую очередь, кто-то из автоматчиков свалился. Долговязый боец бросал гранаты. Он успел бросить их штук шесть и угодил под пулеметную очередь.
Сержант с «бреном» сумел отсечь автоматчиков, а Т-38 с ходу влетел на перемычку. Я отложил автомат в сторону и готовился бросить противотанковую гранату. Меня опередил Юра Савенко:
– Жри, гаденыш недоделанный, мать твою…
Черная бутылка, кувыркаясь, разбилась о покатую лобовую броню, где виднелся широкий люк механика-водителя. Жидкость вспыхнула и потекла по броне. Но даже легкий танк не остановить, когда работает двигатель и бешено вращаются гусеницы.
Я тоже бросил свою РПГ-41. Она взорвалась, ударившись о мерзлую землю в метре от Т-38. Машина с маху преодолела перемычку, но провалилась в рыхлую землю, и механик был вынужден резко усилить газ.
Правая гусеница, надорванная взрывом тяжелой гранаты, лопнула. Танк уже был на твердой земле, башня разворачивалась, чтобы снова открыть огонь. Но его тонкая хищная пушка и башенный пулемет не могли дотянуться до нас – мы были в «мертвой зоне».
Механик, задыхающийся от дыма, толчками продвинул машину на несколько метров. Двигатель заглох, а механик выскочил наружу через горящий люк. Густая липкая жидкость текла на него, пока он выбирался. Я почти физически ощутил жуткую боль, которая согнула немца: горел комбинезон, кисти рук, а из горла рвался отчаянный крик:
– Хильфе… помогите!
Он покатился по вытоптанному снегу, но от этого пламени (температурой до тысячи градусов) убежать было невозможно. Из люков, один за другим, выскочили трое танкистов во главе с немецким лейтенантом.
Одного застрелил из пистолета Юра Савенко, а лейтенант бежал на меня. Я успел поднять автомат. Две оставшиеся в нем пули ударили офицера «панцерваффе» в живот повыше блестящей пряжки ремня. Он был молод, едва ли старше Юрия Савенко, но в вороте черного комбинезона висел Железный крест, а на левой стороне груди две медали (одна с распластанным орлом).
Командир танка стоял в пяти шагах от меня, зажимая растопыренными пальцами раны. Сильно текла кровь, наверное, перебило брюшную аорту. Четвертый из экипажа, с пистолетом в руке, остановился, не зная, что делать – в него целились несколько стволов.
Он бросил пистолет. Такое же молодое, почти мальчишеское лицо побелело. Танкист хотел что-то сказать, но сразу три или четыре пули ударили в грудь, лицо, опрокинув его у ног все еще стоявшего лейтенанта.
Атаку автоматчиков отбили, вытащив на бруствер кое-как залатанный «максим». Сержант-помкомвзвода расстрелял все магазины к «брену» и, подняв винтовку, выпустил вслед отступавшим обойму.
В тот день крепко досталось второму батальону. Танки расстреливали и давили людей, артиллерии не хватало. Комбат-2, капитан, прибывший в ноябре с пополнением, как мог держал оборону. Я не успел с ним толком познакомиться, но действовал он смело, кидаясь в самые опасные места.
Видя, как гибнут люди, комбат вместе с одним из сержантов бросились на вражеский Т-3, который смешивал с землей и давил окопы. Бутылки с КС подожгли «панцер», а капитан, встав за пулемет, длинными очередями заставил залечь наступавшую пехоту.
Его бойцы подбили гранатами еще один танк и бронетранспортер. Десятка три новобранцев выскочили из окопов и побежали. Почти все они были расстреляны бронетранспортером, пулеметным огнем в спину.
Разгромить штаб и тылы полка немцы не сумели. Полковник Усольцев и начштаба Козырев как знали, что основная масса машин пойдет на них, склады боеприпасов, санчасть. Открыл огонь гаубичный дивизион, батарея «трехдюймовок» Ф-22 и взвод истребителей танков, вооруженных новыми для нас противотанковыми ружьями.
Артиллеристы понесли большие потери, но сумели рассеять вместе с «истребителями» танковую роту. Один из тяжелых «панцеров» Т-4 сгорел и взорвался в тридцати шагах от командного пункта полка.
Наш третий батальон тоже был потрепан. Выкапывали из обрушенных траншей тела погибших, многие были исковерканы, разорваны снарядами. Политрук Аркадий Раскин в издырявленной осколками шинели положил передо мной список погибших и раненых.
– Один самострел имеется. Что с ним делать будем?
– Позови сюда.
Самострелом оказался долговязый темноволосый парень лет двадцати, с разлохмаченными бровями и перевязанной тряпками левой ладонью. Оказалось, что он поднял над бруствером руку, когда немцы вели пулеметный огонь. Бойцы стащили его вниз:
– Ты что делаешь, дурак? Под трибунал захотел?
Однако спустя четверть часа он снова повторил свою уловку и поймал пулю в ладонь.
– Ты хоть понимаешь, что мы Москву защищаем? Пощады не жди, – предупредил я парня.
– Расстреляйте меня, товарищ старший лейтенант! – истерично выкрикнул красноармеец.
– Я командир роты, такой же боец, как ты, а не исполнитель смертных приговоров.
С этими словами размашисто написал на карточке переднего края «самострел» и расписался. Парень всхлипнул, размазывая по щеке слезы.
– Товарищ командир, оставьте меня в роте. Испугался сильно, столько ребят побило, вот и дал слабину.
Вдруг вмешался политрук Раскин и тихо посоветовал мне:
– Может, и правда оставим? Винтовку держать может, пусть искупает вину. Воевать будешь?
– Буду, ей-богу… до конца жизни молиться за вас буду.
Самострел получил винтовку и вернулся в свой взвод. Но от судьбы, видно, не уйдешь – жизнь его оказалась короткой. На следующий день он угодил под разрыв мины и был убит.
В тот же день погиб наш командир полка Усольцев Павел Петрович. Незадолго перед этим ему исполнилось пятьдесят лет. Снаряд накрыл его вместе с адъютантом. Мы едва успели его похоронить, и тут же на остатки полка обрушились немецкие танки, которые пустили на нас после взятия станции Крюково.
Нас крепко выручили штурмовики ИЛ-2. Они дважды на небольшой высоте бомбили и обстреливали наступающие немецкие части. Не зря фрицы дали им прозвище «мясорубки». Девятка штурмовиков сбрасывала бомбы с небольшой высоты, затем выпустила ракеты и на третьем заходе обстреляла немцев из пушек и пулеметов.
Второй раз штурмовиков было только шесть, но для нас это была существенная подмога. Они дважды буквально накрывали наступавшие машины сплошными разрывами бомб и ракет. Пушечные и пулеметные трассы догоняли убегавших или залегших в снег немецких солдат.
Батальону дали для усиления батарею легких горных пушек. У нас были такие в Буйнакском училище. Короткоствольные, с причудливо изогнутым щитом и деревянными колесами, они не слишком подходили для борьбы с танками, разве что с легкими Т-2 или чешскими Т-38.
Но мы были рады любой помощи. В нашем третьем батальоне осталось полторы сотни активных штыков, а нас продолжали долбить из орудий и минометов. Мы ходили чумазые от копоти, многие были контужены. Политрук Раскин сообщил мне:
– Позади нас заградотряд находится. Стреляют тех, кто без приказа отступает.
Так ли это было на самом деле, не знаю. Я ни разу не видел, чтобы расстреливали отступавших бойцов. Да и некуда нам было отступать – за спиной была Москва.
Мне запомнился бой четвертого декабря. Я чувствовал какое-то отрешение, словно жизнь заканчивается. Летели мины, убивая и калеча людей. Немцы долго топтались, а потом пошли в атаку следом за двумя танками.
Я стрелял по ним из самозарядки, так как патроны к автомату кончились. Рядом со мной упал на дно траншеи красноармеец, смертельно раненный в голову. Я ловил в прорезь прицела темные фигуры и нажимал на спуск. Иногда попадал. Затем откладывал винтовку и обходил свою роту, в которой людей оставалось все меньше и меньше.
Комбат Чередник ко мне больше не цеплялся. Молча проходил мимо. Иногда спрашивал:
– Сколько человек осталось в роте?
– Час назад было сорок семь.
Он кивал головой и шел дальше. Вечером старшина Сочка принес фляжку водки и предложил:
– Давай выпьем. Позовем Юрку Савенко, Ходырева Мишку.
– Заснем ночью, перебьют всех.
– Какая разница? Сегодня, завтра, – Старшина безнадежно отмахнулся.
Мы крепко выпили, поели каши с тушенкой, сала-шпика с черным перцем и заснули. После долгого отступления и многих боев я смирился с мыслью о смерти. Рано или поздно (через день или неделю) нас всех закопают в какой-нибудь воронке.
Но обстановка неожиданно изменилась. 5 декабря началось знаменитое контрнаступление под Москвой. Наш полк продолжал держать оборону. В ротах насчитывалось по 30–40 бойцов, включая тыловиков, которых Козырев направил на передний край.
Почти все мы были обморожены, многие контужены. В нашем третьем батальоне из девяти командиров взводов осталось лишь четверо. Остальными взводами (а точнее, отделениями) командовали сержанты.
У меня снова воспалились и распухли отмороженные еще на Финской войне пальцы ног. Кроме того, за день до начала контрнаступления я поймал несколько осколков от разорвавшейся рядом 50-миллиметровой мины. Был бы калибр побольше, я бы не уцелел.
Хирург Марков осколки вытащил, но раны от холода тоже воспалились. Помыться возможности не было, и мы терпеливо ждали, когда наш крепко потрепанный полк отведут в резерв. Числа 15 декабря полк, вернее то, что осталось от него, отвели на отдых и переформировку под город Ногинск. Десятка три бойцов и командиров, в том числе меня, положили в медсанбат. Помню, что первые дни я не мог толком заснуть. Среди ночи часто просыпался от боли в пальцах и видений, которые преследовали меня.
Я снова видел немецкие танки, они шли прямо на нас, сверкали вспышки выстрелов, а я не мог сдвинуться с места, не слушались ноги. Иногда меня будила санитарка:
– Не кричи так, миленький. Ты же всех разбудишь.
Я жадно выпивал полкружки холодного чаю, понемногу успокаивался и снова погружался в сон.
Продолжалось контрнаступление наших войск под Москвой. Мы вчитывались в сводки Информбюро, следили по карте за боевыми действиями. К началу января немецкие войска были отброшены от столицы на 100–200 километров. В палатах царило оживление, впервые за войну мы уверенно наступали. Шли разговоры, что теперь фрицев погонят без остановки. Хотелось бы в это верить, но я уже на собственном опыте убедился, насколько силен враг, и не слишком доверял восторженным газетным статьям.
В санбате я пролежал около трех недель, затем снова вернулся в свой полк. От души обнялись с Мишей Ходыревым, Юрой Савенко, который исполнял в мое отсутствие обязанности командира роты.
Представился Тимофею Филипповичу Козыреву, который стал командиром полка.
– Ноги как твои? – спросил он.
– Ноги нормально. Пальцы отмороженные воспалились, но сейчас ничего. Бегаю.
– Хромаешь немного. В штаб нет желания перевестись?
Если бы этот разговор состоялся прямо по возвращении, я бы, наверное, согласился. Но, побывав в своей роте, увидев, с какой теплотой встретили меня друзья, я замялся. Не буду лицемерить, передний край, бои, гибель товарищей и полученное второе ранение заставляли меня задуматься. Я уже был далеко не мальчишка, в апреле мне исполнялось двадцать четыре года. Сколько уже погибло ротных командиров в полку? Много… Когда-то наступит и моя очередь.
– Не знаю, – пожал я плечами. – Не привык я к штабной работе.
Была и другая причина. Укоренившееся у строевых командиров прохладное отношение к штабникам. «Штабные крысы», смеясь, называли мы их. Видели, что штабники и награды получают чаще, и обмундирование у них как с иголочки, и спят они в тепле. Это порождало более сильные эмоции, чем пренебрежение. Мы зачастую терпеть не могли штабную сытую братию и не считали, что они воюют.
Наверное, Козырев прочитал все это на моем лице и засмеялся.
– Ладно, подумай, а пока принимай роту. Кстати, мы тебя к ордену Красной Звезды представили.
– Спасибо, – заулыбался я.
Награды в тот период выдавали скупо. Расщедрились в связи с нашим контрнаступлением.
Поговорили с Григорием Чередником. У него был добротный блиндаж, а в прихожей сидела молодая телефонистка в хорошо подогнанной сержантской форме. Ординарец растапливал печь, небрежно козырнул мне, а я подумал, что мой товарищ (может, бывший?) окружил себя целым штатом обслуги. Заметил я и новенький орден Красной Звезды рядом со старым, полученным еще в сороковом году.
– Поздравляю с наградой, – пожал я ему руку.
– Спасибо. Представляли к Красному Знамени, но в штабе дивизии зажали. Мы это дело обмоем… как-нибудь. Принимай роту и налаживай боевую подготовку. Расчухиваться нам время вряд ли дадут. Такое наступление идет, что мы в стороне не останемся.
– Как дома дела? – спросил я.
– Нормально. Для нас дом сейчас батальон. На другое времени не остается.
Я шел к себе в роту и с горечью размышлял, что душевного разговора со старым товарищем не получилось. Впрочем, какие мы теперь товарищи? Начальник и подчиненный. Как у Чередника дома дела обстоят, уже не мое дело. Орден обмоем «как-нибудь», то есть вряд ли будем обмывать вообще. У Григория сейчас друзья рангом выше, чем я, и нечего лезть со старой дружбой.
Рота снова обновилась на три четверти. Занятия шли и без меня, люди были тепло одеты, выглядели бодро. Вот что значат наши успехи на фронте!
Очередная переформировка нашего полка ко времени моей выписки из санбата была уже практически закончена. Кое-что изменилось. Стрелковые роты по количеству личного состава стали меньше и насчитывали в среднем по 120 человек (вместо 160 до войны).
Улучшилась техническая и боевая оснащенность. В полку имелось теперь штук двадцать пять грузовых машин: «полуторки», ЗИС-5, а также несколько легковых ГАЗ-61 и мотоциклы для разведки. Появилась, наконец, минометная рота (десять 82-миллиметровых минометов), которая прикрывала непосредственно батальоны.
В нашей роте имелись два противотанковых ружья, два пулемета «максим» и шесть ручных «Дегтяревых». Автоматов по-прежнему не было, но снова появились самозарядные винтовки СВТ-40. Люди были тепло одеты, обуты в валенки. Командирам рот и взводов выдали либо полушубки, либо овчинные безрукавки, которые надевали под шинели.
Я тоже получил полушубок, подшитые резиной валенки, новое обмундирование. Старшина Сочка сохранил мой автомат ППШ и, улыбаясь, передал его вместе с запасным диском и коробкой патронов. Вечером мы собрались небольшой компанией и отметили мое возвращение. Из взводных командиров я пригласил лишь Юрия Савенко, получившего недавно звание «лейтенант».
Двое других командиров взводов были молодые ребята, лет по 19, закончившие краткосрочные курсы младших лейтенантов. Политрук Аркадий Раскин посоветовал мне не приглашать их:
– Ребята вроде неплохие, но начинать знакомство с выпивки нежелательно. Тем более командир ты у нас авторитетный, к ордену представлен. В «дивизионке» о нашем батальоне писали, твою фамилию упоминали.
Сам старший политрук носил на гимнастерке орден Красной Звезды. Юра Савенко и Михаил Ходырев были награждены медалями «За боевые заслуги». Ничем не отметили нашего старшину Родиона Сочку. Он хоть и скрывал обиду, но, подвыпив, заявил:
– Думают, если старшина, то лишь барахло перекладывает и за кухней следит. Разве я плохо воевал? У меня на счету больше десяти фрицев.
– Брось, – успокаивал его Валентин Дейнека. – Меня тоже не наградили, ну и что ж теперь?
Поговорили о продолжавшемся контрнаступлении. В медсанбате я встречался с командирами, которые участвовали в наступательных боях. Они рассказывали, что вначале немцы были ошарашены. Танковые части с десантом и свежие сибирские дивизии проламывали бреши, сминая не ожидавших такого удара немцев.
Но, по слухам, в середине января наступление замедлилось. Немецкое командование оправилось от неожиданности, были подтянуты свежие части, которые упорно сдерживали наши войска.
Обращаясь к последним, довольно правдивым историческим документам, я узнал, что за первый месяц контрнаступления наши войска потеряли 140 тысяч погибшими и 230 тысяч ранеными. Но в то же время были освобождены 11 тысяч населенных пунктов. Точного количества немецких потерь не приводилось, но 38 вражеских дивизий были либо разгромлены, либо понесли большие потери.
Как бы то ни было, настроение бойцов стало бодрое, в чем я убедился, поговорив с красноармейцами, которых я давно знал. В штабе полка Козырев (получивший «подполковника») вручил мне орден. Мы с ним немного посидели, и я узнал, что в ближайшее время нас должны перебросить на передний край. Это «ближайшее время» наступило уже через неделю. Полк подняли по тревоге, и мы двинулись на запад. Впервые за восемь месяцев войны мы шли, чтобы наступать.
Впереди двигался на автомашинах первый батальон, следом остальные подразделения полка. Вскоре я своими глазами увидел следы разгрома немецких частей. Расскажу о том, что больше всего врезалось мне в память.
Зима 1941/42 года была очень снежная. Отступавшие немецкие части не имели возможности маневрировать. Их сметали и уничтожали на всех основных дорогах.
На обочинах дороги, по которой мы шагали, я увидел огромную вереницу застрявшей в снегу или разбитой вражеской техники. Особенно много было всевозможных автомашин, начиная от легковых и заканчивая тяжелыми «МАНами», трехосными «Круппами», чешскими «Татрами».
Возле огромных тягачей торчали из снега длинноствольные орудия крупного калибра. Меня поразили массивные пушки калибра 173 миллиметра с девятиметровым стволом. Я знал, что эти орудия способны посылать снаряды весом 70 килограммов на расстояние тридцать километров.
И здесь же торчали из снега подкованные сапоги, каски, вздернутые вверх руки замерзших немецких артиллеристов. Неподалеку застыл танк Т-3, вернее, его нижняя часть. Башню сорвало сильным взрывом, а опорную плиту развернуло поперек.
По другому танку словно ударили огромным молотом. Лопнула в нескольких местах броня, разорвало гусеницы и выбило несколько колес. Поодаль стояли штук двенадцать сгоревших танков Т-3 и самоходных установок. И снова трупы немецких солдат и офицеров.
В одном из небольших городков, где мы остановились на ночь, я увидел огромное количество брошенных автомашин. Их было невозможно сосчитать, но думаю, что фрицы оставили здесь машин пятьсот, не меньше. Часть грузовиков обгорели, моторы были взорваны. Немецкие водители возили с собой небольшие заряды взрывчатки и были обязаны, оставляя машину, взорвать ее. Однако сделали это немногие. Причину мы поняли днем, когда продолжили путь по дороге. Мы увидели на обочинах множество немецких трупов. Отступавших догнали наши танки и уничтожили. Часть тел были сплющены гусеницами, в обледеневших шинелях виднелись пробоины от пуль.
Дня через два наш батальон, переброшенный вперед на грузовиках, атаковал полусгоревшую деревеньку. Наступали мы дружно, тем более нас поддерживала батарея полковых «трехдюймовок». Постоянно звучали команды: «Вперед! Не останавливаться!»
Комбат Чередник был возбужден и, кажется, перед боем выпил. Это победное настроение и желание отличиться обошлось нам дорого. С бугра, где торчали трубы сгоревших домов, по нам ударили минометы, открыли огонь штук пять пулеметов. Атака захлебнулась. Чередник, в распахнутом полушубке и с пистолетом в руках, крикнул мне:
– Ты чего разлеживаешься? А ну, поднимай роту.
Неожиданно вмешался политрук Аркадий Раскин:
– Надо обдумать, как действовать дальше. Глянь, сколько людей полегло.
Не знаю, чем бы все кончилось, но неподалеку взорвалась мина. Осколок распорол белый полушубок комбата и полоснул по руке. Григория Чередника увели, а мы с Валентином Дейнекой, посовещавшись, решили ударить с фланга.
Я взял с собой третий взвод, и мы обошли по глубокому снегу деревню с левого фланга. Почувствовав, что их окружают, немецкий заслон быстро погрузился в две бортовые машины и, под прикрытием бронетранспортера, покинул село. Ни одного убитого фрица мы не нашли, а сами потеряли около двадцати человек погибшими. И заслон был пустяковый, человек тридцать солдат во главе с офицером, зато хорошо вооруженный. Позже мне не раз придется столкнуться с подобной тактикой немцев при отступлении.
Основные силы немцев отступали, а их прикрывали небольшие группы пулеметчиков и минометы. Свою задачу этот взвод выполнил. Мы провозились возле деревеньки почти весь день, отправили в санчасть более сорока человек раненых и остались дожидаться подхода полка.
Помню, мы хотели погреться и зашли в один из домов. Он был забит женщинами и детьми. Люди сидели, лежали на полу, дети плакали. Места для бойцов в уцелевших домах не хватило. Пришлось ночевать у костров, хотя мороз зашкаливал градусов за двадцать пять.
Другую деревню мы освободили довольно удачно. Обошли ее с тыла, а когда заслон на трех грузовиках с прицепленной пушкой стал отходить, открыли по нему пулеметный огонь. Сумел прорваться лишь один грузовик, весь исхлестанный пулями. Две других машины горели.
Более двадцати немецких солдат остались лежать на снегу. Мы захватили 47-миллиметровую противотанковую пушку, два пулемета и с десяток автоматов. Капитан Чередник получил благодарность от командира полка. Козырев хорошо был осведомлен и о первом неудачном бое. Но на потери смотрели тогда сквозь пальцы. Главное – бить врага!
Наш полк принял участие еще в ряде наступательных боев. Но продвижение Красной армии в феврале – марте 1942 года замедлилось. Понеся в ходе трехнедельного наступления существенные потери, мы встали в оборону недалеко от станции Селижарово. Здесь среди мартовских снегов вели бои, отбивая контратаки немцев. Временами наносили удары и мы.
Заканчивалась тяжелая зима 1941/42 года. Победа под Москвой показала, что мы умеем воевать. В будущее смотрели с оптимизмом.
Глава 8 Сталинград
В мае сорок второго года меня назначили помощником командира полка по строевой части. Незадолго перед этим я был снова ранен (пробило осколком правую руку), а после выписки из медсанбата получил приказ о новом назначении.
На этот раз я не пытался спорить с командиром полка Козыревым. Я понял, что он хочет дать мне возможность отдохнуть после трех ранений и долгих месяцев, проведенных на передовой.
Ребята проводили меня нормально, хорошо выпили, желали вернуться в должности комбата.
– Какой из тебя штабник? – хлопал меня по плечу лейтенант Валентин Дейнека. – Столько дорог вместе прошли, а теперь будешь в компании со штабными крысами. Это не дело!
Миша Ходырев смотрел на меня грустными глазами. Я только сейчас понял, насколько дорог мне этот смуглый, небольшого роста парень. Мы прошли с ним Финскую войну, бои под Смоленском и Москвой. Он знал все о моей жизни, ни с кем другим я не был так откровенен в наших долгих разговорах, а я хорошо знал его довоенную жизнь в маленьком рыбацком поселке под Астраханью.
– Не грусти, Миша, – с усилием улыбаясь, говорил я. – Из полка я ведь никуда не ухожу. Еще надоем вам своими визитами да проверками.
Ходырев молча кивнул, а Захар Антюфеев, разливая водку по кружкам, заметил:
– Приходи почаще, Василий Николаевич. Лишний раз Чередника одернешь. А то он слишком большим начальником стал, из взводных сразу в комбаты прыгнул. Вот голова у него порой и кружится.
Григория Чередника на свои проводы я не позвал, хотя он небрежно намекнул:
– Ты звякни, когда уходить будешь. Может, приду, опрокинем граммов по сто.
Это «может» меня неприятно задело. Ведь мы были знакомы с тридцать седьмого года, на соседних койках в военном училище спали. Я ему не «звякнул». Знал, что стесненно будут чувствовать себя сержанты из моей роты, младший лейтенант Юра Савенко, которому нередко доставалось от комбата за различные промахи. Да и Валентин Дейнека, недоучившийся курсант, а теперь командир девятой роты, с трудом выслушивал поучения комбата Чередника.
А ведь Валентин за успехи в учебе после первого курса, один из немногих, сразу получил «лейтенанта». Возглавил в бою остатки практически уничтоженной роты и отбил атаку немецких танков. Даже полковник Усольцев как-то заметил:
– Этот парень далеко пойдет. Умеет за собой людей повести.
В штабе я работал до сентября. Конечно, штаб полка не бог весть какая величина, но все же это не окопы. Вскоре я наглядно убедился, что означает поговорка: «Кому война, а кому мать родная!» Здесь сложился свой небольшой кружок (коллективом я его не назову) сумевших хорошо устроиться офицеров.
Они не спали в сырых землянках, где протекал потолок, а порой среди ночи обрушивались земляные нары, и ты сползал в ледяную лужу на полу. Я уже не говорю об обстрелах и постоянном риске быть убитым или искалеченным. Люди глушили тоску водкой, хоронили товарищей и постепенно привыкали к мысли, что тебя рано или поздно убьют. Война ломала психику и одновременно сплачивала людей.
Первые дни моего пребывания в штабе, засыпая на сухом тюфяке в теплой землянке, где ночью можно было раздеться и укрыться одеялом (немыслимая вещь на переднем крае), я постоянно думал о друзьях: Михаиле Ходыреве, Юрии Савенко, Валентине Дейнеке, Родионе Сочке. Как там они?
Постепенно привыкал. Тем более строевая часть – это постоянная работа с документами, приказами, беседы с вновь прибывшими командирами и бойцами, проверки подразделений, дежурства по штабу. Здесь я понял, почему даже небольшая власть меняет людей часто не в лучшую сторону.
Полковник Усольцев мне доверял. Постоянно занятый, он иногда подписывал документы, не проверяя их. Распределяя вновь прибывших, я имел возможность включить какого-нибудь лейтенанта в список командиров стрелковых взводов, а мог и направить в тыловое подразделение. Но я не злоупотреблял доверием Усольцева, особенно когда чувствовал, что дело нечисто.
Поздно вечером в нашей землянке обычно собиралась компания из четырех-пяти человек. Пили водку, неплохо закусывали. Когда, подвыпив, я начинал вспоминать свой батальон, бои под Смоленском, Москвой, Селижарово, меня добродушно осаживали:
– Не трави себе душу. Повоевал, три ранения имеешь, награды. Заслужил право на руководящую работу. Пора тебе и подружкой обзавестись, меньше об окопных вшах вспоминать будешь.
Я не считал свою работу руководящей. Ребятам в батальоне со смехом рассказывал, что я теперь вроде главного писаря в полку. Кипы бумаг, а под началом у меня лейтенант, непригодный к боевой службе, три сержанта, вестовой и машинистка.
Про машинистку Дашу скажу несколько слов отдельно. Это была смешливая, простая девушка лет двадцати, в звании младшего сержанта. Получилось так, что, работая вместе, мы быстро подружились. Однажды вечером она пришла ко мне в землянку и осталась ночевать. Мой помощник, лейтенант, с которым я делил это жилье, деликатно удалился.
Даша не скрывала, что в тылу у нее остался жених, и если дождется ее, то после войны они поженятся. На наши отношения она смотрела просто и по-своему заботилась обо мне. Иногда готовила что-нибудь домашнее: хороший борщ, блины, окрошку.
Заполняя бесчисленные ведомости, разные документы, просиживая на совещаниях, я всегда помнил, что война продолжается. Улучив момент, под любым предлогом навещал ребят из своего батальона.
Гриша Чередник хоть и отпускал подковырки в мой адрес, но вынужден был обращаться ко мне с разными просьбами. Я помог разыскать представления к наградам на несколько бойцов и командиров, «залежавшиеся» в штабе дивизии, и они были подписаны. С помощью своих новых приятелей помог выбить для батальона три повозки с лошадьми.
Иногда ко мне обращались с просьбами красноармейцы моей бывшей роты. Помню пожилого (по моим меркам) ефрейтора, воевавшего с лета сорок первого года, дважды раненного, обморозившего ноги под Москвой.
– Убьют меня, а дома четверо детей, жена, мать с отцом уже под семьдесят. Может, поможете, Василий Николаевич, в ездовые перевестись?
Я сумел помочь этому бойцу. Отправил на шестимесячные курсы младших лейтенантов несколько бойцов, имевших образование семь-восемь классов. Они уезжали довольные. Шесть месяцев вдалеке от войны – огромный срок. Только спасло ли это их от безжалостной мясорубки сорок второго года? Взводные командиры, даже в обороне, гибли или получали ранения через считаные недели пребывания на передовой. А про наступление и говорить нечего.
В конце августа мы узнали о мощном броске немцев к Волге. Пошли слухи, что нашу дивизию собираются перебросить на юг. Я узнал об этом одним из первых. Меня вызвал к себе подполковник Козырев и предложил возглавить роту бронебойщиков. Это не было повышением. Но вводимые в штат стрелковых полков роты ПТР должны были значительно усилить противотанковую оборону, им уделяли особое внимание.
– Сталинград? – вырвалось у меня, хотя я знал, что такие вопросы задавать не следует.
– Возможно, придется повоевать в степях, – уклончиво ответил Тимофей Филиппович. – Ты, наверное, на батальон рассчитывал, но понадобился надежный человек на эту должность. В роте будет 36 противотанковых ружей, штук шесть пулеметов, огнеметы, десяток конных повозок. Кстати, поздравляю тебя с очередным званием «капитан».
– Служу трудовому народу! – машинально поднявшись, ответил я. – Спасибо, товарищ подполковник.
– Не за что, – невесело улыбнулся Козырев. – Должность такая, что не слишком туда рвутся. С танками драться – это…
Он помолчал и продолжил уже другим, более жестким тоном:
– В полку всего десять пушек. Шесть «сорокапяток» и четыре легких «трехдюймовки». Этого мало. В бою вас, мол, дивизионная артиллерия поддержит. Только не всегда ее дождешься. А три десятка противотанковых ружей плюс огнеметы – это сила. Времени для подготовки у нас мало, сдавай дела.
В общем, получилось, что командиром роты противотанковых ружей меня назначили сразу, без всяких обдумываний. Через час я уже готовил на себя приказ (его сразу подписали), быстро сдал дела и начал формировать роту. Пользуясь случаем, я добился, чтобы в новую роту назначили взводными командирами Юрия Савенко и Михаила Ходырева. Сумел перетащить к себе старшину Родиона Сочку, сержантов Андрея Долгова, Николая Щербака и еще десяток бойцов, неплохо проявивших себя.
Кроме того, пришли после окончания двухмесячных курсов бронебойщиков около двадцати сержантов и рядовых, обученных стрельбе из противотанковых ружей. Это были рослые крепкие ребята, хорошо экипированные, как правило, имевшие боевой опыт. Пришли и новобранцы, которых мне предстояло обучать.
На дивизионном складе вместе с Сочкой и Ходыревым распаковывали ящики с длинноствольными противотанковыми ружьями. В основном получили однозарядные ружья системы Дегтярева (ПТРД) и несколько самозарядных – системы Симонова с магазином на пять патронов (ПТРС).
Получили также несколько повозок вместе с ездовыми, три станковых пулемета «максим» и три ручных Дегтярева. Нам полагались автоматы, но снабженцы сумели найти лишь штук шесть ППШ. Вскоре пришло отделение огнеметчиков из саперной роты.
– Сержант Шамин, – представился мне рыжеволосый красноармеец с медалью «За боевые заслуги». – Со мной восемь бойцов и пять ранцевых огнеметов РОКС-3.
Так в очередной раз резко повернулась моя военная судьба. Со дня на день мы ждали отправки под Сталинград, где развернулась ожесточенная битва. По слухам, немцы заняли почти весь город. Бойцы 62-й армии генерала Чуйкова удерживали узкую полоску берега вдоль Волги.
Но проходило время, а мы оставались на месте. Нас держали в резерве, причины я понял позже. Когда в очередной раз завел разговор с Козыревым, тот резко ответил:
– Фронт от нас никуда не уйдет. Как идет подготовка в роте?
– Нормально идет, – доложил я. – Только боевых стрельб маловато проводится. Люди прошли обкатку танками, тренируются в метании гранат… учебных.
– Ладно, приду гляну, как ты истребителей танков готовишь.
Дня через три Козырев вместе с начальником штаба пришел ко мне и пробыл в роте несколько часов. Полк стоял во втором эшелоне, и ничто не мешало нам проводить стрельбы. Мишенями служили разные железяки, которые мы привезли с места боев.
Неуклюжие на вид, двухметровые противотанковые ружья пробивали на расстоянии двухсот метров щиты от немецких пушек, листы брони толщиной три сантиметра. Пули БС-41 с металлокерамическим наконечником более мощного действия прошивали на этом же расстоянии 40 миллиметров брони. Таких боеприпасов поступало к нам немного, мы их экономили.
Противотанковые гранаты РГД-41 разрывали куски металла, но тяжелый вес этих гранат (почти полтора килограмма) делал их малоэффективными в бою. Даже наиболее тренированные бойцы попадали в цель из окопа лишь метров с пятнадцати.
Неплохо показали себя огнеметчики. Шипящая струя пламени выбрасывалась на 40 метров. Остов легкого танка Т-38 вспыхнул мгновенно. От сильного жара броня лопалась и выгибалась.
Козырев скупо похвалил нас, но, когда уходил, невесело обронил:
– У Т-4 броня уже толщиной шесть-семь сантиметров. Нелегко в бою придется. Ничего… одолеем.
Мы пробыли во втором эшелоне до ноября сорок второго года, почти три месяца. 19 ноября началось наступление наших войск под Сталинградом. Через несколько дней 6-я армия генерала Паулюса и отдельные части 4-й танковой армии (всего 330 тысяч человек) оказались в котле.
Почти одновременно шло наступление подо Ржевом. Наши войска в очередной раз безуспешно пытались срезать нависающий над Москвой выступ, с которого немцы могли снова нанести удар по столице. Однако подо Ржевом дела шли неудачно, а Сталинградское наступление развивалось. Туда бросали все новые войска.
Наша дивизия в конце ноября погрузилась в эшелоны и была переброшена на юго-западные подступы Сталинграда. В начале декабря войска Донского и Сталинградского фронтов начали наступление с целью ликвидации окруженной вражеской группировки. В этом наступлении планировалось участие и нашей дивизии.
Однако обстановка резко изменилась. Немецкое командование с первых дней окружения армии Паулюса делало попытки прорвать кольцо, но успехов не добилось. Тогда была создана крупная группировка. План деблокирования окруженных немецких войск получил наименование «Зимняя гроза».
Группировкой командовал генерал Гот. Основной ударной силой (кроме механизированной пехоты) стали бронетанковые соединения, насчитывающие более 250 танков и самоходных установок. Имелась также тяжелая артиллерия, с воздуха армейскую группу «Гот» (таково было ее официальное название) прикрывали около 500 самолетов.
Необходимо отметить, что в группе «Гот» насчитывалось 97 модернизированных танков Т-3 и Т-4 с удлиненными орудиями и усиленной броней. По некоторым показателям танки Т-4 превосходили наши «тридцатьчетверки», а их длинноствольные 75-миллиметровые орудия обладали высокой точностью стрельбы.
12 декабря 1942 года группа «Гот» нанесла мощный удар по боевым порядкам 51-й армии, прорвала оборону и начала продвижение к Сталинграду вдоль железной дороги Тихорецкая – Сталинград. В течение нескольких дней немецкие танки и механизированные части вели наступление, ломая сопротивление наших войск, которые уступали врагу в численности личного состава и вооружении.
Удар с юго-запада оказался неожиданным. Сюда стали срочно перебрасывать дополнительные части. В их числе оказался наш стрелковый полк, усиленный артиллерией, и некоторые другие подразделения дивизии. Таким образом, вместо наступления полк срочно зарывался в замерзшую землю, посреди бескрайней степи.
Многого мы в тот холодный декабрьский день не знали. Да и скажу прямо, что мой родной полк не предназначался по своей боевой оснащенности к отражению танкового удара. Но в те дни, когда решалась судьба Сталинграда, в бои бросали даже оказавшиеся поблизости кавалерийские части.
За три первых дня группа «Гот» продвинулась в направлении Сталинграда на 45 километров. Нам объявили приказ, что мы должны отразить удар – отступление без приказа категорически запрещалось. Был снова зачитан знаменитый приказ Сталина № 0227 от 28 августа 1942 года «Ни шагу назад», в котором отступление без приказа приравнивалось к предательству.
Мы выслушали оба приказа молча и снова принялись долбить промерзшую, как камень, землю. Как я уже упоминал раньше, часть моей роты противотанковых ружей распределили по батальонам. У меня оставалось около 20 ружей, отделение огнеметчиков и несколько пулеметов.
Дул постоянный холодный ветер, обычная погода в здешних краях. Мороз был градусов пятнадцать, но мы его почти не чувствовали – согревала тяжелая работа. Во время короткого перерыва старшина Родион Сочка вместе с помощником принес термос горячей пшенной каши с бараниной.
Мы принялись за еду. Разложенная по котелкам каша сразу остывала. Когда ложки скребли дно котелков, на зубах похрустывали мелкие крошки льда, а губы покрылись застывшим бараньим жиром.
– Сейчас бы водки граммов по сто пятьдесят, – сказал один из бронебойщиков. – Ветер насквозь продувает.
– Пей чай, пока теплый, – ответил старшина Сочка. – Водка вечером будет, а сейчас от нее только на сон потянет.
– Попробуй заснуть в такую холодрыгу. Не заметишь, как в ледышку превратишься.
После короткого перекура снова взялись за кирки и лопаты. Кто посильнее, орудовал ломом. Моя рота находилась между вторым и третьим батальоном. На семьдесят человек отмерили участок шириной метров двести пятьдесят. Одно противотанковое ружье на десять-пятнадцать метров. Жидковатая оборона против танков.
Командир полка Козырев осмотрел наши окопы, соединительные ходы, две землянки, в которых нам предстояло греться по очереди.
– Как настроение? – спросил он.
– Не ожидал, что здесь, на юге, такая холодина, – отозвался я.
– Ничего, завтра жарко будет. Проверь и удали лишнюю смазку на оружии. Особенно на самозарядках Симонова и в пулеметах. Ночью мороз усилится.
– Проверил. Вроде нормально.
– Ну, смотри в оба. Фрицы в любой момент могут появиться.
Но немцев видно пока не было, лишь далеко в стороне кружил самолет-разведчик «Фокке-Вульф-189». Зато на скорости промчались мимо две «полуторки». Капитан Чередник хотел остановить одну из них, но машины, не замедляя хода, исчезли.
– Тыловики драпают, – выругался комбат.
Затем на наши позиции спикировала тройка «юнкерсов». Они наносили удар направленно, по орудийным батареям. Крепко досталось ближним батареям 76-миллиметровых орудий Ф-22. Громоздкие пушки было трудно замаскировать в безлесной степи, и бомбы падали довольно точно.
«Юнкерсы» разбили два орудия и, не заметив взвод «сорокапяток», повернули в сторону другой батареи Ф-22. Там тоже раздались взрывы авиабомб, но разгуляться тройке не дали наши истребители. Два скоростных Ла-5 догнали «юнкерсов», скорость которых была гораздо ниже, чем у «сталинских соколов».
Каждый истребитель был вооружен двумя 20-миллиметровыми пушками. Они атаковали ненавистных нам «лаптежников» и открыли огонь с короткой дистанции. Один из «юнкерсов» стал терять высоту и прошел метрах в ста пятидесяти над нами.
Я отчетливо разглядел рваные пробоины на крыльях и фюзеляже. Взбудораженные бойцы стреляли по нему из ручных пулеметов и винтовок.
– Сейчас свалится!
– Долетался, гад, теперь не уйдешь!
Однако наша стрельба с земли по бронированному «юнкерсу» эффекта не дала, а истребитель Ла-5 угодил под огонь спаренной пулеметной установки в задней части кабины бомбардировщика.
Пилот, несмотря на повреждения, добил фашиста. «Юнкерс» рухнул на землю и загорелся. Ла-5, с трудом набирая высоту, рывками уходил на свой аэродром, а второй истребитель продолжал преследовать «юнкерсов». Чем закончился бой, мы так и не узнали, а меня вызвал по телефону Чередник и попросил:
– Сходи к артиллеристам, узнай, что там у них осталось. Замаскироваться как следует не могли.
По штату я подчинялся командованию полка, у меня была отдельная рота. Но мне было самому важно знать, как обстоят дела на ближней батарее.
Я взял ординарца, и мы направились к артиллеристам. День клонился к вечеру, ветер не стихал и дул прямо в лицо. Командир батареи, капитан лет тридцати, встретил меня не слишком дружелюбно – ему было не до гостей.
Бойцы расширяли лопатами воронку, на краю которой лежали десятка полтора погибших артиллеристов. Несколько человек были разорваны прямыми попаданиями. Их завернули в шинели и куски брезента. Получились какие-то большие кульки, пропитанные кровью и перетянутые ремнями.
Я поздоровался с командиром батареи и, желая побыстрее закруглить общение, сказал, что комбат Чередник просил узнать, сколько орудий смогут вести огонь.
– А телефонную связь ему было лень проложить к батарее? – вдруг закричал капитан, дергая запачканной кровью щекой.
– Не дери глотку, я не глухой.
– Шляются всякие, мать их!
– Ты без истерики не можешь? Я тебе не мальчик и с лета сорок первого воюю.
Капитан немного успокоился, мы покурили. Выяснилось, что два орудия выведены из строя, а третье повреждено, но стрелять из него можно.
– Главное, людей много потерял. Погибших ты видел, плюс раненых почти три десятка в санбат отправили. Так и сообщи комбату, а по танкам будешь стрелять из своих ружей. Ты парень боевой, отобьешься.
– Как получится, – со злостью обронил я. – Ты в себя приходи, а то расклеился, словно…
В эту минуту зазвенел полевой телефон. Командир полка Козырев тоже спрашивал о потерях. Капитан вытянулся и стал докладывать.
Я зашагал в роту и по пути завернул к Григорию Череднику.
– Два орудия в исправности. Но командир батареи в себя никак не придет, много людей потерял и две пушки вдребезги.
– Хреновые дела, – отозвался Чередник. – Взвод «сорокапяток» фланг держит, а у меня всего шесть противотанковых ружей да разбитая батарея за спиной. На кого надеяться?
– На себя, – вызывающе сказал я. – У тебя три с половиной сотни бойцов в окопах, гранаты, бутылки с КС.
– Ладно, приумерь злость.
– Ты меня полтора года воспитывал, а сейчас тоже не в себе. Не знаешь, на кого надеяться.
Вечером мы выпили с Сочкой и Ходыревым водки. Бойцы получили по сто граммов и поужинали. Большинство людей я отправил отдыхать. Они набились в землянки и заснули после утомительного рытья окопов в мерзлой земле.
Я долго ходил вдоль позиций. Ветер немного стих. Темная степь сливалась с ночным небом. Где-то вдалеке взлетали ракеты, изредка слышались орудийные выстрелы. В час ночи меня сменил взводный Юра Савенко, а я с трудом втиснулся в набитую бойцами землянку.
Предчувствие жестокого боя в этой степи, где нет укрытий и некуда отступать, не оставляло меня. Но я уже привык не задумываться о завтрашнем дне и вскоре заснул.
Они появились на рассвете. Штук двенадцать танков и самоходных установок на скорости прорезали жидкую линию обороны километрах в двух левее нас. Какое-то время там шла торопливая стрельба, что-то горело (кажется, подбитый танк), но основная часть этой небольшой группы уже прорвалась в наш тыл.
Немного изучив привычки врага, я не сомневался, что танки дождутся основной атаки и ударят в спину. Генерал-полковник Герман Гот в свои пятьдесят семь лет накопил достаточно опыта, который сочетался в нем с решительностью и умением идти на разумный риск. Не зря его приблизил к себе фельдмаршал Манштейн и поставил во главе армейской группы, которой поручалось деблокировать окруженную армию Паулюса.
– Прорвались, – со злостью выругался Михаил Ходырев. – А их всего неполная рота. Что будет, когда основная масса попрет!
Мой старый товарищ стоял рядом со мной, уже готовый к бою. Сбросив полушубок, который мешал быстро двигаться, в короткой, туго перепоясанной телогрейке с кобурой на поясе.
– Накинь полушубок, мороз градусов пятнадцать, да еще ветрище. Задубеешь, пока фрицев дождешься.
– Ничего, мне не холодно.
Мою роту ПТР вместе с взводными командирами частично растащили по батальонам, пришлось снова перекраивать остатки. Первым взводом командовал лейтенант Юра Савенко, вторым – старший сержант Ходырев. Отделение огнеметчиков я держал возле себя, как резерв.
– Когда артиллерию сняли, они сразу и прорвались, – продолжал старший сержант, закуривая самокрутку.
– Выбрали слабое место.
– Я думаю, что и наш участок не самый сильный. Эти ружья с год назад неплохо себя показали, а сейчас у фрицев техника посильнее будет. Хорошо, если пушкари сумеют удачно ударить.
Атака началась спустя час. Танки шли веером, охватывая третий батальон и стык с соседним полком. Впереди шли незнакомые мне тяжелые машины, в которых я вскоре угадал модифицированные «панцеры» Т-4. Кто-то воскликнул:
– «Тигры»! «Тигры» идут!
Слух об этих танках с броней в десять сантиметров и 88-миллиметровыми пушками уже разошелся по воинским частям. Да и в некоторых наших исторических документах отмечалось, что в состав войсковой группы «Гот» входил батальон тяжелых танков Т-6 «Тигр», самых мощных машин на то время. Однако это было не так, хотя танки Т-4 с удлиненными до трех метров орудиями, массивным дульным тормозом и более крупной башней действительно напоминали «тигры».
Я насчитал их штук десять. За ними как всегда шли Т-3, тоже в основном с удлиненными 75-миллиметровками. Приземистые штурмовые орудия («штурмгешютце», или, как их чаще именовали, «штуги»), высотой два метра, порой сливались своим камуфляжем со снегом, их было тоже около десятка.
Нас атаковали без артиллерийской подготовки. Наверное, в этом тоже имелся какой-то смысл. Ход у немецких машин, двигающихся по неглубокому снегу, был почти бесшумный за счет подрезиненных гусениц. Окрашенные в белый с темными пятнами камуфляж бронированные машины появились словно ниоткуда и шли уверенно, примерно на одной скорости, словно огромный единый механизм уничтожения.
– Если гаубицы не поддержат, сомнут они нас, – негромко проговорил Павел Шамин, командир огнеметчиков. – «Сорокапятки» с этой ордой не справятся, а «трехдюймовок» всего две штуки.
Я молча наблюдал за танками. До головных Т-4 оставалось с километр… но как быстро они приближались! Гаубицы сделали три пристрелочных выстрела, а затем дружно ударил весь дивизион (точнее, десять 122-миллиметровок). Они выставили заградительный огонь, фонтаны мерзлой земли и снега поднимались на пути машин.
Какое-то время Т-4 продолжали двигаться, как и раньше, сохраняя строй. Взрыв накрыл один из танков. В траншее приветствовали меткий выстрел криками и свистом:
– Хотели с маху нас взять, а хрен им!
– Пушкари свое дело знают.
Т-4 вынырнул из дыма внешне невредимый, однако через десяток метров замедлил ход, а я увидел в бинокль, что дополнительная броня на башне сорвана с креплений. Машина, дернувшись, застыла, затем попятилась назад и открыла огонь из пушки. Остальные танки прибавили ход, торопясь быстрее прорваться сквозь разрывы фугасных снарядов весом двадцать два килограмма.
Еще один Т-4 угодил под фугас, порвало гусеницу. И тут же ударили обе трехдюймовые пушки Ф-22. Они подожгли танк с разорванной гусеницей и вели беглый огонь бронебойными снарядами.
В сумеречном зимнем рассвете отчетливо виднелись светлячки трассирующих снарядов, несущихся со скоростью восемьсот метров в секунду. Один из них врезался в лобовую броню Т-4 и отрикошетил, выбив из металла яркие искры. Мне показалось, что капитан, командир батареи, открыл огонь слишком рано. Впрочем, ему виднее.
Довольно интенсивная стрельба заставила головные машины маневрировать, невольно подставляя менее защищенные борта. Но одно и другое попадание в борт тоже не пробили броню, болванки ударяли под углом и рикошетили. Немецкие танки открыли ответный огонь и стремительно сближались с нашими позициями.
Раздались два оглушительных взрыва. Вспышка поглотила один из «панцеров», а за нашими спинами, наверное, сдетонировала часть боезапаса на батарее «трехдюймовок».
Застучали выстрелы «сорокапяток». Мелкие пушки, замаскированные в снегу, посылали свои полуторакилограммовые бронебойные снаряды и, кажется, сумели подбить один из танков. Впрочем, к этому моменту на поле боя все смешалось.
Ветер тащил клубы дыма двух или трех горящих машин. Что-то горело и взрывалось на батарее дивизионных пушек Ф-22. Продолжали подниматься фонтаны гаубичных разрывов, а танки, сломав строй, уже приближались к позициям третьего батальона. Несколько штук на полной скорости мчались прямо на нас.
Кто-то из бронебойщиков, не выдержав, пальнул, хотя до ближайшего танка (это был Т-3) расстояние составляло метров четыреста.
– Огонь только по команде! – крикнул я, быстро шагая по неглубокой траншее.
Бойцы застыли возле своих ружей, вторые номера держали наготове патроны, кое-кто придвигал поближе гранаты и бутылки с горючей смесью. В эти минуты я осознал, что давно уже не был в бою и у меня от напряжения дрожат руки.
– Павел, давай сюда один из огнеметов, – позвал я сержанта.
Два танка Т-3 стреляли из пушек и пулеметов. Эта пальба на быстром ходу, когда машины подкидывало на замерзших буграх, была не слишком эффективной. Но снаряды 75-миллитровых пушек били куда сильнее, чем короткоствольные «полусотки» под Смоленском и Москвой.
И еще пулеметы. Четыре ствола, захлебываясь длинными очередями, сметали мерзлую землю брустверов своими светящимися трассами. Вскрикнул боец шагах в пяти от меня. Звеня, катилась по утоптанной земле пробитая каска, а бронебойщик сползал с окровавленной головой, цепляясь растопыренными пальцами за бруствер.
– Огонь по сволочам!
Мне показалось, что команда-выкрик прозвучала едва не истерично, хотя на самом деле я хрипел, наглотавшись дыма и ледяного воздуха. Два десятка противотанковых ружей ударили нестройным залпом. Несколько самозарядок системы Токарева продолжали опустошать свои обоймы. Остальные ружья спешно перезаряжались, требовалось снова поймать в прицел танк, а это занимало 7–8 секунд.
– Ребята, цельтесь, иначе сомнут, – прохрипел я, заметив, что бронебойщик задрал ствол ружья куда-то вверх, опасаясь выставить голову.
Броня у среднего танка Т-3 миллиметров пятьдесят, не меньше. А наши ружья даже на сто метров берут лишь 40 миллиметров брони. Но это обычными пулями. Сейчас все заряжают усиленные патроны с пулями БС-41 с металлокерамическим сердечником. Запас таких патронов ограничен, но мы верим в них и торопимся выпустить, надеясь остановить двадцатитонные громадины.
Эти два танка и немного отставшая от них самоходка «штуга» являлись нашей целью. Вряд ли нам помогут артиллеристы – они бьют по основной массе танков. «Штуга» похожа на паучка, приземистая, с утопленной в корпус плоской рубкой и короткоствольным орудием, торчавшим, словно ядовитый шип.
«Штуга» остановилась и выпустила два снаряда. Один из них угодил в противотанковый расчет. Тело сержанта с оторванной рукой ударилось о стенку траншеи, мелькнуло подброшенное вверх ружье с согнутым стволом.
Миша Ходырев стрелял из самозарядного ружья Симонова. Плечо дергалось от сильной отдачи, а дульный тормоз поднимал при каждом выстреле снежный вихрь, который предательски выдавал бронебойщиков.
Еще один снаряд прошелестел немного в стороне и взорвался позади траншеи. Взрыватель осколочного действия срабатывал, едва снаряд ударялся о мерзлую землю – осколки, шипя, пронеслись над бруствером. Пулеметчик с «Дегтяревым» пригнулся. Острый кусок металла выбил под локтем кусок земли, рука дернулась, я услышал сдавленный стон.
Оба Т-3 неумолимо сближались с траншеей, несмотря на беглый огонь бронебойщиков.
– Цельтесь, – кричал я и подтолкнул огнеметчика Павла Шамина. – Когда приблизятся, не прозевай.
Головному Т-3 путь перегородила воронка от тяжелой авиабомбы. Механик-водитель, почти не замедляя хода, крутнул машину, чтобы объехать препятствие, и невольно подставил на несколько секунд борт.
Сразу несколько ружей ударили вдогонку друг за другом. Михаил Ходырев опустошал вторую обойму, целясь в башенный люк на левом борту. Расстояние не превышало ста метров, я слышал лязганье тяжелых пуль, пробивших дверцы люка. Наверняка экипажу досталось, но чертов «панцер», взревев, упрямо шел на траншею, выстилая перед собой пулеметные трассы.
Его поджег Николай Щербак, уже имевший на счету один танк и получивший недавно «сержанта». Он с напарником находился в окопе боевого наблюдения, вырытом перед траншеей. Вылетели две бутылки с горючей смесью. Одна раскололась позади башни и растеклась горящей лужей, воспламенив двигатель.
И тут же зашипел, выбрасывая огненную струю, огнемет одного из бойцов отделения Павла Шамина. Огонь зацепил лобовую броню, машина замерла и попятилась назад. Огнеметчик дал еще один выстрел, но клубящееся маслянистое пламя не долетело до цели.
– Осторожнее, ребят спалишь! – крикнул ему сержант Шамин, тоже держа наготове огнемет.
Я уже видел, что головной танк выведен из строя. Из него выскакивал экипаж, а помощник Щербака стрелял в них из автомата. Теперь требовалось остановить второй разогнавшийся танк.
Я отодвинул в сторону молодого сержанта и прицелился в наполовину открытую смотровую щель рядом с темным крестом на лобовой броне. Моя пуля отрикошетила.
– Усиленные БС-41 остались? – повернулся я к сержанту.
– Все истратили.
– Давай что есть.
Теперь я стрелял в бешено вращавшуюся гусеницу. Из нее брызнули искры. В гусеницы выпускал пули и Михаил Ходырев. Одна лопнула, сорвав подкрылок, танк остановился.
Три-четыре ружья вели беглый огонь, пробив в нескольких местах корпус машины, которая застыла метрах в восьмидесяти от траншеи.
– Два есть! – торжествующе кричал кто-то. – Мы их…
Крик оборвался. Пулеметная очередь из медленно вращавшейся башни хлестала по брустверу, пули угодили в лицо огнеметчику. Но на этом расстоянии Т-3 был обречен.
Одна из пуль бронебойщиков пробила и зажгла бензобак. Из люка выкатился механик-водитель, сумев уйти от пулеметной очереди «Дегтярева». Остальному экипажу не повезло: трое танкистов в черных комбинезонах упали возле горящей машины, пятый из экипажа остался внутри. Видимо, его достала пуля бронебойного ружья.
Мы отбили эту атаку. Возле траншей третьего батальона и нашей роты ПТР горели или неподвижно застыли пять танков. Еще две-три машины получили повреждения и сумели уйти из-под огня на буксирных тросах.
Я обходил свою роту. Траншея была в нескольких местах разрушена прямыми попаданиями снарядов, погибли одиннадцать человек. В батарее «трехдюймовок» Ф-22 осталось единственное орудие. Меня позвал к телефону связист, на проводе был командир полка Козырев.
– Что там у тебя?
– Раненых в тыл отправляем. В строю остались сорок три человека, пятнадцать ружей и огнеметы. Два танка уничтожили…
– Шагай в третий батальон. Там, кажется, Чередника ранили, связь оборвана. Если что, принимай командование и соедини свои остатки со стрелковыми ротами. Связь наладь!
– Боеприпасы нужны… – начал было я, но подполковник меня перебил:
– Пришлю. Бегом в батальон!
Моя рота ПТР понесла серьезные потери. Пробираясь по развороченной траншее третьего батальона, я невольно ощутил, как снова трясутся руки.
Оборонительная позиция, как таковая, исчезла. Повсюду лежали тела погибших, многие были полузасыпаны землей. Все вокруг разворотили взрывы снарядов и гусеницы танков. Придавленный опрокинутым пулеметом «максим», лежал сержант с широко открытыми, застывшими в одной точке глазами.
Несколько бойцов выскочили наверх и остались лежать, раздавленные гусеницами танка. Тяжелый Т-4 продолжал чадить. Машина обгорела, взрыв боезапаса сорвал с погона башню. Сквозь широкую щель виднелось обугленное нутро «панцера». Вспыхивали и снова гасли мелкие язычки огня, клубился дым, пахнущий горелой человеческой плотью.
Незнакомый мне младший лейтенант (из новичков) сидел на земле и зябко кутался в шинель. Рядом привалился к стенке траншеи сержант-бронебойщик, ружье стояло рядом. При моем появлении сержант с усилием поднялся и козырнул:
– В себя вот приходим…
Младший лейтенант продолжал кутаться в шинель и трястись.
– Контузило его, – пояснил сержант. – А так – молодец взводный. Мы с ним этот танк бутылками с горючкой спалили, а экипаж ребята постреляли.
«Ребята», человек шесть красноармейцев, грелись возле небольшого костерка. Я поздоровался с ними. Кто-то поднялся, остальные нестройно ответили:
– Здравия желаем, товарищ капитан.
– Вам, наверное, комиссар нужен? Проводить?
– Не надо, сам найду. А вы побыстрее в себя приходите. Фрицы снова могут полезть.
Меня встретил Аркадий Раскин. Институт комиссаров упразднили в армии еще в начале октября, и было введено единоначалие. Политруков в ротах уже не было, Раскин был назначен замполитом батальона.
Старый приятель смотрел на меня грустными глазами. Он, кажется, один из немногих сохранил собранность в этой бойне, хотя никогда не отличался особой храбростью.
– Я в курсе, товарищ комбат, – козырнул Аркадий Борисович. – Мы связь со штабом наладили, подполковник Козырев мне сообщил о вашем назначении.
– Брось «выкать»! – обнял я его за плечи. – Григория Чередника сильно ранили?
– Сами гляньте. Мы его эвакуировать хотели, а он вас… тебя ждет.
Григорий Чередник, командир третьего батальона, с кем мы закончили вместе военное училище и служили два с половиной года в одном полку, сидел за столом в своем блиндаже. Лицо комбата горело нездоровым румянцем, шея и правая рука были забинтованы. Он поглядел на меня и торопливо заговорил:
– Время тянуть не будем. Чую, что скоро скисну. В строю осталось без малого полторы сотни активных штыков, считая легкораненых.
Чередника повело, и он едва не упал с табурета. Его поддержала девушка-санинструктор и кинувшийся на помощь ординарец. Девушка всхлипнула и поднесла к носу комбата ватку с нашатырным спиртом.
– Вика, водки лучше налей, – приходя в себя, попросил Чередник.
С усилием сделал несколько глотков из протянутой кружки, запил холодной водой.
– Сам видел, что на позициях творится. Но мы свою задачу выполнили. Теперь дело за тобой. Принимай батальон. Тем более ты давно рвался в комбаты.
Я оставил его подковырку без ответа и приказал ординарцу:
– Эвакуируйте товарища Чередника.
– Есть, – козырнул сержант. – Мне комбата до санчасти сопровождать?
Ординарец был рослый кудрявый парень в подпоясанном полушубке, с кобурой на поясе и автоматом за плечом.
– Вы тоже ранены?
– Нет, лишь контужен слегка.
– Григория Семеновича Чередника и других раненых сопроводят санитары. Повозки есть?
– Три штуки, – ответила санинструктор. – Надо эвакуировать двадцать семь раненых. Тех, кто может идти, я отправила своим ходом.
– Вам нужны бойцы в помощь?
– Да, человек тридцать. Мы доставим раненых в санчасть и часа через полтора вернемся. Медикаментами надо заодно запастись.
– Желательно поскорее, – посмотрел я на часы. – Бойцы мне нужны здесь. Возможно, последует новая атака.
Проводив раненых, я обошел вместе с замполитом всю полосу обороны. Красноармейцы уже приходили в себя после тяжелого боя и расчищали траншею.
Из трех командиров рот в строю остался лишь Валентин Дейнека. Он распоряжался, как всегда, энергично и, увидев меня, обрадовался:
– Ну хорошо, что своего прислали на должность комбата.
Мы обнялись и присели переговорить.
– Одна «сорокапятка» осталась, снаряды есть, но желательно бронебойных подвезти.
– Я уже дал задание старшине. Отвезет раненых и заедет на склад боепитания. Крепко на вас фрицы навалились.
– Не то слово. Напролом ломились. Я такого боя за всю войну не видел. Наверное, приказ получен жесткий – пробиваться любой ценой к Сталинграду и выручать армию Паулюса.
– На нашем фланге всего два орудия остались: Ф-22 и «сорокапятка». Буду звонить Козыреву, просить еще артиллерию. Часть своих бронебойщиков распределю по ротам.
– Знаешь, Василий, – тоскливо заметил всегда жизнерадостный и уверенный в себе лейтенант, – если артиллерии не подбросят, второго такого удара мы не отобьем. Нас гаубицы неплохо выручили, но что будет на этот раз, не знаю.
– Отступать категорически запрещено, за спиной Сталинград.
– Москва или Сталинград… Всегда одно и то же – стоять до последнего. Только много ли мы голыми руками навоюем?
Я позвонил Козыреву и обрисовал обстановку.
– Боеприпасы тебе везут, – ответил командир полка. – Противотанковых ружей у тебя два десятка есть. Подброшу две «полковушки» с запасом снарядов. Больше ничем помочь не смогу. Как настрой у личного состава?
– Так себе. Погибших хороним, траншеи в порядок приводим. Гаубицы в случае атаки смогут нам помочь?
– Не смогут, – резко отозвался Козырев. – И брось этот настрой: «так себе, людей хороним»! Себя не хорони. Или зря я тебе батальон доверил?
– Вам виднее. Но задачу мы свою выполним, можете не сомневаться.
– Это уже лучше. Подкрепление пришлю, тыловиков с десяток и новички из маршевой роты. Зеленые еще, но в бою люди быстро учатся.
До темноты батальон и противотанковая рота укрепляли траншеи и окопы. Две легкие короткоствольные «полковушки» хотя имели неплохой калибр – 76 миллиметров, но против танков были не слишком эффективны. Обе пушки окапывались метрах в ста за траншеей.
Старшина Сочка дважды мотался на склад боепитания. Привез противотанковые гранаты, бутылки с КС, патроны. К вечеру мы едва двигались от усталости. Сели поужинать в блиндаже комбата, выпили водки, немного оживились.
Люди были расставлены по местам, оружие приготовлено к бою. Основная часть бойцов отдыхала в землянках. Точнее, спали. Люди валились с ног от усталости и пережитого напряжения. Кое-как поужинав и выпив «наркомовские» сто граммов с прицепом, сразу засыпали, не обращая внимания на холод.
Я поделил дежурство командирского состава, приказав разбудить себя в четыре часа утра. Во второй половинке блиндажа устроился рядом с телефонистом мой новый ординарец.
Санинструктор Вика растерянно перебирала какие-то вещи, потом неожиданно спросила:
– Мне с вами лечь прикажете, Василий Николаевич?
Я не удивился. За время войны насмотрелся всякого. Поглядев внимательно на девушку – младшего сержанта с медалью «За боевые заслуги», ответил:
– Как я такое могу приказать?
– Вы комбат, а я простой санинструктор… и вообще, не надо наивный вид делать. Все вы понимаете.
– Виктория, успокойся. Ты выпила, да еще за Гришу переживаешь. Ложись вон на те нары возле печки и спи. Завтра тяжелый день будет.
– Спасибо за сочувствие, – в голосе девушки звучали надрывные нотки. – Только тогда среди ночи не лезьте.
Я ничего не ответил. Потрескивая, горела коптилка, сделанная из снарядной гильзы. Ординарец Никита Логунов принес мне почищенный автомат и запасной диск.
– Может, пистолет почистить? – спросил он.
– Не надо, сам почищу. Ложись отдыхать на нары. Будешь санинструктора и меня охранять.
– Я могу и в прихожке. Только там холодно.
– Подкинь дровишек и ложись здесь.
У меня тоже слипались глаза, но я упрямо возился со своим ТТ: смазал, насухо протер, заново набил обоймы. Снова обошел траншеи и вернулся в блиндаж. Завтра действительно будет тяжелый день.
Не знал я только одного: что завтрашний и последующие дни круто изменят мою судьбу. Такое нередко случается на войне.
Бои под Смоленском и Москвой были не менее ожесточенными. Но здесь, юго-западнее Сталинграда, решалась судьба не только окруженной 6-й армии Паулюса, но и всего южного участка фронта. Подступал один из главных переломных моментов войны.
Только этим можно объяснить ту стремительность и упорство, с которыми шли вперед немецкие бронированные части и штурмовая пехота. Артиллерийская подготовка была недолгая. Однако на нас обрушилась тяжелая артиллерия: 150-миллиметровые орудия и шестиствольные минометы калибра 158 миллиметров.
Все вокруг заволокло дымом. Снаряды и мины били, как огромные молоты, сотрясая землю и оглушая людей. Мне кажется, что немцы допустили ошибку. Они не ставили целью направленным огнем уничтожить довольно узкую линию обороны. Главной задачей было показать мощь своей артиллерии, загнать нас в норы, а затем добить танковой атакой.
На этот раз танков и самоходок было около двух десятков. Первым открыл огонь расчет «трехдюймовки» Ф-22, самой дальнобойной нашей пушки. Затем звонко и часто ударила «сорокапятка», и рано, слишком рано начали стрельбу короткоствольные «полковушки».
Кое-где не выдержали нервы у батальонных бронебойщиков, захлопали торопливые выстрелы, хотя до головных танков расстояние составляло метров четыреста. Я бежал по траншее и кричал расчетам ПТР:
– Не торопитесь! Подпустите их поближе!
Бронебойщики из моей роты, более подготовленные, замерли в ожидании. Я мог надеяться на их выдержку и хладнокровие своих командиров Юрия Савенко, Михаила Ходырева, Андрея Долгова.
Капитан, вставший за прицел громоздкой пушки Ф-22, сумел пробить броню тяжелого «панцера» Т-4. Вложил еще один снаряд в нижний ряд колес, вывернул пару штук и порвал гусеницу. Танк был обездвижен, молчало длинноствольное башенное орудие, но добить машину капитан не успел.
Вырвавшийся вперед еще один Т-4 накрыл расчет осколочно-фугасным снарядом. Капитана и его людей раскидало в стороны, пушка завалилась набок. Чтобы сделать точный выстрел и вывести из строя самую сильную пушку в нашей обороне, танк вынужден был сделать короткую остановку.
Этим воспользовался расчет «сорокапятки» и выпустил три снаряда, один из которых вбил внутрь и смял пулеметную установку под башней танка. Небольшая бронебойная головка, раскалившаяся до белого свечения, прошила насквозь пулеметчика и закувыркалась внутри, разбрызгивая искры и обжигая экипаж.
Механик-водитель отпустил сцепление, танк сделал рывок, но двигатель через несколько метров заглох. В боевом отсеке плясали языки огня, раскаляя массивные снарядные гильзы. Обгоревший наводчик распахнул боковой люк и вывалился на снег. Он катался, пытаясь избавиться от сильной боли, а офицер, командир машины, разворачивал орудие в нужную сторону. Ему мешал дым. Затем в броню угодил еще один снаряд, и лязгнули несколько пуль, выпущенных из противотанковых ружей.
Два тяжелых танка замерли на месте и дымили. Экипажи гасили огонь, пытались завести двигатели. По всей линии траншей и окопов торжествующе кричали, свистели наши бойцы. Поднялась винтовочная пальба, хлопали выстрелы бронебойщиков. Артиллеристы брали на прицел другие приближавшиеся танки.
– Неплохо вломили! – воскликнул замполит Раскин. – Остальные тоже свое получат.
Но ситуация стала меняться буквально на глазах. И не в нашу пользу. Танки и самоходки усилили огонь. Метрах в трехстах, в низине, немцы спешно сгружали минометы. Взрывы накрыли линию траншей, сметая брустверы и настигая бойцов – в первую очередь бронебойщиков.
«Сорокапятка» продолжала часто и звонко посылать снаряд за снарядом. Потом замолчала. Я обернулся и увидел, что пушка разбита. Взрыв накрыл окоп, откуда вел огонь бронебойный расчет. Из груды мерзлой земли нелепо торчал согнутый ствол противотанкового ружья.
Мне казалось, что бойцы действуют недостаточно быстро, неправильно целятся. Я едва не кинулся к ближайшему расчету, перехватить ПТР и самому вести огонь. Вовремя опомнился, понимая, что надо командовать батальоном, держать руку на пульсе боя.
У нас оставались еще две короткоствольные «полковушки», однако их бронебойные снаряды рикошетили при попадании в танки. Лейтенант, командир артиллерийского взвода, приказал открыть огонь фугасными зарядами. Взрывы ударяли довольно точно, перебили гусеницу одного из танков, оглушили прямым попаданием экипаж другой машины.
Сержант Шамин с двумя огнеметчиками находился рядом со мной. Мы побежали к тому месту, где к траншеям приближались сразу три или четыре машины. Плотный пулеметный огонь заставлял нас пригибаться. Когда перебирались через обрушенный ход сообщения, пуля пробила голову огнеметчику. Я подобрал увесистый баллон и ружье с тонким шлангом. Придерживая второй рукой баллон поменьше, со сжатым воздухом, побежал дальше.
Мы ударили по танкам из двух огнеметов сразу. Одна из машин загорелась и закружилась на месте. Два других танка, лишь слегка задетые огнем, дали задний ход, стреляя из пушек и пулеметов.
Пламя прожгло снег, горела трава, тела танкистов, которые угодили под пули ручного пулемета. Маслянистый густой дым стелился над землей. Михаил Ходырев выпустил обойму из своего самозарядного бронебойного ружья и лихорадочно перезаряжал его, пользуясь тем, что дым горящей огнеметной смеси прикрывает расчет.
Снаряд калибра 75 миллиметров отрикошетил от мерзлой земли в трех шагах от нас. Динамический удар сбил меня и сержанта Павла Шамина с ног, а взрыв раздался позади траншеи. Осколки хлестнули веером, тяжело ранив двух бойцов.
Лейтенант Юрий Савенко выскочил наружу и под прикрытием дыма швырнул бутылку с горючей смесью в танк, застывший метрах в пятидесяти от траншеи. Двое танкистов тушили огонь ручными огнетушителями. Бутылка разбилась, не долетев до машины, а лейтенант, пробежав еще десяток шагов, все же достал Т-3 второй бутылкой с КС.
Но четыре подбитых горящих танка не могли остановить атаку. Остальные машины уже ворвались на линию обороны. Часть танков, не снижая скорости, продолжали свой бег, смяв обе легкие пушки. Другие машины расстреливали из пулеметов бойцов, крутились, смешивая с землей окопы, откуда не успели выскочить красноармейцы.
Самоходка, подойдя вплотную, посылала снаряды и пулеметные очереди вдоль траншеи. Из люка высунулся немец из экипажа и стрелял из автомата в бойцов, пытавшихся взорвать «штугу» противотанковыми гранатами.
Его достал винтовочный выстрел. Теперь можно было подобраться с тыла. В моем огнемете уже не оставалось горючей жидкости, я швырнул под гусеницы увесистую гранату РПГ-41. Приземистая «штуга» массой двадцать четыре тонны крутнулась всем своим паучьим корпусом. Надорванная гусеница лопнула, а короткоствольное орудие выпустило снаряд, который прошел в полутора метрах над головой.
– Где еще гранаты? – кричал я, оглушенный мощным толчком сжатого воздуха.
Замполит Аркадий Раскин протянул было мне противотанковую гранату, но в последний момент передумал и неуклюже полез наверх. Я стащил его вниз. Физически слабо подготовленный и не имевший достаточного боевого опыта, Раскин сразу бы погиб. Он толком не умел ползать по-пластунски, а гранату весом почти полтора килограмма до танка не добросил бы.
Вмешался мой новый ординарец Никита Логунов. Осторожно взял гранату и, прихватив еще одну, пополз к самоходке.
– Рискует парень, – глядя ему вслед, пробормотал Юрий Савенко.
– Пусть себя покажет, – отозвался старшина Сочка, разворачивая ручной пулемет. – Слушай, Василий Николаевич, у тебя кровь из уха течет. Возьми бинт.
Тем временем сержант Логунов подполз к самоходке и бросил обе гранаты, которые проломили броню и, видимо, контузили экипаж. Добили «штугу» бронебойщики, а старшина Сочка срезал пулеметными очередями двоих самоходчиков. Еще один танк мы подожгли бутылками с горючей смесью, но траншеи уже захлестнула волна наступающей немецкой пехоты.
Обычно штурмовые группы продвигались бросками и не слишком спешили лезть под пулеметный огонь и винтовочные выстрелы. На этот раз немцы торопились воспользоваться выгодной для них ситуацией. Под прикрытием нескольких бронетранспортеров, которые вели непрерывный огонь из пулеметов, немецкие пехотинцы сблизились с нами и забросали траншеи гранатами.
Люди гибли один за другим. Андрей Долгов, перехватив гранату, швырнул ее обратно. Но этим атаку не остановишь. Мой ординарец попытался тоже перехватить гранату, упавшую ему под ноги, но она взорвалась в руке. Осколки хлестнули еще одного красноармейца, а сержант Логунов, с оторванной кистью руки и окровавленным лицом, упал да дно траншеи.
Старшина Сочка искал запасной диск для «Дегтярева».
– Все пустые, мать их, – выругался он, доставая из ниши для боеприпасов оставшиеся гранаты.
Я стрелял из ППШ и сумел прижать к земле отделение немецкой пехоты. Очередь крупнокалиберного пулемета разнесла участок бруствера в метре от меня и свалила ефрейтора, стрелявшего из винтовки.
Осторожный и взвешенный в поступках, старшина Родион Сочка бросил несколько гранат и крикнул мне:
– Отходим по траншее.
Наверное, никогда я не был так близко к смерти. Немцы уже заняли часть траншей, седьмая рота погибла почти целиком. Тех, кто пытался убегать, догоняли пулеметные и автоматные очереди.
Несколько брошенных гранат не долетели до нас. Мы вели непрерывный огонь, и фрицы пока не рисковали вставать. Но было ясно, что свои позиции нам не удержать. Михаил Ходырев выдернул затвор противотанкового ружья и отшвырнул его в снег. Взвел автомат и подтолкнул меня.
– Василий Николаевич, выхода нет. Отступаем.
За его спиной взорвалась одна и другая граната. Старший сержант дернулся, из телогрейки полетели клочья ваты, но он устоял на ногах и, подталкивая замполита Раскина, сделал несколько шагов.
– Комиссар, не телись! Что толку, если все здесь ляжем.
Пять-шесть солдат во главе с унтер-офицером бежали, стреляя в нашу сторону. Мы ответили очередями, у меня опустел диск. Пока я вставлял запасной, Ходырев уложил унтера и дал нам несколько минут передышки.
Мы отходили, огрызаясь короткими очередями. Упал Юрий Савенко, его подхватили двое бойцов. Траншея в этом месте была завалена землей, и все трое угодили под очередь крупнокалиберного пулемета. Я остановился и кинулся к лежавшим. Меня отпихнул Ходырев:
– Мертвые они, комбат… Рядом лечь хочешь?
Старший сержант в своей изодранной телогрейке обернулся и дал очередь по бегущим вдоль траншеи немецким солдатам. Огнеметчик Шамин выпустил остаток горящей смеси и упал, срезанный несколькими пулями. Я стрелял сквозь дым, прикрывая отступавших бойцов.
Когда опустел диск, побежал вместе с Ходыревым, который упорно охранял меня. Нас спасла низина с редкими деревьями – хоть какая-то защита от пуль. Десятка три бойцов и командиров, среди них лейтенант Дейнека, замполит Раскин, старшина Сочка, поджидали нас, прикрывая огнем. Затем мы побежали по низине.
По нам вели огонь автоматчики, сыпал очереди из двух пулеметов бронетранспортер, стоявший на краю обрыва. Падал то один, то другой боец. Кто останавливался, чтобы оказать помощь раненому, тоже падал под пулями.
В одном месте немцы кинулись было наперерез. Понимая, что терять нечего, мы повернулись к ним лицом и побежали навстречу. Кто имел патроны, стрелял, другие сближались с врагом, выставив штыки. Немцы не стали рисковать и повернули назад, а мы оставили в этом месте еще несколько неподвижных тел. Уже темнело, и это спасло нас от дальнейшего преследования.
Глава 9 Штрафная рота
Мы шли по ночной степи, стараясь держаться поближе к балкам, редким островкам кустарника и немногим деревьям. Нас было тридцать с небольшим человек – все, что осталось от третьего батальона и роты противотанковых ружей. Несколько бойцов были ранены и шагали с трудом.
На коротком привале мы кое-как перевязали их, истратив последние бинты и разорвав на полосы пару нательных рубах. Миша Ходырев, раненный осколками гранаты, отдал мне автомат.
– Я с ним не справлюсь. Если что, у меня трофейный «вальтер» есть.
Свой ППШ, поврежденный пулей, я закопал в снег – патронов к нему не осталось. В диске автомата Ходырева, судя по весу, осталось не больше десятка патронов. Еще у меня имелась неполная обойма в пистолете ТТ. У остальных из нашей группы тоже осталось по несколько патронов на человека, гранаты мы все израсходовали.
К утру пошел снег. Сквозь пелену мы увидели немецкие танки и бронетранспортеры. Они прошли недалеко, но не разглядели нас. Вскоре впереди послышалась стрельба, и мы ускорили шаг. Чтобы не попасть под гусеницы вражеских танков, пришлось сделать крюк и шагать вдоль извилистой балки. Во второй половине дня нас остановил пост. Сержант и двое красноармейцев проверили у меня и других командиров документы и показали, куда идти.
Угостили нас махоркой, посочувствовали раненым, а сержант сказал мне:
– Повезло вам, товарищ капитан. Очень просто под немецкие танки могли угодить. Ну ничего, теперь среди своих.
Однако в расположении какого-то штаба встреча оказалась куда более прохладной. Раненых, в том числе Михаила Ходырева, направили в санчасть, а меня, лейтенанта Валентина Дейнеку и замполита Аркадия Раскина отвели в особый отдел. Оружие у нас забрали, и я понял, что ничего хорошего ожидать не приходится.
Замполита Раскина вскоре отправили в политотдел, а нас с Валентином Дейнекой по очереди допросил майор-особист. Много позже, в кинофильмах девяностых годов, мне не раз приходилось видеть сцены подобных допросов. Мордастые работники особых отделов или СМЕРШа коварно загоняли невинных людей в угол, нещадно избивали их, вышибая зубы и заставляя признаваться во всех грехах.
Будь так на самом деле, немного бы добились наши контрразведчики, хотя кому-то и доставалось по зубам. Но не все было так примитивно. Майор понял нашу ситуацию сразу, заполнил бланки допросов, а затем отправил нас в разные камеры. Причем капитанские «шпалы» на петлицах, награды и нашивки о ранениях с меня никто не срывал. Это оставляло какую-то надежду, хотя я понимал, что за отступление без приказа скорее всего попаду под трибунал.
Камера есть камера. Я огляделся по сторонам, и у меня невольно сжалось сердце. Зарешеченное окошко под потолком, запах немытых тел, нары, где впритирку лежали десятка полтора рядовых, сержантов и командиров. Слово «офицер» появится позже, в марте сорок третьего года.
Еще два десятка обитателей лежали и сидели на цементном полу, слегка присыпанном соломой. Я опустился на свободное место, кутаясь в свой прожженный, излохмаченный осколками полушубок – в подвале было довольно холодно. Клубился пар от дыхания и махорочный дым.
– Эй, капитан, закурить есть? – окликнул меня лейтенант лет двадцати пяти.
Я достал смятую пачку «Эпохи», вытряхнул на ладонь две разорванные папиросы и немного табачного крошева.
– Э, да тут на пару роскошных цигарок хватит, – обрадовался мой сосед. – Но лучше одну вначале свернем, а вторую попозже.
Мы курили по очереди самокрутку. К нам придвинулся танкист в обгоревшей куртке и попросил немного оставить. У него было морщинистое багровое лицо, правая ладонь перебинтована.
Разговорились. Лейтенант был командиром взвода в роте связи и угодил сюда за то, что не сумел обеспечить связь и оставил немцам грузовик ЗИС-5 с ротным имуществом. Оживленно жестикулируя, он, посмеиваясь, рассказывал нам:
– Движок заклинило. Мы на буксир его хотели взять, а тут фрицы. Шофер второго грузовика испугался: «Давайте сматываться, пока всех не перестреляли!» Я гранату под машину бросил, шины продырявило, а «зисок» почему-то не загорелся.
Звали веселого связиста Петя Кузовлев. Кажется, он не слишком огорчался, а сейчас его заботил больше всего дырявый ботинок.
– Нога мерзнет, – жаловался он. – И долго нас держать здесь будут?
Капитан-танкист Ютов Федор Трофимович был старше нас, лет тридцати с небольшим. Угодил он сюда, как и я, за отступление без приказа. Его роту из восьми машин бросили наперерез немецкому танковому клину. Шесть «тридцатьчетверок» и два легких Т-70 продержались полдня и почти все были уничтожены.
Капитан Ютов вывел из боя единственный Т-34 с заклинившей башней и легкий Т-70. На броне иссеченных осколками машин сидели танкисты, сумевшие выбраться из сгоревших танков, некоторые успели снять пулеметы.
– Ну, и куда ты со своей ордой удираешь? – спросил его старший патруля, дежуривший на дороге. – Два танка, пушки, пулеметы, а он в тыл намылился.
– «Тридцатьчетверка» неисправна, а Т-70 без снарядов. Экипажи подбитых машин контужены и обожжены.
– Зато ты здоровый, – съязвил лейтенант из комендантской службы. – Сдать оружие!
– Вот так я здесь и оказался, – сказал командир танковой роты Федор Ютов.
– Чего ж они без разбора людей хватают? – возмущался Петр Кузовлев.
– Сам виноват. Надо было снарядами разжиться и не гнать машины в тыл. Хоть как-то стрелять мы могли, да еще пулеметов штук шесть имелось.
Позже к нашей тройке присоединился молодой боец Оськин Зиновий. В камеру он угодил по глупости. Какой-то сержант взял его в самоволку, обещая, что там они хорошо выпьют, найдут женщин. Зиновий отказать сержанту не посмел, но обернулось все трагично.
Самогона они достали (выменяли на краденое мыло и белье), но когда стали приставать к женщинам, те подняли шум. Не слишком удачное время выбрали самовольщики – шло Сталинградское сражение, везде было много патрулей. Пьяный сержант открыл огонь из пистолета по ногам патрульных и был застрелен на месте. Зиновия Оськина избили и арестовали.
– Что теперь будет? – без конца повторял он. – Дурак я, дурак!
– Трибунал и шлепнут в назидание другим, – отвечал связист Кузовлев.
– Я следователю покаялся, просил дать возможность искупить вину.
– Кому ты на хрен нужен! Военного опыта нет, только воровать научился.
Меня несколько раз вызывали на допрос, уточняли детали. Поступила характеристика из штаба полка. Оказывается, Козырев успел подписать приказ о моем назначении на должность комбата и характеризовал меня как инициативного и смелого командира. Возможно, это спасло меня от расстрела. В то тяжелое время с нарушителями приказа Сталина № 0227 «Ни шагу назад» не церемонились. Тем более обстановка под Сталинградом оставалась сложной.
Возможно, сыграли роль мои три ранения, награды и тот факт, что попытка деблокировать окруженную армию Паулюса была отбита. Армейская группа Гота понесла большие потери и отступила. На одном из последних допросов мне приказали снять награды и капитанские «шпалы».
– Хватит, покрасовался, – сказал политработник в звании полкового комиссара. – Завтра состоится заседание военно-полевого суда.
– Нашивки о ранениях срезать?
– Можешь оставить. Глядишь, разжалобишь председателя суда.
Я рванул одну из нашивок, но меня остановил майор-особист:
– Не торопись, Гладков. Это не награды, а свидетельство, как ты воевал.
Полковой комиссар (высокое звание!) носил на груди три ордена, однако не имел нашивок о ранении. Он саркастически усмехнулся:
– Отважно воевал… и драпал, как заяц.
– Мне можно продолжать, товарищ комиссар? – сухо обронил особист, и при этих словах у него дернулась щека, пересеченная шрамом.
– Заканчивайте побыстрее волынку, – оставил за собой последнее слово политработник. – Слишком много таких героев в подвале скопилось.
В ночь перед судом я долго не мог заснуть. Потерял свою обычную жизнерадостность лейтенант Кузовлев. Он что-то несвязно бормотал, громко вздыхая, а когда я его слегка толкнул, тихо проговорил:
– Как пить дать вышку получу. Ты, Василий, заслуженный командир, три раза ранен, к тебе, глядишь, помягче отнесутся. А я кто такой? Ванька-взводный, который с поля боя бежал, а за мной остальные.
– Никто свою судьбу не знает, – рассудительно заметил танкист Федор Ютов. – Не расклеивайся раньше времени, Петруха, а там – как бог решит.
Зиновий Оськин лежал молча, подтянув колени к подбородку, но я слышал его приглушенные всхлипывания. Парню всего девятнадцать, а ожидание смертного приговора ломает людей и покрепче. Один из обитателей камеры, совершивший самострел, был, видимо, из блатных. Храбрился, с веселыми матюками рассуждал, как он будет воевать в штрафной роте, бить фрицев и обязательно выживет.
– Ты еще попади в эту штрафную роту, – не выдержав развязной болтовни, осадил его Федор Ютов. – Очень ты там нужен с простреленной клешней. Трибунальские жесткий приказ имеют – навести порядок в воинских частях вокруг Сталинграда. В кольцо Паулюса взяли, а добить его никак не удается.
Бывалый танкист был прав. Мы с ним не раз обсуждали сложившуюся обстановку. Девятнадцатого ноября наши ударили крепко, и уже через четыре дня 6-ю армию Паулюса замкнули в кольцо. В газетах восторженно писали, что осталось хорошенько надавить, и с окруженной группировкой будет покончено. Однако не все было так просто.
К началу контрнаступления группа армий «Б» (6-я армия Паулюса, 4-я танковая армия и две румынские армии), против которых был направлен удар наших войск, насчитывала более 1 миллиона человек, 10 тысяч орудий и минометов, 700 танков и 1200 самолетов. Через полтора месяца напряженных боев, в начале января, в кольце оставались 250 тысяч человек, 4 тысячи орудий и минометов, 300 танков, более 100 самолетов. Так что непростое это было «колечко».
Следует отметить упорное сопротивление окруженных, веривших, что рано или поздно им помогут вырваться. Долгое время нашим войскам не удавалось создать достаточно прочное кольцо окружения. Во многих местах расстояние между внешним и внутренним фронтами окружения составляло 30–40 километров, кое-где сплошной фронт отсутствовал. Этим фактором пытался воспользоваться генерал-полковник Гот, который был близок к успеху и был остановлен в 35 километрах от окруженной группировки Паулюса.
Рано утром в нашу камеру втолкнули еще несколько человек. Среди них я увидел замполита нашего третьего батальона Аркадия Раскина. Я позвал его, и мы обнялись. За это недолгое время он сильно изменился. Заострилось, стало каким-то серым лицо, большие темные глаза смотрели на меня с тоской.
– Аркадий, приди в себя. Слышишь? Мы снова вместе.
– Слышу, – подавленно отозвался мой старый товарищ. – За что они так со мной? Я ведь на переднем крае был, из пулемета по немцам стрелял.
Немного придя в себя, замполит рассказал свою историю. Его несколько раз допрашивали в политотделе, относились поначалу с сочувствием. Хотели спасти от суда и направить с понижением в должности на передний край. Но в ротах замполитов уже не было. Пока решали, вмешался начальник политотдела дивизии, тот самый полковой комиссар.
– Наши воины каждый день в боях гибнут, – заявил он. – А такие, как ты, в тыл бегут. Направить дело в особый отдел!
– Он что-то еще про евреев буркнул, – затягиваясь самокруткой, говорил Раскин. – Мол, привыкли в тылу околачиваться. Пусть трибунал решает. Вот дело на меня и оформили. Не знаю, что теперь будет…
– Дадут винтовку, и пойдешь в атаку, – насмешливо сказал танкист. – Ни разу в штыковую не ходил? Ну вот, теперь сходишь. Не все время языком болтать, повоюешь, как простой штрафник.
– Вы… Вы не правы, – начал было Раскин, но танкист отмахнулся:
– Спасибо скажи, если не шлепнут. Но вашу братию редко к «вышке» приговаривают. Берегут политработников.
Скажу сразу, что я был приговорен «за отступление без приказа и проявленное малодушие» к 6 годам лишения свободы с заменой на два месяца штрафной роты. Такой же приговор получил танкист Федор Ютов. Как я понял, нам все же зачли участие в боях и полученные ранения.
Замполит батальона Аркадий Раскин очень нервничал, не на шутку опасаясь высшей меры, но также получил два месяца штрафной роты.
Строже обошелся трибунал с лейтенантом Петром Кузовлевым и красноармейцем Зиновием Оськиным. Оба были приговорены к 8 годам, которые заменили на три месяца штрафной роты. «Самострела», как и предсказывал Ютов, приговорили к расстрелу. Мгновенно потерявший всю свою напускную лихость, он просил, умолял сохранить ему жизнь. Как мне потом рассказывали, председатель военного суда брезгливо отмахнулся:
– Такие, как ты, при первой возможности к немцам бегут. Да и как ты со своей пробитой рукой воевать будешь? Увести труса.
К расстрелу был также приговорен мародер, который самовольно уходил из части и шарил по карманам убитых немцев и наших погибших бойцов. Кроме всякого барахла в своем вещмешке он носил на руках штук шесть часов, в том числе золотые.
Через день нас собрали в небольшую колонну, и мы отправились к новому месту службы. Самой большой радостью для меня стало, что я встретил старого друга Валентина Дейнеку. Он получил месяц штрафной роты, сравнительно мягкий приговор. Лейтенанта Дейнеку вообще хотели оправдать – основная вина падала на меня, как на командира батальона. Но в последний момент судья, насмотревшись на дезертиров и самострелов, сменил решение.
– Из-за таких трусов вся Сталинградская операция могла сорваться, – сказал он. – Повоюйте рядовым!
Наши командирские полушубки заменили на солдатские шинели третьего срока, потертые ушанки. Выдали также обычные гимнастерки взамен комсоставовских. Едва не отобрали валенки (с моими отмороженными пальцами мне пришлось бы туго), но, учитывая усилившиеся морозы, оставили.
Поздно вечером мы пришли в поселок Абганерово (около ста километров от Сталинграда) и свалились без сил на деревянные нары в кое-как натопленном бараке. Заснули как убитые, но еще до рассвета начали просыпаться от холода. Кто-то растопил печку, вторая была неисправна. Люди облепили нагревшуюся печь, обсуждали, что будет с нами дальше.
Дело в том, что хотя приказ о формировании штрафных рот и батальонов был подписан еще летом, дело продвигалось медленно. Ходили слухи, что штрафников бросают в самые опасные места (чуть ли не на минные поля), почти все они гибнут, и шансов выжить у нас немного.
– А какие потери несут в наступлении обычные стрелковые роты, вы что, не знаете? – вмешался я в разговор, который вели несколько молодых ребят. – Порой половина погибает в одной атаке.
Вскоре нас построили. Сделали перекличку (было нас человек семьдесят), перед нами выступил командир штрафной роты, рослый капитан лет тридцати, перетянутый портупеей поверх полушубка. Рядом с ним стоял старший политрук, два-три лейтенанта и несколько сержантов.
– Товарищи бойцы, – обратился к нам капитан. – Вы прибыли к новому месту службы.
Уже первые слова прозвучали для большинства неожиданно. Никто не ожидал, что нас назовут «товарищами бойцами», как в обычных подразделениях. Многие представляли штрафную роту как разновидность тюрьмы, а командиры, стоявшие перед нами, являются кем-то вроде надзирателей.
Однако спокойная неторопливая речь капитана Олейникова Ивана Дмитриевича (он сразу нам представился) слегка нас озадачила. Большинство из нас готовились к худшему и не торопились верить словам.
Капитан объяснил, что мы являемся подразделением Красной армии с некоторыми особенностями. Нам выдадут штатное оружие, в основном винтовки, но получим и несколько пулеметов. В ближайшие дни рота будет пополняться, нас разделят на три взвода, мы займемся благоустройством нашего временного жилья, будет организована боевая подготовка. Понимая, что перед ним не те люди, которых следует потчевать длинными речами, Олейников закончил свое выступление и объявил:
– Сейчас вас покормят, разобьют по взводам, а дальше с вами будут заниматься взводные командиры. Кстати, печники имеются?
Вперед выступил Зиновий Оськин и еще один боец, лет под сорок.
– Вы после завтрака займетесь починкой печи. Необходимые инструменты получите у старшины.
Нас удивил завтрак. Ничем особым нас не кормили. Но мы ждали что-то вроде тюремной баланды. Однако каждый получил порцию еще горячей пшенной каши, в которой было даже немного мяса, по увесистому ломтю хлеба, чай и ложку сахара. Это подняло настроение. Затем нас разбили по взводам. Наша небольшая группа держалась вместе, и мы сумели попасть в один взвод: капитан Ютов, Аркадий Раскин, Валентин Дейнека и я. К нам поторопился присоединиться Зиновий Оськин, занятый ремонтом печки.
Командир взвода лейтенант Леонид Трегуб обошел строй и произнес речь, которая больше напоминала нравоучение политработника. Спортивно сложенный, в коротком полушубке, затянутый в портупею, Трегуб обстоятельно разъяснил, кто мы такие.
Если упростить его речь, то все мы проявили себя как никудышные командиры и солдаты (в общем, отбросы!), многие струсили в бою, когда решалась судьба Сталинграда и всей страны. Трибунал заменил расстрел на штрафную роту, но это последняя возможность для нас доказать, сумеем ли мы оправдать доверие советского народа.
– …И нашей партии, – негромко буркнул Федор Ютов, воевавший с августа сорок первого года и дважды горевший в танках.
– Что за болтовня в строю? – вскинулся Трегуб. – Здесь не колхоз, а штрафная рота.
– Это мы уже знаем, – спокойно проговорил Ютов. – Какие задачи нам придется выполнять, товарищ лейтенант?
– Ну, уж не отсиживаться в тылу, – съязвил взводный. – Конкретную задачу вы получите позже, а пока будете готовиться. Но долго вас в резерве никто держать не будет. Как только взводы будут укомплектованы, рота выдвинется на передний край.
– Говорят, штрафников на минные поля посылают, – набравшись смелости, проговорил Зиновий Оськин. – Правда ай нет?
– Куда пошлют, туда и пойдете. А сейчас шагай, печку в порядок приводи.
Но простой деревенский парень Зиновий Оськин из села с красивым названием Девичьи Горки, что в Саратовской области, продолжал топтаться на месте, бормоча:
– Как же так? Живых людей и на мины. Для этого саперы имеются.
– Не бойся, Зиновий, – весело проговорил танкист Ютов. – На мины не пошлют, невыгодно это. Ноги вместе с валенками или ботинками отрывает. Где столько обуви напасешься?
Взвод засмеялся, послышались другие шутки. Это не понравилось лейтенанту Трегубу.
– Смирно! А вы, товарищ бывший капитан, укоротите язык.
Но танкиста осадить было непросто. Он вытянулся, козырнул и обратился к взводному:
– Как я понял, вы, товарищ лейтенант, нас в бой поведете. Разрешите поинтересоваться, где воевали до штрафной роты?
Федор Трофимович Ютов сразу понял, что перед нами стоит не слишком опытный фронтовик. Человек, прошедший бои, не станет заниматься нравоучениями, да еще свысока смотреть на солдат, с которыми ему предстоит вместе воевать.
– Куда посылали, там и воевал, – резко ответил Трегуб. – А биография вам моя не нужна. Достаточно, что я с вашими личными делами знаком.
Нас разбили на отделения, и первые три дня мы занимались хозяйственными работами. Прибывали новые люди, и вскоре взвод насчитывал уже человек восемьдесят – считай, рота.
Разные люди и за самые разные проступки пополняли наш взвод. Многих губило пьянство. Люди снимали напряжение спиртом, самогоном, всем, что удавалось найти. Помню бойца, который спьяну изнасиловал женщину в одном из хуторов, его приговорили к расстрелу. Смертную казнь заменили в последний момент на три месяца штрафной роты.
Несколько человек попали в штрафники за дезертирство. Вспоминая лобовые атаки на немецкие пулеметы, когда бойцы гибли десятками и сотнями, я понимал состояние людей, которые не выдерживали и убегали куда глаза глядят. Присуждали к штрафной роте и за воровство, которое, не в обиду нашей славной армии, процветало довольно пышно. Особенно среди тыловиков.
К нам попал бывший майор из руководства стрелкового полка, который списывал продукты за счет «мертвых душ» (погибших бойцов). Он устроил себе сытную, комфортную жизнь, имел женщин, которых просто покупал в ту голодную зиму. Майор пытался скрыть, за что он угодил в штрафную роту, но разве это скроешь? Каждый из нас сталкивался с интендантами, воровавшими из солдатского котла, – мы презирали таких людей.
Лейтенант Валентин Дейнека воевал в пехоте едва не с первых дней войны. Заметив, как брезгливо морщится бывший майор, хлебая жидкий перловый суп, громко заметил, глядя на него в упор:
– Что, не привык к нашей пище? Тушенку да сало жрал, пока мы конину дохлую варили. Ничего, понюхаешь еще, суп неплохой, так что не морщись, герой тыла.
Майор промолчал. Достаточно обронить слово, и на него обрушатся остальные бойцы.
И наконец, упомяну про освобожденных из тюрем и лагерей. Во взводе к концу формирования их насчитывалось человек двенадцать. Вроде немного, если учесть, что во взводе было 90 человек личного состава. Но эти люди вели себя самоуверенно, порой нагло. Не все, конечно. Из этих двенадцати-тринадцати человек половина были так называемые «мужики». Люди, угодившие в лагерь за кражу зерна, пьяные драки, воровство на предприятиях и так далее.
Но другая часть, по моему мнению, была из породы настоящих уголовников. Некоторые ни дня в своей жизни не работали, презирали колхозников и «работяг» и, судя по их настроению, воевать не собирались.
Не знаю, чем руководствовался суд, когда отправил на фронт рецидивиста Самараева. Было ему лет под сорок, имел он штук пять судимостей. Высокого роста, с широкими мясистыми плечами и шрамами на лице, он считался паханом. На рожон не лез, но внушал невольное опасение даже сержантам, командирам отделений.
Два его ближайших приятеля по кличке Шмон и Филин, тоже имевшие по несколько судимостей, зажали остальных осужденных, создали, по существу, шайку. Отбирали одежду получше у тех, кто послабее, воровали на кухне и чувствовали себя хозяевами.
Они не скрывали, что под пули лезть не намерены, собирались отсидеться до весны за спинами других, а потом «слинять» в теплые края. До нашего начальства их фокусы не доходили. Дело в том, что в штрафной роте не было принято «стучать» друг на друга. Да и опыта у наших командиров было не так много.
Уголовники, несмотря на свою развязность, знали, кого можно прижать, а с кем лучше не связываться. Они держали нейтралитет с нашей небольшой группой: танкистом Ютовым, Валентином Дейнекой, Аркадием Раскиным, со мной. Не трогали и Зиновия Оськина, хотя поддевали его:
– Ну, что, печник, готов кровью вину искупить?
У Зиновия, несмотря на молодой возраст (24 года), было уже трое детей, причем последний ребенок родился, когда он был уже в армии.
Когда не стало хватать сержантов, меня и Дейнеку вызвал командир штрафной роты Олейников и предложил возглавить в нашем первом взводе два отделения. Мы согласились. Нам присвоили сержантские звания, и мы включились в подготовку к будущим боевым действиям.
Взводный Трегуб не преминул съязвить по моему адресу:
– Был комбатом, а вырос до командира отделения. Если выживешь, взводом командовать будешь.
Я посмотрел на него и спросил:
– Тебе в голову не приходило, что нам вместе в бой идти?
– Угрожаешь? – набычился Трегуб.
– Я в сержанты не рвался. Если боишься меня, обратись к Олейникову, снова разжалуйте в рядовые.
– Запомни, я никого и ничего не боюсь, – высокопарно произнес лейтенант.
В общем, поговорили – как меду напились.
Последствием этого стал вызов меня к капитану-особисту.
– Что, угрожаешь командиру штрафного взвода?
Сказано было с долей усмешки. Капитан неплохо разбирался в людях и сообщение Трегуба всерьез не воспринял.
– Никому я не угрожаю, – устало возразил я. – Быстрее бы все кончилось.
– Думаю, что через несколько дней вас перебросят на передовую. Как считаешь, комбат, рота готова к боям?
– Вам виднее, товарищ капитан. У меня права нет иметь свое мнение, да и не комбат я, а всего лишь сержант переменного состава.
– А Олейников на таких, как ты и Дейнека, рассчитывает. Надеется на вашу помощь.
Капитан-особист не входил в штат штрафной роты, но появлялся довольно часто. Видимо, он нес какую-то ответственность за нас. В то время штрафные роты только начинали действовать. Никто не мог предугадать, насколько успешно мы выполним порученное задание.
К особисту я испытывал больше доверия, чем к своему командиру взвода. Но говорить откровенно с человеком, которого я толком не знал, я не решался. Уголовники, подвыпив, не раз высказывали, что в бою легко получить пулю с любой стороны. Тем самым они намекали сержантам, что с ними связываться опасно. И сержанты понимали – это не пустые угрозы. Особенно когда командир взвода численностью 90 человек не пользуется авторитетом.
Олейникова уголовная шушера побаивалась. Но у него под началом было три с половиной сотни людей. Капитан не мог уследить за обстановкой внутри взводов, а я считал, что она нездоровая. По крайней мере, в нашем первом взводе.
– Ну, иди, Гладков, – наконец отпустил меня особист. – И следи за языком.
«А тебе к людям бы надо получше присмотреться», – едва не вырвалось у меня.
В последующие два-три дня в роте шла подготовка к переброске на передовую. Кое-кому заменили обувь, шинели. Но валенки, несмотря на морозы, не выдавали. Люди получали ботинки на два-три размера больше, теплые портянки.
– Сидеть на одном месте не придется, – приговаривал подвыпивший старшина. – Не успеете замерзнуть.
– Еще теплыми закопают, – смеялся уголовник Филин, тоже хвативший спиртного. – Эй, старшина, дай-ка мне еще пару фланелевых портянок.
Филин внушал мне наибольшее отвращение. Невысокого роста, с большой головой и покатым узким лбом, он был крепок физически. Широкие плечи, длинные мускулистые руки и растопыренные пальцы – все это покрыто сплошной татуировкой.
Ходили слухи, что по пути сюда Филин задушил молодого солдата из штрафников и забрал его теплые вещи. Я с ненавистью размышлял о том, что Филин, Самарай и другие уголовники из верхушки будут прятаться за нашими спинами, когда мы пойдем в атаку.
На склад привезли оружие и собирались его раздавать штрафникам. Если сказать точнее, то именовались мы «бойцами переменного состава». Вечером было построение роты. Если глянуть со стороны, то мы выделялись лишь отсутствием знаков различия. Вымытые, побритые, в шинелях, ботинках с обмотками (реже – в валенках), в шапках с красноармейскими звездочками, бойцы стояли ровным строем, слушая речь капитана Олейникова.
Звучали слова, что Родина дает нам возможность искупить свою вину в бою с немецко-фашистскими захватчиками. В настоящее время наступил переломный момент, окружена одна из самых сильных армий вермахта, 6-я армия Паулюса, румынские части. Врага надо добить, и это единственный путь для нас вернуть к себе уважение и стать полноправными гражданами нашей страны.
Слова… слова… правильные слова. Но многие с тоской рассуждали, что большинство из нас погибнут. А в третьем-четвертом рядах длинной шеренги перетаптывались и язвили в адрес Олейникова уголовники.
– Смело мы в бой пойдем, только не торопясь.
– Ради кого помирать?
– Вот капитан пусть со своими прихлебателями вперед и ломится!
– Ха-ха-ха…
Вместе с оружием и боеприпасами в роту доставили спирт, который всегда имеет свойство «испаряться». Старшина, не желавший иметь осложнений с верхушкой уголовников, видимо, уже выдал им причитающуюся долю.
Я уважал капитана Олейникова. Знал, что он давно воюет, был не раз ранен, прост в обращении с бойцами. Но сейчас эта простота меня раздражала.
– Завтра вы получите оружие, – продолжал наш ротный. – Это высший знак доверия к вам. Надеюсь, что вы оправдаете доверие командования.
– А как же! – выплюнул окурок вокзальный вор по кличке Шмон. – Еще как оправдаем.
– Навоюем как надо, – заливался кто-то из воров помельче.
Один из сержантов цыкнул на них:
– Закройте рот, когда командир выступает.
– А ты кто такой? – выпучил на него круглые, замутненные спиртом глаза уголовник Филин. – Меньше тявкай!
Командир отделения Никита Рогожин был из фронтовиков, воевавших с осени сорок первого года. Получилось так, что именно он своей решительностью переломил ситуацию, сложившуюся в штрафной роте.
А ситуация складывалась скверная. Чтобы ее понять, надо знать психологию уголовников. Я не беру в расчет мелких воров и людей, случайно попавших в лагерь. Я веду речь о тех, кто называл себя «ворами» с большой буквы, имевших несколько судимостей и уже втянувшихся в лагерную криминальную жизнь.
Это была особая порода людей, которых заботила только своя собственная судьба, желание выжить любой ценой. Слова о долге, защите отечества были для них не более чем пустой звук. Такие люди встречаются не только среди уголовников. Но в них это крепко укоренилось, и они готовы переступить любую черту.
Легенды о лихости в боях «паханов» и прочей братвы сочинялись ими самими и не имели ничего общего с реальностью. Заставить их воевать было не просто. А когда уголовники чувствовали слабость командиров, они подминали ситуацию под себя.
На следующий день с утра выдавали оружие. Получили винтовки сержанты и часть штрафников. Филин наблюдал, как Никита Рогожин протирает затвор, смотрит на свет канал ствола, затем умело собирает винтовку. Это его раздражало.
– Ну-ка, дай позырить, что за волыну тебе выдали, – потянулся он к сержанту.
– Оружие в чужие руки не дают, – с трудом сдерживаясь, ответил Рогожин.
– А ты оборзел, вояка! – выругался Филин, уже хлебнувший с утра спирта, и попытался выдернуть винтовку из рук сержанта.
– Назад! – приказал Филину Никита Рогожин.
– Ты на кого пасть разеваешь, вертухай?
Филин потянул винтовку к себе и тут же получил удар прикладом в плечо. Сержант-фронтовик не сдержался. Рукоприкладство в штрафных ротах категорически пресекалось. Слишком опасными могли быть последствия, вплоть до выстрелов в спину во время боя.
Поднялся шум. Набежали уголовники.
– Наших бьют!
Командир взвода Трегуб растерялся, выхватил пистолет и закричал:
– Всем разойтись, стрелять буду!
– Попробуй только, – пригрозил ему Шмон. – В сортир башкой затолкаем.
Здесь же находился Самарай. Пахан не кричал и не суетился, негромко отдавая распоряжения. Собирались в кучу блатные из других взводов. Рогожина обступили со всех сторон, он загнал в казенник патронную обойму и готовился к худшему. Неизвестно, чем бы все кончилось, не появись особист со своим помощником и командир роты Олейников.
– Всем разойтись по взводам, – дал команду Олейников, а капитан-особист поманил пальцем Самараева:
– Иди сюда. И ты, Филин, тоже.
– У меня плечо сломано, – крикнул Филин.
Но помощник особиста, рослый сержант с автоматом, дернул уголовника за шиворот:
– Не брыкайся! Время военное, церемониться с тобой не буду.
В течение часа было проведено расследование. Как я потом узнал, особист Стрижаков действовал жестко. Сразу предупредил Самарая:
– Если не успокоишь свою братву, до вечера не доживешь. И проведи с ними разъяснительную работу. Нападений на командиров мы не потерпим. Можешь идти.
– А Филина что, оставляете?
– Я перед тобой отчитываться должен?
Особист Стрижаков смотрел на заслуженного вора в законе Самарая спокойно, почти ласково. Но уголовник мгновенно уловил опасность для себя. Капитан из НКВД воспитывать его не будет и просто шлепнет на месте. Самараев молча попятился и зашагал прочь, не обращая внимания на крики приятеля.
– Не шуми, – осадил Филина Стрижаков. – Ты уже много чего натворил. Даже боевое оружие у командира отделения отобрать пытался. А это военное преступление.
– Он мне ключицу сломал!
– Тем более на хрен ты такой в бою нужен. Да и вообще, как я погляжу, толку от тебя нет.
Филина затолкали в кузов «полуторки». Он отчаянно упирался, пытаясь вырваться из рук двух сержантов.
– Братва, выручайте! – крикнул он, но сержант, помощник особиста, толкнул его и предупредил:
– Молчи, если пулю словить не хочешь.
Филина отвезли в неглубокую балку в километре от хутора и приказали вылезти из машины. Он до последней минуты не хотел верить, что его расстреляют.
– За что? – повторял уголовник.
– Шинель и валенки сними, – вместо ответа приказал Стрижаков. – Они другим бойцам пригодятся.
– Я воевать хочу! – в отчаянии выкрикнул Филин.
– Сам же хвалился, что в бой не пойдешь. В теплом месте отсидишься. Вот мы тебе и поможем. Ты приговорен к расстрелу за нападение на младшего командира Красной армии и неподчинение приказам в боевой обстановке.
Филину недавно исполнилось тридцать лет. Он прожил короткую, мутную жизнь, имея за спиной несколько убийств, но терять свою жизнь не хотел.
– Я искуплю…
Автоматная очередь подломила его и опрокинула в снег.
– Анатолий, забери шинель и валенки, – приказал своему помощнику Стрижаков. – А этого забросай снегом. Лопата у водителя.
Тем временем наша штрафная рота была переброшена на автомашинах к станции Воропоново, где шли упорные бои с окруженной немецкой группировкой.
Отсюда уже просматривались пригороды Сталинграда. Неподалеку от нас вела огонь гаубичная батарея. Мы прошли мимо нее к месту нашей временной дислокации. Заснеженное поле было покрыто воронками, а снег потемнел от копоти.
Мы шагали мимо сгоревших танков – и наших, и немецких. Здесь же лежали замерзшие тела немецких солдат. Двое красноармейцев копошились внутри подбитой самоходки «Мардер-3». Нас удивило массивное длинноствольное орудие, торчавшее из рубки на корме, хотя сама установка была небольшая, на базе легкого чешского танка.
Тяжелая зенитка калибра 88 миллиметров застыла в снегу, валялись отстрелянные гильзы. Немцы использовали эти зенитки зачастую против наших танков, поражая «тридцатьчетверки» за полтора-два километра. Теперь вся эта немецкая техника была мертва, но хватало и наших подбитых танков.
Нам приказали занять траншею, сплошь избитую снарядами. Из нее выбирались бойцы, освобождая нам место. Покрытые копотью, обмороженные лица, прожженные шинели, обледенелые валенки. Здесь занимал оборону один из батальонов стрелкового полка, а точнее – пытался продвинуться вперед. После двух дней упорных боев в батальоне, чью траншею мы заняли, осталось менее сотни красноармейцев. Большие потери понес и весь остальной полк.
Склоны пологой высоты были покрыты телами погибших. Их уже присыпал снег. Застыли две сгоревшие «тридцатьчетверки», еще один танк разнесло взрывом, башня валялась в стороне.
Ротный Олейников о чем-то разговаривал с комбатом. Они покурили, пожали друг другу руки и каждый пошел к себе. Вскоре капитан Олейников собрал взводных командиров. От них мы узнали, что эта пологая высота недалеко от линии железной дороги и есть место нашей будущей атаки, от которой зависело взятие станции.
Медленно опускались долгие январские сумерки. Заметно усилился мороз. Принесли ужин, гремели котелки. Аппетита не было совсем, но я заставил себя поесть. Знал, что на рассвете, перед атакой, еда не полезет. Кто-то просил водки. Нам коротко ответили:
– Водка завтра будет.
– Правильно, – усмехнулся танкист Федор Ютов. – С дурной головой легче на пулеметы бежать. Не так страшно.
Обошел взвод лейтенант Трегуб. Было заметно, что он нервничает. Остановившись возле меня, спросил:
– Отделение боеприпасы получило?
– Получило. И гранаты тоже, правда, маловато.
Взводный рассеянно кивнул. Возможно, он и не услышал меня, думая о своем.
Глава 10 Мне этот бой не забыть нипочем…
Так пел когда-то наш незабвенный поэт Владимир Высоцкий. Он каждым своим обнаженным нервом ощущал страшные минуты той войны, особенно самые долгие и напряженные минуты перед атакой, которая для многих станет последней.
На рассвете, как и обещали, наливали водку. По половине объемистой кружки, а кому и побольше. Полез было к старшине за своей порцией и Зиновий Оськин, но я придержал его за рукав шинели:
– Куда? На тот свет торопишься? Трезвыми воевать будем.
Еще с вечера мы с Федором Ютовым, Валентином Дейнекой и Петром Кузовлевым договорились не пить ни грамма. Замполит Аркадий Раскин, весь какой-то потерянный, молча с нами согласился. Он был словно не в себе, и Ютов, старший из нас по возрасту, оглядев его, покачал головой:
– Ты чего расклеился, Аркадий? Возьми себя в руки.
– А, а… все равно, – отмахнулся Раскин. – Я бы выпил. Ноги что-то не двигаются.
– Ничего, побежишь. Раньше времени подыхать – последнее дело.
Ютов, Дейнека, Кузовлев и часть бойцов наших отделений сняли с себя шинели и туго перепоясали короткие телогрейки. Вставляли в гранаты запалы, проверяли крепление штыков. Глядя на нас, снял шинель и Зиновий Оськин.
– Правильно, – одобрил я. – Ловчее бежать будет.
Аркадий Раскин остался в шинели.
– Холодно, – пожаловался он, втянув голову в воротник.
– Будет жарко, – подмигнул ему Федор Ютов.
Танкист раздобыл где-то «наган» и проворачивал барабан, вытряхивая на ладонь патроны.
– Одолжили хорошие люди, – снова заполняя барабан, пояснил он. – Нужная штука в ближнем бою.
У меня, кроме винтовки со штыком и двух гранат РГД-33, ничего не было. Хватит и этого… если добегу.
Мимо меня, пошатываясь, прошел один из бойцов.
– Ну, скоро там? – непонятно к кому обращался он.
А сновавший вдоль траншеи лейтенант Трегуб в очередной раз напоминал:
– Только вперед! Позади заградотряд. Кто струсит, на свои же пули нарвется.
– С нами побежишь? – спросил его хорошо подвыпивший штрафник.
– С вами, с вами…
Леонид Трегуб держал в руках автомат и тревожно оглядывался по сторонам. Направился было к расчету «максима», который готовился прикрыть нас во время атаки, но не успел. Шипя, взвилась зеленая ракета, следом вторая.
– В атаку! Вперед!
Взбираясь на бруствер, я подумал, что зря запускают ракеты. Фрицев, что ли, предупредить хотят? Так их наша пьяная рота не испугает. Судя по всему, они до конца решили в кольце драться. Ладно, посмотрим…
Я не просто бежал, а вел отделение таких же штрафников, как я. Позади открыла огонь батарея легких полковых пушек, поддерживая роту. Хоть какая-то подмога. А там «максимы» заработают, их три штуки выделили. Рядом со мной бежал Федор Ютов. Ему тоже предлагали возглавить отделение, но он отмахнулся:
– Я – танкист. Пехотой командовать не умею.
Позади меня путался в своей длинной шинели Аркадий Раскин. Винтовку он держал как-то несуразно, едва не чиркая штыком снег.
– Стреляйте, сволочи, – крикнул он в сторону немецких траншей, – Чего ждете?
Я догадывался, чего ждут немцы. У них всегда хватало патронов, но за время боев в окружении они наверняка испытывали сейчас нехватку боеприпасов. Подпустят поближе и смахнут сразу из нескольких пулеметов всю нашу братию. Одни МГ-42 чего стоят! Двадцать пуль в секунду – не зря этот пулемет «гитлеровской пилой» окрестили.
Только бы не в живот! Да еще разрывной пулей. Буду лежать в снегу и ждать смерти с издырявленными кишками.
Зиновий Оськин все время забегал вперед. Меня, что ли, защищает? Позади раздался выстрел, пуля просвистела совсем рядом. Я оглянулся. Замполит Раскин передергивал затвор.
– Аркадий, вперед! Не задерживайся!
Именно в этот момент ударил первый немецкий пулемет. Он словно ждал знака. Одна, вторая пристрелочная очередь, и хорошо знакомый мне МГ-34 повел трассирующую нить навстречу бежавшей роте.
Я невольно сжался, но твердо знал одно – останавливаться нельзя. Лежать нам не позволят, а тех, кто начнет метаться, пули настигнут в первую очередь.
– А-а-а! – истошно кричал боец, размахивая винтовкой.
У него не выдерживали нервы, и он бежал все быстрее, стремясь сблизиться с врагом. Свист пуль пронесся сбоку, ударило по мерзлой земле, подняв глинистое крошево, смешанное со снегом. Боец продолжал кричать, но уже не бежал, а катался по снегу, пытаясь дотянуться до перебитой ниже колена ноги.
Аркадий Раскин замер на месте, уставившись на тяжелораненого. Его с силой пихнул в спину Федор Ютов, а к первому пулемету присоединились сразу два или три. На какие-то секунды я закрыл глаза. Чувствовал, что сверкающая трасса снова тянется ко мне, и ждал удара. Когда открыл глаза и оглянулся, увидел, что два отделения, мое и Валентина Дейнеки, вырвались вперед, а позади падают люди. Один, другой, третий…
Вчера вечером, обсуждая с Дейнекой и Ютовым путь, по которому будут наступать оба наших отделения (сорок пять человек), мы наметили укрытия. Сгоревший танк, низину, цепочку окопов, засыпанных снегом, несколько воронок от тяжелых снарядов.
Но кто нам позволит залечь, даже под самым сильным огнем?
– Вперед! – доносились до меня хриплые выкрики взводного Трегуба и его помощника, старшего сержанта.
Оба стреляли из автоматов над головами метавшихся под пулеметными очередями штрафников. Атака продолжалась, хотя люди падали едва не каждую секунду. Некоторые валились замертво, пробитые сразу несколькими пулями. У других хватало сил куда-то ползти. Раненые полегче прятались в снег, но он был не слишком глубокий. Пулеметчики отчетливо видели шевелившиеся тела в рыжих шинелях и добивали раненых, одновременно захватывая длинными очередями бегущих.
Снизу били все три «максима», а из немецких траншей вели огонь не меньше пяти-шести «машингеверов». Трассы перекрещивались друг с другом, хлестали по мерзлым пригоркам, рикошетили, поднимая клубы снега. И в этой жуткой смертоносной кутерьме постепенно захлебывалась атака.
Упал командир второго взвода, тяжело ранили сержанта, и сразу бросились в снег не менее двух десятков бойцов. Те, кто продолжали бежать, падали один за другим. Осознавая, что выхода нет, остальные залегли.
Хотя наш взводный Леонид Трегуб вместе с помощниками находились в задних рядах, немецкие пулеметчики разглядели его белый полушубок. Очереди приближались к нему, хлестнули под ногами. Метнулся в сторону помощник, а лейтенант бросился в снег. Для нашего взвода это стало сигналом. Торопливо падали остальные, кто-то бежал к ближайшему укрытию.
Я тоже почувствовал, что сверкающий пучок через секунду пройдет через мое тело, и, опережая «свою» трассу, нырнул головой в наметенный сугроб. Пули пронеслись немного выше, позади кто-то вскрикнул. Я оглянулся. Отделение лежало, один из бойцов ворочался и стонал – снег вокруг него был красный.
– Комбат, еще рывок, – крикнул танкист Ютов. – Здесь нас достанут, а впереди окопы!
– Вижу…
Мне стоило немалых усилий снова подняться и позвать остальных:
– Ребята, надо к окопам.
Несколько человек побежали следом, и мы успели сделать этот десяток шагов. Здесь когда-то проходила полоса обороны. Окопы были мелкие, скорее стрелковые ячейки, не глубже полуметра, да еще засыпанные снегом. Мы бросались в них, проламывая лед, образовавшийся во время оттепели.
Благодаря этим ямкам и скованным морозом брустверам мы имели возможность на какое-то время укрыться от прямого огня. Я поднял голову, снова высматривая свое отделение. С десяток бойцов лежали на прежнем месте, вокруг них плясали фонтанчики взбитого снега, разлетался на куски льдистый сугроб.
– Мужики, сюда! Там не спасетесь!
Один из пулеметов развернулся в мою сторону. Очередь прошла по брустверу, снесла снег вместе с крошевом мерзлой земли, но я успел спрятать голову. Пули скорострельного МГ-42, как отбойным молотком, выбивали куски глины. Врезало по каске. Удар смягчила шапка, зато твердый, как камень, глиняный осколок, угодивший в запястье, пронзил острой болью всю руку до плеча. Я с трудом пошевелил пальцами и подтянул винтовку поближе.
– Федор, живой? – окликнул я танкиста.
– А что со мной будет!
– Аркадий, ты где?
Бывший замполит молчал. Отозвался Зиновий Оськин:
– Они там остались… в сугробе.
– Раскин, слышишь меня?
Горло перехватило, и я хрипел. Но Аркадий Раскин услышал:
– Здесь я… живой.
– Ты, замполит хренов! Поднимай людей, пока всех не выбили. Дуйте к нам. Чего молчишь?
– Прибьют.
Очередь достала еще кого-то из бойцов. Я отчетливо слышал шлепки пуль о человеческую плоть. Приложило точно, боец даже не вскрикнул.
Метрах в семидесяти правее вскочили и побежали к подбитой «тридцатьчетверке» человек десять из второго взвода. Смелым везет – все они нырнули под прикрытие обгоревшей глыбы металла. За этот смелый рывок расплатились лежавшие в снегу. Очереди накрыли еще двоих-троих бойцов.
Это подстегнуло остальных. К окопам, пригибаясь, бежали остатки нашего взвода. Их вели замполит Раскин и уголовник Самарай. Трудно было придумать более несуразную пару. Долговязый Самарай в подрезанном полушубке и невысокий ростом батальонный комиссар в волочившейся по снегу шинели.
Этой группе тоже повезло. Командование полка, за которым была закреплена наша штрафная рота, дало команду артиллеристам. Четыре короткоствольные «трехдюймовки» снова открыли огонь по немецким позициям. Часть пулеметов замолчали, другие рассыпали очереди куда попало.
Это длилось недолго – снарядов, как всегда, не хватало. Но теперь в одном месте сосредоточились два взвода, хоть и неполных. Приходя в себя после сумасшедшего бега, когда невозможно было трезво соображать, я осматривался по сторонам, оценивая ситуацию как бывший комбат. До немецких позиций оставалось метров двести. Самую трудную часть, практически открытый склон, мы преодолели. И хотя приблизились на смертельно опасное расстояние к немецким пулеметам, их расчеты были уже под нашим прицелом.
Бойцы открыли огонь из винтовок, пока еще редкий. Я разглядел окоп боевого охранения, выдвинутый шагов на сто. Трое немецких пулеметчиков чувствовали себя в нем не слишком уютно. Мы оказались у них под самым носом, и они нервничали. Станковый МГ-42 бил длинными очередями, стрелял автоматчик, добавляя ненужную суету.
Второй номер расчета, подавая ленту, без конца высовывал голову. Я показал цель Федору Ютову и одному из бойцов своего отделения:
– Попробуем их достать, пока они суетятся.
Три выстрела прозвучали негромким трескучим залпом, но это уже был прицельный огонь. Одна из пуль лязгнула о массивную каску второго номера, он исчез в окопе. Я передернул затвор и взял на мушку пулеметчика. Мы выстрелили одновременно с Никитой Кузовлевым. Промахнулись. Окоп защищала тяжелая шпала, куда угодили обе пули.
Промах едва не стоил нам жизни, очередь ударила по брустверу. Сплющенная о мерзлую землю пуля, вращаясь, как пропеллер, прошла на ладонь от моей каски. Еще одна пуля, разрывная, ощутимо хлестнув по телогрейке своими мелкими осколками, обожгла шею.
Пулеметчика достал Никита Кузовлев, оказавшийся метким стрелком. Какую-то активность в окопе боевого охранения проявлял уцелевший автоматчик. Он посылал очереди, не высовывая головы, но, укрываясь за башней подбитого танка, сверху вниз стреляли сразу двое бойцов. Они угодили в каску автоматчика, и наступила неожиданная тишина.
Она длилась считаные секунды. Пулемет из траншеи сбросил трассой одного из стрелков, а за нашими спинами снова прозвучала хриплая команда:
– Все в атаку! Вперед!
Это надрывался лейтенант Трегуб, которого, видимо, подстегнул капитан Олейников.
По существу, бой только начался. До этого мы, применяя обычную тактику тупых лобовых атак, бежали на пулеметы, теряя на каждом шагу людей. В роте было четыреста человек. Мало какой полк после изнурительных боев с окруженным противником имел в строю четыре сотни активных штыков. В батальоне, который мы сменили, насчитывалось не более трех десятков людей в каждой из стрелковых рот.
Я так и не понял, насколько продуманным был расчет, что мы захватим высоту. Возможно, командир дивизии бросил в костер очередную охапку дров (никудышных штрафных солдат), чтобы показать свою активность.
Здесь уже провел неудачную атаку стрелковый полк, оставив в снегу не меньше полутора сотен мертвых тел, не считая раненых, которые сумели уползти. А полк был далеко не полного состава, уже потрепанный в боях. Снова атаковать, кроме штрафников, было некому.
У нас не оставалось другого выхода, и мы бежали вперед, не надеясь, что выживем. Но получилось так, что, заплатив гибелью многих, рота сумела оседлать выгодные для дальнейшего боя позиции. Это был уже не голый заснеженный склон, где нас расстреливали, как в тире, а подходы к станции.
То в одном, то в другом месте виднелись обгоревшие фундаменты домов, до которых еще надо было добраться. Тянулась извилистая ложбина, торчали обломки деревьев. Земля была густо изрыта воронками, окопами, в полузасыпанных капонирах находились разбитые пушки.
Это были укрытия, удобные места, за которые мы могли зацепиться. Не бежать толпой, а наступать перебежками, переползать от бугра к воронке, вести огонь из старых окопов.
Кроме того, придя в себя после атаки, мы сумели разжиться у погибших бойцов стрелкового полка кое-каким оружием: двумя пулеметами Дегтярева, автоматами ППШ, гранатами, и даже обнаружили противотанковое ружье. Мы разжимали окостеневшие пальцы (может, ломали их), забирая так необходимые в ближнем бою автоматы, «наганы» и пистолеты. Выгребали из подсумков патроны, а из карманов – махорку в кисетах.
– Ребята нас простят, – крестился Зиновий, рассовывая винтовочные обоймы, гранаты и затвердевшую в окровавленном кисете махорку.
Немцы продолжали вести огонь, но теперь мы имели возможность отвечать на него, патронов хватало. Оседлали еще один подбитый танк – удобная бронированная точка для стрельбы. Когда отвечаешь на вражеский огонь, страх отступает. Из каждого укрытия стучали выстрелы, раздавались очереди. Кто-то не целился, посылая пули «на авось», но опытные бойцы ловили цель, и у немцев появились новые потери.
Пошел снег, и это подняло настроение. Крупные хлопья опускались с сумеречного неба, стало вроде теплее. В орудийном капонире, пристроившись на снарядных ящиках и станинах разбитой гаубицы, мы торопливо совещались, намечая дальнейшие действия.
Вместо погибших жизнь выдвигала новых командиров. И даже «пахан» Самараев сидел среди нас, порой вставляя дельные предложения. Он тоже хотел выжить, был решителен, и его беспрекословно слушались уголовники. Он даже сделал совсем неожиданный для меня жест – протянул пистолет ТТ, подобранный у одного из погибших командиров стрелкового полка.
– Возьми. Ты комбат, тебе пистолет положен.
– Не жалко?
– У меня винтарь, и еще штык-кинжал немецкий. Я им неплохо владею. Лучше, чем «наганом».
– Самарай у нас такой, – хохотнул затесавшийся среди командиров уголовник Шмон.
Поймав мой взгляд, Самараев коротко приказал приятелю:
– Ты, Шмон, к братве иди. Политбеседу проведи, что бежать некуда. Кто зассыт, церемониться не будем.
– Ясно, – вскочил широкоплечий уголовник, сумевший добыть себе автомат ППШ.
Я хотел передать автомат кому-то из более опытных бойцов, но понял, что Шмон считает его своим трофеем. Заводить свару в эти трудные минуты я не захотел, и, наверное, правильно. Потому что в наш капонир свалился облепленный снегом лейтенант Трегуб и, направив на меня свой ППШ, спросил, не сдерживая злости:
– Совещание устроили? Или посиделки? А ну, марш вперед.
За спиной лейтенанта стояли два автоматчика из приближенных к нему сержантов. Лейтенант и оба сержанта добрались сюда с трудом. Полушубок взводного был изорван осколками, а один из сержантов зажимал рану на предплечье, из рукава капала кровь.
Нетрудно было предсказать нашу дальнейшую судьбу. Мы снова побежим в лобовую атаку, и на этих двухстах метрах немцы добьют роту.
– Мы готовимся к броску, – попытался объяснить я сложившуюся ситуацию. – Если попрем напролом, получится мясорубка. Будем наступать перебежками, четырьмя группами. Возглавят их Федор Ютов, Валентин Дейнека, сержант из второго взвода и я.
– А Самарай кем командовать будет? – понижая голос до шепота, уставился на меня лейтенант.
– Боец Самараев побежит с моей группой.
В этот момент ударили немецкие минометы. Взрывы поднимали фонтаны снега, взрываясь на поверхности мерзлой земли. Осколки, шипя, проносились над головой, звякали о щит и ствол перекошенной гаубицы. Все невольно бросились на утоптанный снег. Каждый отчетливо понимал: если 80-миллиметровая мина влетит в капонир, мало кто из нас уцелеет.
Но и лезть наверх было слишком рискованно. Мины взрываются, едва коснувшись земли, и осколки косят даже траву под снегом. Хоть лежи, хоть беги, но они достанут тебя. Остальное довершат пулеметы.
– Мы вперед вырвались, – сворачивая цигарку, рассуждал Ютов. – Вот фрицы и торопятся нас прикончить. Но вряд ли у них мин в достатке. Почти два месяца в окружении дерутся, а запасы не бездонные.
– Как только дождемся передышки, сразу выскакиваем, – проговорил я и подозвал сержанта с пробитой рукой: – Давай перевяжу.
Сняв с него телогрейку и гимнастерку, вместе с Петром Кузовлевым наложили жгут повыше локтя, перевязали рваную сквозную рану. Обессилевший сержант тяжело дышал, лицо побледнело.
– В санчасть бы его, – сказал Кузовлев. – Но отсюда только одна дорога – вперед.
Минометный огонь стал стихать, а в капонир спрыгнул командир отделения Никита Рогожин. Козырнув лейтенанту, доложил:
– Прижали нас, но потихоньку пробились. Со мной семнадцать человек, остальные погибли или ранены. Отсюда уже можно наступать.
– Гладков, возьми у раненого автомат, – меняя тон, проговорил Трегуб. – Через пару минут продолжаем атаку. Хоть перебежками, хоть ползком, но через час мы должны взять немецкие траншеи. Это – приказ капитана Олейникова.
Сержант Рогожин был вооружен винтовкой, но Трегуб из каких-то своих соображений приказал раненому передать автомат мне, а не штатному командиру отделения. Этим он, наверное, подчеркивал, что считает меня одним из наиболее опытных командиров и ждет активных действий. Сам лейтенант по укоренившейся привычке вперед не полезет.
Штрафники ценой больших потерь (кто будет считать убитых?) преодолели самую трудную часть высоты. Это был бег навстречу пулеметному огню, люди прокладывали путь собственными телами, вряд ли застрелив хоть одного немца.
Теперь предстоял бой. Здесь тоже будут немалые потери, но это уже не тупая лобовая атака, а схватка с врагом, где многое решает опыт и умение сражаться.
– Начинаем, ребята, – проверив автомат, я поднялся и выглянул наружу. – Тимофей, не отставай.
Так звали вора в законе Самарая. Тимофей Иванович. Простое имя и далеко не простая натура уголовника, отсидевшего в тюрьмах и лагерях лет пятнадцать. Я не слишком доверял ему, но нам предстояло идти в бой вместе.
Снег продолжал идти, и это было нам на руку. Моя группа, три десятка человек, перебежками двигались вдоль низины. Нас прикрывали Валентин Дейнека и Никита Рогожин со своими людьми. Жидковатое было это прикрытие: короткими очередями били «Дегтярев» и несколько автоматов, хлопали винтовочные выстрелы.
Нам предстояло одолеть полста метров. Летом и осенью сорок второго года здесь шли ожесточенные бои. Я наметил для своей группы очередной рубеж – несколько окопов-ячеек и разрушенный дом.
Низину обстреливали, но она все же укрывала от пуль. Мы остановились перед очередным броском, давая возможность догнать нас группе Аркадия Раскина. Теперь была их очередь двигаться впереди. Валентин Дейнека со своими людьми наступал с фланга, слева от нас. Низина в этом месте сужалась, превращаясь в неглубокий овраг, и круто поворачивала. Бежать можно было только по левому склону, правый – простреливался.
Я на несколько минут придержал бойцов, внимательно изучая дальнейший путь. Чутье подсказывало, что наступать придется именно по правому склону, хоть он и находился под обстрелом. С этого крутого склона ветром выдуло снег, навалив сугробы на дне и левом, защищенном от пуль склоне. Но в снегу немцы наверняка понаставили мин. Я объяснил ситуацию Раскину и Самараю.
– Я не разбираюсь в минах, – выдавил после короткого молчания Аркадий Раскин.
Меня охватила злость. Эта перебежка по низине обошлась моей группе недешево. Один боец погиб, двое были тяжело ранены. У бывшего замполита потерь пока не было. Он что, и дальше намерен плестись за нашими спинами?
– Я тоже не сапер, – с трудом сдерживаясь, ответил я. – Такой же штрафник, как и ты. Ты пробежишь со своей группой полста метров, мы вас прикроем огнем, а затем присоединимся к вам.
Раскин продолжал молчать. Самарай и еще несколько уголовников курили, ожидая, чем кончится разговор.
– Еще как побежишь, – вдруг вмешался Федор Ютов. – Очень жить хочешь? И мы все хотим.
Неподалеку рванула легкая мина-«полусотка». Затем еще штук пять подряд. Эти небольшие мины весом девятьсот граммов были опасны на малом расстоянии. Но если фрицы нащупают сбившиеся вместе группы, то обрушат на нас такой огонь, что нам не поздоровится.
– Вперед, – показал я направление и крикнул, заставив вскочить бывшего замполита: – Бегом!
Они побежали. Рядом с Аркадием Раскиным маячил долговязый уголовник Самарай. Но потерянное время сыграло свою роль. Упал один, другой штрафник, двое бросились на дно оврага, спасаясь от пулеметных очередей. Раздался глухой взрыв противопехотной мины, боец ворочался и звал на помощь, у него была оторвана ступня.
Группа замерла, вжимаясь в обледенелый склон оврага. Покатился вниз еще один боец, угодивший под пулеметную очередь. Замполит растерялся. Внизу взорвались сразу две «противопехотки», а наверху звенели, набирая высоту, 50-миллиметровые мины.
– Чего они медлят, мля! – с руганью вскочил Федор Ютов и побежал по склону оврага.
Я поднял остальных бойцов. Люди бежали неохотно, кто-то явно медлил. Отставших подталкивал сержант Никита Рогожин. По оврагу уже двигалась целая толпа. То в одном, то в другом месте падал убитый или раненый.
– Быстрее! – торопил я бойцов.
Пули били о ледяной склон, но спускаться на дно оврага уже никто не рисковал. Мины, закопанные в снегу, и двое искалеченных, истекавших кровью бойцов казались страшнее пулеметных очередей. Мы выскочили наружу, оставив в этом проклятом месте не меньше десятка погибших и тяжелораненых.
Люди бросались в старые окопы, воронки, кто-то прятался за разрушенным домом. Немцы пытались нас опередить. Навстречу бежало отделение во главе с унтер-офицером. Пулеметчики вели огонь на ходу из скорострельного «машингевера» МГ-42 и легкого чешского пулемета «зброевка».
Огонь в упор, с расстояния полусотни шагов, стал бы для нас губительным, промедли мы еще хотя бы минуту. Но большинство бойцов уже залегли и стреляли в ответ. Из числа тех, кто промедлил, упали, срезанные пулями, пять-шесть человек. Однако эти потери уже ничего не решали.
Обозленные штрафники, преодолевшие под пулеметным огнем открытое поле и простреливаемый насквозь овраг, напичканный минами, наконец столкнулись лицом к лицу с врагом. Винтовочные и автоматные пули выбивали немецкое отделение, а когда унтер-офицер дал команду залечь, в их сторону полетели гранаты.
Ближе всех ко мне оказался расчет пулемета «зброевка» с магазином наверху. Немец в грязно-белой маскировочной куртке и массивной каске повернул ствол чешского пулемета в мою сторону. Я нажимал на спуск, но никак не мог попасть в него – наверное, не пришел в себя после быстрого бега.
У пулеметчика опустел магазин. Второй номер, выщелкнув его, мгновенно вставил новый. Спасибо за передышку, сволочи! Скорострельность ППШ – шестнадцать пуль в секунду. Я выпустил остаток диска двумя очередями. Пулеметчики еще шевелились, но в них стреляли из винтовок Петр Кузовлев и Зиновий Оськин, лихорадочно передергивая затворы.
Федор Ютов бросил гранату, взрыв опрокинул «зброевку». Я тоже швырнул обе свои РГД-33. Немецкое отделение, наполовину выбитое, огрызалось огнем МГ-42 и тоже бросало гранаты. Командир взвода Трегуб вместе со своим помощником-сержантом стреляли из автоматов и заставили уцелевших немцев попятиться назад.
Мы могли бы добить отделение, не подставляясь под пули, но у кого-то не выдержали нервы:
– Чего отлеживаетесь? Добьем сволочей!
– До траншеи пять шагов!
Тщетно пытался остановить поднявшихся навстречу пулеметам людей танкист Федор Ютов. Отделение фрицев было растоптано, добито, а штрафники с ревом бежали к траншее, до которой оставалось более ста метров. Был вынужден бежать и я, понимая, что расстояние слишком велико и нас всех уничтожат.
Надобности в этом бездумном рывке не было. Мы имели возможность вести наступательный бой перебежками, и у нас имелись все шансы добиться успеха. Но все полетело кувырком. Сыграли свою роль отчаяние, выпитый спирт, сдавшие у многих нервы. Сейчас мы добьем этих крыс, зажатых в кольцо и не желавших сдаваться!
Не в ту сторону сработала примитивная пропаганда политработников, которая изображала солдат 6-й армии Паулюса как оборванных, слабых духом недобитков, трусливо прятавшихся в подвалах разрушенного Сталинграда. Это было не так.
Почуяв опасность, немцы в траншее быстро перегруппировались. Сдаваться никто не собирался. Навстречу ревущей толпе ударил пулемет и не меньше десятка автоматов. На бруствер подняли старый кайзеровский пулемет МГ-08 (похожий на наш «максим»), и он заработал, как швейная машинка, рассыпая сплошную строчку пуль.
Подтянули еще один МГ-42, который сразу уложил на снег не меньше десятка бегущих впереди штрафников. «Пила Гитлера» скорострельностью двадцать пуль в секунду наделала бы беды, но Валентин Дейнека открыл огонь из «Дегтярева». Опытный пехотный командир владел ручным пулеметом умело. Очереди перехлестнули бруствер, отбросили первого номера, звякнули по металлу, разбивая кожух МГ-42. Бегущие к траншее бойцы залегли.
Еще с полчаса продолжалась перестрелка, пока остатки первого и второго взвода не укрылись в воронках, старых окопах, среди развалин сгоревших домов.
Мы сумели этим отчаянным броском приблизиться к траншеям еще метров на тридцать. Примерно два десятка убитых и тяжелораненых бойцов остались на снегу. Тех, кто еще шевелился, добивали выстрелами из траншеи.
У оставшихся в живых почти не оставалось патронов. Стреляли редко и, матерясь, обещали:
– Ужо на штыки всех насадим!
– Недолго вам жить осталось, морды фашистские…
– Сталинград хотели взять! Здесь и останетесь.
Но я видел, что это не больше чем размахивание кулаками после неудачной попытки завершить бой одним ударом. Мы понесли новые потери, нас зажали на узкой полосе пулеметным огнем, а ответить было нечем – патронов осталось мало, особенно к ППШ и единственному уцелевшему «Дегтяреву».
Но нервы не выдерживали и у немцев. Наш неожиданный отчаянный рывок их крепко встряхнул. Они продолжали беспорядочную стрельбу, грозили нам расправой и матерились на ломаном русском.
Однако обе стороны чувствовали – развязка приближается. Снова приходили в себя штрафники, шарили в снегу и в подсумках погибших, разыскивая патроны. Усиливалась и снова рвалась наружу злость. Особенно когда мы видели суету в немецких траншеях. Понеся потери, там спешно латали дыры в обороне.
Уносили убитых и раненых, набивали ленты и магазины, а временами швыряли в нашу сторону гранаты с длинными ручками. Они взрывались с недолетом, но, видимо, отчасти снимали напряжение у обороняющихся.
– Поиграйтесь напоследок, – цедил сквозь зубы Федор Ютов, тщательно протирая патроны и загоняя их в казенник винтовки.
Убили Петра Кузовлева. Рядового штрафной роты, который после своей гибели автоматически восстанавливался в прежнем звании. Родным пойдет сообщение, что лейтенант Петр Анисимович Кузовлев погиб в бою с немецко-фашистскими захватчиками и похоронен в братской могиле на юго-западной окраине станции Воропоново Сталинградской области.
В этом сообщении ничего не будет сказано о том, что Кузовлева судил военный трибунал и воевал он в штрафной роте. Искупил вину кровью, и больше в его грехах копаться никто не станет.
В разных местах лежали несколько тяжелораненых бойцов. Троих мы сумели вытащить и перевязать. К другим приблизиться было невозможно. Их добивали одного за другим пулеметными очередями. В воронку заполз молодой лагерник с перебитой ногой и, стоная от боли, звал приятеля:
– Шмон, помоги… слышь, Серега.
Так я узнал, что вокзального вора по кличке Шмон зовут Сергей. Он сопел и беспокойно оглядывался по сторонам. Его просил о помощи товарищ, с кем он пробыл не один год в лагере. Но ползти к воронке было опасно, Шмон сам мог угодить под пулю. Чтобы как-то оправдаться перед «братвой», он выставил ствол автомата и дал пару очередей в сторону траншеи.
В ответ заработал пулемет, а Самарай с досадой бросил:
– Не кипешись. Если ссышь дружка спасти, нечего лишний шум поднимать.
– Тут не подлезешь, – оправдывался Шмон. – Фрицы в момент пришьют.
– Ну и лежи тогда молча.
Никита Рогожин поймал на мушку особо активного пулеметчика. Звонко хлопнул выстрел, звякнула пробитая каска. Нам ответили длинной беспорядочной очередью, и снова наступила временная тишина.
У Зиновия Оськина пуля вырвала клок телогрейки из рукава и слегка задела плечо. Словно полоснули ножом. Когда его перевязывали, он окликнул меня:
– Товарищ капитан, я ранен.
Трегуб, лежавший вместе с нами, буркнул:
– Тут капитанов нет, а у тебя не рана, а царапина. Почисть винтовку, она снегом забита.
Сам лейтенант заряжал автоматный диск. Перехватив мой взгляд, протянул горсть патронов:
– Подзаряди ППШ. Диск, наверное, полупустой.
– Спасибо.
Я снял крышку диска и вложил десяток подаренных патронов.
– Возьми еще, – протянул вторую горсть лейтенант Трегуб. – Помощник коробку на сто штук прихватил. Запасливый парень.
– Поделись с Валентином Дейнекой, – коротко ответил я.
– А как же, – кивнул Трегуб.
Наш взводный менялся на глазах. Просто отец родной стал, когда оказался среди штрафников в ста метрах от немецкой траншеи.
Шмон тоже проверил свой диск. Там оставались два или три патрона. Самарай перехватил его растерянный взгляд и насмешливо спросил:
– Расстрелял все пули, пока дружка спасал? Вон винтовка валяется, бери ее. Штыком будешь работать.
Винтовка оказалась с полной обоймой в казеннике. Оставшиеся автоматные патроны Шмон отдал мне. Я сказал «спасибо» и угостил его махоркой.
– Скорее бы все кончалось, – тоскливо проговорил штрафник. – Когда атаковать будем, товарищ комбат?
Я заметил, как недовольно дернулось лицо взводного Трегуба. Он терпеть не мог, когда меня называли комбатом или капитаном.
– Когда прикажут, – огрызнулся лейтенант, забывая, что он здесь старший и решать вопрос о наших дальнейших действиях надлежит ему.
Немцы снова попытались закидать нас минами, но командир полка, за которым мы были закреплены, приказал открыть ответный огонь из 120-миллиметровых минометов, и фрицы замолчали.
Наверное, подполковнику было жалко расходовать дефицитные тяжелые мины, чтобы выручать штрафников во время лобовой безнадежной атаки. Но эти отбросы (дезертиры, разжалованные командиры, самострелы, уголовники) сумели сделать, казалось, невозможное – приблизиться на сто метров к немецкой траншее. А значит, надо было пересмотреть ситуацию и на всякий случай поддержать штрафников.
В первом и втором взводе осталось всего человек семьдесят и единственный уцелевший офицер, лейтенант Трегуб. Но эти семьдесят бойцов опасно нависли над левым немецким флангом. Если подбросить им людей из третьего и четвертого взвода, подкинуть боеприпасов и гранат, то капитан Олейников имеет все шансы сделать последний бросок и завязать ближний бой.
А там можно выделить в помощь одну-две роты из состава полка. Правда, в них осталось по 30–40 человек, но они поставят точку в затянувшемся штурме. А докладывать об успехе в штаб дивизии будет подполковник, это его люди пробились на станцию.
Однако время работало против нас. В любой момент на наш «плацдарм» могла обрушить огонь артиллерия или минометы из глубины немецкой обороны. От пулеметов мы были пока защищены, но что, если фрицы подтянут хотя бы пару-тройку полевых орудий и дадут несколько залпов бризантными снарядами? Взрываясь на высоте полусотни метров, они выкосят осколками оба наших взвода за считаные минуты – укрытий от такого огня у нас нет. Словно догадавшись о моих мыслях, Федор Ютов толкнул меня локтем:
– Отдышались и будя. Надо что-то предпринимать, пока сверху шрапнель не посыпалась. А еще фугасные огнеметы могут подвезти. За сто метров они нас живьем поджарят.
– Всю огневую смесь немцы при штурме Сталинграда использовали, – поспешно возразил Аркадий Раскин. – У них с боеприпасами туго.
– А чем же они атаку стрелкового полка отбили? – усмехнулся танкист. – И половину нашей роты угробили. Шапками, что ли, закидали? Слышь, Трегуб, надо что-то делать. Ты вроде посыльного к начальству отправлял. Поторопиться надо.
– Должен ответ прийти, – отозвался лейтенант.
– Ответ – привет… Кто-то должен всю роту поднять, бойцов из полка в помощь подбросить. Подождем еще с четверть часа, и комбат Гладков пусть команду отдает. Я гляжу, кроме него, людей поднимать в атаку некому.
Удивительно, но Трегуб промолчал. Только беспокойно ворочался наш бывший замполит Раскин. Он неплохо разбирался в оружии и знал, что немецкий фугасный огнемет способен за считаные секунды обрушить на нас двадцать литров горящей смеси, которая плавит металл. А если огнеметов будет несколько? Страшно представить, как мы будем гореть живьем.
– Не осталось у фрицев таких огнеметов, – пробормотал он. – Ерунда все это.
Я посмотрел на часы. Мне их оставили, когда забирали документы, награды и снимали капитанские «шпалы» с петлиц. Оставили только нашивки о ранениях и вот эти часы. Время приближалось к двенадцати, а казалось, прошел целый день.
– Если не дождемся ответа, то минут через двадцать продолжим атаку, – сказал я, обращаясь к Федору Ютову и Валентину Дейнеке.
– Может, рывком? – предложил мой старый товарищ Валентин Дейнека. – К «Дегтяреву» два диска имеются, и еще пяток хороших стрелков откроют огонь. А мы кинемся прямиком.
– Вряд ли получится. Вон бронеколпак, а там МГ-42. Его не заткнешь.
– Бронебойное ружье есть.
– К нему всего семь патронов. Да и «Дегтярев» не выход из положения. У фрицев оптика, сметут они его вместе с расчетом. Хорошей поддержки для рывка не получится. А перебежками и ползком, если не телиться, мы за десяток минут к траншеям метров на тридцать приблизимся. Гранат хоть и мало осталось, но оглушить фрицев хватит, а там только вперед в штыковую.
– Пожалуй, – согласился Ютов. – Самарай, следи за своими, чтобы никто в нору не забился.
– За собой последи, – огрызнулся долговязый уголовник. – Мои не побегут. Кто струсит, лично пристрелю.
– Крутой пахан…
Весь этот разговор шел без участия лейтенанта Трегуба. Взводный не выдержал:
– Старший здесь я.
– Никто и не спорит, – засмеялся Самарай. – Без старшего никак нельзя. И что решили, гражданин лейтенант, с какого боку нас подгонять будете? Или сами взвод поведете в атаку?
– Поведу, – запальчиво отозвался Трегуб.
– Страшно под пулями бежать. Хорошо, если один из трех уцелеет, а может, и все здесь поляжем… геройски!
Последнюю фразу произнес ближайший подручный Самарая, уголовник Шмон. Срок у него был лет десять, не меньше. Его заменили на три месяца штрафной роты. Неподъемный срок для штрафника. Если не получит ранения, которое автоматически освобождает его, то прожить эти три месяца мало кому удается. Кажется, Серега Шмон хлебнул рома или спирта из трофейной фляжки и теперь рвется в бой. Тоже не выдерживают нервы.
Из бронеколпака заработал МГ-42, затем ударили два-три легких миномета. Мины одна за другой набирали высоту и взрывались вокруг нас. Тяжело ранило бойца, и его спешно перевязывали.
– Началось, – смахивая снег с винтовки, сказал Федор Ютов. – Готовимся, так, что ли, Василий?
Он вопросительно смотрел на меня. Из укрытия высунулся ствол еще одного пулемета. Третий, станковый МГ-08, ровесник Первой мировой войны, словно разминаясь, дал длинную, довольно точную очередь. Сложно будет одолеть сто метров под таким огнем. Только нет другого выхода.
– Приготовились, – негромко скомандовал я. – По моему сигналу поднимаемся.
В старый, довольно просторный окоп, уходя от пуль, торопливо скатывались бойцы, облепленные снегом. Среди них я с удивлением разглядел командира штрафной роты капитана Олейникова.
С ним вместе были пять или шесть бойцов и сержантов, нагруженные вещмешками и ящиками. Людям по цепочке раздавали патронные обоймы, разнокалиберные гранаты: РГД-33, «лимонки» и даже трофейные «колотушки», удобные для дальнего броска.
Олейников рассматривал траншею, одновременно слушая доклад взводного Леонида Трегуба.
– Вы с Гладковым, что ли, вместе командуете? – перебил его капитан.
– Сержант Дейнека тоже опытный командир, – ответил лейтенант. – Положение такое, что готовимся к атаке вместе. Разбились на группы, каждая знает свою цель.
– На глазах растешь, товарищ лейтенант, – усмехнулся Олейников.
Взорвались еще несколько мин подряд, а капитан достал ракетницу. Взводя курок, кивнул бронебойщику:
– Надо бронеколпак заглушить. В амбразуру попадешь отсюда?
– Попробую.
– Тогда открывай огонь, не жди ракеты.
Бронебойщик, имя которого я не запомнил, свое дело сделал. Сумел вложить пулю в узкую амбразуру. Пулемет минуты три молчал, давая нам возможность делать быстрые перебежки. Но второй МГ-42 перехлестнул бронебойщика сверкающей трассой, опрокинул противотанковое ружье.
Крепко помог нам сержант Никита Рогожин, опытный пулеметчик. Продырявил из «Дегтярева» в нескольких местах кожух кайзеровского МГ-08, установленного на треноге. Ожившая «пила Гитлера» из бронеколпака накрыла сержанта, он упал на дно окопа с пробитым плечом.
Но мы добились с самого начала главного – вывели из строя два немецких «машингевера». И хотя МГ-42 вскоре заработал снова и не замолкал еще один пулемет, мы сумели пробежать метров сорок и снова залегли под сильным огнем.
Навстречу неслись трассы двух скорострельных МГ-42 (один был укрыт в бронеколпаке), вели огонь автоматы, винтовки. Это был какой-то сумасшедший огонь в упор. Мы слышали лязганье затворов и звон отстрелянных гильз, голоса наших врагов, команды немецких офицеров и унтеров. Из глубокой траншеи удобно бросать гранаты, и «колотушки» взрывались, не долетая до нас метров десяти-пятнадцати.
– Огнеметы, – повторял лежавший рядом со мной замполит Раскин. – Мы бы их выжгли как крыс.
Он словно зациклился на огнеметах, опасаясь, что немцы сожгут его живьем. Между тем, уложив нас в снег, из траншеи расстреливали третий и четвертый взвод, которые бежали по полю. Зачем их подняли прямо на пулеметы? Или мы не умеем по-другому воевать?
– Они отвлекают, – кричал мне, как глухому, капитан Олейников. – Василий, возьми свою группу и проползите еще немного. Гранаты…
Очередь взметнула фонтан снега. Мелкие кусочки льда хлестнули в лицо командиру роты. Олейников кашлял, зажимая щеку ладонью. Между пальцев текла струйка крови.
– Леня… Трегуб, слышишь меня? Ползите вместе с Гладковым. Упустим время – нам конец.
Мы проползли двадцать шагов под огнем, оставив половину группы на окровавленном снегу. Приподнимаясь с «лимонкой» в руке, я перехватил взгляд немца. У него было темное от копоти лицо и блестящие белки глаз. Он перезаряжал автомат. Чтобы спастись, мне надо было побыстрее швырнуть «лимонку» с выдернутым кольцом и первому открыть огонь из своего ППШ. Не успею…
– Жрите, суки!
Позади длинной очередью ударил взводный Трегуб. Немец с автоматом исчез, а я бросал одну за другой «лимонки», увесистые РГД-33 и новые легкие РГ-42, похожие на консервные банки. В двух шагах от меня умело и быстро швырял гранаты Федор Ютов. Летели гранаты слева и справа. Некоторые взрывались совсем рядом, бойцы не успевали как следует размахнуться.
Нас неплохо поддерживали автоматными очередями лейтенант Трегуб и его помощник сержант. Замполит Раскин неловко приподнялся для очередного броска, пуля угодила в руку, а увесистая РГД-33 упала в снег.
Аркадий, не сводя с нее глаз, отползал, отталкиваясь здоровой рукой. Мы знали друг друга давно. Замполит не отличался особой смелостью, но порой удивлял нас, кидаясь в гущу боя. Его никто не заставлял ползти со мной, да и гранаты он толком бросать не умел. Но батальонный комиссар не захотел отстать от своего комбата.
– Прощайте!
Взрыв подбросил его тело все в той же несуразной длинной шинели, а мимо нас уже бежали, стреляя на ходу, остальные группы.
Мы тоже вскочили, человек пять уцелевших гранатометчиков. Аркадий Раскин лежал в разорванной шинели, снег под ним растаял от вытекшей крови. Федор Ютов зажимал пальцами пробитую правую руку. Перехватив мой взгляд, крикнул:
– Бегите, пока фрицы не опомнились.
В траншее шел рукопашный бой. Валентин Дейнека, опустошив диск ППШ, ударил прикладом немецкого пулеметчика. Приклад разлетелся в щепки, а рослый фриц попытался схватить лейтенанта за горло. Дейнека свалил его сильным ударом казенника под каску и поднял валявшуюся под ногами винтовку.
Штрафник из третьего взвода умело орудовал штыком. Заколол одного немца, кинулся на унтер-офицера. Тот стрелял в бойца из «вальтера», угодил двумя или тремя пулями, но штык пронзил его насквозь. Боец выпустил из рук винтовку и, шатаясь, побрел прочь, зажимая ладонью раны.
Обер-лейтенант в теплой куртке стрелял из автомата и одновременно подавал команды. Его свалил очередью из ППШ лейтенант Трегуб. Уголовник Шмон не рвался вперед, но его подтолкнул Самараев:
– Воюй, мать твою!
Сергей Шмон (я так и не узнал его настоящую фамилию) неумело ткнул штыком возникшего перед ним немецкого солдата. Тот без труда отбил удар стволом своего карабина, но когда прицелился в уголовника, Шмон с криком бросился на немца и снова ударил его штыком. Пуля, выпущенная из карабина, опрокинула штрафника на груду стреляных гильз.
Немец выдернул штык, пробивший ему шинель, но Самарай выстрелил в него в упор и отступил к стенке траншеи – он не хотел кидаться в гущу боя.
Из бронеколпака ударил быстрыми очередями МГ-42. Его расчет пытался отрезать штрафников от пятившихся в глубину траншеи немецких солдат. Капитан Олейников стрелял в амбразуру из своего ППШ. Когда закончился диск, скомандовал:
– Гладков, возьми людей и взорвите его.
Меня охватила злость.
– Мое отделение перед траншеей осталось, пока гранатами фрицев выбивали. Вон, в снегу лежат.
Олейников смотрел на меня в упор сузившимися от злости глазами. Лицо, избитое осколками льда, было окровавлено, он дергал кобуру и никак не мог вытащить пистолет. Атака, в ходе которой мы уже ворвались во вражескую траншею, приостановилась. Ротный искал виновных и готов был застрелить любого.
Меня потянул за руку Валентин Дейнека:
– Обойдем колпак с тыла. Ребята гранатами поделятся.
К нам присоединился Зиновий Оськин. Мы побежали к бронеколпаку втроем. В горячке я не учел, что кроме амбразуры в броне имеются два смотровых отверстия по бокам. Из одного высунулся ствол автомата. Длинная очередь сбила с ног Зиновия Оськина, мы с лейтенантом успели броситься лицом в снег.
Одновременно швырнули две гранаты. Автомат замолк, Зиновий с перебитой кистью руки тянулся к нам:
– Перевяжите… кровью истеку.
Разрезав ножом телогрейку, мы туго затянули жгут повыше раны. Кисть болталась на клочках кожи, но оказать нашему товарищу еще какую-то помощь мы не имели возможности – надо было спешно уничтожать бронеколпак.
– Зиновий, лежи и не поднимай голову. Скоро все кончится, мы вернемся за тобой.
Массивный бронеколпак, который вел огонь, возьмет не всякий снаряд. Толщина брони как у среднего танка, а пулеметный расчет из двух человек может вести огонь в любую сторону. По крайней мере, из автоматов. Мы подползли шагов на пятнадцать. Немецкий автоматчик, которого мы не добили, открыл огонь, и мы едва успели нырнуть в воронку.
– Валентин, прикроешь меня, я попробую подобраться поближе.
Лейтенант замялся:
– Не годится, чтобы комбат под пули лез. Давай я поползу.
– Некогда спорить. Нет здесь комбатов… одни штрафники.
В узкой амбразуре билось пламя самого скорострельного пулемета вермахта, продолжая сдерживать натиск нашей роты. Я выложил перед собой две гранаты РГД-33, взвел запалы. Теперь оставалось встряхнуть их и бросить под заднюю дверцу бронеколпака. Мне требовалось хотя бы оглушить расчет, а дальше будет видно.
В эту минуту из соседней воронки вынырнул немецкий солдат и побежал в мою сторону. Пригнувшись, держа наготове свой МП-40. Ничего не скажешь, грамотно умели делать перебежки немецкие пехотинцы, настороженно оглядываясь по сторонам. Сейчас он повернется ко мне и даст на бегу точную очередь. Да хоть и не точную. Магазина на 32 патрона хватит, чтобы изрешетить некстати подвернувшегося русского штрафника.
Меня спасло, что молодой рослый солдат больше смотрел в сторону траншеи, куда он бежал на помощь своим камрадам. Он заметил меня, когда я швырнул в его сторону гранату, а следом вторую. Солдат, спасаясь от осколков, бросился в снег. Но уйти от двух шестисотграммовых гранат не сумел. Тело подбросило, полетели клочки шинели.
А я, не раздумывая, уже бежал к бронеколпаку. Открылась задняя дверца, показался ствол автомата и утепленное кепи с козырьком. Старый товарищ Валентин Дейнека помочь мне не мог – он не видел немца. Я стрелял на бегу, мазал, пули звенели и рикошетили от брони. Немец, так и не выстрелив, снова заполз внутрь.
А я добежал наконец до бронеколпака. Привалился к нему всем телом, приходил в себя, тяжело дыша и ощущая, как громко бьется сердце. Из отверстия в дверце ударила автоматная очередь, пламя обожгло щеку. Надо было спешить. У меня оставалась «лимонка», но пулеметная амбразура уже закрылась.
Чертовы фрицы спрятались от меня за броней, прикрыв все смотровые щели. Но долго они выжидать не будут, зная, что у русского смертника может иметься в запасе бутылка с горючей смесью. Я дал очередь в смотровую щель. Заслонка слегка прогнулась, но собственная пуля, отрикошетив, полоснула меня по щеке.
У автомата ППШ сильные маузеровские пули, способные достать врага за километр. Я долбил заслонку торопливыми короткими очередями. Заработал еще один рикошет в правую руку, а когда пробил наконец отверстие, увидел, как из задней дверцы снова вылезает немец с окровавленным лицом.
– Жри, гадина! – кричал я, но диск опустел, и затвор щелкал вхолостую.
Меня выручил Валентин Дейнека, подбежавший к бронеколпаку и открывший огонь в упор. Затем он стащил с меня телогрейку, перевязал распоротое пулей предплечье, начал было бинтовать лицо, но я оттолкнул его:
– Не надо, там царапина. У тебя водка есть?
Сделал несколько глотков ледяной водки и снова закашлялся. Подошел лейтенант Трегуб, осмотрел колпак. Постучал по броне и стал было отстегивать часы с руки немецкого пулеметчика.
– Ты, что ли, пулеметчика уделал? – с вызовом проговорил Дейнека. – И пистолет тоже наш трофей.
Лейтенант Трегуб кивнул в знак согласия и, не споря, зашагал к траншее.
– Кончился бой? – спросил я Валентина.
– Кончился. А ты весь в крови. В санчасть бы надо.
В том бою из четырехсот бойцов и командиров нашей штрафной роты погибли сто девяносто человек. Около ста штрафников получили тяжелые ранения, многие умерли позже, в санбате. Таких, как я, с касательными ранениями или контуженных, набралось еще с полсотни. От роты осталось всего ничего, но другого и не ждали. Главное, мы взяли высоту, выбили немцев и дали возможность стрелковым частям продвигаться дальше.
Те, кто получили даже самые легкие ранения, были реабилитированы. Нам возвращали документы, награды, офицерам – отобранное при аресте личное оружие.
Вместе в Валентином Дейнекой мы навестили в госпитале Федора Ютова и Зиновия Оськина. Танкисту уже принесли его капитанскую форму с тремя орденами. В свою часть он сильно не торопился.
– На мою долю еще войны хватит. Батальон на переформировке, а я тут отдохну. Тем более с сестричкой близко познакомился.
Рядовой Зиновий Оськин, с ампутированной кистью руки, больше всего переживал, что вернется в свое село Девичьи Горки без единой награды. Танкисту Ютову надоело его нытье, и он пообещал:
– Есть у меня дружок в штабе дивизии. Попрошу, чтобы тебя к медали «За боевые заслуги» представили. Медаль броская – танки, самолеты. Покрасуешься перед своими земляками.
– А рука – это ничего, – сам себя успокаивал Зиновий. – Я и одной рукой девку обнять смогу, а работа в селе всегда найдется.
Мы неплохо выпили, а когда возвращались к себе, я сказал Валентину Дейнеке:
– Чего-то мы задержались среди штрафников. Пора в свой полк возвращаться. Козырев уже звонил, машину обещал прислать.
Лейтенант ничего не ответил, помолчал, затем негромко проговорил:
– Знаешь, Василий, я в штрафной роте остаюсь.
– Что случилось? – не понял я.
– Ничего. Олейников предложил мне должность заместителя командира роты.
У меня едва не вырвалось: «Ты что, сдурел, Валентин?» Но я сдержался, а лейтенант Дейнека неторопливо перечислял причины. В его голосе звучали нотки горечи.
– Кто я в нашем полку? Да никто! Курсант-недоучка. С августа сорок первого ротой командую, а как был лейтенантом, так им и остался. Наградами меня тоже не балуют, хотя воевал не хуже других. Два раза роту на три четверти выбивали, как жив остался, до сих пор не понимаю.
– Валентин, подожди, – пытался я успокоить старого друга. – Козырев к тебе хорошо относится, ценит.
– Ну и что с того? Возглавлю снова неполную роту, одна-две атаки – и кончится мое везение.
– У штрафников лучше, что ли? Я такой мясорубки еще не видал. Четыреста человек на пулеметы бросили. Бой пару часов длился, а в строю один человек из десяти остался. Братскую могилу целый день долбили. Да еще сколько от ран умерли.
– Ну и что? – упрямо мотал головой Валентин. – В стрелковом полку я тоже всего вдоволь нахлебался. А штрафная рота – это три-четыре сотни бойцов, считай батальон. Командовать я умею, ты знаешь. И за чужими спинами не прячусь. Здесь у меня самостоятельность, будем вместе с Олейниковым решать, как и что. Старшего лейтенанта он мне сразу обещал присвоить, и за бой под Воропоново к медали «За отвагу» представил. От нашего комполка Козырева хрен чего дождешься. Он ниже комбатов ни с кем не общается, да еще штабную шушеру ценит, которая ему задницу лижет.
Валентин Дейнека отчасти был прав, хотя не во всем справедлив. Нашего командира полка Козырева люди уважали. В обращении он был прост, и не его вина, что, возглавляя две тысячи бойцов и командиров, подполковник не всегда замечал заслуги хороших офицеров. Кого-то обходили наградами, не повышали долгое время в звании. Возможно, Валентина отодвигал в сторону наш бывший комбат Чередник, самолюбивый и временами заносчивый командир.
Из дальнейшего разговора я понял, что Дейнека принял это решение после долгих колебаний. Сыграли свою роль два обстоятельства. Штрафная рота потеряла в бою под Воропоново половину штатных командиров, и Олейников остро нуждался в пополнении. Однако идти к нему не очень-то рвались, несмотря на льготы: повышенные должностные звания, один день службы засчитывался как шесть дней, существенные надбавки к денежному содержанию. Да и насчет наград в штрафной роте не скупились.
Энергичного и решительного лейтенанта Дейнеку капитан Олейников приметил сразу. В бою, хоть Валентин шел впереди, он избежал даже легкого ранения – повезло. Таких штрафников набралось человек сорок. Их судьбу решал Олейников. Если человек «не смыл вину кровью», капитан имел полное право оставить бойца в роте до конца определенного срока. И даже продлить этот срок тем, кто вел себя в бою нерешительно или проявил трусость.
Иван Трофимович Олейников был простым человеком, доброжелательным к людям. Несколько штрафников он освободил за смелые действия в бою, хотя они не получили ранений. Но лейтенанта Дейнеку придержал и сумел уговорить остаться в роте. Оставил он и двух опытных сержантов, у которых оставался большой срок. Поставил условие:
– Или рядовыми штрафниками в следующую атаку пойдете, или возглавите отделения, как полноправные младшие командиры Красной армии. Кстати, на обоих я подготовил представления к медалям «За боевые заслуги». Если и дальше так воевать будете, представлю к орденам.
Сержанты помялись. Поняли, что другого выхода нет, и дали согласие.
Вор в законе Самараев был оставлен в штрафной роте для дальнейшего отбытия срока. Он не получил ранения, да и действовал в основном с оглядкой, выталкивая вперед рядовых уголовников.
– Я фашиста в бою убил, – с вызовом проговорил он. – Это что, мало?
– Мало, – коротко ответил капитан Олейников.
Как ни хитрил бывалый «пахан», но понял, что его не отпустят, а заставят воевать. Посчитав себя несправедливо обиженным, Самарай напился и грозил:
– Ну, я вам навоюю! Кое-кто пожалеет, что со мной связался.
Его вызвал к себе особист Стрижаков и пообещал:
– Еще раз ляпнешь угрозу в чей-нибудь адрес, здесь и закопаем.
Самарай сообразил, что с ним церемониться не станут, и примолк.
Морозным февральским днем я покинул штрафную роту. Командир полка Козырев, как и обещал, прислал за мной машину. Я попрощался с ребятами, обнялись с Валентином Дейнекой и Иваном Олейниковым. Мы уже знали, что 6-я армия Паулюса капитулировала. По дорогам вели колонны пленных, двигались наши войска.
Настроение было приподнятое. Но я отчетливо понимал, что хотя Красной армией одержана крупная победа, до конца войны еще далеко.



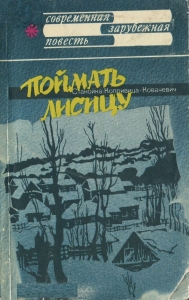



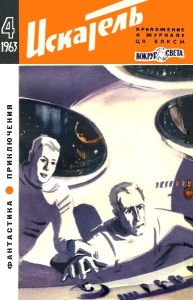


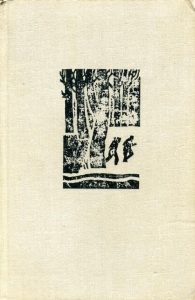
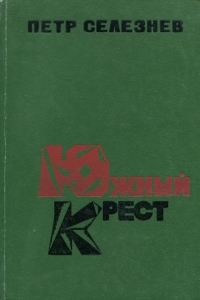


Комментарии к книге «Я прошел две войны!», Владимир Николаевич Першанин
Всего 0 комментариев