Александр Листовский Калёные тропы
Боевым соратникам —
бойцам и командирам
Первой Конной армии —
в день тридцатилетия.
Часть первая
I
Быстрой, уверенной походкой в хату вошел худощавый человек среднего роста, по виду командир, в длинной, до шпор, кавалерийской шинели. Черная с малиновым верхом папаха, заломленная набок и примятая спереди, открывала его полное жизни, смелое, молодое лицо с прямым крупным носом и пышными черными усами.
— Здорово, хозяин! — высоким голосом сказал он, щуря блестящие зеленоватого оттенка глаза на сидевшего у окна лысого деда в старых с лампасами казачьих шароварах.
— Здравствуйтя, — выжидающе сказал дед, подбирая под себя ноги, обутые в валенки, и опасливо косясь на живого и ловкого в движениях командира, который подошел к столу и быстро, но без суеты, снимал с себя маузер в деревянной лакированной кобуре и висевший на ремешке через шею бинокль.
За окнами, где в мглистых сумерках моросил мелкий дождь, слышался конский топот, звуки перекликающихся голосов, стук и дребезжание колес.
Дед осторожно глянул в окно. По улице сплошной колонной шла конница. Во двор въезжала запряженная тройкой тачанка.
Боец в бурке прилаживал у палисадника надетый на пику кумачевый значок.
— Ты что, отец, иль испугался? — спросил командир. Он снял шинель, положил ее на лавку и, подойдя к старику, внимательно посмотрел на него. — Я вижу, кто-то тебя напугал. А? Правильно я говорю?
Дед нерешительно повел худыми плечами.
— Да ить как сказать… — засипел он уклончиво, для храбрости покашляв в сухую ладонь. — Ноне время такое — хочь кого опасайся. Не знаешь, какую с кем обращению иметь. — Он помолчал и поднял на командира мутноватые со слезинкой глаза под густыми, как мох, седыми бровями. — Вы, начальник, кто будетя — красные аль белые? Вы извиняйте, что спрашиваю, а то бывает, иного не так обзовешь, а он зараз до морды кидается. Да. Старики-то ноне не дюже в почете.
— Красные мы, красные, отец, — улыбаясь в усы, сказал командир. — Ты не бойся, я правду говорю. И стариков мы очень даже уважаем.
— Красные, значится! Ну что ж, в час добрый, ежели верно гутарите, — заговорил дед, осмелев. — А вот надысь тоже конные заезжали, ночевали. Молодые ребята. Потом оказалось — юнкиря. А по одежде красные. Разведка, должно. Я возьми да и обзови их товарищами. Так они давай меня кастерить! И туды и сюды. Я шумлю: драться нельзя. А они смеются: это, мол, у красных морду отменили, а нам и бог велел… Да… — Дед поднял руку, болезненно морща худое в глубоких морщинах благовидное лицо, потрогал тощий затылок. — Вот и досе шею… ох!.. довернуть до места не могу. Видать, они, нечистая сила, главную жилу у меня повредили…
— Рано уехали?
— Кто?
— Да разведчики эти?
— Ищо не светало… А ночью у них тревога произошла. Какие-сь конные в станицу набегли, давай под окном стучаться. Ну, а эти-то, юнкиря, которые тут в горнице спали, повскакали и всё промеж себя Буденного поминали. Видать, они его дюже боятся.
— Так, говоришь, они Буденного боятся?
— Упаси бог!.. Они ить разобравшись спали. Так один со страху заместо шаровар гимнастерку надел. А другой в окно вдарился бечь. Ажник всю морду окровянил. Пришлось вот теперя окно подушкой заткнуть.
— А ты, отец, Буденного знаешь?
— Видать не видал, а дюже интересуюсь, — заговорил старик, оживившись. — Много про него наслышан. Геройский командир. Семен Михайловичем звать. Из генералов. А только при старом режиме служба ему не везла. Обратно сказать, ходу ему не давали. Потому что за простой народ крепко стоял. Он, видишь, в Петрограде полком командовал и в пятом году отказался на усмиренье выступить. По такому случаю царь с им поругался. Было, у них до драки дошло. Ну и…
Командир взялся за бока и громко расхохотался.
— Ну и ну! — сказал он, утирая ребром ладони проступившие слезы и подправив усы. — Да-а… Это кто ж тебе такое сбрехал?
— Старики промеж собой толковали… Да и наши усть-медведицкие казаки, которые у него служат.
— Ну, старики-то еще куда ни шло, а служилые казаки вряд ли. Они его хорошо знают. Скорей всего эти слухи сам Мамонтов распустил. Ему-то неловко, что его красные бьют, — твердо сказал командир с видимым неудовольствием, хмуря широкие черные брови. — Врут! Все это врут, отец, про Буденного. Никакой он не генерал, а самый обыкновенный мужик. Станицы Платовской. А служил он в драгунском полку вахмистром.
— Ну да! — обиделся дед. — Он, видать, где-сь тебе дорогу переступил, что ты такие слова выражаешь. Вахмистром! Да я сам когда-сь вахмистром был.
— Да ну!
— Вот те и ну! — Дед поднялся и распрямил спину, причем оказалось, что он высок ростом и широк в костях. — Вахмистр первой сотни Третьего донского имени Ермака Тимофеевича казачьего полка Харламов Петр Лукич! — лихо просипел он, весь подтянувшись и выкатывая с красными прожилками мутные глаза. — Ты, товарищ командир, не гляди, что у меня один шкилет и шкура остались, — продолжал он с азартом. — Я, как был молодой, пять с половиной пудов весил. Ажник бугай. Эх, ну и лихой казак был! Геройский. Под Карсом с турками воевал. Эрзерум брал. Сколько крестов-медалей имел! На весь полк разведчик и рубака был. Меня сам турецкий главнокомандующий Мухтар-паша знал, грозился: я, мол, Петрушку Харламова поймаю — с его шкуры барабанов понаделаю… — Лукич задумался и поник головой. — Да, было делов… Лихую жизню прожил. Есть чего вспомнить. А теперь и помирать пора. Девятый десяток пошел. В чужой век зажился. Мне на том свете черти, небось, давно аппель[1] трубят. Я ить, товарищ командир, на всю станицу один такой остался. За прошлый, семнадцатый год последний мой односум[2] помер. Вместе Мухтар-пашу воевали…
Старик замолчал и тяжко вздохнул.
Командир с ласковой улыбкой смотрел на него.
— Ничего, Петр Лукич, еще поживем, — сказал он задушевно. — Ты вот что… Да, а где твоя хозяйка?
— Нема хозяйки. В подводах. Кадеты как выбирались, забрали с собой. А чего тебе хозяйка занадобилась?
— Самоварчик бы надо поставить.
Лукич с пренебрежением пожал плечами:
— А на кой нам хозяйка? Разве мы без нее не управимся? Эка делов!
Он отошел к печке, нагнулся и дрожащей рукой с тонкими черными пальцами взял пустое ведро.
В сенцах послышались шаги, дверь приоткрылась, и появился молодой, лет тридцати, рябоватый боец в брезентовом дождевике и черной кубанке. Он остановился у порога и стал зябко потирать большие красные руки.
— Ну, как кони, Федя? — спросил командир.
— В полном порядке, Семен Михайлович. Соломы наложил — как на перине спят. А седла…
Буденный быстро оглянулся. Дребезжа и подпрыгивая, по полу катилось пустое ведро.
Лукич, раскрыв рот, ошалело глядел на него.
— Бо-оже ж мой! — вдруг воскликнул он, всплеснув худыми руками. — Семен Михайлович! Так как жэ это?! — Он поглядел на Федю и покачал головой: — Как я, старый хрен, такого человека не признал?!
Буденный подошел к старику и дружески похлопал его по плечу.
— Ничего, Петр Лукич, всяко бывает. А в том, что ты меня не узнал, твоей вины нет.
— И не серчаете на меня, Семен Михайлович?
— Нет!
— Ну, спасибочка… А я ведь зараз всего вам и не сказал, все сомневался: сынок мой у вас служит в девятнадцатом полку, в четвертой дивизии. Младшенький. Степкой звать. С той войны его не видал. Точь-у-точь на меня похожий, как я смолоду был… Старших-то у меня ищо в германскую поубивали… Ах, Семен Михайлович, и как это я доразу… — Лукич закрутил головой, потом нагнулся и поднял ведро. — Слышь, сынок! — обратился он к ординарцу. — Тебя, кажись, Хведором звать? Добежи, Хведя, до колодца, воды почерпни. У тебя ноги-то молодые. Зараз самоварчик наставим. А я пока в пече пошукаю. У меня там рыбка есть. Ну и ищо найдем кое-чего…
Лукич засуетился, хлопоча по хозяйству, молодо заходил по хате, слазил в печь, в чулан и уже хотел было просить дорогого гостя за стол, как в дверь постучали и чей-то басистый голос спросил разрешения войти.
Держа подмышкой папку с бумагами, вошел начальник полевого штаба Зотов — невысокий, кряжистый человек с худощавым лицом. Остро подкрученные рыжеватого оттенка усы придавали его лицу суровый и строгий вид. Зотов бросил по сторонам быстрый взгляд и, подойдя к Буденному, спросил густым басом, чуть напирая на «о».
— Доклад примете, товарищ комкор?
— Приму. Пройдем туда, — Семен Михайлович показал на соседнюю комнату.
Он перекинул через плечо ремешок маузера и, толкнув дверь, вошел в прохладную, пахнущую нежилым горницу. Осторожно ступая, чтобы не натоптать до блеска намытый пол, он прошел мимо большой с целой горкой подушек кровати в глубину горницы, где под образами стояли покрытый скатертью стол, лавка и два табурета.
— Садись, Степан Андреич, — предложил он Зотову, подвигая себе табурет и присаживаясь к столу.
Зотов не спеша опустился на лавку, снял фуражку и, вынув из нагрудного кармана френча небольшой гребень, привычным движением провел им несколько раз по зачесанным назад волосам.
— Так что разрешите доложить, товарищ комкор: оперативную сводку сегодня не получали. Связи со штабом фронта нет вторые сутки, — начал, как всегда, обстоятельно и неторопливо докладывать он, убирая гребень в карман. — Прямой провод не работает — повреждение.
— Надо будет попробовать связаться через штаб девятой армии, — сказал Буденный.
— Так точно. Я дал указания. Разрешите доложить обстановку?
— Давай.
Зотов зашелестел картой, вынимая ее из папки и раскладывая на столе.
— По сведениям, полученным от разведки, — заговорил он, густо покашляв, — конные части противника неизвестного наименования вчера днем вели бои с нашей пехотой в районе станицы Казанской. Вот в этом районе, — показал он. — Можно полагать, что связь разрушена этими самыми конными частями противника… С остальных участков фронта никаких сведений не имеем. В направлении Анненская выслана разведка — два эскадрона с пулеметами под командой Дундича.
— Охранение выставлено? — спросил Буденный.
— Так точно…
Докладывая обстановку на фронте, Зотов не знал, что два дня тому назад, 22 сентября 1919 года, Деникин перешел в наступление. Те конные части, о которых доносила разведка, были кавалерийским корпусом Мамонтова, брошенного Деникиным в тыл армиям Южного фронта. Весь огромный Южный фронт, содрогаясь и разламываясь на части, начал медленный, с тяжелыми боями отход на Москву. Стремясь воспользоваться этим, с севера на Петроград начал наступление Юденич. Грозная опасность нависла над важнейшими центрами Советской России. В это время 10-я армия Ворошилова, в состав которой был включен конный корпус. Буденного, выходила из-под Царицына на левый фланг Южного фронта. Двигавшийся в авангарде конный корпус Буденного в составе 4-й и 6-й кавалерийских дивизий получил приказ расположиться в районе станицы Усть-Медведицкой[3]. Буденный рассчитывал, что корпус сможет теперь несколько передохнуть после тяжелых боев и пополниться боевыми припасами.
— Как только установится связь, Степан Андреевич, нужно будет потребовать срочной присылки огневых летучек, — говорил Буденный. — В шестой дивизии осталось по полсотне патронов на бойца, а в четвертой и того меньше.
— Слушаю, товарищ комкор. Будет исполнено. — Зотов звякнул шпорами и, раскрыв папку, спросил: — Разрешите доложить по текущим делам?.. Штаб фронта запрашивает потребность корпуса в красных офицерах. У нас пока таковых нет, и что они собой представляют, мы не знаем. — Он положил перед Буденным какую-то бумагу. — Если б знать, Семен Михайлович, что они за народ… — продолжал Зотов, так как Буденный молчал. — А то попадут мальчишки, с которыми только наплачешься. Я так думаю, что своими командирами лучше управимся.
— Тут пишут, что о потребности нужно сообщить на Петроградские кавалерийские курсы, — сказал Буденный, поднимая голову и откладывая бумагу.
— Так точно, на Петроградские.
— Да-а… — Семен Михайлович в раздумье выбил пальцами барабанную дробь. — Попробуем! — вдруг сказал он решительно. — Петроградские должны быть ребята хорошие.
Зотов вынул гребень, подержал его в руке и сунул в карман.
— Слушаю, — сказал он с некоторым неудовольствием. — На сколько человек будем писать, товарищ комкор?
— Возьмем пока пять человек, а там видно будет… Ну, что еще?
— Есть сообщение, товарищ комкор, банда неизвестного наименования произвела налет на тылы двенадцатой армии. Предполагают, что это Махно.
— Махно?
— Так точно. Они подошли под видом своих и начали бить из пулеметов в упор.
— Потери есть?
— Большие. Захватили дивизионный обоз, два орудия, перебита штабная команда.
Зотов замолчал и стал перебирать лежавшие в папке бумаги. За окнами слышались в густеющих сумерках слабые звуки дождя. По улице дребезжала подвода. Чей-то голос лениво покрикивал на шлепающих по грязи лошадей.
— Ничего, скоро мы и до Махно доберемся, — сказал Буденный, нахмурившись.
Дверь скрипнула. Прикрывая ладонью колеблющееся пламя воткнутой в бутылку свечи, без стука, как свой человек, тихо вошел Федя. Он поставил свечу на стол и так же тихо вышел из горницы.
На улице теперь были слышны переливающиеся звуки множества конских копыт.
Семен Михайлович встал из-за стола и подошел к окну. Во всю ширь раскисшей дороги двигались какие-то тени. Буденный пригляделся. На фоне мутневшей на горизонте светлой полосы неба мелькали темные силуэты всадников в бурках, косматых папахах, в шинелях, полушубках, брезентовых плащах и фуражках. В полумгле были видны молодые и пожилые, усатые, чубатые, суровые и веселые лица. Изредка проплывали знамена в чехлах и намокшие на дожде значки эскадронов.
— Четвертая дивизия подошла, — негромко сказал позади Буденного Зотов.
Семен Михайлович оглянулся.
— У тебя еще что-нибудь есть? — спросил он, кивнув на папку с бумагами.
— Вопросы все, — сказал Зотов. — Так что разрешите мне покуда итти?
— Подожди. Чай будем пить.
— У меня дела, товарищ комкор. Приказ надо писать.
— А-а… Ну, хорошо. Тогда иди.
Зотов надел фуражку, собрал бумаги и, по привычке слегка выворачивая ноги носками внутрь, с солидным достоинством вышел из горницы.
За дверью гудели голоса. Там, видно, набралось много народу.
Федя в третий раз подогревал самовар. Поминутно хлопала дверь, и к Буденному, звякая шпорами, проходили вооруженные люди.
— И чаю не дадут напиться Семену Михайловичу! — с досадой сказал Федя адъютанту Буденного, который только что вышел из горницы и торопливо надевал плащ, видимо собираясь куда-то итти.
Адъютант ничего не ответил и с озабоченным выражением на молодом, безусом лице поспешно вышел из хаты.
Семен Михайлович, поужинав, пил чай и с интересом слушал Лукича, который, сидя против него рядом с Федей и держа блюдце на растопыренных пальцах, рассказывал ему о турецких походах. Буденный всю мировую войну провел на Кавказском фронте и воевал в тех самых местах, где пятьдесят лет назад русская армия вела бои с Мухтар-пашой, штурмовала Карс и брала Эрзерум.
В ту минуту, когда Лукич рассказывал об отважном поступке полкового адъютанта Нижегородского драгунского полка, любимца солдат корнета[4] Забелина Сергея Алексеевича, который спас жизнь своему трубачу, в ставню постучали, и молодой низкий голос сказал под окном:
— Хозяин!.. Батя! Не спишь?
Старик оборвал свой рассказ на полуслове, изменился в лице и, поставив на стол недопитое блюдце, проговорил дрогнувшим от радости голосом:
— А ить это мой Степка! — Он искательно посмотрел на Буденного. — Семен Михайлович, дозвольте сынка позвать в куреня?
— Давай зови, Петр Лукич. Посмотрим, что у тебя за сынок! — весело сказал Буденный.
Старик с неожиданной для его возраста живостью вскочил с лавки и, позабыв закрыть за собой дверь, поспешно вышел из хаты.
— Ишь, как папаша сынку-то возрадовался! — сказал Федя.
Семен Михайлович улыбнулся. Он хорошо понимал, что происходит в душе старика, и с любопытством прислушивался к разговору и шуму шагов в сенях. Шаги приблизились. В открытых дверях остановился молодой казак огромного роста с небольшими золотистого отлива усами на красивом загорелом лице. Из-под красного околыша ухарски сдвинутой набок фуражки торчал заботливо расчесанный чуб. Казак был одет в туго перехваченный кавказским ремешком коротенький полушубок и синие, обшитые желтыми леями шаровары, заправленные в высокие сапоги. Поверх полушубка висели шашка и револьвер в изношенной кобуре. На левой стороне груди был приколот большой алый бант.
— Разрешите зайти, товарищ комкор? — спросил он отчетливо.
Буденный приветливо взглянул на него:
— А-а, знакомый! Заходи… Постой, это ты под Ляпичевым батарею забрал?
— Стало быть, я, товарищ комкор.
— То-то, я помню. Садись.
— Спасибочка. Постоим, товарищ комкор.
— Садись, садись. Поговорим.
Харламов осторожно присел на лавку, поставив шашку между колен.
— Тебя в том бою ранили? — спросил Семен Михайлович.
— Нет. Под Иловлей. В одночась с вами, товарищ комкор. Вас, стал быть, там в ногу поранили.
— Помнишь? — удивился Буденный.
Харламов изумленно поднял угловатые брови.
— Как же такое дело забыть?
Лукич, стоя в стороне, переводил восторженный взгляд с сына на Семена Михайловича и, когда сын отвечал, невольно шевелил губами, словно подсказывал.
«Экая здоровенная порода! — думал Буденный, с удовольствием оглядывая могучее тело сидевшего перед ним казака. — Добрый казачина. Такой один пятерых стоит».
— Женат? — спросил он Харламова.
— Ишо нет, Семен Михайлович, — заговорил Лукич, подвигаясь ближе. — Вот войну кончим — оженим. У меня уже и любушка есть на примете. Дюже хорошая девка, — словоохотливо, как все старики, говорил он. В голосе его прорывались радостные нотки, словно ему, а не сыну, предстояло жениться.
Харламов густо покраснел, шевельнув бровью, с досадой взглянул на отца и открыл было рот, но ничего не сказал.
— А сколько тебе лет? — спросил Буденный.
— Двадцать шесть, товарищ комкор, — ответил Харламов.
Семен Михайлович внимательно посмотрел на него, поморщив лоб, что-то прикинул в уме и повернулся к Лукичу.
— Сынок-то тебе во внуки годится, — сказал он старику.
— Мне, Семен Михайлович, пятьдесят семь годов было, когда Степка родился, — качнув головой, сказал Лукич. — Я в шестьдесят пять бугая кулаком на коленки ставил. Мешки по шести пудов таскал. Да я и до се ишо ничего.
— Силён! — Буденный усмехнулся. — В Третьем донском служил? — спросил он Харламова.
— В лейб-гвардии казачьем.
— В гвардии?
— Только за красоту да за рост в гвардию взяли, — пояснил Лукич. — Пара быков да коней — вот и все наше хозяйство.
— Так, так… А ведь ты прав, Петр Лукич, сынок-то похож на тебя.
Старик встрепенулся, выгнул грудь и словно сразу помолодел.
— Чистый патрет, Семен Михайлович, и личностью и выходкой, только што подюжей ростом и в плечах пошире. — Он с гордостью взглянул на сына и, отворотись, украдкой, что все же не ускользнуло от зоркого глаза Семена Михайловича, смахнул вдруг набежавшую слезу.
— Ну, ладно! — Буденный встал из-за стола. — Пойду отдохну. Я ведь двое суток не спал. Спасибо за угощенье, Петр Лукич.
— На доброе здоровье… Семен Михайлович, я вам постелю, — с готовностью предложил старик.
— Не надо, я сам. — Буденный дружески кивнул казакам и, с многозначительной улыбкой взглянув на Федю, ушел в горницу.
— Пойду и я коней посмотрю, да и поить время, — сказал Федя.
Он поднялся с лавки, надел кубанку и, прихватив ведро, вышел из хаты.
Лукич подошел к сыну и обнял его.
— Ах, Степушка, не думал я тебя живого увидеть! — сказал он, всхлипнув и часто моргая красными веками.
— А маманя где, батя?
— В подводах наша маманя, — вздохнул Лукич. — Кадеты угнали снаряды возить.
Он оторвался от сына и, нетвердо ступая, направился к печке.
«Как его за эти годы согнуло! — с тоской подумал Харламов, провожая взглядом отца. — А был совсем ничего».
— Поешь, сынок! Голодный, небось, — сказал Лукич, поставив на стол миску с лапшой. — Маманя как знала — наготовила. С курятиной. Твоя любимая.
— Угнали, стал быть, — сказал Харламов, нахмурившись. — А я ей гостинца привез.
Он вытащил из кармана увесистый мешочек и вытряхнул из него фунта два сахару.
— Хороший гостинец, — похвалил Лукич. — Мы этого сахара уже два года не едали. И что ж, много вам его дают?
Харламов улыбнулся, блеснув чистым оскалом ровных зубов.
— А мы, батя, сами его берем.
— Как тоись сами? — удивился старик.
— А мы, как бы сказать, у Деникина на довольствии состоим. Он, стал быть, у нас вроде главного интенданта.
— Что-то ты чудное гутаришь, Степка. Ты не смейся, покеда не осерчал. А то я тебя зараз… — погрозился старик.
— А я и не смеюсь, батя, — сказал Харламов, пряча улыбку. — Ты слушай: Антанта — это, стал быть, английские и французские буржуи — шлет Деникину всякое барахло. Ну, как бы сказать, обмундирование, снаряды, сахар, какаву. А мы налетим и отнимем. — Он снял поясок и распахнул полушубок. — Гляди, какой френч отхватил!
— Важнецкое сукнецо! — Лукич даже пощелкал языком, пощупав материал. — Видать, офицерское. А ты, часом, не командир?
— Нет, боец.
— Та-ак… Ты б разделся, сынок. Упаришься в полушубке.
Харламов отрицательно качнул головой.
— Мне, батя, зараз нужно итти.
Жалкая морщинка скользнула в углу рта старика. Он ревниво посмотрел на сына.
— К девкам, что ль?
— Нет. Так, по делу.
— Дело, значит, завелось…
Харламов быстро доел лапшу, вытер ладонью губы в отложил ложку.
— Степа, а за какую батарею Семен Михайлович поминал? — помолчав, спросил Лукич с тайной надеждой подольше удержать сына.
— Да там не одну батарею, там девятнадцать орудий забрали. Целый корпус разбили.
— А ты, сынок, давай расскажи.
— Про все боя-походы до утра не управишься рассказать. Длинная музыка.
— А ты корочей.
— Я закурю, батя, можно?
Харламов вытащил кисет с махоркой, скрутил папироску и вставил ее в самодельный камышовый мундштучок.
— Я, батя, за это время весь Дон с боями прошел, — начал он, закурив. — Прошлый год с товарищем Сталиным Царицын обороняли. С Красновым, Улагаем, Мамонтовым и другими прочими генералами бились. Каждый день бой, а то на одном дню несколько раз в атаку кидаешься. В рейды ходили. По первам под Иловлинскую. Там меня в руку поранили. Потом под Качалинскую. Порубаем, переднюем и дальше, а то и без отдыха. Мы тогда еще не корпусом, а бригадой и дивизией были. Верст пятьсот с боями прошли, кадетов[5] гнали. Зима. Дорога тяжелая. Бывало, и нам попадало. У кадетов тоже есть отчаянные. Разный у них народ — кто по доброй воле, кто мобилизованные. Другой и рад бы к нам перейти, да боится, а потому и бьется до последнего. И вот, скажи, у кадетов в пять-шесть раз поболей нашего конных полков, а мы их бьем.
— А почему так, сынок? — спросил Лукич.
Харламов помедлил с ответом. Между его угловатых бровей легла морщинка.
— А потому, батя, — заговорил он, помолчав, — что мы бьемся, стал быть, за народное дело, как то товарищ Ленин указывает… А они, кадеты, хвалятся, мораль пущают, что за единую, неделимую Россию воюют. А кто ее хочет делить, Россию-то? Мы, что ли? Они сами. Генерал Краснов какую программу объявлял? Дон, Кубань отделить. Верно? А мы ничего не хотим делить. Свое государство строим — рабоче-крестьянское. Нет, они не за Россию воюют, а за то, чтоб обратно посадить буржуев на шею трудовому народу. Чтоб обратно одним было все, а другим ничего. А разве это справедливо? Нам, батя, наши комиссары всю эту политику вот как объяснили. Потому нам и в бой итти весело. Потому мы со всей контрой вот что исделаем, — сильно хлопнув ладонью, он выбил из мундштука брызнувший искрами окурок папироски и растер его ногой. — Нехай не становятся на пути.
— А ты, сынок, часом, не большевик? — помолчав, спросил Лукич.
— У нас, батя, все большевики.
— Партейные, значит?
— Нет. Партийные у нас в корпусе руководители наши.
— Чтой-то я, Степка, не пойму. То ты гутаришь, что все у вас большевики, а то не партейные. Как же это так понимать?
Харламов поежился.
— Видишь, батя, тут… как бы сказать… такое дело: мы еще не успели фактично записаться, а вот как позапишемся, то все будем партийные…
Лукич покачал головой:.
— А все-таки чудно получается. Одни с большевиками пошли, другие против. Надо б всем в одну точку бить.
Харламов помолчал и сказал:
— Народ у нас еще темный. А если бы все товарища Ленина послушали, как он говорит, то, по моему рассуждению мыслей, не было бы такой гражданской войны… Конечно, есть, которые беспощадные контрики. Но их не так уж и много. Мы бы с ними быстро управились… Я вот тоже был совсем темный человек. Как слепой ходил, покуда товарища Ленина не послушал, как он говорит.
— Но? — Лукич весь встрепенулся. — Ты, стал быть, самого товарища Ленина видел?
— И видел и слышал. Мы ить при Керенском в Питере охрану несли. И вот раз едем по Каменноостровскому — я, Рёва Иван, Мингалев Зиновий и еще один казачок с первой сотни, фамилию его позабыл. Вдруг видим — народу!.. А с балкона человек говорит. Это и был он самый, Владимир Ильич. Мы еще в личность не видели его. А тут какой-то старичок, по виду рабочий, увидел нас и шумит: «А ну, казачки, давайте поближе. Послушайте нашего товарища Ленина». Хорошо. Завернули коней. Подъезжаем под самый балкон. А он, Ленин, оттуда выступает. «Мир, — говорит, — хижинам, война — дворцам», и так и дальше… Как скажет слово, так будто в сердце вкладывает. Слушаю его и вижу, что он нашу, бедняцкую, линию ведет. И говорю ребятам: «Вот это, видать, правильный человек». Ну, те двое были со мной вполне согласные, а Мингалев: «Нет, — говорит, — мне с большевиками не по пути».
— Постой… Энто какой Мингалев? Не с Казанской атаманов сынок?
— Он самый. Зараз у Мамонтова взводом командует… И вот я стал почаще ездить туда. Как в наряд — я на Каменноостровский. И ребят с собой приводил. А Мингалев, видать, есаулу шепнул. Тот меня вызывает. «Ты, — говорит, — большевик?. Я тебя, такого-сякого, под военный полевой суд подведу…» Да. А тут и Октябрьская революция вскоре. Сначала я в Красной гвардии служил, а потом до Семена Михайловича перешел…
— Стал быть, ты, сынок, крепко веруешь, что за правое дело бьешься? — спросил Лукич, помолчав.
— Крепко, — твердо сказал Харламов.
— Гляди, не пошатнися. Я слыхал, старики промеж себя толковали — казаков-то с мужиками поравняют.
— Ну и нехай. Все должны быть равные. Я, батя, не пошатнусь. У меня линия верная.
— Ну, в час добрый… Ты, Степа, расскажи, как батарею забрал, — попросил старик.
— Зараз, батя, по порядку. Ты слушай… Как под Качалинской кадетов разбили, так обратно под Царицын пошли. Только слышим: генерал Попов с пятью конными полками под Котлубанью взял в плен сколько-то нашей пехоты. Ну, Семен Михайлович тут зараз маршрут вменил и ударился прямиком через хутор Вертячий на перехват Попову. Всю ночь переменным аллюром шли. Поспешали. Надеялись врасплох его застать. Чуть зорька — и вот она, Котлубань. А Попов, гадюка, успел — засаду сделал. В степи-то далеко слыхать. А тут такая громада идет, поболе двух тысяч коней. И только это две бригады развернулись, а нашу в резерве оставили, смотрим: со стороны кадетов конные батареи наметом летят. Выскочили на ровное, снялись с передков (издали кони и люди, как мураши) и — бац! бац! — картечью по нашей колонне. А с левой руки конница выходит. Как глянул — сердце оборвалось. Валом валит. Пять полков! Туча! Степь, скажи, как чернилом заливает. Палаши, пики на солнце блестят. Штандарты вьются. Как двинули на нас, ажник земля затряслась. Семен Михайлович попереди дивизии выскочил, палашом махнул: «В атаку! За мной!» С ним две бригады. Понеслись. Гляжу: зараз врукопашную сойдутся. А тут и мы двинулись. Пустили коней, аж ветер в ушах свистит. И только мы пошли, а Попов, вражина, резервный полк нам в правый фланг бросил. Вылетают с балки черкесюки аль ингуши. В черных бурках, в белых башлыках. Что-то по-своему визжат, ажник по-волчьи воют. Наш командир полка, бойцовский командир, кричит нам: «Повзводно направо! Бей их! Руби!..» Да куда! Разве атаку удержишь? Мы коней-то уж во весь мах выпустили. Сразу ведь не остановишь. И что б тут было — не знаю. Как вдруг вылетает наш геройский начдив Городовиков Ока Иванович. Сам небольшой, а как палашом секанет, так до седла развалит. А с ним пять бойцов. Он всегда держит при себе эту пятерку на случай какой неустойки. Все сорви-головы. Рубаки, каких свет не видывал! И эх! Как ударят! И пошла крошить! А за ними весь полк. А те две бригады, что Семен Михайлович вперед увел, на главные силы ударили, смешали их и погнали. Мы до пленных: «Выходи, братва, свободные!» А они и плачут и смеются. Кому ж радостно в плен итти! Да еще кадеты их почти догола растелешили, а время — февраль, холодно… И такую мы тут с Семеном Михайловичем Попову панику сделали, что он все орудия, пулеметы, обозы бросил, очки потерял, а сам с остатками почти до самой Карповской наметом летел и сослепу на нашу пехоту набежал, а пехота с бронепоездами вперекрест его взяла. Тут ему и крышка… В этих боях Семена Михайловича два раза поранили. И, скажи, оба раза в левую руку. А он хоть бы что…
Дверь скрипнула. В хату вошел Федя, нагруженный седлами. Он сложил их в угол и молча присел на лавку. Харламов посмотрел на него и продолжал:
— Ну, кончили бой, остановились на отдых. А тут несут приказ от командующего армией товарища Ворошилова разбить генерала Толкушкина. Он в это время Ляпичев занял.
— А у Толкушкина, сынок, большая сила была? — спросил Лукич.
— Пехотный корпус и два полка кавалерии.
Старик с удивлением покачал головой.
— Ты, Степка, часом не брешешь, сынок? Конной дивизией да на корпус пехоты! Чудно…
Харламов усмехнулся:
— А нам, батя, не впервой. Семен Михайлович хорошо приучил нас до этого, дела. Приобыкли. Да… И все б ничего, да такая мокреть пошла. Дело-то к весне. Заквасило, поплыло. Снег тает. Ручьи бегут. Балки водой заливает. А грязюка! Как пеший ступишь, нога вынается, а сапог остается. Вязко. Под орудиями кони становятся. Короче сказать — тяжелое положение. Семен Михайлович над картой сидит, смекает, как быть. Потом построил дивизию и гутарит: «Товарищи бойцы! Много мы с вами белых гадов поуничтожили за народное дело. Теперь имеем приказ разбить генерала Толкушкина. Он, вражина, окопался в Липовце за колючей проволокой и смеется над нами. Стал быть, без артиллерии его не выбить, проволока и сила большая. Но по такой дороге нашим коням пушек не выгнуть. Приказываю: батареи и тачанки с пулеметами оставить на месте. К ним — полк прикрытия. Батарейцам на коней сесть. С нами поедут. А как дойдем до Толкушкина, навалиться на него тремя полками внезапно, а первое дело — батареи у него отнять и с тех батарей смертным боем беспощадно крыть белого гада».
— Ловко! Хи-хи-хи-хи! — залился Лукич. — Ай да геройский командир! Вот это расплановал! Славно! Так и сказал?
— Ну, может, что и не так. Я, батя, в общем рассуждении мыслей рассказываю. Много он еще тут гутарил и так ладно распорядился, что не успел Толкушкин чаю напиться, а мы уж достигли его, рубим, бьем, батареи у врага берем и с них гада кроем… Я сам в разъезде шел, в головном дозоре за старшего. Со мной ребята бойцовские. Меркулов-атаманец и мой дружок Митька Лопатин — шахтер. Только мы с балочки — и вот она, батарея. С тыла зашли. Мать честная! Зараз, думаю, кадеты нас обнаружат. А разъезд поотстал. Что делать? Только, помню, Семен Михайлович все про внезапность наказывал. Я и шумнул ребятам: «Даешь атаку!» Как мы вдарили с тыла! Рубим, бьем, конями топчем! Я шумлю: «Бросай оружие!» А сам крою их так, аж в передках кони вдыбки встают… Митька мой было-к там пропал. Командир батареи в него два раза с нагана ударил. Ну, а тут и взвод подоспел с батарейцами. Завернули орудия и ахнули с прямой наводки… Вот, стал быть, какие дела. Корпус разбили, взяли в плен две тыщи пехоты, шестьсот сабель кавалерии, девятнадцать орудий и пулеметов сколько-то, а нас в трех полках и двух тысяч не было…
Харламов замолчал и потянул из кармана кисет с махоркой.
— Ты что же, друг, до конца не говоришь? — заметил Федя.
— А что?
— Он, папаша, в этом бою Митьке Лопатину жизнь спас, как коня под ним подвалили, — пояснил Федя, обращаюсь к Лукичу. — Сам было пропал, а Митьку от смерти отвел.
— Молодец! По-нашенски сделал, сынок, — заулыбался Лукич. — И у нас бывало в турецкую конпанию, всё бывало командиры говаривали: «Товарища люби больше себя». Так-то, сынок…
— Ну, батя, ты не серчай, а мне время итти, — сказал Харламов, поднимаясь и расправляя широкую грудь.
— Я не неволю… Ты навовсе, сынок? — спросил старик дрогнувшим голосом.
— Да нет, завтра приду. Мы, стал быть, много тут простоим. Так что еще повидаемся…
Проводив сына, Лукич убрал со стола, потом принес зипун и подушку.
— Ну, Хведя, и нам пора спать, — сказал он, постилая на лавке. — Ты лягай тут, а я уж на стариковское место, — показал он на печку.
— Постой, папаша, здесь будет спать еще один человек, — сказал Федя.
— Кто такой?
— Адъютант Семена Михайловича.
— Ну-к что жа, места хватит. Нехай на той лавке ложится. Я ему свою одеялу отдам. Она мне ни к чему. И так жарко.
Старик постелил на другой лавке и, кряхтя, забрался на печку.
— Папаша, а сынок у тебя, видать, уважительный, — сказал Федя.
— Степка? А как же. У нас, Хведя, все уважительные, — засипел Лукич, глухо покашливая. — Конешно, война трошки пошатнула эту уважению… Ну, сам скажи, разве можно старому человеку да без ласки? Он жизню прожил. Скоро ему помирать. Как же его не приветить?.. У нас, на Дону, стариков завсегда уважают. Как бывало казак возвернется с похода, так первое дело отцу и матери три земных поклона кладет. Потом старшим братьям. Да. А жена его три раза коню в пояс кланяется за то, что хозяина живым до дому принес… У нас, Хведя, кругом уважение. Редкий случай, коли муж с женой поругаются. Да нет, не помню. Кажись, за мой век такого и не бывало… А вот после первого октября друг дружке подарки дарят.
— Это почему после первого октября? — спросил Федя.
— Обычай такой. Как всю работу закончат, соберутся семьей, и хозяин первым одаривать начинает. Вот ты, Анюта, иль как ее там, хорошая мать и хорошо вела хозяйство — на, получай кашемиру на платье. Да… А ты, Митя, хорошо работал, да ругался, да пьяным напивался. Нехорошо это. Ну тот, конешно дело, проситься начинает: простите, мол, батя, больше не буду…
— Подумаешь, грех — ругался? — заметил Федя. — Иной раз без крепкого слова нельзя.
— Как же не грех! — удивился Лукич. — Насчет этаких слов у нас не дай и не приведи.
— В общем надо понимать, папаша, что у вас была тишь, да гладь, да божья благодать. Так, что ли? — спросил Федя с тонкой иронией.
— Ну? — Лукич выжидающе посмотрел на него.
— А кто при старом режиме на усмиренья ходил, рабочих плетями порол?
Лукич пожал худыми плечами.
— Ну-к что жа! Темные мы были, — заговорил он, почесав в голове. — За это, конешно, мы виноватые. Зато теперь, в революцию, почти все казаки-фронтовики, с верхнедонских, с товарищами пошли. Стал быть, вину свою искупили.
— Искупили? А кто у Мамонтова воюет?
— Ну, это атаманы-богачи да которые несознательные. Да ить больше с них старики, приверженные к старому порядку. А молодые казаки больше в красных. Вот и Степка мой…
— Тш-ш! — Федя вдруг привстал и прислушался.
— Ты што? — спросил старик.
— Семен Михайлович никак меня звал, — сказал Федя.
Он встал с лавки, прошел через хату и, тихонько открыв дверь в горницу, прислушался.
Постояв некоторое время, Федя, шлепая босыми ногами, вернулся на лавку.
— Спит? — спросил старик.
— Спит. Видать, поблазнило мне. А может, застонал. У него ведь и руки и ноги пораненные.
— Видать, большой душевности человек, — помолчав, сказал Лукич.
— Очень хороший… с хорошими. Ну, а лодырь лучше ему не попадайся. Терпеть ненавидит. Лучше сам уходи, пока цел.
— Значит, лодырям не потатчик?
— Бож избавь! У нас один командир полка было заленился. Кони и бойцы целый день остались голодные. Так Семен Михайлович поучил его малым делом. Ужас как осерчал! Изругал его беспощадными словами и в бойцы разжаловал. Произвел, значит, его в лучшем виде. А так даже очень простой человек. Для каждого бойца душевное слово найдет. Всегда по человечеству рассудит. И поговорит обо всем и спляшет с нами. Каждый из нас, не подумав, за него жизнь отдаст.
— Значит, настоящий командир. Справедливый. А это самое первое дело. Да… А я было-к в генералы его произвел.
— Да ну?!
— Стариков послухал. Они промеж собой гутарили. А он, выходит, был драгуновский вахмистр…
Лукич замолчал и, укладываясь поудобнее, завозился на печке.
За окнами слышались негромкие голоса бодрствующих патрулей.
Федя прислушался и ясно различил густой, низкий голос Харламова. Видимо, бойцы разговаривали между собой, сидя на завалинке хаты. На улице прояснилось. Пробившись сквозь запыленные окна, на пол упал голубоватый отблеск луны.
Лукич, вздыхая и бормоча что-то, ворочался на печке.
— Не спится, папаша? — спросил Федя.
— Не спится… Слышь, Хведя, я уж тебе скажу, — зашептал сверху старик. — Не могу молчать, и только! Видать, много я нагрешил. — Он присел, спустив ноги. — Понимаешь, какое дело… все шутов по ночам вижу.
— Шутов? Каких шутов? — удивился Федя.
— Самых обыкновенных. Сидит в углу, молчит. Не то корень, не то человек. Приглядишься, а это он шут и есть.
— Чорт, что ли?
— Нет. Чертей я знаю, у них роги. А энтот вроде, как бы сказать, корешок али старый-старый такой человек. Я ему шумлю: «Кш! Сгинь, нечистая сила!» А он хочь бы что. Сидит нога на ногу и молчит. Кабь знать, что б это такое?
— Пустое это, папаша, — сказал Федя с твердой уверенностью. — Блазнит тебе. Кажется.
Старик с сомнением покачал головой.
— Блазнит? Кхм… Нет… Я его кажную ночь вижу. Видать, за мной… Да… — Он замолк, тяжко вздохнув. Потом долго еще кряхтел и ворочался и, наконец, шепча что-то, заснул.
II
Поезд круто затормозил. Заскрежетали тормоза. С полок посыпались вещи.
Сашенька вздрогнула и проснулась.
В стороне паровоза бухнул выстрел. Вслед ему пронесся отчаянный крик:
— Стой! Стой! Держи-и!
Поезд остановился. Сквозь щель в забитом фанерой окне чуть брезжил рассвет. На платформе кричали и, слышно было, бегали люди.
Пассажиры зашевелились.
— Дело — табак! — сказал в темноте Митька Лопатин, молодой, лет двадцати, вихрастый парень.
Это был балагур и насмешник. Он сел в поезд еще под Саратовом и всю дорогу смешил пассажиров. На этот раз никто не поддержал разговора. Всем и так было ясно, что случилось что-то трагическое.
И теперь, притаившись в темноте вагона и почти не дыша, пассажиры молча ждали, что будет дальше.
— Пойти посмотреть, — сказал Митька с обычной решительностью.
Он, стуча сапогами, завозился где-то вверху, собираясь спуститься. Но в эту минуту в глубине вагона мелькнул желтый свет фонаря и в дверь просунулась голова в фуражке с кокардой. Голова подозрительно повела по сторонам, пошевелила густыми усами и повелительно крикнула:
— А ну, выходи!.. Куда с вещами? Вещи оставить!
Сашенька, чувствуя, как у нее по всему телу побежали мурашки, пошла вслед за другими к выходу из вагона. Митька Лопатин оказался подле нее.
— А ты не бойсь! Не робей! — подбадривал он девушку, с участием заглядывая в ее побледневшее лицо. — И не в таких переплетах бывали.
Пассажиры толпой выходили на платформу. И странное дело: не успела Сашенька ахнуть и удивиться, как Митька словно в землю провалился — вильнул под вагон.
В конце поезда мелькали фонари. Оттуда доносились крики и звон разбиваемых стекол. Топоча сапогами и хрипло дыша, пробежали в темноте какие-то люди.
— Держи его! Бей! — крикнул злой, задыхающийся голос.
Послышался шум борьбы. Кто-то, охнув, упал и забился.
— Врешь, не уйдешь! — злобно кричал тот же голос, прерываемый хряскими ударами по мягкому телу. — Так ты бежать, сволочь?.. Ковалев, вялей ему руки!
— А-а-а-а!.. — пронесся полный боли и ярости крик.
— Молчи! Убью, жаба!
Вновь послышался хряский, тяжелый удар.
— Господи, да что же они делают? За что мучают людей? — тихо сказала Сашенька.
— Молчи, молчи, — прошептала стоявшая рядом старушка в очках. — Молчи, а не то и нам то же будет.
По платформе, звеня шпорами и громко разговаривая сердитыми голосами, быстро прошли два офицера. На левом рукаве у каждого из них был изображен череп с костями.
— Чего столпились? А ну, становись! Разберись в две шеренги! — закричал вахмистр, тот самый усатый человек, что выгонял из вагона. — Кому говорю, дура! — напустился он на толстую бабу в платке, которая металась, размахивая руками и не находя себе места. — Встань здесь и замри!
Пассажиры, зябко поеживаясь, неумело выстраивались. Вахмистр в сопровождении казаков ходил по рядам, пытливо вглядывался в испуганные, бледные лица и, тыкая пальцем в грудь пассажирам, коротко приказывал:
— Выходи на правый фланг! И ты выходи! Эй, морда, кому говорю?.. Ковалев, веди их до сборного места да гляди дюжей, чтоб не убегли.
Рассветало. Накрапывал дождь. Вокруг поднимался сырой, осенний туман. Темные рваные тучи ползли в пасмурном небе. Сквозь серую муть постепенно пропаивали очертания станции и черневшие за ней клены и липы.
Холодный ветер порывами налетал со степи и гнал по платформе желтые листья.
У соседних вагонов шла проверка документов, слышались громкие голоса. Двое солдат с потными, красными лицами тащили под руки рослого мужчину в кожаной куртке. Мужчина — у него была в кровь разбита щека — упирался и что-то гневно кричал.
— Достукался! — злорадно сказал кто-то позади Сашеньки.
Она оглянулась. Заросший рыжей бородой человек, улыбаясь маленькими злобными глазками, весело смотрел на нее.
— Вы, барышня, не бойтесь, — сказал он, по-своему истолковав ее испуганный взгляд. — Вам нечего опасаться. — Он бегло оглядел отороченную мехом Сашенькину жакетку и высокие шнурованные, как носили тогда, желтые ботинки, плотно облегавшие ее полные стройные ноги. — Вас не тронут. А этому, что повели, веревочки не миновать.
У Сашеньки дрогнули брови.
— А вам, что, от этого легче? — краснея, спросила она.
— А как же! Они ж меня по миру пустили, злодеи эти… А вам вроде жалко его? — рыжебородый с хитринкой, выжидающе смотрел на нее.
Сашенька не успела ответить.
— Коммунисты, евреи и китайцы — вперед! — с барской властностью сказал вблизи чей-то голос; и по тому тону, каким были сказаны эти слова, многим сразу стало понятно, что этот голос говаривал их уже не один раз.
Сашенька подняла голову. В нескольких шагах от нее стоял худощавый офицер с перевязанным глазом. Из-за его плеча выглядывал вахмистр.
Толпа молчала. Пассажиры искоса переглядывались. Китайцев и евреев вроде и не было, а коммунистов — кто их знает! Поди сыщи чудака, чтоб добровольно сдался белогвардейцам.
Офицер иронически усмехнулся.
— Таковых не оказалось. Кхм… Ну что ж, господа, хуже будет, когда сами найдем, — произнес он угрожающе.
— Вашбродь, — зашептал вахмистр, выставляясь вперед. — Обратите внимание, во-он во втором ряду черненький. Надо б его проверить.
— Проверь, — тихо сказал офицер.
Вахмистр бросился в ряды и положил большую волосатую руку на плечо чернявого человека в четырехугольном пенсне.
— А ну, пройдемтесь, господин! — сказал он, выталкивая его из толпы.
— Куда? Зачем? Куда вы меня ведете? — беспокойно заговорил человек, пытаясь освободиться. — Я присяжный поверенный. Я предъявлю документы. Я…
— Иди, иди! Нечего тут!
Вахмистр крепко взял человека под руку и повел его из толпы.
— Потрудитесь предъявить документы, — сказал офицер.
Сашенька не сразу поняла, что обращаются к ней.
Офицер смотрел на нее сбоку в видел лишь ее тонкий профиль со свежим румянцем, но вот она повернула голову, и ему стало видно все ее мягко очерченное лицо с пухлыми по-детски губами и вопросительно устремленными на него синими глазами.
— Да, да. Я вам говорю, — повторил он.
Сашенька, досадуя на себя, что покраснела, поспешно вынула из жакета кошелек, достала из него вчетверо сложенную бумажку и, развернув ее, молча подала офицеру.
— «Александра Ивановна Веретенникова», — вполголоса прочел офицер. Он дотронулся до козырька, звякнул шпорами. На его нагловато-красивом лице разлилось выражение доброжелательства. — Простите, это ваш отец был в Оренбурге городским головой? — спросил он, улыбаясь.
— Нет. Мой отец учитель, — ответила Сашенька.
— А-а-а… — разочарованно протянул офицер, вдруг помрачнев. — Возьмите, — он протянул Сашеньке ее документы.
— Господин сотник! Извиняюсь за беспокойство… — суетливо заговорил человек с рыжей бородой, который жаловался Сашеньке, что его по миру пустили. Он молча растолкал пассажиров и пробрался вперед. — Вот привел бог!
— Кто такой? — коротко спросил офицер, холодно взглянув на него.
— Купцы мы, господин сотник. В Оренбурге овсом торговали. «Колупаев и сыновья», лабаз. Разве не помните? А я вашего папашу господина Красавина вот как знал. Я и есть сам Колупаев. — Он пошарил за пазухой: — Документы пожалуйте.
— Очень хорошо-с, — сказал сотник Красавин. — А что вы хотите от меня, господин Колупаев? Только прошу короче, я тороплюсь.
— Во-первых, как вы наши освободители… а я сам как есть пострадавший и вообче… и во-вторых, желаю с вами остаться, — проговорил купец, снимая шапку и прижимая ее к груди..
— Хорошо. Можете взять свои вещи… Омельченко, дай им казака.
Сотник внимательно оглядел стоявшую перед нам толпу. Его взгляд задержался на небритом человеке в солдатской шинели.
— А ты кто такой? А ну, выйди вперед! — приказал он.
Человек, прихрамывая, вышел из рядов и подошел к офицеру.
— Где шинель взял? Красноармеец?
— Шинель у меня от старой службы осталась, — нехотя сказал человек, отставляя правую ногу.
— Какого полка?
— Фанагорийского гренадерского имени фельдмаршала князя Суворова.
— Солдат?
— Так точно.
— Как же ты, мерзавец, стоишь?! — бешено закричал Красавин. — Распустился в совдепии! Службу забыл?!
Солдат неловко переступил с ноги на ногу.
Сотник поднял руку и коротко двинул его в подбородок. Солдат покачнулся и побледнел. Тонкая струйка крови потекла по краю дрожащих от негодования губ.
— Большевик?
— Какой я большевик? Я…
— Омельченко, взять! — крикнул Красавин подбежавшему вахмистру.
Вахмистр мигнул казакам.
— Пустите, я и так пойду, — хмуро сказал солдат схватившим его казакам. — Куда я на одной ноге убегу?
— Врет он, — недоверчиво протянул вахмистр.
— Да нет, и вправди нога вроде деревянная, — сказал пожилой чубатый казак, нагибаясь и ощупывая ноги солдата.
— Ладно, пустите его, — с досадой сказал сотник.
Он вынул из кармана носовой платок и, брезгливо морщась, стал смахивать с шинели мелкие капельки крови.
— Вашбродь, господин полковник идут, — почтительно проговорил вахмистр, показывая в глубину платформы, откуда торопливо шагал тучный человек в офицерской шинели.
— Ну, как дела, сотник? — спросил мягким баском полковник, подходя и оглядывая притихшую толпу пассажиров круглыми, навыкате глазами.
— Человек двадцать выловили, господин полковник.
— Очень хорошо… Ну, кончайте с ними скорей. Корпус подходит, и генерал будет недоволен задержкой.
Вдали раскатился заливистый гудок паровоза. Послышался быстро нараставший грохот. В густом облаке дыма на станцию влетел бронепоезд. Замелькали покрытые защитной броней вагоны с пушками и пулеметами в амбразурах. На вагонах большими белыми буквами было что-то написано. Сашенька успела прочесть: «На Москву». Прогремев мимо платформы, поезд остановился. Паровоз, набирая пары, задышал быстро и тяжело, как человек после долгого бега.
— Ах, доченька! — говорила Сашеньке подсевшая к ней старушка в очках, после того как оставшимся пассажирам было приказано возвратиться в вагоны. — Скажи, какие вредные люди!.. Напугалась-то, поди, как?
Сашенька улыбнулась, собрав на переносье мелкие морщинки.
— Что вы, бабуся! Ну, ни капельки, — храбро сказала она, тряхнув светлыми вьющимися волосами. — А вот за вас я напугалась, — кивнула она на сидевшего напротив безногого солдата.
Поезд неожиданно дернулся. Вдоль вагонов пробежал судорожный перезвон буферов.
— Ну, кажись, поехали, — сказал солдат. — Наконец-то…
Он вдруг прищурился, глядя в окно. Там, над белым фасадом вокзала с надписью «Таловая», поднимался столб дыма.
— Гляди, что делают! А? Станцию запалили!.. Постой, а это что? — он привстал и оторвал фанеру.
Сашенька поднялась и тоже заглянула в окно. По степи, задернутой на горизонте мглистой дымкой дождя, двигалась навстречу медленно ползущему поезду длинная черная лента. Извиваясь между холмами, она приближалась, росла. Теперь уже простым глазом было видно, как по степи в облаке пара сплошной колонной двигалась конница. Вдоль колонны пестрели красные околыши донских казаков. Их поджарые лошади с подвязанным в узел хвостами шли ходкой рысью. Впереди ехал осанистый генерал в серой папахе. На его длинном лице курчавилась расчесанная надвое черная борода. Ветер рвал и завертывал на седло красные полы шинели. Под генералом, высоко выкидывая передние ноги и распушив хвост, плавно вымахивал рысью светлорыжий красавец-жеребец с белыми бабками.
— Братцы мои! — ахнул солдат. — Так это ж Мамонтов!
— Мамонтов? А кто он такой? — быстро спросила Сашенька.
— Главный вешатель у Деникина. Кавалерией у них командует, — ответил солдат. — Гляди, дочка, еще едут.
На воронежском тракте показалась другая колонна. Она вскоре приблизилась, и Сашенька увидела почти рядом восточные горбоносые лица с острыми усами. На всадниках были бурки с белыми башлыками и лохматые папахи. Крайняя лошадь, увидя поезд, в испуге шарахнулась. Всадник взмахнул плетью и злобно оскалился. Его крупный гнедой жеребец взвился на дыбы, пробежал несколько шагов на задних ногах и, опустившись, вновь пошел ритмично выписывать размашистой рысью.
Теперь, казалось, вся степь шевелилась. Всюду, куда хватал глаз, сплошными колоннами двигалась конница.
— Не пойму я, что делается, — сказал солдат, недоуменно пожимая плечами. — И как, скажи, этот Мамонтов в Таловую попал? Вчера еще говорили, что наши держут фронт под Усть-Медведицкой… Это сколько же отсюдова верст? — он потер лоб. — Ну да, верст поболей сотни… Значит, опять в тыл к нашим прорвался. — Солдат повернулся к Сашеньке и пояснил: — Прошлый раз, летом, он до самого Тамбова дошел. Сколько народу побил, повешал! Поезда под откос пускал. Все церкви ограбил.
— А откуда вы его знаете? — спросила Сашенька.
Солдат мрачно усмехнулся. В его глазах загорелись недобрые огоньки.
— Как мне его, вражину, не знать! — заговорил он, сдвинув брови. — Я ж у него в плену был… Ногу-то под Царицыном прошлый год потерял…
— Ох, господи милостливый, — вздохнула старушка, — и когда этому конец будет? Тут с одной дорогой страху на всю жизнь натерпишься… И как это, доченька, тебя одну в этакое время отпустили, красавицу такую? — обратилась она к Сашеньке, которая, склонив голову и перебирая перекинутую через плечо косу, глядела на солдата. — Вот, поди, у матери твоей сердце-то по тебе ноет! В этакий-то путь — и одна!
Легкая тень прошла по лицу Сашеньки.
— А у меня мамы нет. Я с трех лет без мамы, — тихо сказала она.
— Ах ты, родненькая моя сиротинка, с кем же ты росла-то? — растроганно моргая, спросила старушка.
— Да как же папаша отпустил-то тебя?
— Бабушка больная. — Сашенька вздохнула. — Одна живет, и воды некому подать напиться. Дедушка-то в прошлом году умер… А я привыкла. Я год в коммуне работала — и косила, и пахала, и коров доила.
Старушка в удивлении развела руками.
— Ах ты, моя желанная, а я думала, какая холеная барышня едет.
Сашенька отрицательно покачала головой.
— Нет, бабуся, я словно спичка была, а как пошла работать, так и растолстела… Молочных продуктов было вволю — молоко, сметана… А сливки! — Сашенька даже зажмурилась. — Да я каждый день, сколько хотела, столько их и пила.
— А работы много было? — спросил солдат.
— Ну еще бы! Летом в два часа утра встанешь — шесть коров подоить надо, коровник убрать. Если покос — бежишь косить. Если покоса нет — в огороде копаться. Я там и секретарем была. Ну, а зимой учительствовала… А какое я раз варенье достала! — Сашенька оживилась, глаза ее заблестели. — Пять банок на чердаке нашла. Видно, какая-нибудь монашка спрятала. Там раньше монастырь был.
— Так ты еще и учительствовала? — несколько помолчав, спросила старушка.
— Да. С прошлого года. Папе помогала.
— Ах ты, моя милая, сама-то ты еще дитя.
Сашенька, улыбаясь, поправила волосы.
— А как страшно было, бабуся, в первый раз входить в класс! — заговорила она. — Подойду к двери и опять отойду. Сердце так и выскакивает. А потом, как вошла, как позанималась один день… ребятки хорошие… ну, словно всю жизнь занималась с ними…
Сашенька замолчала и посмотрела в окно. Смеркалось. Поезд, притормаживая, медленно подходил к полустанку.
— Батюшки! — всплеснув руками, вдруг вскрикнула Сашенька. — А где же тот парень девался, который все смешил нас?
— Да я и на станции его не видал, — сказал солдат. — Но, кажись, пропасть не должен. Не из таких он.
— А я видела! Как мы в поезд садились, солдатики его повели. Руки назад скрутили, а он кричит, знай, — быстро проговорила сидевшая в углу толстая баба в платке.
— Будет врать-то! — рассердился солдат. — Экий народ! Не зря тебя вахмистр дурой обозвал. Дура и есть!
— От дурака и слышу, — равнодушно сказала баба, зевнув во весь рот.
Она прикрылась платком, пробормотала что-то и притихла.
— А ну, граждане, как у вас? И что у вас? — послышался в дверях веселый Митькин голос.
— Вот легок на помине! Долго проживешь, — с довольным видом сказала старушка.
— Я, мамаша, и тонул и в огне горел, мало на том свете не был, а все живой остался! — Митька усмехнулся, сморщив курносый, обсыпанный веснушками нос.
— Где пропадал? — спросил солдат.
— В разведку ходил.
— Чего?
— В разведку, говорю, ходил. Вот и трофей взял. — Митька с трудом вытащил из кармана новенький офицерский бинокль.
— Где взял-то? — изумился солдат, с восхищением оглядывая широкоплечую, еще не развитую, но обещающую стать богатырской Митькину фигуру.
— Где взял, там меня теперича нет, — важно сказал Митька.
— Ну и орел!
— У нас, у буденновцев, все орлы. Ворон мы не держим. Они нам без надобности.
— Да ты садись давай. — Солдат подвинулся, уступил место Митьке. — Как звать-то тебя?
— Митькой. А что?
— Дмитрием, значит..
— Нет, меня все Митькой зовут. Это у меня вроде кличка. В этом, как бы сказать, братишка мой виноватый.
Солдат удивленно посмотрел на него.
— А почему братишка? — спросил он.
— Да, видишь, дело какое. У меня братишка есть, маленький. Прислал мне письмо, а пишет плохо. Ну, мы всем взводом разбирали, хоть и сами не шибко грамотные. С тех пор все меня Митькой и зовут. Да вот я покажу.
Митька полез за пазуху и вытащил небольшой желтой кожи потрепанный бумажник. Порывшись в нем, он достал сложенный вдвое замусоленный и надорваный по краям лист серой бумаги и подал его Сашеньке.
— Нехай барышня прочтет, — сказал он. — Она, видать, хорошо грамотная.
Сашенька взяла письмо, быстро пробежала его глазами и, сдерживая улыбку, принялась читать вслух:
— «Митька, а Митька, здравствуй.
Митька, а ты ничего не знаешь? Колька-то, с которым яблоки-то воровали, убили его. Наших ребят многих поубивали. Митька, а ты еще живой? Пиши нам. Митька, а Митька, а ты ничего не знаешь? А у нас на огороде огурцы поворовали и морковку повыдергали. А я их догнал и не давал и говорю: вернется, мол, Митька, тогда даст вам жару. Митька, а Митька, а ты ничего не знаешь? Аленка-то Ермашова до нас часто в гости заходит, за тебя спрашивает. А как там наш батя, живой или нет? А мамка говорит, что письмо все одно не дойдет, потому все дороги Деникин занял. Чего ж вы плохо воюете? Эх, бы мне на войну, Митька! Я б всех бандюков порубал и дороги освободил!
Остаюсь твой братишка Алешка.
Письмо пущено 8 августа 1919 года».
Пока Сашенька читала, Митька, подперев щеку рукой, слушал, потихоньку вздыхал и покачивал головой. Уж очень живо представлялся ему и восьмилетний Алешка, пишущий это письмо, и заплаканные, потемневшие от волнения красивые глаза матери, когда она прошлый год прощалась с ним и отцом. И он думал о том, как им сейчас трудно одним. Да и живы ли они? Еще с весны Деникин занял Донбасс, и сообщение с домом прервалось. Письмо это привез через фронт товарищ. Неизвестно, как еще и жизнь повернется. Может, он и дома своего больше никогда не увидит… Он так задумался, что Сашеньке пришлось тронуть его за плечо.
— Ну что ж, раз дело такое, придется теперь и нам тебя Митькой звать, — усмехнулся солдат. — А фамилия твоя как?
— Лопатин мое фамилие. А у дедов было другое, — сказал Митька. — В пятом году батя новую фамилию купил.
— Зачем это? — удивился солдат.
— Видать, надо было.
— А как дедов твоих фамилия?
— Рубайло.
— Как?
— Рубайло… Чего скалишься? — Митька нахмурился. — Я верно говорю. Я и сам сознаю, что чудное фамилие: Рубайло! Гм… Видать, кто-то с моих дедов-сечевиков здорово рубал. Факт, а не реклама! У нас на Донбассе многие обитают с такими фамилиями: Рубайло, Догоняйло, Перебийнос, Белокрыс, Торба, Сова, Ручка, — загибая пальцы, начал перечислять он. — Ну и так и дальше. Все эти люди, как я понимаю, от сечевиков произошли.
— Это кто же такие сечевики? — спросил солдат.
— Было такое вольное войско. Запорожцы, или сечевики, назывались. Турков, татар воевали, польских панов рубали, — пояснил Митька.
— Да ты видал их, что ль?
— Видать не видал… Дед мне сказывал. Давно это было. А потом! Екатерина, царица — может, слыхал? — осерчала чего-сь на тех запорожцев да и повыселяла их на Кубань. Еще в песне поется:
Катерина, вражья баба, Шо ты наробила? Край широкий, край веселый Тай занапастила…неожиданно пропел он таким густым басом, что солдат невольно подвинулся, а толстая баба проснулась, разиня рот, уставилась на него, а потом, вдруг перекрестившись, плюнула и сказала:
— Тьфу! Нечистая сила! Ну и ревет! Чисто бугай!
— Не слыхал? Есть такая песня, — сказал Митька, пропустив замечание бабы мимо ушей. — Наши хлопцы эту песню доси спевают. Да. Часть запорожцев на Донбассе села, а остальные ушли на Кубань. Вот с тех пор и пошли от них кубанские казаки. Ну, а наши, которые по эту сторону Дона пооставались, те теперь больше шахтеры. Вот и мы с батей тоже шахтеры. Вместе с ним служили в четвертой дивизии у геройского начдива товарища Городовикова Оки Ивановича. Батю-то убили под Черным Яром. Я один остался. И дома не знают, что батя убитый. У Оки Ивановича много наших шахтеров, ну и казаков тоже.
— А разве казаки у красных служат? — удивился солдат.
— А как же! Которые сознательные, те все у Семена Михайловича. У меня среди них дружок есть, Харламов. Вот рубает! Как секанет, так до самого седла развалит. Он мне жизнь спас, как под Ляпичевом бились с генералом Толкушкиным. Меня в том бою поранили. Вот сюда и сюда, — Митька показал на грудь и на ногу. — Сколько время в госпитале лежал… Ну, теперь скоро повидаю ребят.
— Соскучал, значит, по своим?
— Три месяца не видался.
— Та-ак… А седло зачем?
— У нас так уже заведено: как в госпиталь, так и седло с собой берешь, чтобы не пропало, а легко раненный и оружие берет. Другой такой буденновец лежит, а у него под койкой и седло и шашка с винтовкой, а под подушкой гранаты, ну и другая всякая разная мелочь, — пояснил Митька.
— Непорядок это, — строго заметил солдат. — А врачи чего смотрят?
Митька усмехнулся и подправил под кубанку упавший на нос задорный вихор.
— Что врачи! Врачи нашего брата шибко уважают. Один меня все порошками кормил. Горькими. Надоедал, покуда я ему шутя гранатой не погрозился, ну, а… — Митька не договорил.
За окном полыхнула яркая зарница. Заглушая звуки идущего поезда, прокатился тяжелый грохот.
Они переглянулись и посмотрели в окно. В мутной мгле трепетало огромное зарево.
— Это он, гад Мамонтов, — скрипнув зубами, сказал солдат.
Митька с удивлением посмотрел на него.
— Ну? Откуда ему здесь быть?
— Да я его вот как видел, — солдат показал рукой. — Совсем рядом проехал. А разве ты его не видел?
— Я ж под вагоном лежал. Да нет, может, ты обознался?
— Я его знаю.
Митька в раздумье покачал головой.
— А я думал — Шкуро́. Там, на станции, шкуро́вцы были. Волчья сотня. У них на рукавах знаки такие… Ну, раз Мамонтов здесь, то, как пить дать, Семен Михайлович где-то поблизости. Эх, кабы знать!
— А кто такой Семен Михайлович, Митя? — спросила Сашенька.
У Митьки брови полезли на лоб.
— Эва! Старое дело, новый протокол! А? Семена Михайловича не знает! Чудно! Да ты что, с неба свалилась?
— А откуда ей знать? — резонно заметил солдат.
— Семен Михайлович Буденный есть первый красный герой и лихой командир нашего конного корпуса! — бойко отчеканил Митька. — Да мы с ним, с Семеном Михайловичем, сколько уж раз этого Мамонтова гоняли и били. И того, что меня поранил, генерала Толкушкина тоже лупили. Семен Михайлович тогда самолично Толкушкина в речку загнал. Толкушкин-то коня бросил и в камыши убежал. А Семен Михайлович коня его словил и себе взял. Добрый конь. Казбеком звать. Так теперь и ездит на нем… А меня аккурат в том бою и поранили.
Митька замолчал, вытащил из кармана кисет с махоркой и, сильно волнуясь, чело почти никогда с ним еще не случалось, стал крутить папироску.
— А я, товарищ, пожалуй, на следующей остановке сойду, — сказал он солдату.
— Зачем?
— Чую, что Семен Михайлович где-то поблизости.
— Уверен?
— А как же!
— Смотри, к Мамонтову не попади.
— Не таковский.
Зарево за окном разгоралось все шире, колыхаясь и охватывая горизонт. Временами ослепительным фейерверком взлетали в небо яркие брызги огня, и тогда раскатывался глухой, потрясающий окрестности грохот.
III
В окно настойчиво постучали. Федя, — он всегда спал одним глазом, — проснулся и, вскочив с лавки, подбежал к окну.
— Кто? — спросил он.
— Я. Открой, Федя! — послышался густой голос Зотова. — Будите Семена Михайловича.
Хлопнув дверью, Федя выскочил в сенцы. В хате было темно. Адъютант торопливо чиркнул спичку. Спичка зашипела, распространяя едкий смрад, загорелась синеньким огоньком. Адъютант зажег свечку и, быстро натянув сапоги, побежал будить Семена Михайловича.
Следом за ним в горницу вошел Зотов.
Буденный, одетый, стоял у стола.
— Разрешите?.. Товарищ комкор, получен приказ, — сказал Зотов. — Мамонтов прорвался на Таловую. Корпусу приказано войти в преследование.
Семен Михайлович быстро взглянул на него.
— Вызови ко мне начдивов и комбригов, — сказал он спокойно.
— Уже послано, товарищ комкор.
Буденный посмотрел на часы. Было без четверти шесть. За окнами начало светать…
В горницу входили командиры. Первыми, в сопровождении комбригов, пришли Апанасенко, начальник 6-й кавалерийской дивизии, осанистый, важный на вид человек с небольшими голубыми глазами на полном бритом лице, и политком Бахтуров, богатырского роста красавец, донской казак, в прошлом народный учитель, славившийся в корпусе как лучший оратор и красноармейский поэт. Следом за ним, высоко неся голову, быстро вошел невысокий подтянутый человек с монгольскими усами на скуластом лице — начдив-4 Городовиков Ока Иванович. Он был в серой смушковой папахе и кожаной куртке, крепко перехваченной боевыми ремнями. Несколько позже вошли комбриги: высокий худощавый Тимошенко; толстый, как бочка, Маслак, с опухшим хитроватым и красным лицом, и Мироненко — донецкий шахтер, ранее никогда не служивший и ничем не командовавший, но тем не менее обладавший отменной дисциплинированностью и гвардейской выправкой. Тимошенко и Мироненко сели рядом. Маслак медведем пролез в уголок, сел отдельно на скрипнувший под ним табурет, сложил пухлые руки на большом животе и, помаргивая заплывшими, сонными глазками, приготовился слушать.
На повестку дня были вынесены два вопроса: приказ разбить Мамонтова и приказ разоружить объявленного вне закона изменника Миронова[6], ранее формировавшего в Саранске красные кавалерийские части.
Еще до совещания, когда Семен Михайлович прочел под приказом подпись Сталина, он сразу почувствовал, что на Центральном фронте назревают большие события и что уничтожение Мамонтова — это только начало широкой операции, задуманной Сталиным. Вот почему, несмотря на то, что корпус не успел пополниться боевыми припасами, он все же решил немедленно выступить. Семен Михайлович был уверен в том, что он сможет быстро догнать и разбить Мамонтова.
— Я думаю, товарищи, — сказал он, ознакомив собравшихся с задачей, возложенной на корпус, — что с Мамонтовым мы быстро управимся. Били мы его под Царицыном, под Ольховкой и Дубовкой. В Дону купали. А теперь надо будет так его искупать, чтоб, как говорится, два раза окунуть, а один раз вытащить.
— Шоб душа с него вон и кишки набок, — пояснил с места Маслак.
— Плохо только, что мы остались без боеприпасов, — продолжал Буденный. — Иосиф Родионович, как у тебя со снарядами? — спросил он, внимательно взглянув на Апанасенко.
— На круг по десяти штук на орудие, Семен Михайлович, — сказал Апанасенко. — Да что говорить! Не в первый раз. Только, бы до Мамонтова добраться, а там всего найдемо — и снаряды и патроны.
— И какава, — подхватил Маслак.
«Спирту тебе, а не какао!» — сердито подумал Зотов, вынимая гребень и неторопливо причесываясь.
— А у тебя, Городовиков? — спросил Буденный.
Ока Иванович подкрутил усы, подумал и не спеша доложил, что у него во второй и третьей бригадах имеется по половине боевого комплекта на пушку, а в первой бригаде, у Маслака, почти все снаряды расстреляны.
— А патроны?
— Плохой дела с патронами, Семен Михайлович, — сказал Городовиков. — По пять-шесть штук на винтовку.
— А на шо нам патроны? Чи мы пехота? Шашками порубаемо, — заметил Маслак.
— Помолчи, Маслак, — сердито сказал Буденный. — Будешь говорить, когда спросят… Ну, для меня картина ясна, — продолжал он, помолчав. — Городовиков, передай Апанасенко сотню снарядов… Помогать товарищу надо, — сказал он, заметив на лице Городовикова выражение неудовольствия. — Сегодня ты ему снарядов, а завтра он тебе чем другим поможет. Да… Ну, вот как будто и все. Кто хочет сказать?
— Разрешите мне несколько слов, товарищ комкор? — попросил Бахтуров.
Семен Михайлович в знак согласия молча кивнул головой.
— Я хочу сказать не по существу поставленной корпусу задачи, — этот вопрос абсолютно ясен, — начал Бахтуров, — а по поводу некоторых замеченных мною дефектов.
— Ну, ну, говори, — сказал Буденный.
— Ну так вот, некоторые из нас забывают о том высоком назначении, которое выполняет Рабоче-Крестьянская Красная Армия, — продолжал Бахтуров. Его красивое, чисто выбритое, сильное лицо покраснело от гнева. — Забывают об этом высоком назначении и позорят свое звание.
— Ты говори прямо — кто? — сказал Семен Михайлович.
— Я имею в виду Маслака. Вчера почти всю бригаду напоил.
— Ну и шо? Погуляли хлопцы — и баста! Хиба ж это плохо? — заметил Маслак, передернув плечами.
— Погуляли? А две скирды сена кто растащил?
— Так ко́ням скормили! Все одно народное достояние!
— Странная у тебя логика, Маслак… А потом вот старики приходили, жаловались. Кто у тебя к попу в постель забрался?
— Ну, боец один. Так он не виноватый! На той койке, у колидори, раньше дивчина спала. А он, боец, прийшов ночью. Темно. Пошукал рукой, видит волос длинный. Ну и зибрался. Я это дило добре расследував. Знаю. Поп сам виноватый, шо у колидори лег спать!
— Следовательно, ты считаешь, что у тебя все в порядке?
— А шо?
— А то, друг, что у тебя, куда ни посмотришь, дефекты!
Маслак поднялся с табурета. Его полная шея покраснела, налилась кровью.
— И чого до мене уси чипляются? — захрипел он, багровея. — Дехвекты! Я и сам знаю, что у бригади есть отрицательные дехвекты. А ты за положительные дехвекты скажи! Хто у Попова батарею зибрав? Я! Хто охвицерский полк порубав? Я!
— Я вижу, что ты не хочешь меня понять, Маслак, — спокойно заговорил Бахтуров. — Я замещаю заболевшего политкома корпуса. Следовательно, ты обязан принять к немедленному исполнению все то, что я тебе сказал. Запомни, что при первом же замечании я поставлю вопрос о снятии тебя с бригады. Говорю это тебе как представитель партии большевиков. Так что имей это в виду.
— Так! Все понятно! — Семен Михайлович, нахмурившись, постучал по столу. — Садись, Маслак, и помни, что если только допустишь еще подобное безобразие, то — трибунал. Два раза я не люблю говорить. Ты меня знаешь.
Маслак покрутил носом и, ворча что-то, уселся на табурет.
Дверь скрипнула. В горницу вошел адъютант.
— Товарищ комкор, — обратился он к Буденному, — Дундич прибыл из разведки. Просит принять.
— Дундич? — Семен Михайлович, сразу повеселев, взглянул на Бахтурова. — Гляди-ка! А? Как по заказу! Ловок! Зови его скорей!
Адъютант открыл дверь и пропустил быстро вошедшего Дундича, который, храня строгое выражение на безусом, загорелом лице, остановился у стола напротив Буденного. На нем была сдвинутая набок серая кубанка, открывавшая высокий чистый лоб с падавшими на него потными завитками темных волос, забрызганная грязью куртка и краповые[7] бриджи, туго перехваченные ниже колена высокими сапогами со шпорами. Человеку, не знавшему его, трудно было поверить, что этот совсем еще молодой серб с добрыми голубыми глазами и мягкими чертами тонкого, как у девушки, красивого лица был настолько умен и бесстрашен, что товарищи, не задумываясь, шли с ним на самое опасное дело. В мировую войну освобожденный русскими из австрийского плена вместе с несколькими товарищами, ранее служившими с ним в одном из гусарских полков сербской армии, Дундич, от природы честный человек, в октябре семнадцатого года со всем юношеским пылом примкнул к пролетарской революции и, вступив в Красную Армию, за короткое время завоевал почти легендарную славу.
Собравшиеся, умолкнув, приветливо смотрели на Дундича. Один лишь завистливый от природы Маслак со скрытой враждой, исподлобья глядел на него.
— Ну, рассказывай, Иван Антонович, — ласково обратился к Дундичу Буденный.
При общем молчании Дундич доложил об исполнении возложенной на него задачи. Обнаружив у хутора Зимняцкого движение больших конных масс противника в северном направлении, он увязался за ними и установил, что имеет дело с корпусом Мамонтова. В корпусе до пяти тысяч сабель при восьми четырехорудийных батареях. Но — и это самое главное — несколько дней назад в этом же направлении прошли какие-то другие конные части противника еще большей численности.
«Кто бы это мог быть?» — подумал Буденный. Он с немым вопросом посмотрел на Дундича.
Дундич пожал плечами.
— А откуда ты узнал, что видел Мамонтова? — спросил Семен Михайлович.
— От зороблянника… От плэнного! — быстро поправился Дундич.
— Где он?
— Нэ хотэл пойти. Понимаэтэ?
— У тебя потери есть?
— Нэт, товарищ комкор. Толко трофэи, — сказал Дундич, решительно взглянув на Семена Михайловича.
— Ну, ловок! — сказал Буденный.
Он, перегнувшись через стол, пошептался о чем-то с Бахтуровым, потом поднялся, объявил совещание закрытым и приказал начдивам приготовиться к выступлению.
IV
Застилая даль мокрым туманом, сеял мелкий, надоедливый дождь. Лошади скользили по раскисшей дороге, спотыкались, месили копытами вязкую глину. Медленно тянулись залепленные грязью по ступицы пулеметные тачанки и пушки. Ездовые скрепя сердце секли плетьми выбившихся из сил лошадей.
Ока Иванович Городовиков ехал на своем обычном месте перед первой бригадой и, ощущая, как за спину стекали холодные струйки воды, с досадой думал о том, как часто случайность ломает удачно задуманный план. С момента выступления из Усть-Медведицкой дождь лил, почти не переставая, вот уже третьи сутки, и корпус только что прошел станицу Аннинскую, тогда как, по предварительным расчетам, должен был к этому времени достичь Таловой.
Но нет худа без добра. Изменник Миронов, случайно перехвативший один из приказов Буденного, решил, что конный корпус уже прошел на Таловую. Высланная Мироновым разведка подтвердила его предположения, сообщив, что какие-то конные части прошли в северном направлении. Это был Мамонтов. Разведка, наблюдавшая издали, донесла, что видела буденновцев. И теперь Миронов, двигавшийся со своим сводным корпусом беспечно, без охранения, по пути грабя хутора и станицы, не знал о приближавшейся к нему дивизии Городовикова и не принял мер к обороне.
По обе стороны от дороги лежала бурая грязная степь. Кое-где на почерневшем жнивье виднелись мокрые скирды неубранного хлеба. Впереди сквозь частую сетку дождя неясно маячили фигуры конных дозоров.
Лошадь под Окой Ивановичем оступилась. Он нагнулся с седла, но вдруг поднял голову, услышав частый топот копыт. Навстречу ему тяжелым галопом скакал дозорный.
— Мироновцы, товарищ начдив! — коротко крикнул дозорный, подъезжая к нему и придерживая заскользившую лошадь.
— Где?
— А вот… в хуторе. Навстречу идут.
Ока Иванович выхватил шашку, быстро повернулся к рядам и подал команду.
Выворачивая колесами пуды липнувшей грязи, пулеметные тачанки рванулись влево из колонны. Ездовые, широко раскинув руки, привстав на сиденьях, лихим гиком бодрили лошадей. Свернув с дороги, тачанки во весь мах помчались вперед.
Городовиков, обгоняя тачанки, бешеным карьером кинулся в хутор. Пятерка отборных бойцов бросилась следом за ним. Ока Иванович скакал с обычным ему чувством уверенности, что сейчас, как и всегда в атаке, ничто не устоит перед ним. Об опасности, угрожавшей ему, он не думал. Да думать и времени не было. Лошадь, чувствуя всадника, смело несла его прямо на выстраивающуюся вдоль улицы конницу. Там, дыбя серого жеребца и размахивая руками, суетился, митинговал человек в офицерской папахе и бурке. Перед Городовиковым мелькнуло красно-багровое, забрызганное грязью лицо с рыжими усами. И он сразу понял, что это Миронов.
— Зарублю!.. Гад!.. Изменник!.. Продажный шкура! — бешено закричал Ока Иванович, страшно вращая белками темных, полных ярости глаз и ввертывая в речь русскую и калмыцкую брань. — Сдавай оружие! Арестован!
— А ты? А ты кто такой?! — злобно крикнул Миронов, с ненавистью глядя на него.
— Начдив!
— А почему ты меня за врага считаешь?
— Молчать! Сдавай оружие, а не то…
Миронов исподлобья глянул вокруг, увидел повернувшиеся на него пулеметы, сказал, побледнев:
— Давай разойдемся на четыре версты и ударимся.
— Нет! Мы не будем со своими биться. Будя, отвоевались. Так что, ребята, видать, ошибка произошла, — сказал, выезжая из рядов, чернобородый мироновец.
— А вы что? — закричал Городовиков на мироновцев. — Вы что нож нам в спину вонзаете? А ну, слезай! Сдавай затворы!..
Мироновцы покорно спешивались; переговариваясь между собой, со страхом поглядывали на Городовикова.
— Вот это да!.. — проговорил чей-то голос.
— Это кто ж такой есть?
— Видать, боевой…
— Что и говорить, командир подходящий.
— Вот бы у такого послужить…
— Нет. Видать, навоевались.
— Теперя нас под расстрел? Или как?..
Со степи наплывал быстрый конский топот. На-рысях подходила дивизия.
Разоружив мироновцев и отобрав от них тысячу пятьсот подседланных лошадей, бойцы, по распоряжению Городовикова, расходились по дворам обогреться.
Харламов, мокрый до нитки, приглядывал хату… К нему подошел казачонок в нахлобученной на уши старой фуражке.
— Вы что, дядька, красные? — спросил он, поддернув длинные, не по росту, подвернутые и замызганные снизу штаны.
— Красные. А чего?
— Бандюк у нас в куренях. Тетку ограбил и к нам забежал.
— А где ваша халупа?
— Эвон с краю.
Харламов крикнул Меркулова, того самого, с которым брал батарею, немолодого, степенного на вид казака, и они, предводимые казачонком, ведя лошадей в поводу, пошли по улице.
Когда они вошли в хату, там уже полно набилось народу.
Толстый, как кабан, рыжий детина в новенькой генеральской шинели на красной подкладке, которая была почти одного цвета с его широким потным лицом, злобно ощерясь и бегая мышиными глазками, тянул из рук молодого бойца в рваной шинели брезентовый патронташ. Несколько бойцов с любопытством смотрели на эту картину.
— Давай пусти! — хрипел мироновец. — Я ж говорю — ничего тута нет. — Он с усилием тряхнул головой, отчего его щегольская кубанка сдвинулась на затылок, открыв ловко зачесанный чуб.
— Чего ты с ним канителишься! — сказал Харламов красноармейцу в рваной шинели. — Вдарь ему по-бойцовски! Ишь, мурло наел! Барахольщик!
— Какой я такой барахольщик? Я в жись ничего чужого не брал! — со слезой крикнул мироновец, продолжая изо всех сил тянуть к себе патронташ.
— А ну, граждане, как у вас? И что у вас? — сказал в хате знакомый насмешливый голос.
Харламов оглянулся.
В дверях стоял Митька Лопатин с осунувшимся, но, как всегда, веселым лицом. На плече у него лежало перевязанное веревкой седло.
— Тю-ю! Митька!
— Лопатин!
— Здорово, дружок!
— Здорово, ребята, — важно сказал Митька. Он бережно положил седло на лавку. — Ух, упарился! Я ее, окаянную силу, — кивнул он на седло, — пятьдесят верст на себе пеший пер. Было пропал за нее.
— Ты как попал сюда, Митька? — спросил Меркулов.
— Так и попал. Ехал поездом с госпиталя. Крестника видел.
— Какого?
— Мамонтова.
— Ну?
— Ага! Он, гадюка, Таловую спалил… Ну, думаю, раз он здесь, так и Семен Михайлович где-то поблизости. И вот, как в воду смотрел, — не ошибся. А вы, ребята, чего тут делаете?
— А вот мироновского барахольщика поймали, — сказал боец в рваной шинели.
Митька подмигнул Харламову, придвинулся к мироновцу и в упор взглянул на него.
— А-а, знаем мы вас, были вы у нас — самовара не стало, — сказал он насмешливо.
— Ты и верно знаешь его? — поинтересовался Харламов.
— Конёво-дело… У Жлобы служил? — коротко спросил Митька мироновца.
Тот бросил на него косой быстрый взгляд.
— Служил. А что?
— Ну вот, точно! Он самый. Известный воряга, — пояснил Митька. — Давайте-ка я его потрясу. А ну, ребята, держите его.
Митька ловко стал шарить по глубоким карманам мироновца, выкладывая на стол золотые часы, браслеты и кольца. Потом он раскрыл патронташ и вытряхнул из него какие-то золотые комочки.
— Эге!.. А ты, видать, парень запасливый, — сказал он, усмехнувшись. — Эвон сколько на старость зубов приберег! Да тут их на целый взвод хватит.
— Это ты где, гад, награбил? — спросил Харламов, с искаженным лицом подступая к мироновцу. — Ну? Говори!
— А чего говорить! Иначе не забогатеешь вовек, ежели временем этим не пользоваться, — сказал мироновец, не глядя на него.
— Не забогатеешь? Так ты, стал быть, шел в Красную Армию за богачеством?
— Вы вот что, ребята: берите себе половину и пустите меня.
Харламов подвинулся к мироновцу. Ноздри его гневно вздрогнули.
— Да ты что, по себе всех меряешь? — заговорил он, багровея. — Ты думаешь, всех можно купить? Мы жизнью для победы рискуем и даже вовсе об этом не помышляем, а ты, гад, что нам предлагаешь? Эх, не привык я лежачего бить. Да и рук не хочу марать о такую заразу. А ну, братва, пошли до сборного места. Там ужо разберутся.
— Стойте, ребята, — сказал Митька. — У меня есть предложение. Вон у Черняка шинель вовсе худая. Надо бы ему заменить. А? Как с вашей точки?
— Да ты, Митька, сам бы сменял. Гляди, какой рваный, — сказал Меркулов.
— Ничего, я покуда так похожу.
— Ну что ж, нехай Черняк берет, — сказал один из бойцов. — Бери все. Вон галифе какие, да и сапоги хорошие.
— Бери, бери, Черняк. Носи на здоровье, — поддержали голоса.
— А ну, раздевайся! — твердо сказал Митька мироновцу.
Бандит, бешено взглянув на него, хрипло спросил:
— А я как же буду?
— На том свете ты и так походишь, — успокоил Митька. — Там одежа без надобности…
Спустя некоторое время они гурьбой вышли из хаты. Дождь перестал. По улице вели толпу пеших мироновцев. На окраине хутора штаб-трубач играл сбор.
V
В большом купе салон-вагона при свете свечи сидели за столом два человека. Один из них, плотный, крупном роста, в полковничьих погонах, говорил густым уверенным голосом, положив большие волосатые руки на стол. Другой, седоватый капитан, молча слушал его с сосредоточенным выражением на собранном в морщины старом лице.
— Сейчас мы переживаем наиболее острый момент, — веско говорил полковник. — Мы подходим к Москве и должны быть чрезвычайно осторожны в высказывании своих истинных взглядов. Мы не предрешаем ни будущего государственного устройства, ни путей и способов, коими русский народ объявит свою волю. Вот какая позиция должна быть сейчас у нашей печати, Алексей Николаевич. Это установка верховного командования, и тебе, как новому начальнику Освага, надлежит руководствоваться ею. — Полковник развернул лежавшую на столе газету и, взяв красный карандаш, подчеркнул один из подзаголовков. — Тебе знакома эта статья? — спросил он, нахмурившись.
Капитан приподнялся на стуле и, прищурив глаза, заглянул в газету.
— Читал, — сказал он.
— Читал… Ты, капитан, новый человек в Осваге, поэтому на первый раз попрошу тебя передать этому прохвосту и дураку — редактору газеты, что если он еще раз осмелится без моего ведома напечатать что-либо подобное «Скорби о белом царе», то я публично выдеру его шомполами, а потом повешу на фонаре. Честное слово!.. Нет, ведь каков мерзавец! Он принес нам страшный вред. Знаешь, как господа либералы используют эту статью для своей агитации?
Полковник помолчал, выражая на своем полном лице крайнее неудовольствие, потом вынул из кармана носовой платок, провел им по большому залысому лбу и продолжал:
— Будем смотреть правде в глаза: большинство, — я имею в виду широкие народные массы, — относится к нам с тревогой и ненавистью, меньшинство — с признанием и надеждой. Надо сделать так, чтобы все видели в нас своих избавителей. Цель оправдывает средства. Наполеон говорил, что он всегда готов был у нужного ему человека поцеловать любое место. Мне, как русскому офицеру, это, конечно, претит. Но что делать? Обстоятельства заставляют. «На войне все средства хороши», — сказал Клаузевиц. Вот именно: все для победы… Ну, а когда мы возьмем и очистим Москву, — при этих словах у полковника нервически задергался живчик над глазом, — тогда мы заговорим во весь голос. Ты, Алексей Николаевич, знаешь меня не первый год. За учредилку умирать я не буду…
В коридоре послышались шаги. Кто-то шел, стуча каблуками.
— Генерал, — сказал полковник, прислушиваясь.
Шаги замерли напротив купе, дверь шумно раскрылась, и вошел небольшой рыжеватый человек с щетинистыми усами и прической бобриком.
— Что, заняты? — спросил он отрывисто, скользя взглядом круглых и желтых, как у ястреба, глаз по вставшим перед ним офицерам.
— Никак нет, — сказал полковник. — Разрешите представить вам нового начальника Освага.
— Освага? — генерал недоброжелательно посмотрел на капитана. — Откуда прибыли?
— От генерала Сидорина, ваше превосходительство.
— Та-ак-с… Там у вас, в Осваге, капитан, собралась шайка-лейка, — сердито заговорил генерал, шевеля широкими ноздрями короткого носа. — Дамочки какие-сь там, барышни разные. Вот! По-моему, надо поразогнать эту компанию и набрать новых работников. Вы займитеся этим делом, господин капитан, а не то я сам до них доберусь, не будь я Шкуро́. Вот… Полковник, вы, как освободитесь, зайдите ко мне, — неожиданно сбавив тон, произнес он общительно и, вильнув привешенным к башлыку пышным волчьим хвостом, скрылся за дверью.
Начальник штаба и капитан переглянулись.
— Видал, Алексей Николаевич? — тихо спросил полковник, смеясь одними глазами.
— Да-а… — протянул капитан. — А мне почему-то казалось, что он академик.
— Кто? Он? — начштаба расхохотался. — Вчерашний казачий урядник. Ты, следовательно, не знаешь, как он попал в генералы.
— Нет. А как?
— Нажал на раду, погрозил кого-то там повесить, ну, рада и произвела его. В наши времена и не то может случиться, Алексей Николаевич.
— Да что ты говоришь! А я ведь считал… Помнится, в германскую войну был какой-то подполковник Шкуро. Я думал, тот самый.
— Федот, да не тот… Но все же надо отдать ему справедливость: умеет себя держать. В Бонапарты, конечно, не годится, но есть такой, знаешь ли, оперативный полет мысли, — полковник, подняв руку, пошевелил пальцами, — и, главное, весьма авторитетен среди казаков, все же свой человек… У нас два таких лихача — он и Покровский. Тот тоже самопроизвелся.
— Позволь, а Мамонтов?
— Мамонтов? Ну, этот кадровый. Большого масштаба человек. Говоря между нами, его прочат в коменданты Москвы… Ну, ладно, дорогой. Ты пока посиди, покури, а мне нужно к генералу.
Полковник взял со стола папку с бумагами и, блеснув аксельбантами, вышел в коридор.
Шкуро в позе Цезаря стоял за столом и на вопрос полковника: «Разрешите?» сделал привычный жест, величественно махнув рукой вниз, словно допускал вошедшего к целованию ног.
Внутренне усмехнувшись, полковник подошел к столу.
— Ну, что у вас нового? — спросил Шкуро, взглянув на него снизу вверх.
— Получена директива генерала Сидорина, Андрей Григорьевич, — спокойно сказал начальник штаба.
Он раскрыл папку и положил перед присевшим к столу генералом несколько скрепленных вместе листов с мелко напечатанным текстом.
— Чего они тут пишут? — спросил Шкуро, сдвинув рыжие брови.
— Это в развитие приказа номер ноль пятнадцать, Андрей Григорьевич. Командующий армией подчиняет вам на время операции генерала Мамонтова, — пояснил полковник.
Шкуро самодовольно усмехнулся и покачал головой.
— Та-ак-с… Мамонтова, значит, подчиняет. Гм… Здорово! — Он поднял голову и отложил директиву. — Ну, это я потом прочту. Тут что-то много написано…
— Андрей Григорьевич, получен приказ верховного главнокомандующего, — сказал начальник штаба.
Шкуро, насторожившись, быстро взглянул на него.
— Насчет чего?
— О запрещении расстрелов.
— Ну? Дайте сюда.
Начальник штаба вынул из папки и положил перед Шкуро напечатанный на машинке приказ.
— Вот это правильно, — заговорил генерал, читая текст. — Давно пора. Вполне одобряю и понимаю этот приказ так, как нужно. Надо только вешать. Вот. Веревка — это, знаете… — Шкуро, не находя слов, пощелкал пальцами.
— Лучший аргумент психологического воздействия на массу, — подхватил начальник штаба.
— Вот, вот! Правильно говорите, полковник.
На столе резко зазвонил телефон.
Шкуро взял трубку.
— Да… Что, что? Как вы сказали?.. Орел? Очень хорошо… Благодарю вас, сотник.
Он положил трубку, откинулся в кресле и некоторое время смотрел в потолок. Потом, взглянув на начальника штаба, он сказал весело:
— Всеволод Николаевич, наши войска взяли Орел!
Полное лицо начальника штаба расплылось в улыбке.
— Да что вы говорите, Андрей Григорьевич! Вот это удача! — сказал он, весь просияв.
Шкуро отодвинул кресло, встал и, прихватив свечу, подошел к висевшей на стене карте. Взяв трехцветный флажок, он старательно переставил его на новое место.
— Ну, еще удар — и Москва, — заговорил он, помолчав. — В былое время всего восемь часов езды поездом. Да… Всеволод Николаевич, во исполнение приказа генерала Сидорина мы должны немедленно связаться с Мамонтовым. Хотел бы я знать, где он может находиться в настоящее время?
— Я докладывал вам, Андрей Григорьевич. По сведениям авиации, какие-то конные части сегодня прошли Бобров и движутся сюда, на Воронеж, — сказал начальник штаба.
— Ну да. Это Буденный. И мы, как полагается, встретим его. А Мамонтов, по-моему, сидит где-нибудь в районе Калача или Бутурлиновки.
— А вы уверены, Андрей Григорьевич, в том, что именно Буденный идет на Воронеж?
— А кто же? Мамонтов не мог так быстро пройти в этот район. Давайте посылайте аэроплан. Скажите пилоту, пусть ищет Мамонтова в треугольнике Калач — Бутурлиновка — Таловая. Дайте ему для вручения Мамонтову копию приказа генерала Сидорина.
— Слушаю. Когда прикажете послать аэроплан?
— Сейчас и посылайте. Да, вот что: пошлите английского офицера. Он человек вполне подходящий и к большевикам не перелетит. — Шкуро прошел к столу и уселся в кресло. — У вас больше ничего ко мне нет? — спросил он начальника штаба.
— Список, ваше превосходительство.
— Какой список?
— Список арестованных рабочих железнодорожных мастерских, заподозренных в симпатии к большевизму. Вы приказали вам доложить. Военно-полевой суд не принял никакого решения за недоказанностью обвинения.
— Та-ак-с! Дайте я посмотрю.
Генерал просмотрел список, обмакнул перо в чернильницу, подумав, подержал его на весу и твердым крупным почерком вывел: «Повесить. Шкуро».
Харламов и Митька Лопатин, высланные в боковой дозор, ехали рядом стремя о стремя.
Погода выдалась хорошая. Светило осеннее, но еще яркое солнце. Со степи, нанося горьковатый запах полыни, подувал легкий ветер. Быстро подсыхала дорога.
Митька, промерзший за последние дни до костей грелся на солнышке, потягивался, весело посматривал по сторонам и улыбался.
— Чего ты все улыбаешься? — спросил Харламов, внимательно посмотрев на приятеля.
— Да все одного товарища вспоминаю.
— В юбке, что ли?
— Угадал… Эх, Степан, какая в поезде дивчина ехала! Умру — не забуду, — мечтательно заговорил Митька. — И до чего хороша! Волос — ну, скажи, золотой, а глаза синие-синие.
— Из каких она? — спросил Харламов.
— Учителева дочка. Ласковая да веселая такая. Вот как зажмурюсь, так и стоит перед глазами, будто живая. А потом…
Митька вдруг замолчал, поднял голову и прислушался, вглядываясь в редкие курчавые облака. Там, в легкой синеве неба, раздавались тонкие звенящие звуки.
— Степан, слышишь, жужжит? — спросил он товарища.
— Ероплан! — вскрикнул Харламов.
— Где?
— А вон по-над облаком!
Высоко в небе летел биплан.
Колонна остановилась. В рядах спешно прятали красные значки и знамена.
Звенящие звуки перешли в грозный, воющий гул. Биплан, кружась над колонной, снижался.
Митька, задрав голову, следил за самолетом.
С пронзительным воем биплан летел вдоль колонны. Теперь отчетливо была видна черная голова смотревшего через борт пилота. В рядах на разные голоса что-то кричали, призывно махали фуражками, шапками и просто руками. Отлетев в сторону, биплан опустился; подпрыгивая, пробежал по степи и, чихнув мотором, остановился.
— Митька, даешь! — крикнул Харламов, толкнув лошадь с места в галоп.
Они поскакали к самолету.
Блеснув стеклами больших четырехугольных очков, пилот обеими руками снял с головы кожаный шлем.
— Касаки? — с не русским акцентом спросил он Харламова, который, придерживая лежавшую поперек седла винтовку, настороженно смотрел на его сухое лицо.
— Казаки, — твердо сказал Харламов. — А ты кто такой?
— Олл райт! Хорошо! — пилот осклабился, показав крупные желтые зубы, и вдруг, придав лицу смиренное выражение, осенил себя широким крестом. — Айм… ю… Ошен рад. Хай ду ю ду?[8] Будьте здоровы.
— Здорово!.. — выжидающе сказал Харламов.
В стороне послышался быстрый конский топот.
Харламов оглянулся. В сопровождении ординарца к ним скакал Городовиков.
— Ну, в чем дело, ребята? — спросил он, подъезжая.
— Да вот какой-то прилетел, товарищ начдив, — Харламов показал винтовкой. — Вроде не русский.
— Мамонтовуесс? — спросил пилот, признав в Городовикове командира.
— Мамонтовцы, — подтвердил Ока Иванович.
— О, вери гуд![9] Я есть энглиш пилот, — радостно улыбаясь, заговорил англичанин. — Я имей… Как это русску говорит? Ага!.. Я имей пакет ту джонералл Мамонтов.
— А ну, бери его, ребята, — сказал Городовиков. — Абучимов! — позвал он ординарца. — Скачи к Семену Михайловичу. Передай — срочный дело!
Харламов толкнул лошадь к самолету и, вскинув к плечу винтовку, крикнул:
— А ну, руки кверху!
— Уай![10] — в ужасе крикнул пилот. — Вы буденновуесс? — он откинулся назад, схватившись за борта кабины.
— А ну, вылазь! — грозно сказал Харламов, глядя в его побледневшее, с подрагивающими губами, сразу ставшее ему ненавистным лицо. — Оробел?… Митька, держи моего коня. Я его так возьму.
Он быстро спешился, бросился к англичанину, сгреб его в охапку и со словами: «Ну-ка! Кабы мне тебя не сломать!» — вытащил его из кабины и поставил на землю.
Весь съежившись и втянув голову в плечи, словно его охватил ледяной холод, пилот застыл с поднятыми руками.
— Митька, слазь! — распоряжался Харламов. — Обыщи его, а я постерегу. — Он угрожающе щелкнул затвором винтовки.
Митька спешился и, закинув повод на руку, стал обыскивать летчика..
— Вот и пакет, товарищ начдив, — сказал он, вынимая из бокового кармана комбинезона толстый пакет и подавая его Городовикову.
Ока Иванович взял пакет и тронул лошадь шагом навстречу Буденному, который в сопровождении Бахтурова, Зотова и еще каких-то всадников быстро скакал к самолету.
— Пакет генералу Мамонтову. По ненахождений такового вручается вам, Семен Михайлович, — улыбаясь, объявил Городовиков, когда Буденный, придерживая лошадь, подъехал к нему.
— Ловко! На ловца и зверь бежит, — сказал Буденный. — Вот это да!
Он подъехал к самолету, бросил косой взгляд на пилота и распечатал пакет.
Перехваченный приказ командующего Донской армией генерала Сидорина раскрывал карты белых. Это был почти фантастический случай. Казалось, сама судьба ворожила большевикам.
Теперь, когда Семен Михайлович знал, что Шкуро занял Воронеж и ждет туда Мамонтова, он мог действовать с открытыми глазами. Против двенадцати полков его корпуса стягивалось двадцать два вражеских полка.
В это время Мамонтов, не подозревая, что его ждал уготовленный Шкуро для Буденного ураганный огонь батарей, быстрым маршем подвигался к Воронежу.
VI
— Если мне не изменяет зрение, то Мамонтов лупит Шкуро, — сказал Дундич, опуская бинокль.
— А может быть, наоборот? — предположил Зорич, товарищ Дундича по службе в гусарах, чернявый серб с густыми усами.
— От перестановки слагаемых сумма не изменяется, — заметил Дундич, вновь поднимая бинокль к глазам. — Однако там дело принимает серьезный оборот. — Он посвистел. — Смотри-ка, что делается!
Перед ними, — они лежали на заросшем бурьяном кургане, — как на ладони, раскрывалась живописная панорама Воронежа. Желтые купы деревьев, ровные ряды, уходивших в глубину улиц и высокая белая колокольня с горевшим, как факел, крестом картинно вырисовывались на багровом фоне заката. Тяжелый грохот раскатывался в темнеющем небе. Тут и там возникали белые клубочки шрапнелей. В степи перед городом тоже происходило движение. Правее того места, где лежали они, перебегали, нагнувшись, фигурки людей, казавшиеся крошечными издалека. Позади них в стороне Усмани шевелилась за холмами какая-то темная масса. Оттуда вперебой стрекотали пулеметы и выходили ровные, как на ученье, длинные цепи солдат. Среди них взлетали черные вихри рвавшихся снарядов. Левее, у самой окраины города, где поднимался высокий столб пыли и откуда доносился многоголосый сливающийся крик, кружился всадник, размахивая шашкой.
— Вот бы этого снять, — сказал Зорич.
— Не достанет. Здесь больше трех верст. Ты знаешь, мне пришла одна мысль.
— Ну?
— Они сейчас встретятся, как следует быть изругают друг друга и, соединившись, войдут в город. Вот я и думаю: что, если мы под шумок войдем вместе с; ними и, пользуясь темнотой, устроим им панику?
— Идея хорошая, — поддержал Зорич, потрогав горбатый нос, — но ведь нас только шесть человек.
— Ну и что же? Для такого дела чем меньше, тем лучше. Слушай… — Дундич подвинулся к товарищу и, изредка поглядывая на поле сражения, стал не спеша объяснять задуманный план.
Полки корпуса Мамонтова входили в Воронеж. Конский топот, остервенелые крики ездовых и железное громыхание артиллерийских запряжек будоражили погруженные во мрак пустынные улицы.
Солдаты, удрученные сознанием неожиданно пережитого позора, вяло переговаривались, вполголоса ругали начальство и угрюмо посматривали на редко освещенные окна.
Сотник Красавин стоял на перекрестке у городского театра и, сердито покрикивая, распоряжался движением.
— Какого полка? Эй, фигура, кому говорю? — хриплым голосом спрашивал он, стараясь рассмотреть при свете месяца проходившую часть.
— Семьдесят шестого непобедимого, — грубо сказал из рядов чей-то голос.
— Как отвечаешь, мерзавец! — крикнул Красавин. — Смотри! Я до тебя доберусь!
— Найди попробуй, ваше благородие, — буркнул под нос казак. — Покричал бы в степи, когда своя своих били.
К сотнику подъехал усатый вахмистр бравого вида. Щуря глаза на блестящие полоски погон, он спросил вежливо:
— Ваше благородие, а двенадцатому полку куда прикажете становиться?
— Двенадцатому? Третья улица направо. Спросишь Жандармскую. Там на углу ждут квартирьеры. Понятно? Езжай!
Вахмистр поблагодарил и тронул лошадь рысью по улице.
Мимо Красавина прошла последняя сотня. Он собрался было итти, как вдруг в темноте вновь послышался конский топот.
— Эй! Какой части? — окликнул сотник, увидя надвигавшуюся на него группу всадников.
— Штаба корпуса, — сказал в ответ молодой, бодрый голос.
— Какого корпуса?
— Гэнэрала Мамонтова… Поручик князь Микэладзэ, — представился подъехавший офицер. Он нагнулся с седла, блеснув газырями нарядной черкески. — А ви, сотник, что тут подэливаэтэ?
— По долгу службы… А эти, князь, с вами? — Красавин показал на оставшихся поодаль четырех всадников.
— Да. То мои ординарци, — сказал Дундич. — Скажитэ, как нам проэхат к штабу корпуса?
— А вот за углом. Четвертый или пятый дом по правой руке. Да там увидите.
— Проститэ, сотник, но я вас гдэ-то встрэчал, — сказал Дундич. — Ви нашэго корпуса?
— Нет, генерала Шкуро.
— Ах, вот как! — Дундич усмехнулся. — Ну, ви, признаться, основательно всипали нам. Да. — Он, звякнув шашкой о стремя, спешился, передал лошадь Зоричу и, вынув из кармана золотой портсигар, предложил Красавину папиросу.
— Благодарю, князь. Не курю, — отказался Красавин.
На улице послышался грузный топот множества ног. Бойко отбивая шаг по мостовой, к перекрестку подходил взвод солдат.
— Кто идет? — окликнул сотник. — Старший, ко мне!
От строя отделился человек, подбежал к Красавину и, увидев офицера, сказал:
— Так что, разрешите доложить, застава, ваше благородие.
— Куда заступаете?
— А вон на перекресток, ваше благородие.
— Ну, хорошо. Ступай. Да смотри, чтоб уши не вешали.
— Слушаю, ваше благородие. Не извольте беспокоиться.
Унтер-офицер четко повернулся и, придерживая шашку, побежал к остановившемуся взводу.
— Нэ понимаю всэ жэ, сотник, как это ви в полэ сразу нас нэ узнали? — спросил Дундич.
— И понимать нечего, князь, — грубо ответил Красавин. — Мы ждали Буденного.
— То-то ви нэ жалэли снарядов. У вас, видно, болшие запаси?
— А что? — Красавин подвинулся и пристально посмотрел в лицо Дундича. — Так вы из штаба корпуса, князь?
— Да. Я вам ужэ говорил.
— И давно вы при штабе?
— С лэдяного похода.
— Гм… Вот как! Давненько.
Зорич вздрогнул, увидев, как сотник бросил на Дундича полный подозрения взгляд. Рука серба тихо скользнула в карман, где лежала граната. Это движение и выражение тревоги и беспокойства на лице Зорича не ускользнули от Красавина и укрепили возникшее у него подозрение.
— А я, князь, всех штабных в лицо знаю. И, признаться, вас там не встречал, — сказал он, пытливо глядя в лицо Дундича.
— Да что ви говорите! — Дундич громко рассмеялся. — Как жэ это, сотник, ви мэня нэ замэтили? А? Хотя очэнь можэт быт. Вэд я послэ ранэния долгоэ врэмя отсутствовал. И вот только на-днях заступил.
— Вы не то лицо, за которое себя выдаете. И я вынужден вас задержать, — твердо проговорил Красавин, опуская руку на кобуру.
— Да! Я вот кто! — Дундич рванул из-за пояса кинжал и с силой вонзил его в грудь Красавина.
Сотник хрипло ахнул, качнулся и, подгибая колени, рухнул на мостовую.
— До джавола! — сказал Дундич. — А ну, напрэд! В штаб корпуса!
Он прыгнул в седло и в сопровождении своих удальцов помчался по улице.
Под освещенными окнами штаба толпились офицеры, сновали вестовые и писаря. За окнами, видно было, штабные адъютанты прилаживали на стене огромную карту.
— Гранаты! — сказал Дундич. — Бросай!
Тяжелый взрыв расколол тишину. Послышались стоны и крики.
Дундич бросился к заставе.
— Ребята! — крикнул он солдатам. — Красныэ в городэ! Вон они за нами. Задержитэ их, пока мы доскачэм до генерала!
Выпустив во весь мах лошадей, Дундич и его спутники кинулись к выходу из города.
Позади них часто защелкали выстрелы. Застава вступила в бой с прикрытием штаба.
Навстречу Дундичу с тревожными лицами выбегали солдаты и офицеры расположившихся на отдых полков.
— Будоный! — кричал Дундич. — Спасайся кто можэт!
Проскакав бешеным карьером в конец улицы, они выехали на окраину города и придержали лошадей.
— Ну вот, пошла потеха! — сказал Дундич своим удальцам, останавливаясь и прислушиваясь к возникшему в городе шуму. — А теперь, друзья, возьмем пленных, чтоб не возвращаться с пустыми руками.
VII
— Семен Михайлович, до каких же пор мы будем на месте стоять?
— Аль мы воевать разучились?
— Шесть суток стоим!
Буденный, посмеиваясь, смотрел на обступивших его красноармейцев.
— Значит, наступать хотите, товарищи? — спросил он, улыбаясь.
— Чего же прохлаждаться, товарищ комкор!
— Та-ак… А ты как думаешь, Харламов?
— А я, стал быть, думаю так, что нам не из чего на месте стоять, товарищ комкор. А ну, как они во-свояси уйдут? Когда нам еще такой кус достанется?
— Нет, знакомый, ты тоже неправ, — твердо сказал Буденный. — Наступать сейчас мы не можем. У них двенадцать тысяч, а у нас меньше половины. Да к тому же они в городе сидят.
— Так мы, значит, и хвост набок? — сказал пожилой боец.
— А ты, борода, не пыхти. Ты бы лучше, пока мы на месте стоим, собой занялся. Смотри, какой рваный ходишь. Вон и пуговиц нет. Стыдно так кавалеристу.
— Да нет, я что… я ничего, Семен Михайлович, — смутился боец, — я ведь только свою мнению высказал. А пуговицы что… Сейчас вот пойду и попришиваю.
— И давно бы так.
Семен Михайлович помолчал, оглядел бойцов и сказал:
— Ну, все высказались? Давайте теперь я скажу… Наступать мы, конечно, будем. И Шкуро и Мамонтова разобьем. Не в первый раз нам, товарищи, у кадетов котелки снимать. Только когда пойдем в наступление, этого я сказать вам не могу. Сами должны понимать.
— Ну еще ба!
— Что и говорить, товарищ комкор!
— Понимаем, не маленькие! — загудели голоса.
— Ну то-то! А пока готовьтесь. Оружие чтоб было в исправности. Осмотритесь, на себя поглядите. А то некоторые неряхами ходят, вида бойцовского не имеют… А главное, чтобы кони были в порядке… Ну, вот и все мои замечания. Действуйте. Мне тоже надо делом заняться.
Семен Михайлович дружески кивнул бойцам и, звеня шпорами, взошел по ступенькам крыльца.
Он прошел в свою комнату и только успел сбросить шинель, как в дверь постучали и басистый голос Зотова попросил разрешения войти.
Степан Андреевич тоже был недоволен стоянкой, но, находясь в курсе событий на фронте, он хорошо понимал, что сейчас им невыгодно наступать. Конному корпусу до поры до времени надо выжидать, чтобы в решительный момент нанести сокрушительный удар. Из сложившейся обстановки было видно, что под Воронежем предстоит единоборство, результат которого в значительной мере определит дальнейший ход событий на Южном фронте. А пока красная и белая конница стояла лицом к лицу, замахнувшись друг на друга. Шкуро, стремясь держать инициативу, проявлял активность. Конный корпус Буденного, выжидая, занял оборонительную позицию. Ежедневно шли бои так называемого местного значения, но до решительного сражения дело еще не дошло.
Вчера Буденный вызвал начдивов и ознакомил их со своим планом захвата Воронежа с северо-востока. Теперь Зотов принес этот план-приказ, переписанный набело, и докладывал его Семену Михайловичу.
Буденный слушал, одобрительно покачивал головой, все более приходя к убеждению, что он не ошибся и направление удара выбрано в наиболее выгодном месте.
Дослушав приказ, он встал, прошелся по комнате и остановился у висевшей на стене карты, что-то обдумывая.
Постояв некоторое время около карты, он повернулся к Зотову и сказал:
— Ну, Степан Андреевич, будем писать.
Прохаживаясь по комнате, Буденный стал диктовать приказ корпусу.
Зотов молча писал, шевелил усами и изредка с недоумением поглядывал на Семена Михайловича, чувствуя, что получается что-то несообразное. Несколько раз он порывался спросить, в чем, собственно, дело. Действительно, получалась какая-то чертовщина. Все выходило наоборот. Новый приказ в корне противоречил задуманному ранее. Хотели бить по Воронежу с севера, а теперь решили вдруг наносить удар с юга. У добрейшего Степана Андреевича даже шевельнулась мысль: уж не сошел ли он с ума от бессонницы (за последнее время ему приходилось много работать ночами). Да нет, вроде все было в порядке. И рука вот пишет ровно, словно печатает.
— Ну, написал? — спросил Буденный, останавливаясь у стола.
— Написал, — неуверенно сказал Зотов.
— Дай подпишу.
Семен Михайлович подписал, потянулся и, глядя на Зотова со скрытой улыбкой, сказал:
— А теперь надо будет сделать так, чтобы этот приказ попал в руки Шкуро.
Степан Андреевич откинулся на спинку стула, некоторое время молча смотрел на Буденного и вдруг захохотал басом…
Когда Бахтуров вошел в комнату, Буденный и Зотов сидели за столом и, покатываясь со смеху, смотрели друг на друга.
— Чего это вы, товарищи? — спросил Бахтуров, глядя на них и чувствуя, что и его лицо расплывается в веселой улыбке.
— Да вот письмо пишем… этому, как его, чорт, султану турецкому, — сквозь смех сказал Зотов, утирая проступившие слезы.
Бахтуров подошел, заглянул через плечо Зотова и, прочитав написанное, тоже засмеялся.
— Решили вот Шкуро потревожить, — пояснил Семен Михайлович. — Пусть понервничает. Может, рассердится и выйдет из города, а тут мы и возьмем его в шоры.
— Да, ловко придумали, — сказал Бахтуров. — А знаете, я бы эту фразу, — он показал, какую именно фразу, — несколько переделал.
— Давай подсаживайся, будем вместе сочинять, — предложил Буденный.
Бахтуров подсел к столу, и они, похохатывая и хитро посматривая один на другого, принялись править «письмо».
Шкуро проснулся сильно не в духе. Ему приснилось, что его, генерала, назначили в наряд дневальным по роте, и он с раздражением думал о том, как могло случиться даже во сне такое неуважительное к его заслугам и чину обстоятельство. «Какой дурацкий сон! — думал он. — И к чему бы это? Гм… И даже поделиться с начальником штаба нельзя, все-таки неудобно: генерал — и вдруг дневальным. Да. Но почему именно по роте, а не по эскадрону?» В пехоте он никогда не служил, считал пехотинцев существами низшего порядка и относился к ним свысока.
Он оделся, умывшись, прошел в салон и в глубоком раздумье заходил по мягкому ковру.
«Да, да! — думал он. — И приснится же подобная мерзость!» Шкуро плюнул с досады и, потрогав на курносом лице проступившую за ночь щетину, только было собрался позвать денщика, как в дверь вежливо постучали, и молодой голос, по которому он узнал своего адъютанта, спросил разрешения войти.
Сверкнув припомаженным пробором, в салон вошел адъютант.
— Здравия желаю, ваше превосходительство! — поздоровался он, вытягиваясь и звякая шпорами.
— Здравствуйте, сотник! Что нового?
— Невероятное событие, ваше превосходительство.
— Что такое? — насторожился Шкуро.
— Пакет от красных. Написано — в ваши собственные руки. Я не осмелился распечатать.
— А кто доставил?
— Наши пленные. Говорят, их Буденный послал.
— Гм… Дайте сюда.
Шкуро, недоумевая, взял пакет, надорвал его с края и вынул крупно исписанный лист.
На нем было написано:
«Генералу Шкуро.
24 октября в 6 часов утра прибуду в Воронеж.
Приказываю вам, генерал Шкуро, построить все контрреволюционные силы на площади у Красных рядов, где вы вешали рабочих.
Командовать парадом приказываю вам.
Буденный».
VIII
На рассвете следующего дня, 19 октября, в степи под Воронежем, сотрясая землю, зашевелились конные массы. Шкуро вывел в бой тремя колоннами двенадцать конных полков. За его левым крылом двигался резерв. Там под развернутыми штандартами угрожающе подвывали калмыки князя Тундутова и скакали сотни Волчьего дивизиона.
Белые шли в наступление, стремясь нанести внезапный удар конному корпусу. Но уже поднималась по боевой тревоге и летели в бой полки 6-й и 4-й дивизий. То там, то здесь мелькала черная папаха Буденного. По степи катился конский топот, слышались скрежет клинков, крики и стоны; красноватые отблески выстрелов прорезали рассветный туман…
Так и не удалось Шкуро напасть врасплох на красную конницу. Буденный нанес ему страшный удар, нарубил одну дивизию и отнял бронепоезд.
Потерпев поражение, Шкуро отошел с наступлением темноты под прикрытие своих батарей. Инициатива действий перешла в руки Буденного.
После боя разведчики белых, рыская в степи, наткнулись среди убитых на труп командира с разрубленной головой. Нашитая на рукаве серебряная подкова с мечами, потрепанный алый бант на груди — все это указывало на его бесспорную принадлежность к буденновской коннице. Но что самое главное — среди бумаг командира был обнаружен оперативный приказ.
Начальник штаба группы Шкуро, которому был доставлен этот приказ вместе со всеми документами убитого, прочел его и ахнул.
— Это невиданная удача, Андрей Григорьевич! — говорил он вскоре генералу Шкуро. — Теперь мы имеем возможность нанести Буденному жесточайшее поражение. Вот уж действительно случай!
— Как вы взяли этот приказ? — спросил Шкуро.
— Нашли при убитом командире полка. Вот, кстати, все его документы.
Шкуро прочел приказ, провел рукой по стриженой голове и, поднявшись с кресла, в сильном волнении заходил по салону.
— Да! — вдруг сказал он решительно, круто остановившись у карты. — Теперь я покажу им, как шутки шутить… Значит, Буденный решил наступать в направлении станции Лиски. Та-ак-с! Очень даже хорошо. Мы возьмем его в клещи, разобьем в междуречье и сбросим в Дон. Вот! Не будь я Шкуро! — Он сделал движение рукой вниз, словно уже потопил конный корпус, и продолжал, строго глядя на начальника штаба: — Всеволод Николаевич, прикажите командиру второй пехотной дивизии сняться с позиции и занять оборону вдоль юго-восточной окраины Воронежа. Корпусу генерала Мамонтова пока оставаться на месте[11]. Приказ ему последует дополнительно. Вот… Второму конному корпусу сосредоточиться на юго-восточной окраине… Прикажите передать по частям, что наступление Буденного ожидается с юго-востока…
— Слушаю, ваше превосходительство. А бронепоездам какая задача?
— Ах, да! — Шкуро досадливо поморщился. — Три бронепоезда перебросить на юг. Задача: курсировать по линии Отрожка — Лиски. Вот. Все. Действуйте.
Буденный дал приказ перейти в общее наступление на Воронеж в ночь на 24 октября. Вся артиллерия корпуса, кроме одной батареи, оставленной Городовикову, была передана Апанасенко, который с 6-й дивизией наносил удар по северо-восточной окраине города. Одновременно Ока Иванович должен был штурмовать Воронеж с севера.
Стояла глухая, непроглядная ночь. Тяжелые тучи ползли над самой землей. Во тьме что-то двигалось и шевелилось. Слышались хлюпающие звуки подков, ударяющих по раскисшей грязной дороге, тихие голоса и приглушенный стук колес.
Начдив Апанасенко, спешившись, стоял в стороне от дороги и говорил Дундичу:
— Видишь, какое дело, дружок. Хотя мост с нашей стороны и разрушен, но на том берегу у них полевой караул. Я еще днем приглядел.
— Знаю, товарищ начдив. Как раз возле кучэ[12], — сказал Дундич.
— Вот-вот, кучэ, — улыбнулся Апанасенко, уже освоивший в разговорах с Дундичем несколько сербских слов. — Домишко такой, беленький. Ну, как, сможешь снять?
— Мо́гу.
— Без выстрела?
— Разумэо сам.
— Ну и ладно, — Апанасенко с одобрением качнул головой. — Так вот, имей в виду, дружок, следующее: две бригады у меня будут действовать в пешем строю, а третья идет через брод. Так что хорошенько пошарь по берегу. Может, там у них еще кто-нибудь есть…
Апанасенко постоял, посмотрел вслед Дундичу и, плотнее укутавшись в бурку, слегка прихрамывая (вчера царапнуло пулей), стал спускаться к реке.
В темноте сосредоточенно копошились, тащили что-то саперы.
— Ну, как, бобры? Скоро закончите? — тихо спросил Апанасенко.
— Сей минут, товарищ начдив, — так же тихо откликнулся голос, — потерпите чуток. Вот приладим последний пролет — и готово.
Тьма сгущалась. Уж немного времени оставалось до рассвета. Вода тихо бурлила, перекатываясь и разбиваясь об устои моста.
Лодку с молча сидевшими в ней бойцами вынесло на середину реки. Дундич уверенно направлял ее к противоположному берегу. Зябко поеживаясь от налетавшего порывами холодного ветра, он с удовольствием думал о том, что ему сегодня удалось раздобыться у снабженцев четверткой настоящего чая, до которого он был большой охотник, и о том, как он после боя всласть напьется этого чаю и угостит Зорича и товарищей.
Дундич прислушался.
Но вокруг все было тихо. Слышались только всплески воды. Прошелестев в камышах, лодка мягко ткнулась в песок.
Дундич подал знак. На берег метнулись неясные тени. Несколько человек, скользя на локтях и коленях, принялись карабкаться на крутой глинистый берег.
Наверху ветер рвал и шумел. Бились и метались ветки кустарника. Сквозь быстро бегущие тучи изредка поблескивал месяц. Небо на востоке начинало светлеть.
Прикрывшись от дождя пустыми мешками, в мокром окопчике сидели солдаты.
— Известное дело, если б не этот чорт в красных штанах, то нипочем бы им не взять бронепоезда, — говорил глухой злобный голос. — Я сам видел, как он рельсу рвал.
— А наши чего смотрели? — спросил другой голос.
— Что наши! Кроют по нем почем зря, а ему как с гуся вода. Подложил шашку, поджег папироской — и был таков.
— А верно сказывали — генерал сулил за его голову тысячу рублей?
— Тыщу! Пять тысяч!
— Ого! Вот бы тебе, Ковалев, огрести.
— И огребу, я его вот как приметил. Ночью узнаю. Жизни решусь, а уж с своих рук не выпущу.
— Брось хвастать!
— Чего хвастать! Я не хвастаю. А ты разве забыл, как я прошлый год их ротного приволок?
— Ну, то ротного, а то буденновцы. Они в плен не сдаются.
— Давай на что хочешь поспорим, что приведу! — с азартом сказал Ковалев.
— Тише, ребята! — шикнул старший.
Он привстал и прислушался. Солдаты, смолкнув, подняли головы.
В эту минуту из тьмы протянулась рука с гранатой, и молодой голос властно и грозно сказал:
— Только пикни, такие-сякие! Замри и нэ двигайся!
Ковалев безумными от ужаса глазами скользнул вправо и влево. Над срезом окопчика выставились силуэты людей. В руках у них чернели гранаты. Потом из тьмы надвинулось лицо с горбатым облупленным носом, и человек, шурша осыпавшейся землей, спрыгнул в окопчик. Поведя головой, он молча посмотрел на притихших солдат (Ковалеву показалось, что у него, как у чорта, зеленоватым блеском горели глаза) и так же молча, принимая винтовки из податливых рук, стал по-хозяйски передавать их наверх товарищам.
— Разрешите начинать, товарищ комкор? — спросил Апанасенко.
Семен Михайлович посмотрел на часы. Было ровно без пяти минут шесть.
— А у тебя все готово? — спросил он.
— Все. Ожидаем сигнала.
— Ну, так подождем еще пять минут. Я привык выполнять обещания.
Апанасенко недоуменно взглянул на него.
— А ты разве забыл? — спросил Бахтуров.
— Ах, да! — Апанасенко усмехнулся. — А мне и ни к чему, что сегодня двадцать четвертое, — сказал он, улыбаясь.
Мимо них в полумгле проходила назначенная в резерв третья бригада. Всадники спускались по пологому склону и исчезали в тумане.
— Ну, давай начинай! — сказал Буденный, взглянув на часы.
Апанасенко присел на корточки к телефону, взял трубку и подал команду.
Прожигая рассветную муть, вспыхнуло пламя. Громовым залпом ударили пушки. Задрожала земля. Все вокруг осветилось. Через мост, винтовки наперевес, бросилась вторая бригада. По всему берегу, прикрывая ливнем огня наступавших, застрекотали пулеметы. От станции Усмань ударили бронепоезда.
Буденный легким движением вскочил в седло. Буланый жеребец с пышным черным хвостом переступил с ноги на ногу, выгнул шею, всхрапнул и, высоко вскидывая ногу, забил землю копытом…
Вдали послышались долгие перекатывающиеся крики.
Семен Михайлович в сопровождении штаба шагом переехал мост и, свернув вправо, тронул рысью в сторону Воронежа.
Теперь не только против восточной окраины города, но и выше по реке в светлеющем небе мерцали зарницы. Оттуда доносились редкие звуки пушечных выстрелов. Там переправлялся Городовиков с 4-й дивизией. Только что артиллерийским огнем была рассеяна застава белых, и река кишела людьми и лошадьми.
Через наспех исправленный мост шагом переезжала батарея. На берегу в ожидании переправы табором скопились пулеметные тачанки. Мост скрипел, пошатывался, погружаясь под тяжестью орудий в темную, стремительно бежавшую воду. Лошади приседали на задние ноги и, пугливо всхрапывая, жались к середине. Ниже моста через броды гуськом, один за другим, переправлялась бригада Тимошенко. Мутная ледяная вода, кружась и всплескивая, неслась поверх седел, сбивая всадников с брода. То один, то другой погружался по плечи и, ухнув, торопливо плыл вслед товарищу.
Начинало светать. Ока Иванович стоял на берегу и, распоряжаясь переправой, то и дело поглядывал вдаль, где за рекой, на обсаженном тополями задонском шляхе, переезжали с места на место какие-то всадники. Один из них, выехав на бугор и подняв согнутые в локтях руки, смотрел в бинокль. Правее него, у небольшой рощицы, внезапно возник тугой белый дымок, потом с некоторым промежутком раздался глухой короткий удар. В сыром утреннем воздухе послышались приближающиеся шелестящие звуки. Подняв огромный столб ржавой воды, снаряд ударил в реку подле моста. Упряжка крайней тачанки взвилась на дыбы и, метнувшись, ринулась в воду. Послышались крики тонущих ездовых. Лошади закружились, поплыли. Тачанку, занося в сторону, понесло на середину реки. Вслед за первым орудийным выстрелом послышались другие. По реке запрыгали лохматые смерчи воды.
Подошедшая в эту минуту к переправе первая бригада, не ожидая команды, бросилась вплавь через реку. Первым с ходу кинулся 19-й полк. Вода вспенилась, закипела. Послышались фырканье и тяжелый храп лошадей.
Ока Иванович, махая рукой, кричал что-то на тот берег командиру батареи, но за шумом стрельбы голоса не было слышно. Видимо, командир батареи понял, что от него требуют: артиллеристы-разведчики вскочили в седла и карьером умчались вперед. Вслед им поорудийно двинулась батарея. Широкогрудые, сильные, как львы, огромные рыжие лошади, выбрасывая лохматые снизу мощные ноги, тронули рысью.
Ездовые гикнули, взмахнули плетьми, и батарея с железным грохотом поскакала галопом, поднимаясь по пологому берегу и свертывая на задонский шлях.
Спустя некоторое время оттуда послышался один, другой выстрел, и батарея начала бить беглым огнем.
Митька Лопатин одним из первых в своем эскадроне кинулся в воду. Соскользнув с седла и крепко держась за гриву, он поплыл рядом с Харламовым к видневшейся впереди песчаной косе. Ледяная вода обожгла. У него захватило дыхание. Стиснув зубы, он подавил готовый вырваться крик. Казалось, сердце, не выдержав напряжения, лопнет. Тело, замерзая, одеревянело в суставах. Пытаясь согреться, он подгребал свободной рукой и двигал ногами, но, ставшие пудовыми, сапоги стесняли движения.
Артиллерийский обстрел реки прекратился. В наступившей вдруг тишине слышалось только храпящее дыхание плывущих лошадей.
Песчаная коса приближалась. Лошади, шумно отряхиваясь, выходили на мокрый песок и, вновь сойдя в воду, плыли дальше.
Перейдя косу, Митька выбирался уже к середине реки, как вдруг его лошадь, теряя дно, заупрямилась.
— Пошел! Пошел! Не задерживай! — закричали позади голоса.
Митька зло дернул за повод. Лошадь взвилась на дыбы и забила копытами. Подковы засверкали над его головой.
— Убьет! Бросай гриву! — крикнул Харламов.
Митька оглянулся. В этот короткий момент тяжелый удар в плечо опрокинул его. Он окунулся с головой..
Сильным движением Митька вынырнул на поверхность, но набухший полушубок тянул его вниз. Борясь за жизнь, он сделал отчаянную попытку схватиться за хвост плывущей рядом лошади и, зажав в кулаке клок вырванных им жестких волос, вновь окунулся и набрал при этом полные уши воды. Быстрое течение подхватило его, мягко перекатывая, понесло в пучину.
— Тону! — крикнул он, вынырнув, и, взмахнув руками, скрылся под водой.
Он уже терял сознание, когда сильная рука Харламова схватила его за воротник полушубка и ровными, плавными толчками повлекла за собой.
Наконец Митька почувствовал ногами дно. Шатаясь как пьяный, он вышел на берег. Меркулов подвел ему лошадь. От нее валил густой теплый пар.
— Садись! Садись! Кони застынут! — кричал взводный Ступак, старый солдат-кирасир, рыжеватый, мрачный с виду человек саженного роста.
Митька взял стремя, кое-как взобрался на лошадь и вместе с товарищами поскакал по отмели под кручу высокого берега, куда собирался 19-й полк.
— Ну как, напугался? — спросил его Харламов, когда они, согрев лошадей, спешились в ожидании выступления.
— А то! — сказал Митька.
— Ну вот! Смотри, браток, в другой раз не дергай за повод. Тебе бы надо было ее огладить, успокоить, а ты еще больше ее напугал. С конем всегда ласка нужна.
— Ну, Лопатин, ты, можно сказать, прямо из мертвых воскрес, — сказал Ступак, подъезжая к нему.
— Что ж, товарищ взводный, всяко бывает, — заметил Харламов.
— Конево дело, — ляская зубами от холода, но улыбаясь, подхватил Митька. — И не то бывает — у девки муж умирает.
Ступак взглянул на него, хотел что-то сказать, но только усмехнулся в желтые с сединкой усы.
— На-ка вот, погрейся, — он снял с себя флягу и подал Митьке. — Да ты не все! Оставь! Ишь, присосался! — вскрикнул он, увидя, как Митька, запрокинув голову, без передышки тянул. — Ну, а это уж тебе, Харламов, за геройство, — сказал Ступак, приняв от Митьки флягу и взболтнув ее. — На, допивай остатки.
— А вы, взводный?
— А мне, ребята, пока не за что…
Переправа закончилась. Последние всадники выбирались из реки и скакали галопом по отмели.
Тимошенко сел на свою большую гнедую лошадь и, поправившись в седле, подал команду.
На берегу все задвигалось и зашевелилось. Бойцы оправляли седловку и подтягивали подпруги.
Первой выступала вторая бригада. Трубачи на вымытых до блеска белых лошадях выезжали в сторону, пропуская колонну.
Мимо Митьки, который, повеселев, не хотел упустить это зрелище, постукивая копытами, потянулись шагом всадники головного эскадрона. Эскадрон был назначен в охранение, и ему предстояло первому вступить в бой. Красноармейцы ехали взвод за взводом, оживленно переговариваясь между собой.
— И все б ничего, да вот гармонь подмочил, — говорил рябоватый боец ехавшему рядом товарищу.
Тот что-то ответил, и оба весело засмеялись.
До Митьки долетали обрывки разговора:
— И такая, понимаешь, девка славная…
— А у нас хлеба завсегда хороши…
— Ты не забудь, Лихачев, за тобой табаку пачка…
— Эй, архангелы! Вы бы сыграли? — крикнул трубачам боец в шахтерской блузе.
Но капельмейстер, старый человек с синеватым от озноба лицом, не успел ответить ему: эскадрон перешел на рысь и с частым топотом стал быстро проходить мимо. За ним потянулась шагом колонна. Вслед за командиром головного полка чернявый усатый боец в лохматой папахе вез свернутое знамя. На клеенчатом чехле с облупленной краской отчетливо виднелись рваные пулевые отверстия.
— А тебе что, Лопатин, отдельную команду подать? — раздался над ним сиплый голос.
Митька оглянулся, увидел сердито, встопорщенные желтые усы Ступака и побежал к своей лошади, которую держал в поводу левофланговый боец эскадрона.
Шел десятый час утра. Ветер нес в вышине серые лохмотья разорванных туч. Сквозь синие окна прорывался солнечный свет. Степь заблестела, зацвела яркими красками…
Шкуро, вдев ногу в стремя, садился на лошадь. Злой рыжий жеребец с куцым хвостом, прижав уши, кружился на месте и мотал головой.
— Держи крепче, болван! — сердито сказал Шкуро ординарцу, который с трудом сдерживал ловчившегося укусить жеребца.
Перенеся через круп толстую ногу, Шкуро грузно опустился в седло и, поправившись, разобрал поводья.
К нему подскакал адъютант с испуганным и бледным лицом.
— Они уже у Красных рядов, ваше превосходительство, — доложил он, придерживая руку у фуражки и стараясь сдержать дрожание челюсти.
Шкуро повернулся в седле, воспаленными глазами взглянул на стоявшего рядом начальника штаба.
— Без ножа вы меня зарезали, полковник, — сказал он с досадой.
Начальник штаба недоумений взглянул на него.
— Вы понимаете, полковник, что вас надули? — повысил голос Шкуро.
— Не меня, а нас, ваше превосходительство, — холодно заметил начальник штаба.
— Вас! Нас! Чорт, дьявол — не все ли равно! — закричал Шкуро. Его толстые щеки затряслись, побагровели от гнева. — Сотник! — позвал он адъютанта. — Скачите к генералу Мамонтову и передайте ему, чтобы он как можно быстрее выходил к северо-западной окраине города. Я еду к первой дивизии.
Шкуро толкнул лошадь и в сопровождении конвойной сотни поскакал по улице.
…Подходя к северной окраине Воронежа, Городовиков встретил у слободы Троицкой ожесточенное сопротивление окопавшейся за колючей проволокой пехоты белых. Оставив вторую бригаду вести наступление в пешем строю, Ока Иванович решил сделать обход и с остальными полками штурмовать город с запада.
Было уже около десяти часов. Небо очистилось от туч. Солнце яркими лучами заливало раскинувшуюся на возвышенности панораму Воронежа с уходившими в гору кварталами маленьких домиков и блестевшими среди них куполами. Далеко вправо за желтыми полосами жнивья голубела извилина Дона. Там, над крутым берегом, виднелись утопавшие в садах хутора.
Выйдя в новом направлении, Ока Иванович увидел, что на широком пространстве между Доном и городом шевелилась бурая масса войск. Остановив полки в низине, он спешился и поднялся на бугор. На холмистой равнине строилась конница. Были видны трепетавшие под ветром значки и штандарты. Над строем, переливаясь в солнечных лучах, что-то поблескивало.
Городовиков посмотрел в бинокль. Глаза его потемнели: перед фронтом выстраивающихся войск ездил тучный всадник; под ним приплясывала, становясь на дыбы, большая рыжая лошадь с куцым хвостом; на плечах всадника золотились погоны.
Вызвав к себе командиров, Городовиков коротко объяснил им план действий. Потом он послал адъютанта со словесным донесением к Семену Михайловичу и повел полки рысью навстречу противнику. Там его тоже увидели. Оттуда донеслись звуки сигнала атаки, и белые, развернувшись в широкую лавину, тронулись с места. Все поле покрылось крохотными фигурками скачущих всадников.
Обе массы всадников, прибавляя ходу и выпуская лошадей во весь мах, бурей неслись навстречу друг другу. Под ногами лошадей с бешеной скоростью летела земля. Уже и тем и другим были видны лица, черные кричащие рты, вспыхивающие на солнце лезвия шашек и блестящие наконечники пик.
Харламов, скакавший в первой шеренге, успел только заметить, как перед ним взвился белый конь трубача, и строй, ударившись, с криком и топотом прошел через строй. На месте схватки бились, мотая головами, смятые лошади с переломанными ногами, с разбитой грудью. Старались подняться упавшие всадники. Двое, схватившись, катались по земле, били и рвали друг друга, стремясь добраться до горла.
Всадники повернули, снова ударились и, наскакивая один на другого, закружились в сабельной рубке. Топот, выстрелы, скрежещущие звуки клинков, визг и ржанье лошадей слились в один общий гул. В воздухе запахло кровью и порохом.
На левом фланге, где все сбилось в кучу, сражался Харламов. Рубя с плеча и наотмашь, чувствуя, как острая шашка легко разит врага, Харламов, бывалый солдат, не забывал поглядывать по сторонам. Он увидел, как сломавший клинок взводный Ступак, широко размахнувшись, хватил кулаком в ухо усатого есаула и как тот, покачнувшись в седле и обливаясь кровью, упал под ноги коня. Конь сверкнул налитыми ужасом кровавыми глазами, подхватил и понес в поле застрявшего в стремени всадника.
Несмотря на то, что вокруг сыпались удары, падали люди и лошади и каждый неверный шаг грозил смертью, Харламов спрыгнул на землю, схватил брошенный кем-то клинок и подал его Ступаку. Потом, снова кинувшись в бой, он увидел, как два молодых солдата — красный и белый, — видимо, в первый раз участвуя в рубке, нерешительно шпыняли один другого клинками.
— Руби, чего смотришь? — зло крикнул Харламов своему бойцу.
Тот оглянулся на крик и, набравшись храбрости, нанес противнику сильный удар.
— Молодец! Так! — Харламов, подобрав поводья, поскакал к своему эскадрону.
По степи, крутя над головой и размахивая шашками, скакали смуглые всадники в белых заячьих папахах. Это были калмыки князя Тундутова. Втаптывая в землю убитых и раненых, они с устрашающим воем и визгом ударили по флангу буденновцев. Фланговый полк, не выдержав удара, стал отходить. Но Ока Иванович, зорко наблюдавший за ходом боя, во-время заметил неустойку. Завернув отходивший полк, он врубился вместе с ним в ряды наступающих, сбил их и погнал по степи.
Митька Лопатин отбивался от двух наседавших на него калмыков. Один из них, толстый, в погонах урядника, уже достал его шашкой в больное плечо. Видя перед собой перекошенные злобой скуластые с отвислыми усами лица, Митька чортом вертелся в седле, отражая сыпавшиеся на него удары. Он уже было начал сдавать, как вдруг вспомнил о висевшем на гайтане обрезе. Молниеносно перехватив шашку в зубы, он поднял обрез и с громом, словно ударила пушка, вогнал заряд в грудь противника. Другой, устрашась, бросился в степь.
В это время от города, развертываясь к атаке, подходила на-рысях головная дивизия корпуса Мамонтова.
Оглядев поле боя, Ока Иванович решил прибегнуть к маневру и подал знак. Трубачи заиграли отбой. Теперь стало видно, как по всему полю, отходя к далеким холмам и свертываясь в колонну, скакали буденновцы.
Белые с громкими криками кинулись следом за ними.
В эту минуту, стремительно вывернувшись из-за холмов, показались пулеметные тачанки. Как на крыльях, они вылетели вперед, рассыпались веером и, повернув на скаку, ударили по белым одновременно из тридцати пулеметов.
Гром покатился в степь.
Белые шарахнулись в стороны..
Но вряд ли и пулеметные тачанки спасли бы тяжелой положение буденновцев. Слишком велико было неравенство сил. А от Воронежа подходили все новые и новые полки.
Ока Иванович решил отходить, прикрываясь огнем. Запели трубы. Во все стороны поскакали связные и ординарцы с приказом отходить на вторую бригаду.
Но тут над желтеющими вдали холмами показался трепещущий кумачевый значок. Потом появилось несколько всадников, и вслед им с вьющимися по ветру знаменами в степь широким потоком хлынула конница.
Всадники стремительно приближались.
Все ближе накатывался грохочущий конский топот.
Впереди, клонясь над лукой и указывая шашкой направление атаки, мчался командир в черной папахе. Под ним птицей летела крупная буланая лошадь.
— Буденный! — крикнул Городовиков.
— Буденный! Буденный! — подхватили бойцы.
Все, даже раненые, бросились к лошадям.
Грозный крик пронесся над полем:
— Даешь! Ура! Бей!
Налетев ураганом, Буденный опрокинул и погнал белых к Дону.
Вскочив в седло, Митька увидел, как конная лава буденновцев, загибая фланги, захватывала белых в клещи.
Теперь все поле покрылось колыхающимися на галопе конскими крупами. Белые бросились к крутому берегу Дона. Задние сбивали передних и вместе с ними влетали в реку. В быстрой воде закружились лошади, люди. Блестящая поверхность реки сплошь покрылась плывущими. Тут и там показывались черные, за солнцем, руки тонувших.
Вихрем подскакали конные батареи, снялись с передков и — трубка на картечь — ударили по реке беглым огнем…
— Лопатин! — позвал Митьку взводный Ступак. — Харламова не видел?
Митька инстинктивно оглянулся.
— Да нет, товарищ взводный. Я думал, вы куда послали.
— Давайте поищите его с Федоренкой. Может, его где поранили.
— В таком случае, товарищ взводный, мы на хутора слетаем. Там перевязочный пункт, — сказал Федоренко, такой же, как и Митька, молодой бойкий парень.
— Правильно, — согласился Ступак. — Ну, а если там нет, то в поле поищите. Только быстро, а то скоро выступать. Чтобы вам не остаться.
Митька и Федоренко поскакали к хутору. В стороне лежало поле, покрытое телами убитых и раненых. Там, храпя и разбрасывая стременами, бегали лошади, потерявшие всадников. Красноармейцы ловили их и разбирали по эскадронам.
Поднявшись по пологому склону, всадники въехали в хутора и пустились в конец единственной улицы, где, как сразу приметил Митька, белел флажок с красным крестом.
— Куда? Куда едешь, чорт слепой! — вдруг вскрикнул Митька. — Не видишь что ли?
Федоренко рванул за повод. Из-под ног его лошади пушистыми желтыми шариками метнулись цыплята.
— Фу! — сказал Федоренко. — Ведь чуть не подавил!
— То-то, что не подавил, — с укоризной заметил Митька. — Тоже мне — хозяин.
На перевязочном пункте Харламова не оказалось, и они, попросив закурить у полкового врача, поскакали в поле.
Навстречу им брели, ковыляя, раненые с забинтованными головами, с подвязанными руками. Следом за ними вели их лошадей. Двое легко раненных поддерживали высокого худого бойца. Голова его была сплошь замотана бинтами с густо проступившей кровью. Он шел, часто спотыкаясь, положив руки на плечи товарищей.
— Какого полка? — спросил Митька, останавливая лошадь..
— Двадцатого, — отозвался боец с подвязанной рукой. — А вы чего тут, ребята?
— Товарища ищем.
Раненый кивнул головой через плечо:
— Там ищите. Там их много лежит…
В поле подле раненых копошились санитары и помогавшие им трубачи[13].
Митька глянул вокруг. Неподалеку два трубача ловили большую золотисто-рыжую лошадь под казачьим седлом. Она, не давалась, взвиваясь на дыбы, била задом и хищно скалила зубы, норовя укусить.
— Гляди, — сказал Митька, — это ж Харламова конь.
— Эй! Эй! Чего вы коня нашего гоняете? — крикнул Федоренко.
Они подъехали к трубачам.
— Ваш, значит, конь? — спросил старый трубач.
— Да, с нашего взвода, — сказал Митька.
— Скажи, какое дело! — заметил трубач, подкрутив длинный седеющий ус. — До старости дожил, а не видал, чтобы конь, как собака, не допускал до хозяина.
— А где хозяин? — вскрикнул Митька, чувствуя, как у него тревожно сжалось и забилось сердце.
— Вон лежит, — трубач показал рукой. — Ты осторожнее, парень. Как бы конь тебя не убил.
Но Митька, спешившись, подбежал к лошади, которая, узнав его, доверчиво ткнула ему в плечо головой, и склонился над Харламовым.
Харламов лежал на спине, широко раскинув мощные руки. Видимо, здесь произошла страшная схватка. Вокруг лежало несколько изрубленных тел. Рядом, уткнувшись в траву, дергался и хрипел в луже крови огромный солдат.
Красивое лицо Харламова было обезображено глубокой сабельной раной. Через перерубленную посредине фуражку виднелись залитые кровью золотистые волосы.
— Санитара! — сдавленным голосом сказал Митька.
— Санитар тут без надобности, — заметил старый трубач. Он поднял и опустил безжизненно упавшую руку Харламова.
— Какого человека убили… — тихо сказал Федоренко. — Лучшего бойца в эскадроне.
Вдали послышались мягкие звуки сигнальной трубы.
Митька нагнулся к Харламову, поцеловал его в губы и, сложив ему руки, выпрямился.
— Вы уж, товарищи, как полагается схороните его, — просительно сказал он трубачам. — Это был такой парень… такой… — Митька не договорил. Нижняя челюсть его задрожала. Он сжал зубы, нахмурился. Только теперь он почувствовал, какого друга потерял в эту минуту. К его горлу подкатился колючий клубок. Не желая показать душевную слабость, он отвернулся, сел в седло и, ведя в поводу лошадь Харламова, поскакал к полку, откуда все настойчивее доносились звуки сигнала, игравшего сбор.
Он скакал, а горячие слезы бежали по его смуглым скуластым щекам.
IX
Разгром Буденным белой конницы под Воронежем и решительные действия ударной группы Орджоникидзе под Орлом остановили наступление белогвардейских армий на Москву.
Теперь, во исполнение сталинского плана разгрома Деникина, Буденному предстояло разбить сильную группировку белых в районе Касторной. В штабе корпуса только что была подучена директива Южного фронта, и Семен Михайлович внимательно ее перечитывал:
«…конному корпусу Буденного по овладении г. Воронеж нанести удар в общем направлении на Курск с целью отрезать части противника, действующего к северу железной дороги Воронеж — Курск; ближайшей задачей ставлю овладение железной дорогой Касторная — Мармыжи…»
Под Касторной Деникин сосредоточил более двадцати конных полков с бронепоездами. Соотношение сил опять было неравное. И Семен Михайлович решал, как ему лучше разбить противника с малыми силами.
Он сидел над картой и, разговаривая с Бахтуровым, намечал предварительный план действий по овладению касторненским узлом, когда вошел Зотов и доложил, что по степи движется большая колонна конницы.
Семен Михайлович вместе с Бахтуровым вышел на улицу. Там, поглядывая на лежавшую под селом степь, и коротко переговариваясь, толпились бойцы.
Последние дни шли дожди. Сегодня выпал первый снежок, на котором мириадами блесток сверкали лучи яркого солнца. И вот из степи, горевшей под солнцем, извиваясь на поворотах дороги, надвигалась огромная масса всадников. Колыхались распущенные знамена. Шевелился целый лес пик.
«Хорошо, славно идут», — думал Семен Михайлович, глядя в бинокль. Всадники ехали колонной по три. Встречный ветер раскидывал полы их длинных зеленых шинелей, под которыми виднелись яркокрасные брюки. Опущенные и застегнутые под подбородком суконные шлемы придавали всадникам богатырский вид.
Семен Михайлович увидел, что высланный с разъездом Дундич подскакал к командиру, ведущему колонну, и, переговорив с ним, послал бойца с донесением.
Боец выпустил лошадь во весь мах и с веселым, возбужденным лицом подскакал к Буденному.
— Наши, товарищ комкор! — весело доложил он, сдерживая на скаку заскользившую лошадь.
— Какие наши? Откуда? — быстро спросил Бахтуров.
— Одиннадцатая дивизия. К нам на помощь идут.
Дивизия входила в село. Трубачи, качнув сверкнувшими трубами, заиграли марш «Прощание славянки».
От колонны отделились два всадника. В сопровождении Дундича они поскакали коротким галопом вперед. Один из них, высокого роста, лет сорока, крепко сидел на большой гнедой лошади. Темные, коротко подстриженные усы придавали его лицу строгий вид. Другой, поменьше ростом и помоложе, с крупными чертами бритого лица, смотрел вперед мягкими светлыми глазами.
Не доезжая до Буденного, они спешились и передали лошадей ординарцам. Затем высокий подошел к Семену Михайловичу и доложил густым голосом:
— Товарищ командующий, одиннадцатая кавалерийская пролетарская дивизия прибыла в ваше распоряжение.
Буденный внимательно посмотрел на него:
— Очень рад, товарищ…
— Морозов, — подхватил начдив.
— Очень рад, товарищ Морозов, — повторил Буденный, пожимая руку начдиву и вопросительно взглянув на другого человека, который с неменьшим любопытством смотрел на него.
— А это, товарищ командующий, наш политком, — сказал Морозов.
— Хрулев, — представился политком, крепко пожимая протянутую руку и с удовольствием ощущая ответное пожатие руки человека, о котором уже столько был наслышан.
— Знакомьтесь, товарищи, — сказал Семен Михайлович, показывая на Бахтурова и на Степана Андреевича. — Политком нашего корпуса и начальник штаба.
— Нашего, — значительно подчеркнул Морозов. — Вот, знаться, и мы стали буденновцами.
— Э, нет, товарищ начдив, — улыбнулся Бахтуров. — Это звание надо еще в бою заслужить.
— Заслужим, товарищ Бахтуров, — сказал Хрулев с уверенностью. Он показал на подходившую колонну. — Смотрите, каких молодцов мы вам привели.
— Да, ребята как будто неплохие.
— Рабочие. Добровольцы, — сказал Хрулев. — Под Тулой формировались.
— И почти все старые кавалеристы, — подхватил Морозов. — У меня в первой бригаде целый эскадрон павлоградских гусар.
— То-то вы в красные штаны всех одели, — заметил Семен Михайлович.
— За это спасибо товарищу Ленину. По его телеграмме выдали со складов самое лучшее..
— Укомплектованы полностью? — спросил Буденный.
— Никак нет, товарищ командующий, — сказал Морозов. — Командиров недостаточно. Обещали дать молодых с Петроградских курсов. А те на фронт ушли против Юденича. Пришлось бойцов на взводы поставить.
— Ты-то сам в каком чине был?
— Взводный унтер-офицер тринадцатого драгунского орденского полка, товарищ командующий.
— А-а… знаю. Хороший полк.
— Товарищ командующий, по поручению товарища Сталина передаю вам большой привет от него, — сказал Хрулев.
Семен Михайлович с радостным удивлением взглянул на Хрулева.
— Вы что, видели товарища Сталина?
— Да. Перед выступлением из Тулы он вызывал нас с начдивом, интересовался состоянием дивизии и сказал: «Передайте мой большой привет товарищу Буденному и всем красным кавалеристам и скажите, что в ближайшие дни я приеду в Конную армию».
— В Конную армию? Товарищ Сталин так и сказал — в Конную армию? — все более удивляясь, спросил Семен Михайлович.
— А разве вам ничего не известно?
— О чем?
— О том, что по настоянию товарища Сталина создается Конная армия?
Буденный и Бахтуров переглянулись.
— Предложение товарища Сталина поддержано Владимиром Ильичем, и уже есть решение сформировать Конную армию. Членом Военного совета армии назначается товарищ Ворошилов, — пояснил Хрулев.
— Вот это хорошо! С Климентом Ефремовичем мы горы сдвинем, — сказал, улыбаясь, Буденный.
Мимо них в строгом молчании проходили ряды головного полка.
Высыпавшие на улицу бойцы, обмениваясь впечатлениями, с любопытством смотрели на проходящих. Только что проехали усатые трубачи. За ними с мягким топотом валила колонна. Бойцы ехали молча в полном порядке. Никто самовольно не спешивался и не забегал в хату попить молочка. А это — что греха таить, дело прошлое — случалось в те времена. И такой у них был нарядный и подтянутый вид, что некоторые из смотревших сами стали подтягиваться: кто поправлял съехавшую на нос папаху, кто застегивал полушубок.
— Вот какую подкреплению товарищ Ленин нам прислал, — сказал чей-то голос.
— Хороши, что говорить. Посмотрим, как в бою себя покажут.
— И кони одинакие…
— Смотри-ка, братва, без обрезиков. Как есть все с винтовками.
— Ничего, как она спину-то понатолкает — живо попилят, — успокоил какой-то любитель обрезов, из которых в атаке можно было палить, как из пистолетов, в упор.
— Братва, глядите, какой хлопчик молоденький! — сказал боец в белой папахе.
— Где?
— А вон с края едет. Курносенький.
Молодой всадник, ловко сидевший на крупной игреневой лошади, видя, что на него обратили внимание, обнажил мелкие ровные зубы и весело крикнул:
— Здорово, ребятки!..
Бойцы недоуменно переглянулись.
— Чтой-то он нас ребятками обозвал?
— Может, баба?
— А кто его знает! Может, и баба.
Бойцы с любопытством смотрели вслед курносому всаднику, а он, оглядываясь назад, приветливо махал им рукой в белой вязаной перчатке.
— Братва, никак генерал? — изумленно вскрикнул боец в белой папахе, показывая на толстого всадника с пышными усами и баками, который, важно подбоченясь и умышленно выставляя из-под шинели яркокрасные брюки, с деланно свирепым выражением на румяном до блеска лице надменно поглядывал на пешестоящих.
— Ребята! Зачем это вы генерала возите? — спросил другой боец, обращаясь к рядам проходившего мимо эскадрона.
— Какого генерала? — удивленно спросил чей-то голос.
— А эвот, толстый.
— Угадал! — боец усмехнулся. — Это ж лекпом.
— Фу, ты! Липком. А я думал, и вправду генерал…
Стоявшие расхохотались. Смех перекинулся и в колонну, где какой-то боец сказал, улыбаясь:
— Хлопцы, слышите, нашего Кузьмича за генерала признали.
Ехавший рядом с лекпомом пожилой трубач толкнул локтем товарища, что-то шепнул ему и показал головой на улыбавшихся бойцов. Лекпом сурово посмотрел на них, с солидным достоинством расправляя горстью усы.
Семен Михайлович крикнул приветствие.
— Урра-а!.. — подхватили бойцы.
Крик покатился по рядам и, подхваченный сотнями голосов, все усиливаясь, пошел взад и вперед гулять по колонне.
X
По широкой улице большого села с высокими шапками снега на крышах ехал всадник в буденновке. Рослая кобыла нарядной игреневой масти, покачиваясь на тонких ногах, шла бодрым шагом. Под копытами мягко похрустывал притоптанный снег.
У перекрестка всадник остановился и оглянулся по сторонам. Из боковой улицы выехали сани, запряженные парой крупных вороных лошадей.
— Эй, браток! — окликнул всадник важно развалившегося в кошеве ездового, молодого белобрысого парня с невозмутимым лицом. — Это Велико-Михайловка?
— Ну?
— Как мне до штаба проехать?
— Езжай прямо. Доедешь до площади — возле церкви белый дом.
Всадник поблагодарил и тронул лошадь рысью.
Проехав в конец улицы, он свернул на площадь. На завалинке большого белого дома с приткнутым у палисадника кумачевым значком сидели красноармейцы.
— Здорово, ребятки! — весело поздоровался всадник, останавливаясь у завалинки. — Здесь, что ли, штаб Первой Конной? — Он нагнулся в седле и, ласково оглаживая нетерпеливо переступавшую лошадь, быстрыми черными глазами смотрел на сидевших.
— А ты откуда, милок? — спросил боец в косматой папахе.
— С одиннадцатой дивизии.
— Зараз в штабе совещание. Никого пускать не приказано. Слазь, милок. Отдохни.
— Вот еще!.. Есть мне время отдыхать, — насмешливо сказал всадник. — Некогда мне, ребятки! Давайте принимайте пакет.
Всадник легко перенес ногу через широкий круп лошади и спешился, звякнув шашкой о стремя. Тогда только бойцы разглядели, что перед ними девушка. Была она повыше среднего роста, тонка и стройна.
— Ну? Долго я буду ждать? — нетерпеливо спросила она, поиграв надетой на руку плетью. — Кто у вас старший?
— Я за него! — сказал сидевший с края молодой вихрастый боец в сдвинутой на затылок кубанке.
Он поднялся с завалинки и, развалисто ступая, подошел к девушке. Недоверчиво улыбаясь, он пристально вглядывался в задорное мальчишеское лицо девушки с свежеобожженной припухшей щекой.
— Это кто ж тебя так разукрасил-то? — спросил он, усмехаясь.
— Так это ты старший? — не отвечая на вопрос, с большим сомнением спросила она.
— А что?
— А чего скалишься?
— А что мне, плакать? — резонно заметил Митька Лопатин, берясь за бока и выставляя ногу вперед.
— Я приехала не шутки шутить!
— Братва! А ведь и верно баба! — вскрикнул Митька с таким радостным удивлением в голосе, словно в первый раз видел женщину.
У девушки дрогнули брови.
— Бабами сваи забивают, — сердито сказала она.
— Но? А кто ж ты есть?
— Я? Боец!
— Боец? Гм… Как же ваше фамилие, извиняюсь, товарищ боец? — спросил Митька насмешливо.
— Ворона, — осиливая улыбку, сказала девушка и со скрытым любопытством посмотрела на Митьку, чувствуя во всей его повадке что-то родное.
— Ворона?.. — Митька прищурился и, положив руку на тонкий стан девушки, живо спросил: — Взводный с девятнадцатого полка родственник вам?
— Нашему сараю двоюродный плетень… А ну, пусти!
— Не пущу.
— Пусти! Ну? Кому говорю! — девушка высвободила руку и подняла плеть.
— Тише! Чего шумите, ребята? — раздался со стороны суровый начальственный голос.
— Вот он, старший, — сказал Митька.
Девушка оглянулась. С крыльца, звякая шпорами, спускался человек саженного роста с желтыми усами.
— Так бы и говорил, шляпа! — сердито сказала она.
— От шляпы слышу.
— Кто тут шумит? — спросил Ступак, подходя.
Митька презрительно сплюнул сквозь зубы:
— А вот какая-сь ворона с пакетом приехала.
— Я и то слыхал, что вы уж познакомились, — усмехнулся Ступак. Он подошел к девушке и сверху вниз взглянул на нее. — Маринка?! Откуда ты взялась?! — воскликнул он, радостно улыбаясь.
— Ой, товарищ взводный! — Маринка всплеснула руками, обнажая в улыбке мелкие, как у белки, ровные белые зубки. — А я вас с усами и не узнала. То-то вы изменились!
— Ты где сейчас служишь?
— В одиннадцатой дивизии.
— А к нам зачем приехала?
— Пакет привезла.
— Срочный?
— Ну, что вы! Стала бы я тогда с этим стрюком[14] растабаривать, — кивнула она на Митьку, который при слове «стрюк» весь насторожился и подвинулся к ней. — Сведения из санитарной части привезла. — Маринка пошарила за пазухой и, подавая взводному пакет, сказала: — Нате вот, передайте дежурному.
— А как ты от Жлобы в одиннадцатую попала? — спросил Ступак, пряча пакет в карман полушубка.
— Из госпиталя. Теперь всех кавалеристов из госпиталей в одиннадцатую направляют. У нас народу нехватает… Слушайте, взводный, переходите к нам! У нас ребята хорошие.
— А разве у нас плохие? Не-ет… Да и дивизия ваша молодая.
— Молодая! А разве под Касторной мы себя не показали? Ого! Станцию захватили, Улагая разбили! Сам начдив Морозов сказал, что теперь мы буденновцы… Верно, переходите. Состав у нас хороший. Много наших, донбассовских.
Митька сделал быстрое движение к девушке и в упор взглянул на нее.
Маринка смерила его уничтожающим взглядом; сердито шевельнув бровью, спросила:
— Ну, чего вылупился?
— Так ты, значит, копченка?[15] — Митька, не моргая, смотрел на нее.
— Да. С Макеевки.
— Ну?.. А я с Никитовки… Так мы с тобой земляки!
— Всю жизнь мечтала заиметь земляка, — сказала Маринка, сморщив обсыпанный веснушками вздернутый нос.
— Постой, постой, — заговорил Митька, вдруг помрачнев. — Как ты говорила твое фамилие? Ворона? Брешешь, товарищ боец! — произнес он с ударением. — Я ваших, макеевских, вот как знаю. Нет такой фамилии в вашем поселке.
Ступак рассмеялся.
— А откуда ты взял, Лопатин, что ее фамилия Ворона? — спросил он с удивлением.
— Она сама говорила.
— Белоконь ее фамилия.
— Семена Назаровича дочка? — быстро спросил Митька, весь просияв.
— Ага! А разве ты знал его? — живо спросила Маринка.
— Как же такого человека не знать! — ахнул Митька. — За весь Донбасс штегерь был… Все знаю. Прошлый год немцы его расстреляли.
— И до чего, ребятки, вы друг на дружку похожи! — заметил Ступак, переводя взгляд с Маринки на Митьку. — Ну, прямо родные брат и сестра!
Девушка внимательно посмотрела на засеянное веснушками скуластое Митькино лицо. Уголки губ ее дрогнули. Она ласково улыбнулась.
— А тебя как зовут-то? — спросила она.
— Меня? Митькой… Дмитрием, — твердо поправился он, перехватив взгляд ее черных насмешливых глаз.
— Ну, ладно, — помолчав, сказала она. — Я заболталась, а мне еще нужно по делу. Бывайте здоровы, гуляйте до нас!
Она ловко вскочила в седло, приветственно махнула рукой и, поднимая за собой снежную пыль, помчалась по улице.
— Ишь, черноглазая! А? — качнув головой и глядя ей вслед, сказал Митька. — Лихая, видать, девка-то!
— И бойцу не уступит, — заметил Ступак. — Мы с ней прошлый год вместе в колесовской бригаде служили. Наши ребята очень даже уважали ее. Да что говорить! И хороша и строга.
— Н-но-о?
— А ты что думал? Она и плеть-то для этого дела возит с собой. Всякие ведь люди бывают…
Проскакав площадь, Маринка свернула на знакомую уже ей пустынную улицу и поехала шагом вдоль занесенных снегом маленьких домиков. Короткий день кончался. Воздух синел. В степи под серым пологом снеговых туч горела розоватая полоска заката.
Маринка ехала в глубоком раздумье. На ее загорелом лице блуждала улыбка. «Какой славный этот Митя, — отвечая на свою мысль, вслух подумала девушка. — Митя, Дмитрий! Хорошее имя…» Она нагнулась и ласково потрепала лошадь по упитанной шее. Кобыла шумно вздохнула, вильнув хвостом, прибавила шагу. Впереди послышались негромкие голоса. Маринка подняла голову. У небольшого моста, перекинутого через канаву, стояли сани, запряженные парой вороных лошадей. В санях, разговаривая между собой, сидели три человека. Ездовой, выйдя вперед, осматривал разбитые бревна моста.
— Что случилось, браток? — спросила Маринка, подъезжая и узнавая в ездовом того самого красноармейца, который указывал ей дорогу.
— Да видишь, дело какое. Видать, артиллерия прошла. Теперь и не проедешь, — почесывая в затылке, сказал ездовой.
— А ты в объезд попробуй, — предложила Маринка.
— И то… Да нет, там, видать, канава глубокая, — нерешительно заметил боец.
Маринка храбро направила свою лошадь вперед и переехала через занесенную снегом канаву.
— Давай в объезд! Здесь неглубоко! — сказала она, заставив свою кобылу широким прыжком махнуть обратно через канаву и подъезжая к саням.
— Вот сразу видно, что смелый товарищ! — похвалил сидевший в санях военный в шапке-ушанке. — Вы что, четвертой дивизии?
— Одиннадцатой, товарищ начальник! — бойко ответила девушка, нагибаясь с седла и признавая в военном начальника.
Он, склонив голову набок, закуривал потухшую трубку. Потом убрал спички в карман шинели и, тепло улыбаясь, взглянул на Маринку. Его молодое лицо с едва уловимой горбинкой на прямом тонком носу и темными, скрывавшими углы рта усами показалось ей странно знакомым. Но вместе с тем она хорошо знала, что впервые видит этого человека.
— Ну, как у вас там? — спросил он, пристально глядя на нее.
— Хорошо, товарищ начальник. Только вот бойцы обижаются, почему второй день на месте стоим, — отвечала Маринка, перехватывая глубокий, мягкий взгляд его сильных и вместе с тем ласковых глаз.
— Ну, это ничего. Отдых тоже нужен… Постойте, что это у вас со щекой? — спросил он с озабоченным видом.
— Обморозила, товарищ начальник!
У спрашивающего чуть дрогнула изогнутая тонкая бровь, и он внимательно посмотрел на девушку.
— Что же вы не перевяжете? Перевязать надо. Иначе хуже получится, — произнес он заботливо.
— Ничего. И так заживет.
— До свадьбы?
— Еще раньше, товарищ начальник! — весело сказала Маринка. — А потом у нас, знаете, с бинтами беда. Тряпками перевязываем.
— Вы что, сестрой работаете?
— Сестрой, товарищ начальник!
— Стало быть, с перевязочными материалами плохо. А с медикаментами?
— Да нет их совсем.
— Чем же вы лечите?
— Да больше иодом, товарищ начальник.
— Вот как. Гм… Ну, хорошо. Постараемся помочь в этом.
— Из десятой армии можно кое-что подбросить, — предложил сидевший рядом человек в папахе, с короткими щеточками усов на молодом, полном и румяном от мороза лице. Во время разговора он с любопытством смотрел на Маринку, тая улыбку в карих прищуренных глазах.
— А, ну вот и прекрасно, — согласился военный. — Так и сделаем.
Он сказал ездовому, что можно ехать, и, ласково кивнув Маринке и пожелав ей успеха, заговорил о чем-то с сидевшими в кошеве товарищами.
Сани медленно объехали мост, переваливаясь, выехали на дорогу и, дружно подхваченные лошадьми, понеслись по улице.
«Какой простой и заботливый, — думала Маринка, глядя вслед саням. — И про щеку спросил. И без насмешки… Кто он такой?»
Она стояла на месте, припоминая весь свой разговор с этим так понравившимся ей человеком, которому, как ей казалось, она смогла сказать то, чего никогда не сказала бы другому.
«Да… Бывают такие люди…» Маринка вздохнула, покачала головой и, медленно поворотив лошадь, тронула рысью по заснеженной дороге.
В просторной комнате было тепло и уютно. На столе, фыркая паром, шумно кипел самовар. Федя, сняв крышечку с небольшого белого чайника, заваривал чай.
Семен Михайлович сидел с края стола и старательно чистил разобранный маузер.
Сквозь приоткрытую дверь доносился вкусный запах свежеиспеченного хлеба. На стене между окнами отчетливо тикали ходики.
— Семен Михайлович, — сказал Федя.
— Ну?
— Уж больно у нас хозяйка хорошая.
— А что?
— Молодая да ласковая. Глядите, каких пирогов напекла. «Это, — говорит, — специально для товарища командира».
— Ну что же, хорошо.
— Я, между прочим, тоже ей внимание оказал.
— Что? — Семен Михайлович поднял голову. Его широкие черные брови чуть дрогнули. Он внимательно посмотрел на ординарца.
— Дров вот наколол, дверь у сарая поправил, — сказал Федя.
— А-а… Ну, ну… Это хорошо. Хозяевам помогать надо…
Федя погляделся в ярко начищенный самовар, обеими руками пригладил торчавшие волосы и вышел в соседнюю комнату.
Пошептавшись о чем-то с хозяйкой, он принес и поставил на стол крынку топленого молока с коричневой поджаристой пенкой.
— Семен Михайлович, пожалуйте кушать, — пригласил он, ловко вскрывая банку с консервами.
— Сейчас. — Буденный макнул навернутую на шомпол тряпочку в банку с ружейным маслом и осторожно, чтобы не капнуть на френч, смазал ствол пистолета. — Ну вот и готово.
Вдруг он поднял голову и прислушался. По крыльцу кто-то взбежал, стуча сапогами; потом послышались звуки быстрых шагов, и в комнату, не спросясь, вошел Зотов с возбужденным и красным лицом.
— Разрешите, товарищ командующий?
Буденный с удивлением взглянул на него: очень уж у Степана Андреевича был взволнованный вид.
— Товарищ Сталин приехал! — переводя дух, сказал он. — И с ним Ворошилов и Щаденко.
— Приехали? — Буденный с радостным удивлением на лице поднялся из-за стола. Но тут же его лицо приняло озабоченное выражение. — Постойте, как же так? Ведь мы ждали их завтра?
Зотов с видом крайнего недоумения пожал плечами.
Семен Михайлович быстрыми, ловкими движениями собрал маузер и сунул его в кобуру.
— Где они? — спросил он отрывисто.
— Сюда идут, товарищ командующий… Да вот они.
В соседней комнате послышались бодрые голоса, дверь распахнулась, и, внося вместе с собой целую волну свежего морозного воздуха, в комнату вошел весело улыбающийся Сталин. Вслед за ним вошли Ворошилов и Щаденко.
Семен Михайлович начал было докладывать, но Сталин, широко раскрыв руки, запросто обнял его.
— Ну вот мы и приехали, — сказал он после взаимных приветствий. — И, кажется, в самый раз! — Он кивнул на стол, где попрежнему весело шумел самовар.
Сталин снял ушанку, шинель и остался в наглухо застегнутом френче и черных суконных брюках, заправленных в невысокие сапоги.
— Ну что ж, друзья мои, первым долгом попьем с дороги чайку, — сказал он, обращаясь к Ворошилову и Щаденко, которые, как старые товарищи, радостно здоровались с Семеном Михайловичем.
— За угощенье не взыщите, товарищи, — сказал Буденный. — У нас по-походному.
Сталин усмехнулся. Его глаза весело заблестели. Он подошел к столу и подвинул себе табурет.
— Не скромничайте, товарищ Буденный, — сказал он, улыбаясь.
— Так можно и не по-походному жить, — оглядывая стол и смеясь, сказал Ворошилов. — Только вот хлеба что-то у вас маловато.
— А мы люди не гордые — хлеба нет, так и пирогов можем поесть, — сказал Щаденко, посмеиваясь и подвигаясь на лавке поближе к столу.
Зотов по скромности поместился за самоваром. Отсюда он видел только резко очерченный красивый профиль Щаденко, очень живо напоминавший ему виденный им рисунок из «Тараса Бульбы», на котором был изображен сын Тараса Остап.
Степан Андреевич молча пил чай. Посматривая из-за самовара, он приглядывался к сидевшим и прислушивался к их разговорам. Его мучила мысль, как бы гости не обиделись, что их не встретили.
Однако приехавшие и не думали сердиться, наоборот: разговор за столом принимал все более оживленный и веселый характер.
Сталин вспомнил о своей встрече с девушкой-сестрой, и разговор незаметно перешел на вопросы снабжения армии.
— Ох, уж мне эти снабженцы! — говорил Семен Михайлович. — Почистить бы их надо. Сидит, копит запасы, а бойцы босые ходят. Приходится чуть ли не силой выбивать обмундирование. Да вот Городовиков рассказывал. — Он усмехнулся. — Было это еще в прошлом году под Царицыном. Ребята у него здорово пообносились. А тут пополз слух, что кто едет в Царицын и умеет нажать на снабженцев, тот обмундирование получает. Бойцы ворчали: «Люди вон получают, а у нас босы, голы». Вызывает Городовиков своего начхоза и говорит: «Езжай в Царицын, бери с собой эскадрон с пулеметами и проси обмундирование». Ну, а хот и рад. Взыграл в нем партизанский дух хорошо. Приезжает он в Царицын. Эскадрон разместил против отдела снабжения, а сам входит в дом. К одному столу, к другому — всюду один ответ: нет, не можем; ничего, мол, нет. Ходил он, ходил, наливаясь злобой, потом входит в кабинет какого-то начальника да как — хватит плетью о стел: «Що ты яка бисова холира! Мы на хронти голи, боси, бьемся за совитску власть, а ты сидишь тут и ничего не робишь!» Начальник поднялся и до него: «Какое ты имеешь право оскорблять меня? Да я тебя под суд!» А начхоз: «О, це в мине не оскорбления, це только поговорка. Оскорбления в мине сзади. Ось, подивись в окно!» Начальник глянул в окно — пулеметы!.. Тут у него пропал всякий пыл. «Садитесь, — говорит, — товарищ. Зачем волноваться! Поговорим по душам. Может, что-нибудь и достанем». Короче говоря, начхоз привез обмундирование и еще долго после этого хвастал: «Ох, ну и перелякався же снабженець!»
Темнело. Федя зажег висевшую под потолком лампу-молнию.
Некоторое время длилось молчание. Потом Сталин по единодушной просьбе присутствующих рассказал со свойственным ему юмором о своем бегстве из сибирской ссылки…
— Вы, товарищ Сталин, только о веселом вспоминаете, — прослушав рассказ, заметил Семен Михайлович. — А ведь сколько трудностей пришлось вам пережить с этими побегами.
— Ну, что было, то прошло, — сказал Сталин. — Вспоминать об этом не стоит… Теперь мы должны другие трудности преодолеть, чтобы сделать наш народ счастливым… Ну, друзья мои, — продолжал он, помолчав и поднимаясь из-за стола, — делу — время, потехе — час. Давайте займемся делами…
Приезд Сталина в Велико-Михайловку 6 декабря 1919 года окончательно завершил создание Первой Конной армии.
На состоявшемся митинге Сталин по просьбе бойцов был избран почетным конармейцем, и имя его было занесено в списки 1-го эскадрона 19-го полка старейшей в Конной армии 4-й дивизии.
В тот же день Сталин собрал на квартире Буденного, где он остановился, объединенное заседание Реввоенсовета Южного фронта и Конной армии и выступил на этом заседании с докладом о международном положении. Потом, заслушав сообщения о состоянии частей (на заседание, были приглашены начдивы, политкомы и начштадивы), он ознакомил собравшихся с обстановкой на фронте.
Разгром Буденным белой конницы под Воронежем и Касторной и удачные действия группы Орджоникидзе под Кромами не только остановили движение Деникина на Москву, но передали инициативу действий в руки красного командования и вбили клин между Донской и Добровольческой армиями белых.
Большая комната, где происходило заседание, была полна народу. Места за столом всем нехватило, и многие разместились на лавках, табуретках и даже на стоявшем у стены сундуке.
…Прения подходили к концу.
Сталин медленно ходил по комнате, внимательно слушая выступавшего в эту минуту начштаба 4-й дивизии.
— По моему мнению, — бойко говорил начальник штаба, совсем молодой худощавый человек, — по моему мнению, не следует немедленно наступать на Донбасс. Донбасс — наша опора, и от того, как скоро мы придем туда, положение вряд ли изменится… Перед операциями в Донбассе следует несколько задержаться, подтянуть тылы, пополниться и уж потом бить сосредоточенными силами. А то так будет трудно…
Ворошилов взглянул на Сталина, спросил глазами, можно ли ему ответить на это выступление. Сталин в знак согласия молча кивнул головой.
— Вы, дорогой мой, извините, ни черта не понимаете, — заговорил Ворошилов, с убийственной иронией глядя на начштаба. — Трудно, трудно… Конечно, трудно! Ну и что же из этого? Если мы не будем сейчас неотступно бить белых, а лишь подтягиваться и организовываться, то они покажут нам тогда трудности в Донбассе. Вы Донбасс не знаете, а я ведь здешний… Нам, как сказал товарищ Сталин, надо молниеносно проскочить Донбасс. Люди там наши, а есть там нечего. Вот когда Донбасс станет свободным и останется за нашим тылом, тогда действительно он станет нашей опорой и даст нам десятки тысяч новых бойцов..
— А как же мы пойдем туда, когда там есть нечего? — спросил начальник штаба.
Ворошилов карими прищуренными глазами насмешливо взглянул на него.
— Не беспокойтесь, товарищ, — сказал он с твердой уверенностью. — На моей родине ребята хорошие. Они последнее отдадут и нас как-нибудь накормят.
Начальник штаба со сконфуженным видом уселся на место.
— Разрешите мне? — сказал Апанасенко, поднимаясь и густо покашливая. — Вот тут товарищи поминали, за старый и за новый план разгрома Деникина. Просимо пояснить: какая разница между этими планами? — попросил он, взглянув на Семена Михайловича, который сидел за столом, положив локти на папку с бумагами.
— Я отвечу на этот вопрос, — сказал Сталин.
Склонив голову набок, он прикурил трубку и подошел к большой карте, лежавшей на столе.
— Старый план, товарищи, предусматривал контрнаступление на Деникина от Царицына на Новороссийск через донские степи, — начал он ровным и спокойным, как всегда, голосом, наклоняясь к карте и концом мундштука показывая направление наступления. — Нечего и доказывать, — продолжал он, выпрямляясь, — что этот сумасбродный предполагаемый поход в среде, вражеской нам, в условиях абсолютного бездорожья грозил нам полным крахом. Нетрудно понять, что этот поход на казачьи станицы, как это показала недавняя практика, мог лишь сплотить казаков против нас вокруг Деникина для защиты своих станиц, мог лишь создать армию казаков для Деникина, то-есть мог лишь усилить Деникина.
Сталин прошелся по комнате, вновь остановился у карты и, ни слова не сказав о том, что он сам является создателем нового плана, продолжал при общем молчании:
— Именно поэтому мы решили изменить уже отмененный практикой старый план, заменив его планом основного удара через Харьков — Донецкий бассейн на Ростов. Какие же он дает преимущества? — Сталин помолчал, его глаза заблестели. — Во-первых, — заговорил он, — здесь мы имеем среду не враждебную нам — наоборот, симпатизирующую нам, что облегчит наше продвижение; во-вторых, мы получаем важнейшую железнодорожную сеть, донецкую и основную артерию, питающую армию Деникина: линию Воронеж — Ростов; в-третьих, этим продвижением мы рассекаем армию Деникина на две части, из коих Добровольческую оставляем на съедение Махно, а казачьи армии ставим под угрозу захода им в тыл; в-четвертых, мы получаем возможность поссорить казаков с Деникиным, который в случае нашего успешного продвижения постарается передвинуть казачьи части на запад, на что большинство казаков не пойдет; в-пятых, мы получаем уголь, а Деникин остается без угля… Вот каковы, в основном, преимущества нового плана, товарищи…
По комнате пронесся одобрительный говор. Сидевшие зашевелились.
Сталин поднял руку, привлекая внимание.
— Товарищи! — вновь заговорил он. — Наша задача сейчас заключается в том, чтобы разорвать фронт противника на две части и не дать Деникину отойти на Северный Кавказ. В этом залог успеха. И эту задачу мы возлагаем на Первую Конную армию, — он взглянул на Семена Михайловича. — А когда мы, разбив противника на две части, дойдем до Азовского моря, тогда будет видно, куда следует бросить Конную армию — на Украину или на Северный Кавказ… На этом, я полагаю, мы и закончим наше совещание…
XI
Бахтуров и Апанасенко стояли на высоком кургане и молча смотрели в ту сторону горизонта, где колыхалось огромное зарево. Пламя то замирало, то, ярко вспыхивая, освещало низко нависшие тучи.
Потом и вправо от того места, где стояли они, сверкнула зарница, и в темном небе стал, трепеща, разливаться красноватый отблеск огня. Налетевший ветер принес с собой тревожный гул канонады.
— Жгут злодеи Донбасс! — хмуро сказал Апанасенко. — Шоб их самих всех в пекле перепекло, проклятых… Гляди, кругом пожар.
— Как, как ты сказал? — спросил Бахтуров, быстро взглянув на начдива.
— Я говорю: пожар кругом, — повторил Апанасенко. — Эх, и в такое время в резерве стоять!..
Но Бахтуров уже не слушал его. Вынув записную книжку, он что-то торопливо записывал.
Апанасенко молча посмотрел на комиссара и кивнул головой с понимающим видом, хорошо зная, что он сейчас пишет стихи.
Красивое сильное лицо Бахтурова было освещено пожаром. Сдвинув брови, он писал:
…Пожар кругом, пожар кругом… Мы беззаветные герои все, И вся-то наша жизнь есть борьба!Подумав, он поставил точку и убрал книжку в карман.
— А ведь это Горловка горит, — сказал Апанасенко.
— Ты думаешь?
— Она самая. Я добре знаю эти места.
Пожар разгорался. По степи сполохами ходили огненные блики. Теперь стало видно, что влево, почти у самого горизонта, двигалась какая-то масса.
— Посмотри, Иосиф Родионович, что там чернеется? — сказал Бахтуров.
— Наши пошли, — сказал Апанасенко, зная, что в той стороне должна была двигаться 4-я дивизия, получившая приказ Буденного занять Горловку ударом с северо-востока.
Он не ошибся в своем предположении. Это была действовавшая отдельно первая бригада 4-й дивизии, только что опрокинувшая заслон белых.
Митька Лопатин ехал на своем обычном месте позади Ступака и думал о том, что еще немного — и он увидит родные места. Все эти дни Конная армия с жестокими боями шла по Донбассу, и он почти не смыкал глаз, находясь то в разведке, то участвуя в боях вместе с полком. Сейчас, пользуясь тем, что бригада шла шагом, он дремал, сутулясь в седле.
Начинало светать. Впереди на сероватом фоне восхода чернели высокие трубы поселка, сожженного орудийным огнем.
Митька вздрогнул и выпрямился.
Позади себя он услышал знакомый сипловатый голос Меркулова.
— Есть у них, понимаешь, один капитан. Туркул фамилия, — говорил Меркулов, покашливая. — С ученой собакой ходит. Ребята сказывали: страшила, каких свет не видывал. Глаза кровью налитые, ажник пламя горят. Шерсть дыбом… Ну, и как Туркул какого из наших в плен поймает, так зараз голым разденет и к дереву либо к столбу привяжет, а сам на собаку: «Бери!» Ну, а та, значит, терзает его.
— За горло? — спросил другой голос.
— Добро бы… Она у него так уже приученная… Очень я желаю энтого капитана поймать, — сказал Меркулов зловеще.
Полк втягивался в поселок. По обе стороны дороги дымились развалины.
— Гляди, еще висят! — показал Меркулов.
Вправо на перекладине от качелей висело несколько трупов, по виду шахтеры.
Вдали раскатился одинокий выстрел. Лошади встрепенулись, запряли ушами.
Колонна взяла рысью. По земле покатился быстрый конский топот.
Ступак повернулся в седле и подал команду:
— Лопатин! Федоренко! Сменить головной дозор!
Митька снял с плеча винтовку и, толкнув лошадь, поднял в галоп.
Близ поселковой рощи шумела толпа. Со всех сторон подбегали все новые люди. В толпе виднелись засаленные фуражки, шапки шахтеров. Слышались говор и крики. Возбужденно размахивая руками, люди смотрели в степь, где за косой сеткой летящего снега виднелись какие-то всадники.
— Наши! Наши идут!
— Дождались, ребята, ура!
— Гляди, гляди, едут!
— Наши? А может, не наши? — прижмуривая подслеповатые глаза, опасливо говорил старый шахтер с колючими усами. — Гляди, сынки, чтоб плохо не вышло.
— Да нет, дедуся, верно ведь наши! — радостно вскрикнула стоявшая рядом с ним румяная девушка. — Вон и шапки-то другие.
Вблизи послышался быстрый конский топот. Из-за крайнего дома во весь мах выскочили один за другим два всадника. Передний, молодой, с вихрами из-под рыжей кубанки, лихо подскакал к радостно гудевшей толпе и, с ходу остановив запотевшую лошадь, весело крикнул:
— Здорово, братва!.. Ну, вот и мы!
Громовой крик «ура» потряс воздух. Тучи галок взвились над рощей, кружась, стремительно понеслись на ту сторону поселка.
Митька оглянулся. Взвод рысью втягивался в улицу. Впереди взвода отчетливо желтели усы Ступака.
Бойцы спешивались. Народ надвинулся, обступил их плотной стеной.
— Товарищи… милые… Спасители наши…
Старый шахтер, взяв обеими руками Митьку за плечи, с силой тянул его к себе. Митька сразу не понял, зачем, и, только ощутив на губах прикосновение колючих усов, почувствовал, как сердце у него словно оборвалось и полетело куда-то…
Плача и смеясь, горняки обнимали буденновцев…
— Сынок, а сынок! — теребила Митьку старушка с кошолкой. — На-ка вот, возьми пирожка, — говорила она, дотрагиваясь до него иссохшей рукой. — Вкусный, попробуй да возьми прозапас.
Митька улыбался растерянной ребячьей улыбкой.
— Спасибо, мамаша. Ну, куда я с пирогами!
А с другой стороны чьи-то руки уже протягивали ему кувшин молока.
«Вот народ! — думал Митька. — У самих есть нечего, а последнее отдают».
— Слышь, сынок, бери табачку, — предлагал старый шахтер, подавая ему полный кисет. — Сам садил. Крепкий. Продерет по самые шпоры… Да нет, нет, весь бери. У меня много, — говорил он, видя, что Митька берет на закурку.
Внезапно в толпе произошло движение. Здоровенный парень в шахтерской блузе, сидя на небольшом пузатом коньке и доставая длинными ногами почти до земли, пробивался к бойцам.
— Эй, братва! — кричал он. — Где тут принимают в буденную армию?
— А ты кто таков? — спросил Ступак, глядя на парня, который, сидя на подушке вместо седла и вдев ноги в веревочные стремена, норовил пробраться к нему.
— Коногоны мы, товарищ. На шахте работали.
— И много вас?
— Много… — парень повернулся и показал рукой в сторону поселка.
Оттуда, болтая руками и ногами, подъезжали всадники.
— Ну, так становитесь, ребятки, к сторонке, — спокойно распорядился Ступак. — Начальство вот приедет, разберется.
Шахтеры подъезжали, спешивались и отводили лошадей с дороги, по которой непрерывным потоком шла конница.
— Что за войско? — вдруг раздался над Ступаком молодой знакомый голос.
Взводный оглянулся. Около него, с любопытством поглядывая на шахтеров, остановились Буденный и Ворошилов.
— Разрешите доложить, товарищ командующий, — взводный вытянулся и отчетливым движением старого служаки приложил руку к косматой папахе. — Вот эти ребята желают до нас поступить.
— Ну что ж, это хорошо, — сказал Семен Михайлович, переглянувшись с Ворошиловым.
Он спешился, передал лошадь Феде и, размяв затекшие ноги, подошел к притихшим шахтерам, которые во все глаза смотрели на него.
— Так, значит, товарищи, хотите к нам поступить? — спросил он, прищурившись.
— Хочем!.. Желаем!.. — загудели в ответ голоса.
— Это, конечно, дело хорошее, — заговорил Семен Михайлович. — И нам хорошие бойцы нужны. Но знаете ли вы, ребята, что такое Конная армия? У нас первое условие, закон такой: мы рвемся вперед. Бойцы у нас лихие, кони хорошие, а у кого плохой — умей достать у противника… Но кто пойдет назад, кто будет панику разводить, тому мы рубим голову. Так вы и знайте. И кто не выдержит такого режима, такой дисциплины, у кого гайка слаба, кто на себя не надеется, тот сматывайся сейчас же, чтобы после не было неприятностей. Нам нужны только герои…
Митька видел Семена Михайловича, но не слышал, что он говорит, и хотел было продвинуться поближе, но вдруг кто-то окликнул его.
К нему подходил знакомый шахтер.
— Лопатин, здорово! — приветливо сказал он, крепко пожимая руку товарищу. — Ты как здесь?
— А я уж второй год у Семена Михайловича.
— Что это у тебя конь такой худой? — спросил шахтер, проводя рукой по острому крупу лошади.
— Чешем, брат, чихнуть некогда. Двое суток не расседлывал. Совсем кони подбились, — сказал Митька.
— Где бурку-то взял?
— Трофей.
— Ох, видно, и дали вы духу кадетам!
— А что? — Митька сбил кубанку совсем на затылок.
— Да тут такая паника началась, как вы на Сватово ударили. В момент кадеты убрались. Даже спалить ничего не успели. А тут еще Луганск восстал… А вашу Никитовку, слышно, спалили.
— Что? — Митька побелел. — Откуда слыхал?
— Не слыхал, а видел. Зарево-то всю ночь горело… А ты бы домой заскочил. Тут и восьми верст нет…
Митька и сам хотел было раньше отпроситься у взводного, но постеснялся. Теперь это решение укрепилось у него окончательно. Он попрощался с товарищем и направился к Ступаку. Взводный поворчал для проформы, но, будучи добрым человеком и хорошо понимая душевное состояние Митьки, отпустил его.
— Ты только гляди, Лопатин, к кадетам не попади, — говорил он, сердито хмуря светлые брови. — Там, может, еще пооставались.
— Не таковский.
— Ну, гляди…
Митька вскочил в седло, поправил кубанку и помчался домой. Уже выезжая из поселка, он услышал позади себя громкие крики и оглянулся. На возвышенности около рощи колыхались, красные знамена и густо чернел народ. Там возникал митинг…
Оставляя за собой степь с заснеженными вышками давно покинутых шахт, Митька ехал знакомой дорогой. Сердце его замирало от предчувствия встречи с родными. Но радость свидания с матерью и Алешкой омрачалась тем, что он после первых слов должен был сказать им о смерти отца. «А может, не говорить?.. Нет, рано ли, поздно ли придется сказать. Так уж лучше теперь», — решил он.
Думая так, он въехал в поселок и сразу заметил происшедшую вокруг перемену. Вон и рощи нет. На месте ее торчат обгорелые пни… Постой, а где колокольня? Колокольни тоже не было…
Он остановил лошадь и осмотрелся. Вокруг лежали занесенные снегом развалины, источавшие горьковатый запах пожарища. Кое-где виднелись уцелевшие белые домики без окон и дверей, с израненными осколками стенами. Кругом было пустынно и тихо. И только вдали, на окраине, сиротливо вился белый дымок.
Озираясь по сторонам, Митька поехал шагом вдоль улицы. Вдруг он вздрогнул и остановился. За полуразрушенным палисадником стоял, широко раскинув руки и уронив на грудь голову, голый, распятый на стене человек.
С внезапно возникшим чувством тревоги Митька погнал лошадь вперед.
Еще издали он увидел знакомую белую мазанку. Он спешился и повел лошадь через лежавшие на земле сорванные с петель ворота. Лошадь всхрапнула, вытянув шею, осторожно простучала копытами по обледеневшим доскам.
Во дворе было пусто. У дверей в мазанку валялось ржавое ведро с выбитым дном. В вырытой снарядом воронке желтела подмерзшая сверку вода. Ветер шевелил обрывком газеты, лежавшим подле скамейки. Митька нагнулся, машинально взял газету и сунул в карман — курить ребятам.
В это время сквозь щелку в дверях на него испуганно смотрел, приоткрыв рот, маленький белокурый парнишка.
Митька привязал лошадь и пошел к дому. Дверь распахнулась.
К нему с диким криком метнулся какой-то вихрастый мальчишка в ватной солдатской фуфайке.
— Митька! — повторял он. — Митька!..
— Алешка!.. — Митька нагнулся, поднял голову брата и заглянул в его светившиеся голодным блеском глаза. — Братишка, а я тебя и не узнал. Какой ты худой да длинный, — обнимая и целуя его, говорил Митька.
— И я тебя, Митька, сразу не узнал.
— А мамка где?
Алешка ткнулся носом в пропахшую конским потом лохматую бурку и заплакал тихо и жалобно.
— Ну, что ты? Ну, что ты, дурачок? А еще шахтер! — торопливо успокаивал его Митька, а у самого в предчувствии непоправимой беды слезы уже слепили глаза. — Ну, не плачь, братишка. Мамка где? Говори!
Алешка поднял на него заплаканное лицо и, чуть шевеля губами, тихо сказал:
— Померла.
— Померла? Родная моя!..
Митька, задохнувшись, провел рукой по лицу. На его смуглых щеках проступил белые пятна.
— Болела? — спросил он дрогнувшим голосом.
— Побили ее. Солдаты. Калмыки у нас стояли, — всхлипывая и дыша открытым ртом, заговорил Алешка. — Они всё до нее приставали. А потом дознались или кто доказал, что вы с батей в буденной армии. Били ее, проклятые. Сапогами… Она сначала все кровью кашляла…
— Давно померла?
— Месяца два… У нас, Митька, кадеты много народу побили. Колькиного отца, учителя Ивана Платоновича, и еще много других шомполами до смерти забили… Дядю Ермашова к стене гвоздями приколотили.
— За что?
— За Аленку. Ее калмыки сильничали. А он на них с ножом… А Аленка утопилась…
Митька, схватив брата за плечо, страшными глазами смотрел на него.
— Утопилась?
— Ага. В пруде… Ой, Митька, больно! Чего ты мое плечо жмешь? Пусти!
— Говори дальше, — приказал Митька, опустив руку. — За что поселок спалили?
Алешка всхлипнул; размазывая слезы по грязному лицу, начал тихо рассказывать:
— Как кадеты заладили отступать, наши шахтеры хотели по ним ударить. Оружие подоставали. Я тоже батину винтовку вырыл, им дал. Дядя Егор бомб понаделал. А кадеты дознались, кого саблями посекли, кого с винтовок. А потом, как убрались, давай с орудий по поселку палить. Весь народ поразбежался. А я с бабкой Дарьей, — она теперь у нас живет, — в погребе сидел… Ох, и плохо было! — Алешка вздохнул с лихорадочной дрожью. — Митька, а ты чего один?.. Ну, чего молчишь? Где батя наш?
Страшным усилием Митька сдержал готовые брызнуть слезы. Он ласково посмотрел на Алешку и погладил его вихрастую голову.
— Давай сядем. — Он сел на скамейку и посадил брата рядом с собой. — Батя, — сказал он, помолчав, — занятый сейчас. Он при Семене Михайловиче.
Алешка доверчиво посмотрел на брата. На его ввалившихся щеках вспыхнул румянец, мокрые глаза заблестели.
— При Буденном?
— Ага. Отлучаться ему никак не можно. Там первое дело быть всегда наготове, — авторитетно говорил Митька, а сам думал: «Матери нет… Никогда не увижу…»
— Он что, командиром? — спросил Алешка, тронув его за рукав.
— Командиром.
— И саблю носит?
— Носит.
— И эти… как их… у него тоже есть? — показал Алешка на шпоры.
— Шпоры?
— Ага.
— А как же!
Алешка слез со скамейки, присел и худой черной рукой позвенел колесиками репейков.
— Митька, а Митька!
— Чего?
— Возьми меня с собой, Митька… а? Верно, возьми. Я вам с батей помогать буду. Эти вот шпоры чистить буду. Гляди, какие они у тебя ржавые да грязные.
Митька нежно посмотрел на него и, поиграв вспухшими желваками на скулах, заговорил убедительно:
— У нас маленьких не принимают. Ты уж поживи пока с бабкой Дарьей. Я вернусь. Тогда заживем по-другому. Жизнь-то какая будет! Тогда всем будет дорога открыта. И я вот выучусь и тебя выучу. Ты у меня инженером будешь… А за мать я отомщу…
— Эва! — Алеша усмехнулся сквозь непросохшие слезы. — Что ты все врешь-то? Разве тебя, такого большого, в школу возьмут?
— Да разве я, глупенький, в вашу школу пойду? Я на командира учиться буду.
Алешка с сомнением посмотрел на брата.
— Чудно́, — сказал он, усмехнувшись.
— А где бабка Дарья? — спросил Митька.
— За картошкой пошла. У нас есть нечего.
— А ну, иди сюда! — спохватился Митька.
Они подошли к лошади. Митька разамуничил торока.
— Держи!
Он стал вынимать из переметной сумы и класть на протянутые Алешкины руки хлеб, консервы и еще какие-то свертки.
— Ой, Митька, где ж ты все это набрал? — удивился Алешка. — А это чего в банке-то?
— Какава, — важно сказал Митька.
Потом он достал новую суконную гимнастерку с иностранными гербами на пуговицах и, подавая ее брату, деловито сказал:
— А эту на хлеб сменяете. Меньше двух пудов не берите. Хорошая гимнастерка. У самого Деникина взял. Ну, донесешь?
Вдали прокатилось несколько пушечных выстрелов.
— Кто это, Митька? — спросил Алешка с опаской.
— Наши. Беглым кроют… Ну, мне пора!
Он нагнулся, крепко поцеловал братишку и, повернув его, легонько толкнул в спину.
Когда Алешка, свалив все подарки кучей на стол, выбежал на улицу, чтобы еще раз взглянуть на брата, он увидел только быстро мелькавшие конские ноги и черные крылья развевавшейся бурки.
Вот всадник проскакал в конец улицы, свернул вправо и, широким прыжком махнув через канаву, скрылся за поворотом.
Часть вторая
I
На Петроградских кавалерийских курсах ждали приезда инспекции. Первым эту новость принес еще третьего дня курсант Тюрин. С мальчишески возбужденным лицом он, как бомба, влетел в эскадрон и, споткнувшись на ровном месте, крикнул товарищам:
— Ребята, Забелин к нам едет!
Курсанты, — многие уже спали, — зашевелились. Помещение эскадрона наполнилось гулом и жужжанием голосов.
Курсант Дерпа, человек огромного роста, прозванный Копченым за смуглый цвет кожи, приподнялся на локте и спросил у соседа по койке:
— Это кто ж такой Забелин, милок?
— А ты разве не знаешь, Копченый? — удивился сосед. — В германскую войну дивизией командовал. Он в прошлом году к нам приезжал… Сейчас инспектором.
Дерпа хотел еще что-то спросить у товарища, но тот быстро вскочил с койки и, накинув на плечи одеяло, побежал к Тюрину, который что-то рассказывал обступившим его курсантам.
— Ну да, я стоял как раз возле начальника курсов, когда дежурный принес телеграмму… Что? Вру? Да с места мне не сойти, если вру! Какие вы чудаки, право, ребята… Есть еще новость, — говорил Тюрин. — Получен приказ выдать курсантам старую форму гвардейских гусар. Завтра едут на склад.
Курсанты, в основном петроградская рабочая и учащаяся молодежь, с интересом приняли оба известия. О Забелине многие были наслышаны, и всем хотелось увидеть его. Множество разговоров и толков породило также сообщение о гусарской форме. Большинство видело такую форму лишь на портрете Лермонтова, который кончил эту самую кавалерийскую школу в 1835 году и служил в гвардейских гусарах. Поэтому многие, накинув шинели, тут же пошли смотреть на портрет, чтобы на месте разрешить возникшие споры. Оставшиеся пустились в разговоры о Забелине.
Тюрин, смуглый черноглазый курсант с тонким носом горбинкой, на вид совсем мальчик, стоя посредине толпы, говорил низенькому, с небольшими усами товарищу:
— Все же я никак не пойму, что заставило Забелина пойти вместе с нами?
— А что?
— Так ведь он был генералом при старом режиме.
— Что же из этого, раз он честный человек, патриот.
Тюрин с сомнением пожал плечами:
— Так-то оно так, понимаешь, но все ж таки он — генерал.
— А Николаев?
— Какой Николаев?
— А ты разве не знаешь?
— Не-ет.
— Тоже ведь боевой генерал. Он командовал бригадой в седьмой пехотной дивизии. Попал к Юденичу в плен, когда мы отступали на Петроград. Тот ему дивизию предложил. А Николаев говорит: «Нет. Я сознательно с большевиками пошел». Ну и повесил его Юденич в Ямбурге. А как вешали, он и говорит: «Вы отнимаете у меня жизнь, но не отнимете веры в грядущее счастье людей».
— Ну? Так и сказал?
— Слово в слово… Так что, значит, разные среди них есть. Я бы такому честному командиру памятник во какой поставил.
— А что? И поставят, — подумав, сказал Тюрин.
— По местам! — крикнул дневальный. — Дежурный идет!
В открытых дверях показалась сухощавая фигура дежурного командира. Он молча постоял некоторое время, выжидая, пока курсанты улягутся, потом притушил свет, оставив одну лампочку, и вышел в коридор.
— Копченый! — шопотом позвал Тюрин товарища.
— А? — откликнулся Дерпа.
— Ты спишь?
— Сплю. А что?
— Ты понимаешь, какое дело… — быстро зашептал Тюрин, подтягиваясь к изголовью соседней койки. — Я все думаю, ведь войне-то скоро конец. Что же мы будем делать?
— Как, то-есть, конец? Кто говорил? — спросил Дерпа, приподнимаясь на локте и вглядываясь в лицо товарища.
— Ты сегодня газету читал? — спросил Тюрин.
— Не успел. А что?
— Пишут, что конец гражданской войне.
— Да ты что, милок, сказился? А Деникин? А бандюки?
— Ну, эти не в счет. А у Деникина дела плохи — лапти складывает. Да вот слушай. — Тюрин зашелестел газетой, достав ее из-под подушки. Он приблизил газету почти к самым глазам и начал читать: — «…Взятие Екатеринодара венчает наши победы на Северном Кавказе, о размерах которых можно судить по тому, что в результате последних операций мы взяли до семидесяти тысяч офицеров и солдат. Остается только рассеять остатки белогвардейских банд на восточном побережье Черного моря. Скоро в наши руки перейдут Майкоп и Грозный с их запасами нефти. Доблестная Красная Армия гонит и громит противника…»
— А вот еще: «Трудящиеся России готовятся перекинуть все свои силы с фронта военного на хозяйственный, чтобы посвятить себя мирному труду…» Ну вот, слыхал? — сказал Тюрин, отрываясь от газеты и с глубокомысленным видом глядя на товарища. — Мирному труду, — повторил он.
Дерпа с насмешливым удивлением смотрел на него.
— Ну и чудной же ты, Мишка! — заговорил он, помолчав. — Треба, милок, знать, что товарищ Ленин говорит о капиталистическом окружении. Красная Армия будет существовать до самой мировой революции. Так что еще повоюемо… Ну, чего там еще пишут в газетке?
— Да разное пишут, — сказал Тюрин, вновь развертывая газету. — Постой… Ага! Есть сообщение Петрокоммуны. Так… Пишут, что завтра, двадцать четвертого марта, всем рабочим будет выдано по ползайца, а детям еще и сахар.
— Я б, милок, сейчас полкоровы съел, — вздохнул Дерпа. — У меня от воблы уж ноги не ходят.
Они помолчали.
— Копченый! — позвал Тюрин.
— Ребята, да замолчите вы наконец! — сердито сказал чей-то голос. — И сами не спите и другим не даете.
Тюрин повернулся на бок, вздохнул и потянул на себя одеяло…
Когда все уснули, Дерпа завозился на койке, достал из-под подушки несколько книг и погрузился в чтение.
Прошло несколько дней.
Помощник дежурного по курсам Алеша Вихров, высокий юноша восемнадцати лет, сидел за столом в дежурной комнате и читал «Героя нашего времени». Шел третий час ночи. Вокруг было тихо. Только отчетливо тикали над дверью часы да ветер, налетая порывами, стучался в плохо закрытую форточку.
Вихров закрыл книгу. Он только что прочел «Бэлу» и теперь, подперев рукой голову, задумался над прочитанным. Внутренне переживая за обиженного Печориным Максима Максимыча, он сразу решил, что если б он был на месте Печорина, то, конечно, обласкал бы доброго старика. «А правда ли, говорят, что в Печорине Лермонтов вывел себя? — думал Вихров. — Вряд ли, конечно… Хотя все может быть». Ему вдруг захотелось взглянуть на портрет поэта. Он поднялся из-за стола и, придерживая саблю, вышел в вестибюль. Здесь было темно. За двумя большими окнами просвечивал матовый отблеск луны. Голубоватые лучи играли на блестящем паркете, придавая окружающему таинственный вид. Вихров включил люстру. Яркий свет залил вестибюль. Вдоль потемневших от времени стен проступили тускло отсвечивающие золотые рамы картин и портретов, кирасы с перекрещенными под ними палашами и саблями, полуистлевшие бархатные штандарты кавалерийских полков — свидетели побед русской конницы, видавшие Бородино, Берлин и стены Парижа. Пройдя мимо картины, изображавшей штурм Шипки, Вихров подошел к портрету Лермонтова. Как хорошо было знакомо ему это смуглое большелобое лицо с темными усиками! Но теперь он смотрел на него не так, как обычно, а с чувством какого-то тревожного любопытства, словно хотел прочесть в знакомых чертах ответ на те мысли, которые сейчас волновали его.
Часы гулко пробили три. Пора было делать обход.
Вихров отошел от портрета.
«А сколько раз он смотрелся в это самое зеркало?» — подумал Вихров, задерживаясь у большого стенного зеркала, вделанного в старинную черную раму. Зеркало отразило совсем юное, ровно розового оттенка, с коротким прямым носом и синими глазами лицо. Он еще раз бросил быстрый взгляд на портрет и, внутренне ощущая приятную близость к поэту, направился в свой эскадрон.
Пройдя длинным коридором, он остановился у одной из наполовину застекленных дверей и стал смотреть через нее. На стуле около двери подремыдал — клевал носом — дневальный. Неладно подогнанный меховой кивер с высоким и тонким, как свеча, белым султаном съезжал ему на нос. Дневальный поправлял его сонным движением и вновь принимался кивать, словно с кем-то здоровался.
Вихров толкнул дверь и вошел в эскадрон. Дневальный вскочил.
— А где дежурный? — спросил Вихров, оглядывая койки и узнавая на ней знакомые лица спящих товарищей.
— У пирамиды, — показал дневальный, с трудом превозмогая одолевшую его зевоту и стараясь всем своим видом показать, что он даже и не думал дремать.
Вихров узнал стройную фигуру Тюрина, который, увидя его, подхватил гремевшую саблю, и поспешил к нему навстречу.
— Ну, как у тебя? — спросил Вихров, когда Тюрин подошел и представился.
— На Шипке все спокойно! — бодро сказал Тюрин.
— А кто это не спит? — спросил Вихров, показывая в дальний угол, где, обложившись книгами, спиной к ним сидел человек.
— Копченый. Я ему уже несколько раз говорил, чтоб спать ложился, а он, понимаешь, и слушать не хочет. Да еще грозится.
Вихров знал, что Дерпа, присланный на курсы из бригады Котовского, имел только начальное образование. Но, обладая огромной старательностью и большим самолюбием, он не хотел отставать от товарищей и просиживал ночи над книгами.
Оставив Тюрина, Вихров прошел к Дерпе и присел подле него на свободную койку.
— Ну, как дела? — спросил он участливо.
Сердито засопев большим носом, Дерпа с мрачным видом взъерошил густые светлые волосы.
— А чтоб она сказалась, чортова хипотенуза! — проговорил он с таким остервенением, что казалось, превратись сейчас гипотенуза в живое существо, он тут же изрубил бы ее на куски.
— Давай я тебе помогу, — с готовностью предложил Вихров.
Он взял табуретку, подсел к тумбочке и принялся втолковывать товарищу равенство треугольников…
— А ведь понял! Ей-богу, понял! — с просветлевшим лицом, радостно заговорил Дерпа. — Как же ты понятно объяснил, товарищ Вихров. Вот спасибо, так уж спасибо!.. Слушай, милок, я тебе за такое твое одолжение полпайки хлеба дам, — после некоторого колебания вдруг объявил он, с решительным видом ударяя по тумбочке своей огромной рукой.
— Да ты что, смеешься! — улыбаясь, сказал Вихров.
Он поднялся с табуретки, дружески хлопнул товарища по могучему плечу и, предложив ему ложиться спать, пошел к выходу.
У двери к нему подошел Тюрин.
— Слушай, Алешка, как думаешь, когда инспектор приедет? — спросил он с беспокойством.
— Да трудно сказать. Скорей всего к началу занятий, — сказал Вихров. — А чего ты волнуешься?
— Боюсь, понимаешь, с рапортом завалиться.
— А ты потренируйся пока.
— Я и то раз двадцать к двери подходил, рапортовал.
— Главное — не волнуйся… Ну, ладно, смотри, подъем не проспи.
Вихров кивнул Тюрину и вышел в коридор.
Обойдя помещения, он вернулся в дежурную комнату. На столе лежала записка: дежурный по курсам писал, что находится в штабе. Вихров убрал записку в стол, прилег на продавленный, с потертой кожей диван и стал думать о том, что скоро выпуск. Ему очень хотелось попасть в Конную армию, но он знал, что из прошлого выпуска лучших командиров направили в запасный полк для подготовки маршевых эскадронов, и теперь опасался, что его ждет такое же назначение. Нет, в тылу он не останется. «А Что, если самому Ленину написать? — думал он, вспоминая, как в прошлом году, когда ему пришлось стоять в карауле у актового зала в Смольном, Ленин прошел в двух шагах от него и, чуть прищурившись, приветливо кивнул ему головой. — Нет, нельзя беспокоить Ленина по таким пустякам, лучше напишу комиссару», — решил Вихров. Он поднялся с дивана, сел за стол и, найдя в одном из ящиков лист бумаги, собрался было писать, как вдруг в дверь постучали и чей-то глуховатый голос опросил разрешения войти.
В комнату вошел высокий молодцеватый старик с расчесанной на стороны курчавой седеющей бородой.
Хорошо подогнанный доломан сидел на нем, как влитый. В левой руке он держал сигнальную трубу с золотым шнуром и кистями. Это был любимец курсантов — трубач Гетман. Зимними вечерами в редкое свободное время курсанты собирались вокруг трубача — бывалого солдата, участника турецкой войны, который горячо любил молодежь и всегда старался рассказать что-нибудь поучительное, неизменно используя солдатские заповеди.
— Здравия желаю, товарищ дежурный! — бодро поздоровался Гетман, смотря на Вихрова с дружелюбно-покровительственным выражением на умном лице и вытягиваясь так, словно ему было не семьдесят с лишним лет, а вдвое меньше.
Вихров предложил трубачу сесть.
— Приедет, значит, да… Давненько я его не видал, — вздохнув, сказал Гетман, присаживаясь на краешек стула и придерживая трубу меж колен.
Вихров насторожился. На его лице выразилось живейшее любопытство.
— Родион Потапыч, а вы разве Забелина знаете? — спросил он старого трубача.
— А как же! Да мы с Сергей Ликсеичем почти десять лет вместе служили. Попервам в турецкую кампанию в Нижегородском драгунском полку. Он об эту пору был за полкового адъютанта. А потом в офицерской школе. Я при нем состоял в штаб-трубачах.
— Ну и какой он человек?.
— Орел… Строг, но и добер, — оживившись, начал трубач. — О солдате большую заботу имеет. Одним словом — отец. Бывало на крещенье, шестого января, парад — императорский смотр. Мороз градусов на тридцать, а мы в одних мундирах. Холодно. Только что душа не замерзнет. Так он перед парадом почти каждого солдата осмотрит, чтобы снизу был потеплее одет. Он как прошлый год приезжал, я в лагерях был. Так и не повстречались. А может, и не узнает?.. Ведь сколько время прошло…
Гетман замолчал, вынул из кармана чистую тряпочку и начал бережно протирать запотевшую трубу. Яркие блики электрического света заскользили по металлу, отражаясь на лице трубача, и тогда стал отчетливо виден белый шрам — знак турецкой пули, наполовину скрытый седыми усами.
— Видимо, Забелин простой человек, — после некоторого молчания заметил Вихров.
— Да куда проще. Денщик у него был, Иван Чернов. Вовсе неграмотный. Так Сергей Ликсеич сам его грамоте выучил.
Трубач кашлянул, не спеша сложил тряпочку и убрал ее в карман.
— Родион Потапыч, расскажите что-нибудь о турецкой войне, — после некоторого молчания попросил Вихров. — Ведь вы под Шипкой воевали?
Гетман отрицательно покачал головой.
— Нет, мы с Сергей Ликсеичем на Кавказском фронте сражались. Наш полк в Тифлисе стоял. Вот мы, значит, Мухтар-пашу и гоняли. Крепость Карс брали.
— И большие были бои?
— Большие… Сам Сергей Ликсеич под Карсом было пропал.
— Что, ранило?
— Нет, там вышла такая история… Разрешите закурить, товарищ дежурный?
— Курите, пожалуйста.
— Покорнейше благодарю.
Гетман вынул из кармана небольшую обкуренную трубочку и с тем чувством собственного достоинства, каким отличаются поседевшие на службе старые служаки, стал не спеша набивать ее табаком.
— Так вот как было это дело, — начал он, закурив. — Мы аккурат наступали на Карс. Наш полк и еще другие. Эриванский отряд назывались. Да. Командовал отрядом генерал-лейтенант Гейман.
— Немец?
— Нет, еврей. Сын полкового барабанщика. Очень, говорили, умный человек… Сергей Ликсеич в ту пору был полковым адъютантом. Молодой, лет двадцать. Ну вот, послал его командир посмотреть, можно ли по тому месту полку наступать. Он меня кликнул. Поехали. Сначала по ровному месту, а потом пошли овраги да балочки… И только это мы в балочку спустились, а он, турок, ка-ак полыхнет по нас залпом. Сергей Ликсеич вместе с конем на землю пал. Ну думаю, убили, злодеи, нашего сокола. Подъезжаю. Нет, гляжу — живой. Только коня под ним подвалили. «Пожалуйте, — говорю, — садитесь на моего, а я уж как-нибудь пеший до своих доберусь…» Хорошо. Уехал Сергей Ликсеич. А я седло с убитого коня снял да потихоньку и подался к своим. Только слышу — топот. Оглянулся — турки. Двое. Кричат, ятаганами машут. Ну, хотя они и отчаянный народ, да куда им двоим против русского солдата! Я палаш вынул, жду. И только они подскочили, я — раз! — и одного с маху ссадил. Другой все ж изловчился, по руке меня зацепил, но я и его вскорости спешил. А тут, глядь, еще четверо скачут. Вижу: вот она, погибель моя. Однако решил биться до последнего. Конечно, тут бы мне и конец, если б не Сергей Ликсеич. Он аккурат на горку взъехал и турок увидал. Как кинется! Одного срубил, другого. Остальные бежать… Вот какой он орел, наш Сергей Ликсеич. Да у нас и завсегда было так: сам погибай, а товарища выручай…
Гетман замолчал и стал выколачивать трубку.
— А ведь как давно это было, — тихо заметил Вихров..
— Да… Без малого годов пятьдесят, — тяжело вздохнув, сказал трубач. — А не пора ли нам, товарищ дежурный? — вдруг повертываясь на стуле и поглядывая на часы, спросил он с озабоченным видом.
— Да, да, можно играть, — спохватился Вихров.
Гетман встал со стула, шумно продул трубу и вышел из комнаты.
Спустя некоторое время бодрые звуки зори понеслись под высоким потолком вестибюля..
Начальник курсов, тучный пожилой человек, медленно ходил по большой сводчатой комнате нижнего этажа, носившей название приемной, и, подкручивая пышные с густой сединкой усы, говорил находившемуся тут же дежурному командиру:
— Стало быть, так и сделайте, батенька мой: как только приедет, сейчас играть сбор и строиться. Смотрите, чтоб все было в порядке, — говоря это, он искоса посматривал строгими навыкате глазами в сторону дверей, откуда каждую минуту мог появиться инспектор и где маячила за стеклом фигура выставленного сторожить курсанта. — Да, так и сделаем: трубить сбор — и баста, — повторил он, повертывая к дежурному свое старое, с отвисшими щеками лицо и хмуря густые серые брови. — Да вот еще что: передайте, батенька мой, адъютанту…
Он не договорил. Парадная дверь громко хлопнула, и в приемную вбежал курсант.
— Приехал, товарищ начальник! — доложил он веселым и несколько встревоженным голосом, смотря в упор на начальника курсов.
Вихров, все время стороживший на лестнице, услышав голос курсанта, быстро спустился в приемную и, ожидая распоряжений, встал позади дежурного командира. Он никогда не видел Забелина, но теперь, увидя входившего в приемную стройного, как юноша, красивого старика со свежим лицом и вытянутыми в ниточку тонкими и длинными седыми усами, сразу понял, что, это и есть Забелин. Упруго ступая, вошедший направился к заспешившему ему навстречу начальнику курсов. Пока тот представлялся и здоровался с ним и с сопровождающим его комиссаром курсов Дгебуадзе, сухощавым, средних лет человеком, Вихров успел рассмотреть, что на Забелине была фуражка с желтым околышем и выгоревшая серая офицерская шинель с темными следами погон. Пристально вглядываясь в лицо старика с характерным твердым и строгим выражением рта, он не сразу услышал, как дежурный шептал ему: «Что ж вы стоите? Бегите передайте Гетману играть сбор». Вихров тихо отошел от дежурного и, прыгая через ступеньку, быстро взбежал по лестнице.
Огромный зал с высокими мраморными колоннами и хорами для музыкантов был залит ослепительным солнечным светом.
Курсанты, твердо отбивая шаг и в такт звеня шпорами, по три в ряд, входили в широко раскрытые двери. Яркие лучи солнца играли на расшитом шнурами алом сукне доломанов, на белых ментиках и синих рейтузах. Над рядами плыли султаны меховых киверов с алыми шлыками и золотыми кистями. Сверкала до блеска начищенная медная чешуя подбородных ремней.
Эскадроны выстраивались.
Командир учебного дивизиона, полный человек среднего роста, с торжественным выражением на широком красном лице, картинно изгибаясь назад и, видимо, упиваясь собственным голосом, покрывавшим все звуки, залился протяжной командой:
— Дивизио-о-он!..
Выдержав паузу, во время которой слышался только дружный, в два темпа, стук ног по паркету, он, быстро опустив поднятую над головой руку, отрывисто оборвал:
— …стой!
Строй, дрогнув, замер. Наступила мертвая тишина. И как раз в эту минуту в глубине выходящего в зал коридора послышались быстрые шаги. Несколько сот глаз без команды повернулись направо: в открытых дверях появилось командование.
Стоявший на правом фланге Вихров оказался в нескольких шагах от Забелина и теперь с любопытством смотрел на него, живо представляя себе рассказанный Гетманом случай под Карсом.
«В критическую минуту притти на помощь солдату и спасти ему жизнь. Как это хорошо!..» — думал он, во все глаза глядя на Забелина. Он заметил, как инспектор, поздоровавшись с курсантами и назвав их «славными гусарами», чуть улыбаясь, сказал что-то сопровождавшему его начальнику курсов, и эта улыбка невольно сообщилась Вихрову, преисполнив его невыразимо теплым чувством к Забелину. Ему почему-то казалось, что такие люди вообще не улыбаются. Вернее, он сомневался в этом. Теперь сомнения его рассеялись, и это было приятно ему.
Забелин вынул из кармана платок, вытер усы и, скомандовав «вольно», остановился перед серединой фронта.
— Товарищи курсанты, — заговорил он негромким и уже старческим голосом, — мой приезд к вам совпал с событием большой важности. По только что полученным сведениям, коварный враг без формального объявления войны вчера вторгся в пределы нашей дорогой родины… Сейчас где-то кипит бой, и наши герои самоотверженно дерутся на фронте…
Возбужденный гул голосов прокатился по залу. Курсанты, переглядываясь, подталкивали друг друга локтями, задние подступали к товарищам; стоящим впереди.
Тюрин прокрался в это время к дверям зала (благо от эскадрона было не больше сотни шагов) и заметил движение в зале, но что там говорили, он не мог разобрать. Он только видел встревоженные лица товарищей и слышал изредка долетавшие до него слова комиссара курсов Дгебуадзе, который, судя по его жестам, что-то горячо говорил курсантам. Но вот Дгебуадзе сделал несколько шагов к правому флангу, и голос его стал слышен отчетливее.
— …Через несколько дней многие из вас будут удостоены высокого звания командира, — говорил он. — Носите это звание с честью. Помните, что командир — воспитатель широких народных масс. В первую очередь он должен любить родину, быть честным человеком и обладать высоким чувством товарищества… Карьеризм, личные интересы, зависть, интриги не свойственны красному командиру…
Дгебуадзе отошел в сторону, и Тюрин уже не мог расслышать его слов. Новый взрыв голосов и движение в зале заставили его насторожиться. Строй сломался. Курсанты с громкими криками «ура» бросились к комиссару, подхватили его на руки и понесли к выходу.
Тюрин со всех ног кинулся по коридору.
Курсанты донесли комиссара до вестибюля. Здесь он высвободился из крепко державших его рук и с покрасневшим, веселым и возбужденным лицом принялся заботливо поправлять смятый френч.
— Ну и руки, товарищ, у вас, — усмехаясь и потирая бока, говорил он молодому курсанту огромного роста, с большим носом и целой копной светлых волос. — Не руки, а чугунные клещи.
— Я извиняюсь, товарищ комиссар… я ж помаленьку… — в крайнем смущении забормотал Дерпа, искоса оглядывая свои огромные руки.
Пошучивая и посмеиваясь, курсанты расходились по эскадронам.
Взяв под руку начальника курсов и склонив к нему голову, Забелин прохаживался по опустевшему вестибюлю.
— Да, да, Павел Степаныч, — говорил он вполголоса. — Пилсудский умышленно затягивал мирные переговоры, чтобы успеть собрать силы и нанести внезапный удар.
Он вдруг остановился и, чувствуя на себе чей-то взгляд, поднял голову. Поодаль у дверей стоял старик и пристально смотрел на него. Выражение удивления, недоумения и радости быстро промелькнуло на лице Забелина.
— Позвольте, да ведь это Гетман? — проговорил он не совсем еще уверенным голосом, вглядываясь в лицо старика. — Гетман! — позвал он.
— Здравия желаю, ваше… — старик запнулся, — товарищ инспектор! — бодро отчеканил он, выступая вперед.
Забелин подошел к трубачу и обнял его.
— Гетман! Здорово, старик… Ну, как же я рад тебя видеть! — заговорил он, дружески похлопывая его по плечу. — Что ж ты сразу не подошел? Не узнал, что ли, меня?
— Как не узнать, Сергей Ликсеич, — весь дрожа от волнения и радостно моргая сверкающими влагой глазами, ответил старик. — Сразу узнал. Да только подойти не осмеливался…
Курсанты, шумно разговаривая, входили в эскадрон.
— Мишка, новость слышал? — еще из дверей кричал Дерпа Тюрину. — Польские паны войну нам объявили… Вру? Да сам комиссар говорил. Через две недели выпуск. В Конную армию едемо.
Он подошел к Тюрину, от прилива восторженных чувств схватил его в охапку и закружился на месте.
— А кто едет-то? Ты, что ли? — опрашивал Тюрин, тщетно пытаясь высвободиться из мощных объятий товарища.
— Да все, все, милок! Всем выпуском едемо до Буденного.
II
В вагоне стояли храп и густое посапывание. На полках, в тесных проходах и между скамейками тяжелым сном спали люди. Мешки, баулы, узлы, фанерные чемоданы и сундучки с подвязанными к ним дочерна закоптелыми котелками и чайниками — верными спутниками в те суровые времена разрухи и голода — загромождали вагон, и без того забитый людьми. Поезд еле тащился.
Начинало светать. Вихров сидел на угловой скамейке у окна и глубоко вдыхал свежий воздух. Добраться до Майкопа, где стоял штаб Конной армии, оказалось делом более трудным, чем предполагал он и его товарищи (с ним ехали Дерпа и Тюрин) две недели назад, когда они выехали из Петрограда. Поезда были переполнены так, словно вся Россия погрузилась в вагоны и катила куда-то искать сытой жизни. Однако после нескольких пересадок им повезло. В день их прибытия в Воронеж здесь был сформирован прямой поезд до Ростова. Вместе с дико ревущей толпой их внесло в вагон, закружило и разбросало по лавкам. Этим поездом они ехали уже третьи сутки, то лежа, то сидя. Пустив в дело руки, Дерпа успел завладеть верхней полкой и с комфортом расположился на ней, резонно заметив, что спекулянты-мешочники могут и постоять. Теперь, чередуясь с Вихровым, он отсыпался за всю дорогу, наполняя купе густым храпом.
Замедляя ход, поезд подходил к станции. За окном проплывало паровозное кладбище. На сереющем фоне рассвета отчетливо вырисовывались проржавленные корпуса паровозов с давно потухшими топками.
Протащившись мимо полуразрушенной станции с черными глазницами окон, поезд остановился. Со стен и полок, с грохотом посыпались вещи.
— Ух ты, окаянная сила! — плачущим голосом вскрикнул сидевший на полу человек с острой бородкой, охая и потирая затылок.
В вагоне зашевелились, послышались голоса и глухое покряхтыванье.
Дерпа тяжело перевалился на другой бок и, с трудом раскрывая припухшие веки, посмотрел в окно.
— Слышь, милок! — позвал он, свешиваясь с полки и трогая за плечо сидевшего внизу Вихрова.
— Чего тебе? — поднимая голову, спросил Вихров.
— Какая станция? Не знаешь?
— А чорт ее знает… Не видно, — сказал Вихров, засматривая в окно.
— Каменск это, товарищ, — сказал чей-то голос.
— Да ну?! — Дерпа с радостным воплем обрушился в полки, задев Вихрова.
— Ты что, ошалел? — сердито вскрикнул Вихров, морщась от боли и поджимая ушибленную ногу.
— Это ж моя станция! Я здесь почти пять лет в шахте работал… Пойти, может, своих ребят посмотреть? — говорил Дерпа, протискиваясь к выходу из вагона и шагая через узлы.
Поезд долго и нудно стоял. Вихров тоже хотел выбраться подышать свежим воздухом, но в тамбуре набилось столько народу, что он только досадливо махнул рукой и, с трудом перелезая через узлы и ноги сидевших, возвратился на место.
В дверях задвигались. В вагон пробирались два человека. Передний, с бородой веником, стриженный в скобку, остановился, держа шапку в руках, оглядел пассажиров и сказал бодрым голосом:.
— Граждане, пожертвуйте в пользу машиниста кто сколько может, а то до ночи будем стоять!
— И что же это, граждане, делается? — запальчиво заговорил ушибленный сундучком с видом крайнего возмущения посматривая на окружающих. — В Лисках давали, в этом… как его, тоже, а здесь, значит, обратно платить? — Он пошарил за пазухой, вытащил туго набитый бумажник, достал из него билет и, тыча в грудь бородатому, продолжал: — У нас билеты купленные. Да рази можно, чтобы пассажирам по три раза платить!
Бородатый развел руки и, склонив голову набок, сказал вразумительно:
— Экий же ты, гражданин, несознательный! А разве машинист обязан без смены везти? Скажи спасибо, что он в наше положение входит — третьи сутки везет… Давай, давай, граждане, не скупись! Скорее доедем.
— Непорядок это, — строго заметил пожилой человек, по виду рабочий.
Он сердито отвернулся, взял свой сундучок и пошел из вагона. Остальные пассажиры полезли кто в карман, кто за пазуху. В шапку щедро посыпались деньги.
Внезапно за стенкой вагона послышались встревоженные голоса, крики.
— Полно здесь! Полно!.. Куда лезешь? — зло кричал чей-то голос. — Не пущай ее, Петька! Нашли время с ребятами ездить… Не пущай, говорю!
Послышался звон разбитого стекла и вслед ему отчаянный женский вопль.
— Ты как смеешь, гад, бабу бить! — вдруг зазвучал другой голос. — Ишь, паразиты! Зараз всех расшибу! А ну, дай дорогу!..
В тамбуре зашевелились. В дверях появился высокий, плечистый человек с глубоким сабельным шрамом на красивом лице. На вошедшем была казачья фуражка с красным околышем и туго перехваченный кавказским ремешком коротенький полушубок, поверх которого висели шашка и револьвер в изношенной кобуре. Одной рукой он придерживал на плече связанное веревкой седло, другая была занята переметными сумами. Из-за его плеча несмело выглядывало заплаканное лицо молодой женщины.
— Здорово ночевали, товарищи! — неожиданно весело поздоровался он, улыбаясь и показывая белые и ровные зубы.
Никто из близсидевших ничего не ответил.
— А ну, граждане, уступите кто место гражданочке, — продолжал он, вдруг помрачнев и поверх голов оглядывая пассажиров.
В ответ послышалось глухое ворчание.
— Эх, граждане, стал быть, вы несознательные! — сказал с укором вошедший, сердито сдвинув угловатые брови. — Ну, ежли так, то я вас зараз в порядок произведу, не будь я боец буденновской армии… А ну, встань живком! — крикнул он сидевшему у дверей парню. — Что?.. Я те вдарю… Сидайте, гражданочка.
— Посмотреть ба, что у нее за дите, — мрачно заметил ушибленный сундучком. — А то теперь всякие ездиют. Другая полено тряпками обвернет — вот оно и дите: и не шумит и есть не просит.
— Я проверял, — успокоил буденновец. — Меня не обманешь… А ну, гражданин, подвинься чуток, — сказал он, перешагнув через злы и протискавшись к пассажиру в четырехугольном пенсне, соседу Вихрова.
Тот, блеснув стеклышками, быстро взглянул на бойца, хотел что-то сказать, но, встретив устремленный на него пристальный взгляд лихих серых глаз, поспешно подвинулся.
Боец положил седло и переметные сумы и, с трудом втиснувшись между сидевшими, потащил из кармана кисет с махоркой.
Вихров все время с любопытством смотрел на вошедшего. Впервые он видел буденновца, и этот решительный, полный энергии человек начинал ему положительно нравиться.
— Так вы, товарищ, из Первой Конной? — спросил он со сдержанной улыбкой, глядя на буденновца.
— А вы откель? — спросил боец, всматриваясь в Вихрова и с некоторым подозрением оглядывая его новую обмундировку.
Вихров пояснил ему, что вместе с товарищами едет в Конную армию, о которой они уже много наслышаны и хорошо знают о ее боевых действиях против Деникина.
Его простота и товарищеское отношение, повидимому, понравились бойцу, и тот, проникнувшись доверием к нему, в свою очередь рассказал, что сам он с Верхнего Дона, из станицы Усть-Медведицкой, служит с Семеном Михайловичем с восемнадцатого года и теперь едет в часть из госпиталя.
— Вот так встреча! — говорил он вполголоса. — Значица, к нам. Ну, в час добрый… Хоть, правду сказать, наша братва не дюже привечает вашего брата.
— Почему так? — удивился Вихров.
— Обижаются: своего разве мало народу.
— А может быть, другая причина?
Боец пожал плечами.
— Да ведь всяко бывает. Народ-то с курсов едет больше молодой, необстрелянный. Случается, который и сдрейфит с непривычки. А у нас на этот счет строго.
— Ну, наши-то, петроградские, все побывали в боях, — заметил Вихров. — Юденича били.
— А-а-а! Стал быть, вы петроградские, — сказал буденновец с значительным видом. — Та-ак… Был у нас один петроградский в четвертой дивизии. Я, товарищ командир, раньше в четвертой дивизии служил, — пояснил он, — а после ранения в одиннадцатую попал. В одиннадцатой-то еще нет красных офицеров. Не присылали. Вы первые будете… Так этот, петроградский, у нас в полковом штабе служил. Северьянов ему фамилия.
— Да, кстати, — сказал Вихров, — а как ваша фамилия?
— Моя? Харламов.
— Так вы говорите, товарищ Харламов, что того командира была фамилия Северьянов?
Вихров задумался, перебирая в памяти знакомых ему по прошлому выпуску товарищей.
— Нет, что-то не помню такого, — протянул он с нерешительным видом, — но возможно, что и встречались.
— А я с ним на карточку снятый. Может, припомните?
Харламов раскрыл переметные сумы, которые оказались наполненными доверху самым различным имуществом. Тут были чайник, уздечка с трензелями, пара подков, начатая буханка хлеба, большой кусок пожелтевшего от времени сала и еще какие-то свертки. Доставая один за другим все эти предметы, Харламов без стеснения раскладывал их на колени соседям. Потом он вынул из переметной сумы большую в рубчатой чугунной сетке ручную гранату и, повертев ее в руках, положил на колени сидевшему рядом человеку в пенсне.
— Что это такое? — опасливо спросил тот, косясь на гранату.
— Не знаешь? — удивился Харламов. — Чудно! Гранаты не видел?
Пассажира качнуло в сторону.
— Что, граната?! Заряженная?! — меняясь в лице, быстро спросил он испуганным шопотом.
— А как же… Да ты, гражданин, не бойся, — успокоил Харламов, чувствуя, как плотно прижатая к нему нога пассажира начала мелко дрожать. — Ты не бойся. Она хоть и заряженная, но сама не взорвется… Вот ежли ее уронить… — Он подхватил готовую скатиться на пол гранату и продолжал, с беспечным видом перекатывая ее на ладонях: — Конечно, если эта граната попадется в руки дураку, то будьте уверены…
Наступило молчание.
— Пойти, что ль, покурить, — как бы про себя сказал мешочник, ушибленный сундучком.
Он поднялся, подхватил свой мешок и, ступая на ноги сидевшим, быстро выбрался из вагона. Два-три пассажира, завозившись, заспешили следом за ним.
— Дурак ведь, без понятия, — усмехнувшись, продолжал Харламов, обращаясь к человеку в пенсне и глядя на него со скрытой враждебностью. — Мало ли чего ему в голову влезет. Вот, к примеру, был у нас в сотне, еще в германскую, один казачок. Ну, не так, чтобы дюже дурной, а, как говорится, с под угла мешком вдаренный. И вот попадись ему точь-в-точь такая граната. У немца взял. Да… Так он, стал быть, надумал ее в хате разряжать. Так от хаты одна труба осталась, и петух почему-то живой: видать, в трубу вылетел. Был белый, а стал черный, как грач. Да… А затак она нипочем не взорвется. Как хочешь ее верти… Вот… Только с рук не роняй.
Харламов высоко подбросил гранату и ловко поймал ее в руки.
Пассажир в четырехугольном пенсне схватил свой саквояж. Бормоча, что ему нужно дать телеграмму, и часто оглядываясь, он поспешно направился к выходу.
В купе стало пусто. Только сидевшая в уголке женщина, прижав ребенка к груди, сладко спала, уронив голову.
— А вы бы, товарищ Харламов, все же поосторожнее с ней, — опасливо сказал Вихров, показывая на гранату. — Долго ли ее уронить!
Харламов откинулся назад и захохотал.
— Так она ж пустая!.. Гляжу, одни спекулянты по лавкам сидят. Ха-ха-ха!.. Ну, думаю, нехай отсель выгребутся. А этот-то в очках… ха-ха-ха!., телеграмму схватился давать… Я ж, товарищ командир, этих буржуев насквозь вижу. Я вот к нему боком сидел, а видел, как он на меня змеем глядел… И чтой-то мне его личность показалась знакомая! Кубыть, где-то встречались. Надо б мне его документы проверить… И до чего ж некоторые смерти боятся!
Говоря это, Харламов достал с самого дна переметной сумы небольшую шкатулочку и поставил ее себе на колени. Поискав в ней, он нашел фотографию и, мельком взглянув на нее, подал Вихрову.
На фотографии была изображена группа бойцов. Впереди стоял сам Харламов с обнаженной шашкой в руках. Рядом с ним снялся высокий молодой командир с широким полным лицом.
Вихров сразу же узнал его и вспомнил, как этот командир, тогда еще курсант, помог ему однажды оседлать строптивую лошадь.
— Ну как же, я его знаю, — сказал он. — Только фамилию не помню. Он пятого выпуска. В прошлом году кончил курсы. А где он сейчас? В четвертой дивизии?
Харламов отрицательно покачал головой.
— Нет… Убили его под Ростовом. Пикой в живот… Меня в том бою тоже поранили. Я, товарищ командир, весь побитый. Пять ранений имею, а досе живой. — Он снял фуражку и показал глубокий розовый рубец. — Вот под Воронежем получил. Меня было уж и хоронить собрались. Ничего, отошел. В госпитале, конечно, полежал… Стал быть, ни шашка, ни пуля меня не берет. Теперь буду воевать до самой мировой революции… Ну, а если и убьют, так за народное дело. Не я первый, не я последний.
Вихров некоторое время смотрел на фотографию, потом молча подал ее Харламову.
— Товарищ командир, а верно, что польские паны нам объявили войну? — спросил Харламов.
— Да. Уже две недели воюем. Они напали на нас неожиданно, без объявления войны.
Харламов скрипнул зубами. На его смуглом лице появилось гневное выражение.
— Ишь, гады!.. Ну и этих побьем. Освободим ихних трудящихся… Все ж я не пойму, товарищ командир, неужель польские паны надеются со всей Россией управиться? — спросил он, помолчав.
Вихров усмехнулся.
— А вы думаете, они одни? Ого! За их спиной стоят капиталисты всех стран. Они их и втравили в войну.
— Все может быть.
— Да нет, это верно. Я слышал, комиссар на курсах еще говорил, что капиталисты снабдили их не только оружием и боеприпасами, но даже прикомандировали своих офицеров.
— Все равно побьем! — сказал Харламов с решительным видом. — Нет такой силы, которая могла бы против нас устоять. Россия не по их зубам. Поломают.
Он вынул из кармана кисет и в сильном волнении стал свертывать папироску.
— Так вы, значит, сейчас из госпиталя? — после некоторого молчания спросил Вихров.
— С госпиталя. Еще оставляли. Да я не захотел.
— А седло зачем?
Харламов усмехнулся:
— У нас завсегда так… Я его под койкой держал. Врач вначале шумел на меня, а потом ничего, успокоился… Так что ж, товарищ командир, давайте, что ль, места занимать, а то народ найдет.
— Я товарища позову, — сказал Вихров.
— А где ваш товарищ?
— В том конце вагона.
Вихров ушел и вскоре вернулся в сопровождении Тюрина.
— Здорово, товарищ! — бойко заговорил Тюрин, подходя к Харламову и блестя черными живыми глазами. — Так вы из Конной армии? Вот это хорошо! Ну, в таком случае будем знакомы… Ты что ж, понимаешь, раньше мне не сказал? — напустился он на Вихрова. — Тут товарищ едет, а я лежу и ничего не знаю… А почему, братцы, у вас так свободно? Позволь, а куда делся Копченый? — сыпал Тюрин вопросами.
— Дерпа пошел своих ребят посмотреть. Он здесь в шахте работал, — сказал Вихров.
«Командирик-то дюже молодой, а, видать, бедовый, — думал Харламов, глядя на Тюрина. — И, скажи, как их хорошо одевают!.. Толковые ребята. Сильна советская власть — заимела своих офицеров…»
Тюрин торопливо разложил вещи на полке, подсел к Вихрову и зашептал ему на ухо:
— Слушай, Алешка, у тебя хлеба ничего не осталось? Я свой, понимаешь, поел. Есть до смерти хочу.
— У меня есть немного, — тихо сказал Вихров. — Возьми вон в чемодане.
Тюрин собрался было подняться, но вдруг толкнул товарища локтем и показал глазами на Харламова, который, открыв переметные сумы, доставал из них сало и хлеб.
— Товарищи командиры, садитесь со мной, — радушно пригласил тот, нарезая сало большими кусками.
— Спасибо. У нас свое есть, — попытался отказаться Вихров, сердито взглянув на Тюрина.
— Ну, ваше потом съедим, — сказал Харламов, приметив голодный блеск в глазах Тюрина. — Привыкайте к нашим порядкам. У нас, в Конной армии, завсегда так: сегодня мое, завтра твое… Берите сало, хлеб, нажимайте. Как-нибудь доедем, а там голодные не будем.
Вдоль вагонов пробежал перезвон буферов. Поезд тронулся.
— Копченый остался! — встревожился Тюрин, вскакивая с лавки с куском сала в руке и выглядывая в окно.
— Ну, нет, такой не останется, — заметил Вихров.
Как бы в подтверждение его слов в вагон вошел Дерпа с красным и возбужденным лицом.
— Ну, как, своих повидал? — поинтересовался Вихров.
Дерпа с досадой махнул рукой.
— Никого, милок, нет. Одни старики пооставались. Вся братва на фронт ушла…
Вечерело. Поезд непривычно быстро шел по степи. За окнами проплывали темные шапки покинутых шахт. Высоко в небе протаивал месяц. Вихров и Харламов лежали на верхних полках и тихо беседовали.
Еще днем Вихров и его товарищи твердо решили просить назначения в 11-ю дивизию, в полк, где служил их новый знакомый, и теперь Вихров расспрашивал Харламова о жизни полка и обо всех тех мелочах, которые, естественно, интересовали и волновали его.
Харламов, с самого начала почувствовав расположение к молодому командиру, обстоятельно отвечал на все вопросы.
— Главное у нас — не робеть, — тихо говорил он. — А ежели дюже прижмет, то не показывать виду. Да будьте построже с братвой. Наши ребята тихих не любят.
Вихров спросил, правда ли говорят, в Конной армии введены какие-то новые шапки, при одном виде которых белые побежали, не приняв боя. Харламов, усмехнувшись, ответил, что это действительно было и что такие шапки называются буденовками. Он тут же слез с полки и, покопавшись в сумках, показал Вихрову суконный шлем с большой синей звездой. Вихров с невольным уважением взглянул на буденовку, решив при первой возможности достать себе такую же.
— У нас, товарищ командир, ребята дюже хорошие, — говорил Харламов. — Друг за друга крепко стоят. Уж в бою не подведут. Товарищество понимают. Да вот у меня дружок есть, Митькой звать. Он из-за меня тоже в одиннадцатую дивизию перешел. Вместе служим. Молодой, лет двадцать, а старому бойцу не уступит. Одним словом, донбассовский шахтер.
Вихров поинтересовался, какой средний возраст бойцов Конной армии. Харламов сказал, что большинство бойцов тридцати лет, но есть и шестидесятилетние старики. Таких, конечно, маловато, но служат они не хуже молодых.
Так они беседовали почти до полуночи и, только наговорившись вдоволь, заснули.
Утром поезд, наконец, прибыл в Ростов. Харламов надел буденовку и пошел к коменданту вокзала справиться, когда будет состав до Майкопа. Спустя некоторое время он возвратился и заявил, что Конная армия уже несколько дней как выступила из Майкопа и не сегодня — завтра будет в Ростове и что в находившийся по соседству Батайск уже прибыли какие-то конные части…
III
— Так что, можно полагать, я ошибся при первом подсчете?
— Возможно.
— Ну, а сколько теперь у вас получается, Сергей Николаевич? — спрашивал Зотов своего собеседника, секретаря Реввоенсовета Орловского, молодого сутуловатого человека, который, сидя за счетами напротив него, помогал ему составлять сводку боевого состава.
Орловский быстро прикинул на счетах, потрогал небольшие вкось усики.
— Вы не учли нестроевых в Особой бригаде, — сказал он помолчав.
— Ну, вот теперь правильно. — Зотов доброжелательно взглянул на Орловского. — Так и запишем.
Он пометил итог и, взяв чистый лист писчей бумаги, начал что-то писать.
— Степан Андреич, вы бы хоть перерыв, что ли, сделали, — укоризненно заметил Орловский. — Нельзя же так. Поберегите здоровье. Уж скоро вечер, а вы с раннего утра не вылезаете из-за стола… Посмотрите хотя бы, какие я замечательные книги достал, — кивнул он на маленький столик, на котором лежали три толстых тома в роскошных кожаных переплетах.
Зотов отрицательно покачал головой.
— Нет уж, друг мой. Я, знаете, привык доводить до конца каждое дело… Вот перепишу приказ набело, тогда можно будет и ваши книги посмотреть.
— Дайте писарю, он перепишет.
— Ну да! Наврет чего-нибудь, а я отвечай…
Степан Андреевич с солидным достоинством густо покашлял и, морща лоб, погрузился в работу.
На улице послышался шум подъехавшей машины.
Орловский подошел к окну посмотреть.
— Командующий приехал, — сказал он.
За стеной послышались звуки торопливых шагов, дверь распахнулась, и в комнату быстро вошли Ворошилов, Буденный и Щаденко.
Они подошли к большому столу, за которым сидел Зотов, и начали рассаживаться.
— Сергей Николаевич, — позвал Ворошилов Орловского, — берите бумагу, присаживайтесь. — Он взглянул на часы. — Так… Заседание Реввоенсовета считаю открытым. Какие у нас сегодня вопросы?
— Первое — приказ на поход, — сказал Буденный. — Степан Андреич, приказ готов?
— Готов, товарищ командующий. Только переписать не успел. Сейчас кончу.
— Не будем терять времени, — сказал Ворошилов. — Вы, товарищ Зотов, прочтите по черновику, а мы послушаем. Так, Семен Михайлович?
— Правильно, — согласился Буденный. — Читай, Степан Андреич.
Зотов взял приказ и, кашлянув, начал медленно читать, после каждого пункта вопросительно поглядывая то на Ворошилова, то на Буденного.
Приказ предусматривал порядок движения Конной армии с Северного Кавказа на далекий Юго-Западный фронт. Армии предстояло пройти походным порядком более тысячи километров, двигаясь через Ростов на Екатеринослав и Умань.
Буденный слушал, изредка посматривал на Ворошилова и Щаденко и одобрительно покачивал головой.
Зотов кончил читать и убрал приказ в папку.
— Все? — спросил Ворошилов.
— Все, Климент Ефремович.
— Хорошо… Но, по-моему, надо бы еще один пункт добавить, — помолчав, сказал Ворошилов.
— Насчет чего? — спросил Зотов.
— Относительно Махно.
— Совершенно верно, — подтвердил Буденный. — Надо указать, что в районе движения Конной армии находится банда Махно. При встрече с таковой командирам действовать со всей решительностью.
Ворошилов встал, скрипя половицами, прошелся по комнате и снова сел к столу.
— С Махно надо покончить как можно быстрее, — заговорил он, нахмурившись. — Махновщина — страшное зло, разлагающее наш тыл. Мы должны ликвидировать бандитизм до подхода к линии фронта. Это задача первостепенной политической важности, и мы должны поставить ее со всей остротой перед личным составом Конармии.
— В таком случае созовем начдивов, поговорим? — предложил Щаденко.
— Придется… Пархоменко еще не прибыл, товарищ Зотов? — спросил Ворошилов.
— Четырнадцатая дивизия[16] прошла Кущевскую вчера в три часа дня. Должна подойти к Батайску сегодня ночью, — сказал Зотов.
— В таком случае соберём совещание завтра в восемь утра. Так… Какие еще есть вопросы?
— Минутку, Климент Ефремович, — сказал Щаденко. — По приказу выходит, что нам двигаться до нового фронта с дневками целых пятьдесят пять дней. Не находите ли вы, товарищи, что это слишком большой срок?
— Нет, — заметил Буденный. — Мы всё точно подсчитали. Надо сохранить конский состав… В общем, на походе посмотрим. Может, и увеличим суточные переходы. Но пока будем итти по тридцать — тридцать пять верст.
— Ясно, — кивнул Ворошилов. — Ну, что еще есть?
— Получен приказ Реввоенсовета республики о создании в частях комиссий по борьбе с дезертирством, — сказал Орловский.
Буденный и Ворошилов переглянулись.
— У нас дезертиров нет и не было, — сказал Семен Михайлович.
— И не будет, — подхватил Ворошилов. — Так и запишем. Сергей Николаевич, пишите: «Постановили. Поскольку в Конной армии дезертиров нет, вопрос о создании комдезов оставить открытым»… Еще какие вопросы?
— Все вопросы, — сказал Орловский.
Ворошилов поднялся со стула, привычным движением поправил наплечные ремни и прошелся по комнате.
— Позвольте, откуда эти книги? — спросил он с недоумением, останавливаясь у столика подле окна.
— Это я, Климент Ефремович, в политпросвете достал, — сказал Орловский, вставая со стула и подходя к Ворошилову. — Лев Толстой, «Война и мир», три тома.
— А ну, ну… — Ворошилов взял лежавший сверху тяжелый, с бронзовыми инкрустациями том и, раскрыв его, стал перелистывать. — Смотри-ка, какое издание замечательное, — сказал он с восхищением.
— Юбилейное. Сытинское, — заметил Орловский.
— Нет, вы только посмотрите, Семен Михайлович, Щаденко, с какой любовью сделаны книги. А иллюстрации какие чудесные!
— Сытин выпускал — сказал Орловский. — Он болел душой за каждую хорошую книгу. Вообще редкий человек этот Сытин. Не буржуазной души человек. Я жил в Москве, на Пятницкой, как раз напротив его типографии, и часто с ним встречался.
— А разве вы москвич, товарищ Орловский? — спросил Буденный.
— Нет, туляк. Я учился в Московском университете.
— Так вы, Сергей Николаевич, не убирайте далеко эти книги, — сказал Ворошилов, продолжая рассматривать рисунки. — На первой же остановке начнем читать вслух по очереди. Я начинаю…
IV
Иван Ильич Ладыгин широко зевнул и открыл глаза. В комнате никого не было. Весеннее солнце щедро светило в окно. Где-то вдали дрожали тонкие звуки сигнальной трубы — играли седловку. Иван Ильич еще раз зевнул, потянулся, ощущая, как чувство радостной возбужденности, вызванное предстоящим походом, сразу же охватило его.
Он присел на кровати и стал одеваться.
Большой рыжий кот, мурлыча, терся у его ног, потом, прицелившись, прыгнул к нему на колени.
— Кис… кис… — сказал Ладыгин и почесал кота за ухом. — А ну-ка, братец, ты мне все-таки мешаешь. Иди-ка лучше мышей ловить.
Он снял кота с колен и, дав ему легкого шлепка, осторожно опустил его на пол.
Одевшись, Иван Ильич подошел к стоявшему в углу умывальнику и, как он это делал обычно, начал неторопливо и старательно мыться.
В дверь постучали.
— Войди! — сказал Ладыгин.
В комнату, осторожно ступая, вошел пожилой казак с изрытым оспой лицом.
— Ты что, Назаров? — спросил Иван Ильич.
— Проститься пришел, товарищ командир, — сказал Назаров, потупившись.
Ладыгин с удивлением взглянул на него.
— И ты остаешься?
— Остаюсь, товарищ комэск…
Иван Ильич укоризненно покачал головой.
— Выходит, Назаров, что ты свою шкуру ставишь выше народного дела?.. Да, брат, не ожидал… А еще старый боец, доброволец!
— Так что же, я ить не один, товарищ комэск. Все старики, которые из добровольцев, остаются. Хозяйство приводить в порядок надо. Гляди, какая кругом разрушения. А тут в этакой путь… Куда ж нам, старикам?
— Да разве ты старик? Смотри, какой молодец!
— Пятьдесят пять, товарищ комэск. Словно и не старик ищо, но все жа… Так что вы извиняйте, а нам в поход иттить не с руки.
— Жаль, жаль, — холодно сказал Ладыгин. — Ну что ж, дело хозяйское… Ты и коня берешь?
— У меня собственный.
— Да-а… Все же, Назаров, может, подумаешь? Товарищи уходят, а ты остаешься! Нехорошо ведь? А? Давай, брат, иди с нами!
— Никак нет, товарищ комэск, нам уходить никак невозможно… Так что уж не серчайте… До свиданьица! Спасибо за ласку.
Казак, весь съежившись, вылез за дверь.
Ладыгин подошел к зеркалу, нахмурившись, стал причесывать сильно поредевшие русые волосы.
Оглядев в зеркале свое худощавое русское лицо с прямым, тонким и несколько коротковатым носом над подстриженными усами, он надел буденовку и, оправив гимнастерку, вышел во двор.
Бурый с белыми бабками жеребец Гладиатор, а попросту Мишка, привязанный у тачанки рядом с небольшим рыжим коньком, встретил его приветливым ржаньем.
Ординарец Крутуха, высокий красивый парень, со свойственной терским казакам гордой осанкой, деловито вьючил седло.
— Здравствуй, Крутуха! — поздоровался Ладыгин.
— Здравия желаю, товарищ комэск! — не отрываясь от работы, бойко ответил Крутуха.
Иван Ильич подошел к нему и заглянул в переметные сумы.
Крутуха бросил на командира быстрый взгляд.
— Консервы с полка привезли. Какие-сь чудные банки, не по-нашему на них писано. Я уж получил, — негромко проговорил он, искоса поглядывая, какое впечатление произведет на командира его сообщение.
— Добре. Смотри береги. Они нам еще в пути пригодятся, — сказал Ладыгин.
Он оглядел двор и вдруг увидел лежавшего на бревне большого сазана.
— Где рыбу взял? — с удивлением спросил он.
— Хлопцы принесли. Бреднем наловили.
— Вот это добре. Отдай хозяйке на завтрак.
Крутуха молча кивнул.
— Не перековать ли нам правую? — спросил он, когда Ладыгин подошел к жеребцу и с грубоватой нежностью потрепал его по упитанной шее.
Иван Ильич нагнулся, поднял у жеребца ногу и стал внимательно осматривать ковку. Мишка прижал уши, шаля, куснул Ладыгина зубами за плечо и, притворяясь рассерженным, грозно всхрапнул.
Иван Ильич выпрямился.
— Ты что ж это, а? Разве можно хозяина так? — Он с укоризненным видом покачал головой. — Фу, срам какой!
Увидав, что глаза хозяина, несмотря на гневно сдвинутые брови, смотрят с обычным мягким выражением, Мишка повел ушами, качнул мордой, словно улыбнулся. Он хорошо знал, что этот молчаливый, ласковый человек только притворяется сейчас сердитым и никогда не ударит. Жеребец доверчиво ткнулся жесткой губой в хозяйский карман и, получив кусок сахару, захрустел, помахивая коротким хвостом и медленно двигая надглазными ямками.
Ворота скрипнули. Держа подмышкой сундучок и шинель, во двор вошел высокий худой человек, в котором Иван Ильич узнал военкома первого эскадрона Ильвачева.
Не спеша ступая длинными ногами, Ильвачев подошел, к нему, поставил сундучок, положил сверху шинель и раздельно, словно отрубая слова, сказал:
— Здорово! К тебе назначен. Военкомом. — И, помолчав, добавил: — Во всех отношениях.
— Ну? Вот это добре! — искренне обрадовался Ладыгин.
Ему нравился этот уравновешенный, настойчивый человек.
Еще во время формирования в Туле их связала общая любовь к книгам. Иван Ильич знал, что Ильвачев до революции был наборщиком в типографии, где, работая по ночам, испортил зрение. Поэтому при чтении ему приходилось пользоваться очками. Очки он терпеть не мог, постоянно терял их и вообще относился к ним с крайним пренебрежением.
— Так поверишь, что назначен к тебе, или бумажку показать? — спрашивал Ильвачев, покачиваясь на своих длинных ногах.
Иван Ильич взглянул на его худое остроносое бритое лицо и усмехнулся.
— Так, значит, я заступил, — сказал Ильвачев. — Пусть мое барахло пока здесь постоит, я схожу за конем… Да, товарищ Ладыгин, комиссар ничего тебе не говорил насчет ликвидации неграмотности?
— Нет. А что?
— Приказано за время похода ликвидировать.
Иван Ильич в недоумении пожал плечами.
— Как же на походе ее ликвидировать? На дневках[17], что ли?
— Зачем на дневках! На дневках все равно не успеть. А я придумал. Смотри!
Ильвачев нагнулся, открыл сундучок и вынул из него пачку крупно нарезанного картона.
— Видишь? — он показал Ладыгину огромную букву.
— Ну, буква. А дальше? Как ты учить-то будешь?
— Очень просто. Всех неграмотных в голову эскадрона. Переднему бойцу букву на спину, а остальные — учи! Все равно делать нечего во всех отношениях.
— А ведь ловко! Ха-ха-ха-ха! — расхохотался Иван Ильич. — Молодец! Здорово придумал.
— Уж не знаю как, но комиссар одобрил, сказал, что Хрулеву доложит… У меня тут целых три комплекта. — Ильвачев хозяйски похлопал по пачке. — Всю ночь сидел, писал… Ну, ладно, я пошел. Пока. Да, имей в виду, Иван Ильич: комполка и комиссар ходят по эскадронам.
Ильвачев, размашисто ступая, пошел со двора.
— К нам, что ли, комиссар? — спросил Крутуха, кивнув вслед Ильвачеву.
— К нам. А что?
— Ребята его больно хвалят. Говорят, очень замечательный человек… Товарищ комэск, комполка идет! — сказал он настороженно.
Иван Ильич оглянулся.
По двору шли два человека: высокий, лет сорока, с подбритыми усами на крупном лице — командир полка Панкеев, и небольшого роста, но такой плечистый, что казался квадратным, — комиссар Бочкарев.
Иван Ильич пошел им навстречу.
— Ого! Силён, Ладыгин, уже рыбки успел подловить? — улыбаясь, сказал Панкеев, здороваясь с Ладыгиным и показывая на рыбу.
— Бойцы наловили, товарищ комполка, — сказал Иван Ильич.
Панкеев нагнулся и взял рыбу.
— Сильна машина! Фунтов на десять весу. Славная уха будет, — проговорил он, прикидывая сазана на руке.
— Ну, как дела? — спросил он, бросая рыбу и повертываясь к Ладыгину.
— Плохие дела, товарищ комполка.
— Что, старики остаются?
— Сегодня Назаров ушел.
Панкеев с сожалением покачал головой.
— Да, жаль… Комиссар вот говорит, что они с своей земли не хотят уходить. Побили, мол, Деникина, и с нас, значит, хватит… Жаль, хорошие ребята были…
— А ты с ним говорил? — спросил Бочкарев Ладыгина, пытливо глядя на него карими монгольского разреза глазами.
— Ну как же!
— А он что?
— Известно что — хозяйство, мол, поразрушено, поразбито.
Во дворе послышался шум шагов. К ним шел черный, как жук, приземистый человек средних лет в накинутой на плечи лохматой осетинской бурке. Это был командир третьего эскадрона Карпенко.
— Вы меня требовали, товарищ комполка? — спросил он, подойдя к Панкееву и глядя на него черными навыкате глазами.
Панкеев сердито взглянул на него.
— Требовал. Что такое опять у тебя случилось? Жители приходили, жаловались — забор, мол, поломали.
— Да ну их, товарищ комполка. Брешут! У них доску возьмешь, они кричат — заборы палят.
— Ты все же, паря, смотри, — строго сказал Бочкарев. — Читал последний приказ?
— Читал, — Карпенко, стараясь скрыть смущение, подкрутил черные усики.
— Ну вот. А раз читал, то смотри в оба. А не то — трибунал. Так-то.
Наступило неловкое молчание.
— Разрешите взойтить! — послышался от ворот сипловатый старческий голос.
Панкеев повернулся на голос. В открытых воротах стоял дежурный по полку командир взвода Захаров, пожилой, добрейшей души человек, прозванный бойцами папашей за то, что звал их сынками.
— Заходи. Чего тебе? — спросил Панкеев.
— Разрешите доложить, товарищ комполка. Прибыли красные офицера́. Три человека, — доложил Захаров, подойдя к командиру и придерживая руку у шлема.
— Сильно!.. Где они?
— А вон у штаба стоят, — показал Захаров.
Панкеев в сопровождении всех присутствующих, кроме Крутухи, который продолжал любовно укладывать банки с консервами в свои переметные сумы, пошел со двора.
На противоположной стороне улицы, у палисадника, окружавшего большой дом штаба полка, стояли Вихров, Дерпа и Тюрин.
Панкеев и все остальные молча оглядывали молодых командиров. На них были длинные щегольские кавалерийские шинели, туго стянутые желтыми до блеска боевыми ремнями, аккуратно сшитые фуражки и хромовые сапоги с блестящими шпорами. Тут же стояли их чемоданы в защитных чехлах.
— А ведь ничего себе ребята, — сказал! Ладыгин. — Видно, их там основательно жучили… Карпенко, ты себе будешь брать командиров?
— На чорта мне нужны эти фендрики! — отмахнулся Карпенко. — Ворон пугать? И не поймешь, что они такое. Не то старые офицера, не то чорт те что! Они ж в первом бою убегут. «Мама!» закричат.
— Значит, паря, не хочешь брать? — спросил Бочкарев, глядя на Карпенко со скрытой усмешкой.
— Прошу ослобонить, товарищ комиссар. Ну их! С ними, с корнетами, только наплачешься.
— Ну, как хочешь… А ты, Ладыгин?
— А мне дайте одного, — попросил Иван Ильич. — У меня первый взвод без командира.
— Так вы, значит, с Петроградских курсов? — говорил Иван Ильич, доброжелательно оглядывая Вихрова, который чем-то напомнил ему сына, погибшего в начале гражданской войны. — Что ж, хорошие курсы… Ну, а командовать вам приходилось?
Вихров сказал, что был старшим курсантом, а во время обороны Петрограда командовал взводом разведчиков.
— Вот это добре, — сказал Ладыгин. — Практика — великое дело… Так вот, товарищ Вихров, поимейте в виду, что наши ребята, конечно, не курсанты и с дисциплинкой у нас слабовато. Так что постарайтесь прибрать взвод к рукам.
Он вынул из кармана записную книжку, вырвал лист и стал писать записку.
— Ну что ж, заступайте на первый взвод, — продолжал он, свертывая записку и подавая ее Вихрову. — Помощником у вас будет взводный Сачков. Старый солдат. Он сейчас временно командует взводом. Передайте ему эту записку, примите взвод, а после приходите оба ко мне. Да поимейте в виду, что через два часа выступаем в Ростов… Крутуха! — позвал он ординарца. — Проводи товарища командира до Сачкова.
Вихров и Крутуха вышли на улицу. У соседних обсаженных тополями дворов чей-то простуженный голос кричал:
— Маринка, слышь! Передай врачу, чтоб подводу под сахар налаживали!
Ему, видимо, что-то ответили, потому что на этот раз голос закричал громко и сердито:
— Ну да, проспал! Это вы спать горазды! Давай скорей! Там уж, факт, дожидают!
Крутуха, по всей вероятности, узнал голос, потому что усмехнулся и покачал головой.
— Кто это кричит? — поинтересовался Вихров.
— Да лекпом наш, Кузьмич. Очень даже искусный человек…
Они вышли к крайнему порядку дворов.
— Сюдой, товарищ командир, — показал Крутуха на ворота большого дома под железной крышей.
Вихров вошел во двор.
Перед выстроенным в две шеренги взводом кипятился немолодой уже, маленький рыжеватый человек с кривыми ногами.
— Будетя вы меня слухать или нет? — тонким голосом бойко кричал он, петухом наступая на взвод. — Вы знаетя, кто я такой? Нет? Ну, вот ты, Лопатин, к примеру, скажи, — подступился он к стоявшему на правом фланге Митьке. — Скажи мне: кто я такое есть?
— Известно кто, — улыбаясь, сказал Митька, — взводный Сачков.
— Взводный Сачков! Хе! — передразнил тот. — Вот и не знаешь. Я есть ваш отец, а вы мои дети. Понимаетя? Вот! И вы должны меня слухать, а не безобразничать. Вот!.. И куда это годится? — приседая и разводя руками, продолжал он. — Не поспели заехать в деревню — и все по избам, молоко пить. Оглянулся — один Лопатин едеть! Да и тот тольки потому едеть, что животом болееть. Рази это порядок? А? Будетя вы еще меня подводить, я вас спрашиваю?.. Комэск ругается, трибуналом грозится. Распустились, понимаете!.. — Сачков вдруг остановился, отер пот на лбу рукавом расправил пушистые усы и, неожиданно сбавив тон, спокойно проговорил: — Вот чего я вам скажу, ребята: давайте по-хорошему. А? Тогда и я буду хороший. Так-то лучше.
Он повернулся и увидел подошедшего к нему Вихрова.
— Кто такой? — спросил он сердито.
Вихров молча подал ему записку.
Ловя на себе настороженно-любопытные взгляды бойцов, Вихров ждал, пока Сачков кончит читать.
— По списку будетя принимать или как? — все так же сердито спросил Сачков, пряча записку в карман.
— Зачем по списку? Я вот сейчас так и приму, — сказал Вихров.
— Ну, давайтя…
Коротко беседуя с бойцами, Вихров стал обходить строй. Вдруг он чуть не вскрикнул от неожиданности: во второй шеренге стоял Харламов. Вихров дружески кивнул ему головой. Он знал, что Харламов служит во втором эскадроне 61-го полка, но никак не ожидал, что случай сведет их в одном взводе, и теперь, увидя Харламова, сразу почувствовал себя, как дома.
Его также приятно поразило то обстоятельство, что большинство бойцов оказалось бывшими кавалеристами из тамбовских крестьян и рабочих.
— Да тут, товарищ командир, почти все тамбовские волки, — улыбаясь, сказал ему Митька. — Только что я, Харламов да Миша Казачок не с той стороны.
— Какой это Миша Казачок? — спросил Вихров.
— А вот этот, — показал Митька.
Вихров увидел стоявшего на левом фланге толстого красноармейца лет пятидесяти. Лопнувшая по швам старая черкеска плотно облегала его широкие плечи. За его немного сутулой спиной висела винтовка. Богатая кавказская шашка в серебряных ножнах, такой же кинжал, два пистолета, обрез и засунутая за пояс граната завершали его вооружение. По оттопыренным карманам можно было судить, что множество различных боевых припасов покоилось также в его широченных штанах. На его немолодом, в глубоких сабельных шрамах, восточном лице с большим мягким носом и черными, жесткими, как щетки, усами застыло выражение доброты и спокойствия.
— Это что, фамилия такая — Казачок? — тихо спросил Вихров у сопровождавшего его Сачкова.
— Нет, кличут так, — сказал Сачков.
— А как все же его фамилия?
Сачков пожал плечами.
— Фамилия? Гм… Вот, понимаетя, я и сам не знаю. Миша Казачок — и все тут. Мы, знаетя, так и пишем его. И к ордену так представляли. Да… А впрочем, можно узнать. Миша! — с лаской в голосе позвал он бойца. — Скажи, как твое фамилие?
Миша Казачок повернул к нему свое полное лицо с добрыми черными, как маслины, глазами. Его толстые щеки покрылись румянцем.
— Гудушаури, — сказал он с достоинством.
— Ишь ты! Хе! — удивился Сачков, словно обрадовался. — А я доси не знал. Чудное фамилие. Вроде про душу чего-то. Ну-ну…
Распустив взвод, Вихров принялся осматривать лошадей. Когда он спросил, где его лошадь, Сачков, глядя в сторону, сказал, что она в кузнице и что сейчас ее приведут.
…Прием взвода подходил к концу, когда Вихров заметил в глубине двора небольшого, тщедушного парня в расстегнутой на груди гимнастерке. Кроме яркокрасных штанов, на нем были лакированные офицерские сапоги, на которые он, несмотря на сухую погоду, надел блестящие калоши с подвязанными к ним огромными шпорами. Парень с беспокойным видом ходил по двору, поводя головой по сторонам, словно высматривал, что плохо лежит. Вдруг он остановился и жадными глазами уставился на новые синие брюки Вихрова.
— Кто это такой? — спросил! Вихров.
Сачков с безнадежным видом махнул рукой.
— Сидоркин. Барахольщик. Я давно до него добираюсь, — пояснил он. — Хочу его со взвода списать. Этот вопрос у меня давно стоит на повестке. Но, знаетя, народу и так мало. Во взводе полбоевого состава. Что будетя делать?
Харламов и Митька Лопатин сидели на лавочке за воротами и, мирно покуривая, толковали о предстоящем походе на Юго-Западный фронт.
Вдали, за высоким берегом Дона, виднелись уходящие в глубину полосы зеленевших полей. За полями, среди садов и соломенных крыш, начинались длинные улицы пригорода с неодинаковыми по величине белыми домиками. Дальше, в синеющей дымке, открывалась холмистая панорама Ростова. По ту сторону Дона тонко, с переливами, кричал маневровый паровоз, и вниз по реке катились звенящие звуки — на станции формировали составы.
— Это не под нас, Степан? Как думаешь, а? — спрашивал Митька, показывая на тонко струившийся дымок паровоза.
— Нет, — несколько помолчав, сказал Харламов. — Ты гляди, сколько нас. Одних строевых тыщ двадцать. Это сколько же поездов надо!.. Нет, по моему рассуждению мыслей, нам не иначе, как походом итти.
— Ух, ну и зол же я на этих поляков! — с досадой сказал Митька. — Только б мне добраться до них — ни одного в плен не возьму.
Харламов с удивлением взглянул на приятеля.
— Так ты, стал быть, собираешься биться с поляками? — спросил он, помолчав.
— А с кем же? — опешил Митька.
— Надо соображение мыслей иметь, — рассудительно начал Харламов. — Ты, поди, думаешь — их рабочие или крестьяне дюже хочут с нами воевать? Как бы не так! Они ж трудящиеся, нам ро́дные братья. Им очень это по вкусу пришлось, что мы своего царя и буржуев скинули. Мы с панами биться идем, с белополяками, а это, как бы сказать, все равно, что наши белогвардейцы. Вот с кем будем биться. Понимать это надо…
На улице послышался легкий стук конских копыт. Харламов поднял голову. Боец в черной кубанке вел игравшую на поводу большую пегую лошадь.
— Куда ведешь? — спросил Харламов.
Боец усмехнулся.
— Новому командиру. Он коня себе требовал.
— Так она ж не дается?
— А мы спытать хотим, что он за кавалерист. А то ездиют тут всякие…
— Не води! — строго сказал Харламов.
— Сачок велел.
Харламов нахмурился:
— Вы вот что, ребята: эти шутки бросьте. Парень он хоть и молодой, но дюже хороший и нам подходящий. Я его знаю. Веди ее зараз же обратно. А Сачку скажи, что кобыла, мол, вырвалась и убежала… Да смотри у меня…
К двенадцати часам дня весь Ростов пришел в движение. По улицам валил густыми толпами народ. Балконы и окна домов были полны любопытных. Во все стороны сновали мальчишки.
С высоты третьего этажа было видно, как, поблескивая оружием в густой туче клубившейся пыли, в город входила колонна. Ростовчане подбегали к окнам, выходили на улицы и, гудя возбужденными голосами, толпились вдоль тротуаров.
Внезапно в глубине улицы показалось несколько всадников. Махая плетьми, они гнали галопом. Слышно было, как подковы рассыпали по камням мелкую дробь. Передний, в шахтерской блузе и расстегнутом шлеме, с ходу остановив лошадь так, что она заскользила на задних ногах, спросил, как ближе проехать к ипподрому, и, взмахнув плетью, пустил с места в карьер. Вдоль улицы пробежал легкий трепет. Народ зашумел, колыхнулся, подвинулся вперед. Вдали послышались громкие крики «ура». Люди приподнимались на носки, поглядывая в ту сторону, откуда несся крик, но там ничего не было видно, кроме целого моря голов. Крики катились все ближе и ближе и, достигнув поворота улицы, смолкли, перейдя в нестройный рокот и гул.
— Едут! Едут! — закричали впереди голоса.
Из-за поворота появились два всадника. За ними, по-шестеро в ряд, ехали трубачи на белых лошадях. Позади трубачей колыхались распущенные знамена, а дальше во всю ширину улицы сплошной стеной двигались всадники.
Онемевшая на минуту толпа, затаив дыхание, наблюдала за зрелищем. И было на что посмотреть: с тяжелым топотом, грохоча артиллерийскими запряжками, в облаках пыли, поднятой копытами лошадей, с лихими песнями и под звуки труб в город вступила Конная армия.
Впереди трубачей на крупном сером в яблоках жеребце ехал начдив Тимошенко. Его большая, словно высеченная из камня фигура покачивалась в такт шагу лошади. Рядом с ним ехал военкомдив Бахтуров. Их лошади шли, высоко поднимая сухие тонкие ноги, пощелкивая подковами по мостовой. За ними, по двенадцати в ряд, в малиновых, синих и черных черкесках с белыми башлыками, двигался штабной эскадрон. Дальше буйной лавиной на разномастных лошадях и в самой разнообразной одежде шли бесконечные ряды головного полка. Гимнастерки, черкески, английские френчи и шахтерские блузы бойцов, барашковые кубанки, шлемы, желтые, алые и голубые околыши фуражек всех кавалерийских полков старой армии и яркие лампасы донских казаков пестрели в глазах. Заглушая звуки оркестров, гремели веселые песни. Запевала штабного эскадрона, юркий молодой казачок, заводил старинную, переделанную на новый лад песню:
Мы по сопочкам скакали, Пели песню от души. Из винтовочек стреляли Буденновцы-молодцы!Подголосок подхватывал:
Греми, слава, трубой По армии боевой!И когда хор, уже готовясь оборвать припев, брал разом, здоровенный детина, ехавший позади запевалы, палил, как из пушки, оглушительным басом:
Эх, да бей, коли, руби — буденновцы-молодцы!Другой эскадрон пел:
Из-за леса, леса — копий и мечей Едет сотня казаков-лихачей…Хор подхватывал:
Е-е-е-ей, говорят — Едет сотня казаков да лихачей!А в четвертом гармонист, растянув доотказа мехи, грянул лезгинку, да такую разудалую, что двое молодцов, тряхнув широкими рукавами черкесок, пустились лихо отплясывать, стоя на седлах. Пулеметчик с румяным лицом, водрузив на тачанку граммофон, накручивал вальс «Дунайские волны»… Песни, музыка, звуки гармоник и раскаты приветственных криков сливались в один общий гул.
Полки шли бесконечным шумным потоком, которому, казалось, не будет конца. Уже давно величаво проплыл штабной значок четвертой дивизии, а улицы по-прежнему сотрясались от конского топота, грохота батарей и пулеметных тачанок. Сейчас проходила стяжавшая победные лавры в боях под Майкопом бригада комбрига Тюленева. Сам он, с молодым, безусым полным лицом, ехал впереди значка рядом с комиссаром и, видимо, рассказывал ему что-то веселое, потому что комиссар, рыжеватый, средних лет человек, откидываясь назад, громко смеялся.
Миновав городской сад, голова колонны завернула направо.
— Сто-ой!.. Сто-ой!.. — закричали впереди голоса.
Бойцы придерживали лошадей, посматривали вперед, переговаривались:
— Чего стали? Привал?
— Да нет, одиннадцатую дивизию пропускают — звон сбоку зашла.
— Ну, значит, привал. Эй, с гармошкой, давай сюда, начинай!
Бойцы проворно спешивались, пошучивая, разминали затекшие ноги. Гармонист заиграл казачка, и тотчас же залихватский плясун, подхватив шашку и грохоча шпорами, начал выделывать такие выкрутасы, что у остальных загорелись глаза и невольно задергались ноги. И вот уже пустились в пляс целыми взводами, и вскоре, казалось, плясала вся улица. А между рядами с шутками и прибаутками похаживали взводные и эскадронные затейники и балагуры.
— Ребята, гляди, одиннадцатая-то женихами какими! — крикнул пулеметчик с румяным лицом, оставив свой граммофон и выбираясь вперед.
Теперь внимание всех обратилось на 11-ю дивизию, которая, бряцая снаряжением, проходила на-рысях по боковой улице. Всадники все как один были в красных штанах, зеленых английских шинелях и опущенных шлемах, что придавало им богатырский вид. На пиках трепетали багряные язычки флюгеров.
Следом за эскадронами показались поотставшие тачанки. Ездовые, широко раскинув руки, тряхнули вожжами, и четверки белых, как лебеди, лошадей, согнув шеи, распустив по ветру хвосты и играя ногами, подхватили размашистой рысью.
Последним нагонял колонну старый трубач с большим красным носом и опущенными книзу рыжими с густой сединкой усами. По тому, как он, чуть сутулясь, ловко держался в седле, сливаясь своей небольшой костистой фигурой в одно целое с быстро скачущей лошадью, по всей его глубокой небрежно-молодецкой посадке опытному глазу было видно, что этот человек если и не всю жизнь, то добрых три десятка лет ездит в седле.
— Климов! Климов! Трубу потерял! — крикнул из спешенных рядов 4-й дивизии чей-то молодой насмешливый голос.
Трубач гневно пошевелил вислыми усами и коротко буркнул:
— Гляди, сачок, голову не потеряй!
Сильно пришпорив лошадь, он пустился карьером к своему эскадрону.
— Фу, насилу догнал! — проговорил он сиплым с хрипотцой голосом, пристраиваясь к толстому и важному на вид человеку с пышными усами и баками. — Добрейшее утро, Федор Кузьмич!
— Отдежурились, Василий Прокопыч? — спросил лекпом густым басом, важно кивнув головой.
— Да вот только сменился.
— Ну, какие новости в штабе полка?
— Красные офицеры приехали. Три человека.
— Знаю. Вот один у нас едет, — показал Кузьмич в голову эскадрона, где позади Ладыгина ехал Вихров.
Колонна шагом спускалась по пологому склону улицы.
Впереди за кривыми кварталами небольших домиков открывался ипподром с видневшимися на нем квадратами уже выстроенных войск. Народ входил вместе с полками и занимал трибуны. В напоенном солнцем весеннем воздухе разливались протяжные, нараспев, команды. Поднявшийся ветерок трепетал в распущенных знаменах. Народ все прибывал, шумными потоками заливая свободное поле. Подъезжали подводы, груженные бочками с пивом — подарком ростовских рабочих бойцам Конной армии. Мальчишки выискивали места получше и бесстрашно пролезали между ног лошадей.
— А ну, сачки, метись отсюда! — замахиваясь плетью и вращая притворно страшными глазами, крикнул Климов. — Стопчут вас кони, а мы отвечай!
Но исполнить подобный приказ было почти невозможно, потому что начиналась самая интересная часть зрелища. Мальчишки с деланно-равнодушным видом отходили назад, но тут же, переговариваясь и подталкивая друг друга, вновь подступали под самые хвосты лошадей.
Вихрову, стоявшему впереди взвода, хорошо было видно и слышно, как начдив 11-й кавалерийской Морозов, откинувшись в седле, протяжно скомандовал:
— Сми-иррно! Шашки вон, пики в ру-ку! — и отчетливо оборвал: — Товарищи командиры!
Команда, подхваченная на разные голоса полковыми и эскадронными командирами, покатилась вдоль фронта и смолкла.
В наступившей на миг тишине послышался далекий конский топот. Со стороны станции, здороваясь с полками, широким галопом скакало несколько всадников. Вихров увидел, как стоявшие на фланге трубачи одновременно взмахнули сверкнувшими трубами, и в ту же минуту над головами людей понеслись ликующие звуки встречного марша. Всадники приближались. Вихров уже хорошо видел их лица. Один из них, с большими усами, был в тонко перехваченной серебряным пояском черной черкеске с блестящими газырями, между которыми полыхал на груди алый бешмет, другой во френче и защитной фуражке.
— Ур-р-ра-а! Ур-р-ра-а! — закричали вокруг.
Охваченный общим порывом, Вихров, не переставая кричать, кружил и размахивал шашкой, не чувствуя, что на его глазах выступила обильная влага. Он почувствовал это только тогда, когда Буденный и Ворошилов в сопровождении ординарцев промчались к левому флангу и, придержав лошадей, рысью выехали перед серединой дивизии.
Морозов подал команду. Полки вложили шашки в ножны и, шурша тысячами копыт, построили четырехугольник.
Буденный тронул вперед свою крупную буланую лошадь и, подняв руку, высоким молодым голосом бросил в ряды несколько слов. Но набежавший ветер унес слова, и стоявший во второй шеренге Митька ничего не расслышал.
— Степан, слышь-ка, о чем это он? — шопотом спросил он Харламова, стоявшего правее него.
— Тш-ш! — шикнул Харламов. — О победах говорит. Панов бить идем.
Буденный кончил свою короткую речь, — он не любил говорить долго, — и под восторженные крики бойцов подъехал к Ворошилову. Было видно, как он, чуть улыбаясь в усы, что-то говорил Ворошилову и как Ворошилов, тоже улыбаясь, утвердительно кивнул головой. Подобрав поводья, Ворошилов повернулся к рядам.
Его большая рыжая лошадь в белых чулках, высоко вскидывая ногу, била землю копытом.
Ворошилов поправил фуражку, привстал на стременах и оглядел долгим взглядом смуглые, обветренные лица бойцов.
— Товарищи бойцы, командиры и политработники! — зазвучал его густой отчетливый голос. — Новая опасность нависла над нашей страной…
Митька жадно ловил каждое его слово. Слова эти настораживали, порождали тревогу, «Ишь ты! — думал Митька. — Паны задавить нас захотели. Вместе с Антантой походом идут». Антанта представлялась ему страшным чудовищем, многоголовой гидрой, которую он не одни раз видел на плакатах и страницах газет.
— Мы идем не против польских рабочих и крестьян, — говорил Ворошилов. — Антанта, на содержания которой была северная, восточная и южная контрреволюция, убедилась, что ее карта бита, и перекинулась на запад, чтобы оттуда нанести удар по Советской России. Антанта подрядила на это польских панов. Она приказывает им не отзываться на мирные предложения советского правительства… Мы стремимся к миру, но если белогвардейцы этому мешают, то у нас есть для них одно средство — оружие…
Ворошилов говорил, и в ответ на его полные гнева слова в душах бойцов поднималась волна ненависти к врагу, крепла уверенность в своей силе и мощи. Чувство это росло, отражалось в широко раскрытых блестящих глазах и, наконец, прорвалось. Неистовое и грозное «ура», как ураган, пронеслось из конца в конец ипподрома, ударилось в трибуны и, подхваченное тысячами голосов, покатилось по полю.
— Ур-ра-а! Даешь Варшаву!.. Ур-ра! — закричал Митька и только теперь почувствовал, что рука его до боли сжимала эфес наполовину вынутой шашки.
Он искоса глянул вокруг: справа и слева поднимался целый лес рук с блестевшими в лучах солнца клинками.
Впереди на разные голоса что-то командовали. Полки перестраивались и, проходя торжественным маршем, покидали ипподром.
Конная армия, взяв направление на Матвеев курган, двинулась в далекий поход.
V
Шел второй день похода.
Придерживая рвавшую повод горячую гнедую кобылу, Тюрин ехал впереди своего взвода. Все вокруг веселило и радовало его: и лежавшая по сторонам дороги яркозеленая степь, и пригревавшее по-весеннему ясное солнце, и веселое чиликанье птиц, и ястребы, недвижно парившие в бездонно-голубом куполе неба.
Над степью поднимался свежий аромат трав и цветов, вливавший в душу бесконечно бодрое ощущение жизни. Радуясь этому волнующему чувству, Тюрин мечтал о предстоящих боях. Он очень живо представлял себе первую схватку с врагом… И вот он уже видит себя скачущим в степи со сверкающей саблей. Навстречу, спускаясь с холмов, движется какая-то темная масса. Это противник. Не долго думая, он пускает коня во весь мах. Он рубит, колет, сшибает врагов. Вокруг него с грохотом падают кони и люди… Победа близка.
Громкое фырканье лошади, раздавшееся рядом, вернуло его к действительности. Он повернул голову и увидел Вихрова.
— Ну, как дела, Миша? — спросил Вихров, придерживая лошадь и пристраиваясь к нему с левого бока.
— Ох, Алешка, если бы ты знал! — возбужденно заговорил Тюрин, все еще находясь под впечатлением только что пережитой схватки. — Вот, понимаешь, мировые ребята! Да с такими только и воевать. А рубят! Куда нашим курсантам! Один, понимаешь, показывал мне классную рубку. Знаешь баклановский удар с потягом?.. Ну вот. Так, понимаешь, ка-ак даст — дерево перерубил пополам. Да нет, я с такими в любой бой пойду. И вообще ребята что надо. Есть у меня во взводе один парень — что хочешь достанет. Вчера перед выступлением целое ведро меду принес.
Вихров быстро взглянул на товарища.
— Как принес? Зачем?
— Вот странный вопрос! Есть, конечно, — с беспечным видом сказал Тюрин.
— Да я понимаю, что есть. А как он достал? Подарили, что ли, ему?
Тюрин усмехнулся.
— Да ты что, смеешься? Какой дурак ведро меду подарит! Он вообще мировой парень: из-под земли что хочешь достанет. У него все есть. И денег много.
— Знаешь, что я тебе на это скажу? — начал Вихров, пытливо глядя на товарища. — Твой мировой парень плохо кончит. Ты не интересовался, кто он такой?
Тюрин взглянул на него с озабоченным видом.
— Да нет, не интересовался… А ведь ты прав, пожалуй. А?.. Вот, чорт, понимаешь, как же я не подумал?
— В том и беда, Миша, что ты часто делаешь, а уже потом думаешь. Помнишь, я тебе еще на курсах говорил?..
— Да, да… Вот, чорт, дела… Подкачал, значит, а?
Вихров дружелюбно взглянул на товарища.
— Ты, Миша, не обижайся, — сказал он. — Я тебе как другу советую. Помнишь, комиссар на выпуске говорил, что потерять авторитет легко, а завоевать очень трудно..
— Помню. И нисколько не обижаюсь на тебя. Ты почаще мне говори. А то я, знаешь, другой раз, не подумав, рубану с плеча, а потом хватаюсь за голову, да уж поздно.
— Да, с тобой это бывает, — сказал Вихров. — Надо тебе думать больше… Ну, ладно, я поехал.
Он дружески кивнул товарищу и хотел было тронуть лошадь, как вдруг позади них послышался быстрый конский топот. Вихров оглянулся. Вдоль колонны ехал крупной рысью молоденький всадник в черной черкеске.
— Хороша Маша, да не наша, — вздохнул Тюрин.
— Кто такая? — с любопытством спросил Вихров.
— А ты разве не знаешь?
— В первый раз вижу.
— Маринка. Сестрой работает.
— Откуда ты ее знаешь? — удивился Вихров.
Тюрин усмехнулся.
— Я еще в Ростове с ней познакомился. Вместе с Копченым специально в околоток ходили… Только уж больно строга. Копченый по простоте что-то ей ляпнул, а она нас обоих выгнала вон. Там еще Дуся есть, санитарка. Ничего девочка. Ну, та своя в доску. Ты что, уж поехал?
— Да, мне пора, — сказал Вихров.
Он кивнул Тюрину и поскакал в свой эскадрон.
— Ну, как? Проведал товарища? — приветливо спросил его Иван Ильич, когда он подъехал к эскадрону и занял свое место позади Ладыгина.
— Все в порядке, товарищ командир эскадрона, — сказал Вихров.
— Добре. А тут один командир был, хотел тебя видеть. Здоровый такой, с большим носом.
— Это мой товарищ. Вместе приехали.
— Я знаю. Как его фамилия?
— Дерпа, товарищ командир.
В голове колонны тронулись рысью. Иван Ильич, привлекая внимание эскадрона, поднял руку и, подобрав поводья, толкнул жеребца. Эскадрон перешел на рысь.
Всадники мягко закачались в седлах. По степи покатился конский топот.
Начинало смеркаться. Степь попрежнему находилась в движении. По дорогам тучей шла конница. Свежий ветерок шелестел в развернутых значках и знаменах.
Временами казалось, что за дальними курганам уже больше никого не осталось. Но вновь и вновь они покрывались черными массами всадников, и конский топот, песни и громыханье артиллерийских запряжек растекались в степи.
Конная армия шла на запад.
Там, у горизонта, среди дымчатых облаков, как в зареве огромного пожара, садилось кроваво-красное солнце.
VI
Над Гуляй-Полем стоном стояли пьяные песни. Новоспасский и Снегиревский полки «армии» Махно прибыли сюда еще с вечера. Всю ночь шел дым коромыслом: пропивали добычу, захваченную в обозах отступившего в Крым генерала Слащева, и даже теперь, когда солнце уже давно перевалило за полдень, песни и музыка не смолкали ни на минуту.
Махно и на этот раз остался верен себе и сумел погреть руки на чужой победе. Красной Армии было не до обозов. Она стремилась не допустить ухода противника в Крым и окончательно разбить его в Северной Таврии. Махно сделал вид, что перешел на сторону большевиков, и крепко встал на пути отхода белых. Однако после первого же натиска Слащева он пропустил его, а обозы и войсковую казну захватил, благо при обозе не было артиллерии, к которой Махно испытывал чисто органическое отвращение.
Самого «батьки» в Гуляй-Поле не было. Его приезда ждали с часу на час. Тем временем «буйная вольница» продолжала гулять. Широкая площадь была забита народом. В толпе мелькали пестрые свитки, соломенные шляпы, яркоцветные головные платки. Кое-где виднелись выкраденные из дедовских сундуков, а то и из музеев старинные кунтуши красного, желтого и голубого сукна с галунами и позументами. Изредка над толпой проплывали высокие смушковые шапки с длинными, до плеч, алыми шлыками.
У раскинутых в ряд балаганов, бойко торговавших посудой, красным товаром и семечками, народу было больше всего. Оттуда доносились взвизги молодиц, говор и смех. Среди народа сновали неряшливые странные личности с длинными волосам, в измятых пиджаках и мягких фетровых шляпах — анархисты, или «ракло», как в насмешку звали их рядовые махновцы.
Рябой парень, обвешанный бомбами, стоял у балагана с вывеской «Парикмахер Жан из Парижа» и молча наблюдал всю эту картину. Ему приходилось повертываться то одним, то другим боком, потому что он смотрел лишь одним глазом. Другой глаз был выбит и зарос диким мясом с черной дыркой посредине.
Сейчас внимание рябого парня привлекало происходившее в балагане, и он, приоткрыв дверь, боком глядел в щелку. Кудрявая маникюрша с затейливой чолкой ловко орудовала пилочкой, подтачивая ногти на покрытых кольцами коротких толстых пальцах плотно сидевшего в кресле полного рыжего человека с плоским, как у гориллы, лицом. Широко расставив толстые ноги и выставив вперед мощную челюсть, он громко сопел вывернутыми ноздрями короткого носа и не то спал, не то смотрел, прищурившись, на свои большие красные руки.
Рябой парень, хотя глядел он одним глазом и был сильно навеселе, все же сразу узнал в сидевшем коменданта «батькиного» штаба Фильку Кийко, прозванного махновцами «жабой» за то, что он говорил так, словно жадно хватал с ложки горячую кашу.
В балагане находились еще два человека. Один, в полосатой тельняшке и в зашнурованных до колен высоких желтых ботинках со шпорами, стоял против зеркала и оглядывал только что сделанную ему прическу-бабочку с большим начесом на лоб. Другой, тонкий, брился.
— Ты скоро, браток? — спросил стоявший, повертываясь к Фильке молодым слащаво красивым лицом с черными, ловко подбритыми усиками и крепко надевая на затылок матросскую бескозырку, с длинными ленточками.
— А шо ты, милый, торопишься? — утрируя украинскую речь, неожиданно ласково прочмокал Филька, шлепая губами. — Горит, что ли, где?.. А между прочим, я готовый. — Он поднялся с кресла, причем стало видно, что он большого роста и руки у него длинные, чуть не до колен, сорвал с пальца кольцо и величавым жестом бросил его маникюрше. — На, коломбиночка! Носи на здоровье. Это за меня и за Лященко, — пояснил он, показывая на жгучего красавца в тельняшке.
Вдруг Филька резким движением повернулся к дверям. В балаган быстрыми шагами вошел высокий и тощий, как жердь, заросший бородой человек. Он подошел к Фильке и, бросив по сторонам быстрый взгляд, зашептал ему на ухо.
Филька нахмурился. На его низеньком лбу взбухла синяя жила.
— Да шо ты, Гуро?.. Золотой, говоришь? Да как он смел без меня, сучье вымя!.. Ну, погоди, я до него доберусь! — заговорил он, багровея. — Где он?.. В штабе? Хорошо, я сейчас.
— Мне покуда можно итти? — спросил Гуро.
— Иди.
Гуро, чуть сутулясь, вышел из балагана.
— Чего он, браток? — спросил Лященко.
— Да там одну штуку ограбили, — с досадой сказал Филька. — А я было только себе ее приглядел.
Он подмигнул маникюрше и, ступая вразвалку, направился к выходу.
Рябой парень отскочил от двери и, скрывшись в толпе, пошел вдоль балаганов. Навстречу ему с музыкой и пьяными криками медленно подвигалось шумное шествие. Впереди всех, высоко вскидывая ноги, отплясывали чертовского гопака два голых по пояс человека. Один из них, с белыми шрамами на искромсанном шашкой лице, был в цветных женских чулках с голубыми подвязками и шелковых трусиках; на другом, чубатом, белели пышные, как морская пена, кружевные панталоны, из которых выставлялись его черные волосатые ноги. Пляшущим подыгрывали гармошка и бубен. Позади всех со смехом и криком валил кучей народ.
— Швыдче! Швыдче! — кричал идущий рядом махновец с висячими усами. — А ну, а ну, хлопцы!.. Вот так гарно! — Видимо, очень довольный, он хохотал и, приседая, хлопал себя по коленкам. — А ну, гуляй за мои! — распалясь, крикнул он, вынимая из кармана и бросая под ноги пляшущим два золотых.
Рябой парень, улучив момент, быстро схватил откатившуюся в сторону монету и сунул ее за щеку. Но его движение не ускользнуло от пляшущих. Они с криками бросились на него.
— Ты шо, сука, паразит, зачем гроши узял?
— Не брал я!
— Не брал? — послышался хряский удар.
Чубатый в панталонах сидел верхом на рябом парне, засунув черные пальцы ему в рот, отдирал щеку. Другой, зверски выкатив глаза, тузил его кулаками. Острый крик прорвал воздух.
— Бьют!..
— Где, кого бьют?
— Афоньку Кривого!
— Стой! Не бей, он мне кум!
Несколько человек бросились в общую свалку. Вокруг слышались хриплая ругань, кипящее злобой дыхание. Над кучей тел взлетела рука с гранатой. Смотревшие на драку шарахнулись в сторону.
Грохот пулеметной стрельбы, раздавшийся в эту минуту на противоположной стороне площади, почти не произвел никакого эффекта. В «армии» Махно это было обычным явлением. Стреляли по любому случаю: и в знак сбора, и для выражения восторженных чувств, и просто так — по пьяному делу. Стрелял тот, кто только хотел. Однако некоторые все же подняли головы и посмотрели по сторонам с таким видом, словно хотели спросить: кого, мол, зовут? В глубине площади стоял на тачанке большой толстый человек с непомерно маленькой головой и, размахивая длинными руками, что-то кричал.
— Братишки! — крикнул махновец с висячими усами. — Жаба народ кличе. Треба итти.
Толпа повалила к тачанке. Вместе со всеми как ни в чем не бывало шагал Афонька Кривой.
Несколько сот человек окружили тачанку. Все смотрели на Фильку, ждали, что-то он скажет.
— Братишки! — крикнул Филька. — Мой помощник Копчик сегодня ночью произвел самочинный обыск и смыл вот эту штуку.
Толпа ахнула. Махновцы жадными глазами смотрели то на Фильку, который, высоко подняв руку, держал наманикюреннымии пальцами золотой портсигар, то на стоявшего у тачанки тщедушного человека с бледным лицом, которому маленький с горбинкой нос действительно придавал сходство с копчиком.
— Шо ему за это полагается? — спросил Филька зловеще.
Площадь молчала.
— Шлепнуть его! — спокойно сказал усатый махновец.
— Не надо… Пустить!.. Расстрелять!.. — на разные голоса закричали в толпе.
Филька махнул рукой в знак того, что решение принято, сунул портсигар в карман и с довольным видом полез с тачанки.
— Ну, пошли, милый! — ласково сказал он, подходя к Копчику и легонько выталкивая его из толпы.
Копчик прянул в сторону, бормотнул что-то, хватаясь за тачанку.
— Ты шо, милый, боишься? Не бойся, миляга, больно не будет. Я тебя по старой дружбе так шлепну, шо и маму сказать не успеешь, — успокаивал Филька.
Копчик затрясся всем телом; и, уцепившись за тачанку, залился отчаянным криком.
Филька нахмурился. Его мощная челюсть угрожающе выставилась.
— Ну, хватит! — резко сказал он. — Пошли! Не будем волынить!
Схватив упиравшегося Копчика за шиворот, он оторвал его от тачанки и поволок из толпы.
Спустя некоторое время у крайних хат хлопнул выстрел.
— Ишь, сволочи, не поделили! — сказал Афонька, посмеиваясь.
— Да уж Жаба… это такой… — говорили махновцы, — своего не упустит. Вот и заимел портсигар.
Толпа расходилась. Внезапно в глубине выходившей на площадь улицы произошло движение. По улице с грохотом мчались четвернями тачанки.
— Батько! Батько приехал! — завыла толпа, бросаясь навстречу Махно.
Афонька, растопырив локти, ершом пробирался к окраине площади. Грубо толкал встречных и поперечных. Еще во время драки ему подбили другой глаз; он плохо видел и, потеряв направление, выбрался к окраинным хатам, когда тачанки уже проехали. Все же он успел вполглаза увидеть, как на крыльцо небольшого дома поднимался маленький человек в черном пиджаке, перехваченном сверху ремнями, в смушковой шапке и в высоких сапогах. Маленький человек был Махно.
Махно сидел за столом, положив локти на карту и запустив руки в длинные волосы. Хозяйка, вдовая попадья со скорбным лицом, испуганно моргая, молча стояла у буфета, ждала, не прикажет ли «батька» чего. Хотела нести обед, уже давно было готово, да кто его знает, бешеного: спросишь, а он еще запустит чем попадя. В прошлый раз чуть не убил.
Кто хоть раз видел Махно, тот запоминал его на всю жизнь. С землисто-желтым, всегда чисто выбритым лицом, с впалыми щеками и жесткими черными, падающими на узкие плечи волосами, Махно напоминал переодетого монастырского служку, заморившего себя постом. По первому впечатлению это был больной туберкулезом человек, но никак не грозный и жестокий атаман, вокруг имени которого сложились кровавые легенды. И только небольшие темнокарие глаза с необыкновенным по упорству и остроте взглядом, не меняющим выражения ни при редкой улыбке, когда он показывал желтые лошадиные зубы, ни при отдаче самых жестоких приказов, вызывали безотчетное содрогание у каждого, кому приходилось с ним встречаться, и придавали зловещий вид его лицу.
«Ишь, нечистый дух, как сверкает глазищами! — думала попадья, искоса поглядывая на Махно. — И принесла его нелегкая на мою голову! И хоть бы слово сказал, чорт косматый… Знай сидит да молчит…»
За дверью заскрипели грузные шаги. В комнату, не спросись, вошел Филька.
— Почтение, Нестор Иванович! — с угодливым видом заговорил он, подходя к «батьке» и пожимая протянутую ему небольшую с белыми ногтями голодную волосатую руку.
— Здравствуй! Новости есть? — блеснув на него глазами, спросил Махно скрипучим, как всегда, голосом.
— Есть… Обедать будешь?
— Буду.
— А насчет питьбы как?
— Катай! — кивнул «батька».
Филька повернулся, глазами показал попадье — подавать. Потом слазил в буфет, поставил на стол две бутылки коньяку, стаканчики и тарелку с огурцами. Аккуратно поправив рукава, он разлил коньяк в стаканчики — побольше в «батькин», поменьше в свой — и с нетерпеливым любопытством в желтых кошачьих глазах уставился на Махно.
— Хорош! — похвалил «батька», сделав крупный глоток. — Где разжился?
— Генеральский. Слащева. Целый ящик достали.
Махно допил стаканчик, почмокал губами и снова налил.
— Так, говоришь, новости есть? — спросил он, взяв со стола бутылку и разглядывая сиреневую с серебром этикетку.
— Продотрядников задержали, Нестор Иванович. С Питера, путиловские.
— Что? — Махно быстро поставил бутылку на стол. — Путиловцы?
— Шесть человек. Сонными взяли. Один шибко вредный, отбивался. Гуро было шею сломал… Я с ними поигрался малость. Хотел гробануть, а потом решил дождаться тебя.
— Правильно сделал. Давно я с путиловцами не толковал… А где их документы?
— У меня, — Филька достал из кармана и положил перед «батькой» стопочку аккуратно сложенных листков.
Махно надел очки и стал молча просматривать документы.
— Ого! И карась поймался! — с довольным видом вдруг сказал он, проглядывая большую, в пол-листа, бумагу, в верхней части которой стояло напечатанное на машинке хорошо известное тогда слово «мандат». — Это кто ж такой — Гобар? — спросил «батька».
— Тот самый, шо отбивался, — пояснил Филька. — Он, видать, главный у них. Они, сволочи, не говорят. Он и в Красной гвардии служил. Завхозом. Там есть бумажка.
— Коммунист? — Махно поверх очков кинул, взгляд на Фильку.
— Как же! Вот его партийный билет. — Филька, сверкнув кольцами, ткнул толстым пальцем в лежавшую среди бумажек тонкую книжечку.
— Используем, — сказал Махно, откладывая в сторону документы Гобара. — А где они сейчас?
— Я велел их во двор привести. Там с ними Гуро и Лященко с хлопцами.
— Хорошо. После обеда я ими займусь, побеседую, — сказал «батька» с загадочным видом.
У Фильки дрогнули ноздри. Он хорошо знал, как «батька» проводит беседы.
— Ну, а еще что? — после некоторого молчания спросил Махно.
Филька угодливо усмехнулся, потер руки — видно, давно ждал этого вопроса. С видом заговорщика он подвинулся к «батьке» и, понизив голос, сказал:
— Нестор Иванович, ту коломбиночку с хутора, шо ты говорил, я расстарался.
— Ну? — Махно с довольным видом взглянул на него. — Привез?
— Здесь она… Батька не давал, топором отбивался. Пришлось его на месте пришить.
— Может, кто посторонний видел?
Филька откинулся на стуле и обеими руками махнул на Махно:
— Шо ты! Разве мне в первый раз! Все шито-крыто. А хутор мы спалили. Нехай теперь…
Филька смолк и быстро оглянулся на дверь. В комнату вошла попадья с подносом в руках. Следом за ней вошел неряшливо одетый человек лет пятидесяти, с длинными, до плеч, поседевшими волосами, в мягкой фетровой шляпе и золотых очках на мясистом носу.
— Приятного аппетита, — глухим голосом сказал вошедший, оглядывая стол беспокойным взглядом серых выцветших глаз.
— Хлеб да соль, — усмехнулся «батька». Проходи, Волин. Садись с нами обедать.
— Я уже пообедал, — сказал Волин, присаживаясь к столу и проводя нечистой рукой по давно нечесанной бороду.
— Ты все же выпей. Генеральский. Сам Слащев мне ящик прислал, — сказал Махно, усмехаясь и наливая в стаканчики.
Волин взял стаканчик дрожащими пальцами с черными ободками на длинных, как когти, ногтях и, коротко закинув голову, смахнул коньяк в рот.
— На-ка вот, закуси. — Махно подвинул ему огурцы.
«Батька» внешне несколько иронически относился к анархистам, сбежавшимся к нему под черное знамя со всех сторон России, но к Волину, своему учителю, от которого еще в молодые годы перенял взгляды анархизма, относился с подчеркнутым уважением. Назначив Волина председателем военного совета «армии», Махно проводил через него все свои начинания, вплоть до печатания фальшивых денежных знаков, делая вид, что во всех своих действиях подвластен совету. А Волин, в свою очередь, во всем поддерживал «батьку».
Преждевременно состарившийся, Волин производил своей растрепанной фигурой, мало знакомой с водой, щеткой и гребнем, впечатление беглеца из сумасшедшего дома.
Хорошо сознавая, что махновщина — явление временное и рано или поздно придется расплачиваться за все злодеяния, он последнее время усиленно топил страх и горе в бутылке…
Волин налил второй стаканчик и залпом выпил. В голове гудело еще со вчерашнего дня, и теперь, ощущая приятное ему чувство опьянения, он, в полузабытьи, ссутулился на стуле, обмяк, словно у него вынули кости.
Махно хлопнул его по плечу:
— Не спи, старик! Давай выйдем во двор.
— Зачем!? — спросил Волин, поднимая на него тусклый взгляд выцветших глаз.
— С путиловцами о том, о сем потолкуем, — сказал «батька» зловеще.
Махно, двинув стулом, шумно поднялся и в сопровождении Волина и Фильки, нетвердо ступая, вышел во двор.
Шесть раздетых до белья пленных, опустив головы, стояли около колодца в густой тени тополей. На их бледных лицах, покрытых синяками и кровавыми ссадинами, лежало выражение обреченности. И только один, стоявший справа, немолодой рабочий с черными живыми глазами встретил Махно прямым, ненавидящим взглядом. Он повернулся к товарищам и тихо сказал:
— Поднимите головы!.. Покажем, как умирают большевики!
Махно остановился и тяжелым взглядом недобрых глаз стал оглядывать пленных. Он вообще холодно относился к рабочим, а тут были продотрядники, которых он ненавидел и расправлялся с ними жестоко.
— Ну-с, лебеди, расскажите, зачем на Украину пожаловали? — после некоторого молчания спросил он, прищурившись.
Пленные хмуро молчали.
— Понятно, — раздражаясь, заговорил «батька», — вы только в своем Питере привыкли шуметь: мы, мол, путиловцы, столпы революции, опора советской власти..? И только! — заключил он фразу своей обычной поговоркой. — Не пойму я, что вас заставляет, бураков, за города держаться… Надо сейчас же, немедленно бросать города и итти в села, степи, леса. И только! — Махно, сверкнув очками, оглянулся на Волина, тот одобрительно кивал ему головой. — Ну вот ты скажи, — подступил «батька» к подростку-рабочему с девичьим лицом. — Скажи: правильно я говорю?
— Что же тут правильного! — пожимая худыми плечами, ответил пленный. — Мне и в городе хорошо.
— Ну, а тебе? — спросил Махно рабочего с черными живыми глазами. — Или ты тоже дальше своего носа не видишь?
Рабочий усмехнулся.
— Я-то вижу, а вот ты очки побольше надень, чтоб видеть дальше, — сказал он, прищурившись.
— Что же ты видишь? — спросил Махно, с трудом сдерживая закипавшую злобу.
— Что я вижу? — рабочий в упор взглянул на него. — Я вижу ту великолепную жизнь, которую ни ты, ни твои подручные никогда не увидят!
— Вот как! Гм… Что же это за жизнь? — спросил Махно, шевельнув ноздрями широкого носа.
— Смотри! — рабочий простер руку вперед. — Хотя нет, ты все равно не можешь увидеть. А я вижу, и товарищи мои тоже видят. — Он прихватил стоявшего подле подростка и, прижимая его к себе, продолжал: — Мы видим новые, цветущие города!.. Мы видим богатейшие поля! Мы видим работающие на них машины!.. Это счастливый труд без эксплоататоров и паразитов! Это социализм!..
Махно, тяжело дыша, смотрел на него.
— Это ты Гобар? — хрипло спросил он, сделав знак Гуро и остальным подойти ближе.
— Хотя бы! — Гобар поправил съехавшую на глаза окровавленную повязку и усмехнулся.
— Смеешься, гад? — спросил Махно.
— Это кто ж такой гад?
— Ты!
— Нет, я человек, — сказал Гобар гордо. — А вот ты паразит. Не напился еще рабочей крови? Смотри, захлебнешься!
— Что?! — Махно схватился за кобуру. — Молчать! Застрелю!..
Гобар, стиснув зубы, смотрел на него. Грудь его часто вздымалась.
— А я от тебя другого и не жду, — заговорил он, помолчав. — Но имей в виду, гадина, что и вам от наших рук живыми не уйти! Не будет вам места на нашей земле! Не будет…
— Руби его! — крикнул Махно.
Гуро первый рванул шашку из ножен.
— Всех! Всех! — кричал Махно.
Раздались стоны, крики, тяжелое падение тел…
В несколько секунд все было кончено.
Пошатываясь, как пьяный, Волин пошел со двора. Филька как ни в чем не бывало фыркал, смывая кровь у колодца. Тощий Гуро, придерживая ведро, лил ему на руки воду.
Лященко и другие махновцы заботливо протирали клинки.
— Ну, пошли в хату! — сказал Махно.
Шумно разговаривая и стуча сапогами, «батька», Филька и Лященко вошли в комнату. Волин сидел за столом, уронив на руки лохматую голову. Перед ним стояла пустая бутылка.
— Филька, коньяку! — распорядился Махно. — Садись, Лященко.
Но не успел Филька откупорить бутылку, как на улице послышался бешеный конский топот.
Лященко метнулся к окну. Неподалеку от хаты в густой туче пыли копошилась какая-то темная масса.
— Что там? — нетерпеливо спросил Махно.
— Не пойму, Нестор Иванович, — сказал Лященко, высовываясь в окно и заглядывая на улицу. — Кажись, кто-то упал… Ага, вот теперь видно: и конь и человек рядом лежат. Загнал, видно, коня… Видать, кто-то из наших.
— Давай его сюда! — сказал «батька».
Лященко, гремя шпорами, выбежал на улицу.
Волин зашевелился и, подняв тяжелые веки, беспокойными глазами посмотрел по, сторонам. В сенцах, слышно было, кого-то тащили. Дверь с шумом раскрылась, и двое людей — один в засаленной фуражке со сломанным пополам козырьком, другой гололобый — почти внесли на руках маленького человека в английском френче. Его красное лицо с заячьей губой было покрыто черными потеками засохшего пота. Вошедшие попытались поставить его перед «батькой», но человек мешком опустился на пол.
— Дай ему коньяку, — сказал Махно Фильке.
Стуча зубами о край стакана, человек сделал два-три глотка и, отстранив стакан рукой, попытался встать перед «батькой», но смог только присесть.
— Кто такой? Откуда? — грозно спросил Махно.
— С-пид Матвеева кургана, батько, — с трудом заговорил человек. — День и ночь трое суток витром лител… Пять коней загнал…
— Не тяни! Говори, что случилось.
— Великая сила, батько, идет… А кони у них!.. — Человек трясущейся рукой расстегнул френч, разодрал подкладку и, нашарив сложенную вчетверо бумажку, протянул ее «батьке».
Махно развернул бумажку и при общем молчании прочел ее вслух:
— «Батькови Махно.
Армия Буденного 21 апреля выступила из Ростова и пошла на запад через Матвеев курган.
Чирвон».
Волин и Махно переглянулись. «Батька» смахнул на пол тарелки и нагнулся над картой.
— За четверо суток они прошли верст двести, — сказал он, прикидывая на-глаз расстояние. — Под Павлоградом! Буденный будет дня через три.
— Что будем делать, Нестор Иванович? — спросил Волин. — Видимо, драться придется?
Заложив руки за спину и хрустя пальцами, Махно молча заходил по комнате.
— А шо, если уговорить их к нам перекинуться, Нестор Иванович? — прочмокал Филька. — Вот было б знатно!
— Дурак! — Махно с досадой кинул быстрый взгляд на него.
— Не выслать ли навстречу им делегацию? — предложил Волин.
— Делегацию? — Махно с любопытством посмотрел на него.
— Ну да. Предложить им мир. Чтоб они нас не трогали, и мы с ними драться не будем, — пояснил Волин, — а если откажутся — взорвем их изнутри!
Наступило молчание.
— Пошлем! — немного подумав, согласился Махно. — Пошлем делегацию. А если с делегацией номер не пройдет, взорвем их изнутри. Подошлем к ним своих молодцов: пусть вступают добровольцами в Конную армию. Об инструкциях я сам позабочусь… Лященко, готовь взвод, поедешь до Буденного. Выступать тебе завтра в девять часов. Зайдешь ко мне. Мы с Волиным напишем письмо… А пока, хлопцы, шабаш. Вечером свадьбу играем. Женюсь. — «Батька» оскалил крупные желтые зубы. — Филька, распорядись, чтобы все было в порядке.
VII
Вихров, разувшись, лежал под поветью большого двора на охапке стружек, прикрытых попоной, и молча слушал Харламова, который, присев на снятый передок брички, рассказывал ему по его просьбе о том, как Буденный формировал первый партизанский отрад.
— Семен Михайлович прошлый год нам это самое место показывал, — говорил Харламов. — Он сам из станицы Платовской[18]. Там как раз посередь станицы на горке церковь стоит, а внизу балочка с ключевым колодцем. В этой балочке они и собирались. А было это дело так. В революцию Семен Михайлович как с фронта пришел, так с Городовиковым, с Никифоровым, да и с другими товарищами начал устанавливать в станицах советскую власть.
— Значит, они с Городовиковым давно знакомы? — спросил Вихров.
— А как же! Со старой службы. Семен Михайлович ить редкой душевности человек. При старом режиме с киргизом аль с калмыком русский редко дружил. При царе буржуи одних на других натравляли, чтобы самим у власти удержаться. Да вот бывало пригонят на службу молодых калмыков. Мы в лагерях вместе стояли. И такая над ними издевка шла — не дай и не приведи. Бывало вахмистр шумнет казакам: ночью, мол, тревога — сполох. Ну, казаки сейчас мелу достанут, разведут на воде и ночью так калмыцких коней распишут — днем не признаешь. Которому лысину во весь лоб, которому ноги, которую в пегую выкрасят. Чуть свет — тревога! Калмыки за седла и на коновязь к коням. Мать честная! Куда кони делись? Одни чужие стоят. Лысые да пегие. Смятенье, шум, крик, кутерьма. Есаул и сотник в голос кричат, чужих родителей поминают, вахмистр кулаками сучит. А кто виноватый?.. Вот какие были дела. Одно издевательство.
Харламов свернул папироску, закурил и, с шумом выпустив дым, продолжал:
— Ну, стал быть, советскую власть установили, стали в Великокняжеской отряды формировать. А тут кадеты со степи тучей навалились и выбили наших. Семен Михайлович ушел на хутор Козюрин. Только слышит, что в Платовскую пришли каратели. Собрал тут Семен Михайлович шесть человек самых отчаянных и подался на Платовскую. Приходят ночью в ту самую балочку, что я говорил, схоронились, а сами разведку послали. Сидят, стал быть, ждут. А ночь темная-темная. Да и туман поднялся. Дело-то в феврале было. Только слышат — шаги! Кто такой? А это разведка вернулась и докладывает: так, мол, и так, в станице карательный отряд — две сотни калмыков и сотня белых казаков с орудиями, с пулеметами. Арестованные жители и средь их родной отец Семена Михайловича заперты под караулом при станичном правлении. Там же и белогвардейский штаб с большой охраной.
— Семен Михайлович подумал, ус покрутил и гутарит: «Ну что, ребята, будем делать? По-моему, атаковать надо». Тут один с них уж на что отчаянный был человек, а оробел: «Как же так атаковать? Их триста человек вооруженных, а нас семеро с голыми руками?» У них на всех одна винтовка была и наган у Семена Михайловича, а остальные с кольями — чекмарями по-нашему, — пояснил Харламов. — А Семен Михайлович усмехнулся и гутарит: «Ничего, ребята, бодрись. Мы их на испуг возьмем». Хорошо. Вот они и подались ползунком до правления. А тут совсем темно стало. Ветер поднялся. Только видят, как у правления фонарик качается. Подобрались они за стодол. Глядят: у крыльца две орудии стоят. Вот тот, что попервам оробел, и гутарит: «А что, ребята, если эта орудия залобовать да по правлению гранатой вдарить?» А Семен Михайлович: «Тю, чудак, там же наши сидят». И вдруг слышат — шумит что-то. А это наших на расстрел выводят. Человек тридцать. С ними конвой. Калмыки. Много. Взвод или поболей того. Ну, что будешь делать? Надо же своих выручать. Эх, была не была! Подпустил их Семен Михайлович поближе да как крикнет: «Ура!» Да на них. Наши в колья. А пленные видят: помощь — да на конвойных. Те спохватиться не успели, как их обезоружили. И стало у Семена Михайловича разом сорок бойцов. Сила! Зараз окружили правление и начали бой. Короче сказать, к свету Семен Михайлович забрал и пушки и пулеметы, винтовок триста штук и сотни полторы подседланных коней.
— Вот это ловко! — не утерпел Вихров, с восторгом глядя на Харламова. — Верно говорится, что смелость города берет.
— Семен Михайлович… это такой… — подхватил Харламов. — Да… Ну, а тут и наш отряд подошел, товарища Никифорова. Триста пеших и шестьдесят конных. Я в том отряде служил. Соединились. Семена Михайловича выбрали командиром. Так дело и пошло. Потом стали полком, дивизией, корпусом. А прошлый год, как в Донбасс шли, товарищ Сталин нам Конную армию сорганизовал. Вот и вся наша история, — закончил Харламов, выбивая ладонью из самодельного мундштука и старательно затаптывая ногой тлевший окурок.
— А Городовиков, он откуда? — после недолгого молчания спросил Вихров.
— С Великокняжеской[19], — ответил Харламов. — Я его родину хорошо знаю. Сбочь правления небольшой такой домишко стоит. Он, Ока Иванович, свою похождению нам рассказывал, когда еще я в четвертой дивизии служил. Жизнь у него тоже несладкая была. Смолоду скот пас. Ну, а как срок вышел, на службу пошел. Там его вскорости за лихость в учебную команду определили… Вы, товарищ командир, не видали, как он рубает? Нет? У нас во всей армии таких рубак нет, кроме Семена Михайловича… С винтовки на коне с полного намета на триста шагов без промаха бьет. Уж и ловок! А главное, смелый. В каком хочь бою голову не теряет. Одного — туда, другого — сюда. Разом распорядится. Такой уж талант ему дан. А другой командир, смотришь, ученый, все науки прошел, а как снаряд возле вдарит, так у него вся его ученость в пятки ушла. Что с этого толку! Так, видимость одна. Да вот под Майкопом, как кадеты драпали, к нам одного такого прислали. Весь в сумках, бинокль, наган. Гордый. С бойцами слова не погутарит. А как на нас кадеты в атаку пошли, он поперед полка выехал, с лица сменился, ажник белей бумаги стал, и спрашивает: «А что, шестьдесят первый полк, сумеете пойти в атаку?» Это он нас, буденновцев, спрашивает! И откуда такая чуда взялась? Говорили: Троцкий прислал. Да, спрашивает он нас, а нам, конечно, смешно. Ну, тут комиссар не стерпел, вперед выскочил, палашом махнул: «В атаку! За мной!..» Ну, кадетов мы, конечно, разбили, а этого командира товарищ Ворошилов в тот же день до себя вытребовал, и с тех пор мы его не видали…
Харламов замолчал, свернул новую папироску и, закурив, начал рассказывать о боях на Южном фронте.
Кроме них и двух лошадей, мерно похрустывавших сено, под поветью находились старый трубач Климов и лекпом Кузьмич, преисполненный собственного достоинства, полный, важный человек с толстыми и красными до блеска щеками. Они служили вместе уже несколько лет, очень уважали друг друга, с подчеркнутой вежливостью величали один другого по имени и отчеству и были неизменно на «вы». Конечно, Кузьмич, как всякий уважающий себя лекпом, считал себя человеком науки и иногда принимал покровительственный тон в отношении Климова, но старый трубач, посмеиваясь в душе, никогда, даже в минуту ссоры, — а это случалось, — не показывал виду, что не признает над собой его превосходства. Для более полной характеристики Кузьмича необходимо добавить, что лекпом любил прихвастнуть, а кроме того, отличаясь медлительностью, весьма последовательно придерживался двух придуманных им самим правил: «Работа не волк — в лес не убежит» и «Не делай сам того, что можешь свалить на другого». В общем же оба они были веселые, общительные люди и, несмотря на известные слабости, пользовались в эскадроне большим уважением.
Харламов кончил рассказывать и, вынув иглу с ниткой из-за борта буденовки, начал прикреплять новый алый бант к гимнастерке.
— Товарищ Харламов, почему это нашего лекпома бойцы доктором называют? — поинтересовался Вихров, косясь на друзей, которые мирно беседовали, развалившись на сене.
Харламов усмехнулся.
— Дюже уважает он это. Его салом не корми, а доктором называй… Я вначале не знал и по нечаянности его оконфузил. Раз захожу в лазарет, живот у меня болел, гляжу: сидит он с важным видом. Толстый, гладкий, с лица дюже красный. Ажник на самого генерала шибается. Руки на животе держит, строгость в глазах и прочее. А в уголке за столиком такой это маленький, чухлый человек; ну я, конечно дело, даже и подумать не мог, что этот человек и был сам доктор… Поглядел я на них и думаю: «Толстый не иначе, как доктор, а щупленький — санитар». Подхожу к Кузьмичу по всем правилам, каблучками щелкнул и рапортую: товарищ доктор, красноармеец такой-то, так, мол, и так. А ему ведь неловко, что я его при враче доктором обозвал. Он молчком так это бровью в сторону врача шевельнул и, не разминая рук, большим пальцем на него кивает. «Ну, — думаю, — доктор важный, не хочет сам со мной заниматься — к санитару посылает». Подхожу до того, до маленького, и гутарю: «К тебе послал». А он ко мне так это вежливо: снимите, мол, пожалуйста, товарищ, рубашку. И аккурат входит командир полка. Кузьмич наш как вскочит…
— Что это ты там врешь? — раздался вдруг басовитый голос лекпома.
— А я, товарищ доктор, за Таганрог рассказываю, — не сморгнув, сказал Харламов.
— Меня-то чего поминал? — приподнимаясь на локте и сердито сдвинув широкие брови, грозно спросил лекпом.
— Вот я и рассказываю, как вы ударили гранатой в самую гущу.
— А-а! Да, да… Это факт… Было дело такое, — успокоился Кузьмич, повертываясь к Климову и продолжая прерванную беседу.
Вдруг Харламов нагнулся и носком сапога стал копать в стружках.
— Эх, хозяевать не научились, — сказал он с неодобрением в голосе. — Видать, дюже богато живут.
— А что там? — спросил Вихров.
— Глядите, товарищ командир, сколь гвоздья хорошего покинуто, — показал Харламов. — А нам оно ещё ох как пригодится, как кончим войну.
Он нагнулся и стал собирать гвозди.
Во двор быстрыми шагами вошел Митька Лопатин с газетой в руках. Его скуластое лицо сияло.
— Товарищ командир, — обратился он к Вихрову, — вот газетку достал. Вот это да! Ну и шибко здорово пишут!.. Почитайте… Эй, товарищ доктор, Климов, послушайте!
Приятели прекратили беседу и подняли головы.
— Вот это самое место, — показывал Митька, присев на корточки подле Вихрова. — И на обратной стороне тоже есть.
Вихров кашлянул и начал читать;
— «Рабочие Франции, Польши и Англии открыто выступают против войны, затеянной польскими панами, по наущению Антанты, против Советской России.
В городе Лодзи восстали рабочие военного завода. В Варшаве пехотная бригада отказалась выступить на фронт…»
— И вот еще, — показал Митька.
— «Грузчики французских и английских портов отказались грузить оружие для отправки пилсудчикам», — прочел Вихров.
— Ура! — закричал Митька, вскочив и приплясывая. — Вот, братцы, как! За нас весь мировой трудящийся класс!
— Ну, держись теперь, Антанта! — сказал Харламов.
— Товарищ командир, как это называется? Слово такое чудное? — спросил Митька.
— Какое слово?
— Ну, чтоб выразить, что все трудящиеся с нами.
— Солидарность.
— Во, во, солидарность! Я на митинге это слово слыхал, но вначале не понял, что оно обозначает, — говорил Митька, в то время как Кузьмич, достав записную книжку, что-то записывал. Он любил «умные» словечки, но часто употреблял их не к месту.
— Кого-то ведут, — сказал Харламов, глядя на открытые ворота: оттуда двое красноармейцев вели под руки товарища с залитым кровью лицом. — Да это Гришин, — узнал он бойца. — Что это с ним?
— Товарищ доктор, принимай раненого, — сказал красноармеец в застегнутой сзади буденовке. — Хотели вот к врачу вести, да далеко.
— А что, разве я хуже врача понимаю? — недовольно заворчал Кузьмич, раскрывая медицинскую сумку и доставая из нее иод и бинт. — А ну, показывай, чего у тебя, — сказал он Гришину, который опустился подле него. — Это кто ж тебя так? — спросил он, увидев рваную рану над глазом.
— Конь.
— Так… Ударил, значит. Ну, это для меня раз плюнуть. Факт!.. А между прочим, у тебя пустяки.
— Как сказать, товарищ доктор. Пустяки! Немного повыше — и голову бы оторвал, — сказал боец в буденовке.
— Ну и что ж! Починили бы и голову, — заговорил Кузьмич, обильно смазывая рану иодом. — Ничего это нам особенного не представляет… Не крутись, сиди спокойно… В лучшем виде приставили бы. Это для меня плевое дело. Да что говорить, в германскую одному командиру полка голову оторвало — я пришивал. Так он потом бригадой командовал.
Вихров усмехнулся. Митька фыркнул в кулак.
— Нет, уж это, товарищ доктор, я извиняюсь, — сказал Харламов.
— А что? Да нет, я и не говорю, что ее навовсе оторвало, — чувствуя, что перехватил, поправился Кузьмич. — На главной жиле держалась. Вот я, значит, ее и того…
— Пришили?
— Факт.
— Да, бывает…
Во двор вбежал Крутуха.
— Товарищ командир, — сказал он, приметив Вихрова, — вас до комэска. Срочно требуют.
— А что там, не знаешь? — спросил Вихров, берясь за сапоги.
— Какие-сь бумаги со штабу прислали.
Вихров быстро оделся и вместе с Крутухой вышел на улицу.
Когда Вихров вошел в небольшой, обсаженный тополями двор, куда привел его Крутуха, Иван Ильич и Ильвачев лежали на бурке в тени кустов цветущей сирени и тихо беседовали.
Солнечные лучи, пробиваясь сквозь листья, мелким золотистым узором рассыпались по затененной деревьями и кустами траве. Остальная часть двора была залита ярким светом, и только под поветью, где лениво жевали сено Мишка и рыженький конек Крутухи, стояла прохлада.
В глубине двора, у колодца с журавлем, дымил ведерный самовар с надетой на него железной трубой.
Услышав шаги, Иван Ильич поднял голову и увидел Вихрова.
— Проходи. Садись, — он показал на вкопанную в землю скамейку у круглого садового стола. — Мы сейчас кончим…
Вихров присел на скамейку и стал смотреть на Крутуху, который, сняв сапог, раздувал голенищем самовар. Вихров уже имел случай убедиться в том, что командир эскадрона любил попить чайку и возил в тачанке собственный самовар, которым Крутуха очень гордился, так как самовар был один на весь полк, и даже сам Панкеев в свободную минуту заходил к ним посидеть за стаканчиком чаю.
— Вихров! — позвал Ладыгин. — Иди садись ближе… Ну, рассказывай, как во взводе дела? — спросил он, когда Вихров присел подле него.
— Все как будто в порядке, Иван Ильич. Только вот Лопатину нехорошее письмо из дому прислали.
— Что такое?
— В семье у него неладно. Надо будет написать местным властям… Я напишу.
— Ты ему обещал?
— Что?
— Письмо написать.
— Обещал.
— Добре. Только смотри сделай. Мой дед говаривал так: «Лучше сделать, не обещав, чем, обещав, не сделать». А я бы добавил: никогда не обещай, если не уверен, что исполнишь.
— Да у меня пока случая не было, — краснея, сказал Вихров.
— А я ничего не говорю. Только предупреждаю.
— А что ему пишут? — спросил Ильвачев.
— Брат пишет маленький. Да вот я покажу. — Вихров достал из кармана письмо и подал ею Ильвачеву.
— Очки, — сказал Ильвачев, — где мои очки?.. А, чорт, вот они.
Поискав в карманах, он вытащил за оглобельку очки и надел их на свой острый нос.
— А ведь действительно безобразие во всех отношениях, — сказал он, прочитав письмо и возвращая его Вихрову. — Мальчишка сидит голодный, отец и мать убиты. Иван Ильич, — он повернулся к Ладыгину, — а мы ничем не сможем помочь?
Ладыгин в раздумье пожал плечами.
— Прямо ума не приложу, — сказал он, помолчав. — Разве что денег собрать? Да нет, на них сейчас ничего не купишь… А помочь надо. Лопатин — боец очень хороший.
— Замечательный боец, — подхватил Вихров. — Его надо на курсы послать. И, главное, учиться хочет… Выпросил, понимаете, у меня строевой устав и почти весь переписал в тетрадку.
— Войну кончим — пошлем обязательно, — согласился Ладыгин. — А сейчас надо подумать, что мы сможем сделать для него в наших условиях.
— Тогда вот что: я поговорю с Бочкаревым, — предложил Ильвачев.
Он поднялся с бурки и привычным движением поправил ремень.
— Ты что, уж пошел? — удивился Ладыгин.
— Люблю не откладывать. А потом у меня еще есть дела к комиссару.
— Добре… Ну, смотри возвращайся скорее.
Ильвачев пошел со двора.
— Мне разрешите итти, товарищ командир эскадрона? — спросил Вихров.
— Сиди. Чай будем пить… Да поимей в виду: в три часа эскадронное собрание. У тебя взвод в сборе?
— Всегда в сборе, товарищ командир.
— Ну, смотри… А, твой приятель идет, — сказал Ладыгин.
Вихров оглянулся, он сидел спиной к калитке, и увидел Дерпу.
Дерпа остановился поодаль, отчетливо козырнул командиру эскадрона и с нерешительным видом покосился на Вихрова.
— Проходи, Дерпа, — приветливо сказал Иван Ильич, с видимым удовольствием оглядывая мощную фигуру молодого командира. — Проходи и садись.
— Я к тебе по делу, милок, — тихо заговорил Дерпа, присаживаясь на бурку и обращаясь к Вихрову. — Никак себе подходящего коня не подберу. Взял одного, а он посередь дороги лег. Сегодня весь полк обошел. Есть, конечно, кони хорошие, но по росту мне никак не подходят. А вот у вас в эскадроне я одного приглядел. Вороной жеребец. Здоровый. Шесть вершков. Один пушку потянет. Он у вас в обозе ходит. Знаешь, небось? Ну вот. Злой, гадюка, но ничего, я бы его обломал. Ты поговори со своим командиром, милок. Может, сменяемо, а? Я придачи сапоги новые дам.
— Вряд ли он придачи возьмет, — сказал Вихров, с улыбкой посматривая на Дерпу и любуясь его простотой.
— О чем толкуете? — прислушиваясь к их голосам, спросил Ладыгин.
Вихров в двух словах объяснил ему просьбу Дерпы, упомянув и о придаче.
— Ну что же мне с тобой делать? — сказал Иван Ильич, глядя на Дерпу. Глаза его смеялись. — Добре, отдам тебе вороного. Хотя мне самому в обозе хорошие кони нужны. Ты все же на смену подходящего приведи. Ну, а сапоги носи себе на здоровье.
— Вот спасибо, так уж спасибо! — заблагодарил Дерпа. — А то хоть пеший ходи.
— Крутуха! — позвал Ладыгин. — Как у тебя самовар?
— Поспел, товарищ комэск.
— Тащи!
Крутуха поставил на стол кипящий самовар, потом проворно сходил в хату и возвратился с двумя табуретками.
— Консервы открой, — сказал Ладыгин.
Ординарец принес деревянный кованый сундучок, достал из него чайник, чашки и хлеб.
— А консервы что же? — спросил Иван Ильич.
— Немае консервов, — мрачно сказал Крутуха. — Все съели.
— Так ведь пять банок было.
— Четыре, — поправил Крутуха. — Да и банки-то вить манюсенькие. Даром, что не наши.
— Э, да что с тобой толковать! — махнул рукой Ладыгин. — Садитесь, товарищи! Крутуха, садись!
Он подвинул себе табуретку, присел против самовара и стал заваривать чай.
Дерпа взял другую табуретку, с сомнением ее оглядел и, осторожно поставив на прежнее место, сел на скамейку рядом с Вихровым.
Они молча выпили по первой чашке и налили по второй. Держа блюдечко на растопыренных пальцах и прижмуриваясь, как кот, при каждом глотке, Иван Ильич шумно прихлебывал чай.
Внезапно на улице послышался конский топот. Стук копыт замер неподалеку, и чей-то знакомый сипловатый голос кого-то спросил:
— Эй, сынки! Где стоит ваш командир эскадрона?
— А вот в энтой хате, папаша, — ответил ему молодой голос.
Вновь и уже ближе застучали копыта. Над палисадником показалось морщинистое лицо Захарова.
— Товарищ комэск! — позвал он, приметив за столом Ладыгина. — Комполка приказал прислать к нему командира Вихрова.
— Хорошо. Доложи, что сейчас будет.
— Так вы поспешайте. Он срочно требует.
Захаров повернул лошадь и тронул рысью по улице.
Вихров застал Панкеева в штабе. Здесь же находился и Бочкарев, который, видимо, только что отчитал за что-то командира эскадрона Карпенко, потому что тот, с красным и потным лицом, подкручивая черные усы, говорил:
— Так, товарищ комиссар, чем же я виноватый, что покрали курей? Может, это и не мои ребята. Разве мало вокруг ходит народу!
— А почему у Ладыгина никаких происшествий нет? Вечно у тебя неприятности.
— Видать, уж у меня планида такая, — мрачно вздохнул Карпенко.
— Смотри, паря, чтоб эта планида тебе боком не вышла, — сердито сказал Бочкарев. — Арсений Петрович, тебе Карпенко больше не нужен?
— Нет, может итти, — сказал Панкеев, нахмурившись.
Карпенко с невеселым лицом пошел из штаба, ворча что-то о чортовых барахольщиках и что он им ноги повыдергает.
— Ну, дружок, — посветлев лицом, обратился Панкеев к Вихрову. — Ты, говорят, во взводе порядок навел. Хвалю… Командир эскадрона тобой очень доволен. Смотри только рук не опускай, раз крепко взялся… А теперь я тебя на другом деле хочу испытать. Пойдешь сегодня в разведку… Да, а кто у тебя помощником?
— Сачков.
— Знаю. Орловский?
— Так точно.
— Ну, это хорошо. Он опытный солдат… Карта у тебя есть?
— Есть, товарищ комполка.
— Давай разверни.
Вихров достал из сумки карту, развернул ее и приготовился слушать задачу.
Указав по карте задачу разъезда и пояснив, что возможна встреча с бандой Махно, Панкеев посоветовал Вихрову хорошенько отдохнуть, так как до выступления осталось почти шесть часов, а предстояла ночная работа, и, пожелав ему удачи, отпустил его.
VIII
Прошло несколько дней с тех пор, как Махно послал делегацию навстречу буденновцам, а о ней не было ни слуху ни духу. Однако «батька» хотя и грыз ногти, но не терял еще надежды на благоприятный исход переговоров и теперь, перейдя основными силами под Павлоград, ждал возвращения Лященко.
Все же по совету Волина, убедившего его в том, что Конная армия является реальной силой, с которой ему нужно считаться, Махно решил исподволь приступит к осуществлению своего коварного замысла: попытаться разложить Конную армию, заслав туда своих агентов.
Махно и Филька сидели за столом в небольшой комнате («батька» не любил больших зданий, которые напоминали ему тюрьму) и обсуждали кандидатуры своих «молодцов», годных для этой опасной работы. Уже было отобрано десятка два человек, которые под видом добровольцев должны были вступить в полки Конной армии.
«Батька» находился сегодня в хорошем расположении духа, что бывало с ним очень редко, и с не свойственной ему ласковостью беседовал с Филькой.
— Ну что ж, хорошо, — говорил он, с довольным видом просматривая составленный список. — Ребята подобрались, лучше не надо. А теперь, друг, подыщи-ка мне несколько человечков, кумекающих по хозяйственной части. Ну-ка, подумай, дружок, нет ли у тебя кого на примете.
Филька в раздумье потер низенький лоб.
— Один уже есть, Нестор Иванович, — весело сказал он, пытаясь изобразить улыбку на своем страшном лице. — Вот он, рядом ходит.
— Кто такой? — спросил «батька».
— Гуро.
— Гуро?
— Да. Интендантским чиновником служил. Хозяйство, как бог, знает, шельма.
— А сможет он взять на себя такую работу? — усомнился Махно.
— Сможет, — успокоил Филька, — редких способностей человек. Пробу негде ставить. В Ново-Украинке один семнадцать душ вырезал… Да неужели, Нестор Иванович, ты не помнишь его? У Шлезберга, золотых дел мастера, полтора пуда золота добыл. Он еще подпаливал его, как кабана. Потом у Каца, в Глубоком, бриллиантовое колье и два ожерелья. Помнишь, небось?
— Да, да… что-то припоминаю, — не глядя на него, сказал «батька».
— Так позвать его?
— Катай.
Филька встал с лавки, подошел к окну и, высунувшись на улицу, крикнул:
— Эй, братишки! Позовите Гуро. Живо! Батько требует.
Спустя некоторое время в сенцах послышались торопливые шаги, в дверь постучали, и на скрипучий «батькин» окрик «войди» в комнату вошел высокий, сухой, как жердь, человек с утолщенным книзу носом на худом, с впалыми щеками бородатом лице.
«Батька» критически его оглядел и вдруг усмехнулся: очень уж у Гуро был не интендантский вид.
— Это ты — Гуро? — спросил «батька».
— Я, Нестор Иванович.
— Ты, говорят, в интендантстве служил?
— Без малого десять лет, Нестор Иванович.
— Ого! Много… Что ж у тебя, дружок, видик такой?
— Какой?
— Уж больно ты тощий. Прямо кащей.
— От хорошей жизни, Нестор Иванович.
— А разве тебе плохо живется? — удивился Махно.
— Да нет, сейчас хорошо. Я ведь в Бутырках сидел, а потом год без дела болтался.
— Та-ак… С большевиками, видать, не поладил?
У Гуро недобрым блеском сверкнули глаза. Он молча пожал плечами.
— Пойдешь к ним работать? — спросил «батька», пытливо глядя на Гуро. — Только сначала подумай, дружок. На опасное дело идешь.
Наступило молчание.
— А что делать? — спросил Гуро, помолчав.
— По хозяйственной части.
— Пойду, Нестор Иванович, — сказал Гуро, решительно кивнув головой.
— Ну, смотри… Филька, у тебя есть для него подходящие документы?
— Шо? Документы? А как же, Нестор Иванович! — Сказал Филька с таким видом, словно обиделся на «батьку» за то, что тот мог усомниться в этом.
Он поднялся, прошел в угол, где на лавке стоял открытый чемодан, покопался в нем и возвратился, держа в руках документы.
— Товарищ начальник, — сказал он со зловещей ухмылкой, обращаясь к Гуро, — получите обратно ваши документы. Вот удостоверение личности, а вот, обратите внимание, ваш партийный билет. Только, извиняюсь, подмочился немного. Дождичком прихватило… А теперь я вам предписание изображу.
Филька прошел к другому столу, между окон, где стояла пишущая машинка, присел за нее и, постукивая пальцем, защелкал:
«…4 мая 1920 года… При сем командируется товарищ… мобилизованный по партлинии. Секретарь парткома…»
Филька вынул бланк из машинки, подмахнул подпись лихой закорючкой и захохотал, словно залаял:
— Секретарь парткома — подпись неразборчива. Точка!
— Ах да! — спохватился он. — Чуть не забыл!
Он снова сходил к чемодану и возвратился с тонкой книжкой в руках.
— На вот партийный устав, — он подал книжку Гуро. — Вызубри наизусть, иначе, милый, засыплешься. Да смотри побрейся, а то по бороде ты очень приметный.
Махно молча наблюдал всю эту сцену.
— Ну, все понятно? — спросил он Гуро.
— Понятно, Нестор Иванович.
— Ступай сейчас к Волину. Скажешь, куда я тебя посылаю. Он с тобой поговорит кое о чем. И денег даст. Ночью выедешь. И только. Катай!
Гуро молча поклонился и, чуть сутулясь, вышел из комнаты.
Покачиваясь в седле, Вихров ехал впереди разъезда рядом с Сачковым. Было совсем темно. Тучи еще с вечера затянули небо черной завесой. Кругом лежал непроницаемый мрак, и только в стороне горизонта, где оставалась узкая длинная полоса неясного света, темнел курган с каменной бабой. Вокруг было так тихо, словно сама степь чутко прислушивалась к шорохам ночи. Лишь изредка раздавался тревожный вскрик ночной птицы да в высокой траве трещали кузнечики.
За последнее время Сачков резко изменил то неприязненное отношение к Вихрову, с каким встретил его в день прибытия в полк. Молодой командир не был заносчив, не бросался словами и требовательность по службе умело сочетал с заботой о бойцах. Поэтому у Сачкова, рассудительного от природы человека, на смену неприязни к Вихрову пришло то чувство доброжелательства, которым обладают некоторые старые солдаты, любящие исподволь опекать и наставлять молодежь. Сачков был в два раза старше Вихрова, имел большой опыт и теперь всегда старался помочь ему хорошим советом. Так и на этот раз: рассчитывая на внезапную встречу с махновцами, Сачков предложил обмотать тряпками копыта лошадей, идущих в дозоре. Вихров подумал, нашел совет стоящим и распорядился. Дозор под командой Харламова, ехавший от разъезда в сотне шагов впереди, двигался почти бесшумно.
Прошла уже большая половина ночи, а в степи все оставалось спокойно. Как вдруг Сачков насторожился и, вытянув шею, прислушался.
— Слышитя? — прошептал он, обращаясь к Вихрову. — Едуть!
Но Вихров и сам уже слышал в той стороне, где мелькали черные тени дозорных, катившийся по земле и все приближающийся конский топот.
Вихров остановил лошадь. Задние сразу надвинулись. Резче запахло конским потом.
Топот впереди оборвался. Все стихло. В темноте громко фыркнула лошадь. Вихров вглядывался вперед, но там ничего не было видно. Сердце стучало у него в груди так сильно, что казалось, вот-вот выскочит вон.
Вдруг, прорвав тишину, загремели голоса:
— Стой, кто идет?
— А вы кто?
И вновь все вдруг замерло и притаилось.
Внезапно частой дробью загрохотали копыта, блеснул огонек выстрела и раздался крик. При вспышке выстрела Вихров успел заметить, как несколько всадников, рассыпаясь веером, шарахнулись в степь.
— А ведь это махновцы! — сказал Вихров.
— Ясное дело, — подхватил Сачков. — Т-ш-ш! Слушайтя!
Из мрака донесся унылый, как волчий вой, голос:
— Буденновцы!.. Эй, слушай, братишки! Переходите до батьки Махно… У нас шамовка хорошая… Денег много… Переходите до нас…
Вихров рванул револьвер из кобуры и толкнул лошадь с места в карьер. Слыша за собой стук копыт резво идущего взвода, он направил лошадь в ту сторону, где раздались крики.
Во тьме зарницами рассыпались выстрелы, послышался лязг клинков, крики и стоны. При вспышках огня Вихров увидел, как Митька Лопатин прожег из обреза в упор махновца в шапке со шлыком. Под Мишей Казачком упала лошадь, придавив ему ногу. Махновец в тельняшке, нагнувшись, ловчился достать его шашкой. Вихров кинулся на помощь бойцу, но тут на его голову обрушился страшный удар. Он зашатался в седле и упал. Уже теряя сознание, он услышал, как хриплый голос крикнул над ним: «Братва! Стой! Не бей! Мы делегация от батьки Махно…»
Потом чьи-то руки потащили с него сапоги.
IX
Над селом лежала светлая ночь. Небольшие белые хатки под соломенной крышей, кудрявые сады и уходившая в степь дорога купались в мягких волнах лунного света. В высоком небе с тихо мерцавшими звездами не было видно ни облачка, и лишь на востоке, откуда ползла тяжелая лохматая туча, поблескивала молния и доносилось глухое ворчанье грома.
В селе давно погасли огни, но сквозь открытые окна большого дома близ колокольни лился яркий свет, гремела музыка и слышался топот множества ног.
Афонька Кривой, назначенный с двумя пулеметчиками сторожить «батькин» штаб, сидел в тени густого кустарника и, склонив голову набок, прислушивался к доносившимся до него звукам.
— Лафа этому батьке, язви его в бок: почти каждый день свадьбу справляет! — со злостью сказал из темноты чей-то голос.
Афонька повернулся на голос. Лицо говорившего терялось во мраке, были видны только горевшие зеленоватым блеском глаза.
— На то он и батько, — заметил Афонька.
— А чем я хуже твоего батьки? — с досадой сказал тот же голос.
— Эва хватил! Не хвались волком, коли хвост собачий.
— Это у кого хвост собачий?
— У тебя.
— Ты гляди, паразит, как бы я тебе другой глаз не подбил.
— Подбил такой! — Афонька презрительно сплюнул.
— Ты не задавайся, гад кривой, а не то так стукну по башке, что сразу в ящик сыграешь.
— А ну, вдарь! — с надрывом в голосе сказал Афонька.
— И вдарю! — в тон ему ответил первый.
— А ну тебя, Петька, в самом деле. Экая ты смола, — сказал другой голос. — Вы лучше скажите, братва, куда батько гуляй-польскую девку девал?
— А у тебя, Хайло, зуб горит на нее? — спросил Петька.
— Нет. Я просто так интересуюсь.
— Пулеметчикам подарил.
— Та-ак… А эта, новенькая, хороша?
— Не знаю. Не видал.
— Я бачил ее, — важно сказал Афонька. — Во всем мире не сыщешь красивше… Глаза синие-синие, волос светлый, а коса — во! — показал он, трогая себя за каблук.
— Ишь, чортов батько! Какой девчонкой попользуется! — сказал тот, которого звали Хайло, улыбаясь и раскрывая большой рот, почти до ушей. — Где же он такую достал?
— Городская. Гуро с хлопцами с Запорожья привез, — пояснил Афонька.
— Добровольно приехала?
— Пожалуй, такая добровольно приедет! — усмехнулся Афонька. — Я зашел в хату, как ее привезли. Гляжу: на лавке сидит, глаза вниз, брови нахмуренные, а лицо белое-белое.
— Молодая?
— На вид лет шишнадцать.
— Я с этаким делом несогласный — девок портить, — сказал Петька. — Ну, я понимаю, по доброй воле которая, а зачем сильничать?
Они замолчали.
В наступившей тишине тихо стукнула дверь, открыв яркий просвет, на фоне которого возник черный силуэт большого толстого человека с непомерно маленькой головой. Человек, хлопнув дверью, сошел с крыльца и, сильно пошатываясь, направился к кустам.
— Ктой-то вышел, братишки? — спросил Петька.
— Эва! Жабу не узнал, — сказал Афонька.
Филька остановился в нескольких шагах от них, посмотрел на луну и, опустив голову, фальшиво пропел хриплым голосом:
Ах вы, косы Да косы русы…Икнув, он попробовал было снова запеть, но вдруг так страшно закашлялся со свистом и всхлипываниями, словно его выворачивало наизнанку.
— А, чтоб тебя разорвало! — тихо сказал Петька. — Чисто верблюд.
Сопя, отхаркиваясь и сквернословя вполголоса, Филька поднялся на крыльцо и скрылся в доме.
Внезапно неподалеку вспыхнула молния. И совсем близко, словно с затаенной угрозой, пророкотал гром.
— Братишки, как бы грозы не было, — сказал Петька. — Смотри, какая туча с востока идет!
— Туча-то хрен с ней, только б не Буденный, — мрачно заметил Хайло.
— А что, слушок есть? — настораживаясь и подвигаясь к нему, спросил Афонька Кривой.
— Не слушок, а факт. Лященко с хлопцами куда поехал?
— А чорт его знает.
— То-то, что не знаешь. Буденный с армией сюда идет.
— Ну?
— Вот те и гну!
— Что ж, братишки, раз дело такое, то надо, пока не поздно, когти рвать, сматываться. А ну его и с батькой совсем! — сказал Афонька.
— Да, может, еще обойдется, — успокоил Хайло. — Батька, слышь, письмо ему послал. Мир предлагает.
Афонька пощелкал языком, с опаской покачал головой:
— Хорошо, если б так. Ну и ну…
Они помолчали.
— Гляди, никак наши гуляки расходятся? — сказал задремавший было Петька.
По крыльцу спускались — кто в обнимку с приятелем, кто сам по себе — «батькины» гости. Загребая ногами по пыльной дороге, они с шумными разговорами я пьяным смехом расходились в разные стороны.
В доме гасли огни.
— Видать, батько их выгнал, а то ведь так гуляют всю ночь, — сказал Афонька, потягиваясь и зевая. — Братва, у меня есть предложение: давай спать по очереди.
Не ожидая согласия остальных, он поправил висевшие на поясе гранаты и прилег под кустом. Но не успел он задремать, как поднял голову и прислушался. Из дома доносились приглушенные расстоянием и стенами крики. Афонька привстал. В эту минуту крайнее окно с шумом раскрылось, в нем мелькнуло что-то похожее на белое облачко и вдруг стремительно понеслось через дорогу к черневшей вблизи роще. Вслед за ним погнались две тени.
— Держи!.. Бей!.. Лови-и-и! — закричали из окна.
В окне блеснул огонек. Над селом прокатился выстрел.
Афонька вскочил, на бегу срывая гранату, побежал через дорогу наперерез белому облачку, но запнулся за куст и упал. Мимо него, тяжело дыша и ругаясь, пробежал Филька.
Когда Афонька, чертыхаясь, поднялся, то белого облачка впереди уже не было, а на том месте мелькали какие-то тени и слышались крики.
Он подбежал.
Два махновца — в одном он узнал Гуро, другой был усатый Долженко, начальник «батькиной» кавалерии, — высоко взмахивая плетьми, били стоявшую на коленях и простиравшую к ним руки девушку. Она, крича что-то, хваталась за плети. По рукам ее стекала кровь.
— Ишь, сука! На батьку с ножом кинулась! — кричал Филька. — Долженко, сруби ей башку. Я батьке снесу.
Долженко ступил шаг назад, бросил плеть и рванул шашку из ножен. Лунный свет тускло сверкнул на клинке.
— Постой! — Гуро схватил его за руку. — Давай сначала косу отрежь. Больно уж хороша. Может, еще на что пригодится… Ну вот! А теперь руби, — говорил он, свертывая отрезанную косу в кружок.
— Братва, батько идет! — сказал из темноты чей-то голос.
Долженко оглянулся.
Махно шел без пиджака, в одной нижней рубашке. Левая его рука мертво висела в разорванном окровавленном рукаве. Он молча подошел, оглядел всех блуждающими глазами, потом нагнулся и ткнул носком сапога лежавшую без движения девушку.
— Не рубите, — сказал он, помолчав. — Завтра мы ее живьем закопаем…
Сильный порыв ветра пронесся над рощей. Забились и зашумели деревья. По дороге взвихрилась пыль. Ярко сверкнула молния и раскатился такой потрясающий грохот, словно небо раскололось и посыпалось на землю.
Махно вскинул руку над головой, — он боялся грозы, — и, пригнувшись, побежал к дому…
…Ночное небо светлело. На горизонте алой полосой загоралась заря. Над камышами, у реки, поднимался туман. Было то время, когда перед торжественным рождением нового дня в степи замирают все шумы и шорохи.
Но вот солнечный луч позолотил низко стоявшее облачко, и в прозрачной тишине утра запели и зачиликали птицы. Коршун взметнулся над одинокой овчарней, сделал круг, высоко поплыл в голубеющем небе. Колебля траву, подул тихий ветер. Потянуло свежестью со скрытой туманом реки.
Степь просыпалась. И как раз в ту минуту, когда восток заполыхал золотисто-алым сиянием, далеко на горизонте показалась черная все увеличивающаяся точка.
Оставляя примятую полоску в буйно разросшейся высокой траве, по степи скакал всадник.
Когда, минуя глубокую балку, он стал спускаться по пологому склону к заросшей густым камышом небольшой речке, далеко позади, на высоком кургане, появились черные силуэты двух конных. Один из них поднял лежавшую поперек седла винтовку, прицелился, и в ту же минуту в свежем утреннем воздухе словно хлопнул бич пастуха. Беглец помчался быстрее, подскакал к крутому обрыву и, не задерживаясь, вместе с лошадью бухнулся в воду.
Дикие утки взвились над камышами, широко распустив длинные узкие крылья, — вих! вих! вих! — ушли в прозрачную вышину.
Рассекая грудью багряную поверхность реки, оскалив зубы и шумно дыша, лошадь боролась с быстрым течением. Всадник соскользнул в воду и плыл, держась рукой за гриву. Около берега он вновь сел в седло, шагом выехал на заросший бурьяном высокий курган, остановился и оглянулся назад. На горизонте, на фоне широкого красного солнца, продолжали чернеть силуэты двух конных. Всадник потянул было из-за спины карабин, потом раздумал, тронул лошадь и поскакал вдоль реки, мимо покинутой хатки с разметанной крышей. Обогнув покосившийся камышовый плетень, он выехал на дорогу и, приметив вдали белевшую колокольню большого села, снова пустился в карьер.
— Братва! Эй, братва, просыпайся! — будил Афонька Петьку и Хайло. — Гляди, конный бежит… Эва! Да это ж Лященко… Один! Видать, что-то случилось! Тихо! Кричит что-то…
Теперь был отчетливо слышен частый, в два темпа, стук копыт быстро скачущей лошади и голос Лященко, который, махая рукой, кричал:
— Полундра!.. Полундра!..
В селе начиналось движение. Хлопали окна и калитки дворов. На улицу высовывались сонные лица.
Афонька, Петька и Хайло выбежали на дорогу.
— Где батько? — крикнул Лященко, наезжая на них грудью лошади, которая, мотая головой, быстро носила худыми боками.
— А вот в хате, — показал Петька.
Лященко спешился, сказал: «Возьмите коня», — и, кинув поводья Афоньке, взбежал на крыльцо.
Махно спал, положив голову на уставленный пустыми бутылками стол. Против него, уткнувшись лицом в тарелку с капустой, храпел Филька. Тут же на полу и на лавках спали вповалку какие-то люди.
— Батько! — Лященко тронул Махно за плечо. — Батько, проснись!.. Спит, сучий сын!.. Батько! Нестор Иванович! Беда!.. Ах, чтоб тебя! — Лященко вцепился в плечи Махно и завыл во весь голос: — Батько! Батько! Вставай!
— А? — Махно поднял голову. — Кто такой? Что случилось?
— Буденный!
Махно вскочил, покачнулся, но успел ухватиться за стол.
— Что? Где Буденный?
— Да вот он. Верст пять не будет!
— А делегация?
— Порубили, один я утек.
Махно в бессильной злобе скрипнул зубами и бросил по сторонам растерянный взгляд.
Лященко вновь подступился к нему и, стуча в грудь кулаком, с надрывом сказал:
— Батько! Нестор Иванович! Давай команду! Они ж сюда идут… Эх, не за нюх пропадем!
Махно подбежал к кадушке с водой, зачерпнул полный ковш и жадно выпил.
— Вставай!.. — диким голосом заревел он, подбегая к спящим и шпыняя их ногами. — Вставай, сволочь!.. Проспали Буденного!
Спавшие поднимались и, протирая руками опухшие лица, ошалелыми глазами смотрели на «батьку».
— Чего ж вы стоите, как истуканы! — крикнул Махно. — Оська! — позвал он ординарца. — Поднимай хлопцев, запрягай тачанки… Ты, лохматый… как тебя там… беги до Зозули, поднимай батарею… Долженко, готовь кавалерию. Высылай на дорогу сильный разъезд… А где Гуро?
— Гуро в штабе спит, — торопливо сказал чей-то голос.
— Ну, тогда ты, — Махно ткнул пальцем в носатого верзилу в шапке со шлыком. — Добеги до Волина, он стоит у попа, передай: Буденный идет!
Все опрометью кинулись прочь. В комнате, кроме Махно, остались Филька и Лященко.
— Филька, собирай чемоданы, — сказал «батька». — А ты, — крикнул он Лященко, — со мной!
Махно схватил со стенки бинокль и поспешно вышел на улицу.
С колокольни открывалась волнистая степь. Вдали, на линии синевшего горизонта, в туманной дымке сверкали золотые купола Павлограда. Чуть ближе блестела река, пропадавшая среди зеленых холмов.
В пустынной степи не было заметно никакого движения.
— Ну и где ж твой Буденный? — зло спросил «батька», опуская бинокль и повертываясь к Лященко серым после бессонной ночи лицом. — Эх, вы, помощнички!
— Да здесь они, Нестор Иванович. Гнались! Еле ушел.
— Ладно, потом будешь оправдываться. Рассказывай, как было дело.
— Все как есть говорить?
— Давай, не тяни.
— Так вот, Нестор Иванович… Как, значит, поехали мы и встретились за Павлоградом с разъездом буденновской армии. Они на нас в шашки, а мы шумим: делегация, мол. Все ж нескольких у нас порубили… Потом приводят нас до начдива. Осанистый, ростом большой. Фамилия ему Морозов. Ну, значит, я честь по чести все ему объяснил: так, мол, и так, батько Махно мир предлагает. Чтоб, значит, буденновцы наших не трогали и мы тоже с ними драться не будем.
— Ну?
— А Морозов брови насупил и говорит: «Мы Конная армия, бойцы революции и не будем с вами, бандитами, цацкаться. Мы, — говорит, — с польскими панами смертным боем биться идем, а вы нам нож в спину вонзаете». Рассердился, нет спасу! «Если, — говорит, — ваш батько немедленно оружие положит, тогда мы посмотрим — может, кого из ваших и возьмем, чтоб в боях вину свою искупили». Ну, я тут тоже начал серчать. Батько наш, говорю, не разбойник, а командующий армией и сможет за себя постоять…
— Ну, ну?.
— Нехорошие слова, Нестор Иванович, боюсь говорить.
— Говори!
Лященко бросил косой взгляд на Махно и продолжал:
— «Передай, — говорит, — вашему батьке, что если он не положит оружие и не явится лично с повинной, то я его, рассукинова сына, поймаю и за это самое место повешу». Тут, значит, я не стерпел и схватился за шашку. Потом сиганул на коня и насилу ушел. Остальных порубили…
— Как? Что? Повесит?! — Махно задохнулся и скрипнул зубами. На его впалых щеках появились красные пятна. — Повесит?! Нет! Сам всех перевешаю! — Он постучал по узкой груди кулаком. — Я еще покажу им, кто такой Махно!
— Батько! — тревожно окликнул Лященко. — Батько, смотри!
Но Махно уже сам что-то увидел. Заслонясь ладонью от ярко светившего солнца, он смотрел вдаль, туда, где заметил движение. И точно, на вершине кургана появился конный разъезд. От него отделились два всадника и поскакали галопом по балке.
На горизонте задымилась золотистая пыль. Вначале она показалась в стороне Павлограда. Потом, поднимаясь сплошной высокой стеной, пыль затянула весь горизонт и вскоре, казалось, охватила полнеба.
Стаи птиц с тревожным криком поднимались над степью и, трепеща крыльями, летели на запад.
Набежавший со степи ветерок донес едва слышный шум.
Шум приближался, и вместе с ним с далеких холмов в густых облаках тяжело клубившейся пыли, в которой, как искры, что-то сверкало, в степь выходила огромная конная масса. Она шла сплошными колоннами. Медленно извиваясь между холмами, колонны, как исполинские щупальцы, подвигались все ближе, ползли в бескрайном просторе степи. Лес знамен и значков величаво парил над рядами. Давно, со времен Сечи, со времен вольницы запорожской, не видела степь такого движения. Тогда по этим местам, возвращаясь из турецких походов, так же вот шли по степи курени Наливайко, Остраницы и Тараса Трясило…
Это было очень давно, а теперь мощной лавиной, занимая фронтом более сорока верст, шла на запад Первая Конная армия.
Все ближе к селу подходили головные полки. Уже простым глазом были видны отдельные всадники с обветренными, суровыми лицами, орудия, зарядные ящики и часто переступавшие четверки пулеметных тачанок. Солнечные лучи огненными языками вспыхивали на блестящих наконечниках знамен и значков, отсвечивали на серебряных трубах полковых трубачей и, угасая в пыли, вновь зажигались на струящихся в воздухе флажках и знаменах…
Махно во все глаза смотрел на буденновцев. Он видел их впервые. Смертельная бледность покрывала его желтое в морщинах лицо.
Он так засмотрелся, что Лященко пришлось дважды окликнуть его.
— Батько, Нестор Иванович! — говорил Лященко. — Не пора ли нам сматываться?
Махно вздрогнул, словно только теперь услышал, что неподалеку, внизу, часто щелкают выстрелы. Он рывком повернулся и, прыгая через ступеньки, стал быстро спускаться по лестнице.
У паперти рослый ездовой-цыган с трудом сдерживал тройку лихих лошадей. Махно прыгнул в тачанку, Лященко вскочил вслед за ним, ездовой гикнул, и тройка понеслась по широкой сельской улице.
Навстречу, крича и махая рукой, скакал Афонька Кривой.
— Обошли!.. Берите, батько, левее — проулком! — наскаку крикнул он и умчался.
На восточной окраине села, слышно было, закипал сильный бой. Вдали звонко ударила пушка. Снаряд с нарастающим воем пронесся над степью.
Махно остановил тачанку и, схватив за шиворот ездового своей маленькой волосатой рукой, привстал над сиденьем. Вдоль улицы перебегали пешие махновцы. На поджарой вороной кобыле, держа древко с черным знаменем, на котором был намалеван череп с костями, пронесся всадник. Его голова была обмотана кровавыми тряпками. Вслед ему с грохотом мчались тачанки. За ними скакали конные с подвязанными к седлам большими узлами. Все, крича на разные голоса, неслись к выходу из села.
— Куда? Стой! Назад! — крикнул Махно.
Но конные, словно это относилось не к ним, продолжали длинной вереницей мчаться мимо тачанки. Махно тронул ездового. Тот хватил с места в карьер. Где-то впереди часто рассыпались выстрелы, и из боковой улицы навстречу Махно вылетела тачанка. Ездовой, стоя во весь рост, гикал и кружил вожжами над головой. Пулеметчик лежал вниз лицом, обхватив рукой пулемет. Его голова моталась над кузовом. Он хрипел и плевал кровью. Встречный ездовой не успел сдержать лошадей. С глухим треском столкнулись тачанки. Коренники взвились на дыбы и, ударившись грудью, рухнули наземь. В пыли замелькали копыта.
Дорога оказалась прегражденной живой баррикадой. Вокруг гремела стрельба, стоял стон, неслись громкие крики. Лященко повернул к Махно побледневшее лицо.
— Пропадаем, батько! — произнес он трагическим голосом.
Махно метнул по сторонам быстрый взгляд.
— Руби постромки! — крикнул он, выпрыгивая из тачанки.
Он выхватил шашку, второпях засек пристяжной ногу и быстро разамуничил ее.
В глубине улицы, махая и кружа обнаженными шашками, показались всадники в красных штанах.
Оставив оброненную смушковую шапку, Махно вскочил на лошадь и во весь мах помчался проулком. Вслед ему защелкали выстрелы.
Еще перед началом боя Петька разоружился, сунул карабин в навозную кучу и схоронился на чердаке одиноко стоявшего дома. «Хрен с ним, — думал он, — нехай воюют. Моя хата с краю, я теперь есть мирный житель». Но едва ли он залег бы на чердаке этого до ада, если б знал, что именно здесь, на большой поляне, развернется самый центр боя. Из слухового окна видна была широкая панорама села с колокольней посредине, белыми хатками, зелеными рощами и садами. Вправо от села, за холмистым гребнем, поднимался в небо высокий столб пыли. Такое же высокое облако пыли виднелось и по другую сторону села. Скользнув наметанным глазом по знакомой картине, Петька определил, что село окружено с обеих сторон, и злорадно подумал, что теперь «батьке» трудно будет выпутаться.
Быстрый конский топот, раздавшийся в эту минуту влево от дома, привлек его внимание, и он увидел, как из боковой улицы беспорядочной кучей хлынули конные. Впереди скакал всадник с сивыми, закрученными кверху усами. «Эге! — подумал Петька, узнавая в нем начальника махновской кавалерии. — Так это ж сам Долженко!» Тем временем из боковой улицы выезжали все новые группы всадников. Их было так много, что Петька сразу сбился со счету. Долженко, яростно ругаясь и потрясая кулаками, выстраивал свои эскадроны. Пулеметные тачанки, объезжая стороной, галопом занимали огневые позиции. Водворить порядок в сбившейся на поляне конной толпе было трудно. Задние повертывали головы, показывали один другому руками на все приближавшееся с тыла облако пыли и, нещадно шпоря лошадей, старались пробиться в передние ряды. Наконец Долженко подал команду. Над рядами сверкнули вынутые из ножен клинки. Махновская кавалерия двинулась рысью вперед. Но не успела она пройти и сотни шагов, как справа от села показалась колонна конницы. Петька давно уже видел эту колонну — в ней было не меньше бригады — и шептал про себя: «Ужо дадут буденновцы духу!» Бригада шла широкой рысью. В задних рядах лошади, горячась, сбивались в галоп. Приближаясь к гребню холмов, бригада на ходу строила фронт, и Петька видел, как всадники фланговых эскадронов, распластываясь в карьере, расходились группами по крыльям лавы. Скакавший впереди командир в красной черкеске, очевидно комбриг, сильно толкнул лошадь, и его худой породистый конь в несколько прыжков вынес его на вершину холма. Комбриг посмотрел в сторону села, взмахнул над головой кривой шашкой, и тысячи полторы всадников, перелетев через гребень, с криком устремились вперед по пологому склону.
Махновцы остановились. Некоторые начали повертывать лошадей, другие кинулись в стороны. Но уже было поздно. Бригада развернулась, с двух сторон ударила по махновцам, сбила их и смешала. Все завертелось в сабельной рубке. Сшибаясь, наскакивая один на другого, по всему полю закружились всадники и группы бойцов. Гремя снаряжением, распушив по ветру хвосты, забегали лошади, потерявшие всадников.
Затаив дыхание, Петька наблюдал за побоищем. Он видел всего в нескольких шагах от себя огромного всадника без шапки, с большим носом и целой копной светлых волос, который, сидя на такой же огромной, как и он сам, вороной лошади, рубя наотмашь встречных и поперечных, добирался до Долженко. Но тот во-время заметил его и, ужаснувшись одного его вида, стал повертывать серого в яблоках жеребца, прорубая себе дорогу из свалки, и, сбив с седла бросившегося на него молодого вихрастого парня в рыжей кубанке, наверное ушел бы, если б не чубатый казак с приколотым на груди алым бантом. Чубатый казак поднял коня на дыбы и поведшего прямо на Долженко, заставив его придержать жеребца.
Этим и воспользовался всадник с большим носом, обрушив на Долженко страшный удар и с хряском развалив его до седла. «Поделом тебе, гад! — подумал Петька. — Не будешь больше девок калечить!» Видел он и молоденького всадника в черной черкеске, который, придерживая в полусогнутой руке пистолет и ловко управляя крупной игреневой лошадью, поспевал всюду, где только падали раненые буденновцы или слышались крики о помощи.
Махновцы кучами и поодиночке вырывались из свалки, бросались в переулки, ища спасения в бегстве.
«Эй, эй! Гляди! Сзади!» — чуть было не крикнул Петька, но только отчаянно взмахнул руками, увидя, как в тыл буденновской бригаде, поднимая тучу тяжелой пыли, скакал пулеметный полк — триста с лишним пулеметных тачанок, правая рука «батьки» Махно. Командовал полком тучный Петриченко — бывший петлюровский прапорщик, пропитая башка, алкоголик, но смелый до отчаянности человек с круглым, как луна, рыхлым лицом, славящийся одним и тем же дерзким маневром: ворваться переодетым под видом своего в чужие ряды и косить их из пулеметов в упор. Петриченко важно, как турецкий святой, сидел, подбоченясь, в передней тачанке, и Петька пожалел, что с ним нет карабина, — очень уж ему хотелось пальнуть в Петриченку.
Но у буденновцев не дремали. Не успел пулеметный полк махновцев занять огневую позицию, как, вывернувшись из-за холмов, вихрем подскакала конная батарея, сноровисто снялась с передков и грохнула картечью из всех своих четырех пушек по пулеметным тачанкам. Ездовые повернули и, сметая все на пути, шарахнулись из села. Но тут навстречу им, развертываясь в лаву, выходили со степи полки 4-й дивизии… Петька видел, как, поблескивая в густой туче пыли, часто поднимались и опускались клинки…
— Бей! Бей! Руби! — поощрял Петька, в азарте размахивая руками и притопывая ногами.
Потом он увидел, как на высокий холм правее села выехали шагом два всадника. Один из них, тонкий, в черкеске, с большими усами, плотно сидел на крупном буланом коне; под другим, полным, в фуражке, была большая рыжая лошадь в белых чулках. Она высоко вскидывала ногу и била землю копытом. Позади них казак в черней кубанке держал прикрепленный на пике кумачевый значок.
Бойцы проходивших у подножья холма эскадронов бросали вверх шапки, размахивали шашками и на разные голоса что-то кричали.
— Ой, Митя, милый, как я за тебя напугалась! Гляжу — упал! Ну, думаю, убили, — говорила Маринка, сидя на корточках подле лежавшего Митьки и осматривая рану на его голове.
Митька с досадой поморщился.
— Не таковский, чтоб убили. Это он меня конем шибко ушиб. Ишь, здоровенный! Было б мне иззади на него наскочить… А теперь ушел. Видать, какой-то начальник.
— Да нет, не ушел он! Дерпа напополам его разрубил. И шашку сломал об него. — Маринка достала из сумки вату и, с радостью отмечая, что кость не задета, стала обтирать кровь вокруг раны. — Больно? — тревожно спросила она, услыша, что Митька закряхтел.
— Нет, ничего.
— А плачешь зачем?
— В глаз что-то попало.
— Постой, я тебя к кустикам переведу. Здесь солнце печет. А ну, берись за меня.
Митька, стиснув зубы, поднялся и, крепко держась за девушку, заковылял в тень кустов подле дороги.
— Ну вот, в холодке ладней будет, — деловито сказала Маринка, помогая Митьке прилечь. — Сейчас мы тебя перевяжем, а потом на линейку — и в госпиталь.
— Как бы не так, — сказал Митька сердито. — Никуда я с полка не пойду. Да у меня уж затмение прошло. — Он приподнялся на локтях, присел. — Гляди, горит что-то.
Маринка оглянулась.
На окраине села, откуда доносился редкий перестук пулеметов, поднимался над тополями густой столб черного дыма.
— Так, говоришь, напугалась? — помолчав, сказал Митька.
Маринка быстро повернулась, и он увидел на милом ему лице девушки выражение жалости.
— А как же! — блеснув черными повлажневшими глазами, сказала она. — Конечно, напугалась.
— Земляки? — спросил он с тонкой насмешкой.
— Ах ты, землячок мой ненаглядненький! — она нагнулась и поцеловала его в смуглую щеку.
В эту минуту кусты раздвинулись и выставилась Петькина голова с бегающими, вороватыми глазами.
— Братишки! — окликнул он.
— Чего тебе? — вся вспыхнув, сердито спросила Маринка.
— Чудно́! Солдат солдата целует.
— А тебе какое дело?
— Извиняюсь, это мне, конечно, ни к чему. Где бы мне вашего командира повидать? — допытывался Петька.
— А ты кто такой? — спросил Митька, грозно взглянув на него.
— Я? Местный житель. Мирный человек.
— А на что тебе командир?
— Важное дело.
— Ищи его там, — Маринка показала в сторону пожара. — Спросишь товарища Ладыгина. Ясно?
— Ясно, как щиколад! — Петька усмехнулся. — Наше вам с кисточкой!
Кусты сдвинулись. Петька исчез.
— Ну, давай, милый, я тебя перевяжу, — сказала Маринка.
Она вынула из сумки марлевый бинт и склонилась над Митькой.
Рядом с ними послышался конский топот и чей-то голос спросил:
— Эй, Маринка! Куда наша братва пошел?
Девушка подняла голову. Миша Казачок, перегнувшись с седла, пытливо смотрел на нее.
— А ты что, Миша, потерялся? — спросила Маринка.
Миша Казачок пошевелил взъерошенными усами.
— Ва! Зачим потерялся! Один, два, три бандита кончал… Митька, это ты? — вдруг вскрикнул он, узнав Лопатина.
Он быстро слез с лошади, (при этом в его широченных карманах что-то лязгнуло) и, перекинув повод на руку, присел подле раненого.
— Ай, вай-вай, какой балшой рана!
Миша Казачок с озабоченным видом покачал головой и вдруг решительно полез в карман широченных, сшитых из бордовой бархатной скатерти брюк и затарахтел чем-то. Что-то приговаривая, он выложил из кармана три круглые гранаты-лимонки, пару пироксилиновых шашек с взрывателями, кучу ружейных патронов и, наконец, масленку из-под ружейного масла. Отвернув пробку, он вытряхнул на ладонь какую-то черную массу и, поплевав на нее, старательно растер ее пальцем.
— На, — сказал он Маринке. — Клади ему на голова, завтра будет здоров.
— Что ты, Миша! Бог с тобой! — Маринка махнула на него обеими руками. — Что я, дурная?
— Бери, бери! — с убеждением говорил Миша. — Самый лучший лекарство. Мой дед учил. Мой дед вместе с Шамиль воевал. Всегда так лечил. Я кавказский человек, я врать не буду.
— Нет! — решительно сказала Маринка. — Я и так обойдусь. Я за него сама отвечаю, — кивнула она на Митьку, который с улыбкой смотрел на Мишу Казачка.
— Ва! — Миша фыркнул на нее, как кот на собаку. — Какой ты упрямый!.. Ну, куда братва пошел? — спросил он, поднимаясь.
— Да я, право, не знаю, — сказала Маринка. — Должно быть там, — показала она на окраину села, где все сильнее разгорался пожар.
Миша, несмотря на свои пожилые годы, легко кинул в седло тучное тело и пустил лошадь вскачь по дороге.
Вокруг пожарища шумела толпа. Покрывая треск горящего дерева, слышался возбужденный говор и крики. Красноармейцы, руководимые Ладыгиным, сноровисто разбирали соседние мазанки-хаты. По всем улицам с ведрами и баграми бежали люди, хоронившиеся во время боя в погребах и подвалах.
Миша слез с лошади и, привязав ее к плетню, вошел в большой двор горевшего дома. Тут было полно народу. Бойцы, став цепочкой от колодца к дверям, передавали из рук в руки ведра с водой.
— Кто зажег? Зачем зажег? — спросил Миша у Климова, который первым попался навстречу ему.
— А пес его знает, — сказал спокойно трубач, — но не иначе, как Махно. Жители сказывали, что в доме есть пленные.
— Зачем стоим? Все пойдем! Вперед пойдем! Надо пленных выручать! — заволновался Миша, размахивая руками.
— А там уже есть наши, — успокоил Климов.
В это время послышались крики:
— Воды! Воды давай!
На пороге показалась худощавая фигура Ильвачева. Следом за ним шел Харламов. Они несли босого человека со связанными руками и ногами.
— Нате, принимайте, ребята! — хрипло сказал Харламов, передавая человека на руки бойцам. — А ну, ладней! Под спину берись… Воды! Воды комиссару! — вскрикнул он, увидя, что Ильвачев медленно валится на землю.
Красноармейцы подхватили Ильвачева под руки.
— Харламов, а там еще люди есть? — тревожно спросил чей-то голос.
— Есть еще один человек… Кричал… В дыму-то не увидишь. Зараз опять пойду… Фу, угорели мы с комиссаром. Дайте воды! — Он нагнулся и, широко расставив ноги, припал к ведру.
— Лей на меня! — приказал Миша Казачок с таким решительным видом, что несколько бойцов разом окатили его.
Он крикнул что-то и взбежал по ступенькам крыльца.
— Стой! Стой! Куда?.. Зачем Мишу пустили! Сгорит! — закричали бойцы.
Но Миша Казачок уже исчез среди дыма и пламени.
Во двор быстрыми шагами вошел Бочкарев.
— Ну, как, товарищи? — спросил он ближайших бойцов.
— Разрешитя доложить, товарищ комиссар, — сказал Сачков. — Одного человека спасли. Тольки как бы не мертвый.
— Где он?
— А эвот лежит, — показал Сачков.
Около колодца лежал длинный худой человек с закрытыми глазами, плотно сжатыми губами. Его крупное морщинистое бритое лицо было безжизненно. Кузьмич сидел подле него и слушал пульс.
— Ну, что, товарищ лекпом? — спросил Бочкарев, подходя. — Можно спасти?
— Факт… Сейчас отойдет… Это нам ничего не стоит, — забормотал Кузьмич, с сомнением поглядывая на лежавшего. — Гм, пульс вроде очень быстрый. Видать, угорел здорово. Факт!..
— Несет! Несет! — закричали бойцы.
Миша Казачок, с опаленными усами, весь черный от дыма и сажи, бережно прижимая к груди, нес связанного полуобнаженного человека.
Бойцы расступались, освобождая дорогу.
— Ой, какой хлопчик красивенький! — сказал нараспев молоденький красноармеец в буденовке, заглядывая в закинутую голову спасенного. — А худой-то какой!
— А ну, ребята, позволь! — строго говорил Кузьмич, пробираясь вперед. — Расступись, говорю! Дайте человеку пособие оказать!
Миша Казачок прошел через двор и, поискав место почище, осторожно опустил свою ношу в тени у плетня.
— Баба, ребята! — в один голос ахнули бойцы, увидев маленькие, как опрокинутые чашечки, круглые груди.
Бочкарев быстро снял брезентовый плащ и прикрыл тело девушки.
— Мертвая, что ли?
— Дай ей чего, товарищ доктор!
— Тише! Не напирайте, братва! Человека задавите! — взволнованно заговорили бойцы.
Кузьмич присел, ловко отер темную пену с пухлых губ девушки и, взяв ее маленькую руку, попробовал пульс.
Не открывая глаз, она пошевелила губами.
Кузьмич торопливо вынул из сумки склянку с лекарством и поднес к лицу девушки. Веки ее дрогнули, из груди вырвался стон, и она, чуть приоткрыв глаза, обвела затуманенным взглядом бойцов.
— Товарищи, наши… — прошептала она тихим радостным голосом.
Петька стоял перед Ладыгиным.
— Так ведь ты же бандит? У Махно служил, — говорил Иван Ильич, пристально глядя на него.
— Это уж как вам будет угодно, товарищ командир, только я не бандит, а мирный житель, — сказал Петька.
— Но ведь ты сам говоришь, что служил у Махно, — заметил Ладыгин.
— Я и не скрываю. Зачем врать! Я прямо говорю. Я ж по эту сторону фронта находился и не мог сразу к красным поступить. А потом слушок прошел, будто Махно с Деникиным воюет. Вот я, значит, и поступил до него… И был-то я у него без году неделю. Кого хотите спросите… И чего мне с ними служить! Я бедный человек, а они как есть все живоглоты-кулаки. Там у них еще эти есть… волосатые, в шляпах, в золотых очках.
— Анархисты?
— Вот-вот. Мы их «раклом» обзывали.
— Что это еще за ракло?
— Ну… как бы сказать… самое что ни на есть ползучее гадство. Наипервейшие воры и выпивахи. У каждого тачанка, а на ней полно барахла. А ходят! — Петька усмехнулся. — Кто летом в шубах, кто в бабских сподниках с кружевом. Срам смотреть, одним словом. Да ну их, товарищ командир! Не по пути мне с ними.
— Добре. А ты сам откуда?
— Одесский.
— Далеко же, братец, тебя занесло!
— А я что, бедный Тришка — забрал свое ничего да в другую деревню.
— Ты, я вижу, братец, шутник.
— У нас в Одессе все шутники.
— Ну вот что. Я тебя возьму на испытание. Но поимей в виду: если только что замечу, то этой самой рукой расстреляю.
— Не извольте беспокоиться. Замечаний не будет.
— Ильвачев, возьмем, что ли, его? Пусть послужит.
— Возьмем. Только ты, парень, смотри во всех отношениях, а не то плохо будет.
— Будьте благонадежны.
— Ну, добре. Поди пока за воротами посиди. Потом я тебя позову.
Петька с веселым видом пошел со двора. Теперь для него начиналась новая жизнь, чем он был очень доволен.
X
Когда Вихров открыл глаза, то первое, что он почувствовал, было ощущение движения. Вместе с легким потряхиванием он слышал стук колес по мягкой дороге и старался вспомнить, что с ним и почему он лежит.
Прямо над его головой, напоминая следы прошедшего по росистой траве человека, стояли Стожары. Начинало светать. Звезды, слабо мерцая, опускались по небосклону и постепенно угасали в тумане. Вихров лежал на спине и, словно пробуждаясь от глубокого сна, прислушивался к окружающим звукам. Все вокруг него двигалось и шевелилось: казалось, что рядом шумно катился поток. По правой обочине дороги бесконечной вереницей шагом двигались всадники. Вихров хотел было посмотреть, повернулся и застонал, почувствовав острую боль в голове.
— Лежи тихо! — с повелительной ласковостью сказал рядом с ним молодой женский голос.
Потом над ним кто-то склонился, и он увидел круглое лицо с небольшим носиком и спускавшейся на низенький лоб затейливой чолочкой.
— Кто ты? — спросил он.
— Я? Дуська! Не признал, что ль, соколик?
— Ты в околотке работаешь?
Дуська засмеялась, показывая мелкие ровные зубы.
— Чудно! Я с ним всю дорогу еду, а он будто в первый раз меня видит… Ну, как, полегчало тебе?
— Постой, Дуся, а почему я лежу?
— Так тебя же Махно подранил.
— Ах, да! — воскликнул Вихров и вдруг вспомнил все с отчетливой ясностью.
Теперь он узнал и сидевшую рядом с ним маленькую и кругленькую, как шарик, санитарку с мощной надиво грудью и всегда веселым лицом.
— Слушай, Дуся: из моих ребят никого не убили? — спросил он с тревогой.
— Ты за тот раз говоришь? — наморщив лоб и что-то соображая, спросила она. — Нет, тогда никого. А вот недели две назад был сильный бой с Махно, так Митьку Лопатина здорово в голову поранили. Ну, а сейчас он ничего, во взвод вернулся… Мы думали, помрешь ты, — помолчав, заговорила она. — Здорово они тебя по голове саданули…, Мы всю дорогу — я, Маринка и еще одна новенькая — едем с тобой.
— Какая новенькая?
— У Махно отбили. Сашей звать. Вот хорошая девочка! Ласковая да добрая. Учителева дочка. Я таких еще не видывала… это она и упросила, чтоб тебя вместе с полком на линейке везли. Врач-то хотел тебя в Екатеринославле оставить.
— А разве мы проехали его?
— Эва хватился! Да мы уж к Елисаветграду подходим. Спешим. Верст по семьдесят чешем. Пилсудский Киев забрал. Слышал, небось?
— Какое же сегодня число?
— Двадцатое мая.
— Как же вы эту новенькую отбили? — поинтересовался Вихров.
— Да так и отбили. Тут, видишь, дело какое. Саша-то в Житомир к бабушке ехала. А та за это время померла. Ну, куда ей деваться? Знакомых в городе нет. Давай домой пробираться. А тут деньги вышли. Нуте-ка… Да. Приезжает в Запорожье. Пошла на базар шубку продавать. Ну, а махновцы и залобовали ее. Привозят до самого злодея. Он ее сильничать хотел, а она с ножом на него. Хотела в сердце, да в руку попала. Говорят, он досе подвязанный ходит. Нуте-ка. Да вот, значит, она его ударила, а он, злодей, приказал ее живой в землю зарыть. Тут аккурат и мы подоспели. А злодеи дом запалили. Миша Казачок ее почти мертвую вынес. Всю побили проклятые. А волосики на затылке как есть все были повыдерганы… Комиссар Бочкарев хотел ее по просветительной части, а она ни в какую. Хочу, говорит, быть в строю. Ну и в санитарную часть определили. Теперь она у нас заместо сестры. Лопатин ее раньше знал, вместе в поезде ехали. То-то они друг дружке обрадовались!.. Там еще одного человека отбили. Очень серьезный товарищ. Партийный. Товарищ Гобаренко фамилия. Он у нас теперь по хозяйственной части. Квартирмистом. Ребята наши им очень даже довольны. Заботливый. Мне вот буденовку новую дал…
Дуська замолчала, достала из нагрудного кармана осколок зеркальца и стала кокетливо выправлять из-под буденовки чолочку.
Рассветало. На горизонте в потоках золотисто-алого света вставало солнце. На траве засверкала роса. Со степи потянуло прохладой.
— Вон Морозов с Бахтуровым на горке стоят, — показала Дуська.
— Как бы мне посмотреть? — попросил Вихров.
— Подожди. Ты только головой не верти. Я тебя подниму… Ну-ка! Видишь теперь?
Справа от дороги стояли на пригорке начдив Морозов и только что назначенный в дивизию Бахтуров.
— Дуся, а кто такой Бахтуров? — спросил Вихров.
— К нам комиссаром назначен. Хрулеву-то повышение вышло. Ну, насмотрелся? Ложись! — Дуська осторожно опустила Вихрова на набитую сеном подушку.
Они помолчали. Линейка продолжала катиться по пыльной дороге. Вдали, под горой, показалось большое село.
— Счастливый ты, — после некоторого молчания сказала Дуська, внимательно посмотрев на Вихрова.
— Почему?
— Красивый.
— Не в этом счастье, Дуся.
— В этом, в этом! — настойчиво сказала она. — Гляди, как Саша убивалась, плакала над тобой, когда ты было помер. А кому я, такая толстая, нужна!.. Меня дивчата колбасиком зовут.
— Кому что нравится.
— А ты каких любишь, соколик?
Вихров пожал плечами и ничего не ответил.
— Сколько лет-то тебе? — спросила она.
— Восемнадцать.
— А я старей тебя на целый год. Да… Я уже два раза замужем была. Первого мужа у меня Краснов убил. Он взводным был. Такой фартовый парень. Кавалерист, одним словом… Потом за другого вышла. Сдуру-то не рассмотрела, что он за человек, и выскочила. Сестра присоветовала. И вот какое дело получилось. Возвращаюсь раз домой, я тогда еще в госпитале работала, раненых отвозила, а соседка говорит: «Твой дома не ночевал». Ну, я, конечно дело, как следывает пошумела на него. Вашему брату нельзя ведь большой воли давать. А он и говорит: «Собирай мои манатки — ухожу». Ну, собрала я ему манатки и говорю: «Смотри, Павлуша, не плюй в колодец — пригодится воды напиться». А он: «Подумаешь! В этот плюнул — другой найду, а нет, так перешагну и еще найду, а потом еще». С тем и ушел. И вот аккурат перед походом письмо прислал. Пишет: «Правильно, Дуся, ты говорила — не плюй в колодец. Не нашел я никого лучше тебя. Нельзя ли мне возворотиться к тебе?» А я ему хоть бы пустой клочок бумаги послала. Фиг, ничего! Ну его к лешему, раз он так поступил…
Дуська замолчала и, подперев кулачком розовую щеку, о чем-то задумалась.
— Конечно, хорошо постоянно при себе мужика иметь, — снова заговорила она. — Все же, как за каменной стеной. И любить человека приятно… Вон их сколько, мальчиков, едет, — кивнула она на колонну, — целый полк, а я их всех люблю. Я все равно как мать для них. А они, мужики, не понимают, каждый со своей любовью лезет…
Дуська вздохнула, словно сказала: «Ох, уж мне эти мужики!»
— Значит, больше замуж не пойдешь? — спросил Вихров.
Дуська бросила на него быстрый взгляд.
— Почему! Пойду, если хорошего человека найду.
Она провела несколько раз по лбу Вихрова теплой мягкой ладонью, а сама подумала: «Господи, господи, если б мне такого мужа!..»
Позади них послышался конский топот. Ровняя свою лошадь с линейкой, к Вихрову подъехала незнакомая девушка. Она перегнулась с седла и, заглядывая в его глаза своими глубокими синими глазами, излучавшими, казалось, необыкновенную ласку, тихо спросила:
— Ну, как вы себя чувствуете?
Это обращение и весь ее какой-то солнечный облик так приятно поразили его, что он в первую минуту не знал, что и ответить, и только с благодарностью смотрел на нее.
— Ну, как, лучше вам? — снова спросила Сашенька.
— Да. Благодарю вас за все, — сказал Вихров.
— За что?
— Вы сами знаете…
Было далеко за полдень. Солнце палило. Полк с музыкой и песнями входил в село. Горячая пыль клубилась под копытами лошадей, поднималась в воздух и тяжелой тучей плыла над улицей. Навстречу стайкой шустрых воробьев, крича на разные голоса и махая руками, неслись босоногие ребятишки.
Подле хат кучками толпился народ. Крестьяне, переговариваясь между собой, с любопытством поглядывали на буденновцев.
Голова полковой колонны завернула на площадь. Впереди послышался громкий голос Панкеева. Ивану Ильичу было видно, как передние остановились и начали спешиваться. Он придержал Мишку и, повернувшись к эскадрону, подал команду:
— Сто-ой!.. Слеза-а-ай!.. Разводи по квартирам!
Бойцы, переговариваясь с высыпавшими на улицу девушками, с шутками и смехом разводили лошадей по дворам.
Харламов спешился, отпустил подпруги и, кликнув Митьку, повел лошадь к одиноко стоявшей хатке под соломенной крышей.
Когда они ввели лошадей во двор, их чуть не сшиб с ног выбежавший из хаты хозяин — немолодой уже человек с заботливо закрученными кверху усами.
— Товарищи! Ах, братцы, мои родненькие! — приговаривал он, то обнимая Харламова, то прихватывая другой рукой Митьку. — Як же я вам радый! Ось довелось побачиться. Я те ж в кавалерии действительную служил.
— Кавалерист, стал быть? — улыбаясь и показывая белые зубы, ярко сверкавшие на черном, покрытом пылью и потом лице, спросил Харламов.
— Лейб-гусарского Павлоградского имени Денис Давыдова полка младший унтер-офицер Евтушенко! — одним духом выпалил хозяин. — Эх, братцы, — продолжал он, — як побачу кавалерию, так аж сердце зайдется. Вот, ей-богу, зараз пишов бы до вас служить, та хозяйка в мене хворая, до лекарни отвиз… Эх, як же це я забалакався, та наиважнейше забув! — вдруг спохватился он. — А ну, проводьте коней.
Хозяин показал, где поставить лошадей, потом принес большую охапку душистого сена и, вытянув из колодца ведро воды, пригласил бойцов помыться с дороги.
— Так вы, братцы-товарищи, располагайтесь, як будто до дому заихалы, — говорил он, поливая из ведра на руки бойцам. — А мене до хозяйки треба. Я до вечера повернусь, а вы почивайте.
На крыльцо вышла черноволосая высокая девушка.
— Олеся, дочка моя, — пояснил хозяин Харламову, который, вытерев лицо суровым, расшитым по краям полотенцем, с любопытством смотрел на девушку. — Доченька, ты цих товарищей привечай. Нагортуй им добренько та ко́ней не забувай.
Пообещав к вечеру обязательно возвратиться домой, хозяин запряг в телегу добрую, сытую лошадь и, прихватив баул «со сниданием для хозяйки», как он пояснил, рысью выехал за ворота, чуть не зацепив колесом Сачкова, который было уже шагнул во двор.
— Ну, как, ребята, с квартирой? — спросил Сачков, входя к ним и оглядывая небольшой уютный двор.
— Хорошо товарищ взводный. Хозяин дюже приветливый, — ответил Харламов.
— Да и дочка у него неплохая, — улыбнулся Митька. — Ко́ням в сено муки подмешала.
— Так вот, ребята, знаетя что? Я до вас еще одного человечка поставлю, — сказал Сачков.
— Кого это? — спросил Харламов.
— Новенького.
— Кривого, что ль?
— Да.
— Ну его, взводный! Места, что ль, ему нехватило?
— Да нет. Не успел встать на квартиру, как с хозяйкой поругалси. А при тебе, Харламов, ему быть, как я понимаю, спокойнее.
— Я все ж не пойму, взводный: на кой таких добровольцев принимают? — с недовольным видом сказал Харламов.
— Пострадавший он. В плену у Деникина был. Сказывают, пытали его. Так что, ребята, вы его не гоните. Со штаба полка ведь прислали.
— Ну, нехай идет, — согласился Харламов. — Только я хотел до Крутухи зайти.
— А чего он тебе занадобился?
— Хвалился — табаку хорошего достал.
— Ну что ж, сходи. Лопатин-то здесь будет?
— Тут.
— Ну и порядок… Так ты, Лопатин, смотри, — обратился Сачков к Митьке. — Смотри, чтоб новенький этот и с вашей хозяйкой не поругался.
— Будьте благонадежны, товарищ взводный, — успокоил Митька. — Как-нибудь договоримся.
— Ну, то-то… Да, ребята: Сидоркива не видали?
— Нет, товарищ взводный, не было, — сказал Харламов. — А на что он вам?
— Со штаба полка приказ — выделить коновода квартирмисту товарищу Гобаренко. Так командир эскадрона приказал Сидоркина послать.
— Зачем же такую заразу посылать? — удивился Митька.
Сачков укоризненно покачал головой.
— Какой же ты непонятливый! Товарищ Гобаренко человек серьезный, партейный. Воли ему не даст. А за одним только глядеть — это ведь не за взводом. Смотришь, и исправится, человеком станет.
— А ведь верно, — сказал Митька. — Как это я недодумал!
Сачков и Харламов пошли со двора.
Кузьмич и Климов с мрачным видом сидели на лавочке за воротами. С обедом у них явно не ладилось. Короче говоря, они попали на плохую квартиру.
— Это, факт, вы виноваты, Василий Прокопыч, — гудел недовольным басом Кузьмич. — Вы сказали: вот, мол, хороший дом, встанем здесь. Вот и встали на свою голову. Теперь будем, факт, не евши сидеть.
— Да подите вы, Федор Кузьмич, — спокойно отвечал Климов. — Вы завсегда валите на других. Я только вошел в хату, гляжу: вредная бабка, у такой не разживешься, и говорю вам: давайте переменим квартиру, а вы сказали: ничего, обойдется.
— Нет, это вы так сказали, Василий Прокопыч.
— Нет, вы!
— Вы!
— Ну и пес с ним, — отмахнулся трубач. — Вам виднее. Что пустое толковать. Вы бы, Федор Кузьмич, лучше пошли по деревне. Может, хворые есть. Всё разжились бы кое-чего.
Лекпом смолчал. Он был тяжел на подъем. А так как он не ел со вчерашнего дня, то у него вообще не было желания двигаться.
Вблизи послышались шаги. Приятели подняли головы. По улице шел Харламов.
— Доброго здоровья, товарищ доктор! — весело поздоровался он, подходя и присаживаясь сбоку на лавочку. — Здравствуй, Василий Прокопыч, — кивнул он трубачу.
— Здорово, — мрачно ответил лекпом.
— Чтой-то вы невеселые? — поинтересовался Харламов.
— Какое может быть веселье, когда в брюхе пусто! — с хмурым видом прогудел Кузьмич. — Человеку первое дело поесть надо. А мы с ним, — показал он на Климова, — со вчерашнего вечера не евши.
— Не может быть, — удивился Харламов. — Лучший дом на селе, а вы голодные? Гляди богатство какое.
Он поднялся с лавочки, оглядывая большой новый дом под железной крышей с коньками.
— В том-то и дело, что богатый. Самые живоглоты живут, — сказал Кузьмич. — Одних коров шесть штук, да овец, да коней сколько. Нет, больше, факт, у богатых не встану.
— А хозяин где?
— В подводах. Дома хозяйка с дочкой.
— Стал быть, не дюже приветили?
— Воды не выпросишь.
Харламов нахмурился.
— Да-а. Скажи-ка, дело какое… Ну что ж, пошли, товарищ доктор, я вас накормлю.
— Далеко ли итти?
— Да на вашу квартиру.
Кузьмич с досадой махнул рукой:
— Чего зря ходить! Ничего не даст вредная бабка.
— Я за них, за вредных бабок, рыбье слово знаю, — успокоил Харламов. — Пошли в хату. Я верно говорю. Только вы, товарищ доктор, очки свои наденьте.
— Пойдемте, Федор Кузьмич, — поддержал Климов. — Он ведь такой… знает, где у чорта хвост.
Лекпом посмотрел на Харламова, на Климова и вдруг поднялся с лавочки.
— Пошли! — сказал он решительно.
Гремя шашкой по ступенькам, Кузьмич первым взошел на крыльцо, толкнул дверь и ступил через порог. Посреди хаты статная молодайка, высоко подоткнув юбки, подтирала пол тряпкой.
— Ноги-то вытирайте! — сердито сказала она.
— Чтой-то ты, любушка, такая сердитая? — спросил Харламов.
Молодайка сердито сдвинула брови.
— Ходют тут всякие!
Кузьмич солидно покашлял, опустился на лавку и стал оглядывать стены. Климов, покривив душой, покрестился на образа и присел на табуретку против лекпома.
Некоторое время длилось молчание.
Кузьмич еще раз покашлял с внушительным видом, не спеша надел очки и важно вынул из кармана газету.
Молодайка насмешливо фыркнула. Лекпом поверх очков бросил строгий взгляд на нее и, развернув газету, углубился в чтение.
Дверь скрипнула. В хату вошла дородная старуха с ведром в руках. Недоброжелательно косясь на гостей, она вылила воду в кадушку и, зачерпнув ковшиком, принялась мыть узловатые руки.
— Бабуся! — весело заговорил Харламов. — Вот товарищ доктор. Они не евши со вчерашнего дня. Так что собери-ка нам пообедать.
Старуха, разжав поджатые губы, мрачно сказала:
— Мы с дочерью позабыли, когда и сами обедали. Ничего у нас нет. Всё съели ваши солдаты. Сами голодные.
— Да что-то не похоже, чтоб дочка твоя оголодала, — заметил Харламов.
Он еще раз оглядел хату, как вдруг лицо его просветлело: на лежанке спал большой гладкий кот.
Харламов посмотрел на лекпома, перехватил его взгляд и значительно кивнул на лежанку.
— Товарищ доктор, — громко сказал он, — вы кушали когда котов?
— Факт! — не сморгнув, сказал Кузьмич, с лукавым видом поглядывая из-за газеты. — Это, можно сказать, самое лучшее мясо. Чистый филей! Кот, если его ладно зажарить, вкуснее гуся. Да что там гуся! За этакого кота, — показал он на лежанку, — не жаль отдать дару хороших курей.
— Так об чем речь! — пожал плечами Харламов. Он засучил рукава, подошел к лежанке и взял за шиворот кота. — Ого! — сказал он, тая улыбку в глазах. — Кот важнецкий. Благородных кровей. И обедает, видать, каждый день. Ишь, пушистый какой. Та-ак… Сейчас мы его на сковородку, а шкурку на кубанку… Бабуся! — позвал он старуху. — Дай-ка нож поострей.
— Это чего ж вы хотите делать-то? — не веря глазам, все еще сердито спросила старуха.
— Кота жарить будем. Мы и тебя с дочкой накормим, раз вы голодные, — спокойно сказал Харламов, искоса поглядывая на молодайку, которая, раскрыв рот, молча смотрела на него.
— Цари-ица моя! Да нетто мыслимо это? Да я уж лучше чего-нибудь пошукаю, может, найду, — заговорила старуха.
— Нет уж, бабуся, не надо, — твердо сказал Харламов. — Мы дюже охочие до котового мяса. А этот кот всем котам кот. Эвон гладкий какой. Самое сало.
Говоря это, он держал кота на весу. Кот, словно знал, о чем идет речь, угрожающе шипел, как змея, топорщил усы и делал страшные рожи, поджав широкий хвост к пушистому брюху.
— Зачем же, товарищи, котика резать? — вдруг ласково заговорила старуха. — Жалко. Животная ведь.
— А ты, бабуся, видать, дюже жалостливая?
— Уж такая я жалостливая, что, скажи, другой такой не сыскать.
— Ну, раз ты такая жалостливая, то не пожалеешь за котика фунта два сала?
— А нешто…
— А борща дашь?
— И борща дам.
Харламов замолчал, словно в раздумье.
— Ну что ж, товарищ доктор, в таком разе, пожалуй, пустим его, а? Как ваше мнение? — спросил он, повертываясь к Кузьмичу.
— Да по мне, факт, можно пустить, — согласился Кузьмич. — Как с вашей точки, Василий Прокопыч?
— Раз бабка выкуп дает, можно пустить, — тихо буркнул трубач.
— Ну, ежели все согласные, то так уж и быть. Да… Берите, бабуся, вашего котика, — с деланным сожалением в голосе сказал Харламов, выпуская шарахнувшегося под печку кота. — Только побыстрей соберите нам пообедать. И побольше: у товарища доктора аппетит знаменитый.
Шлепая босыми ногами, старуха поспешно подошла к печке и открыла заслонку.
Кузьмич сглотнул слюну — в хате запахло борщом…
Плотно пообедав и на всякий случай договорившись об ужине, они вышли на улицу.
— А насчет кота ты ловко придумал, — с довольным видом ковыряя в зубах, сказал Кузьмин обращаясь к Харламову. — Ишь, вредная бабка, чорт ее забодай! И чего только не было в печке! А прибеднялась-то как.
— Чем люди богаче, тем жаднее, — заметил Харламов. — Бедный-то скорее последнее отдаст… Я вот, товарищ доктор, как Донбасс проходили, у одного шахтера заночевал, так у него у самого ничего не было, а мне на дорогу последнюю корку насильно совал.
— Н-да! — с довольным видом протянул Кузьмич и, благодушествуя, загудел под нос песенку, которую слышал в Ростове:
У кошки четыре ноги И длинный хвост, Но тронуть ее никто не моги, Несмотря на маленький рост.— Товарищ доктор, может, дойдем до эскадрона? — предложил Харламов. — Там ребята собирались на площади танцы изладить.
— Ну что ж ты раньше не сказал? Я б тогда ел поменьше, — с огорчением в голосе сказал Кузьмич. Но в глубине души он был очень доволен, что у него есть предлог отказаться от лишних движений. — Куда ж теперь после обеда! Нет, уж мы лучше с Василием Прокопычем соснем немного. Да после обеда оно и не мешает. Факт. На это и медицина указывает, — заключил он, поглаживая себя по толстому, как котел, животу.
— Ну, так счастливо оставаться, — Харламов кивнул и пошел по улице.
Навстречу ему показался человек. Он то бежал, то, переводя дух, быстро шел, размахивая руками. «Крутуха никак? — подумал Харламов, вглядываясь в приближавшегося человека. — Ну да, он самый!»
— Харламов! — еще издали крикнул Крутуха, приметив товарища. — Харламов, слышь-ка, наши приехали!
— Какие наши? Откуда? — с любопытством спросил Харламов, когда Крутуха, тяжело дыша, подбежал к нему с мокрым от пота, веселым лицом.
— Да казаки наши. Те, что-сь на Дону пооставались, — сказал Крутуха задыхающимся от волнения голосом.
— Ну?! И Назаров приехал? — радостно вскрикнул Харламов.
— Все! Все вернулись! И Назаров, и Хвыля, и Дрозд, и Задорожный.
— Где они?
— На майдане, — показал Крутуха в сторону сельской площади, откуда, теперь было слышно, плыл приглушенный гул голосов.
На площади, у церковной ограды, шумела толпа красноармейцев. Со всех сторон по одному, по-двое и чуть не целыми взводами на площадь сбегались бойцы.
Возбужденно размахивая руками, они лезли на плечи товарищей, жадно заглядывали через головы впереди стоявших.
В середине стояло несколько донских казаков. Один из них, пожилой, с сильно тронутым оспой лицом, с огромным чубом и блестевшей в ухе серьгой, смущенно улыбался и, разводя руками, что-то говорил, видно оправдывался.
— Ты скажи, Назаров, как сюда добрались? — спросил боец с забинтованной головой.
— Тише, братва, не слыхать! — крикнул голос из задних рядов.
— Назаров, братушка, стань повыше!
Несколько услужливых рук подкатили тачанку. Назаров смаху взлетел на нее, поднял руки и гаркнул на всю площадь:
— Ребята! Товарищи! Во первых словах прошу нас не виноватить… Вы не серчайте, братва. По несознательности на Дону мы остались. Дюже не хотели с своей земли уходить. Думали так: побили Деникина, и с нас, значица, хватит, а с панами нехай бьются другие… А потом в Ростове на митинге, когда товарищ Ворошилов выступал и душевно так говорил, мы здесь же в народе стояли и всё слышали… Я тогда ищо хотел воротиться, да перед станичниками, совестно было, вместе уговорились остаться…
Назаров перевел дух и провел рукой по светлым усам.
— А ты скажи, как до полка добрались? — снова спросил боец с забинтованной головой.
— Давай, давай по порядку! — закричали вокруг.
— И вот, товарищи, — продолжал Назаров, — как вы, значица, уехали, у меня в грудях будто что оборвалось. Своя, можно сказать, родная буденная армия уходит, а мы остаемся. И поняли мы, товарищи бойцы, что свою шкуру поставили выше народного дела, но ежли обратно сказать, то поздно это сознали. За это мы виноватые и готовы понести что следовает. Да. Собралось нас человек триста, а кубыть и поболе, догонять буденную армию. Пришли в Ростове до коменданта. Он нам — вагоны. Вот и поехали… Доезжаем до Харькова. Там трое суток стояли. А потом добрались сюда. Потом ищо и подводами ехали — полки искали. И вот, значит, нашли… — Назаров поднял руку и громко закончил: — И будем, товарищи, вместе биться до полной победы! А командиров попросим: пущай посылают нас в самый огонь. — Он махнул рукой и спрыгнул с тачанки.
Бойцы зашевелились, освобождая кому-то дорогу. К тачанке торопливо шел Иван Ильич.
— Назаров, чорт, вернулся-таки? — крикнул он весело. — Добре! А ведь я это знал. Не гадал только, что так быстро вернетесь.
У Назарова потемнело лицо, он опустил голову.
— Виноваты, командир, — тихо сказал он.
К сердцу Ладыгина подступила теплая волна:
— Ну? А я и не серчаю…
Казак поднял голову, заблестевшими глазами взглянул на командира эскадрона и порывисто шагнул к нему.
— Ну, давай уж! — сказал Иван Ильич, широко разводя руки.
Они крепко обнялись.
Наступившая вдруг тишина прорвалась буйными криками. Буденновцы подхватили Ладыгина и Назарова на руки. Под веселый гул голосов и крики «ура» они высоко взлетели в воздух.
Когда Назарова поставили на ноги, он благодарно оглядел близ стоявших бойцов и ударил себя в грудь кулаком.
— Ну, братва, жизню отдам! — проговорил он вдруг дрогнувшим голосом.
Он хотел еще что-то сказать, но только всхлипнул и быстро провел рукой по глазам.
Отвечая на сыпавшиеся со всех сторон вопросы, пожимая десятки рук, Назаров ощущал, как большое и радостное чувство все сильнее охватывало и заполняло его. Предательские слезы застилали глаза, и он, как в тумане, видел вокруг улыбающиеся лица товарищей.
— Станица, здорово! — послышался знакомый полос Харламова.
— Степан! Здорово, братуха! — вскрикнул Назаров, узнавая приятеля и дружески похлопывая его по плечу.
— Ну, как мои там? — спросил Харламов. — Мать, отец живые?
— Слава богу. Живут. Поклон посылали.
— Ну, в час добрый! — Харламов оглянулся по сторонам, увидел, что бойцы совсем затормошили прибывших, и весело крикнул: — Ребята, да не тяните вы их за душу! Нехай отдохнут! Разбирай гостей по квартирам!
Красноармейцы, шумно разговаривая, гурьбой повалили по улице.
— Ты с кем на квартире, Степан? — спросил Назаров, когда, свернув мимо церкви, они стали спускаться к мосту, переброшенному через узкую речку.
— А мы с Митькой Лопатиным да с новеньким встали.
— Что, пополнение прибыло?
— Нет. Доброволец. Надысь к нам поступил. Вон в этой халупе стоим, — показал Харламов на маленький домик под соломенной крышей.
Он оглянулся, подозвал идущего позади Митьку, шепнул ему что-то на ухо и легонько толкнул его в спину. Митька, обгоняя бойцов, рысцою затрусил через мост.
Назаров вошел во двор первым.
У плетня перебирали сено расседланные лошади. Тут же на жердях лежали седла вверх потниками. На сложенных в углу двора бревнах сидел Сидоркин, свесив ноги в лакированных сапогах. Подле него стоял Афонька Кривой. Они, видимо, о чем-то беседовали и теперь, подняв головы, смотрели на вошедших.
— Здорово, братва! — поздоровался Назаров, бросив на Афоньку изучающий взгляд.
— Сидоркин! — окликнул Харламов.
— Ну?
— Взводного видел?
— Видел.
— Так тебя с назначением?
Сидоркин молча сплюнул сквозь зубы.
Назаров шагнул на крыльцо и вошел в хату.
— Энтот и есть новенький доброволец? — спросил он у вошедшего вслед за ним Харламова.
— Он самый.
— Ну и личность у него! А глаз-то будто штопором вынутый. Кто он такой?
— От Шкуро пострадавший. В плену был. Говорит, пытали его. Комэск документы смотрел. С восемнадцатого года в Красной Армии.
— Ну, ну. Все может быть…
Назаров вынул из кармана кисет и стал свертывать папиросу.
— Погоди, Василий, курить. Зараз будем обедать, — сказал Харламов. — А где ж наша хозяйка? Пойду пошукаю.
Он быстро направился к двери, но в сенях послышались шаги, и в хату вошла давешняя черноволосая девушка. Следом за ней показался Афонька.
— Вот и наша хозяюшка, — приветливо улыбнулся Харламов. — А ну, лапушка, собери-ка нам пообедать.
Девушка подошла к печке, вытащила большой чугунный котел и поставила его на середину стола.
— Сидайте, товарищи, — певучим голосом пригласила она, доставая из шкафчика миски и ложки.
Бойцы шумно расселись.
— Братцы, давай кто разливай, — сказал Назаров, принимая из рук девушки хлеб.
— Давай уж я разолью, — предложил Афонька.
— Ребята, погодить трошки надо, — сказал Харламов, нетерпеливо поглядывая на дверь.
В эту минуту кто-то взошел на крыльцо, послышались торопливые шаги, и в хату вошли Кузьмич и Митька.
— Никак опоздал? — тяжело отдуваясь, спросил Кузьмич, подходя к столу и вытаскивая из кармана бутылку. — Вот, ребята, полгода берег. Факт! Будто знал, что представится случай, — торжественно объявил он, ставя бутылку на стол.
Митька взял бутылку, посмотрел на свет и с опаской сказал:
— Ого, братцы, от такой штуки конь упадет.
— А казак повеселеет! — улыбаясь, подхватил Назаров. — А ну, красавица, дай-ка нам кружки.
— Дымка, что ль? — спросил Афонька, косясь на бутылку.
Кузьмич презрительно фыркнул.
— Дымка! Спирите вини ратификаты называется. Понимать надо! Крепость имеет сто пятьдесят градусов. Факт!
Харламов разлил всем, добавил из кружки воды, встал и густо откашлянул.
— Ну, братва, — начал он, держа в руке щербатую чашку, — как служил я в Питере в лейб-гвардии казачьем полку, так там офицеры на банкетах тосты поднимали. Зараз я свой тост подниму. За победу! За то, чтоб всему трудовому народу хорошо жилося на свете!
Он поднял чашку, опрокинул ее в рот, крякнул, сплюнул и опустился на стул.
Вдали послышались тонкие звуки сигнальной трубы.
— А ну, братва, навались! Седловку играют, — сказал Харламов, подвигая миску поближе.
Наступившую тишину нарушал лишь дружный стук ложек. Афонька жадно хлебал, отдуваясь и громко отрыгивая.
— Ишь, зарыгал. Тишком не можешь? — сердито сказал Харламов. — У людей аппетит отбиваешь.
— Это из него серость выходит — завтра барином будет, — усмехнулся Митька.
Снаружи послышались шаги. Харламов посмотрел в окно.
— Взводный идет, — сказал он вполголоса. — Давай, ребята, скорей.
Сачков подошел к хате, вскочил на завалинку да заглянул в окно:
— Обедаетя? Ну, ну… Только чтоб через пять минут были готовы…
Стоя на стременах, Климов трубил сбор.
Свежий ветерок шевелил его рыжие с сединкой усы и опущенные концы суконного шлема. Из боковых улиц к площади тянулись бойцы.
Харламов привычным движением накинул седло и повел со двора игравшую лошадь. Следом за ним вышел Митька.
— Ишь, леший, надулся! — кричал Афонька, ударяя кулаком по сытому брюху саврасого жеребца.
Он с силой дернул подпругу. Жеребец прижал уши, оскалился, изогнувшись щукой, мотнул головой.
— Но, но! — крикнул Афонька. — Я те кусну… Наел пузо, идол…
Катившийся по земле конский топот, замирая, удалялся к окраине. Издали доносился припев старинной запорожской песни:
Гей, чи пан, чи пропав, Двичи не вмираты, Гей, гей, браты, до зброи.Афонька прислушался, накинул поводья на плетень и вбежал в избу. Не обращая внимания на девушку, которая, стоя у стола, перетирала посуду, он с деловым видом подошел к стоявшему у стенки сундуку, присел и вынул из кармана отмычку.
— Товарищок, та шо ж вы робите? — метнувшись к нему и прижимая руки к груди, вскрикнула девушка.
Афонька сверкнул на нее глазом.
— Не мешай, ну? — Он помолчал и глухо добавил: — А скажешь кому — жизни не будет! Встань здесь и замри!
Афонька открыл замок и, сделав усилие, поднял тяжелую крышку.
— Где твой батька гроши ховает? — спросил он у девушки. — Ну, говори! А не то… — Афонька с угрожающим видом потянул из-за спины карабин.
Позади него скрипнули половицы.
Он рывком оглянулся.
В открытых дверях стоял Харламов с искаженным лицом.
— Молись, гад! — сказал он, вынимая револьвер из кобуры.
Афонька, держа в руках карабин, в упор смотрел на него.
— А тебе что, больше всех нужно? — спросил он придушенным голосом.
— Выдь с хаты!
— Не пойду!
— Ну?!
— Не запрег, не нукай!
— Выдь! Застрелю! — Харламов поднял револьвер.
Сжавшись всем телом и не спуская с Харламова острого, как сверло, злобного взгляда, Афонька стал крадучись пробираться к дверям.
Следя за каждым его движением, Харламов медленно повертывался. Он успел во-время отшатнуться: раздался грохот выстрела, пуля ударила позади него в стенку.
Афонька бешено бросился вон и, выскочив в сенцы, захлопнул дверь.
Хватаясь за щеколду, Харламов услышал дикий крик во дворе, потом там кто-то упал и забился.
Он выбежал из хаты.
Назаров и Афонька, сцепившись друг с другом, тяжело и хрипло дыша, катались, грузно обминая траву.
Харламов нагнулся над ними и, улучив момент, ударил Афоньку в висок рукояткой револьвера.
Назаров поднялся.
— Ух! Ну и здоров, гад! — сказал он, отирая потный лоб рукавом. — Было-к задушил! — Он нагнулся и машинально отряхнул с колен приставшую грязь.
Афонька лежал на боку, поджав ноги. Около его головы быстро наплывала красная лужа. Вдруг он приподнялся, поднял руку и с ненавистью взглянул на Харламова, пытаясь что-то сказать, но только пошевелил короткими, как обрубки, толстыми пальцами и с хрипом повалился на спину.
— Готов, — сказал Харламов, пнув его сапогом.
— Надо б его отсюда убрать, — заметил Назаров.
— В огороды снесем. А там жители приберут.
— Правильно. Берись за ноги.
Они подняли труп и, протащив его через двор, бросили в огороде.
Когда Назаров повернул к хате, позади него грянул выстрел.
Он оглянулся. Харламов прятал револьвер.
— Зачем стрелял? — спросил Назаров.
— Так-то вернее. А то меня было убили, а оказался живой…
Возвращаясь двором, Харламов вошел в хату.
Девушка испуганно взглянула на него.
— Не бойся, хозяюшка, — заговорил он, подойдя к ней. — Это не наш боец, а бандит, махновский сынок… Мы его в огороде кинули. Так что уж вы извиняйте.
Девушка подвинулась к нему и, прижав руки к груди, тихо сказала:.
— Ой, товарищок, який же вы добрый чоловик! Де вы в бога взялись?
Харламов молча взял ее руки, осторожно пожал и, сказав: «До свиданьица, лапушка», — вышел из хаты…
Назаров держал лошадей. Они вскочили в седла и, тронув рысью, пустились догонять эскадрон.
— Зараз доедем до комиссара, — сказал Харламов, искоса взглянув на Назарова.
— Чего?
— Доложить надо, а то так неладно.
Ильвачев и Ладыгин ехали на своем обычном месте впереди эскадрона и о чем-то тихо беседовали.
— Товарищ комиссар, — сказал Харламов, подъезжая к Ильвачеву и придерживая лошадь, которая, горячась, мотала головой, разбрызгивая пену с удил.
— В чем дело, товарищ Харламов? — спросил Ильвачев, повертываясь к Харламову и с некоторым удивлением поглядывая на необычно встревоженное лицо казака.
— Бандита ликвидировали, — коротко сказал Харламов.
— Бандита? Какого бандита? — насторожился Ладыгин.
— Кривого, что до нас поступил.
— Так вы что, убили, что ли, его? — спросил Ильвачев.
— Стал быть, так.
— Да-а, дела-а, — Ильвачев покачал головой. — Неправильно сделали. Надо было ко мне представить его.
— Стал быть, мы виноватые. Так как же — зараз нас в трибунал или как закончим войну?
— Хм… А почему вы узнали, что это бандит?
— Хозяйку грабил, оружием ей угрожал, а как я в хату вошел, он в меня с карабина ударил, а потом до Назарова кинулся.
Ильвачев и Ладыгин переглянулись.
— Так вот как получилось, — Ильвачев, посветлев лицом, ласково взглянул на Харламова. — Нет, в таком случае думаю, что судить вас не придется. Но в следующий раз, смотрите, ребята, чтоб самовольных расправ у нас не было!
— Не сомневайтесь, товарищ комиссар.
— Ну, то-то!
— Так мне можно ехать покуда? — спросил Харламов, тая улыбку в усах.
— Езжайте.
Харламов придержал лошадь и, отъехав в сторону, стал пропускать ряды мимо себя…
Часть третья
I
24 мая Конная армия вышла в район Умани. Далекий путь кончался. Армия подходила к линии фронта. По вечерам на горизонте в теплой голубеющей мгле вспыхивали зарницами короткие отблески пушечных выстрелов.
Положение на фронте казалось отчаянным. Численно слабые 12-я и 14-я армии отходили в глубь Украины.
В эти тяжелые дни в Кременчуг, где помещался штаб фронта, по поручению партии и правительства прибыл Сталин.
Над Кременчугом стояла звездная ночь. Мягкий свет месяца окутывал узкие улицы и серебрил полные воды Днепра. Вокруг было тихо. Только со станции изредка доносились гудки паровозов и грохот проходивших на фронт поездов.
Шел третий час ночи. Но в окнах стоявшего на запасном пути штабного вагона горел яркий огонь. Высокий боец-часовой тихо похаживал взад и вперед, поглядывая на окна вагона.
Внезапно на шторе мелькнула широкая тень, послышался шорох, и одно из окон опустилось. Тогда стал виден письменный стол и работавший за ним человек с темными, скрывавшими углы рта усами и трубкой в зубах. Он неторопливым движением провел по зачесанным назад черным до блеска, густым волосам, поднялся со стула и подошел к карте со множеством маленьких разноцветных флажков. Переставив какой-то флажок, он вынул изо рта трубку, провел по карте концом мундштука несколько линий и, возвратившись к столу, опустился на стул. Прикрыв рукой утомленные глаза, он с минуту просидел неподвижно, потом придвинул к себе папку с бумагами, развернул ее и взял в руку карандаш.
Со стороны станции послышались шаги. Часовой оглянулся. Придерживая шашку, к нему шел караульный начальник — низенький широкоплечий боец в лохматой папахе.
— Ну, как у тебя? — спросил он вполголоса, подойдя к часовому и пытливо посматривая на него снизу вверх.
— Порядок, товарищ начальник, — сказал высокий боец.
Низенький беспокойно глянул вокруг. Его взгляд задержался на открытом окне.
— Так и не ложился еще?
— Нет. Работает.
— И как это у него сил хватает! — покачивая головой, проговорил караульный начальник. — Которую ночь сидит до утра…
Вдали протяжно загудел паровоз. Послышался все нараставший грохот. Часто застучали колеса подходившего эшелона. Разбрасывая снопы ярких искр, поезд мчался в сторону Знаменки. Мимо замелькали черные силуэты орудий, зарядные ящики и уставившиеся оглоблями в звездное небо двуколки. Прогрохотав по стрелкам и оставив за собой длинный хвост пыли, эшелон пролетел мимо станции и скрылся за поворотом пути.
За Днепром полыхнуло бледножелтое пламя. Набежавший с реки ветерок донес едва слышный гул батарей.
У штабного вагона взад и вперед тихо ходил часовой.
Свет в окнах вагона продолжал упорно светиться. Сталин работал.
Дорога шла степью. Солнце беспощадно палило. Пыль, клубясь, поднималась из-под копыт лошадей и оседала на лицах бойцов. Каждый видел перед собой насквозь пропыленную потную спину товарища.
Харламов приподнялся на стременах и оглянулся назад. Далеко, до самого горизонта, черным потоком шла конница.
И вправо, за чуть видной на бугре сельской колокольней, и влево, за длинными и ровными рядами тополей, ползли, развеваясь в мглистой синеве неба, высокие облака пыли.
Там шли, сотрясая древнюю землю, полки соседних дивизий.
— Ох, ну и силища же у нас! — сказал Харламов, опускаясь в седло. — Валом валит.
— Харламов, а ты слыхал, что в пехоте раненые говорят? — спросил молодой боец Гришин, вступивший в полк во время похода.
— Ну?
— Кони, говорят, у них в одну масть, каждому солдату бинокль, а пулеметов!.. Через каждую сажень стоят. Солдаты больше из немцев. А сами-то окопались за проволокой, и нипочем их оттуда не выбить.
— Брешут! Семен Михайлович всю ихнюю проволоку с землей смешает. Мы так-то генерала Толкушкина били. Тоже ведь за проволокой сидел.
— Да что говорить, Семен Михайлович — это такой… — подхватил Митька Лопатин, ехавший в том же ряду. — Из какого хочешь положения выйдет.
— А как наш командир? — спросил Гришин, обращаясь к Харламову.
— Ладыгин-то? Первеющий командир. Дюже хороший. Этот, брат, не Карпенко. Наобум не полезет. У него человека зря не убьют. Да вот под Ростовом Карпенко-то на пулеметы в атаку попер. А наш расплановал — кому с фланга, кому в тыл ударить. Раз — и ваших нет! Батарею взяли и ни одного бойца не потеряли. А Карпенко что!.. Мелко плавает. Так, видимость одна — усы, бурка да глотка здоровая.
— Наш-то взводный очень молодой, — заметил Гришин, посмотрев на ехавшего впереди Вихрова.
— Ну и что же, все были молодые. Да и он зря не бросается. Соображение мыслей имеет. А это первое дело.
— Митька, гляди, кто едет, — сказал Харламов, повертываясь в седле и показывая рукой в поле, где стороной от дороги ехали Маринка и Сашенька. — Вы, стал быть, с Маринкой земляки? — спросил он, пристально посмотрев на товарища.
— Ага.
— Ты вроде муж при ней?
Митька помолчал и сказал:
— У нас с ней полная солидарность. Вот войну кончим — поженимся.
— Та-ак… А Саша как же? Ты помнишь, все говорил, что она тебе своей косой за сердце зацепила.
Митька вздохнул.
— Ну, что Саша! Саша — барышня образованная. А я что? Вовсе неграмотный человек… Эх, кабы скорей выучиться… Книжки вот теперь читаю. — Митька слазил в карман и показал Харламову тонкую книжечку.
— Но? — удивился Харламов. — А я не видал у тебя. Кто дал?
— Она и дала. «Прочти, — говорит, — а потом, при случае, мне расскажешь». Очень интересная книжечка, «Гарибальди» называется.
— Видал, как она Мише Казачку кисет-то расшила? — спросил Харламов.
— Видал… Покурим, Степа?
— Давай…
Колонна медленно вытягивалась в гору. Лошади, устало приволачивая задние ноги, пофыркивали и покачивали головами.
В задних рядах эскадрона, где ехали Кузьмин и Климов, тоже шли разговоры.
— Да. Спасибо товарищу Ильвачеву. Выучил меня грамоте на старости лет, — говорил Климов. — А то ведь только ноты и знал да фамилию расписаться. Был, как говорится, дурак дураком и уши холодные. Срамота, одним словом. Теперь хоть человеком стал.
— Факт! — пыхнув трубочкой, согласился Кузьмич. Он с покровительственным видом взглянул на приятеля. — Куда способнее образованному человеку. Вот, скажем, я, Василий Прокопыч, не поступи на действительной по медицинской части, ну и был бы пень пнем. А теперь все науки прошел и с каждым доктором свободно могу себя чувствовать, а другому, факт, и очко дам.
— Хорошая ваша наука, Федор Кузьмич, — сказал трубач.
— Медицинская наука всем наукам наука. Одним словом, тенденция, — веско заметил лекпом.
— Конечно дело, — поспешил согласиться Климов. — Ребры человеку вынать или там чего другое — это ведь не раз плюнуть.
— Вот я и говорю с точки зрения.
— Да…
— Василий Прокопыч, глядите, что это там за город виднеется? — показал лекпом перед собой, где вдали под пологим склоном поля сияли в солнечном мареве золотистые купола колоколен.
— А пес его знает… Стойте-ка, я сейчас у Вихрова спытаю.
Трубач выехал из строя, съездил в голову колонны и вскоре возвратился обратно.
— Узнали? — поинтересовался лекпом.
— Узнал, Федор Кузьмич. Умань это. Вихров говорит, здесь нам дневка.
— Умань? А-а… — Кузьмич покачал головой. — Значит, приехали. Факт!
Вдали прокатился густой вибрирующий звук.
Лошади вскинули головы, запряли ушами.
Кузьмич встревоженно взглянул на приятеля.
— Слышите, Василий Прокопыч? — спросил он, помолчав.
— Тяжелая бьет. Видать, фронт близко, — спокойно ответил трубач.
Голова колонны втянулась в пригороды и остановилась. Видно было, как передние всадники начали спешиваться и разводить лошадей по дворам.
Петька привязал своего мышастого конька к телеге под поветью, нагнувшись, набрал лежавшей на жердях сенной трухи и кинул ее в телегу.
Мышастый конек зло прижал уши и опустил вздрагивающую нижнюю губу с длинными жесткими волосками, вкладывая в это движение все свое неуважение к незадачливому хозяину.
— Лопай! — сказал Петька.
Конек презрительно фыркнул и отшвырнул мордой сено.
— Ну, значит, сыт, коли не хочешь, — заключил Петька, направляясь к хате.
Ни в черной комнате, ни в горнице никого не было. Петька огляделся и вздрогнул от неожиданности. За дверью среди других вещей висели синие галифе. У него захватило дыхание. Он прошелся мимо брюк, примеряясь, и, не в силах превозмочь искушения, потрогал их руками. «Эх, ну и сукнецо! Кавалерийские! Да… Было б это у Махно, то раз, два — и ваших нет…» Но новое положение обязывало, и он, покрутив носом и стараясь не глядеть на брюки, отошел к окну.
В сенях послышались шаги. В хату вошла с озабоченным видом невысокая средних лет женщина в беленьком, аккуратно повязанном под подбородком платочке.
— Здравствуйте, хозяюшка, — вежливо поздоровался Петька. — Вот в гости к вам заехали.
— Здравствуй, здравствуй, сынок! Я и то бачу — конь во дворе. — Она внимательно посмотрела на Петьку. — Поди, исты хочешь, сынок?
— Не смею отказаться, мамаша, — сказал Петька, присаживаясь на лавку.
Хозяйка поставила на стол сало, крынку молока и нарезала хлеба.
— Ишь, ишь, коханый, — ласково сказала она. — У мене тоже вот сынок второй год на службе. Може, и его хто покорме. Долго вы в нас простоите?
— А что?
— Да мне пидти треба, а хату некому поберегти.
— Иди, иди, мамаша. Я побуду… Только вот брюки бы ты убрала.
— На шо?
— Ну, мало ли кто зайдет. Унести могут.
— Шо ты, голубчик! Христос с тобой! В нас такого сроду не бывало.
— Мало ли чего не бывало. Время военное. Галифе — эти тоже военные. Так что все может случиться. Ты все же, мамаша, убери их от греха.
Хозяйка недоуменно посмотрела на Петьку, сняла с гвоздя брюки, свернула их и унесла в горницу запереть под замок.
Петька облегченно вздохнул.
В приоткрывшейся двери показался Сачков. Он глянул по сторонам и, потянув носом, спросил:
— Ну, как, Кожин, квартира?
— Квартира что надо и колодец во дворе, — бойко сказал Петька.
— А почему один стал?
— Я, товарищ взводный, как раз с левого фланга шел. Вот и остался последним.
— Перейдешь ко мне на квартиру, — помолчав, сказал Сачков.
— Хозяйка просила хату постеречь.
— Тебя просила? Гм… Скажитя, пожалуйста! Так ты, значит, сторожем?
— Около того.
— Ну, в таком случае я сам до тебя перейду. Вместе сторожить веселее… Ты, Кожин, вот чего мне скажи: почему у тебя конь худой?
— Не ест, товарищ взводный. Всё уши поджимает. Может, больной?
— Больной? А ну, пойдем посмотрим.
Петька вылез из-за стола, прихватив с собой остатки сала.
Они вышли во двор.
Петькин конек, понурив голову и распустив губы, стоял у телеги.
— Тебе, Кожин, приходилось за конями ходить? — спросил Сачков.
— Да вроде не приходилось, товарищ взводный. Я ведь городской житель.
— Та-ак… А чем ты кормишь ее?
— Известно чем — сеном. Ну, овес, когда бывает, тоже даю.
— Понятно, — Сачков покачал головой.
— А что понятно-то, товарищ взводный?
— Слухай сюда. Вот, скажем, поступил бы ты к хозяину работать, а он бы тебя одной картошкой кормил.
— Ну?
— Так ты бы не только уши поджал, а обложил бы его и туда, и сюда, и обратно. А? Правильно я говорю?
— Все может быть.
— Вот. А конь — животная бессловесная. Сказать не может, но сразу видать — не любить и, презираеть тебя. А сам, поди, думаеть: ну и хреновый кавалерист мой хозяин!
— Ну?
— Ты не нукай, а слухай! — рассердился Сачков. — Я тебя, дурака, навчить хочу. Вот!
— Чем же мне его, взводный, кормить? — недоумевая, спросил Петька.
Сачков пощелкал языком и гневно покачал головой.
— Еще спрашиваешь! Морковки расстарайся. Сечки засыпь с мукой. Сена настоящего достань. Соображать надо! А ты вот полез из-за стола — скорей сало в карман, а нет, чтоб хлеба коню. А конь — первейший твой друг. Другой конь лучше тебя соображаеть, тольки что человечьего языка нет… Я вот действительную службу в пограничниках служил. Так вот был у нас на заставе конь. Костиком звали. Старый служащий. Еле ходил. Два шага пройдеть, на третьем падаеть. Да… И до чего умный был! Вся застава его любила. Ну, приезжаеть новый ротмистр, пошел на конюшню и Костика увидел. «Это што, — говорит, — за шкилет? Отвести одра на живодерню. Даром казенное зерно исть». Ну, повели нашего Костика. Вся застава вышла его провожать, да как крикнут «ура»! А Костик, значит, почувствовал. Как подскочит! Шею выгнул, хвост трубой, а сам галопов галопом! Ну, думаем, сейчас весь рассыплеться. Проскакал он эдак шагов сто, упал и подох. Вот, брат, какой умный конь: помирать, так с музыкой! А ты говоришь… Я вот с новобранства конишку получил. Егоркой звали. Маленький, косматый и кусался. Так я попервам, как он на меня бросился, морду ему побил, а потом начал лаской брать, и так мы с ним подружились, что я ему свою жизнь рассказывал… Вот, Кожин, какие дела. Коня любить и уважать надо, как родного брата…
В ворота сильно постучали, и молодой голос крякнул:
— Ребята! Кто тут есть? Давай живо на митинг! Товарищ Калинин приехал!
Торопливо заправляясь, красноармейцы выскакивали на улицу и бежали в поле. Там уже шевелилась и шумела огромная масса бойцов. Все смотрели туда, где посреди поля развевались у одинокой тачанки красные знамена и была видна статная фигура Буденного. Со всех сторон подбегали и подъезжали верхом новые люди. С гиком примчался пулеметный эскадрон какого-то полка 4-й дивизии. Ездовые, на скаку лихо придержав лошадей, въехали в толпу.
— Тихо, братва! Держи! Народ подавите! — закричали вокруг голоса.
Но ездовые, искусно управляя, все же заехали почти в самую середину толпы.
В поле шевелилось целое море голов в буденовках, фуражках, кубанках и лохматых папахах. Слышались возбужденные голоса: «А где он, Михаил Иванович?» — «Вон с Ворошиловым разговаривает». — «Он, точно он». — «Постарел?» — «Да нет, все такой же».
Калинин приехал в Конную армию во второй раз, и старые бойцы, видевшие его еще на Южном фронте, смотрели на него как на знакомого человека. Каждый хотел еще раз послушать Михаила Ивановича и старался пробраться поближе к нему.
Бесцеремонно расталкивая бойцов, Кузьмич пробивался вперед. Но в середине так тесно сгрудились, что ему пришлось остановиться у пулеметных тачанок.
Он оглянулся. Среди незнакомых бойцов, как сначала показалось ему, он узнал двух красноармейцев 4-й дивизии, с которыми он встречался на базаре в Майкопе. Один из них приветливо кивнул ему головой. Кузьмич важно ответил и стал закуривать трубочку.
— Это кто ж такой есть? — тихо спросил один из бойцов, оглядывая дородную фигуру лекпома.
— С одиннадцатой дивизии. Какой-то начальник, — пояснил знакомый боец.
— Боевой?
— Ужас! Столько порубал белых гадов, что до Москвы не переставишь.
— Ну? Откуда ты знаешь?
— Сам говорил. Он мне знакомый.
— Да… Сразу видать человека.
— Ну и брюхо у него! — сказал другой боец. — Пушкой не прошибешь.
Кузьмич слушал в пол-уха, не показывая виду, что слышит, угрожающе шевелил усами и, тряся толстыми щеками, солидно покашливал..
Впереди произошло движение.
— Тише! Тише! — закричали вокруг.
На тачанке у знамен стоял Ворошилов в фуражке и френче, крепко перехваченном боевыми ремнями.
— Товарищи! — крикнул он, простирая руку вперед. — Сейчас по поручению партии большевиков выступит всероссийский староста Михаил Иванович Калинин.
— Ура! — закричали бойцы.
Крик прокатился по всему полю и замер, перейдя в нестройный рокот и гул.
В простой, выгоревшей добела солдатской гимнастерке и в черном картузике на тачанку поднимался Калинин.
Бойцы увидели знакомое морщинистое лицо с бородкой клинышком и нависшими усами. За стеклами очков в приветливой улыбке светились глаза.
— Товарищи красноармейцы! — заговорил он своим негромким, глуховатым голосом. — Передаю вам привет от нашего вождя и учителя товарища Ленина и от всех трудящихся Советской России…
Новый взрыв голосов потряс воздух. Задние надвинулись и рванулись вперед. Кузьмича закружило и отбросило к самым тачанкам. Его толкали со всех сторон, и ему стоило большого труда удержаться и не упасть под ноги лошадям. Сейчас каждый заботился только о себе. Хватаясь за чужие спины и руки, задние упорно пробивались вперед.
— Что, что он говорит? — спрашивали вокруг голоса. — Тише, ребята! Дайте послушать!
— Говорит: вся надежда только на нас, на Конную армию, — весело сказал высокий боец в рыжей кубанке. — Ну и…
Дальнейшего Кузьмич не услышал.
Громкий крик прорвал вдруг наступившую тишину:
— Ероплан!..
Из курчавых облаков хищно скользил вниз самолет.
— Бросил! Бросил! — пронесся чей-то отчаянный вопль.
Толпа заволновалась и кинулась в стороны.
Ахнул оглушительный взрыв.
Кузьмич, пыхтя, полез под тачанку. Там уже кто-то сидел. Приглядевшись, он узнал Сидоркина.
— Бьет, гад! — сказал Сидоркин, не глядя на него.
Высоко в небе слышалось частое щелканье выстрелов. Самолет открыл пулеметный огонь. В стороне воздух рвали короткие залпы. Кузьмич выглянул из-за колеса. Михаил Иванович как ни в чем не бывало стоял на тачанке и, прищурившись, посматривал по сторонам. Вокруг него тесно сгрудились бойцы.
Устыдившись минутной слабости и боясь потерять взятый раз навсегда самоуверенный вид, лекпом полез спиной из-под тачанки.
— Федор Кузьмич, что это вы рачком ходите? — послышался над ним спокойный насмешливый голос.
Лекпом оглянулся и увидел Климова.
— Трубку обронил, никак не найду, — сказал он, выпрямляясь.
— Так она у вас в руке, — показал Климов.
Кузьмич сплюнул с досады:
— Тьфу! Чорт ее забодай! А я-то ищу… Ну, ладно, молчок, Василий Прокопыч.
— Могила, Федор Кузьмич…
Самолет, описав круг над полем, стал набирать высоту и, провожаемый ружейными залпами, вскоре исчез в облаках.
— Нет, ты только погляди, Ковальчук, какой боевой Михаил Иванович-то, а? — говорил пожилой боец товарищу с седыми усами. — Ведь на что я бывалый, а и то у меня волос на голове шишом встал. Мне еще не приходилось с этими, с еропланами-то. А он хоть бы что! Стоит себе — и ладно. Я как увидел, так у меня все в смятенье чувств пришло. Приехал к нам такой человек, а я заместо того, чтоб его уберечь, в кусты кинулся. Ай, нехорошо!.. Ну, скажи, так совестно стало, выразить не могу. Вот, брат, какие они, наши вожди.
— А ему под пулями не впервой, — сказал Ковальчук. — Ребята сказывали, он в революцию в Питере бригадой командовал.
— Ну? Кто говорил?
— Не то Мингалев, не то Бобкин. Не помню…
Разговаривая так, они проталкивались через толпу и выбрались к тачанке как раз в ту минуту, когда Михаил Иванович вручал полкам боевые знамена.
Гремел оркестр. По всему полю перекатывались громкие крики «ура».
Вручив знамена, Калинин стал спускаться с тачанки. Десятки рук потянулись к нему и, подхватив, бережно поставили на землю. Бойцы тесно обступили его.
— Тише, товарищи! Осторожно! Не задавите Михаила Ивановича, — улыбаясь, говорил Ворошилов.
— Да нет, мы что, мы осторожно. Нам бы только вопросик задать… Михаил Иванович, скажите, какое у нас в тылу положение? Верно говорят, голод-то ликвидировали, а по продразверстке облегчение будет? — спрашивали красноармейцы.
Калинин, сняв очки и протирая их платком, прищуренными глазами добродушно смотрел на бойцов. Выждав, пока наступила относительная тишина, он начал обстоятельно отвечать на вопросы.
Бойцы внимательно слушали, переглядывались и в знак одобрения покачивали головами.
— Михаил Иванович, а верно говорят, поляки не хотят с нами воевать? — спросил высокий красноармеец в папахе.
— Смотря какие поляки, товарищ, — сказал Калинин, внимательно посмотрев на него. — У нас есть сведенья о выступлениях польских рабочих против войны с Советской Россией, но… — он поднял вверх указательный палец, — но ни в коем случае нельзя надеяться на легкость этой войны. Нам придется встретиться с крайне стойким и упорным противником.
— Ничего, Михаил Иванович, Деникина разбили и панов достигнем, — уверенно произнес боец в буденовке.
— Товарищ Ленин очень надеется на Конную армию, — сказал Калинин.
— Надеется? Да уж что и говорить, одно слово — Конная армия! — весело заговорили бойцы. — Вы, Михаил Иванович, так и передайте товарищу Ленину, что мы, мол, не подкачаем, а вдарим так, что паны и сами забудут и другим закажут дорогу до нашей стороны.
— Факт!
— Ясно!
— Зря говорить не будем!
— Ребята! А ну, качнем Михаила Ивановича!..
II
В большой, хорошо обставленной комнате с приспущенными шторами на окнах находились два человека. Один из них, пожилой, в генеральских погонах, сидел за столом, устало откинувшись на спинку кресла и положив худые руки на папку с бумагами. Тонкий солнечный луч, пробиваясь в окно, лежал на его крупном лице и, сбегая вниз, искрился на толстых жгутах пропущенного из-под плеча аксельбанта. Другой, моложавый полковник, тихо позванивая шпорами, ходил по мягкому ковру. Из соседней комнаты доносилось прерывистое пощелкивание телеграфного аппарата.
— Она приближается широким фронтом, примерно в сорок-пятьдесят километров, — говорил полковник вполголоса. — Это свидетельствует о намерении нащупать наш фронт, с тем чтобы немедленно развить главными силами успех, одержанный какой-либо из дивизий первой линии.
— Успех! — генерал усмехнулся, от его коротких усов скользнули в углы рта морщинки. — Следовательно, полковник, вы полагаете, что большевики смогут одерживать успехи?
Полковник круто остановился у стола.
— Я не предполагаю, а уверен в этом, Бронислав Станиславович, — твердо сказал он, помолчав. — Что такое Россия? Советская Россия — это кипящий котел, о который уже многие обожглись. Посмотрите, как дерутся их босые, голодные солдаты. Вы только что прибыли на фронт, а я видел их в бою. У них какой-то фанатический энтузиазм. Должно быть, так же вот дралась национальная гвардия в эпоху Французской революции.
Генерал, щелкнув портсигаром, закурил папиросу и внимательно посмотрел на начальника штаба.
— Неуверенность в победе — это уже почти поражение, — заговорил генерал. — И если бы за эти годы я не узнал вас так хорошо, то, поверьте, сделал бы заключение не в вашу пользу. Да… Наша победа обеспечена. Ну, посудите сами, что смогут противопоставить большевики той технике, которой располагаем мы? Но агентурным данным, у Буденного несколько аэропланов устаревших конструкций, пять бронепоездов, несколько бронемашин и четыре артиллерийских дивизиона. Как будто так?
Полковник молча кивнул.
— Ну вот! А вы говорите. Помимо того, мы располагаем тройным превосходством в живой силе. Нет, я очень рад, что большинство офицеров и солдат разделяет мнение маршала о небоеспособности конницы большевиков.
— Да, но эта небоеспособная конница разбила Деникина.
Генерал пренебрежительно махнул рукой.
— Ну, то Деникин! А здесь ей придется встретиться с нашей великолепной пехотой. Я больше чем уверен, что наши передовые части не допустят ее даже до линии фронта.
Из соседней комнаты просунулась голова телеграфиста.
— Проше пана пулковника!
Полковник прошел в соседнюю комнату и вскоре возвратился с телеграфной лентой в руках.
— Ну, что там? — позевывая, спросил генерал.
— Большевистская конница подошла к линии фронта, — ответил полковник, кладя на стол телеграфную ленту.
Иван Ильич поднял голову от карты и посмотрел на сидевших против него командиров.
— Значит, так, — сказал он, — наша дивизия имеет задачей овладеть опорным пунктом противника у деревни Дзионьков. В голове пойдет наш полк, а впереди — наш эскадрон. Поимейте в виду, товарищи командиры, что надо действовать со всей решительностью. Паны засели в окопы за проволокой и смеются над нами. Так вот, мы, значит, должны им показать, что с нами шутки плохи. Пусть они сразу узнают, что такое Конная армия… Вихров, как себя чувствуешь?
— Хорошо, товарищ командир.
— Добре. Пойдешь со взводом головным разъездом. Маршрут: Липки — Жижков — Дзионьков. Записал? Так… Выступаем в три тридцать утра. Значит, успеете еще добре выспаться. Ну вот и все у меня. Вопросов нет?.. Нет. Можно разойтись…
Выйдя от Ладыгина, Вихров послал ординарца с приказом Сачкову собрать через полчаса взвод на беседу, а сам пошел через село, решив зайти в полковой околоток и на всякий случай взять пару бинтов. Он пошел напрямик заросшим лопухами оврагом, перебежал кладку через ручей и, поднявшись на противоположную сторону, вышел на обсаженную тополями дорогу. На пригорке в стороне от дороги белел среди густой зелени небольшой домик с приткнутым у палисадника санитарным флажком. Глядя сейчас на этот флажок, Вихров поймал себя на мысли, что ему не так были нужны бинты, как хотелось увидеть Сашеньку. Он сам не знал, что так сильно влекло его к этой девушке с того раза, как он увидел ее на походе. И хотя он с ней часто беседовал и мог сейчас зайти запросто к ней, он начал думать о том, как она встретит его. Наконец, решившись, он взбежал на пригорок, толкнул калитку и вошел в палисадник. Черный с желтыми бровями лохматый пес, дремавший в тени подле крыльца, при виде его встал, зевнул, потянувшись, словно сделал ему реверанс, и сел, доброжелательно стуча хвостом по земле.
Вихров прошел через сад и остановился у раскрытого окна. Привстав на носки и, чувствуя как у него сильно забилось сердце, он заглянул в комнату.
Сашенька сидела спиной к нему над книгой. Он видел только ее узкие, совсем еще детские плечи и затылок с золотистыми завитками волос. Она так увлеклась чтением, что не сразу услышала, как он окликнул ее.
— Ах, это ты? — воскликнула она, обернувшись. — Постой, а кто тебе разрешил снять повязку? — строго спросила она.
— Я сам снял, — сказал Вихров. — Надоело. Да уже все прошло. Вот посмотри, — он снял фуражку.
— Постой, я сейчас сойду к тебе. Только я босиком.
Сашенька взяла со стола книгу, вскочила на подоконник и спрыгнула в сад.
— Давай посидим, — она показала на скамейку.
Они сели в тени.
— Что за книга? — спросил Вихров.
— Синклер, «Король-уголь».
— Где ты достала?
— Тюрин принес.
— Тюрин? А зачем он сюда ходит?
— Да сюда все ходят. Хорошие ребята. И любознательные. Мне нравится, что все они относятся ко мне по-товарищески.
— Ну, это только ты умеешь себя так поставить, — заметил Вихров.
Сашенька внимательно посмотрела на него и заговорила своим мягким, ласковым голосом:
— Видишь ли, Алеша, каждая девушка, если она уважает себя, то всегда поставит так, что к ней будут относиться по-товарищески. У нас, у женщин, если мы даже и моложе мужчин, как-то больше жизненного опыта. Да вот хотя бы случай с Дерпой. Пришел сюда бинт попросить и не успел слова сказать, давай обниматься. Я постыдила его и думала, что он больше никогда не зайдет. А он — нет, при каждом удобном случае заходит, но уж подобных вещей не допускает. Видно, и ребятам сказал остальным, потому что все они чересчур стали вежливые. — Сашенька улыбнулась и продолжала: — Он и на прошлой дневке заходил, цветы принес и много рассказывал о своей жизни и семье, где он вырос, и мне стало ясно, почему он вел себя так в первый раз. Знаешь, как поведение родителей передается детям…
Вихров сидел, слушал Сашеньку и чувствовал себя самым счастливым. Вернее, он не так слушал, как смотрел на нее.
— Знаешь, Алеша, я так благодарна своему отцу, — говорила она. — Да как же мне не быть ему благодарной! Человек, который мог устроиться в городе, остался из-за нас, детей, в деревне. Ведь он не смог бы вообще следить за детьми в городе, не имея жены. Мне тогда было непонятно, как это «следить». А потом, когда я выросла и сравнила себя с детьми дяди, которые почти без всякого присмотра росли в городе, я поняла. Мы с братом совершенно здоровые люди, с трезвым мозгом, физически здоровые совершенно… По задворкам я не бегала. Я была всегда с братом. Папа не разрешал никуда ходить без Николая. С одной стороны, отец оберегал меня от нехороших подруг, а с другой стороны; Николай не мог при мне шалить. У нас было поставлено так: папе говорить только правду…
— А я вот своего отца не помню, — сказал Вихров.
— Умер?
— Нет. Его убили в русско-японскую войну. Он был военный… Штурманом на «Наварине». Рассказывали, что он первым бросился в море, когда японцы предложили им сдаться в плен.
Они помолчали.
— А что Маринки не видно? — спросил Вихров.
— Она в дивизию поехала, — сказала Сашенька. — А что?
— Да нет, я просто так спросил. — Вихров взглянул на часы. — Ну, Саша, мне пора, — сказал он, поднимаясь.
— Торопишься? — спросила Сашенька.
— Да. Нужно по делу.
— Так ты смотри заходи.
— Обязательно.
Вихров попрощался с Сашенькой и вышел из сада.
У калитки стояла Дуська.
— Здорово, соколик — весело сказала она. — Что так редко заходишь?
— Почему редко? На прошлой дневке виделись.
— Слушай, соколик, ты хочешь со мной встретиться? А? — спросила она, придавая своим словам какой-то особенный смысл.
— Так мы же часто встречаемся!
Дуська лукаво усмехнулась.
— Ну, какие это встречи! Раз, два — и до свиданья. А мне бы надо поговорить с тобой кое о чем. Правда.
— В будущий раз зайду — поговорим.
— Не врешь?
— Нет.
— Ну, смотри…
Вихров кивнул Дуське и пошел вдоль палисадника. Навстречу ему показался Тюрин. Он быстро шел, постукивая хлыстиком по голенищу.
— Все ходишь? — спросил он, равняясь с Вихровым.
Вихров с недоумением взглянул на него.
— Куда хожу? — спросил он, удивляясь странному вопросу товарища.
— Да к Саше своей. Думаешь, ты нужен ей очень? Она мне и то говорила: «Что это Вихров все ходит? Надоел, а прогнать неудобно».
— Ну, это, положим, ты врешь, Миша, — сказал Вихров с твердой уверенностью. — А потом, собственно, какое тебе дело, куда и к кому я хожу?
— Да нет, я так… Тебя, я слышал, собирались в штаб армии послать?
— Да. А что?
— А почему именно тебя? Ты что, напросился?
— Никуда я не напрашивался.
Тюрин пытливо посмотрел на него.
— Странно все-таки. Да… Ну, ладно. Счастливо! — Он небрежно кивнул Вихрову и пошел в околоток.
Вихров посмотрел ему вслед, недоуменно пожал плечами и зашагал в свой эскадрон.
Чуть брезжил рассвет. Эскадрон собирался на сельской площади. Тихо подъезжали тачанки. Во тьме вспыхивали красные огоньки папирос. Воздух свежел. Бойцы переступали с ноги на ногу, в который раз оправляли седловку. В одном из дворов, захлопав крыльями, заорал петух. Ему ответили с другого конца, и по всему селу на разные голоса понеслось петушиное пение. Небо на во стоке светлело. В глубине площади мелькнул силуэт всадника. Слышно было, как он, подъехав к эскадрону спешился, звякнув стременем. Впереди что-то заговорили, и знакомый голос Ладыгина подал команду. Люди зашевелились и, перестраиваясь попарно, повели лошадей в поводу. Ездовой крайней тачанки тронул вожжами и крикнул вполголоса:
— А ну, орлы, шевелись!
Пристяжные, прижав уши, чуть присели на задние ноги, легли в шорки и дружно потянули постромки. Постукивая колесами, тачанки одна за другой потянулись вслед эскадрону… Еще долго, все затихая, слышались конский топот и дребезжанье колес. Потом и последние звуки потонули в утренних сумерках…
Вихров вел разъезд рысью. Вправо от дороги глухой темной стеной стоял вековой лес. В чаще мерно постукивал дятел. Впереди, между частыми стволами деревьев, мелькали крошечные фигурки дозорных.
Обогнув глубокую балку, разъезд вышел к вершине горы. Вихров остановил лошадь и стал смотреть влево, где за узкой полоской реки, бежавшей по зеленому лугу, виднелись маленькие, как спичечные коробки, домики с красными крышами.
— Товарищ командир, — сказал Митька, — дозорный знак подает.
Далеко внизу дозорный, стоя под крутым склоном горы, размахивал шашкой.
— Постойте здесь на всякий случай, — сказал Вихров, повертываясь к бойцам. — Я проеду к дозору. Лопатин, останешься за меня.
Спустившись по косогору, он переправился через глубокий ручей и подъехал к дозору. Харламов, старший дозора, спешившись, стоял на пригорке и, раздвинув кусты, смотрел через реку. Три бойца лежали в высокой траве, переговариваясь шопотом, посматривали вперед. Миша Казачок, отъехав в сторону, наблюдал вправо. Лошадей держал боец в длинной шинели.
— Противник, товарищ командир, — сказал Харламов, оглядываясь через плечо.
Вихров спешился, передал лошадь и остановился подле Харламова. На том берегу реки, правее моста, он увидел двух улан. Придерживая беспокойно переступавших лошадей, они, совещаясь, стояли на месте.
— Только двое? — спросил Вихров.
— Да, минут пять как стоят.
Крайний улан, сидевший на большой серой лошади, скинул пику с бушмата, переложил ее на бедро и тронул рысью к реке. Высоко выкидывая ноги, огромная лошадь грузно побежала, согнув лобастую голову к могучей груди.
— Ну и змей! — с восторгом заметил лежавший у ног Харламова боец в черной кубанке. — Такой один пушку потянет.
Улан въехал на мост, прикрылся рукой от солнца, как щитком, оглядел противоположный берег и возвратился к товарищу. Оба опять постояли на месте и, поворотив лошадей, грузно поскакали назад, к перелеску.
— А пики-то везут, все равно как дрючки, — сказал Харламов насмешливо. — Эх, мне бы пику! Показал бы я им, как пикой владеть.
— Чего ж ты свою в обозе покинул? — покосившись на него, ядовито спросил боец в черной кубанке.
— Одному, что ль, возить? — пожав плечами, огрызнулся казак. — Твоя-то где?
— Нам, шахтерам, она не с руки. Раз попробовал на коня с ней садиться, а она промеж ног мне воткнулась. Ну ее! Сдал в обоз.
Вихров, все время смотревший в бинокль, жестом прекратил разговоры: из перелеска на болотистый луг, растянувшись гуськом, рысью выезжали уланы.
— Ишь ты, плывут, словно лебеди! — сказал тихо Харламов.
Вихров пересчитал всадников, быстро написал донесение и подозвал бойца в черной кубанке.
— Гони карьером к разъезду. Скажи Лопатину, чтобы скрытно подходили сюда. А это, — Вихров подал ему донесение, — передашь Ладыгину. Тут написано, что разъезд в восемь коней движется к переправе. Понятно? Давай!
Боец кивнул и, тронув плетью по боку коня, галопом погнал его в лес.
Пройдя через болото, уланы повернули к мосту.
Вихров стоял, нахмурившись. Лицо его пылало.
— Харламов! — сказал он казаку. — Порубим? Как думаешь?
— А то нет! В куски разнесем!
Вихров быстро взглянул на него.
— Бери трех человек, встань укрыто, — он показал на кусты. — Я зайду с той стороны. Дозор пропустить. Не стрелять. В шашки возьмем. Я атакую вперед…
Вокруг стояла такая тишина, что слышно было, как пчела пролетала. Чуть шумели вершины деревьев. По лесу шел тихий шорох, и лошади, всхрапывая, поводили ушами. Но Вихров не слышал ни шума деревьев, ни овода, который гудел над его головой, — все мысли и чувства его были прикованы к залитой солнечным светом полянке. Рядом громко хрустнула ветка. Он, почти не дыша, оглянулся и в ту же минуту услышал стук копыт по дощатому настилу моста. Постукивая саблями о стремена, мимо рысью проехал дозор. Стоявший подле Вихрова Миша Казачок хрипло вздохнул. Вихров сердито взглянул на него и показал глазами на дорогу. Там рядами по-двое беспечно ехали уланы. Шагах в двух от переднего ряда на заметно прихрамывающей большой серой лошади ехал пожилой рыжий поручик. Сердито хмурясь, он громко выговаривал старому капралу с широким красным лицом.
Вихрова поразила немецкая речь офицера.
— Ферфлюхтер швейн! Старий каналий! — говорил он, гневно шевеля плоскими, заботливо подкрученными кверху усами. — Зачем зидлайть на мене серым лошадким, а? Надо било зидлай на мой вороному лошадя! Он кароший. Шипко отшень луччи… У, старий каналий! Ферфлюхтер швейн! Доннер веттер! Мой будет тебя непремен на шорта посылайт…
Вихров толкнул локтем Мишу Казачка и, ломая кусты, широким прыжком махнул на дорогу.
— Бей!..
Он обрушил клинок на голову поручика. Тот ткнулся вперед, на секунду повис на поводьях и боком сполз на дорогу. Уланы шарахнулись к мосту. Но навстречу им ударил Харламов с бойцами.
— Отдай пику, пан! — страшным голосом гаркнул Харламов, подскочив к капралу.
Он наотмашь рубанул капрала по толстой шее, перехватил клинок в зубы и, на лету поймав пику, рванул ее на себя. С треском лопнул бушмат. Харламов перебросил клинок в левую руку и вздыбил коня.
— Владеть сперва научись! — Он проткнул пикой капрала, с силой вышиб его из седла, крикнул хрипло: — А тогда и воюй!..
Вдоль лесистых холмов то едва слышно, то, когда поддувал ветер, накатываясь волной, потрескивали ружейные выстрелы. Там эскадрон Ладыгина вел бой с охранением укрепившегося противника.
Панкеев стоял на опушке и, подняв локти, смотрел в бинокль. Вдали за рекой в дрожащем солнечно-дымчатом мареве раскрывалась заросшая лесом холмистая панорама деревни, и казалось, и холмы, и леса, и деревянная колокольня с почерневшим от старости куполом шевелились и двигались, стремясь подняться в ослепительно синее небо.
Панкеев опустил бинокль и посмотрел влево, где в нескольких шагах от него сидели в тени Бочкарев, завхоз Фомичев — толстый пожилой человек, и квартирмейстер Гобаренко, недавно спасенный из плена.
— Ну, как, Арсений Петрович? — спросил Бочкарев, перехватив взгляд Панкеева.
— Сильно укрепились, — сказал Панкеев. — Здесь их так не возьмешь.
Бочкарев поднялся, подошел к командиру полка и, широко расставив ноги, тоже стал смотреть в бинокль.
— Что-то я не разберу, где у них окопы, — сказал он, пристально вглядываясь.
— У самой речки мельницу видишь? — показал Панкеев.
— Ну?
— Чуть повыше отдельное дерево видишь?
— Ну, ну?
— Вот там у них проволока и первая линия окопов… А теперь повыше и правее озера, видишь, вроде чернеется?
— Вижу.
— То вторая линия.
— Та-ак… — протянул Бочкарев. — Правильно Семен Михайлович говорил, что это не деникинский фронт. Без артиллерии, паря, его отсюда не выбить.
— Вот я и говорю.
Они помолчали…
— Товарищ комполка, начдив едет! — сказал Гобаренко, повертывая к Панкееву свое крупное в глубоких морщинах лицо.
Панкеев оглянулся. Сворачивая между частыми стволами деревьев, из глубины леса ехал Морозов в сопровождении штабных ординарцев.
— Где комбриг? — спросил он, подъехав и поздоровавшись с командирами.
— Я за него, товарищ начдив, — сказал Панкеев. — У комбрига опять рана открылась.
На длинном рябоватом лице Морозова появилось выражение неудовольствия.
— Опять со строя выбыл, — сказал он с досадой. — Я ж ему говорил, чудаку, что надо в госпиталь ложиться. Ну, ладно, бригаду ты поведешь. Говори, что тут выглядел? — Морозов взял висевший на ремешке через шею бинокль и поднял его к глазам.
Панкеев в двух словах доложил обстановку.
— Ну, это-то я сам знаю. Я на сосне сидел и все как есть видел. За деревней у них артиллерия, — сказал Морозов.
Он опустил бинокль и вынул из сумки карту.
Уточнив по карте, что перед ними находится деревня Дзионьков, Морозов кратко изложил свое решение. По этому решению с наступлением темноты вторая бригада с бронемашинами наступала в пешем строю на южную окраину опорного пункта; первая, под командой Панкеева, атаковывала деревню с севера в конном строю; третья поддерживала и развивала успех второй бригады. Основная задача сводилась к тому, чтобы, прорвав оборонительную полосу противника, выйти ему в тыл.
— Значит, так, — говорил Морозов. — Ты пока стой на месте, только броды сыщи, а как вторая бригада ворвется в окопы, я тебе сигнал дам ракетой.
Приказав Панкееву немедленно выслать подводы за снарядами, Морозов поехал на свой наблюдательный пункт.
— Товарищ Гобаренко! — позвал Панкеев, проводив взглядом Морозова.
— Я вас слушаю, товарищ комполка! — бойко откликнулся Гобаренко.
Он, бодро ступая, подошел к командиру полка, выражая всем своим видом готовность повиноваться.
— Помнишь станцию, что утром проезжали? — спросил Панкеев.
— Как же не помнить, товарищ комполка, — улыбнулся Гобаренко. — Там еще бронепоезд стоял.
— Правильно. Сейчас туда прибыли огнелетучки. Бери двадцать бричек и гони за снарядами. Начдив приказал. Нажми на них как полагается, если будут мало давать. Ну, да ты это умеешь, — Панкеев взглянул на часы. — Пять часов, — сказал он. — Надо тебе дотемна возвратиться. Пойдем в наступление.
— Разрешите мне взять с собой командира хозвзвода? — попросил Гобаренко.
— Захарова? А на что он тебе?
— Вдвоем удобнее, товарищ комполка.
— Ну, ладно, бери. Только смотри быстрей ворочайтесь.
— Слушаю, товарищ комполка. Не извольте беспокоиться, все будет в полном порядке. — Гобаренко лихо откозырял и, повернувшись к опушке леса, где стояли коноводы, весело крикнул: — Сидоркин, коня!
Сидоркин зашевелился, подтянул подпруги и, держа под уздцы, подвел рысью лошадь.
— Отчетливый человек, — сказал Панкеев Бочкареву, когда Гобаренко скрылся из виду. — А то вон золото сидит, уж ходить от жира не может, — кивнул он на Фомичева, который, отирая платком толстые красные щеки, сидел под кустом.
Лес глухо шумел. Легкий ветер медленной волной пробегал по вершинам деревьев, и тогда солнце, проникая сквозь ветви, играло лучами на молодой, яркозеленой траве. Со стороны реки продолжали потрескивать ружейные выстрелы.
Маринка, Дуська и Сашенька лежали в кружок подле санитарной линейки и, сблизив золотистую, черную и русую головы, тихо беседовали. Поодаль вокруг деревьев стояли подседланные лошади, сидели и лежали бойцы первой бригады.
— Ты, Дуся, не обижайся, а я всегда буду тебя поправлять, — прикусывая травинку, говорила Сашенька. — Это уж у меня привычка такая.
Дуська сморщила носик.
— А не все ли равно, как говорить, — с досадой сказала она.
— Если б было все равно, то ученые не писали бы книг, — заметила Сашенька.
— Ну, то ученые, а мы не ученые. Нам и так ладно.
— Как тебе не стыдно, Дуська! — вспылила Маринка, вскинув на подругу красивые сердитые глаза. Ее смуглое мальчишеское лицо покраснело. — Саша-то тебе добра желает, а ты еще задаешься!
— Слова не скажи — всё не так.
— Вот и хорошо, что поправляет. Потом сама спасибо скажешь.
— Ну, ладно! — Дуська улыбнулась. — Правильно говоришь. Я ведь просто так, поспорить люблю… Ты, Саша, не серчай на меня… Девушки, а я вам и не сказала: Сачков-то вчера мне предложение сделал.
— Ну?! — в один голос вскрикнули Маринка и Сашенька.
— Ага! Приходит это, знаешь, сапоги начистил. «Позвольте, — говорит, — Авдотья Семеновна, с вами объясниться…» Постой, что-то он тут чудно́е загнул?.. Нуте-ка. Нет, из головы вон, позабыла… Ну, в общем насчет каких-то уз все толковал.
— А ты что? — спросила Маринка.
— Я? Завернулась и пошла.
— Повернулась, — машинально поправила Сашенька.
— Ну, повернулась. И пошла, ни слова не сказав. Ну его к лешему! Терпеть ненавижу маленьких мужиков. По мне хоть дурак, а только чтоб большой… Правду сказать, они, большие, все какие-то чудаки.
— Значит, по-твоему, и Дерпа чудак?
— Ну, что ты! Только уж больно простой. Даве зашел в околоток. Я чай с сухой малиной пила. «Чего пьешь?» — «Чай с малиной. Хочу вырасти побольше. Малина-то для росту очень даже помогает». А он: «Ну? Что ты говоришь! А я и не знал!»
— Девушки, глядите: вон наши из разведки вернулись, — сказала Маринка, приподнимаясь и глядя в глубь леса, где мелькали между деревьями всадники.
— Кто приехал? — спросила Сашенька.
— Второй эскадрон… Вон Ладыгин едет, — показала Маринка.
— А вот и Вихров! — подхватила Дуська, искоса пытливо глядя на Сашеньку и видя, как у нее в презрительной усмешке дрогнули губы. — Обожаю Вихрова! — умышленно громко проговорила она. — Вот это парень! И умный и росту хорошего. Присушил он мое сердце. Пропала я, девушки!
— Ты вчера говорила, что Дерпу любишь, — сказала Маринка, с улыбкой глядя на нее.
— И его люблю. И Вихрова. Да я их всех люблю. Нет, Тюрина не люблю, — она вызывающе взглянула на Сашеньку. — А так всех обожаю.
— В таком случае, Дуся, ты еще никого по-настоящему не любила, — заметила Сашенька. — Любить можно только одного человека.
— Значит, ты, Саша, считаешь, что всех любить плохо?
— Как любить… Людей вообще надо любить… хороших.
— А что, по-твоему, самое плохое на свете? — помолчав, спросила Дуська.
— Самое плохое разочароваться в человеке, в которого веришь, — отвечая на собственную мысль, тихо ответила Сашенька.
Дуська вдруг стремительно вскочила и, приоткрыв рот, уставилась в гущу леса, где, видно было, подошедший эскадрон располагался на отдых.
— Девушки, а ну, глядите, кто это там весь обвязанный ходит? — всполошилась она. — Ой, мамыньки! Так это ж Сачков! Ахти мне! Он! Точно он! Башка-то как есть вся обвязанная. И как это его угораздило, старого чорта? Ах ты, бедненький, мой, желанный!
Она прихватила лежавшую на траве сумку и, прыгая через кусты, понеслась к Сачкову.
— А ты, Саша, правильно говоришь, что по-настоящему можно любить только одного человека, — немного помолчав, заговорила Маринка. — Я вот с первого взгляда его полюбила. Я никогда не верила, что можно так полюбить. Даже смеялась, когда мне говорили. А оказывается, верно… — Она подвинулась к Сашеньке и провела рукой по ее волосам. — Какая ты, Саша, хорошая. Светлая, как солнышко! — с восхищением заговорила она. — А волосы какие! Мягкие, как шелк. Правду говорят: волос мягкий — душа добрая… Я с тобой ужас какая откровенная. Я тебе говорю такое, чего бы никому не сказала… Нет, еще бы одному человеку сказала. Как я люблю Митю! А тебе случалось любить? — Маринка перевалилась на спину и заложила руки за голову.
Сашенька подняла глаза, подумала.
— Нет, не случалось, — сказала она. — Хотя нет, постой, случалось. Мне нравился один мальчик.
— Кто такой?
— Миша Мусенкович… Он выходил на охоту с собакой и трубил в рог, а у меня замирало сердце, и солнце, казалось, светило по-другому… А потом один человек мне предложение сделал.
— Кто?
— Начальник земельного отдела. Он часто к нам в командировку приезжал. И вот раз осенью приехал, мы картошку копали. Ватная куртка у меня была, передник из мешка сделан — фартуком его называли… Он мне предложение сделал, а я в коровник убежала и всю ночь у коровы на шее проревела… Меня ищут, ищут, а я у той коровы, которую первую научилась доить. Маруськой ее звали. Высокая, черная, а лоб белый…
— Ты что же, отказала ему?
Сашенька грустно улыбнулась.
— Мне тогда и шестнадцати лет не было. Я только на вид была большая.
— Так ты, значит, девица?
— Да, — вся вспыхнув, ответила Сашенька.
— А глаза какие у тебя… глубокие-глубокие, — нараспев сказала Маринка, заглядывая снизу вверх в теплые, лучистые глаза Сашеньки.
— Глубже всех те глаза, которые больше всех плакали, — тихо сказала Сашенька.
— А тебе много плакать пришлось? — участливо спросила Маринка.
— Конечно. Когда растешь без матери, каждый обидит. И вообще мое детство было тяжелое. Я и работала, и училась, и дома все хозяйство на мне лежало. Я ведь совсем еще девочка была. Ну, а условия жизни ты сама хорошо знаешь.
— Ну, ничего, — мягко сказала Маринка. — Теперь все это прошло и никогда не вернется… А как мне хочется подольше прожить и самой все увидеть! — мечтательно продолжала она. — Как ты думаешь, хорошая будет жизнь? Ведь все-таки трудно сейчас.
— Ой, Маринка! — Сашенька присела, прижав к груди смуглые руки. Глаза ее заблестели. — Как бы ни было трудно сейчас, но жизнь будет сказка! — проникновенно заговорила она. — Нет, ты только подумай. Это что-то необыкновенное будет, если понять здоровым разумом. Видишь, мы сами сейчас так близко стоим к тому, что совершаем, что даже не можем отдать себе отчет в величии того, что совершаем!.. Я вот читаю сейчас «Король-уголь» Синклера. Потом ты обязательно прочтешь эту книжку. Ты только послушай! На Западе с человеком считаются, если это миллионер или представитель старинной знати. У нас каждый имеет возможность стать уважаемым, знатным человеком. Все зависит от самого себя. А там нет. О, там только деньги… У нас каждый, кто только способен, может получить образование и стать инженером, профессором или кем только захочет.
— И я смогу? — живо спросила Маринка.
— А как же! Конечно! Было бы только желание.
— Смотри-ка, а ведь верно. Митя вот тоже так говорит. Он ужас как хочет учиться.
— Товарищи! — раздался рядом чей-то громкий начальственный голос. — Не видали командира взвода Захарова?
Девушки оглянулись.
Гобаренко верхом на лошади стоял в нескольких шагах от них и, приподнявшись на стременах, что-то высматривал, скользя взглядом по группам сидевших и лежавших бойцов.
— Вы в балочке посмотрите, товарищ квартирмейстер, — сказала Маринка, показывая рукой в глубину леса. — Я видела, обоз туда перешел.
— А как проехать?
— Так просекой и езжайте, никуда не сворачивайте.
— А… ну, хорошо.
Гобаренко в сопровождении Сидоркина поехал рысью по просеке.
Сашенька молча смотрела ему вслед. Она уже несколько раз слышала голос этого человека, и каждый раз ее почему-то охватывал страх. Голос Гобаренко будил в ней неясные воспоминания, связанные с чем-то очень тяжелым. Но как, где и при каких обстоятельствах она слышала этот глуховатый, надтреснутый голос, она не могла вспомнить. Так и теперь, глядя ему вслед, она мучительно старалась что-то припомнить и не могла.
— Ты что, Саша, задумалась? — спросила Маринка.
— Так… ничего, — тихо ответила Сашенька, проводя рукой по лицу.
Неподалеку от них раздался громкий взрыв хохота. Маринка приподнялась и посмотрела. Митька Лопатин, окруженный бойцами, что-то рассказывал. Там же находились Вихров, Ладыгин и Ильвачев.
— Саша, пойдем к ребятам, послушаем, — предложила Маринка.
— Нет, — отказалась Сашенька, — я буду читать.
Маринка с недоумением посмотрела на подругу. Это было непохоже на Сашеньку, которая все свободное время проводила вместе с бойцами и уже успела прослыть в полку первой плясуньей.
— Ну, как хочешь. Тогда я одна пойду, — пожав плечами, сказала Маринка, поднимаясь и привычным движением оправляя черкеску, ловко облегавшую ее тоненькую, стройную фигуру.
— А вот был еще у нас Петренко, — говорил Митька, посмеиваясь. — Ординарец командира полка. Очень спокойный человек и в летах. Ничем бывало не удивишь. Только заикался немного. Говорил, что еще когда маленьким был, индюки его напугали. Мать вынесла его с хаты во двор, положила, а сама пошла доить корову. А индюки подступились до него, сопли пораспустили и давай бормотать. Вот он с того раза и стал заикаться. Да… Так этот Петренко был жуткий рыболов. Бывало станем на дневку, а он — за удочки, — он их в тачанке возил, — и на речку. Так и в тот раз. Отпросился он у командира полка и пошел. А речка-то далеко была, верст восемь. Ну, ладно. Сидит себе, ловит. И такая ему удача пришла — как ни закинет, так вытянет. Да… А тут и ночь подошла. Собрал он улов и пошел напрямик, задворками. «Ну, — думает, — шибко удивлю командира полка. Сколько много, мол, рыбки подловил. То-то возрадуется!» Только входит в хату, глядь: на месте командира сидит белогвардейский полковник! Ну, тут и Петренко удивился: что такое? На каком таком основании? «Т-ты, гад, как сюда п-попал? — говорит. — А ну, скидай сапоги!» Полковник снял. «И шт-таны… И гимнастерку…» Оделся. Все в пору. Взял удочки и ушел. В таком виде и прибыл к своим.
Бойцы рассмеялись.
— Постой, Лопатин… Как же это так получилось? А наши куда делись? А почему полковник сопротивление не оказал? — спросил молодой боец Гришин.
— Да очень просто. Наши-то приказ еще днем получили и ушли. Петренку искали, а он гляди куда забрался. Ну вот. А тут кадеты в станицу набежали. Их где-то расколотили. Опасались, как бы им еще не попало. Полковник-то, видно, сидел, озирался…
— Психологический эффект, — как бы про себя заметил Ильвачев, улыбаясь.
— Товарищ командир, закурить не найдется? — спросил Митька Вихрова.
Вихров сунул руку в карман и молча подал кисет. Около него кто-то присел, мягко толкнув его в бок. Он оглянулся и увидел Маринку.
— А Саша где? — тихо спросил он.
— А вон около линейки сидит, — показала Маринка.
— Почему она не пришла?
— Я звала — не хочет. Да она какая-то чудная сегодня. Ты бы сходил, поговорил с ней.
Вихров поднялся и, переступая через лежавших бойцов, вышел на просеку. Стрельба давно прекратилась. Солнце садилось в багровые тучи. От реки тянуло влажной прохладой. Там, под обрывистым берегом, где старые ивы свешивали зеленые ветви к воде, отсвечивавшей закатом, захлебываясь, кричали лягушки. В лесу мирно перекликались птицы. «Вон как! Будто и войны нет», — подумал Вихров.
Тихо ступая, он подошел к Сашеньке. Она лежала спиной к нему, опустив голову на розовые ладони поднятых рук. Рядом лежала нераскрытая книга.
— Саша… — позвал он, присаживаясь подле нее.
Девушка медленно повернула голову. Солнечный зайчик затрепетал на ее вдруг ставшем строгим лице, с шевелившимися на чистом лбу светлыми завитками шелковистых волос, и Вихров в первый раз увидел на розовых, чуть схваченных загаром щеках Сашеньки золотистый пушок.
— Что вам нужно? — чужим голосом спросила она, сдвинув тонкие брови.
Вихров изумленно раскрыл глаза.
— Постой… что с тобой? — спросил он тревожно.
— Со мной? Ничего. Вы что, по делу? Вам что-нибудь нужно? — глядя на него серьезными синими глазами, спросила она.
— Не-ет… — протянул он. — А в чем, собственно, дело? Почему ты так со мной говоришь?
— Нам вообще не о чем говорить, — коротко сказала она.
— Но в чем же, наконец, дело? Что случилось? Почему вдруг такая перемена?
— Не наивничайте. Я все знаю.
— Что — все?
— Все, все. Я не могу сейчас говорить ни о чем. Уходите!
Вихров поднялся, постоял некоторое время на месте и, пожав плечами, медленно пошел в эскадрон.
Сашенька повернула голову и посмотрела ему вслед. И хотя она до глубины души была возмущена тем, что ей случайно пришлось узнать о нем, ей почему-то вдруг стало жаль Вихрова, и она приподнялась, чтобы окликнуть его, но тут же внутренний голос сказал ей, что этого делать не нужно, и она отвернулась.
«Что случилось? — думал Вихров. — Что я такое наделал?» Он начал перебирать в памяти свои поступки, которые могли рассердить Сашеньку. Но все они были совершенно безобидны. И он стал думать о том, что ему теперь делать.
Вдруг кто-то взял его за руку. Он вздрогнул от неожиданности и, повернувшись, увидел Дуську.
— Ты что, соколик? — ласково спросила она. — Что это ты так с лица изменился?.. Постой, ты не от Саши идешь? — с внезапной догадкой спросила она. — Ну, чего молчишь? Поругались?
— Да так! — Вихров нахмурился. — Поговорили кое о чем.
Дуська внимательно посмотрела на него. По ее круглому лицу разлилось выражение жалости.
— Слушай, соколик, — запинаясь, заговорила она. — Ты понимаешь, дело какое… Ты вот чего… А ну, побожись, что никому не скажешь.
— Зачем?
— Я тебе секрет скажу… Только смотри правду говори. — Она приподнялась на носки и, пристально заглядывая ему в глаза, спросила: — У тебя в Питере девушка есть?
— Девушка? — опешил Вихров. — У меня там много знакомых.
— Погоди, ты хвостом не крути! Ты прямо говори: была у тебя девушка, с которой ты встречался?
— Да я со многими встречался, — с откровенной простотой сказал он.
— Со многими?! — искренне ужаснулась Дуська. — Ай да соколик! Э, да ты, видать, парень бывалый. Из молодых, да ранний. А я-то думала… Так, может, у тебя и от всех от них дети есть?
Вихров непонимающими глазами смотрел на нее. Вдруг смысл ее слов стал доходить до его сознания.
— Дуся, я, видимо, не так тебя понимаю, — сказал он, начиная смутно догадываться. — Скажи, что ты подразумеваешь под словом «встречаться»?
— Обыкновенно, любовь крутить. Ну, как муж с женой.
Вихров отрицательно покачал головой..
— Нет, таких встреч у меня не было, — сказал он, краснея.
— Не было? — наступая на него, гневно заговорила она. — Не было? Зачем же ты врешь? Эх, все вы, мужики, одинаковые. На словах, как на гуслях. Черти вы не нашего бога! Наделают делов — и в кусты! Говори, зачем ты ее с дитем бросил? И еще при всех насмеялся. Хорош! Эх ты, Филя!
Вихров с изумлением развел руками.
— Что такое? Откуда ты это взяла!.. Ты понимаешь, что говоришь!..
— А разве неправда?
— Конечно, нет! Кто это тебе сказал?
— Не мне, а Саше. А я все слышала. Только ты смотри молчи — побожился. Он как есть все ей рассказал и письмо показывал.
— Кто — он?
— Тюрин.
— Тюрин? Не может этого быть!
— Да что я, врать буду! Я под окном стояла и все слышала.
Вихров побледнел. Все его тело дрожало мелкой нервной дрожью.
— Каков подлец! — сказал он, задыхаясь. — И это называется товарищ! Ах, мелкая душа! Ну, погоди! — Он сделал движение, собираясь итти.
Дуська обеими руками вцепилась в него.
— Стой, миленький, подожди! Ты куда?
— Пусти меня!
— Нет, миленький, не пущу! Разве убей сначала меня, а я…
Она не договорила. От Дзионькова вперебой ударили пулеметы. Гул покатился по лесу. Вихров посмотрел в сторону реки. Там по всей линии холмов происходило движение.
— Гляди, вторая бригада подходит! — говорила Дуська, крепко держа его за руку. — Вон и комбриг Коробков, Василий Васильич.
От синевшего вдали леса широким галопом развертывалась вторая бригада.
Они увидели, как совсем маленькие отсюда фигурки бойцов на скаку спрыгивали с лошадей, передавали поводья коноводам и рывком, через голову, снимая винтовки и разбегаясь в стороны, скрывались в высокой траве.
— Первая бригада, по ко-ням! — загремел по лесу зычный голос Панкеева.
Вихров бросился к своему эскадрону.
— По ко-ням! По ко-ням! — перекликались в лесу голоса.
Бойцы сноровисто разбирали лошадей, подтягивали подпруги, садились и, на ходу тихо переговариваясь, по одному и группами вливались в колонну, которая вытягивалась в глубину леса.
Над лесом с сухим треском разорвалась шрапнель. С деревьев посыпались ветви и шишки.
— Ну, посыпал чорт горохом! — недовольно буркнул Кузьмич, втягивая голову в плечи.
Впереди послышалась команда. Колонна тронулась рысью. Все плотнее сгущались сумерки. Всадники бесшумно, как тени, мелькали среди деревьев…
— Товарищ Захаров!
— Чего изволите, товарищ квартирмист? — послышался в ответ бойкий старческий голос.
— Ну, как погрузка? — спросил Гобаренко.
— Готово, товарищ квартирмист. Вас дожидаем.
— Хорошо. Веди обоз. Я догоню.
— Слушаюсь, товарищ квартирмист… А ну, сынки! — весело крикнул Захаров, обращаясь к ездовым. — Давай, давай, справа по одному!.. Эй, подвода! Кто там рысью погнал? Осторожней. Не тещу в гости везешь!
Обоз, груженный снарядами, медленно потянулся со станции.
Гобаренко возвратился в классный вагон. Начальник летучки, коренастый седой человек, по виду бывший матрос, с кустистыми бачками на добродушном широком лице, встретил его хитроватой улыбочкой.
— Ну, как, ошвартовались, товарищ начальник? — спросил он, переглянувшись с сидевшим тут же молодым красноармейцем в буденовке.
— Отправил, — сказал Гобаренко. — Где тут у вас расписаться, товарищи?
— А все-таки одиннадцать ящиков мы вам… того… передали, — добродушно усмехнулся матрос, подавая накладную. — Больно уж вы, кавалеристы, дошлый народ. На ходу подметки рвете. Не успел оглянуться — вагон пустой. Амба.
— А чего их жалеть, снаряды? — заметил Гобаренко. — На общее дело пойдут. Все для победы.
— Уж это как есть, — согласился матрос, качнув головой. — Одному делу служим. — Он поднялся и протянул Гобаренко шершавую руку. — Ну, счастливый путь, товарищ начальник. Да и нам пора концы отдавать. Вот уж и ночь на дворе… Гриша, — сказал он красноармейцу в буденовке, — шумни-ка там машинисту — полный назад…
Едва Гобаренко успел выбраться из вагона, как поезд дернулся и, все прибавляя ход, мягко поплыл мимо него.
Вблизи послышались шаги. Мигая электрическим фонариком, навстречу ему быстро шел человек.
Белый луч пробежал по путям, поднялся и упал на лицо Гобаренко.
— Гуро?! — вскрикнул человек, бросаясь вперед.
Быстрым движением Гуро выбил фонарик. В темноте пронесся полный ярости крик. Два человека, схватившись, повалились на землю.
Чувствуя, как под его цепкими пальцами разливается мелкая дрожь, Гуро с бешеной силой душил человека.
Тот хрипел, задыхаясь. Тело его обмякло, слабо дергаясь, деревянело в суставах.
Тяжело дыша, Гуро поднялся на дрожащих ногах.
От станции бежали люди, топоча сапогами.
Гуро пролез под стоявший на путях порожняк и побежал к пакгаузам, где Сидоркин держал лошадей.
— Кто там кричал? — поинтересовался Сидоркин.
Гуро ничего не ответил и, разобрав поводья, сел на лошадь.
Некоторое время они ехали молча. Мрак густел. В стороне мерцал огонек. По уходившей в глубину леса дороге громыхали подводы. На темном горизонте, поблескивая, перебегали зарницы. Оттуда доносился глухой раскатистый грохот.
— Как бы грозы не было, — заметил Сидоркин.
— Какая гроза! Это бой, балда! — сказал Гуро, сердито взглянув на него.
Навстречу подул теплый ветер. Глухо зашумели деревья. В той стороне, где мерцал огонек, отрывисто залаяла и тонко завыла собака. Большая черная птица снялась с дерева; тяжело хлопая крыльями, полетела куда-то.
Лошади подняли головы и тревожно всхрапнули.
— А страшно одному по лесу ездить, — сказал Сидоркин, опасливо озираясь.
— Почему страшно? — спросил Гуро.
— А вдруг выйдет какой-нибудь да хватит оглоблей по шее!
— Очень ты ему нужен! — усмехнулся Гуро.
Толкнув лошадь рысью, он погнал ее к обозу.
В темноте неясно чернели силуэты бодро идущих лошадей, катились повозки с белевшими на них снарядными ящиками.
Гуро проехал в голову обоза.
— Ты что, старый хрен, не видишь, что у тебя сзади творится! — напустился он на Захарова.
— Чего изволите? — недослышал Захаров.
— Чего изволите! Едет тут, как чорт на свадьбу, старая кочерыжка, а там на целую версту растянулись! — сердито крикнул Гуро. — А ну, наведи мне живо порядок!
— Слушаюсь, товарищ квартирмист. Сейчас порядок произведу, — сказал Захаров упавшим голосом. — Ох уж эти мне ребята! Одно слово — обоз.
Он выехал на обочину дороги и, остановив лошадь, стал пропускать подводы мимо себя.
— Товарищ Гобаренко, — тихо заговорил Сидоркин, пристраиваясь сбоку к Гуро, — как мы давеча ехали, я хутор приглядел. Богато живут. Есть чего взять. Может, заскочим? Тут недалеко.
— Засыпаться?
— А раньше?
— Мы тогда двигались, а сейчас стоим на месте. Неужели не понимаешь, балда!
Сидоркин с досадой пожал плечами.
— У тебя сколько гранат? — спросил Гуро.
— Две лимонки.
— Дай мне одну.
Сидоркин молча подал гранату.
Гуро остановил лошадь и прислушался. Вдали на дороге слабо тарахтели повозки.
— Тут где-то была влево дорога, — сказал он, оглядываясь.
— А вон она, дорога, — показал Сидоркин, — аккурат за тем большим деревом.
Они тронули рысью, миновали развилку дороги, переехав заросшую кустарником канаву, свернули в лес.
Захаров, пропустив обоз и найдя все в порядке, ехал обочиной. «И чего зря ругается! — думал он, посматривая вперед, где, по его предположениям, должен был находиться Гобаренко. — Нет, видать, ошибся я в нем. Суматошный это и пустой человек. Беда с этаким служить. У него, у чорта, видать, одно на уме — как бы перед начальством выслужиться. Видал я за свой век чертей, а такого не видывал. И еще всякие такие слова выражает. Это старому-то человеку? Тьфу! Как есть пустой человек…»
— Покурить бы, папаша, — сказал ездовой с крайней повозки.
— Я те покурю!
— Да мы тихонько, право! Разреши, товарищ взводный, — попросил другой голос.
— Нет, нет, сынки. Потерпите. Мысленное ли дело курить — такой груз везем, — говорил Захаров тоном человека, не вполне уверенного в том, что приказание его будет исполнено.
Дальнейшее произошло так неожиданно, что он не успел даже ахнуть. Впереди близ дороги вспыхнуло пламя, и, сотрясая воздух, грохнул оглушительный взрыв. По лесу загремели ружейные выстрелы.
— Обошли! Спасайся, братва! — пронесся панический крик.
Послышался железный грохот колес. Ездовые, кружа вожжами над головой, нахлестывали лошадей, понукая их дикими криками. Обоз рысью влетел на левую дорогу.
— Стой, стой! Куда? Застрелю! — отчаянным голосом кричал подскочивший Гуро. Подняв револьвер над головой, он стрелял в воздух, усиливая общую панику.
Вновь прокатился оглушительный взрыв.
Обезумевшие лошади подхватили в галоп и понесли повозки по кочковатой дороге.
Переправившись вброд через реку, Панкеев скрытно подводил бригаду к опорному пункту. И он сам, и Бочкарев, и полковой адъютант напряженно посматривали вперед, туда, где за лесом полыхало огромное зарево и откуда катился громовой грохот орудий, но сигнала Морозова — зеленой ракеты — все еще не было.
Укрыв бригаду в лесистой балке, Панкеев спешился и вместе с Бочкаревым и адъютантом прошел вперед, к опушке.
Отсюда хорошо была видна вся деревня. Красновато-черные клубы дыма, медленно перекатываясь, поднимались в небо, застилая свет месяца. Большие языки пламени, шевелясь, охватывали угрожающе трещавшие ели и сосны и горевшую колокольню. Отблески пожара играли на глади большого пруда, и он казался наполненным раскаленным докрасна кипящим металлом. Там по мосткам у купальни перебегали люди..
— Светло, как днем, — заметил Бочкарев, опуская бинокль, — письма можно читать.
Впереди на фоне пожара возник черный силуэт огромного всадника.
— Дерпа едет, — сказал адъютант.
Остановившись в низинке, Дерпа грузно слез с лошади и, придерживая шашку согнутой в локте рукой, подошел к Панкееву.
— Ну как, дружок? — спросил Панкеев.
— Есть подступ, товарищ комполка, — сказал Дерпа, вытягиваясь. — Если мы пойдемо ось по той балочке, — он широким движением повел рукой в сторону деревни, — то они нас нипочем не увидят. Ну, а дальше до самой деревни открытое поле.
— Ну, хорошо. Оставайся здесь, потом покажешь дорогу.
Позади них в лесу послышался бешеный конский топот. Кто-то скакал, спрашивая на ходу командира полка. Ломая кусты, на опушку выскочил Сидоркин.
— Товарищ комполка! Обстреляли! — крикнул он, подъезжая к Панкееву и останавливая тяжело дышавшую лошадь.
— Кого обстреляли? — спросил Панкеев.
— Обоз обстреляли! Товарищ Гобаренко раненный!.. Как они на нас кинулись, как давай палить, как…
— Погоди! Не спеши! Толком говори! — оборвал его Бочкарев. — Где вас обстреляли?
— Только мы до дороги доехали, а они как жахнут по нас!
— До какой дороги?
— Да там дорога такая. Видать, за сеном ездют. Так все брички как есть в болоте загрузли.
— Много их было? — спросил Панкеев.
— С эскадрон. А может, полк. Кто его знает! Обозники еле отбились.
— Гобаренко сильно ранило? — тревожно спросил Бочкарев.
— В щеку, с рикошета. А крови!..
Панкеев и Бочкарев переглянулись.
— Что будем делать? — спросил Бочкарев.
Панкеев озабоченно качнул головой.
— Придется посылать эскадрон, — сказал он с досадой.
Он подозвал Карпенко и дал ему указания отправиться с эскадроном на выручку обоза.
С южной окраины деревни, где как раз в эту минуту вторая бригада прорвалась к первой линии окопов, донесся перекатывающийся крик.
Бочкарев взял Панкеева за руку и коротко спросил:
— Слышишь?
Панкеев прислушался.
— «Ура» кричат. Атакуют, Павел Степанович, — сказал он озабоченно.
— Ракета! — воскликнул адъютант.
Они подняли головы. В кроваво-красном небе медленно таяли зеленые звезды.
Все вокруг ожило и зашевелилось. Лес наполнился шорохом. С частым топотом бригада стала спускаться рысью по балке.
Вихров с трудом сдерживал лошадь. Его охватил тот восторженный юношеский пыл, когда хочется, слившись в одно целое с бешено скачущей лошадью, очертя голову броситься навстречу опасности. Сердце его колотилось с такой неистовой силой, словно хотело выскочить вон и умчаться вперед, туда, где кипел бой и откуда доносились крики бойцов. Ему стоило больших усилий сохранить самообладание и остаться наружно спокойным. Он покосился на ехавшего рядом с ним Ильвачева, стараясь узнать, не заметил ли военком его слабости, но Ильвачев хранил обычный спокойно-сосредоточенный вид. Почувствовав на себе взгляд Вихрова, он, блеснув очками, строго посмотрел на него и молча кивнул в направлении выстрелов, будто сказал: «Слышишь? Ну, теперь смотри во всех отношениях!» Вихров сразу понял, что хотел сказать Ильвачев, и ощутил обычную уверенность в своих силах.
Спустившись по балке, бригада переправилась через глубокий ручей и поднялась к косогору. Лес кончился. Впереди до самой деревни расстилалось холмистое поле. Полки взводными колоннами вышли к опушке.
— Ты как думаешь бить? — тихо спросил Бочкарев, обращаясь к Панкееву.
— А вот так — наискося, — показал Панкеев в сторону деревни.
— Всей бригадой?
— А что?
— Может, разделимся? Часть пустим в обход?
Панкеев досадливо поморщился.
— Ну, чего там канителиться! И так порубим. Тут и всего-то версты полторы, на три минуты движения. Они и оглянуться не успеют, как мы подскочим.
— А ты уверен, Арсений Петрович? — с сомнением спросил Бочкарев.
— В первый раз, что ли? На деникинском и не таких рубали, — с пренебрежением сказал Панкеев, подбирая поводья и поправляясь в седле.
Он дал шпоры жеребцу, выхватил шашку и полуобернулся к рядам. Бойцы увидели его крупное лицо, освещенное багровым трепещущим светом. Жеребец взвился, перебрал передними ногами и хватил с места огромным прыжком.
Панкеев махнул сверкнувшим, как искра, клинком, и всадники широким галопом вырвались из леса на ярко освещенное заревом, пересеченное лощинами и перелесками холмистое поле.
Иван Ильич, крикнув команду, помчался вперед. Мелькая белыми бабками, Мишка птицей понес его в поле. Эскадрон грохочущей лавой устремился за ним.
До деревни оставалось около километра. Расстояние быстро сокращалось. Под копытами лошадей с бешеной скоростью летела земля.
Привстав на стременах, Вихров зорко всматривался в окраину деревни, но там пока не было заметно движения. Справа от него, держа у стремени широкий кавказский клинок, скакал Миша Казачок, слева — Харламов. Сзади, понукая запотевших лошадей, мчались Лопатин и Назаров.
Взглянув вправо, Вихров увидел соседний первый эскадрон. Бойцы, откинувшись в седлах, на всем скаку спускались в низину. Вот они скрылись из виду и тотчас же широкой волной вынеслись на ту сторону лощины. Впереди левофлангового взвода, клонясь к шее лошади и кружа над головой сверкающим клинком, скакал Тюрин. Его крупная гнедая кобыла захватывала в прыжок по нескольку метров, еле касаясь земли тонкими упругими ногами.
— По-олк! Направление на колокольню! В атаку! Ура! — послышался бодрый голос Панкеева.
— Ура-а-а! — дружно подхватили вокруг голоса.
Но тут словно свинцовым ливнем ударило по флангу полка, и Вихров, пригнувшись, увидел, как высоко в воздухе блеснули Мишкины бабки. Строй пронесся вперед. «Убили!» — подумал Вихров. Он оглянулся. К Ладыгину вихрем подскочила тачанка. Больше он ничего не увидел: вся масса всадников с криком и топотом понеслась во весь мах, чтобы скорее достичь деревни, и он, подхваченный общим движением, продолжал мчаться вперед. Как вдруг навстречу полку лихорадочно ударили пулеметы. Лошадь Вихрова резко шарахнулась в сторону. Рядом с ним кто-то упал. Послышались тревожные крики. Взвиваясь на дыбы, падали лошади. Бойцы кинулись в стороны. Эскадроны смешались в одну общую массу.
— Назад! Отходи в балку! — загремел голос Панкеева. — Живо! Галопом!
Бойцы кучей поскакали назад.
— Стой! Стой, братва! Взводный остался! — крикнул рядом с Вихровым незнакомый боец.
— Где? Какой взводный? — быстро спросил Вихров.
— Тюрин! Эвот лежит! — показал боец в сторону деревни, где подле куста билась, поднимаясь на передние ноги, гнедая кобыла.
Вихров повернул лошадь и выпустил ее во весь мах. Он делал это не думая, не соображая, а подчиняясь подсознательному чувству, которое подсказало ему это решение.
— Хватай стремя! — крикнул он, подскакав к Тюрину.
Тот лежал без движения.
Вихров спрыгнул с седла, схватил безжизненное тело товарища и, подняв его, перевалил через седло. Он занес уже ногу в стремя, когда в нескольких шагах от него раздался крик:
— Хальт! Стой, пся крэв!
К нему, держа винтовки наперевес, бежали легионеры. Вихров сорвал с ремня гранату и, широко размахнувшись, бросил ее под ноги солдатам. От взрыва лошадь взвилась на дыбы. Он толчком прыгнул в седло и, крепко придерживая тело товарища, поскакал к эскадрону.
Уже на полпути он заметил, что навстречу ему, что-то крича, мчится Маринка.
— Кого везешь? — на скаку спросила она, придерживая и повертывая лошадь.
— Тюрина.
— Что, ранило?
— Не знаю.
— Ну, давай скорей! Наши отходят.
— А вторая бригада?
— Все, все. Начдив приказал отступать.
— Как наш командир эскадрона?
— Живой. Коня у него убили…
Отступив из-под Дзионькова, дивизия отошла на ночлег в большое село. В хатах зажигались огни. Во дворах лениво брехали собаки. Вокруг слышались голоса, заливистое ржанье лошадей, скрип ворот. Возле распряженных тачанок копошились ездовые.
Иван Ильич Ладыгин с деланно-сердитым видом ходил по комнате. Ильвачев сидел у окна и, опустив голову, крутил папироску. Вихров, сильно похудевший, загорелый, стоял навытяжку, настороженно следя за Ладыгиным.
— Та-ак, — сказал Иван Ильич, останавливаясь против Вихрова. — Что же мне теперь делать с тобой? За то, что бросил в бою эскадрон, полагается расстрел. — Он, смеясь одними глазами и храня на лице суровое выражение, пристально посмотрел на Вихрова. — Так ведь по уставу?
Вихров молчал.
— Один великий полководец сказал: «Не держись устава, яко слепой стены», — не поднимая головы, проговорил Ильвачев.
— А ведь правильно сказал! — оживился Ладыгин. — Соображать надо. В жизни всякие случаи бывают. Ну, добре. Иди пока. А мы с военкомом подумаем, как с тобой поступить: к ордену представить или голову снести.
Вихров вышел из хаты.
— Молодежь, — сказал Иван Ильич, — надо и не перехвалить и чтоб службу помнили. А то другого похвалишь, а он нос задерет.
— Ну, Вихров, положим, не такой, — заметил Ильвачев.
— Это конечно, — согласился Ладыгин, — но для предупреждения не вредно иногда и хвост покрутить. Пусть почувствует.
В сенцах послышался стук шагов, и в хату вошел Крутуха.
— Товарищ командир, самовар будем наставлять? — спросил он, щурясь на лампу.
— Конечно! Что за вопрос! — обрадовался Ладыгин. — Давай ставь скорей…
Иван Ильич присел к столу и, вынув из сумки полевую книжку, стал составлять донесение.
…Выйдя от Ладыгина, Вихров прошел по расположению взвода и сел покурить на лавочке у ворот своего дома.
Над селом лежала глубокая ночь. На невысоком холме белел старинный помещичий дом с колоннадой. Перед домом, напоминая огромное зеркало, блестел большой круглый пруд с трепетавшим в нем отражением месяца. От усадьбы к селу шла широкая дорога. По обеим ее сторонам виднелись мраморные статуи. В окнах дома мелькали огни — штаб дивизии располагался на отдых.
Вблизи послышались шаги. Вихров поднял голову. Разговаривая между собой, к нему подходили два человека. По высокому, бойкому голосу одного из них Вихров узнал Митьку.
— Лопатин, ты? — спросил Вихров.
— Он самый! — весело откликнулся Митька.
— А кто то с тобой?
— Харламов, товарищ командир, — сказал густой низкий голос.
— Чего вы не спите?
— Да вот все толкуем с Харламовым, почему у нас шибко нехорошо получилось, — сказал Митька подходя и присаживаясь на лавочку.
Вихров уже хорошо знал привычку конармейцев доискиваться причин неудачи в бою, и его нисколько не удивило заявление Митьки.
— Ну и как же вы решили, товарищи? — спросил он, помолчав.
— Стал быть, по моему рассуждению мыслей, надо бы было нам с другого края зайти, — сказал Харламов.
— А не все ли равно, с какого конца заходить! — горячо заговорил Митька. — Дело не в этом. Будь моя воля, я б с двух сторон ударил. Одним эскадроном прямо по, деревне и молчком, без крика. А остальными тремя иззади, в обход. В общем внезапно. Он бы и не знал, куда ему с пулеметов палить.
«А ведь он прав», — подумал Вихров.
— Тактика предусматривает, что при одном положении может быть несколько решений и все они могут быть относительно верными, — сказал он осторожно, желая не уронить престиж Панкеева.
— Только одному решению цена рубль, а другому — копейка, — подхватил Митька.
— Это ты откуда слыхал? — удивился Вихров.
— Не слыхал, а читал. У вас же в уставе карандашом записано. Сами, верно, писали, — сказал Митька.
Вихров ничего не ответил, а только внимательно посмотрел на него.
— Ваше решение, товарищ Лопатин, по-моему, правильное, — сказал он, помолчав.
— Вот я и говорю! — обрадовался Митька.
По дороге послышался стук колес. Из мрака с тяжелым топотом медленно надвигалась какая-то темная масса.
— Батарея идет, — сказал Харламов, вытягивая шею в сторону шума и присматриваясь.
Теперь уже отчетливо слышалось железное громыхание колес и катившийся по земле мерный конский топот. Под светом месяца показался силуэт всадника, и чей-то молодой голос спросил:
— Какой части, товарищи?
— А вы кто? — спросил Вихров, поднимаясь и подходя к всаднику.
— Я командир батареи… Одним словом, ищем, где бы переночевать. Тут, что, все занято? — спросил он, нагибаясь с седла.
Свет месяца упал на него, и Вихров увидел совсем молодое задорное лицо с легким черным пушком на верхней губе. Новая фуражка и блестевшее снаряжение говорили о том, что это был новичок, молодой командир, не так давно выпущенный с командных курсов.
Невольно почувствовав к нему расположение, Вихров сказал, что рядом есть несколько свободных хат и что сам командир батареи, если захочет, может остановиться у него на квартире.
— Вот и прекрасно! — весело сказал командир батареи. — Одним словом, договорились. Калошка, ко мне! — юношеским баском позвал он, повернувшись в седле и поправляя наплечный ремень.
Калошкой звали усатого бравого старшину. По тому, с каким видом он подъехал к командиру батареи, придержав нарядную лошадь, и обратился к нему, Вихров сразу почувствовал, что этот уже старый человек очень уважает и любит своего командира.
— Слушаюсь, — почтительно произнес он, получив распоряжения. — Здесь и постановим, — подняв руку, он показал на полянку.
Ездовые и номера завозились подле орудий, выставляя их в одну линию.
— А ну, быстрей копайся! — покрикивал старшина. — Чтоб у пять минут усе было готово!
Командир батареи слез с лошади, расправил затекшие ноги и вместе с Вихровым вошел в хату.
— Молочка бы стаканчик, — сказал он, оглядываясь.
— А вон в кувшине, — показал Вихров.
Он подошел к столу, раскрыл покрытый чистым полотенцем кувшин и, взяв кружку, налил в нее молока.
— А ведь мы с вами и не познакомились, — сказал командир батареи, улыбаясь и отпивая из кружки. — Гобар, — звякнув под столом шпорами, представился он.
Вихров назвал себя и с любопытством посмотрел на него.
— Удивляетесь, что фамилия французская? — все еще улыбаясь, продолжал Гобар. — Нет, я чистокровный русак. Мой прадед служил у Наполеона в драгунах, попал в плен под Смоленском и остался в России. Батька на Путиловском работает фрезеровщиком. Сейчас он где-то в этих местах. За хлебом от завода уехал. Одним словом, с моей фамилией произошло прямо противоположное романовской.
— Как, то-есть, так? — не понял Вихров.
— А очень просто. Нам на курсах историк объяснял. Хотите послушать?
— Да, да, конечно! — живо сказал Вихров, во все глаза глядя на Гобара.
— Ну-с, значит так. Принес историк на урок два стакана. Наливает в один чистой воды и говорит: «Предположим, что это кровь русских царей, включая Петра». Так. Наливает в другой стакан чернил: «А это, — говорит, — кровь немецких принцесс». Вы ведь знаете, товарищ Вихров, что после Петра русские цари женились на немках… Ну вот… И давай капать чернилами в чистую воду, поминая всех этих немок, пока вода не превратилась в чернила. Вот, значит, как… В общем из русских превратились в немцев. Ну, а у меня получилось наоборот, и по-французски я знаю только одно общеизвестное слово — «мерси»! — Он, звякнул шпорами, с насмешливом полупоклоном поставил пустую кружку на стол.
Вихров пытливо смотрел на него. Этот молодой командир, на вид совсем мальчик, начал ему положительно нравиться.
— Вам, в таком случае, надо бы и фамилию переменить. У нас в полку есть квартирмейстер Гобаренко… Может быть, он тоже когда-нибудь Гобаром был? — сказал Вихров, улыбаясь.
Гобар бросил быстрый взгляд на него.
— Я все гляжу на вас, товарищ Вихров, и вспоминаю, где мы с вами встречались, — сказал он, помолчав.
— Вы какие курсы кончали? — спросил Вихров.
— Петроградские артиллерийские. А что?
— Ну, значит, мы где-нибудь там и встречались.
— А, так вы петроградский! Постойте, вы под Пулковом были?
— Был командиром разведки при штабе бригады курсантов.
Смуглое от природы лицо Гобара приняло восторженное выражение. Он даже чуть приоткрыл рот.
— Ну вот! Точно! — вскрикнул он, весь просияв. — Я тогда с донесением приезжал, а вы спали на диване в комнате командира бригады.
Вихров рассмеялся.
— Правильно. Был такой случай. Я тогда проспал подряд двадцать часов.
— Почему? — удивился Гобар.
— Из-за адъютанта. У командира бригады был адъютант из студентов. Да… Вызывает раз меня ночью. Я несколько задержался. «Почему так долго?» — спрашивает. Я говорю: «Спал». — «Как спал? Разве вы не знаете, что по уставу начальнику разведки спать не положено?» Ну, я, конечно, стою, молчу. Вот, думаю, влетел — устава не знаю. Я тогда еще был зеленый и принял его шутку всерьез… Ну, не сплю сутки, другие — в глаза как щетины насыпали. На четвертые сутки вдруг вызывает меня комбриг по делу. «Что у вас за вид?» — спрашивает. Я докладываю: четвертые сутки, мол, не сплю. «Почему?» — «По уставу мне не полагается спать». — «Как не полагается? Что за чепуха!» Ну, я стал ему объяснять и вдруг повалился прямо под ноги. В общем стоя заснул. У него-то в кабинете тепло было. Ну, он меня поднял, на диван положил и приказал не беспокоить. Так я и проспал двадцать с лишним часов, — закончил Вихров, улыбаясь.
— Много беспорядка бывает из-за таких вот чудаков, — заметил Гобар. — Вот сегодня еще отправили обоз за снарядами, а прикрытия не дали.
Вихров пожал плечами.
— Тут же тыл. Кто мог думать!
— Ну, все-таки, знаете. Ведь не за репой поехали. И вот из-за такой мелочи проиграли бой. Я весь боекомплект расстрелял. Вторая батарея тоже. А нам бы еще штук полсотни снарядов — и ваших нет. Вторая бригада в атаку пошла, а нам поддержать нечем. Чепуха, одним словом.
— Ну, что, будем ужинать? — предложил Вихров. — У меня есть сало, хлеб. Чаю можно согреть.
— С большим удовольствием, — согласился Гобар. — Только, если можно, немного погодя. Я пойду посмотрю, как там устроились мои ребята.
Он надел фуражку, кивнул Вихрову и, звеня шпорами, вышел из хаты.
Его небольшая гибкая фигура мелькнула под окном и вдруг словно растаяла в сумраке ночи.
III
Темнело. На раскинувшееся вдоль реки большое село навалилась из-за леса лохматая черно-синяя туча. Отражая снизу багровое пламя заката, туча постепенно охватывала все небо и подбиралась к бледно светившему месяцу. Густая теплая мгла опускалась на землю.
Было тихо и душно. Пахло цветущими вишнями. С нижней части села доносились пиликающие звуки гармоники.
Лошади лениво брели с водопоя, заполняя улицу стуком копыт и устало приволакивая задние ноги. Над дорогой вилась легкая пыль.
Внезапно налетел ветер. По траве пробежала быстрая рябь. Забились и зашумели деревья.
Вдали блеснула зеленоватая молния и глухо, как потревоженный в берлоге медведь, заворчал гром.
В окнах дома, где у палисадника рвался на пике кумачевый значок, ярко загорелся огонь.
Буденный и Ворошилов сидели за столом в чистой горнице и слушали Зотова, который, густо покашливая, докладывал обстановку на фронте.
По тому, как Ворошилов, сердито хмурясь, постукивал ладонью о стол, по гневному выражению его обычно веселых и приветливых глаз было видно, что он не в духе.
Буденный сидел с края стола, покручивал ус и, собирая мелкие морщинки меж широких черных бровей, видимо, что-то обдумывал..
Из доклада Зотова было видно, что великолепно вооруженный противник проявляет большое упорство, и хотя дивизии Конной армии и добились значительных успехов, но основная задача — прорыв фронта — осталась невыполненной. Конармейцы, привыкшие решать дело быстрым ударом в конном строю, тут, на новом фронте; встретились с сильно укрепленными опорными пунктами и засевшей в них стойкой пехотой. За последние дни на участке Конной армии появились новые части противника — 13-я и 18-я пехотные дивизии, укомплектованные познанскими немцами и обильно снабженные техникой.
— На карьере их, конечно, не возьмешь, — заговорил Ворошилов, когда Зотов кончил докладывать. — Но что касается сильного вооружения, то мы, большевики, признаем и другую, проверенную историей истину, что исход войны в конечном счете решают живые люди. Эти замечательные люди, наши бойцы, у нас есть, но не все начальники умеют правильно руководить ими. Одни лихо атакуют пулеметы и проволоку, другие топчутся на месте, не зная, что предпринять, третьи обожглись и пали духом. К счастью, таких рыцарей на час единицы… Семен Михайлович, — он повернулся к Буденному и в упор взглянул на него, — как вы думаете, стоит провести в частях примерные учения по штурму опорных пунктов?
— Это было бы очень хорошо, — согласился Буденный, быстро взглянув на вошедшего в эту минуту Орловского. — Завтра и начнем.
— Разрешите, товарищ командующий? — спросил Орловский.
— Ну, ну, говори.
— Я только что допросил взятого в плен артиллерийского офицера графа Вивьен де-Шатобрен…
Ворошилов и Буденный переглянулись.
— Опять француз! — сказал, Ворошилов. — Ну и что он показал, Сергей Николаевич?
— Он сделал очень характерное заявление. Он говорит, что их позиции неприступны и прорвать их невозможно. Если же нам это удастся, то им не остается ничего другого, как соорудить огромный памятник на линии их позиций и написать на нем: «Эти позиции были взяты русскими. Завещаем всем — никогда и никому с ними не воевать».
— Ловко! — усмехнулся Семен Михайлович. — Ничего, мы сами постараемся соорудить такой памятник.
В соседней комнате послышались грузные шаги, чувствовалось, шел кто-то очень тяжелый. В дверь постучали, и мягкий басок спросил разрешения войти.
— Заходи, Пархоменко, — сказал Буденный.
В горницу вошел статный, плечистый человек в заломленной на затылок черной папахе — начдив 14-й кавалерийской Пархоменко. Он присел на предложенный ему табурет и, проведя рукой по пышным усам, сказал:
— Только что вернулась разведка со Сквиры. В указанном пункте противник не обнаружен. Жители встретили наших бойцов восторженно. Просят швидко освободить их от ига польских панов.
Семен Михайлович взглянул на карту.
— Так, говоришь, Александр Яковлевич, в Сквире противника нет? — спросил он, помолчав.
— Нет. Был батальон. Ушли на Погребище.
— На Погребище? Климент Ефремович, а ведь выходит в точности, как вы говорили. Они ждут нашего удара на Погребище… А что, если мы теперь ударим сразу в трех пунктах? Прорвем фронт между Фастовом и Пустоваровской…
За окнами вспыхнула молния. Зарокотал гром. В хате дрогнули стекла.
Тихо ступая, в комнату вошел Зеленский, секретарь Семена Михайловича, совсем еще молодой командир с крупными чертами лица.
— Разрешите, товарищ командующий? — спросил он, притворив дверь. — Получен приказ товарища Сталина.
— Приказ? Дайте сюда.
Зеленский подал приказ.
— «…Главными силами армии прорвать фронт противника на линии Ново-Фастов — Пустоваровка. Стремительным ударом захватить район Фастов и, действуя по тылам, разбить киевскую группу противника», — глядя через плечо Буденного, отчетливо прочел Ворошилов.
Удар грома с новой силой прокатился над крышей. По стеклам застучали первые капли дождя. Вслед им, осветив верхушки деревьев, вспыхнула молния, и во всю ширь днепровской долины, от Кременчуга и до Белой Церкви, прокатился потрясающий грохот. Ливень хлынул на землю…
IV
Полковой врач Косой, маленький, робкий и румяный человек, очень похожий на мальчика, приставившего в шутку усы, сидел у койки Тюрина и, держа его руку, считал пульс.
Дуська, широко раскрыв глаза, с жалостью смотрела на осунувшееся, без кровинки лицо Тюрина. Его голова, обмотанная бинтами, казалась несоразмерно большой, и от этого лицо со страдальческой складкой в уголках губи заострившимся носом было совсем маленьким и ребячьим.
Косой поднялся и устало вздохнул.
— Дуся, вы побудете здесь, — заговорил он, взглянув на часы. — Я пойду к себе, отдохну немного. Три ночи не спал.
— Товарищ врач, а он будет живой? — с тревогой спросила она.
— Теперь будет, — сказал Косой с твердой уверенностью. — Но, видимо, придется ампутировать ногу. Вы часа через два разбудите меня и приготовьте линейку. Отправим его в госпиталь вместе с общей колонной.
Косой вышел.
Дуська присела в ногах Тюрина. К горлу ее подкатывали слезы. «Вот, — думала она, — жил себе человек, ходил, веселился, а теперь ногу отрежут. А ведь молоденький. Совсем еще мальчик. И мать, поди, есть». Она хлюпнула носом и, превозмогая отчаянное желание зареветь, смахнула со щеки набежавшую слезу. «Ох, уж эти мне мужики!» — подумала Дуська.
Она вздохнула и вдруг вздрогнула, уловив на себе пристальный взгляд.
Тюрин, открыв глаза, смотрел на нее.
— Ой, миленький! Лучше тебе? — вся оживившись, почти вскрикнула Дуська.
Тюрин ничего не ответил, продолжая смотреть на нее.
— Ты ведь три дня в бреду лежал, — заговорила она. — То в атаку кидался, то Сашу поминал.
— Дзионьков взяли? — тихо спросил Тюрин.
— Нет. Пулеметами нас отбили, — сказала Дуська.
В глазах Тюрина промелькнула тревога.
— И что, большие потери?
— Большие. С вашего эскадрона трех человек убили: Позднякова, Мишуту и взводного Бобкина. У нас — Гришина и Приходько. А пораненных!.. Петьку-махновца конь к панам занес. Удила закусил. Потом разведка нашла его. Как есть весь штыками поколотый. Надругались гады над ним. И тебе б то же было, если б не Вихров.
Тюрин широко раскрыл глаза.
— Вихров? А что Вихров? — спросил он тревожно.
— Так он же тебя на коня взял. Как они с пулеметов ударили — мы назад, а ты остался. Вот он, значит, вернулся и поднял тебя… Ты лежи, лежи себе, — вдруг забеспокоилась Дуська, увидя, что Тюрин зашевелился.
Он тяжело и часто дышал. На его бледном лице проступили розовые пятна.
— Дуся, — сказал он, помолчав. — Иди позови Вихрова.
— Нельзя, миленький. Врач не приказывал никуда уходить.
— Так тут рядом.
— Нельзя, родной мой, не имею права.
— Значит, не пойдешь? — грозно сказал Тюрин, приподнимаясь на локтях. — Хорошо. Тогда сам пойду. — Он резко привстал и, болезненно вскрикнув, упал на подушку.
— Ну, хорошо, хорошо, милый, схожу, — сказала Дуська, с беспокойством взглянув на него.
Она выбежала из палатки и, размахивая руками, стремглав побежала по пустынной сельской улице.
Когда, спустя некоторое время, она возвратилась вместе с Вихровым, Тюрин лежал, закрыв глаза, и, казалось, спал.
Дуська нагнулась над ним.
— Не надо, — прошептал Вихров. — Не беспокой его. Он спит.
— Нет, я не сплю, — тихо сказал Тюрин, открывая глаза. — Алеша, подойди сюда, сядь… Дуся, выйди, пожалуйста.
Вихров осторожно присел на кровать.
— Алеша, знаешь что… очень, понимаешь, нехорошо получилось, — запинаясь, заговорил Тюрин, перебирая худой рукой одеяло. — Ты прости меня, Алеша… я очень плохой человек… Как это комиссар на курсах говорил? Непорядочный. Да… Ты вот всегда болел за меня, заботился… Был настоящий друг… а я тебе такое сделал… такое, что и назвать не могу…
— Не надо, Миша, не говори. Я все знаю, — сказал Вихров, поглаживая руку товарища.
— Знаешь? Откуда знаешь? Тебе Саша сказала, что я ей наврал про тебя?
— Нет, не Саша, но это не имеет значения.
— Значит, знаешь? Ну, тем лучше. Прости меня, Алеша. Ведь вряд ли мы теперь увидимся. Я не спал и все слышал. Доктор говорил, что мне ногу отрежут, — в голосе его прозвучало рыданье. — Слушай, Алеша… знаешь, что я тебя попрошу? Позови сюда Сашу. Я хочу с ней проститься. Ты ничего не имеешь?
Вихров поднял голову, собираясь итти, и вдруг увидел Сашеньку, которая, вся подавшись вперед и прижимая руки к груди, стояла у изголовья кровати.
V
С утра 5 июня на землю опустился густой промозглый туман. Моросил мелкий дождь. Воздух был полон приглушенных звуков. Слышался конский топот, тихие голоса, железное громыхание артиллерийских запряжек: сосредоточиваясь к месту прорыва, по раскисшим дорогам шли полки и дивизии. В начале шестого часа утра первая бригада 4-й дивизии вошла в деревню Молчановку. Эскадроны в ожидании приказа спешивались на площади подле церкви, слышались тихие разговоры и смех. Где-то, пиликнув, смолкла гармошка.
Взводный Ступак, еще на походе заступивший на место заболевшего командира эскадрона, чертил ножнами шашки по мокрой земле и, с трудом подбирая слова, говорил, обращаясь к бойцам:
— Значица, товарищи бойцы, понимать надо так: паны забрались в окопы и смеются над нами. Они интересуются знать, как, мол, буденновцы достанут до них через проволоку. Положение наше, товарищи, трудное. Проще сказать, тяжелое положение. Но, как говорит товарищ Ленин, нет ничего невозможного. Правильно. Нам надо только набраться духу и вдарить так, чтобы у панов очи разом на лоб повылазили. Надо им показать, что такое есть Конная армия, с которой им надо не смеяться, а плакать…
Тут он ввернул хлесткую прибаутку, встреченную бойцами взрывом веселого смеха, и еще раз пояснил, что под властью панов томится пол-Украины, а в тюрьмы брошено несколько тысяч красноармейцев, которые умирают с голоду.
— Теперь, ребята, слушай сюда, — говорил Ступак, изображая кружок на земле. — Это вот деревня Молчановка; здесь находится наша дивизия, а перед нами, у Озерна, укрепились паны. Задача дивизии — прорваться у Озерна. Правей нас, у Шапеевки, четырнадцатая дивизия. Она будет бить разом на Самогородок, Левее одиннадцатая наступает на Снежно. Шестая дивизия будет итти чуток левее, почти следом за нашей. Всем нам задача — выбить панов с Киева… — Ступак расправил мокрые желтые усы, оглядел бойцов и громко спросил: — Все ли понятно? У кого есть вопросы?
— Понятно! Доколь на месте стоять? Даешь наступление, товарищ комэск! — загудели в рядах голоса.
По улице послышался быстрый конский топот. К Ступаку подскакал захлестанный грязью боец. Он нагнулся с седла, что-то шепнул ему на ухо. У Ступака дрогнула светлая бровь и старое лицо приняло озабоченно-серьезное выражение. Он повернулся к эскадрону и подал команду.
Бойцы торопливо оправляли седловку, разбирали поводья и поспешно садились. Вдруг по рядам прошло радостное оживление. Из глубины улицы мчалось несколько всадников. Несмотря на туман, Ступак сразу же узнал Буденного. Плечо к плечу с ним, придерживая повод лошади, скакал Ворошилов. В двух флагах за ними ехал Зотов. Вслед ему скакали два трубача-сигналиста и казак с кумачевым значком.
— Какого полка? — спросил Буденный, равняясь с головным эскадроном. — А, Ступак! — узнал он командира. — Начдива не видел?
— Да вот он, начдив, Семен Михайлович, — сказал стоявший на фланге старый боец, показывая плетью вдоль площади.
Навстречу Буденному скакал начдив Карачаев. Рослая вороная лошадь, согнув шею, пустив хвост пером, легко несла на себе словно влитого в седло большого смуглого всадника в сдвинутой на затылок смушковой папахе.
— Чего же вы, товарищи, до сих пор толчетесь на месте? — спросил Буденный, нахмурившись, когда Карачаев подъехал к нему и доложил обстановку.
— Сейчас начнем, Семен Михайлович. Третья бригада задержалась, — сказал Карачаев.
— Так подтолкнуть надо! — бодро сказал Ворошилов. — Справа Пархоменко уже напирает, слева Морозов! Смотрите, как погода благоприятствует. Кругом туман. Ну-ка, живей отдавайте распоряжения. Тут их и всего-то на один хороший удар.
Карачаев молча поднял руку к папахе, блеснул темными глазами и, повернув лошадь, умчался.
Буденный взглянул на часы. Было ровно без четверти шесть. Он оглянулся на Зотова.
— Степан Андреич, связь с артиллерией есть? Где батареи?
— Да вот они движутся, — показал Зотов на вынырнувшие из тумана запряжки.
Громыхая на выбоинах, на-рысях шли батареи. Огромные лошади, раздувая мокрые бока, широко выбрасывали могучие лохматые ноги.
Растянувшись длинной колонной, со стороны Шапеевки подходила бригада 14-й дивизии. По приказу Реввоенсовета Конной армии бригада выделялась в резерв 4-й дивизии, ломавшей фронт на самом тяжелом участке…
Дождь перестал. Сквозь туман бледно сверкнул солнечный луч. Но, редея вверху, туман все больше сгущался в низинах. В нем одна за другой скрывались цепи второй бригады, начинавшей бой в пешем строю.
Ворошилов привстал на стременах и посмотрел в сторону спешенной бригады. Там, где виднелись поросшие редким лесом холмы, поднялась цепь и быстро побежала вперед. Навстречу ей лениво и глухо застучал пулемет. Выпустив короткую очередь, пулемет смолк, но сразу же снова, словно испугавшись, торопливо хватил длинной строчкой. В ту же минуту по всей линии, сначала редко, а потом все чаще и чаще, защелкали ружейные выстрелы.
За Озерна одна за другой с небольшим промежутком ударили вражеские пушки. Батареи начали пристрелку.
Ворошилов повернулся назад, вскинул бинокль к глазам. В окулярах обозначились бешено скачущие орудийные запряжки 4-й дивизии. Он увидел, как скакавший впереди командир широким движением повел в сторону рукой и как идущая за ним батарея, развертываясь к бою, поворотила правым плечом, широким фронтом вынеслась вскачь на огневую позицию и снялась с передков. Подле орудий быстро закопошились маленькие, как муравьи, фигурки людей. Передки, оставив пушки, рысью отъезжали по пологому склону поля. Не прошло и минуты, как у правого с края орудия вспыхнул белый дымок, и снаряд, шурша в воздухе, ушел в сторону Озерна.
Рассеиваясь, таял туман. Все ярче светило солнца. Быстро подсыхала земля.
Издали наплывал перекатами треск ружейной и пулеметной стрельбы. Слева, как раз с того места, где надвинувшаяся на солнце тучка отбрасывала длинную тень и где наступала вторая бригада под начальством молодого комбрига Тюленева, доносился сливающийся крик. Левый фланг, где находился комбриг, сильно продвинулся вперед, охватывая Озерна слева, правый продолжал оставаться на месте. Ворошилов посмотрел в бинокль: залегшие цепи не продвигались вперед; перед ними то тут, то там, как на шахматной доске, вспыхивали черные клубочки артиллерийских разрывов.
— Семен Михайлович, я проскачу ко второй бригаде, — сказал Ворошилов.
Он позвал ординарца, сунул бинокль в чехол и, по привычке подав шенкель вперед, толкнул лошадь в галоп.
Буденный стоял на пригорке и, прищурившись, смотрел в бинокль.
Впереди открывалось все поле сражения, пересеченное лощинами и редкими перелесками. Справа, где за Шапеевским лесом дралась за Самогородок 14-я дивизия, и слева, где начдив Морозов вел в наступление 11-ю, стоял сплошной гул батарей. Прямо против того места, где остановился Буденный, и немного правее горевшей мельницы виднелись широкие полосы проволочных заграждений. Позади проволоки тянулись окопы. В глубине, вдоль опушки синевшего леса, колыхаясь в сизом облаке пыли, двигалась какая-то масса: к месту боя беглым шагом подходили резервы 13-й познанской дивизии противника.
Внезапно вправо в лощине что-то сверкнуло, и среди редких деревьев появилось несколько всадников на серых лошадях.
— Товарищ командующий, уланы! — сказал Зеленский, опуская бинокль.
— На ловца и зверь бежит, — заметил Буденный. — Возьмем «языка»…
Связной штабного эскадрона Щербина — молодой кубанский казак, слывший среди бойцов краснобаем, — посланный для связи к начдиву, выехал в эту минуту на высокий курган и тоже увидел улан. Уланы — их было около эскадрона — рысью спускались по склону лощины. Наперерез им, прикрываясь высоким кустарником, широким галопом скакало несколько всадников. Впереди всех на крупном буланом коне с черным хвостом мчался всадник в защитной фуражке. Щербина сразу же узнал командарма.
Ошеломленные внезапной встречей, уланы нерешительно схватились за сабли. Буденный рванул из ножен клинок, прочертил над головой сверкающий круг и, бросил лошадь навстречу уланам. Всадники сшиблись и, размахивая саблями, закружились на месте. У Щербины зарябило в глазах: где свои и чужие — разобрать было трудно. Но потом он ясно увидел, как уланы во весь мах неслись к Озерна, а Буденный со своими всадниками — их было десять или двенадцать — рысью возвращался назад. Впереди него, прихрамывая, бежал пленный улан.
Семен Михайлович спешился и, расправив усы, с усмешкой в зеленоватых глазах взглянул на улана.
— Что ж ты, дружище, два раза стрелял в меня и не попал? — спросил он, усмехнувшись. — Э, брат, так не годится. Кавалеристу стыдно промахиваться… Ну, говори, какой части?
— Першего шквадрона третьего уланьскего регеменра, — весь вытянувшись и смотря на Буденного со скрытой тревогой, ответил улан.
Прискакав во вторую бригаду, Ворошилов слез с лошади и передал ее ординарцу. Вокруг часто посвистывали пули. Ворошилов побежал вперед, обгоняя пулеметчиков, тащивших тяжелые пулеметы на дребезжащих укатках. На склоне лощины Ворошилов заметил бойцов. Его тоже увидели — красноармейцы бежали, ложились, бросались рывками вперед. Рядом с Ворошиловым послышался шорох и треск. По кустам лез медведем громадный совсем еще молодой человек. — не то боец, не то командир. Громко сопя и ругаясь вполголоса, он волочил за собой огромную жердь. Ворошилову достаточно было взглянуть на бойца краешком глаза, чтобы определить в нем шахтера. Великан перехватил его взгляд, приветливо крикнул:
— Товарищу Ворошилову! Во братва повалила, как вы приехали. Сейчас панам духу дадут.
— Это зачем? — спросил Ворошилов, показывая глазами на жердь.
— Проволоку рвать. У меня крючок здесь насаженный, — с живостью ответил шахтер. Он перевернул жердь и показал массивный крючок. — Мы с ребятами уже приловчились… Как ее, значит, подденешь…
— Понятно, — пряча улыбку, прервал его Ворошилов. — Это ты сам, что ли, придумал?
— Сам. Получится ловко… И топором тоже. Да вот увидите. Проволока тут, шагов двадцать.
— Как твоя фамилия, товарищ?
— Шаробурко — фамилия моя, — с достоинством ответил шахтер, — а ребята зовут Кошлачом. Еще с Донбасса кличка такая[20].
— Ну, ну, давай, Кошлач, давай, не задерживайся, — ободряюще сказал Ворошилов, потрепав его по плечу.
Шаробурко привстал над кустами, зычным голосом крикнул:
— Вперед!
За скатом послышался топот множества ног. Между кустами замелькали гимнастерки, черкески, английские френчи и шахтерские блузы бойцов. Тяжело дыша, пригнувшись и размахивая руками, бежали люди, вооруженные кто винтовками без штыка, кто топором, кто огромной, как оглобля, жердью с насаженным на конце железным крючком.
Позади Ворошилова послышался быстрый конский топот. Он оглянулся. Низко припав к шее лошади, к нему во весь мах мчался казак. Он подскакал ближе и поднял руку к лохматой папахе.
— Товарищ Ворошилов, пленного взяли! Командующий приказал вам доложить! — одним духом выпалил он.
— Хорошо, — кивнул Ворошилов, — передай, что я приеду. Езжай.
Казак поворотил лошадь. Добрый дончак, виляя подвязанным хвостом, вихрем понес его протоптанной стежкой.
Степан Андреевич Зотов, забравшись в кусты, чтобы ему не мешали, лежал на животе на пригорке и писал дополнительный приказ на прорыв. Собственно говоря, надобность в этом приказе уже миновала, но он был человек аккуратный и любил доводить до конца начатое дело.
Вокруг с грохотом взрывались снаряды. Черные фонтаны земли взлетали в синее небо и, шурша, оседали, засыпая траву.
Собираясь с мыслями, Степан Андреевич вытер карандашом переносицу и, бросив взгляд на бумагу, вдруг удивился. На том самом месте, где он своим затейливым почерком вывел начальные буквы приказа, как ни в чем не бывало сидел кузнечик и шевелил зелеными усиками.
— Ты куда забрался, шельмец? — сказал Зотов, щелкнув кузнечика.
— Степан Андреич! Товарищ Зотов! — послышался голос.
Зотов поднял голову. В нескольких шагах от него стоял командир резервной бригады — пожилой человек с большими усами.
— Что вам нужно, товарищ командир? — спросил Зотов, досадуя, что его оторвали от дела.
— Вы бы перешли отсюда, Степан Андреич. Смотрите, они уже пристрелялись. Как бы вас не задело.
— Вот что, друг мой, — сказал Степан Андреевич, сердито нахмурившись. — Когда вы идете в атаку, я вам не мешаю. Потрудитесь и вы мне не мешать!
Совсем рядом рванул разрыв. Задрожала земля. Осколок, чвакнув, шлепнулся под самым носом Степана Андреевича, разметав и порвав в клочья бумаги.
— Тьфу! Чтоб тебя разорвало! — всердцах вскрикнул Зотов. — И здесь нет покоя.
Он собрал остатки бумаг и, ступая чуть вовнутрь носками и ворча что-то, направился к командному пункту.
Солнце перевалило за полдень. По всему горизонту, смешиваясь с дымом пожаров, дрожало туманное марево.
На участке 11-й дивизии наступающие цепи залегли под сильным артиллерийским огнем.
Гобар, закатав рукава, распоряжался подле орудий.
— А, не любишь! — после каждого выстрела весело приговаривал он. — А ну, орлы, пошлем-ка им еще по паре заклепок… Одним словом, бей до последнего.
— Гранатою… Два снаряда…
— Огонь!
Наводчики, картинно отбрасывая правую руку, дергали шнуры, и четыре орудия, обволакиваясь легким дымком, мягко оседали назад.
К Гобару подбежал старшина батареи Калошка.
— Пацан пришел! — крикнул он, нагибаясь к командиру и стараясь перекричать грохот стрельбы.
Гобар с досадой сдвинул черные брови.
— Пацан? Какой пацан? — спросил он сердито.
Калошка показал в сторону рукой:
— Да вот стоит.
Гобар повернулся и, увидев шустрого на вид босого парнишку в нахлобученном на уши картузе, спросил удивленно:
— Ты чего?
— Дядько, хто у вас самый главный?
— Ну, я. Что тебе нужно?
Парнишка с сомнением его оглядел, однако сказал:
— Важное дило. Тату послав.
— Да откуда ты взялся?
— 3 Снежно… Дядько, мужики казалы, мабудь вы жалкуете по мельници бить? Так вы не жалкуйте: там паньский охвицер сидить, пушками управляет. Кройте по мельници.
Гобар весело улыбнулся:
— Ай да орлы!.. Как же ты добрался сюда? Не боялся?
— Та ни! Я вже багацько сражений бачив. — Хлопчик доверчиво взял Гобара за руку и бойко заговорил: — Чуешь, дядько, мужики переказували, щоб вы швыдче йшлы. Воны хочут вам подсобить… Воны вже и телефоны порубалы.
— Провода?
— Ага, в лису чисто вси паньски провода порубалы.
В воздухе послышался все нарастающий, захлебывающийся свист. Снаряд ударил неподалеку от батареи.
— Ну, спасибо, орел! — Гобар дружески хлопнул ладонью по плечу мальчугана. — Передай вашим привет и скажи, что мы скоро придем. А теперь лети отсюда.
— Бувайте здорови, дядько!
Мелькая голыми пятками, мальчик пустился к лесу.
Внезапно издали, с той стороны фронта, донеслись тревожные звуки. Они плыли в воздухе то замирая, то переходя в сплошной медный гул.
Гобар прислушался.
— Калошка, слышишь? Что это такое? — спросил он старшину.
— Похоже — набат, — сказал Калошка, склонив голову набок — он, как старый артиллерист, был туговат на уши. — Да, точно. Набат…
Позади них кто-то подъехал, и громкий голос спросил:
— Ну, как у тебя, командир?
Гобар оглянулся. Позади орудий стоял Морозов.
— Хорошо, товарищ начдив! — весело сказал командир батареи. — Жители сообщили, что на мельнице сидит наблюдатель. Сейчас открою огонь.
— Правильно, — подтвердил Морозов, — пошли туда очередь.
За фронтом прокатился глухой раскатистый грохот. Видимо, выстрелила тяжелая пушка. Послышался сверлящий звук. Ближе, ближе. Лошадь Морозова, подняв голову, тревожно зашевелила ушами и стала пятиться.
Совсем рядом, взметнув черный вихрь, с громовым треском разорвалась граната.
Вторая граната ударилась между орудий.
Гобара подбросило в воздух и с силой швырнуло на землю. Он попробовал было вскочить, но на него со страшным гулом навалилось боком зеленое поле, и он, прикрыв глаза, снова опустился на землю.
Когда гул в ушах утих и Гобар открыл глаза, то первое, что он увидел, был Морозов, стоявший на старом месте и смотревший в бинокль.
— А ну, крой его беглым огнем, — спокойно сказал он, опуская бинокль и искоса поглядывая, как командир батареи медленно поднимался на еще дрожавших ногах. — Ударь по мельнице очередью.
Гобар отер потное лицо грязной рукой, бодрым голосом крикнул:
— По мельнице!.. Гранатой!.. Трубка… прицел… четыре снаряда… Беглым! Огонь!
Черные фонтаны земли взметнулись около мельницы. Прянуло ввысь рыжее пламя. Повалил густой дым. Вражеская артиллерия сразу же смолкла.
— Ловко! — весело сказал Морозов. — В самую точку!
Цепи поднялись и побежали вперед.
Ворошилов стоял на пригорке подле Буденного и, нагнувшись, чертил на земле острым сучком.
— По-моему, картина совершенно ясна, — проговорил он, выпрямляясь и бросая сучок. — Пленный дал верные сведения.
— Да, — подумав, сказал Семен Михайлович, — в районе болота находится стык.
Он подозвал только что подъехавшего Пархоменко, объяснил, куда будет наноситься главный удар, и приказал ему с бригадой прорваться на стыке.
Вправо, на участке 14-й дивизии, послышались далекие крики. Над Шапеевским лесом поднимался высокий столб пыли. Было ровно час тридцать дня. Как раз в эту минуту Морозов доносил командарму, что на его участке фронт противника прорван и дивизия, преследуя белополяков, ворвалась в Снежно.
— Бригада пошла, — сказал Зотов.
Внизу, в лощине, были видны колыхающиеся на галопе крупы лошадей, обнаженные сабли и суровые лица бойцов.
— По ко-ням! — коротко крикнул Буденный.
Ординарцы бегом подвели лошадей. Во все стороны метнулись связные с боевыми приказами.
Позади дружно ударили пушки. Над наступающими цепями понеслись батарейные залпы. По всей линии окопов косматой огненно-черной стеной задымились разрывы. Вправо от Озерна, по зеленым холмам, — где высоко взметывались от разрывов снарядов стога прошлогодней соломы, суетливо забегали люди в серо-голубой форме. Почти сразу же над ними нависли белые шапки шрапнелей.
Впереди, за лощиной, где наступала в пешем строю вторая бригада, загрохотали частые взрывы. Там, забрасывая легионеров ручными гранатами, 21-й полк 4-й дивизии ворвался в окопы.
— Даешь! — кричал хриплым басом Кошлач. Он ворвался первым в окопы и, размахивая жердью, сеял страшные удары вокруг. — Украины вам захотелось?! Наших тиранить! Ребята, не отставай! Дуй до горы! Бей! Глуши их, братва!..
Навстречу атакующий застрекотали пулеметы. Но ничто уже больше не могло остановить атаки. Цепи хлынули к окопам. Замелькали приклады — атака перешла в рукопашную схватку.
Буденный на скаку осадил присевшую лошадь перед стоявшими укрыто конными бригадами 4-й дивизии. Прозвучала команда. Скрежещущий шелест прошел над рядами. Блеснули клинки. Бригады тронулись рысью. Пулеметные тачанки вскачь пронеслись перед фронтом. Трубачи поспешно отъезжали за фланги.
Внезапно наступила глубокая тишина. Только слышался тяжелый конский топот. Огромная конная масса, развертываясь к атаке, широким потоком заливала все поле между лесом и крутой, глубокой лощиной.
Над полками 4-й дивизии загремело «ура». Возникнув в головных эскадронах, крик катился все дальше и дальше и, подхваченный остальными бригадами, скатывался то к правому, то к левому флангу, все усиливаясь и переходя в сплошной гул.
В передних рядах лошади взяли в галоп.
Конная лава стремительно приближалась к окопам. Уже были видны бегущие толпы солдат. Сжимаясь в клубок и распластываясь в воздухе, лошади махали через окопы.
Конная армия тремя колоннами повалила в прорыв.
Шел пятый час дня 7 июня. Генерал, командующий польским фронтом на Украине, сидел у стола в тяжелом кожаном кресле и, нервно переставляя пепельницу с места на место, говорил начальнику штаба:
— Но это же исторический скандал, Ян Казимирович. Где это видано, чтобы штаб двое суток находился без связи с войсками! Я совершенно дезориентирован. Что происходит на фронте? Где противник? Где наши войска?
Он с видом крайнего недоумения развел руками и откинулся в кресле.
— А донесения? — продолжал он, помолчав. — Они противоречат одно другому: один доносит о том, что наши войска перешли в наступление; другой — о прорыве Буденным фронта под Сквирой; третий… третий вообще ничего не доносит. Кому верить, Ян Казимирович?
— Связь сегодня будет восстановлена, Бронислав Станиславович, — сказал начальник штаба уверенно. — Согласно вашему приказу я выслал бригаду Савицкого. Она выловит партизан и восстановит связь.
Они помолчали..
— Послушайте, — вдруг сказал генерал с озабоченным видом, — а что, если Буденный действительно прорвал фронт под Сквирой? — Он поднялся и подошел к карте. — Да-а… — Генерал прикинул на-глаз расстояние. — До Сквиры отсюда около ста километров. Интересно знать, где он может находиться в настоящее время? — проговорил он в раздумье.
Ответ донесся извне. В окнах сильно дрогнули стекла. Далекий гул прокатился за городом. На столе настойчиво загудел полевой телефон.
Генерал взял трубку.
— Да, да, да, командующий… Что? Как они попали сюда? В двух километрах от города?.. Ближе?.. Гм… Вы слушаете меня? Немедленно двинуть к восточной окраине два маршевых батальона… Что? Да, я выезжаю.
Генерал взял со стола портфель с документами и в сопровождении полковника вышел из комнаты.
Но едва они успели спуститься по лестнице к стоявшему у подъезда автомобилю, как по улице послышался быстрый конский топот. К штабу фронта скакал улан без фуражки.
— Большевики! Большевики! — кричал он во весь голос.
— Где они? — спросил генерал, когда улан с ходу остановился подле машины.
— Разрешите доложить, пане генерал…
— Короче! Где большевики?
— Да вот они, пане генерал! — показал улан в глубину улицы.
Генерал увидел маленькие фигурки солдат в серых мундирах. Они перебегали, часто отстреливаясь. Не ожидая приказаний, шофер включил газ.
Генерал и полковник поспешно сели в машину. Как раз в эту минуту из переулка показалось несколько всадников. Передний, в фуражке, с короткими щеточками усов на полном, искаженном гневом лице, увидя отъезжающую машину, выпустил во весь мах большую рыжую лошадь в белых чулках.
— Стой! Стой! — крикнул он, выхватывая револьвер из кобуры.
Щелкнул выстрел. С генерала слетела фуражка.
— Машина рванулась и, взвыв мотором, с бешеной скоростью помчалась по улице…
Когда Харламов вместе с другими бойцами вбежал в большой двор тюрьмы, в маленьких окошечках верхнего этажа показались первые языки пламени. Огонь с шумом вырывался наружу. Над крышей поднималась туча густого, как смола, дыма. Двор был забит красноармейцами, которые ломились в закрытые двери.
— Это, товарищи, не иначе, жандармы подожгли, — говорил случившийся тут же коренастый человек в замасленной блузе, по виду рабочий. — Чисто цепные собаки, эти жандармы. За глотку зубами рвут, людоеды.
Харламов огляделся. Подле наваленного грудой булыжника лежали лопаты и лом. Он схватил лом и со словами: «А ну, ребята, за мной!» бросился к железным дверям. Заглушая все звуки, над двором пронесся пронзительный крик. За одной из решеток показалось бледное лицо. Размахивая рваными рукавами рубашки, человек кричал страшным, полным отчаяния голосом. За его спиной вспыхнуло пламя. Человек еще раз взмахнул горящими рукавами и с воплем скрылся в дыму.
— Товарищи! Да что ж это? Люди горят! А ну, братва, нажимай! — закричали вокруг.
Двери закачались и с грохотом рухнули. Обгоняя друг друга, бойцы рассыпались по коридорам тюрьмы.
Митька Лопатин, захваченный общим порывом, метался от камеры к камере, сбивая замки, и, надрывая голос, кричал:
— Выходи, товарищи! Выходи на свободу!
Из камер выбегали люди в лохмотьях. На опухших лицах голодным блеском светились глаза.
— Товарищи, милые! Ох, братцы дорогие, не думали живыми уйти!..
Из камер выбегали все новые люди. Толпа шумным потоком текла через тюремные двери.
Харламов бежал по верхнему коридору. За поворотом слышался стук и громкие голоса. Двое бойцов — высокий и низенький — били прикладами в железную дверь, преграждавшую ход в другую половину коридора.
— Вы что, ребята? — спросил Харламов.
— Горит там, а ее никак не откроешь, — сказал высокий боец, показывая винтовкой на дверь.
— И люди кричали, — подхватил низенький.
Из-под двери тянулись тонкие струйки едкого дыма.
— Пусти! — Харламов размахнулся, всадил лом в засов и сильно рванул. Петля не поддавалась. Тогда он навалился всем телом на лом. Лицо его от напряжения стало багровым. На лбу проступили мелкие капельки пота. Наконец под его руками что-то мягко подалось. Харламов взглянул на засов и зло выругался — он погнул лом. Высокий красноармеец с почтительным изумлением взглянул на него.
— Ну и силища же, чорт! — проговорил он, качнув головой.
За дверью послышался стон.
— А ну-ка, милок! — сказал позади Харламова знакомый голос.
Дерпа слегка толкнул Харламова в бок и, схватив лом, с силой рванул его вниз. Треснув, засов разломился. Дерпа вместе с дверью влетел в коридор. Его обдало дымом. Падая, он заметил лежавших у противоположной стенки людей в кандалах…
Воздух гудел возбужденными голосами. На дворе, на улице шумели толпы буденновцев и освобожденных из плена. Красноармейцы щедро оделяли хлебом товарищей. Сизые волны табачного дыма плыли над головами бойцов.
— Ведут, ведут! — послышались голоса.
В глубине двора толпа расступилась, освобождая кому-то дорогу. В наступившей на миг тишине послышались тяжелая поступь и звенящие звуки оков. К воротам медленно подвигалась группа людей.
Впереди двое бойцов вели под руки заросшего бородой человека в кандалах. Посреди двора он остановился и поднял над головой иссохшую руку.
— Товарищи… дорогие… — чуть слышно, прерывистым от слабости и волнения голосом заговорил человек. — Мы верили, что вы придете… и ждали вас… Великое вам спасибо, товарищи! — Его голос окреп, глава заблестели. Он простер руку вперед и продолжал: — Идите так же смело к победе. Беспощадно добивайте наемников мирового капитала!.. Они хотят повернуть историю вспять, но этого не будет! Не будет! Мы, большевики, отвоевали Россию у богатых для бедных, у эксплоататоров для трудящихся и никогда никому не отдадим завоеванного кровью лучших сынов трудового народа… — Человек замолчал и, прикрыв глаза, тяжело опустился на руки бойцов.
— Второй эскадрон, выходи! — крикнул Ладыгин, вбегая во двор.
Бойцы шумной толпой повалили на улицу.
— Вихров, ко мне! Бери взвод, оцепи этот квартал, — быстро распоряжался Ладыгин. — А я с остальными зайду с той стороны. Тут, говорят, штабные попрятались…
Снимая на ходу винтовки, красноармейцы побежали по улице.
Кузьмич с замешкавшейся во дворе небольшой группой бойцов, среди которых оказался и Харламов, пустился догонять эскадрон.
Он впереди всех кинулся напрямик переулком. Из-за угла дома прямо на него набежал маленький человек в котелке.
— Проше пана товарища, — бойко заговорил человек, принимая Кузьмича за начальника. — Проше пана — здесь дефензива. — Он показал рукой на открытые окна большого дома, откуда доносились пьяные голоса, топот и пронзительные звуки окарино.
— Дефензива? — Кузьмич недоуменно посмотрел на него. — А что это — дефензива?
— Жандармы, проше пана товарища. Жандармы, проше пана, суть наиперши зло́деи.
— А-а… Понятно. — Кузьмич понимающе кивнул головой. — Ребята, здесь жандармы! — крикнул он подбежавшим бойцам. — За мной!
Выхватив шашку, он взбежал на крыльцо, у самых дверей пропустил всех вперед и, угрожающе шевеля усами, вошел в дом последним.
В первой комнате лежало вповалку несколько человек в голубых мундирах.
— Мертвые, что ль? — недоумевая, сказал Харламов.
— Пьяные они, — заметил Кузьмич, нагибаясь и нюхая воздух. — Факт! Ишь, дух какой!
Харламов осторожно приоткрыл дверь в соседнюю комнату. За уставленным бутылками столом сидел тучный жандармский вахмистр с большими усами. Двое жандармов, грохоча коваными сапогами, тупо плясали польку. Третий, сидя у окна и покачиваясь, играл на окарино.
— Руки вверх! — крикнул Кузьмич. — Бери их, братва!
Вахмистр, упираясь широко расставленными руками и пошатываясь, поднялся из-за стола.
— Кто ты ест? — захрипел он, наливаясь кровью и злобой. — Кто ты ест, лайдак? Пся твоя мать!
— А ну, стреляй в него! Бей! — закричал Кузьмич, ловчась из-за широкой спины Харламова достать жандарма острием шашки.
— Буду я на такого гада патрон портить, — спокойно сказал Харламов.
Он схватил тяжелую дубовую скамью и, размахнувшись, со страшной силой опустил ее на голову жандарма. Вахмистр на секунду застыл, потом покачнулся и, обрушив стол с бутылками и закуской, рухнул под ноги бойцам.
— Товарищ Харламов, а с энтими чего делать? — спросил красноармеец в буденовке, показывая винтовкой на оцепеневших жандармов..
— Всех в расход! Меньше пакости будет…
За окнами прокатился глухой, словно подземный удар.
Харламов и Кузьмич выбежали на улицу. Мимо них, пригнувшись в седлах, скакали казаки.
Вдали, в стороне станции, вновь послышался грохот.
— Эй, эй, Кристопчук! — крикнул Харламов, применив среди всадников знакомого старшину. — Что это? — спросил он, показывая на медленно поднимавшееся облако бурого дыма, когда старшина подъехал и нетерпеливо взглянул на него.
— Склады взрывают, — сказал старшина, искоса поглядывая вслед эскадрону. — А ты чего тут?
— Жандармов ликвидировали… Наш эскадрон не видал?
— Не поймешь… Все вместе смешались. Паны-то все побросали, зараз тикают. Пленных тыщу побрали, пулеметов одних сколько… Товарищ Ворошилов было их главнокомандующего застрелил. Без шапки гадюка ушел, на машине… Вы, ребята, собирайтесь, начдив приказал выступать. Как бы вам не остаться… Ну, пока!
Старшина дружески кивнул Харламову и, пригнувшись в казачьем седле, припустил за эскадроном.
— Гляди, кто едет, — показал Кузьмич.
Ловко сидя на крупной гнедой лошади, из глубины улицы ехал рысью Назаров.
— Конь-то будто не его, — сказал Харламов. — Ну да, этот чуток повыше и справней.
— Ребята, где командир эскадрона? — спросил Назаров, подъезжая.
— Сами ищем, — сказал Харламов. — Где коня взял?
— Какого-сь ихнего полковника спешил, а может, генерала. Не поймешь — худой да тонкий. Наши-то генералы, кубыть, потучней были, но тот… — он пошевелил пальцами, — поосанистей.
— А ведь добрый конь. Английской крови. Резвён, видать. Да, — говорил Харламов, с видом знатока оглядывая нетерпеливо переступавшую лошадь. — Не конь, а машина! Ну, нехай нам послужит, не все ему под белыми ходить. Поездишь теперь.
Назаров отрицательно качнул головой.
— Нет! Это я командиру эскадрона, — сказал он с какой-то особенной ласковостью. — Пусть ездит на здоровье. Не все ему о бойцах заботу иметь. Зараз и мы об нем позаботились.
VI
Прорыв и глубокий рейд по белопольским тылам сломали и потрясли весь вражеский фронт. Третья польская армия, занимавшая Киев, опасаясь окружения, начала быстрый отход. Бросая обозы, пушки и склады с боевыми припасами, разбитые дивизии устремились на запад. Вторая армия, испытавшая в районе Житомира и Бардичева жестокий удар со стороны буденновцев, целиком вышла из строя. По разбитым дорогам день и ночь тянулись обозы. В пыльном воздухе стоял стон и крик. Конная армия шла на плечах у противника.
За Конной армией двинулись армии Юго-Западного фронта, тронулся Западный фронт. На всем огромном пространстве от Западной Двины до Припяти Красная Армия перешла в наступление.
Побеждая, конармейцы несли большие потери. В бою под Ровно пал легендарный Дундич, зарубивший в этом бою семнадцать пехотинцев противника. Он дрался, как израненный лев. И в последнюю минуту, когда, казалось, помощь близка, вражеская пуля ужалила Дундича в спину.
В боях под Дубно и в Хорупанских лесах, в жестоких сабельных рубках под Бродами и на подступах к Львову полки Конной армии потеряли треть боевого состава. Почти без отдыха, в тяжелых тучах горячей клубящейся пыли шла Конная армия и нещадно била врага. По всему фронту победа была полной. Но это было отнюдь не триумфальное шествие. Полки шли калёными тропами — полосой тяжелых и кровопролитных боев.
Отступая, враг сближался со своими базами и источниками пополнений. Конная армия, оторвавшаяся на пятьсот верст от основных пунктов снабжения, испытывала недостаток в огневом снаряжении и часто пробивала дорогу одними клинками.
В неотступном преследовании прошли июнь и июль. 13 августа Конная армия с боем переправилась через Стырь и вышла на львовский плацдарм.
Около трех часов пополудни этого дня 11-я дивизия, пройдя Бродский лес, выходила на шоссе Бродц — Львов.
Начдив Морозов и Бахтуров, недавно назначенный военкомдивом 11-й, стояли на пригорке подле дороги и поджидали подхода первой бригады. У подножья холма ординарец начдива Абрам, детина — косая сажень в плечах, проваживал взад и вперед лошадей.
В лесу было тихо. Только со стороны Львова изредка доносились глухие удары пушечных выстрелов.
Лошади пофыркивали, чутко прислушивались и били хвостами по подтянутым бокам, отгоняя надоедливых мух.
В глубине леса закуковала кукушка. Морозов послушал и недовольно поморщился.
— Ишь ты, как мало, — сказал он вполголоса.
Улыбка тронула твердые губы Бахтурова.
— Да ты, никак, загадал, Федор Максимыч? — спросил он, улыбаясь.
Морозов смущенно потеребил короткие усики.
— Ну, что ты! — Он помолчал и тихо добавил: — Мальчишкой, верно, загадывал… Гляди, первая бригада подходит.
У поворота дороги замелькал красный значок. Послышалась песня. Звонкий тенорок запевалы, тщательно выговаривая каждое слово, звенел над рядами:
Поехал казак на чужбину далеку На верном коне на своем боевом… Он свою родину навеки покинул, Ему не вернуться в отеческий дом, —подхватил головной эскадрон, и песня с присвистом покатилась по лесу.
Колонна приближалась. Впереди на большом вороном жеребце с белой лысинкой ехал, подбоченясь, комбриг Колпаков — коренастый широколицый человек со светлыми щетинистыми усами. Увидев Морозова, он сильно толкнул лошадь и подъехал к нему.
— Значит, так, — сказал Морозов, постукивая плетью по голенищу. — Первой бригаде в резерв. Встанешь в Ксенж-Вельки на дневку.
Колпаков не без удовольствия поднял руку к фуражке.
— Хорошо. А то кони подбились, Федор Максимыч. Мне остаться?
— Не надо. Веди бригаду. Полки я посмотрю… А песни, между прочим, отставить.
Колпаков махнул песенникам и размашистой рысью пустился в голову колонны.
Мимо начдива потянулась первая бригада. Под Бродами она понесла сильный урон, и эскадроны не досчитывали многих бойцов. Морозов, знавший в лицо почти всех ветеранов, хмуря брови, поглядывал на суровые запыленные лица, мысленно отмечал потери…
Замыкая бригаду, с грохотом катилась батарея. Ее вел Гобар. Он ехал обочиной дороги и что-то говорил Калошке, указывая на коренной вынос второго орудия.
— Гобар! — позвал Морозов. — Езжай сюда!
Гобар подъехал к начдиву и спешился.
— Как у тебя со снарядами? — спросил Морозов, пытливо глядя на него.
— Половина боекомплекта, товарищ начдив. Одним словом, неважно.
— Смотри береги! — Морозов кивнул головой в сторону Львова, откуда доносились басистые звуки тяжелых орудий. — Слышишь, с чем драться придется?.. Ну, ладно, езжай… Постой, а это что у тебя? — Морозов недоуменно смотрел на сапоги командира с огромными трехгранными шпорами.
Чувствуя на себе насмешливый взгляд, Гобар смущенно пожал плечами:
— Я свои поломал, товарищ начдив, а эти ребята под Радзивиллами в замке с рыцаря сняли.
— Вот как! — сказал Бахтуров, усмехнувшись. — Шпоры, видать, знаменитые. В Палестине, наверно, бывали.
Гобар, улыбаясь, взглянул на Бахтурова.
— Что же делать, товарищ комиссар! Других ведь нет.
— Ну, ну, носи, — сказал Морозов. — Только смотри коня не покалечь.
— Разрешите ехать, товарищ начдив?
— Езжай.
Гобар высоко занес ногу, стараясь не зацепить колючей шпорой круп лошади, и, опустившись в седло, поскакал к батарее.
— Толковый командир, — глядя ему вслед проговорил Бахтуров.
— Командир хороший, — подтвердил Морозов уверенно. — Правду сказать, Павел Васильевич, когда стали прибывать к нам эти красные офицеры, я на них не очень надеялся. А вышло обратно. Комсомольцы! Гляди, как дело поставили. Толковый народ!
— Смена наша, — заметил Бахтуров.
Морозов вынул кисет и не спеша свернул закурить.
— Ну, поехали, Павел Васильевич.
Морозов стал спускаться с пригорка. Но не успел он ступить двух шагов, как из чащи леса прогремел выстрел, и черная папаха начдива, взметнувшись птицей, упала в траву. Морозов рывком повернулся. Вторая пуля скользнула по его крутому виску.
— Пригнись! — крикнул Бахтуров.
Он схватил Морозова за плечи и увлек его под пригорок.
Неподалеку, в кустах, перебросив через плечо карабин, Гуро торопливо садился на лошадь.
Абрам, пригнувшись, бегом подвел лошадей.
Морозов разобрал поводья, вскочил в седло и огляделся. Широкое шоссе, уходившее в глубину леса, было пустынно. Кругом стояла тишина. Только со стороны Львова попрежнему слышался гул канонады.
Послушать бойцов набилась полная хата народа. Харламов сидел за столом среди стариков и при свете коптилки читал вслух газету. Кузьмич примостился рядом с ним на лавке у открытого окна, — они читали по очереди, — и молча поглядывал поверх очков на собравшихся.
— Так вот, товарищи крестьяне, тут дюже ясно написано, — сказал Харламов, прерывая чтение и прикурив от коптилки. — Слушайте!
Он вновь погрузился в газету и начал читать:
— «Рабочий и работница, крестьянин и крестьянка должны понять и почувствовать, что война с Польшей есть их война, есть война за независимость социалистической России, за ее союз с социалистической Польшей…»
— Вот, стал быть, как! Понимаете? — спросил Харламов, оглядывая сидевших против него стариков.
— Чудно. Кхм… — сказал старик в латаной свитке, — как это так понимать? Война и, обратно сказать, союз? Давай объясни эту политику.
— Я, товарищи крестьяне, сам-то дюже хорошо это понимаю, — сказал Харламов, отирая вдруг взмокший лоб и бросив быстрый взгляд на лекпома, словно прося у него поддержки. — Ну, хорошо, постараюсь зараз вам объяснить. Тут, стал быть, так. Кто в Польше у власти стоит? Ну?
— Известно кто — паны, — сказал старик в латаной свитке.
— Правильно, — кивнул головой Харламов. — Стал быть, капиталисты, эксплоататоры. А у нас кто? Сами трудящие. Вот мы, Красная Армия, зараз и воюем за то, чтоб и в Польше были у власти трудящие. Тогда у нас и будет с ними крепкий союз. Понимаете?
— Факт! — авторитетно ввернул задремавший было лекпом.
— Ты, товарищ, там еще одно слово читал. Непонятно, чего оно обозначает, — сказал из темноты чей-то голос.
— Социалистическая? — спросил Харламов.
— Вот-вот!
— Ну, это слово, как бы сказать, обозначает, что земля, фабрики там, заводы находятся в руках самого трудящего класса. Обратно сказать, сами трудящие хозяйствуют и своим государством управляют. Понимаете? Вот вы, товарищи, под панами были и еще хорошо сами не знаете, что такое есть советская власть, а наши мужики хорошо понимают и оберегают ее. Они, как мы, фронт прорывали, здорово нам помогли, а потом в набат ударили, чтоб все выходили помогать Красной Армии. А почему? А потому, что они фактично убедились, что такое есть власть трудового народа. — Харламов порывисто повернулся к сидевшему с края стола старику в холщевой рубашке и сказал укоризненно: — Эх, дядя! Мы жизнью для победы рискуем. И даже вовсе об этом не думаем. А ты о хлебе вопрос задавал. Берут — стал быть, надо. Власть-то она своя. Зачем ей зря мужика обижать? Ты постой, вот достигнем победы — и такая жизнь настанет, что ты даже и подумать не можешь. А зараз, конечно, трудно живется. И холодно и голодно, но не сомневайся, отец, советская власть свое докажет. Гляди, как еще заживешь! Мы вот панов с Украины прогоним, мужиков, которые победней, на хозяйство ставить начнем. У нас линия такая, чтобы всем богато жилось… Только еще много гадов вокруг нас ходит, палки нам в колеса вставляют… — Харламов умолк, отер обильный пот на лице и подвинул газету поближе.
— А почему ко́ней берете? — ревниво спросил от дверей чей-то голос.
— Это кто ж такой? — Харламов перегнулся через стол, посмотрел в темноту. — А ну, выдь к свету, поговорим.
К столу протискался низенький старичок в стоптанных валенках.
Харламов пристальна его оглядел, пошевелил усами, словно ощупывая, и вдруг улыбка осветила его лицо.
— Фу, ты!.. А я думал, контры голос услышал! Ты, отец, не серчай, а спрашиваешь, будто назад оглядаешься…
— Чего мне оглядаться! От своих, что ль, тикать? — моргнув седыми ресницами, резонно заметил старик. — Ты за коней скажи.
— Так, товарищ дорогой, — Харламов приложил руку к груди, — мы с боями третий месяц идем. Кони-то пристают. И разве мы так берем? Мы своих оставляем. Ты на воле можешь ее выпасти, и какой конь будет — змей, а не конь! А нам времени нет, — продолжал он задушевно. — Сам, небось, служил?.. Ну, вот, а говоришь… друг сердечный. Война, стал быть, война. А если все так рассуждать будем, то паны обратно нам на шею сядут. Правильно я говорю?
— Так я что! Я ничего, — заговорил обескураженный дед. — А на хуторах, верно, коней побрали.
— Ну, то на хуторах, — сказал Харламов нахмурившись. Он взглянул в лицо деду. — А ты, отец, видать, дюже богатый. Кони хорошие?
Взрыв смеха прокатился по хате.
— У него всего богачества — старуха хромая, — весело сказал чей-то голос. — Был конь, да угнали паны, а самому метки оставили.
— Гнат, покажь товарищу, что у тебя на спине. Покажь, не стесняйся! — зашумели старики. — А то товарищ тебя за куркуля посчитал.
Харламов с тревожным участием взглянул на старика в латаной свитке.
— Стал быть, ты, отец, пострадавший? Чего ж ты досе молчал? — Он решительно встал. — Зараз же идем до комэска. Найдется у нас для тебя вороная кобылка приставшая. Ну, не очень чтобы, а ежели с месяц покормишь — работать будет. Бери ее. Вспоминай Конную армию. — Он привычным движением поправил новый пышный бант на груди, сказал: — Прощайте пока!
И вместе с заробевшим дедом, который не знал, что и сказать от привалившего вдруг счастья, большими шагами вышел из хаты.
От открытого окна отделилась фигура, и знакомый голос Ильвачева позвал:
— Товарищ Харламов, поди-ка сюда!
Харламов подошел.
— Ты вот что, — сказал Ильвачев: — пиши, брат, заявление. Мы тебя из кандидатов в члены партии переводим.
— Ой, товарищ военком! — обрадовался Харламов, весь подвинувшись к Ильвачеву и чувствуя, как кровь жаркой волной кинулась ему в лицо. — Стал быть, достойным считаете?
— Считаю. Ну, иди. Да скажи там командиру эскадрона, что насчет этой кобылки, которую ты деду обещал, я тоже поддерживаю…
Но Харламов не шел, а, переступая с ноги на ногу, жался, видимо не решаясь что-то сказать.
— Ты что, или не рад? — спросил Ильвачев.
— Как же не рад! Нет, тут… как бы сказать… дело такое, — сбивчиво и заметно волнуясь, заговорил Харламов. — У меня дружок есть…
— Лопатин?
— А вы откель знаете?
— Я все знаю. Ну, дальше что? Говори.
— Мы вместе с им в кандидаты вступали.
— Знаю. А теперь вместе вас и переведем. Оба заслуживаете.
— Ну, раз дело такое, то это конечно, — весело сказал Харламов. — А то ведь он подюжей меня в политике разбирается.
— Эх, товарищ Харламов, хороший ты человек, во всех отношениях хороший! — улыбаясь и дружески кладя руку на плечо бойцу, сказал Ильвачев. — Ну, ладно, ступай. А мне тоже надо по делу…
Харламов, улыбаясь и покачивая головой, пошел к сельской площади, откуда, несмотря на поздний час, доносились веселые звуки гармоники.
При ярком свете месяца конармейцы и девушки танцовали краковяк.
Сачков церемонно держа Дуськину руку, прищелкивая каблуками и бойко выделывая ногами, шел впереди. За ними лихо притопывало несколько пар.
Харламов подошел к толпе, окружавшей танцующих, и остановился позади Гуро, который, склонив голову с забинтованным подбородком и поглядывая на проходившие мимо пары, говорил что-то доктору Косому.
— Ткач! Давай «барыню», сестра Саша идет! — крикнул Митька Лопатин гармонисту.
Он вышел в круг и в ожидании Сашеньки сделал затейливое коленце.
— «Барыню»! «Барыню»! — закричали вокруг.
Ткач отер пот на широком безусом лице и, быстро перебрав по ладам, заиграл плясовую.
Сашенька не заставила себя просить, хорошо зная, что «барыню» заиграли для нее. Улыбаясь, она вошла в круг.
Митька хлопнул в ладоши, ударил по голенищам и, отбивая задористый ритм, сделал коленце. Сашенька взмахнула платочком и, легко перебирая ногами, пустилась по кругу.
— Не нравится мне, товарищ врач, эта сестра, — недоброжелательно глядя на Сашеньку, сказал Гуро. — Ну, прямо всем нутром чувствую, что она не наша.
Косой с изумлением взглянул на него.
— Очень уж вы подозрительный человек, товарищ Гобаренко, — сказал он с усмешкой. — Вы, очевидно, и мать свою готовы подозревать в чем-либо.
— Нет, товарищ врач, я не щучу. Я вам по-дружески советую откомандировать ее, пока не поздно. Поверьте, я редко ошибаюсь в людях.
— А что, собственно, вам не нравится в Веретенниковой?
Гуро нагнулся к Косому и тихо сказал:
— Я твердо уверен, что она шпионка… Ну, скажите, зачем ей понадобилось в такое время ехать с Урала в Запорожье?
Харламов подвинулся ближе, прислушиваясь к разговору, и со скрытой враждебностью искоса взглянул на Гуро.
— Ну, полноте, — отмахнулся Косой, — по-моему, ваши подозрения совершенно неосновательны. Веретенникова замечательной души человек. Посмотрите, с какой любовью она ухаживает за ранеными. Все свое свободное время уделяет бойцам и, поверьте, оказывает на них самое благотворное влияние… Нет, нет, товарищ Гобаренко, не говорите мне этого. Я тоже умею разбираться в людях.
— А вы ее проверяли?
— Считаю это совершенно излишним, — холодно сказал Косой. — Она сама вся как на ладони…
— Это еще ничего не доказывает, товарищ врач.
— Ну, как, доктор, дела? — раздался за спиной Косого голос Панкеева.
Косой оглянулся. Позади него стояли Панкеев и Бочкарев.
— А я только собирался итти вам докладывать, товарищ комполка, — сказал Косой. — Прошу вашего разрешения на эвакуацию товарища Гобаренко.
— Это зачем? — удивился Панкеев.
— С ранением товарища Гобаренко сильное осложнение.
— Чего ж плохо лечите?
— Дело не в лечении. Ему необходимо срочно сделать рентгеновский снимок нижней челюсти. Я подозреваю трещину. Третий месяц рана не заживает.
— Ну что ж, раз дело такое, я не возражаю, — согласился Панкеев. — Ты-то сам хочешь ехать? — спросил он Гуро.
— Если нужно — поеду, — быстро сообразив что-то, сказал Гуро.
— Ну, в таком случае, давайте оформляйте, пока на месте стоим.
Панкеев продвинулся вперед и подошел поближе к танцующим.
— Павел Степаныч, ты посмотри, что разделывает, — сказал он, показывая на Сашеньку.
— Да, на все руки девушка. Жизнь в ней так и кипит. И умница большая.
— Счастливый будет тот человек, кто ее выберет.
— Такая сама выберет…
Ткач, покачиваясь из стороны в сторону, продолжал стучать по ладам. На лбу у него выступили капельки пота, рубашка прилипла к спине, но неутомимый гармонист, видно, решил не прекращать свою музыку, пока не отпляшет весь полк. Уже и Ладыгин, вытолкнув в круг сменившегося с дежурства Вихрова, прошелся вприсядку, уж и Кузьмич, притопывая толстыми, как колоды, ногами, станцовал какой-то неописуемый танец, а вслед ему проплыл степенно, словно священнодействуя, взводный Сачков, а веселье разгоралось все больше и больше.
Митька уже давно уморился, и Сашенька, притопывая каблучками новеньких сапожек со шпорами, плясала в паре с Харламовым. Вдруг она увидела стоявшего в стороне печального Мишу Казачка. Она подбежала к нему и спросила:
— Миша, хотите, «Шамиля» станцуем?
— Ва! С тобой? — живо спросил он, словно не веря ушам.
— Со мной.
— С балшим удовольствием! — согласился он, весь просияв.
— Товарищи! — весело крикнула Сашенька. — Миша Казачок танцует «Шамиля»!
Миша вышел на середину круга, тряхнул широкими рукавами черкески и, раскинув руки, понесся в бешеной пляске. Приуставшая Сашенька едва поспевала за ним.
— А ну, пройдись-ка и ты, Арсений Петрович, — сказал Бочкарев.
Но Панкеев и так уже постукивал каблуками.
— Пошли, Дуся, — сказал он, прихватывая Дуську за талию.
— Ой, товарищ комполка, я ж эту не умею! — застеснялась она. — Вам бы с Маринкой. Она очень даже ловко танцует.
— А где она, Маринка? — спросил Панкеев, оглядываясь.
— Она на дежурстве в околотке.
— Что ж пустое толковать! А ну, давай, пошли как-нибудь.
Под одобрительный гул Панкеев пустился по кругу.
— Ишь ты! Вот это да! — раздался чей-то голос.
— А ведь почти сорок раз раненный! — подхватил Харламов.
Он гикнул и пустился следом за командиром полка.
Панкеев, отдуваясь, вышел из круга.
— Ну вот, — встретил его Бочкарев, — а говоришь… Лучше молодого танцуешь.
— Я это дело люблю.
— Арсений Петрович, не зайдем ли в штаб на минутку? — предложил Бочкарев.
— Зайдем, — согласился Панкеев.
Они прошли площадью мимо старой замшелой колокольни, видавшей времена Богдана Хмельницкого, и вышли на пустынную улицу. Навстречу дул сухой теплый ветер. За лесом тускло поблескивали зарницы.
— Знаешь что, Арсений Петрович? — помолчав, заговорил Бочкарев. — Я все хотел поговорить с тобой относительно Гобаренко. Скажи, ты за ним ничего не замечал?
— За Гобаренко? — Панкеев внимательно посмотрел на комиссара. — Да нет, ничего, — сказал он, пожимая плечами. — А что?
— Видишь ли какое дело. Я к нему все время приглядывался, и, понимаешь, не нравится мне его работа за последнее время. Тебе не кажется странным, что почти при каждом серьезном поручении у него что-нибудь да случается?
— А с кем не случается! У меня вот тоже случилось под Дзионьковом. На ошибках учимся, Павел Степаныч. А так Гобаренко очень даже деловой и услужливый человек, — возразил Панкеев.
— Да нет, ты постой. У тебя, командир, дух противоречия какой-то. Я серьезно говорю. Ты заметь, что все эти случайности нездорово отражаются на боевой жизни полка. Ну, со снарядами считать не будем, тогда на него напали. Я имею в виду два последних случая — не получили муку и патроны. А я проверял — во всех полках получили, только у нас нет. Ну, чем это объяснить?
— Да-а… — протянул Панкеев. — Сильно. А мне ни к чему было. А потом он, помнится, сам говорил, что еще успеет получить.
— Так вот, — продолжал Бочкарев. — По-моему, это дело надо немедленно передать в особый отдел.
— Хорошо, — подумав, сказал Панкеев. — Правильно говоришь. Так и сделаем…
Они вошли в штаб. Здесь их ждала телефонограмма, подтверждающая дневку на завтра.
— Ты что сейчас думаешь делать, Павел Степаныч? — спросил Панкеев.
— Пойду к бойцам. Есть кой-какие дела.
— А я, пожалуй, останусь — приказы просмотрю.
— Ну, ну. Бывай, Арсений Петрович! — Бочкарев кивнул Панкееву, вышел на улицу и, тихо звеня шпорами, направился вниз села, откуда едва слышно доносились пиликающие звуки гармоники.
На улице посветлело. Молодой, словно вымытый, месяц, выйдя из матовой паутины облаков, плыл над верхушками тополей, отражаясь в чуть рябившем под легким ветром широком пруду.
Внезапно совсем рядом, за густыми кустами акаций послышались знакомые голоса.
Бочкарев остановился и невольно прислушался.
— Ну да, все вы так, мужики, говорите. На словах-то вы как на гуслях, — недоверчиво говорил молодой и бойкий женский голос. — Вам бы только урвать и удрать. Знаем. Не в первый раз, ученые.
— Будьте без сомненья, Авдотья Семеновна, — с убеждением говорил другой голос, тонкий и сипловатый видимо принадлежавший немолодому уже человеку. — Пусть какой другой обманываеть, а мое слово верное. Раз сказал — значит точка. В жизни от меня никому обману не было. Зачем грех на душу брать! Я верно говорю. Да и не в этакое время живем. Сейчас каждый должен быть чистый и сердечный человек.
— А драться не будете? — после некоторого молчания тихо спросил женский голос.
— И зачем вы такие слова говорите, Авдотья Семеновна! Да рази можно бабу бить! Нет, я такому свинству не привержен.
— И любить будете?
— До могилы, Авдотья Семеновна… А что я много старей вас, так вы не сомневайтеся, это ничего не доказываете В строгости жизни себя оберег, молодому не уважу… Ну, как? — голос слегка дрогнул. — Значит, согласные?..
Бочкарев усмехнулся, покачал головой и, стараясь не шуметь, тихо пошел вниз по улице.
На площади попрежнему стояло веселье. Девушки и молодые бойцы, взявшись за руки, водили хоровод.
Из-за лесика, леса темного, —звенел, разливаясь, тенорок запевалы.
Ой-ли, ой-люли, леса темного, —дружно подхватывал хор молодых голосов.
…Там шли-прошли, шли два молодца, Шли два молодца, оба холосты, Оба холосты, неженатые, Неженатые, щеголеватые…Бочкарев подошел, увидел в центре круга Сашеньку, руководившую хороводом, и, подивившись в душе на неутомимость девушки, огляделся вокруг. Красноармейцы постарше расположились на бревнах около старого сруба.
— Ильвачева не видали, товарищи? — спросил он, подходя к сидевшим бойцам.
— Только сейчас здесь ходил, — откликнулся боец в опущенном шлеме. — Я пойду пошукаю.
— Сидайте с нами, товарищ комиссар, — сказал Назаров, быстро подвинувшись.
Бочкарев присел подле него.
— Ну, как они, дела, товарищ Назаров? — спросил он, повернувшись к казаку и вынимая из кармана кисет с табаком.
— Ничего дела, товарищ комиссар. Интересуюсь, далеко ль ищо нам итти?
— А ты разве на митинге не был?
— В наряде стоял.
— Пойдем туда, куда товарищ Ленин, партия прикажут. А сейчас наша задача выбить панов с Украины… А ты что, по дому опять соскучал?
— Ой, нет, товарищ комиссар! Темный я тогда был человек. Раз ошибся, больше не ошибуся. Понимаем, за что воюем. За такое дело можно и жизни решиться.
— Правильно, — сказал Бочкарев, весело взглянув на него.
— Товарищ комиссар, а верно гутарят — в шестьдесят втором полку двух бандитов поймали? — спросил Назаров, беря предложенный ему кисет Бочкарева и свертывая папироску.
— Верно. А что?
— Я хочу сказать несколько слов за курей, что покрали вчера. Мужики дюже обижаются. Произошел этот случай в расположении третьего эскадрона. И вот, к слову сказать, примечаю я там одну парочку. — Он многозначительно глянул вокруг и, понизив голос, сказал: — Первый, значит, Пацулло.
— В английской шинели? — спросил сидевший слева боец.
— Он самый.
— И еще его дружок в кожаной куртке? — спросил тот же боец.
— Так ты дай сказать! — Назаров укоризненно пожал плечами. — Ведь я же начал. Всегда кто-нибудь выскочит.
— Опоздал, друг, с сообщением. Их еще в обед взяли. Так, товарищ комиссар?
— Так. Я их допрашивал. Оказались махновцы, сукины дети… Вы, товарищи, хорошенько присмотритесь к некоторым нашим бойцам из новеньких, — продолжал Бочкарев, сердито покашливая. — Очень возможно и даже наверно, что, кроме двух этих бандитов, к нам пристали еще разные гадины. Всю эту заразу, разлагающую наши ряды, надо выжечь каленым железом.
— И так уж в оба смотрим, товарищ комиссар, не раз предупреждали, — сказал Назаров. — Да за всем разве усмотришь, когда без передышки в бою или походом идем!
— Как я понимаю, товарищи, среди нас безусловно завелись паразиты, — начал деловым тоном боец в черной кубанке. — Я стал примечать, что повелось это, как еще к Умани подходили. Помните, случай был с хуторским мужиком? У меня и тогда догадка была. На старых бойцов, конечно, нет подозрения. Все ребята свои, не первый год знаем. Ну, насчет сена — это, конечно, другой вопрос. Нельзя ведь, когда кони голодные.
— И насчет сена всегда можно договориться, — заметил Бочкарев.
— Это конечно.
Они помолчали.
— Чего я ищо хотел сказать, товарищ комиссар… — заговорил Назаров. — Вон мы почти голыми руками воюем, а у них и еропланы и батарей сколько… Под Дубно с Семеном Михайловичем, с товарищем Ворошиловым семнадцать раз подряд в атаку кидались, сколько бойцов там оставили. Где, в какой войне видали такое, чтоб на одном дню семнадцать раз в атаку ходить!
— А что ты хочешь этим сказать? — спросил Бочкарев.
— А я то желаю сказать, что кабы все это кто описал, чтоб другие, молодые, для которых мы энту жизню завоевываем, почитали бы и сказали: «Да, вон какие они были, буденновцы!» И помянули нас хорошим словом и поклонились бы нам.
— Об этом не беспокойся, товарищ Назаров, — с лаской в голосе сказал Бочкарев. — Партия большевиков нас не забудет. Будут о нас и книжки писать и песни слагать…
— Вот это правильно, — заметил боец в черной кубанке. — А то наша Конная армия на всех фронтах геройски отвечает. Всю контру позагоняли в Черное море, а теперь вот до панов добрались…
Со стороны кто-то подошел большими шагами, и бодрый голос Ильвачева спросил:
— Вы меня требовали, товарищ комиссар?
— Да, — сказал Бочкарев. — Надо потолковать кое о чем.
Он поднялся, взял Ильвачева под руку, отвел его на несколько шагов и начал что-то тихо говорить ему, изредка поглядывая по сторонам.
VII
Со скрипом и грохотом в село медленно входил огромный обоз. Были видны лишь две-три передние подводы, все остальное тонуло в густом облаке пыли. Слышались сонные крики подводчиков, усталая ругань.
Обоз проскрипел по раскаленной солнцем сельской улице, перевалил через пересохший ручей и вышел на площадь. Передние остановились. Ехавший впереди босой мужик с всклокоченной бородой, в длинной, до колен, серой от пыли рубахе не спеша слез с телеги, подошел к лошади и деловито поправил хомут.
— Это что же, дядя Иван, привал? Или дальше поедем? — густым волжским говором, напирая на «о», спросил сидевший в телеге сухощавый человек в накинутой на плечи кожаной куртке.
— А по мне, как хочешь, товарищ Каштанов, — почесывая подмышкой, безразлично ответил мужик. Он покосился на острый круп лошади. — Я, почитай, верст полтыщи уже отмахал. То одного везешь, то другого… Снаряды возил… Я понимаю, конечно, дело военное, помощь нужна. — Он помолчал и, пожимая плечами, сплюнул черной слюной. — Да мне что, я уже привыкший — второй месяц в подводах, будто и дома не жил вовек.
От задних подвод к Каштанову подходили пестро вооруженные люди в самой разнообразной одежде.
— Надо бы в деревне жару переждать, товарищ Каштанов, — сказал средних лет человек, по виду рабочий. — Гляди, кони еле дошли, да и ребята устали.
— Так, может, по хатам пойдем? — нерешительно предложил кто-то. — И кони отдохнут, да и самим умыться не грех.
Каштанов взглянул на часы.
— Хорошо, товарищи, — сказал он, что-то прикинув в уме. — Постоим здесь два часа, ровно в пять двинем дальше. Только сначала надо узнать, не занята ли кем деревня.
— А вон сидит боец, — сказал рабочий в буденовке.
Каштанов оглянулся. На лавочке у высокого крыльца сидел Митька Лопатин.
— Эй, товарищ! — крикнул рабочий в буденовке. — Слышь, давай-ка сюда!
Митька не спеша подошел.
— Кто, товарищ, в деревне стоит? — поинтересовался Каштанов.
— А вы кто такие? — спросил Митька, настороженно глядя на него.
— Мы, товарищ, партийные работники. Едем в Конную армию. — Каштанов пошарил за пазухой и вынул бумажку. — На, почитай.
Митька быстро прочел документ. Его лицо просветлело.
— Та-ак… — приветливо протянул он. — Значит, в точку попали. Мы и есть самая Конная армия.
— Ну? И штаб армии здесь?
— Нет, только наш полк. Третий день стоим. Отдыхаем.
— А кто у вас комиссаром?
— Товарищ Бочкарев.
— Бочкарев? Какой он из себя?
— Небольшой такой, плечистый.
Каштанов ласково выругался.
— Знакомый, что ль? — добродушно усмехнулся Митька.
— Какой знакомый?! Если тот самый, то друг… Где он сейчас?
— На квартире, должно быть. Вон второй дом направо от церкви, — показал Митька.
— Ну, товарищ, спасибо… Да, о самом главном забыл. Вы что, всю деревню занимаете?
— Нет, верх свободный… Ну, покуда, товарищ… я, извиняюсь, дневалю. — Митька приятельски кивнул Каштанову и пошел на свою лавочку.
«Смотри, сколько много народу приехало!» — думал он, вновь расположившись на лавочке подле крыльца и, поглядывая на проходивший мимо обоз.
Вблизи послышались шаги.
По улице шел боец Марко Кирпатый, прозванный так за приплюснутый нос. Он приблизился и, поздоровавшись, присел с края на лавочку.
— Что, дневалишь? — спросил он, помолчав.
— Ага, — сказал Митька.
Кирпатый вынул из кармана кусок пирога, отломил половину и протянул Митьке.
— Хочешь?
— Нет. Только поел.
Из-под крыльца, загребая толстыми лапами, выполз на брюхе щенок. Виляя хвостом, он подошел к Кирпатому и большими глупыми глазами умильно, уставился на пирог.
Митька потянулся и ласково погладил его по шишкастой голове.
Щенок, слабо повизгивая, ткнулся мокрым носом в сапог Кирпатого и тронул его лапой.
— Что, жрать хочешь? — спросил тот насмешливо. — Только пирогами и кормить вашего брата. Уйди, шалава! Ну! Кому говорю? — Он замахнулся.
Щенок отскочил, склонив голову набок, поставил ухо торчком.
— Товарищ Лопатин, — заговорил Кирпатый, с хрустом пережевывая кусок пирога. — Я имею тебе один вопрос задать.
— Ну?
— Чего это ребята в партию записываются? Давать, что ль, там будут чего?
— Кому?
— Ну, тем, которые партейные.
— А ты чего интересуешься?
— Хочу себе записаться.
— Не примут, — сказал Митька с твердой уверенностью.
— Почему? — спросил Кирпатый, моргнув белыми, как у мокрицы, ресницами.
— Да так — не примут, и все.
— Нет, ты все же скажи: почему твое такое мнение? Ты пример дай.
Митька пристально посмотрел на него.
— Когда Гришин у мужика мед забрал, ты чего сделал? — спросил он, прищурившись.
— Как что? Заявил!
— А раньше?
— Что раньше?
— Ты же сам Гришина на это дело толкнул. Думаешь, мы не знаем? Ты чего ему сказал? Давай, мол, бери. А сам побежал к командиру. Это вместо того, чтоб товарища от плохого остеречь. Выходит, что ты самый что ни на есть провокатор. А разве такие партии нужны?.. Ты знаешь, что такое есть партийный человек? — помолчав, продолжал Митька, сердито сдвинув светлые брови. — Партийный товарищ должен быть чистым, как стекло, чтоб его насквозь видать было, каков он есть человек… Завидовать товарищу не должен — это раз! — Митька загнул один палец. — Товарищу помогать, не задаваться. Наистрожайше партийную линию проводить. Классовых врагов уничтожать беспощадно. Да мало ли чего… А ты товарища подсидел, а сам в партию ловчишься? Нет, друг, этот номер ваш старый. Не выйдет.
— Подумаешь! Всего раз и ошибся. Что я, буржуй?
— Это не важно, кто ты такой, раз ты жулик и подлый человек.
Митька потащил из кармана кисет с махоркой и в сильном волнении стал крутить папироску.
Щенок, набравшись храбрости, вновь подошел и, нюхая воздух, потянулся к остаткам пирога.
— Уйди, постылый! — крикнул Кирпатый.
Он с силой ударил ногой под брюхо щенка. Тот отлетел в сторону, поджав хвост, и, громко скуля, полез под крыльцо.
— Зачем ударил? — Митька встал со скамейки. — Зачем животное бьешь?
Они, тяжело дыша, стояли один против другого, готовые пустить в ход кулаки.
— Эй, Донбасс! Давай на-гора! Смена пришла! — раздался позади Митьки знакомый голос Назарова. — Вы что, ребята, не поделили чего? — спросил он, усмехаясь.
— Нет, так, — сказал Митька, глядя вслед Кирпатому, который, озираясь через плечо, быстро шел по улице.
— Ну, значица, я заступил, — заявил Назаров, садясь на лавочку. — Иди отдыхай.
— Отдохну потом, — сказал Митька. — Надо к лекпому зайти, а потом пойти искупаться.
Бочкарев сидел за столом в небольшой чистой хате и, чуть шевеля губами, писал донесение в подив. Карандаш быстро бежал по бумаге…
«…Считаю совершенно необходимым отметить исключительно высокий боевой дух бойцов. Несмотря на потери от аэропланных бомб и тяжелой артиллерии, красноармейцы рвутся в бой. Имел место случай…»
В дверь сильно постучали.
— Войдите! — сказал Бочкарев, оглянувшись. Вдруг брови его поднялись, лицо просияло. — Васька?! Каштанов?! Каким ветром тебя занесло? — воскликнул он радостным голосом, поднимаясь навстречу товарищу.
— Не ветром, а вихрем революции, Павел Степаныч, — улыбаясь, ответил Каштанов.
Он подошел к Бочкареву. Друзья крепко расцеловались.
— Вот дела! Ну, прямо как с неба упал! — весело говорил Бочкарев, обнимая товарища. — Ну, как ты? Как там наши ребята?
— Я ничего… А Гусев как в семнадцатом ушел в Красную гвардию, так с тех пор не слыхать.
— Ну, а Савельев?
— В Царицыне в губкоме работает, если еще на фронт не ушел.
— Так… А Панов где?
Каштанов поморщился, махнул рукой.
— Этот не выдержал, хлипкий оказался. Наверное, теперь зажигалками торгует, как говорится… А ты все воюешь?
— Воюю. Сам видишь, куда забрались.
— Забрались далеко… Ну что ж, это хорошая наука панам. Не мы первые в драку полезли, вперед будут умнее…
Бочкарев вплотную подошел к Каштанову, дружески положил ему руки на плечи.
— А я, паря, прямо не верю, что вижу тебя… Ведь как давно не встречались!
— Да, скоро три года, — прикинув в уме, ответил Каштанов. — Эко время летит, а как будто только вчера.
— Ну, как там, в тылу? Что нового слышно? — спросил Бочкарев.
Каштанов покачал головой:
— Ого, брат! Ты бы посмотрел, что в тылу творится. Весь народ поднялся.
— Позволь, Вася, а ты сам куда едешь?
— Я не один, Павел Степаныч. Со мной почти две сотни людей. Едем к вам, в Конную армию. Меня избрали за старшего, потому что я прошел всю германскую.
— Вот это толково! — сказал Бочкарев. — Нам партийные работники очень нужны. Убыль в политсоставе очень большая. В эскадронах почти нет военкомов… Ну, ты садись давай. Есть хочешь?
— Нет, я, как зайти, пообедал.
— Зря… Да, Вася, я все забываю спросить: ты где работал?
— Последние два года на Путиловском. Секретарем, — сказал Каштанов, присаживаясь.
— На Путиловском? — с неожиданной радостью переспросил Бочкарев. — Так у нас же есть ваш путиловский.
— Кто?
— Гобаренко. Знаешь? Мы его у Махно отбили.
Каштанов с сомнением покачал головой.
— Гобаренко?.. Не было у нас такого, Павел Степаныч… Постой, ты не путаешь? Может, Гобар?.. Гобар у нас действительно был. Я хорошо знаю его. Замечательной души человек. Он еще с весны уехал на Украину за хлебом. С ним было шесть человек. И как в воду канул. Ни слуху ни духу… Постой, что ты так побледнел?
— Вася! — Бочкарев взял Каштанова за руку. Страшная догадка шевельнулась у него в голове. — Вася, а ты твердо знаешь, что Гобаренко на Путиловском не было?
— Твердо… Хотя, впрочем, он мог работать еще до меня. А в чем, собственно, дело? Позови его, разберемся.
Бочкарев выглянул в окно, крикнул ординарца и послал его за Гобаренко.
— Павел Степаныч, ты вот что скажи: к кому первому мне явиться в штабе армии? — спросил Каштанов.
— К товарищу Ворошилову.
— Ну? Неужели к нему самому?
— А как же!
— Та-ак… Ну, а каков он собой?
— Бойцы очень уважают и любят его. А это уже много говорит. Организатор замечательный. Ведь у нас тут была партизанщина — не дай и не приведи. Коммунистов было всего несколько человек. В основном комиссары дивизий и полков… Товарищ Ворошилов сам собирал кадры. Так постепенно дело и направилось. Ну, а как товарищ Буденный в партию вступил, так и вовсе все подтянулись.
— А когда он вступил? — поинтересовался Каштанов.
— В девятнадцатом году, — Бочкарев чуть улыбнулся, видимо припомнив что-то. — Беда с нашими ребятами, — сказал он, помолчав.
— Ну, ну? Ты что-то хотел рассказать? — подхватил Каштанов.
— Так это тогда еще. Ты знаешь, красноармейский «вестник» работает быстрее телеграфа. Бойцы мигом узнали, что Семен Михайлович в партию вступил. Я как раз в тот день был в политотделе. Только вышел на улицу, гляжу: какие-то бойцы карьером летят. Много. Ну так… с полный взвод… Наскакали на меня, спешились, и передний, как сейчас помню — чубатый, глаза быстрые, спрашивает: «Где тут, товарищ, в партию записывают?» Я говорю: «Ты, что ли, хочешь записаться?» — «Да нет, — говорит, — не только я — вот всем взводом. А иззади еще эскадрон идет». Вот, думаю, да! Ну, стал им объяснять, что взводами и эскадронами в партию не записывают. А ребята и слышать ничего не хотят. «Как, — говорят, — такое? Сам наш командующий Семен Михайлович вступил. Надо и нам вступать. Пиши!» И никаких!.. Хорошо, тут Бахтуров вышел, — он сейчас у нас комиссаром дивизии, — так еле вдвоем растолковали, что в партию принимают только в индивидуальном порядке.
— А ведь хорошие ребята! — смеясь, сказал Каштанов.
— Ну! Такой народ горы сдвинуть может, — подхватил Бочкарев. — А вот еще…
В дверь резко постучали.
Каштанов и Бочкарев переглянулись.
— Войдите! — сказал Бочкарев.
Дверь распахнулась. Твердо ступая, в хату вошел Гуро.
— По вашему приказанию, товарищ комиссар, — сказал он, прикладывая руку к козырьку опущенного и не застегнутого шлема.
— Вы когда едете, товарищ Гобаренко? — спросил Бочкарев.
— Сегодня, товарищ комиссар.
— Документы получили?
— Так точно. До Москвы.
— Вот что. Придется вам проехать до Петрограда. Я хочу дать вам поручение на Путиловский завод. Ведь вы там свой человек?
Гуро улыбнулся.
— Ну, как же, товарищ комиссар! Вместе Зимний брали в семнадцатом, — сказал он с достоинством. — Секретарь друг мне, а с директором вместе в Красной гвардии служили. Хороший человек.
— Вы давно с завода?
— Да нет, с весны.
— А разве вы этого товарища не знаете? — спросил Бочкарев, поднимаясь с лавки и показывая на Каштанова.
Гуро пытливо посмотрел на него.
— Где-то встречались с этим товарищем, — глуховатым голосом ответил бандит, чувствуя, что попал впросак, и пытаясь на всякий случай оградить себя от внезапности.
— А где — не помните?
Гуро криво усмехнулся и пожал плечами.
— Трудно сказать, товарищ комиссар, ведь столько народу встречаешь, — проговорил он с деланным спокойствием, быстро взглянув на открытое окно.
Бочкарев подвинулся вплотную к Гуро.
— Ты убил Гобара, мерзавец? — тихо спросил он, в упор взглянув на него.
— Я! — крикнул во всю глотку Гуро. — Я вас всех, сволочей, уничтожу!
Сильным ударом в живот он опрокинул Бочкарева, прыгнул в окно и смаху влетел в железные объятья Харламова.
Они покатились по пыльной дороге.
Харламов, рыча, бил Гуро по лицу кулаком.
— Гад!.. Вражина!.. Бандитская морда! — хрипло приговаривал он, насев на него и со страшной силой опуская кулак.
Со всех сторон сбегались бойцы.
— Харламов, стой! Не бей больше! Хватит! — кричал Бочкарев, нагнувшись над ними. — До смерти забьешь… Он нам еще нужен… А ну, довольно! Отставить!
— Ой, товарищ комиссар, я б его зубами загрыз! — говорил Харламов, тяжело и часто дыша. — Я, как товарищ Ильвачев приказал, второй день за ним по пяткам хожу… Он, вражина, сестру Сашу надысь шпионкой обозвал… Врачу говорил, а я слышал. Откомандируйте, мол, ее от греха. Ишь куда загибал! Видать, за себя опасался, как бы она его не признала. Мину под нее подводил, понимаете?.. Теперича подхожу под окно. Слышу, он убить вас погрозился. Я уж хотел в окно лезть, а он сам выкинулся… У-у-у, гад! Вражина! — Харламов пнул носком лежавшего без сознания Гуро — Гобаренко.
Трубач Климов сидел, поджав ноги, в тени под поветью, штопал гимнастерку и тихонько гудел один и тот же напев:
Сам ружьем солдатским правил, Сам он пушку заряжал…Рядом с ним у телеги стояли две лошади — крупный гнедой мерин Кузьмича и его, Климова, вислозадая рыжая кобыленка, отличавшаяся на редкость строптивым характером. Они изредка пофыркивали и, лениво шевеля губами, перебирали свежее, душистое сено.
Солнце заливало двор знойными потоками яркого света. В жарком воздухе сонно летали слепни, жужжали зеленые мухи; наверху, под стрехой, ворковали зобастые голуби.
Лошади зашумели. Рыжий мерин нечаянно толкнул вислозадую кобыленку. Та, прижав уши, обидчиво фыркнула и ударила его вдоль спины длинными желтыми зубами.
— Ну, балуй! — прикрикнул трубач.
Он поднял голову, чтобы погрозиться на лошадь, машинально согнал муху со щеки спавшего тут же Кузьмича и задержался взглядом на статной молодайке, которая, стоя посреди двора и выставляя крепкие смуглые ноги из-под подоткнутой юбки, вытаскивала сильными руками мокрое ведро из колодца.
«Ишь ты, какие мясы наела!» подумал старей трубач, провожая глазами молодайку, которая уносила ведро, покачивая на ходу полными бедрами. Он вздохнул, вспомнив былое, покачал головой и, подкрутив по привычке поникший седеющий ус, вновь загудел:
Было дело под Полтавой, Дело славное, друзья…Калитка скрипнула. Послышались быстрые шаги.
Климов оглянулся. К нему шел Митька Лопатин.
— Ты что, дружок? — спросил Климов, когда Митька подошел и присел подле него.
— Дело есть, Василий Прокопыч, — сказал Митька. — Чирий на спине выскочил… Спит? — кивнул он на лекпома.
— Спит, — подтвердил Климов.
— Как бы его потревожить?
— А ты что, торопишься?
— Хотел пойти искупаться.
— Ну что ж, и разбудим. Пора. И то с вечера спит. — Климов нагнулся и тронул Кузьмича за плечо: — Федор Кузьмич, вставайте! Вставайте, голубчик. Эва сколько спали!
Лекпом заворочался, поправляясь на сене.
— Все это для нас чепуха… Пустяки, одним словом… Все это не играет никакой роли для нас, — пробормотал он, просыпаясь.
Он присел и увидел Митьку.
— А, товарищ Лопатин! — пробасил он приветливо. — Зачем припожаловал?
— Мне бы, товарищ доктор, пособие оказать, — сказал Митька.
Кузьмич порылся в сумке, надел очки и, взглянув поверх них, спросил:
— Фебрис, значит?
— Чего? — не понял Митька.
— Фебрис — это обозначает болезнь. Слово такое. Латынь, — с приличной случаю важностью заметил лекпом.
— Чирий у меня.
— Фурункулюс? А-а… Ну, ну, давай покажи.
Митька быстро снял гимнастерку.
— Так-с, — сказал Кузьмич. — Ишь, как его разнесло… Ну что ж, можно. Орать не будешь?
— Постараюсь, — сказал Митька, чувствуя, как мурашки побежали у него по спине.
— Ну, ладно. Ложись давай на живот и бери в зубы гимнастерку.
— Зачем? — удивился Митька.
— Для профилактики. А то закричишь — народ сбежится, нехорошо все-таки.
Кузьмич склонился над Митькой, осторожно обмял фурункул руками и вдруг со всей силой сдавил его пальцами.
— Ох! — сказал Митька, выпустив из зубов гимнастерку и повертывая к лекпому сразу вспотевшее лицо. — Вы бы поосторожней, товарищ доктор, а то в глазах затуманилось.
— Готово, готово, — успокоил Кузьмич. — Гляди, с корнем выскочил.
— Перевязать бы надо, Федор Кузьмич, — заметил Климов.
— И так сойдет.
— Все? — спросил Митька. — Можно одеваться?
— Постой, иодом прижгу… Ну вот, одевайся.
— Премного благодарен, товарищ доктор, — говорил Митька, одеваясь и затягивая ремень. — А то было всю спину стянуло.
— Скажи спасибо, что ко мне, а не в околоток зашел. Они бы тебя компрессами допекли, а то, глядишь, резать стали. Всю бы спину исполосовали. Знаю я их, живорезов. Им только нож в руки.
— Он купаться ладил, — сказал Климов.
— Ну и на здоровье. Вода теплая, а чирий-то с корнем выскочил. Ничего ему не станет.
Митька еще раз поблагодарил лекпома и ушел.
— Смотрите, Василий Прокопыч, каков герой, а? — сказал Кузьмич, глядя ему вслед. — Даже не крикнул. Что значит сильный человек…
Пройдя огородами, Митька вышел к высокому берегу большого пруда. Отсюда открывалась уходящая вдаль холмистая панорама с разбросанными по склонам белыми хатками, тополями и синевшей на горизонте неровной полосой леса. Внизу, отражая солнце и нависшие ивы, блестела вода. Весь далекий отсюда противоположный берег был покрыт загорелыми телами бойцов. Теплый ветер доносил оттуда веселые крики и хохот.
Митька спустился по косогору, быстро разделся за ивами и, выйдя к берегу, остановился, подставив сильное, словно выкованное из бронзы, мускулистое тело под ласкающие косые лучи горячего солнца. Потом, взмахнув руками, он разбежался, вниз головой кинулся в воду и, вынырнув, поплыл на середину пруда.
— Эй, эй! Куда плывешь? Здесь девушки купаются! — насмешливо крикнула Дуська. — Ну, ну, плыви, плыви, — миролюбиво закончила она, увидев, что Митька стал поспешно загребать в обратную сторону.
Он оглянулся и только теперь увидел черневшие за солнцем три головы. Впереди всех, шлепая ногами, как колесный пароход плицами, плыла Дуська. Ее со смехом догоняли Маринка и Сашенька.
Митьку вдруг охватил мальчишеский задор. Он усмехнулся собственной мысли и, набрав воздуху, глубоко нырнул.
— Куда это Митя девался? — спросила Маринка Сашеньку, оглядываясь на нее через плечо.
— Нырнул. А что?
— Почему же так долго? — встревожилась Маринка. — Может, судорога? Он кричать не будет. Он ведь такой… Что ж делать, девушки, а?
Дуська повернулась к ней и открыла было рот, собираясь, что-то сказать, как вдруг ее круглое лицо исказилось.
— Ой, мамыньки! — в ужасе закричала она. — Ой, кто-то меня за ногу схватил!.. Ой, девушки, держите меня! Ой, не могу, умираю! Ой, как он меня напугал… Тю, чорт, дурак! — напустилась она на Митьку, который, отплевывая воду, вынырнул подле нее. — Погоди, вот Сачкову скажу, он те всыпет. А что, если б я утопилась?
— А я на что? — сказал Митька, смеясь.
— Ну, Митя, зачем ты ее? — укоризненно сказала Маринка.
— Да я ж пошутил. Я ее только тихонько за пятку схватил… А ну, девушки, давайте — кто вперед к берегу, — предложил он, подплывая.
— Тогда нужно построиться, — сказала Сашенька. — Маринка, Дуся, давайте… А ну — раз, два… Пошли!
Они стайкой рванулись вперед.
Митька плыл перевалкой, до половины выбрасывая из воды смуглое тело. В несколько взмахов он обогнал плывущую впереди Сашеньку. Вскоре он почувствовал дно под ногами.
— Ну, ладно, Митя, ты выиграл! — закричала Маринка. — Давай уплывай отсюда. Нам одеваться надо. А потом приходи к нам. Мы здесь будем…
Девушки, осторожно ощупывая дно ногами, выходили на берег.
Отжимая мелкие, как роса, капельки, Сашенька провела руками по бедрам.
— Какая ты, Саша, складная, — сказала Маринка, с любовью глядя на подругу. — Ну, прямо как куколка. Вот, кажется, так бы взяла тебя, поставила на ладошку и понесла.
— Ну, положим, недалеко бы ты меня унесла, — усмехнулась Сашенька, ласково взглянув на Маринку. — Ты думаешь, во мне сколько? Во мне ведь четыре пуда.
Весело смеясь, они одевались.
— Беспокойное все-таки это дело — любовь, — говорила Маринка. — Вот Митя нырнул, а у меня уж сердце заныло, жалко стало. А вдруг, думаю, больше никогда-никогда не увижу… Да, слушай, Саша, когда мы были в Житомире, ты там видела большую скалу над рекой?
— Нет. А что?
— Мне одна старушка рассказывала. Давно это было, лет пятьсот. Возвратился из похода на турок какой-то пан Чапский. Заходит в дом тихонько, а его жена с любовником. Понимаешь, какое дело? Ну, тут он повернулся, сел на коня и айда. Выскакал на эту скалу, разогнался, раз — и в реку! Так вместе с конем и убился.
— Ну и чудак, — заметила Дуська. — Он бы сначала ей, шалаве, все глаза повыцарапал. Смотри-ка, мужик воюет, а она, гадюка, чем занимается…
— А что это сегодня Вихрова не видно? — спросила Маринка, садясь на траву.
— Бочкарев еще вчера послал его в какую-то деревню по делу. Они вместе с Ильвачевым поехали, — с некоторым беспокойством ответила Сашенька, присаживаясь подле нее. — Смотри, Митя идет, — показала она.
— А ну, граждане, как у вас и что у вас? — спросил Митька, подходя к ним и улыбаясь.
— У нас хорошо, — в тон ему сказала Маринка. — А у вас, видать, совсем весело?
— А как же нам не быть веселыми! Хм… Братишка письмо прислал. Пишет, что получил посылку и скоро в школу пойдет.
— А когда ты ему посылку посылал? — удивилась Маринка.
— Да я и не посылал никогда. Чего мне посылать? Это уж товарищу Бочкареву спасибо. И, смотрите, какой человек. Мне тогда Ильвачев говорил, что письмо, мол, — передал комиссару. Ну, думаю, забыл комиссар. Так нет ведь, не забыл! Как наших ребят отправляли на Кавказ за бурками, он с ними мешок муки послал, консервов, сахару. Вот каков он человек — и не обещал, а сделал.
— С нашим комиссаром не пропадешь, — заметила Сашенька.
— Ну вот, — сказал Митька. — А теперь есть неприятное сообщение.
— Что такое? — насторожилась Дуська.
— Кто знал Ваську-трубачонка из второй бригады?
— Ну, я знала, — сказала Маринка.
— Убили его вчера.
— Ой, мамыньки, жалость-то какая, ведь совсем еще мальчишка был! — вскрикнула Дуська.
— Что, маленький? — спросила Сашенька;
— Лет двенадцати… Как же его убили-то?
— В разведке… Лошадь его, Пуля, говорят, второй день не ест ничего, — стал рассказывать Митька. — У них между собой большая дружба была. Раз ехал с водопоя и пустил ее во весь карьер. А Пуля-то действительно пулей была. Как подхватила! А тут из подворотни собака. Она как шарахнется! Васька упал. Лежит, глаза закрыл, а сам думает, что теперь будет Пуля делать. Верно, шибко ушибся, но ничего, виду не показывает. Вдруг слышит: копыта застучали. Это, значит, кобыла вернулась. Подбегает и давай его носом толкать, а сама ржет, ржет, да так жалобно. Ну, Васька не выдержал и заплакал.
— А чего он заплакал-то? — удивилась Дуська.
— Как почему? Жаль стало кобылу, что она над ним так убивается.
— Значит, верно я слышала, что лошадям знакомы чувства радости, благодарности и любви, — тихо заметила Сашенька.
— А как же! — подхватил Митька. — Когда Харламова было убили, так конь никого чужого не допускал до него.
Они помолчали.
— И когда этой войне конец! — с сердцем проговорила Дуська. — Сколько народу побили!
— Теперь не долго ждать, — сказал Митька. — Да и в газете пишут, что скоро конец войне. — Он достал из кармана сложенную вчетверо газету. — Только уж шибко непонятно пишут некоторые наши товарищи. Как будто и русским языком, а не по-русски. Гляди, Саша, сколько я этих слов подчеркнул. Вот, к примеру, эрудиция, — прочел он. — Что это такое?
— Ерундиция — значит ерунда, — быстро — брякнула Дуська.
Митька с усмешкой посмотрел на нее:
— Ошибаетесь, Авдотья Семеновна. Это слово совершенно другое обозначает. Как твое мнение, Саша?
— Эрудиция — значит ученость, опыт. Например, говорят так: человек большой эрудиции, следовательно человек большой учености, опыта, — пояснила Сашенька.
— Так. Понятно, — сказал Митька.
Он вынул из кармана записную книжечку и что-то записал.
— Вот еще, — показал он, убирая книжечку в карман. — Эмансипация. А это что такое?
— Эмансипация?.. Постой, постой, — наморщив лоб, Сашенька задумалась. — Нет, сама не знаю, — просто сказала она.
— Ну вот, даже ты не знаешь, а все-таки образованная, — с досадой сказал Митька. — Как же такие статейки читать нашему брату?.. Ну, а вот теперь обратите внимание, другая статья. И совсем по-другому написана. Нет ни одного непонятного слова. Видно, умный человек писал… Слушайте:
«…Никогда не победят того народа, в котором рабочие и крестьяне в большинстве своем узнали, почувствовали и увидели, что они отстаивают свою Советскую власть — власть трудящихся…»
— И дальше все так ясно написано… А теперь тут смотри. Это уже другой товарищ пишет. Пре-ро-га-тива, — прочел Митька по слогам трудное слово. — Тю, чорт, язык сломаешь!.. Дальше — экономика. Ну, это я знаю, выучил, — Митька перевернул газету, поправил вихор и ткнул пальцем в отчеркнутое им место. — А теперь гляди: номинация, латериальный, эмпирический. Неужели все это нельзя по-русски сказать? А? Саша?
— Конечно, можно. Русский язык самый богатый.
— Так зачем же пишут так? Ведь мы же русские люди! Или вот еще я человека одного слушал, на станции выступал. Ну, ничего не поймешь! Сыпет такими словечками…
— Может, он сам не понимал, что говорил? — сказала Маринка.
— И что за моду взяли! — вспылила Дуська. — Наберутся всяких слов — и вот, мол, какие мы ученые. Вон и наш Кузьмич, глядя на них, под старость умом рехнулся. Тоже стал не по-нашему выражаться. Даве прихожу до него мази взять, а он спит. Я давай его будить, а он как заорет. Постой, как-то он по-чудному. Нуте-ка. Да… «не будируйте меня». Я аж покачнулась! Ну, сказал бы попросту: «Не буди». Я б повернулась и пошла. А то — «не будируйте»…
— Товарищи, глядите, что делается, — сказала Маринка, поднимаясь и показывая на ту сторону пруда.
Там было видно, как купавшиеся красноармейцы выбегали на берег, быстро одевались и бежали в село. Оттуда доносились дрожащие звуки сигнальной трубы.
— Сбор, — сказал Митька. — А ну бежим, девушки!..
Обогнув пруд и, поднявшись по косогору, они, запыхавшись, вбежали в село. Тут все находилось в движении. По улице сплошной колонной шла конница. Постукивая колесами, проезжали тачанки, орудия, санитарные линейки и обозные фуры. Крупной рысью ехали сотни две всадников в лохматых бурках с вьющимися за спиной башлыками.
— Так это ж котовцы! — сказал Митька, разгоревшимися глазами глядя на проезжавших. — Глядите, вон сам Котовский едет. Я его знаю.
— Где? Который?
— А вон в красной фуражке на рыжем коне, — показал Митька.
Посреди улицы ехал плечистый всадник с крупным бритым красивым лицом. Позади Котовского боец в кубанке вез на пике значок. Несколько поодаль ехали трубачи на белых лошадях, а позади них в облаке пыли тянулась колонна.
— Саша, гляди, кто едет, — сказала Маринка.
— Где? — живо спросила Сашенька.
Но, проследив взгляд Маринки, она сама увидела Вихрова, который, выехав из переулка на той стороне улицы и приветливо махая им рукой, пропускал проходившую мимо колонну. Дождавшись интервала между эскадронами, он пришпорил лошадь и подскакал к ним.
— Что за часть, товарищ Лопатин? — спросил он, поздоровавшись и показывая на проезжавших мимо всадников.
— Бригада Котовского, — сказал Митька с радостным оживлением. — Ну, как съездили, товарищ командир? — спросил он, подступая поближе к Вихрову и берясь рукой за стремя.
— Ничего.
— А я письмо от братишки получил, — весело блестя карими глазами, доверчиво заявил Митька. — Комиссар Бочкарев ему гостинцев послал.
— Ну? — искренне обрадовался Вихров. — Вот это хорошо… А знаешь, я был почему-то уверен, что Бочкарев так и сделает.
Он спешился, дал Митьке подержать свою лошадь и подошел к Сашеньке. Они отошли в сторону.
— Наконец-то ты приехал, Алеша, — заговорила она, с любовью глядя на него. — Чего я только не передумала за эти два дня! Ведь, говорят, банды кругом. Я так боялась за тебя… А Ильвачев где?
— Поехал доложить комиссару.
— Ну, как ваши успехи?
— Хорошо… Только уж больно народ забитый. Сначала все чего-то боялись. Видно, здорово их тут притесняли… В общем мы с Ильвачевым переизбрали местную власть, а то у них войтом[21] мельник сидел. Ну, а взгляд у него знаешь какой. Да и приспешников у него там было немало.
— С такими людьми нам еще долго придется бороться, — помолчав, заметила Сашенька. — Так они не сдадутся.
— Главное, они там весь народ мутят, стращают, — сказал Вихров. — Но ничего, мы крепко бедноту сорганизовали. Объяснили им всю нашу политику.
Сашенька улыбнулась.
— Ну ты-то молодец! Наверно, сумел хорошо объяснить, — весело сказала она, дружески беря его за руку.
Вихров вдруг побледнел и болезненно охнул.
— Ты что? — встревожилась Сашенька.
— Да нет, ничего, — сказал он, кусая губы.
— Как ничего? Тебе больно?
— Немножко царапнуло.
— Покажи, покажи!.. Что же ты молчал? Ах, какой ты, Алеша! Скромность не всегда уместна… Как же это случилось?
— Да так. Отъехали версты две от деревни, и вдруг залп с опушки. У Ильвачева фуражку сбило, а меня в руку. Да ты не волнуйся, кость не задета, — сказал Вихров, уловив выражение беспокойства на лице Сашеньки. — Я перевязал… А Ильвачев какой! По нему стреляют, а он вернулся. «Как же, — говорит, — я без фуражки в полк приеду? Неудобно». — Вихров усмехнулся. — И только стал слезать с лошади, а у него очки выпали. Знаешь, как он их не любит. Всю дорогу ругался…
— Ах, Алешенька, как же ты так? — заговорила Сашенька, участливо глядя на него.
Громкий звук трубы, раздавшийся неподалеку, заставил их оглянуться, и они увидели Дерпу, ехавшего на своей огромной вороной лошади.
— Вихров, здорово, мялок! — сказал Дерпа, останавливаясь и нагибаясь с седла. — Ты где пропадал?
— По делу ездил.
— А-а… То-то тебя на совещании не было… Ты ничего не знаешь?
— Нет. А что?
— Сейчас выступаемо.
— Куда?
— На той… на Львов. Четвертая дивизия, сказывали, крепко панам наломала. До самой речки гнала. А там еще шестая им под хвост всыпала. Так они аж сапоги поскидали, бегут.
— Ловко!.. Постой, а это что у тебя? Где достал? — Вихров показал на огромный тяжелый меч, висевший на боку Дерпы.
Дерпа усмехнулся.
— В замке достал. Добрая штука, — сказал он. — Теперь зараз по две головы буду рубать. Такой не сломается. — Он до половины вытащил меч и с силой кинул его в ножны. — Ну, бувайте, хлопцы! — Дерпа сделал знак рукой и, пришпорив вскинувшуюся на дыбы лошадь, помчался по улице.
VIII
Сражение на львовском плацдарме началось 14 августа. В последующие дни Конная армия вела упорные бои за переправы через Западный Буг. Удачная переправа 6-й и 4-й дивизий и успешная борьба с авангардами белополяков на подступах к городу давали уверенность в быстром овладении львовским узлом.
17 августа Реввоенсовет Конной армии поставил дивизиям задачу — стремительным ударом с севера и юга захватить Львов. Выполнение приказа несколько задерживалось тем обстоятельством, что Пархоменко с 14-й дивизией, встретив у Каменки сильный заслон, только к вечеру следующего дня сбил противника и переправился на левый берег реки.
Несмотря на отчаянное сопротивление белополяков и на их большое превосходство в силах, операция на львовском плацдарме развивалась быстро и успешно. К вечеру 17 августа части Конной армии вели бой в пяти километрах от города. Во Львове уже создавались рабочие отряды.
В то время как головные подразделения дрались на подступах к Львову, 11-я дивизия переправилась с боем у Красне и, очистив от противника Буск, быстрым маршем подходила к месту сражения. Впереди, за поросшими лесом холмами, раскатывался пушечный грохот. От беспрестанных взрывов содрогалась земля… Шумное эхо катилось по лесу.
Морозов нагнал первую бригаду на малом привале в дубовой роще, у речки. Он остановил горячившегося дончака у самой опушки. Вдоль нее между деревьями спали вповалку у ног лошадей бойцы первой бригады. Прямо против того места, где остановился начдив, раскинувшись навзничь, у обочины дороги лежал чубатый казак в дождевике и буденовке. Нагнувшись с седла, Морозов узнал в кем Харламова. В его руке были крепко зажаты поводья. Золотисто-рыжая лошадь его, с проступавшими ребрами, поджав ноги под брюхо и опустив голову, тоже спала. Подле Харламова, положив ему на живот голову, лежал совсем молодой вихрастый боец. Вокруг них — кто навзничь, кто приткнувшись боком к товарищу — спали бойцы. Красноватые косые лучи всходившего солнца, пробиваясь между стволами деревьев, ложились на пыльные лица бойцов, играли на стременах и оружии. Вокруг было тихо. Только вдали попрежнему слышался тревожный гул канонады.
Морозов покачал головой и оглянулся на ординарца.
— Ну и крепко же спят, Федор Максимыч! — заметил Абрам. — Разбудить, что ль?
— Не надо, — тихо сказал Морозов. — Устали ребята. Пусть отдохнут.
Он тронул лошадь и поехал обочиной дороги, пробираясь между телами спавших красноармейцев. Немолодой рыжеватый боец в кожаной куртке, с белыми шрамами на искромсанном шашкой лице приподнялся на локте, мутными глазами взглянул на начдива, пробормотал что-то и опять повалился набок. В стороне от дороги рядом с лошадью лежал старый трубач. Худое лицо его с седеющими усами покоилось на боку лошади. Он мерно посапывал большим краевым носом, придерживая между колен сигнальную трубу с истертым, когда-то золоченым шнуром. Морозов подъехал к нему.
— Климов! — тихо окликнул начдив. — А ну-ка, проснись!
— А? Чего?..
Климов приоткрыл один глаз и, увидев начдива, живо вскочил. Вслед за ним шумно поднялась лошадь.
— Где комбриг? — спросил Морозов.
Климов поспешно перекинул трубу за спину и сказал сиплым голосом:
— Только сейчас проходил, товарищ начдив.
— Давно здесь стоите?
— Минут десять, больше не будет.
— Так… Ну, ну, ложись, отдыхай…
Морозов тронул лошадь вперед по дороге. Миновав батарейные упряжки с орудиями и зарядными ящиками, он спустился к песчаному берегу речки. Над водой сидел на корточках худой сутулый боец. Услышав конский топот, он повернул голову, и начдив увидел желтое сморщенное лицо с раскосыми глазами.
— А ты, Ли Сян, чего не спишь? — узнав красноармейца и подъезжая к нему, спросил Морозов.
— Лука мыл, товались начдив. Польский пана мало мало лука моя сытырлял, — быстро вскакивая, скороговоркой ответил китаец.
— Так, может, тебя в лазарет?
Китаец отрицательно покачал головой.
— Наша лебята смеяться будет… Нет, Ли Сян лазалета не надо.
Морозов веселыми глазами посмотрел на него.
— Ишь ты, какой боевой!.. Комбриг где, не видел?
Ли Сян показал в сторону от дороги.
У кустов возле опушки на широком пне сидел Колпаков. Морозов окликнул его. Колпаков что-то поспешно сунул в карман, — он грыз сухарь, — и, придерживая шашку, подбежал к начдиву.
— Почему без охранения? — спросил Морозов сердито.
Колпаков виновато потупился.
— Сам знаешь, Федор Максимыч, как на заре спится, — сказал он, не глядя на начдива. — Я и решил, пусть ребята поспят. Шутка сказать, подряд двое суток не спавши. Да ведь я только четверть часа…
— То, что дал отдохнуть, это ты правильно сделал, — сказал Морозов, спешиваясь и подавая поводья Абраму. — Но то, что без охранения, — это недопустимая халатность, товарищ комбриг. И чтоб впредь этого не было.
Он расстегнул полевую сумку, вынул карту и, водя по ней пальцем, сказал:
— Значит, так: бригаде наступать вдоль шоссе и захватить Билька-Шляхетскую. Левее тебя, в районе Зубржица, третья бригада. Она наступает на Мыклашов. Правее особая бригада наступает на фольварк Пруссы… Понятна задача?
— Понятна! — смахивая крошки с усов, ответил комбриг. — Можно ехать?
— Постой, — сказал Морозов. — Как настроение?
Колпаков, пожав плечами, поднял на начдива красные от бессонницы глаза.
— Бойцы который день не евши, Федор Максимыч, неделю хлеба не видели… А настроение?.. Что ж, настроение, как всегда, боевое. На это не жалуемся. Только вот животы подвело… Да и отдохнуть бы надо.
Морозов пристально посмотрел на него и, — показывая плетью в сторону Львова, сказал:
— Вот там будет отдых… Давай выступление!
— По ко-ням! — нараспев крикнул комбриг.
Бойцы зашевелились, стали подниматься и оправлять седловку. Ординарец подвел лошадь комбригу. Колпаков потрогал подпругу — хорошо ли затянута — и привычным движением бросил в седло свое тучное тело. Солнечный луч блеснул на золотом галуне его яркокрасных штанов. Он обернулся к рядам и подал команду.
Дорога шла лесом. Растянувшись колонной, бригада на-рысях подходила к опушке. Впереди показались холмы. Узкие петли дороги, огибая лощины и вымоины, уходили к вершине большой лысой горы. Влево раскинулось громадное желтое поле пшеницы. За ним в голубеющей мгле темнела неровная полоса далекого леса. Вправо, где горизонт ограничивался поросшей соснами высокой горой, слышались частые ружейные выстрелы. Стрельба то затихала, то вновь разгоралась, словно в пылавший костер подбрасывали охапки зеленого вереска.
Колонна теперь уже шагом выходила к гребню вершины. Краешек багряного солнца вышел над лесом. Буйным пожаром заполыхал горизонт, и небо стало вдруг голубым и бездонным.
Внезапно за поворотом дороги величественной панорамой открылась долина.
— Львов! — пронеслось над рядами.
Вдали, в широкой низине, лежал древний город. Пунцовые лучи зари красными факелами горели на крестах церквей и костелов. Алые пятна дрожали на куполах колоколен. Над городом поднималось туманное марево…
То ли Колпаков подал команду, то ли бригада остановилась сама по себе, но ряды застыли в глубоком безмолвии. Задние молча выезжали вперед, и вскоре весь гребень горы покрылся сплошной стеной всадников. Вокруг было тихо. Лишь под порывами налетавшего ветра трепетали на пиках эскадронные и полковые значки. Сотни глаз устремились туда, где, утопая еще в полумгле, темнели очертания города.
Неожиданно разорвав тишину, вдали прогремел пушечный выстрел. Бойцы зашевелились и, вытягиваясь колонной, стали быстро спускаться по пологому склону горы.
Начиная сражение на львовском плацдарме, командование 2-й и 6-й польских армий имело приказ главнокомандующего уничтожить Конную армию на подступах К Львову. Польские части обладали значительным превосходством в живой силе, они были богато оснащены техникой. Казалось, что успех поставленной перед ними Пилсудским задачи был обеспечен им. В действительности же дело приняло совсем иной оборот. План противника был такое: сковать и расстроить Конную армию жестоким огнем, а сокрушительными ударами по правому и левому флангам выиграть сражение и уничтожить ее. С этой целью, противопоставив Конной армии четыре полностью укомплектованные пехотные дивизии[22] командующий фронтом двинул ударные группы в обход флангов Конной армии. На рассвете 19 августа (то-есть того дня, когда развертывались все эти события) ударная группа правого фланга польской армии вошла в Могиляны. В десять утра генерал, командующий группой, получил сообщение, что со стороны Каменки быстро движутся какие-то конные массы. Это был сбитый Пархоменко заслон белополяков. Генерал приказал трубить тревогу, а сам со штабом поднялся на возвышенность, откуда была хорошо видна вся долина.
Впереди, километрах в трех от того места, где остановился генерал, блестела узкая полоска реки. За ней, в глубине, виднелись поросшие лесом холмы. Покрывая сплошь все пространство от холмов до реки беспорядочными группами, скакали уланы. Над ними белыми клубочками в яркоголубом небе с треском рвалась шрапнель. Передние всадники, достигнув реки, не задерживаясь, кинулись вплавь. Блестящая под солнцем гладкая поверхность воды покрылась черными точками людских и конских голов. Следом за уланами вскачь неслась батарея. Ездовые, взмахивая руками, нещадно секли плетьми лошадей. У самого берега орудия, потеряв интервалы, сбились в кучу, смяли скакавших впереди улан и, цепляясь осями, с полного маху влетели в реку.
Высоко взметнулись каскады ослепительных брызг. Послышались крики и вопли тонувших…
Могучий вороной конь коренного выноса упрямо боролся с тяжелым орудием, увлекавшим его на дно быстрой реки. Раздувая широкие ноздри, сверкая вылезавшими из орбит глазами, высоко вскидывая мощные ноги, он бил по головам и спинам людей, тщетно пытаясь найти точку опоры. Но силы уже изменяли ему; словно прощаясь с солнцем, он заржал тихо и жалобно. Еще миг — и вода беспощадно сомкнулась над его головой.
Над долиной неслись громкие крики. Едва последние всадники бросились в воду, давя и сшибая друг друга, как вдали показалась колонна. Над передними рядами трепетало большое красное знамя. Почти одновременно влево, у перелеска, показалась другая колонна. Обе колонны широкой рысью подходили к реке.
Увидев их, генерал, командующий группой, подозвал стоявшего неподалеку командира 2-й кавалерийской дивизии и приказал контратаковать неприятеля и уничтожить его.
Кавалерийский бой разыгрался близ опушки старого соснового леса.
Бригада буденновцев развернулась у перелеска и двинулась навстречу уланам, все ускоряя и ускоряя аллюр. В нескольких шагах перед строем улан скакал на большой серой лошади сухощавый полковник. Он повернулся к передним рядам, крикнул что-то, блеснув прямым, как свеча, палашом. Со стороны рощи, колебля флюгера пик, выскочил на галопе 2-й уланский полк. Опустив сверкнувшие пики, уланы с криком ринулись во фланг атаковавшей бригаде. Бригада дрогнула. Передние повернули лошадей, и вся бригада широким потоком хлынула назад, к перелеску. И как раз в ту минуту, когда передние достигли опушки, одинокий всадник с большими усами, до того наблюдавший с пригорка за ходом боя, вылетел вперед, быстрым движением поправил заломленную на затылок папаху, рванул из ножен кривой кавказский клинок и помчался навстречу полковнику.
— Начдив! Начдив! — пронеслось над рядами буденновцев.
Припав к луке, откинув назад руку с обнаженным клинком, Пархоменко молча скакал навстречу полковнику. Рослый полковничий конь, крутя куцым хвостом, тяжелым скоком шел на него. Прищурившись, глядя зорко вперед, Пархоменко привстал на стременах, готовясь к удару. Сильной рукой он рванул поводья. Лошадь взвилась, и солнечный луч вспыхнул на высоко поднятом острие шашки… Ахнуло поле от победного крика, бойцов. Бригада повернула и с обеих сторон ударила по уланам, потерявшим своего командира. Сшибаясь и кружась, все с криком понеслось в сторону старого леса.
В то время как Пархоменко громил ударную группу белополяков, на остальном участке фронта бой разгорался с невиданной силой. На протяжении тридцати километров от Джибулки до Билька-Шляхетской и Чижикува сотрясали воздух залпы тяжелых батарей. К двум часам дня 4-я дивизия, сломив сопротивление наиболее стойкой 13-й познанской дивизии, находилась уже в двух километрах от Львова. Почти одновременно 6-я дивизия, дравшаяся на левом фланге Конной армии, вклинилась в оборонительную полосу 5-й дивизии легионеров. Фронт врага дрогнул. Командование 6-й польской армии двинуло в бой последние резервы… Казалось, еще удар — и Львов будет взят.
Наступившая темнота отодвинула решительный штурм на завтра.
Над Львовом опускалась глубокая ночь. То тут, то там в полумгле, близко, казалось — рукой подать, зажигался огонек и, мигнув, угасал. Месяц еще не взошел, в низинах лежала непроглядная тьма. Вокруг было так тихо, словно город притаился, прислушиваясь к ночным звукам и шорохам. Вправо, у фольварка Пруссы, трепетало розоватое зарево. В темном небе перебегали зарницы.
Ворошилов и Буденный сидели на стоге сена и, поглядывая в сторону Львова, тихо беседовали.
— В том-то и суть, Семен Михайлович, что отвага — дело хорошее, но отвага без головы не много стоит, — говорил Ворошилов. — Удивительный человек этот Маслак. Никак не могу выбить из него партизанский дух.
Буденный молча слушал, покручивая ус. Разговор шел о неудачной атаке Маслака, который бросил бригаду на пулеметы и понес потери.
— Я думаю так, Климент Ефремович, — заговорил Буденный, помолчав — снимем его с бригады и предадим суду военного трибунала, чтобы и другим неповадно было. Я ему уже раз говорил, предупреждал.
— А вот возьмем завтра Львов, встанем на отдых и разберемся с этим делом, — сказал Ворошилов. Он поднял голову, услышав чьи-то шаги. — Кто идет? — спросил он.
— Я, Климент Ефремович, — послышался голос Орловского. — Там ребята банку консервов достали и немного молока, — сказал он, подойдя. — Так, может быть, вы с Семеном Михайловичем закусите?
— Ну что ж, прекрасно, Сергей Николаич, — весело сказал Ворошилов. — Только посидим немного. Больно уж ночь хороша. Присаживайтесь с нами, поговорим…
— Я вот поглядел на эту банку консервов, и мне вспомнилась наша студенческая жизнь, — заговорил Орловский, устало приваливаясь к копне. — В Москве, у Дорогомиловской заставы, был дом. В нем помещалось общество трезвости. Мы, студенты, называли его обществом по уничтожению спиртных напитков. Там у них чуть ли не каждый день происходили банкеты. А внизу помещалась дешевая столовка, вернее сказать — харчевня. Содержала ее вдова Алтуфьева. Так мы, студенты, покупали у нее обрезки всякие. Они казались нам с голоду царским кушаньем… Я бы сейчас этих обрезков один полведра съел.
— Так вы идите и съешьте эту банку консервов, Сергей Николаич. Я что-то не хочу есть, — сказал Ворошилов.
— Я тоже не хочу, — подхватил Буденный.
— Спасибо за великодушие, но мне эта банка, как слону горошина, — улыбаясь, сказал Орловский. — Сейчас бы такой обед съесть, какой, помните, закатил старый граф Ростов для этого… для Багратиона.
— А, да… совсем бы неплохо, — усмехнулся Ворошилов. — Так мы и не успели, товарищи, дочитать до конца «Войну и мир»… На чем мы остановились, Семен Михайлович?
— Васька Денисов отбил русских пленных. Я один дочитывал эту главу.
Вблизи послышались торопливые шаги.
— Разрешите, товарищ командующий? — спросил из темноты густой голос Зотова.
— В чем дело, Степан Андреич? — спросил Буденный, повертываясь.
— Получен приказ, товарищ командующий, — произнес Зотов встревоженно. — Ничего не пойму.
— Дайте сюда, — сказал Ворошилов.
Буденный зажег электрический фонарик и, прикрывшись буркой, стал светить Ворошилову, который, взяв из рук Зотова приказ, начал читать его про себя.
— Что? Что такое? Конной армии оставить Львов и итти на Владимир-Волынский? — заговорил он озабоченно. — Нет, нет, этого ни в коем случае нельзя допускать. Это… Я даже не знаю, как это назвать…
— Измена, — тихо, как бы про себя, сказал Зотов страшное слово.
— А зачем нас перебрасывают? — спросил Буденный.
Ворошилов быстро пробежал приказ до конца.
— На Западном фронте противник потеснил наши части, — заговорил он, нахмурившись. — Нас перебрасывают будто бы на помощь Запфронту, тогда как взятие Львова является единственно возможной и лучшей помощью Запфронту. Если мы уйдем отсюда, это вызовет отступление наших войск также и на Юго-западном фронте.
— Ну и приказ! — Буденный с осуждающим выражением покачал головой.
— Приказ — на радость польским панам, — тихо сказал Зотов.
— А кто подписал? — спросил Буденный.
— Троцкий.
— Ох, Троцкий!.. Ну, погоди… — У Семена Михайловича судорожно задвигались руки, его побледневшее лицо стало страшным от гнева. — Что будем делать, Климент Ефремович? — спросил Буденный, пытливо взглянув на Ворошилова.
— Что делать? — Ворошилов провел рукой по взмокшему лбу. — Будем добиваться отмены приказа…
Ночь густела. В глухом лесу, в лощинах, кое-где горели костры. Вокруг них, перебрасываясь словами, сидели и лежали красноармейцы. Когда огонь начинал затухать, один из бойцов поднимался, шел в гущу леса и, возвратившись с огромной охапкой валежника, бросал его на горевшие угли. Тогда вспыхивало веселое пламя, выхватывая из тьмы то кузов тачанки, то подседланных лошадей, привязанных к деревьям, то высокую стену леса.
— Чего бы я съел, ребята, сейчас… — мечтательно протянул молоденький красноармеец в буденовке. — У нас дома аккурат в это время кур, цыплят режут. Вот бы…
— Не зуди, сачок! И так тошно, — мрачно оборвал его Климов.
— Ребята, у кого есть закурить? — спросил Харламов.
— У товарища доктора спроси. У него полный кисет, — посоветовал боец в черной кубанке.
— Он занятый с взводным, — сказал Климов.
Харламов привстал над костром. Кузьмич, замещавший эскадронного писаря, что-то писал, лежа на животе. Подле него полулежал, опираясь на локоть, взводный Сачков.
— Сколько у тебя получается? — спросил Кузьмич, поглядывая поверх очков на Сачкова.
— Значица, так. Пиши: первый взвод — семь человек.
— А Миша Казачок? Он в руку раненный.
— Ехать может?
— Факт. Да он в лазарет нипочем не пойдет.
— Значица, Миша не в зачет… Пиши: девять человек во втором… В третьем раненых нет. Нет, постой, Кирюшку контузило. Пиши: один. В четвертом — восемь…
Кузьмич начал подсчитывать.
— Ребята, как бы наш командир не сгорел, — сказал Митька Лопатин опасливо, показывая на спавшего у костра Вихрова. Он поднялся и подошел к нему. — Ну да, гляди, какая спина горячая. Надо б его отодвинуть… А ну, Степа, помоги! Берись за ноги.
Вместе с Харламовым они перенесли Вихрова, и Митька заботливо подложил ему под голову свою шинель.
— Умаялся в разведке-то, — заметил Харламов.
Оба знали, что Вихров вместе с двумя красноармейцами ходил прошлой ночью в разведку и привел пленного.
Костер ярко вспыхнул. Пламя затрещало, взвилось к самому небу.
— Ребята, чего это вы делаетя? — сердито крикнул Сачков. — Рази можно так? Слышитя? Кому говорю! Соблюдай маскировку!..
— Мне эта маскировка раз боком вышла, — заметил Климов вполголоса. — Было помер за нее со страху.
— Ну? Как же так? — спросил Митька.
— Да очень просто. Почудилось мне, братцы мои, такое, что умру — не забуду.
— А ну, давай расскажи, Василий Прокопыч, — попросил Харламов, подвигаясь поближе.
— Ну что ж, можно, — согласился трубач, — только оставьте кто покурить… Да… Служил я, братцы мои, до революции в Царском Селе, в лейб-гусарском полку, — начал он, поудобнее усаживаясь. — А из всей гвардии в одном нашем полку были серые кони. Ну, о конях потом… Так вот… Был там у меня кум, вахмистр кирасирского полка, Петром Савельичем звать. В отставке по чистой ходил. Уже, можно сказать, совсем старый человек. Один жил, жену давно схоронил. И вот случился у него день рожденья. Аккурат это было перед самой германской войной. «Заходи, — говорит, — Прокопьевич, выпьем по маленькой». Ладно, захожу… Стол накрыт честь по чести. Графинчик, конечно, закусочки всякие разные.
— Эх! — вздохнул Митька.
— Да. Только, гляжу, рюмки стоят. А я с них пить терпеть ненавижу. Я очень даже уважаю со стакана пить. Да… Ну, сели. Выпили по одной, налили по другой. Это ж известное дело: рюмочку выпьешь — другим человеком станешь, а другой человек тоже не без греха — себе выпить хочет. Да… Сидим, значица, выпиваем, разговоры разные разговариваем, Вот кум и говорит «Пес с ними, с рюмками, с них только немцы пьют. А мы давай уж по-русски — стаканами». И сейчас это он рюмки и графинчик со стола снимает, а заместо них становит стаканы и гусыню. Это четверть так называлась. «Вот, — думаю, — да! Вот это по-нашему». Тут мы двери закрыли, чтоб к нам ненужный человек не зашел, и пошла глушить! Кум разошелся, всех своих полковых командиров в лицах представляет. А он на это дело был мастер. Чисто в тиятре сижу. Ну, пьем день, другой. Кто-то к нам стучался, да мы не отворяли. Сидим себе выпиваем, старину вспоминаем. Кум держится. Я тоже вроде виду не показываю. Вдруг слышу — музыка заиграла. Наш полковой марш. К чему бы это? Выглянул я в окно, братцы мои, да я покачнулся! Гляжу: едет наш лейб-гусарский полк и весь, как есть, на зеленых лошадях! Ну, тут все во мне в смятенье чувств пришло. Враз протрезвел. «Батюшки-светы, — думаю, — до зеленого змия допился!» А они идут и идут, и, как есть, все зеленые. «Кум! — кричу. — Петр Савельич! Гляди, гребтится мне или взаправду?» Кум глянул в окно, с лица сменился и мигом тверезый стал. «Пропали, — говорит, — мы с тобой, Василий Прокопыч. До змия допились. Сейчас гореть начнем». Ну, тут я живо смотался и в казарму до фельшера побежал. Только забегаю, а вахмистр навстречу. «Ты, — говорит, — сукин кот, где проклаждался? Тут война началась, а тебя, чорта, днем с огнем не сыскать». Я говорю: «Больной». А он: «Какой такой больной! А ну, дыхни!..» Ну, тут все и объяснилось. Командир полка-то приказал за ночь всех лошадей перекрасить в защитную краску. Понимаете? Да… Вот как мне эта маскировка далась, — под общий смех закончил трубач.
— У вас, Василий Прокопыч, видать, с того разу и нос покраснел? — ехидно заметил Козьмич.
— Он у меня отроду красный, — спокойно заметил трубач. — Только вот под старость вроде начал синеть.
— А что это «лейб» обозначает? — спросил Митька.
— А пес его знает! Лейб — и все тут.
— Ты у лекпома спроси, он ученый, — шепнул Митьке лежавший рядом молоденький красноармеец Григорьев, тот самый, что вспоминал про цыплят.
Но Митька воздержался. С некоторых пор он стал относиться критически к учености «доктора», так как сам сильно понаторел за последнее время.
— Товарищ доктор, вы не скажете, какое это такое слово «лейб»? — спросил Григорьев.
— Лейб — значит лев, — не сморгнув, ответил лекпом. — Ну, здоровый такой человек. Знаешь, в гвардии какие люди служили? С одного двух таких, как ты, можно сделать.
— Товарищ Климов, чтой-то вы за кирасиров поминали? Это такой полк, что ли, был? — поинтересовался Григорьев.
— А как же!
— А форма какая?
— Весь медный: грудь, спина. А на голове каска. Так все и сверкает. Ну вроде, как бы сказать, живой самовар. Только с усами.
— Здоровый был народ, — подхватил Харламов. — Я ведь тоже в гвардии служил. Знаю.
— Ну? — удивился Климов. — Стало, мы с тобой земляки? Ты какого полка?
— Лейб-казачьего.
— Товарищ Харламов, а много этой гвардии было? — спросил Григорьев.
— Много. Корпус кавалерии и два корпуса пехоты.
— Значит, и пехота была?
— Была. В Петрограде стояла.
— А ну, расскажите, — попросил Григорьев.
— Нехай Василий Прокопыч рассказывает, — сказал Харламов. — Он служил поболей меня.
— Что ж, можно и рассказать, — охотно согласился трубач. — Только ты, сынок, сверни-ка мне закурить.
Вблизи послышались шаги. Все оглянулись. К костру шел Миша Казачок. Он подошел и присел на корточки рядом с лекпомом. В карманах его что-то лязгнуло. Кузьмич поспешно отодвинулся в сторону.
— Слушай, Миша! — сказал он взволнованным голосом. — Ты все же поосторожней. А то и сам взорвешься и людей покалечишь.
Миша Казачок с тихой грустью в добрых глазах молча взглянул на него, поднялся и, отойдя в сторону, прилег под кустом.
— Что-то с Мишей? — спросил боец в черной кубанке. — Вроде грустный какой.
— Не тронь его, — строго сказал Митька. — Коня у него подвалили… Два года ездил… Видишь, страдает, не в себе человек.
— Ну, братцы, слушайте, — начал Климов, сделав подряд несколько жадных затяжек. — Начинаю за гвардию разговор. Было это, можно сказать, самое отборное войско. Да… Вот гляди, какой Харламов здоровый, — сказал он Григорьеву, — а его бы в гвардейской пехоте в первую роту не взяли. Нет. Там были такие, что смотреть страшно. Не то слон, не то человек. Бывало в германскую в атаку пойдут — немцев через плечо штыком, как котят, кидают. У них, у немцев, тоже были отборные войска. Баварская гвардия называлась. Ну, в ту пору, конечно, было много измены. Только бывало нас, то-есть гвардию, на новый участок перебросят, а они, баварцы, уже кричат из окопов: «Эй, русс! А мы уже тут!»
— А много было ваших полков? — спросил Митька.
— Разные были полки. По всей России отбирали, чтобы солдаты были и по масти похожие, и по росту, и по личности. Да…
— А ни к чему все это, — заметил Харламов.
— Эка! — усомнился Митька. — Разве можно набрать целый полк одинаковых людей!
— А что ты думаешь! Ого! — Климов качнул головой. — У меня свояк в Семеновском полку служил. Так у них все солдаты были один к одному: волос светлый, нос с горбинкой… Егеря — те черные, как цыганы, нос редькой… Вру? А вот его спроси, коли я вру! — кивнул трубач на Харламова.
— Он верно говорит, — сказал Харламов.
— Теперича гренадеры, — продолжал Климов. — Екатеринский полк назывались. Ну, те все смугленькие такие, пригожие с виду. Да… Павловцы — так те все курносы. Да вот случай был…
— Начдив едет! — сказал боец в черной кубанке.
Все встрепенулись. Сачков встал, подправил ремень.
— Почему не спите, товарищи? — спросил Морозов, останавливая лошадь подле костра и оглядывая бойцов.
— Да вот сказки сказываем, товарищ начдив, — сказал Климов, поднимаясь и веселыми глазами глядя на начдива.
— Завтра в бой. Надо сил набираться, — проговорил Морозов, ласково глядя на бойцов. — Климов, как до вашего штаба полка проехать? — спросил он трубача.
— А вот этой ложбинкой езжайте, никуда не сворачивайте, — показал Климов. — Может, вас проводить?
— Не надо, я сам. Ну, ребята, смотрите: как буду ехать обратно, чтобы все спали. А не то рассержусь.
Морозов кивнул бойцам и поехал вперед по лощине.
— И до чего душевный человек! — сказал Климов, глядя ему вслед.
— Давай, давай, Василий Прокопыч, досказывай, а то и верно спать время, — заметил Харламов.
— Ну, ладно, — сказал Климов, присаживаясь. — Да, братцы, а на чем я остановился?
— За Павловский полк начал рассказывать. Стал быть, случай там был.
— Ах, да! — вспомнил Климов. — Ну вот, приезжает в этот полк мать одного из солдат, сынка проведать. А взводный такой шутник был: «Как, — говорит, — мамаша, сынка твоего звать?» — «Григорий». Ладно. Построил он взвод и спрашивает: «Ну, который твой сынок, покажи». Ходит она перед фронтом, смотрит. А солдаты-то все, как родные братья: рыжи, курносы, конопаты, глаза светлые и росту одного. Подступится она к одному, к другому — будто ее Гришка, а будто и нет. Ну, тут взводному, видать, жаль стало ее, и он подал команду. Выходит со строя солдат — сын ее, значит.
— Здорово, если не врешь, — сказал боец в черной кубанке.
— Истинный бог!
— Правильно говоришь, — помолчав, начал Харламов. — Сколько народных денег расходовали на эту петрушку. А как пошли с немцем воевать, так ни пушек, ни снарядов, ни винтовок в достатке не оказалось. Сколько за это зря полегло нашего брата…
— Ну, Василий Прокопыч, если уж ты так все здорово знаешь, скажи, за какую такую провинность с кавалергардского полка царские вензеля с погон сняли? — спросил до сих пор молчавший Сачков.
— И за это скажу. Было это, братцы мои, в пятом году, в революцию, — заговорил Климов, беря предупредительно поданную ему папироску. — Сидит это, как бы сказать, царь Николай во дворце и чай пьет.
— Эка загнули! — захохотал басом Кузьмич. — Да разве царь чай будет пить!
— А что же по-вашему?
— Ну, кофий, какаву.
— Мне, конечно, правду сказать, во дворце бывать не приходилось, — возразил Климов, пожимая плечами. — Мимо, верно, не раз хаживал. Да… Ну ладно. Выдул он один чайник, фельдмаршал ему другой несет, а сам докладывает: «Ваше, мол, инператорское, в городе беспорядки, народ бунтуется». Ну, берет царь телефон и говорит в эту… в трубку: «Алё! Это кавалергардский полк? А ну, подать мне живой ногой командира». Ладно. Приходит к телефону полковой командир, а царь ему: «Рабочие бунтують! Приказываю выступить на усмирение». А командир ему в ответ: «На защиту отечества от немца, турки или там кого другого — сполню долг присяги, выступлю немедля, а против народа не могу, душа, мол, не позволяет. На это, мол, полиция есть». Николай-то осерчал, ногами затопал, было разбил телефон. «Это ваше последнее слово?» — спрашивает. «Последнее». — «Ну, как хочете, но в таком разе я с вашего полка вензеля снимаю, а вас самого в крепость на отсидку и без права передач». Вот, братцы, как…
— Были, значит, и с офицеров хорошие люди, — сказал Григорьев.
— А как же! Вот в нашем в пятом драгунском Каргопольском полку был корнет Лихарев, — заговорил боец в черной кубанке. — Ну, он, конечно, не кадровый, из студентов. Офицер, как бы сказать, военного времени. Молодой. И до чего, ребята, чистый, сердечный был человек! Придет бывало во взвод: «А ну, ребятки, давай оружие почистим, а я вам расскажу чего-нибудь. Но только чтоб этот разговор был между нами». Вот мы, значит, чистим, а он рассказывает, глаза нам открывает. При Керенском мы его в комитет выбрали, а в Октябрьскую революцию он к большевикам перешел. Сейчас где-то полком командует. Очень хороший был человек, умный. За словом в карман не лез. Аккурат под Сандомиром в шестнадцатом году случай с ним был. У нас дивизией командовал немец. Фон Крит фамилие.
— Фамилия, — поправил Митька.
— Ну, фамилия, — повторил рассказчик. — Видали индюка, братва?
— Ну, ну?
— Точный патрет этот фон Крит. И вот аккурат перед боем стали к нему прибывать офицеры для связи с разных полков, И наш Лихарев приезжает. А он, Лихарев, после контузии немного заикался. Хорошо. Подходит он к фон Криту и докладывает: «Ваше пре-превосходительство, от пя-пятого д-драгунекого Каргопольского п-полка корнет Ли-Лихарев». А фон Крит так это на него поглядел и говорит: «Что, не могли хорошего послать?» А Лихарев с лица сменился, чуток побледнел и отвечает: «Хорошего, видно, к хорошим, а меня уж к вам».
— Ха-ха-ха! Вот это поддел немца! — рассмеялся Харламов. — Ну, ладно, братва, давайте, верно, спать ложиться, а то скоро светать.
Он взял свою бурку и раскинул ее подле костра.
Бойцы еще поговорили немного и тоже стали располагаться на отдых.
Морозов застал Панкеева и Бочкарева сидящими у костра над котелком кипятку. Тут же на лопухе лежал кусок сахару и ржаной сухарь.
— Чаевничаете? — сказал начдив, спешившись и подойдя к ним.
— Садитесь с нами, Федор Максимович, — радушно предложил Панхеев. — Чай поспел. Только заварки нет.
— Пейте сами, друзья, я не хочу, — отказался Морозов.
Он подошел к костру и присел на попону.
Бочкарев, хорошо изучивший Морозова, сразу почувствовал, что тот чем-то сильно озабочен. Всегда живой и веселый, начдив сидел молча, глухо покряхтывал.
— Ну, как? — вдруг спросил он, повертываясь к Панкееву и пристально глядя на него.
Заметив в глазах начдива знакомое тревожное выражение, Панкеев понял, о чем задан вопрос.
— За сегодняшний день в полку пятьдесят восемь раненых и семнадцать убитых, — сказал он, помолчав.
— Жаль, жаль людей, — с болью в сердце заговорил Морозов, — а тем более жаль, когда несешь потери напрасно… Сегодня ночью, друзья, мы уходим из-под Львова.
— Как? Почему? — в один голос вскрикнули Бочкарев и Панкеев.
— Таков приказ — пояснил Морозов. — Товарищ Ворошилов ездил на прямой провод, требовал отмены приказа. Но некому поддержать. Товарищ Сталин тяжело заболел.
— Чей приказ? Кто подписал? — спросил Бочкарев.
— Троцкий.
— Ничего не понимаю! — разводя руками, сказал Бочкарев. — Завтра Львов был бы в наших руках, а там, смотришь, и войне конец.
— Ну, там им видней, — с досадой сказал Морозов. — Потом разберутся, почему так получилось и кто виноватый. А теперь надо действовать. Семен Михайлович приказал в ночь сняться с позиции. На участках дивизий приказано оставить для прикрытия отхода по одному полку. Вот я и думаю, Панкеев, оставить тебя. Как твое мнение?
— Мысль ваша правильная, Федор Максимыч.
— А комиссар как думает?
— Полк выполнит поставленную задачу, — твердо сказал Бочкарев.
— Я тоже такого мнения, — кивнул Морозов, с трудом превозмогая желание крепко обнять сидевших перед ним боевых товарищей, которых, может быть, в последний раз он видел в эту минуту.
— Значит, сделаешь так, — продолжал он, обращаясь к Панкееву: — немедленно занимай участок дивизии и стой здесь до последнего. Не пускай их ни шагу, покуда не подойдет наша пехота и бригада Котовского. В помощь тебе даю батарею. А как подойдут — сдашь участок и мотай на Буск. Ясно?
— Ясно, товарищ начдив, — сказал Панкеев, поднимаясь и прикладывая руку к фуражке.
Посматривая по сторонам, Гобар в сопровождении ординарца ехал рысью по просеке.
Начинало светать. В небе разливался розоватый отблеск восхода. Воздух свежел. Над землей поднимался влажный туман.
— Вот здесь, — сказал Гобар ординарцу, выезжая на опушку леса и показывая на стоявшую отдельно большую сосну. — Скачи на батарею и передай Калошке, чтоб живо провод давали.
Он слез с лошади, передал ее ординарцу и, схватившись за нижний сук дерева, быстро перебирая руками, полез к вершине сосны.
Вокруг было тихо. И в этой напряженной тишине особенно остро послышался далекий и все приближающийся гул самолетов.
«Летят, — подумал Гобар. — Если они обнаружат наши колонны, то нам крепко достанется».
— Товарищ командир! — позвал снизу голос. — Аппарат привезли.
Гобар помог телефонисту установить аппарат на наблюдательном пункте и, проверив связь, стал смотреть на раскинувшуюся перед ним картину.
Совсем рассвело. Теперь ему хорошо была видна вся долина, залитая ярким солнечным светом. Прямо перед ним по обе стороны раскинулось пересеченное лощинами и перелесками поле, через которое, разделяя его на две почти равные части, бежало пропадавшее за склоном шоссе. Там, где на повороте шоссе ярко блестел золотой крест часовни, виднелись кривые линии окопов. Шагах в двухстах в глубину, по окраине села Билька-Крулевское, тянулась вторая линия окопов противника. За селом темнела опушка соснового леса. Дальше, скрывая очертания львовских предместий, по всему горизонту дрожало золотистое марево. Солнце поднималось все выше. Рассеиваясь, таял туман. Только в глубоких лощинах, густо поросших кустами, где еще продолжали лежать длинные тени, туман стлался лиловатым прозрачным дымком.
Засмотревшись, Гобар не сразу услышал треск сучьев внизу. Пыхтя и отдуваясь, на сосну лез Панкеев. Держась рукой за толстый сук, он остановился пониже Говара, перевел дух и, поправляя висевший на ремешке через шею бинокль, спросил:
— Ну, что там видно?
— Вижу влево пехоту противника. Из леса выходит, — сказал Гобар.
Панкеев посмотрел в бинокль. Вытягиваясь из леса голубоватой колонной, пехота спускалась в низину.
— Сильно, — помолчав, сказал Панкеев. — Так вот, слушай сюда. Я сейчас возьму два эскадрона и ударю им во фланг. Ты не стреляй, пока они не подойдут к этим высотам, — он показал в сторону лесистых холмов против Билька-Крулевской. — А как подойдут — крой их беглым огнем…
Получив приказ Панкеева занять и оборонять высоты на правом фланге полкового участка, Ладыгин еще затемно подвел эскадрон и занял рубеж обороны. Теперь, проверив расположение и приказав Вихрову выслать на правый фланг двух бойцов с пулеметом для обороны лощины, он вместе с Ильвачевым лежал на командном пункте и смотрел в бинокль в сторону окопов противника. Там не было заметно никакого движения, и только в глубине, у самого леса, виднелись сгорбленные фигурки перебегавших солдат. Можно было обстрелять их из пулеметов, но Ладыгин, как и все другие командиры, имея строжайший приказ беречь патроны и открывать огонь только с близких дистанций.
— Ну, что там видно, Иван Ильич? — спросил Ильвачев.
— Да пока ничего нет такого, — ответил Ладыгин, спуская бинокль.
Позади них послышались шаги.
Ильвачев оглянулся и увидел Крутуху, который быстро шел к ним.
— Товарищ комэск, — сказал он, подходя и подавая Ладыгину раскупоренную банку консервов, — нате покушайте.
— Где взял? — радостно удивился Ладыгин.
— А это те, что-сь в Ростове еще получили, — сказал Крутуха.
— Так ты ведь когда еще говорил, что все съели!
— Я нарочно. Не хотел зря расходовать. Вы же сами наказывали приберечь на экстренный случай.
— Гм… Так вот ты какой! — Иван Ильич с таким любопытством посмотрел на Крутуху, словно видел его в первый раз. — Ну, добре. А я грешным делом думал, что ты их сам съел.
— Разве можно, товарищ комэск!.. Там еще баночка осталась.
— Возьми ее себе.
Крутуха ушел.
— Так мы и не решили, Ильвачев, кого будем направлять, согласно приказу, на командные курсы, — вдруг вспомнил Ладыгин.
— Вихров просит направить Лопатина, — сказал Ильвачев.
— Лопатина? — Ладыгин задумался. — А ведь это, пожалуй, самая удачная кандидатура, — сказал он, помолчав. — Как твое мнение?
— Поддерживаю во всех отношениях.
— Хорошо бы и Харламова послать, — сказал Ладыгин. — Жаль, конечно, расставаться с такими бойцами, но дело важнее.
— Я говорил с ним. Не хочет. Говорит, кончим войну — поеду в станицу укреплять советскую власть.
— Ну что ж, и это правильно, — согласился Ладыгин.
Внезапно позади них послышался гул самолетов.
Они подняли головы.
Самолеты — их было три — стремительно шли на большой высоте.
— Те самые, что давеча пролетали, разведчики, — сказал Ладыгин. — Ну, теперь держись, Ильвачев…
Крикнув Харламова и Митьку Лопатина, Сачков поскакал вместе с ними к правому флангу полкового участка. Миновав большое болото, они углубились в лес и вскоре выехали на опушку. Отсюда к Билька-Крулевской вела крутая лощина.
— Здесь, ребята, с одним пулеметом целый батальон можно сдержать, — сказал Сачков. — В случае чего держитесь здесь до последнего.
Он повернул лошадь и, тронув шпорами, помчался обратно.
Харламов деловито установил ручной пулемет и, бормоча что-то, прилег за него, проверяя прицел. Неожиданно впереди послышались звенящие звуки, и в той стороне, где над лесом виднелись башни замка, появились в небе шесть черных точек.
— Степан, — сказал Митька, — эвон гудят!
Харламов привстал над кустом. Самолеты шли низко, едва не цепляя за вершины деревьев. Сделав боевой разворот, они с оглушительным ревом понеслись над участком полка.
— Смотри-ка, что делается, — прошептал Митька, увидев, как по всему полю взлетали вихри огня.
Харламов, стиснув зубы, молча наблюдал за воздушной атакой. Покружившись над эскадроном Ладыгина, самолеты пошли влево по фронту, в сторону Львова, где между горами белел дымок бронепоезда.
Поле стонало и содрогалось от взрывов. Из-за леса палили десятки вражеских батарей. Вокруг черными столбами взлетала земля.
Ладыгин лежал на холме и вглядывался в линию окопов. Там не было заметно движения, но дальше, у леса, низко нависая, ползло длинное облако пыли. За шумом стрельбы Ладыгин не сразу услышал, что чей-то голос несколько раз окликнул его. Ильвачев толкнул его в бок. Он оглянулся и увидел незнакомого красноармейца с черным от пыли и пота лицом. Открывая рот, боец что-то кричал.
— Громче! Не слышу! — крикнул Ладыгин.
— Комполка убили!.. Комиссар приказал вам на полк заступать!.. Идемте, я провожу!
— Ильвачев! — крикнул Ладыгин. — Передай Вихрову: вступить в командование эскадроном. Стойте здесь, и ни шагу назад!
Он вскочил и, пригнувшись, побежал мелким кустарником.
— Куда, чумовой? Раненых подавишь! — вдруг раздался сбоку сердитый девичий голос. — Ой, извиняюсь! — признав Ладыгина, вскрикнула Дуська. — Я думала, кто в тыл спасается.
Ладыгин оглянулся. В кустарнике лежали раненые. Подле них хлопотали Маринка и Сашенька.
— Чего ж это вы, сестры, почти под самым огнем расположились? — сказал Иван Ильич. — Вы бы подальше отошли.
— А нам так ловчей. Мы их тут принимаем, а потом по этой балочке, — Дуська показала на заросшую кустами лощину, — в тыл направляем. Там, в балочке, у нас линейки стоят.
— Ну, смотрите, чтоб вас не убили..
— Ничего до самой смерти не будет, — храбро сказала она. — Как там мой мужик, товарищ комэск?
— Живой! — уже на бегу крикнул Ладыгин.
Дуська поднялась во весь рост и, словно не слыша пуль, летевших мимо нее, по-хозяйски огляделась вокруг.
— Саша! — позвала она. — Вот еще один ползет. Видать, тяжело раненный. А ну, давай, детка, поможем ему.
— Сейчас, Дуся! — живо откликнулась Сашенька. — Повязку вот наложу.
Она ловко наложила повязку на руку раненого и, быстрым движением поправив съехавшую на затылок буденовку, подбежала к подруге.
— Где раненый? — спросила она.
— А вот лежит, — показала Дуська. — Только там снаряды рвутся… Тьфу, дура! — она отмахнулась от пули, свистнувшей у ее головы. — Ты не боишься?
— Ничего, привыкла. — Сашенька улыбнулась своей ясной улыбкой и вдруг, тихо ахнув, стала тяжело валиться на Дуську.
— Ты что, Саша?.. Ты что?.. Саша!.. Саша!.. — отгоняя страшную мысль, заговорила она, подхватывая Сашеньку и видя, как мертвенная бледность разливается по ее нежному лицу.
Они вместе медленно опустились на землю. Сашенька вытянулась. На ее пухлых, совсем еще детских губах пузырилась кровавая пена.
— Ой!.. Ой!.. Ой!.. — отчаянно закричала Дуська. — Ой, убили! Ой, Сашу убили, — заламывая руки, заголосила она, то склоняясь над Сашенькой, то порываясь куда-то бежать.
К ним подбежала Маринка.
— Ты что, Дуська, кричишь? А ну, спокойно, спокойно, — деловито заговорила она. — Да не кричи же ты! Смотри, она дышит. Давай снимем с нее гимнастерку… Осторожно… Стой, я поддержу… Так. Теперь рубашку снимай?.. Ну вот гляди — сквозное ранение. Давай иод, бинты… Поддерживай! Ну…
Маринка наложила повязку, ловко перебирая руками вокруг обнаженной груди и спины Сашеньки, начала бинтовать.
— Ничего, будет жива наша девочка. Только вот легкое, видно, задето, — озабоченно говорила она. — Ну вот! Теперь клади ее на бок.
Сашенька очнулась. Морщась от боли, она молча смотрела на них.
— Ну, ты, Дуся, посиди подле нее, а я пойду к раненым, — сказала Маринка.
Она поднялась и побежала на перевязочный пункт.
— Ах, ты моя родная! Ах, ты моя птичка золотая! — приговаривала Дуська, склонившись над Сашенькой. — Ну вот видишь, и лучше тебе. Сейчас мы тебя на линеечку и в госпиталь отправим. И все пройдет. Еще как плясать будешь! — утешала она, хлюпая носом и утирая кулачками бежавшие по лицу крупные слезы.
Сашенька пошевелила губами.
— Что, что ты говоришь? — недослышала Дуська.
Склонив голову набок, она припала ухом к самому рту Сашеньки и стала слушать, что она шепчет. Жалость, любопытство, озабоченность отражались на ее лице.
Наконец она поднялась и, присев, внимательно посмотрела на Сашеньку.
— Позвать его?.. Да нет, миленькая, как его позовешь. Слышишь, какой бой идет… Уже три атаки отбили. А он на эскадрон заступил. Дело ответственное… А то, что ты говорила, будь спокойна, все как есть передам. Так и скажу: Саша, мол, наказывала не забывать и почаще писать…
Из лощины показались трубачи полкового хора. Каждый в паре нес подмышкой пустые носилки.
— Эй, мальчики! — крикнула Дуська. — Давай одни носилки сюда!..
Трубачи подбежали, быстро развернули носилки.
— Эх, сестричку нашу поранило, — с жалостью заговорил старый трубач, нагибаясь над Сашенькой. — Как же ты, Дуська, недоглядела?
— Давай под спину берись, — не отвечая, распоряжалась она. — Стой, не ладно кладешь. Боком, боком давай… Вот так. Ну, несите.
Громкие крики заставили ее оглянуться. Мелькая между кустами, по кочковатому полю бежали, пригнувшись, легионеры. Ей показалось, что они были тут, совсем рядом, в нескольких шагах от нее.
«Раненые пропадут!» — с тревогой подумала Дуська.
— Несите скорей! — крикнула она трубачам. Потом, отбежав в сторону, она схватила брошенную кем-то; винтовку и понеслась навстречу солдатам, которые, крича что-то, прыгали через кусты. Там, на линии старых окопов, оставшихся еще от германской войны, уже началась рукопашная схватка.
Она увидела, как Ильвачев, схватив винтовку за ствол, сыпал страшные удары вокруг. Тут же стреляли, кололи и рубились бойцы.
Дуська на бегу заложила обойму.
— Стой! Куда? — набежав сбоку, крикнул Сачков. — А ну, марш отсюда! Слышишь, кому говорю? — весь дрожа от гнева и жалости, он замахнулся прикладом.
— Нашел время жалеть! — зло крикнула Дуська, не отрывая глаз от подбежавшего к Ильвачеву солдата с тупым, потным и красным лицом.
Она прицелилась и выстрелила.
— Квит! — воскликнула Дуська, увидев, как солдат, ловчившийся свалить Ильвачева штыком, упал, выронив винтовку из рук.
Справа ударил резерв под командой Вихрова. Легионеры побежали назад.
Из-за леса вновь послышались глухие удары тяжелых орудий.
— Дуська, ложись! — крикнул боец в черной кубанке.
— Некогда мне, мальчики, ложиться: гляди, раненых сколько, — деловито сказала она и скрылась в кустах, словно ее ветром сдуло.
Перейдя через лощину, Ладыгин поднялся на наблюдательный пункт.
— Ну, как у тебя? — встретил его Бочкарев.
— Пока держимся, товарищ комиссар, — сказал Ладыгин, тяжело и часто дыша. — Я там оставил Вихрова… Товарищ комиссар, я получил сообщение… Это что, верно? — он с немым вопросом в своих мягких глазах смотрел на Бочкарева.
— Да, — глухо сказал Бочкарев. — Бомбой с аэроплана. Принимай командование полком, товарищ Ладыгин. — Вдруг он поднял голову, насторожился. — Гляди, что делает! Ах он, мерзавец!.. Ну, погоди!
— А что там, товарищ комиссар? — встревоженно спросил Иван Ильич.
— Карпенко бежит! Весь третий эскадрон снялся с позиции, — нахмурившись, сказал Бочкарев. — Ты вот что, Ладыгин: сиди здесь, командуй, а я проскачу, остановлю их. И пошли туда Дерпу. Пусть заступает на эскадрон. Как твое мнение?
Он сбежал в лощину, позвал своего ординарца и, вскочив на лошадь, умчался.
Гобар скомандовал своей батарее «огонь», когда густая колонна противника, выйдя из леса, двинулась в обход эскадрона Ладыгина. Это было много дальше того места, на которое показывал ему Панкеев. Но правильно оценив обстановку, он открыл беглый огонь. Гобар боялся, что Ладыгин не выдержит флангового удара, так как у него осталось меньше половины бойцов, и тогда противник овладеет высотами.
Внеся своей батареей полное расстройство в ряды обходившей колонны, он укоротил прицел на два деления и перенес огонь на болото, куда кинулись из-под обстрела крупные силы познанцев. Падая в трясину, снаряды взметали вместе с илом и мхом высокие фонтаны сверкающих брызг..
«Так! Ловко! Совсем хорошо!» — мысленно приговаривал Гобар, видя, как колонна, словно развороченный муравейник, разбегалась в разные стороны.
«Совсем как Зевс-громовержец!» — с обычной насмешкой подумал он о себе. Потом ему вдруг представилось, что он исполин, швыряющий чугунными шарами в пигмеев. «Так! Ловко! Точно по цели!.. Эх, если б батька сейчас видел меня!»
Телефон загудел, и знакомый голос Калошки спросил: как, мол, дела?
— Хорошо, орлы! — весело крикнул Гобар. — Одним словом, вдребезги бьем.
Он еще уменьшил прицел на два деления, потому что солдаты большой толпой устремились вперед к перелеску, ища в нем укрытия. Увлекшись удачной стрельбой, он не обращал внимания на то, что снаряды пролетали теперь над самой его головой, и заметил это только тогда, когда сильной струей воздуха с него сорвало фуражку.
Вдруг он увидел прямо перед собой густые цепи солдат. Они, с винтовками наперевес, бежали в атаку.
После секундного колебания Гобар схватил трубку телефона и, еще раз уменьшив прицел, скомандовал беглый огонь.
Позади него знакомо ударили пушки, потом послышался все нарастающий свист, и перед его глазами вспыхнуло пламя…
В эту минуту телефонист на батарее сказал:
— Товарищ старшина! Связь оборвалась…
Два бойца, проверяя провод, бежали на наблюдательный пункт. Вдруг передний споткнулся и с криком отпрянул назад.
На тропинке лежала нога с блестевшей на сапоге рыцарской шпорой.
Лежа за пулеметом рядом с Харламовым, Митька с тревогой следил за полем сражения. Там косматой огненно-черной стеной стояла сплошная завеса разрывов.
— Гляди! — вдруг вскрикнул он, тронув за локоть товарища. — Наши бегут!
— Ну?! Где видишь?
— А вон, вон! — показывал Митька. — Это ж третий эскадрон! Ну да, точно! Третий… А вон и Карпенко бежит!
— Который?
— Маленький, в бурке.
— А-а! Вижу. Эх, жаль, пулемет не достанет. Я бы по нему очередь дал… Постой… а вон навстречу конный летит! Видишь? Остановился… руками машет…
— Комиссар!
— Ну?
— Он. Я его по коню узнал.
— Гляди, упал!
— Кто?
— Карпенко! Комиссар в него с нагана ударил.
— Правильно сделал.
— А комиссар, гляди, спешился. Бойцов заворачивает. Так… Обратно повел…
— Харламов, смотри! — вдруг вскрикнул Митька, показав на лощину.
Там, в глубине, где стояла ветла, появилось несколько крошечных фигурок в голубоватых мундирах. Фигурки — их было шесть — вышли вперед, постояли, совещаясь о чем-то, и двинулись дальше.
— Чего ж ты, Степан, не стреляешь? — встревожился Митька.
— Тш-ш…
Харламов прижал палец к губам, словно его могли услышать в лощине, и быстро сказал:
— Подпустим поближе.
Вслед за дозором из-за поворота показалась колонна.
Харламов припал к пулемету. Гулкое эхо покатилось по лесу. Солдаты шарахнулись в стороны, падая кто навзничь, кто боком.
— Ловко твоя машина работает! — сказал Митька.
Харламов усмехнулся:
— Машинист подходящий… Дай диску!
Митька подал ему магазин. Зарядив пулемет, Харламов, прищурившись, стал выискивать новую цель. Но в лощине больше не было заметно движения.
Вдруг воздух заколебался. Послышался хватающий за душу густой нарастающий свист. Позади них, в низине, с тяжелым грохотом разорвался снаряд.
— А ну, браток, сходи коней посмотри, — сказал Харламов, не отрывая глаз от лощины.
Митька поднялся, прихватил винтовку и, раздвигая кусты, спустился в поросшую лесом низину. Там, у ручья, возле одинокой березы стояли две лошади. Он подошел к лошадям, привязал их покрепче и, набрав во флягу воды, полез на гору. Но не успел он подняться и до середины горы, как впереди начали рваться снаряды и суетливо затрещал пулемет. Хватаясь за выступавшие корни, Митька стал быстро карабкаться вверх.
Подбегая к Харламову, он заметил, что по лощине поднимались густые цепи солдат. Он броском прилег рядом с товарищем. Смахнув с потного лба прядь русых волос, Харламов между двумя очередями быстро взглянул на него.
— Как кони?
— В порядке. Я…
Вместе с оглушительным грохотом перед пулеметом вспыхнуло пламя. Митька вскрикнул и ткнулся в землю лицом. Харламов хотел было броситься на помощь товарищу, но залегшая цепь поднялась шагах в двухстах от него. Длинной очередью Харламов прижал цепь к земле и повернулся к Митьке. Тот тихо стонал, придерживая ладонью висок. Кровь заливала грудь и рукав гимнастерки.
— Скачи на перевязочный, — коротко сказал Харламов. — Ну? Кому говорю!
Митька молча пополз к лошадям.
— Возьми и моего коня! — сказал Харламов, оглянувшись через плечо и сдвинув угловатые брови.
Познанцы приближались густой цепью. Уже были видны горевшие злобой лица солдат.
— Шнеллер! Шнеллер! — кричал по-немецки бежавший впереди офицер.
Харламов приготовил гранату, тяжелым взглядом посмотрел на офицера и дал очередь. Офицер зашатался, вскинул руками и, подгибая колени, упал под ноги солдат… Пулемет смолк. Магазин кончился. Вдруг чья-то рука подложила к пулемету заряженный диск. Харламов оглянулся. Лежа подле него, Митька молча смотрел в лощину. Голова его была обмотана окровавленной нижней рубашкой.
Харламов чуть улыбнулся, перезарядил пулемет и снова хватил длинной очередью. Цепь ничком бросилась наземь.
— Ну, что? Взяли? — крикнул Харламов, приподнимаясь над пулеметом и грозя кулаками.
В наступившей на миг тишине ему показалось, что налево, внизу, на болоте, послышались чвакающие звуки множества конских копыт. Он прислушался, но в эту минуту далеко позади гулко ударили пушки, и вихрь артиллерийского залпа пронесся над его головой. Густой дождь хвои, веток и шишек посыпался сверху. Залпы раздавались со все возрастающей силой. В лощине послышались крики.
Митька вскочил.
Сбиваясь толпой, падая и поднимаясь, познанцы бежали вниз по лощине. Навстречу им с криком спускались пехотные цепи.
— Гляди, Степан! Гляди! — закричал Митька. — Пехота наша! Ура! Выручай, матушка! Бей их! Коли!
Позади них послышался конский топот. На зеленый пригорок выехал боец в черной кубанке. Под ним приплясывал, мотал головой вороной жеребец.
— По ко-ням, братва! — крикнул боец в черной кубанке. — Котовцы в атаку идут!..
Потом, пришпорив жеребца, он подскакал ближе и быстро сказал:
— Митька, вали скорей в эскадрон! Вихров приказал тебе принять второй взвод. — И уже другим тоном добавил, осклабившись: — Проздравляю вас с повышением, товарищ командир!
Но Митька медлил итти. Он смотрел на опушку, где, выходя из леса, собиралась пехота. Его внимание привлек стоявший впереди молодой командир огромного роста. Сдвинутая на затылок фуражка открывала полное лицо с большим чуть выпуклым лбом и подбритыми усами.
— Гляди, Степан, — сказал Митька Харламову. — Гляди, какой дядя здоровый. Видать, командир.
— Который?
— Эвот стоит.
К командиру подбежали двое в фуражках. Один из них громко сказал:
— Товарищ Чибисов, начдив приказал закрепиться на линии Билька-Шляхетска.
— Добре, — сказал Чибисов молодым мягким баском. — Передайте начдиву, что первый полк перешел к обороне…
Из леса, развертываясь на ходу и волоча за собой на катках пулеметы, выбегали густые цепи пехоты. Красноармейцы занимали высоты, окапывались. Всюду сноровисто мелькали лопатки.
Рядом с Митькой, лихорадочно захватывая шевелящуюся ленту, заработал пулемет.
Впереди, за лесом, от коротких взрывов дрожала земля.
Митька сбежал в лощину, вскочил на лошадь и, пригнувшись в седле, поскакал к эскадрону.
IX
Вокруг поставленного посреди комнаты большого стола с развернутой картой, чернильным прибором и папкой с бумагами стояли три человека в мундирах с пропущенными из-под плеча аксельбантами. Двое из них — стриженный бобриком седой генерал и моложавый поручик — почтительно слушали командующего 3-й польской армией генерала Сикорского, который, хмуря большое с крючковатым носом и отвислыми усами лицо и постукивая согнутым пальцем по карте, говорил властным голосом:
— Картина совершенно ясна, господа: Буденный окружен. Операция проведена мастерски. Наши войска прекрасно справились с поставленной задачей. — Сикорский, повеселев, провел рукой по карте. — Посмотрите, вокруг Буденного сомкнулось тройное кольцо. Теперь ему не уйти. А? Каково? Это можно назвать современными Каннами или вторым Танненбергом. Великолепно! Концентрическим ударом мы уничтожим большевистскую конницу и выиграем войну… — Сикорский помолчал, потрогал усы и продолжал, усмехнувшись: — А вы знаете, ведь это Троцкий двинул армию Буденного на Замостье. Что же, мы можем только поблагодарить его за нелепый приказ. Этот человек спас нас от катастрофы под Львовом. А? Не правда ли, господа офицеры?
Поручик, изобразив улыбку на тонком лице, услужливо звякнул шпорами, генерал, дрогнув губами, молча кивнул головой.
— А пока запишите, поручик, — продолжал Сикорский, нагибаясь над картой. — Потом мы уточним это, в приказе. Пишите. Первое: генералу Галлеру закрыть выход из окружения через Тышовцы и одновременно установить связь с частями генерала Желиховского, наступающего со стороны Замостья. Второе: полковнику Жемирскому со 2-й дивизией легионеров ударить на Меночин. 1-я, 2-я и 5-я кавбригады пока остаются в моем резерве. Великолепно! Завтра, 31 августа, ровно в час ночи мы начнем атаку всеми силами и со всех направлений… Да, вот еще что: надо позаботиться о своевременном сосредоточении необходимого количества железнодорожных товарных составов.
— Разрешите поинтересоваться, для какой цели, ваше превосходительство? — спросил генерал Ставицхий, исполнявший при Сикорском должность начальника штаба.
— А разве это непонятно, генерал? — Сикорский укоризненно посмотрел на Ставицкого. — Вагоны нам будут нужны, ваше превосходительство, под погрузку лошадей Конной армии. Очень важно предусмотреть все детали заранее, — заключил он с значительным видом, постучав по карте костяшками пальцев.
Второй день, почти не переставая, сеял мелкий, как кисея, надоедливый дождь. Лошади хлюпали по уходившей в глубину дремучего леса вязкой дороге. Казалось, все вокруг раскисло и набухло от влаги: и леса с отяжелевшей листвой, и напитанная, как губка, прозелень мха, и низко нависшее мглистое небо. По обочинам узкой дороги желтели болотные кувшинки, наполненные водой.
В влажном воздухе со всех сторон беспрестанно бухали выстрелы.
— Ну и дорога, черт ее забодай! — проворчал Кузьмич, сдерживая заскользившую лошадь и бросая косой взгляд на Климова.
— Что и говорить, Федор Кузьмич, — поспешил согласиться трубач. — По этакой дороге только и впору ездить пьяному черту. А ночью совсем беда: чуть задевался — и ваших нет. Одним словом, гроб с музыкой. Ща. Вчера, как с Замостья на Чесники прорывались, взводный Кравцов с первого эскадрона было утоп.
— Да ну?
— Ага. Съехал с дороги, ему показалось, вроде место сухое, ну и угряз вместе с конем по самые уши. Еле вытащили. Одним словом, гиблое место.
— Факт. В германскую войну, Василий Прокопыч, мы Пинские болота так-же вот проходили. В точности такие места. Нам полковой врач тогда рассказывал: еще при Наполеоне, как француза гнали, один наш гусар провалился в болото вместе с конем. А спустя лет пятьдесят, а может, побольше, как саперы дорогу проводили, нашли его. И представьте себе — как живой.
— Скажи, пожалуйста!
— Факт. Видать, там почва такая. Химия. Я и могилу его видел.
— Чудеса, — удивился трубач.
Вдали частей строчкой застучал пулемет. Один за другим ударило несколько пушечных выстрелов.
— И стреляют и стреляют, и конца края не видно, — недовольно буркнул лекпом, опасливо озираясь вокруг.
Впереди лес расступился, раскрыв широкую просеку. Там на развилке дорог, где стояла часовенка с потемневшим крестом, передние всадники остановились и начали спешиваться.
Дождь перестал. Красноармейцы разминали затекшие ноги, переговаривались негромкими голосами, прислушиваясь к катившейся по лесу стрельбе. Наиболее предприимчивые кинулись в лес искать сухого валежника. Вскоре, весело потрескивая, запылали костры.
Харламов присел на корточки подле костра, широко растопырив, протянул вперед озябшие пальцы.
Бойцы подходили на огонек посушиться. От шинелей повалил густой кислый пар.
Шлепая по грязи и таща подгнивший ствол дерева, к костру подошел Миша Казачок.
— Садитесь, братва! — предложил он радушно.
— Ай да Миша! Славно! Вот это уважил! — весело заговорили бойцы, подсаживаясь поближе к огню.
— А что, товарищи, надолго стали? — спросил боец в черной кубанке.
— Командир говорил, что нам приказали в резерве стоять. Четвертая дивизия пошла на прорыв. Слышишь, какой бой идет? — сказал взводный Чаплыгин, смуглый большой человек, недавно заступивший на место Сачкова.
— Куда ж мы теперь двинем? Смотри, сколько дорог. Целых три, — показал боец на развилку с часовней.
— Зараз мы как тот богатырь на распутье, — сказал Харламов.
— Какой это богатырь?
— Картина такая. В Ростове видал. Вот он, значит, остановил коня у трех дорог, аккурат перед камнем, а на камне надпись. Точно не упомню, а вроде написано так: направо пойдешь — смерть найдешь; прямо — сам жив будешь, а коня потеряешь; налево — сам помрешь, а конь жив останется. Вот он стоит, значит, думает.
— По какой же он дороге поехал?
— Не знаю. Но думаю так, что по последней.
— Правильно! — сказал боец с седыми усами. — Хреновый был бы он кавалерист, если б конем поступился. Конь — он первый друг, брат и отец.
— А у меня думка такая: не по правой, не по левой нам итти не придется, — сказал за костром чей-то голос.
— Это почему так? — спросил боец в черной кубанке.
— Все здесь останемся. Завели нас на погибель, который день бьемся, а их, гляди, сила какая!
— Это кто ж так говорит? — грозно спросил Харламов. Он приподнялся и увидел за дымом скрюченную фигуру бойца в рваной шинели, прозванного за выбитые зубы Щербатым.
— Ты, заячья душа, понимаешь, что говоришь? — спросил Харламов, сдвинув угловатые брови.
— А что? Я свою мнению высказал, — опасливо проговорил Щербатый.
— Да я тебе, зараза, с потрохами вышибу такое твое мнение!
— А что, я ничего, — захныкал Щербатый, втягивая голову в плечи.
— Что за шум, а драки нет? — сказал сбоку бойкий женский голос. — Что, мальчики, не поделили чего?
Бойцы оглянулись.
Взявшись за бока и наморщив маленький нос, Дуська весело смотрела на них.
— А ну, мальчики, подвиньтесь! Дайте и мне кости погреть. Насквозь отсырела. — Она втиснулась между бойцами и, вздохнув, обеими руками потянулась к огню.
Боец в черной кубанке хлопнул ее по широкой спине:
— Эх, Дуся! Цветик лазоревый!
— Не трожь! — строго предупредила она. — Смотри, Сачкову скажу, он те всыпет Кузькину мать!
— Извиняюсь, Авдотья Семеновна. Я ведь от души, — сказал боец, усмехнувшись.
— Знаем мы вашего брата! А чего вы расшумелись?
— Да вот Щербатый сомневался, как бы нам здесь не остаться.
— Нашли кого слушать. Тоже герой!.. А может, и ты сомневаешься?
— Ну что ты! Я с товарищем Ворошиловым, как немцы наступали, всю Украину до самого Царицына прошел. В каких только окружениях не были. Ничего, вывел он нас. И теперь выведет, — сказал боец с твердой уверенностью.
— Правильно! — подхватил Харламов. — Пока товарищ Ворошилов и Семен Михайлович с нами, мне хоть бы что!.. Выведут. И не в таких переплетах бывали.
— Слыхали, мальчики, что в третьей бригаде этой ночью случилось? — спросила Дуська.
— Ну, ну?
— Паны заставу сняли.
— Как так?
— Часовой заснул. И вот из-за одного человека почти целый взвод пострадал.
— На посту заснуть — гиблое дело, — сказал взводный Чаплыгин. — Правду сказать, ребята, и я в ту войну по этому делу проштрафился. Зато уж так проучили меня, умру — не забуду.
— Расскажу, товарищ взводный, — попросил боец в черной кубанке.
— Что ж, можно, — сказал Чаплыгин. — Дайте уголек.
Он прикурил от поданного ему уголька и сделал подряд две затяжки.
— Так вот как было это дело, — начал Чаплыгин. — Служил я действительную в Гродненском гусарском полку. В Варшаве стояли. Хорошо. Кончил учебную команду и получил чин унтер-офицера. По-нашему — отделенного командира. Отделений на всех нехватило, и мы, несколько человек, остались сверх штата. Таких вицами называли. А тут вскорости германская война началась. И аккурат я тогда в полевом карауле заснул. Помню, сон снился, будто у нас престольный праздник и деревня на деревню на кулачки пошла. Против меня всегда выходил один парень. Егоркой звали, а по кличке Балда. На кулак очень даже крепкий был человек, а на голову чистый дубец. И вот снится мне, будто мы с ним схватились. Я только было хотел сунуть ему под ребро, да поскользнулся, а он как мне по уху вдарит! У меня аж искры из глаз. Мигом проснулся. Глядь, а это вовсе и не Балда, а наш взводный унтер-офицер Пустовойтенко. Очень серьезный был человек. «Ты, — говорит, — такой-сякой, на посту спать? А ну, собирайся, бери коня, поедешь со мной».
Вдали беглым огнем ударили пушки. Шумное эхо покатилось по лесу. Бойцы подняли головы и прислушались.
— Наши или поляки? — поинтересовался боец в черной кубанке.
— Наши, — успокоил Чаплыгин. — Ну, слушайте дальше. Да. Поехали мы со взводным. Куда, думаю, он меня тянет? А спросить нельзя — дисциплина. И вот выезжаем мы в чистое поле, к болоту. «Слазь, — говорит, — и принимай болото под охрану». Взял он моего коня и уехал. А ночь — зги не видать! Стою, охраняю болото. И такой страх на меня напал — один в чистом поле. А мы аккурат немецкого наступления ждали. Да. Ну, начинает светать. Туман поднялся. Вдруг гляжу, что-то шевелится. Меня аж в ледяной пот ударило: вижу, немцы цепями идут! Но еще далеко. Так шагов триста, а может, побольше. Ну, думаю, конец мой пришел. Поднял винтовку, приладился. Все же, думаю, хоть двух-трех подвалю. И вдруг слышу: «чок-чок» по болоту. Едет кто-то. Я тихонько шумнул: «Стой, кто идет?» А он в ответ: «Старший унтер-офицер Пустовойтенко! А кто на посту?» — «Вице унтер-офицер Чаплыгин на охране болота!» — «Снимаю тебя с поста, — говорит, — но смотри, брат, в следующий раз». И коня моего мне подает, а тут и пехота наша из леса. Вот, ребята, какие дела. Прямо скажу — очень я тогда напугался.
— А я, взводный, тоже вчера струхнул, как вы нас с Петровым с донесением посылали, — помолчав, сказал боец в черной кубанке.
— Ну? А ты будто не трус, — заметил Чаплыгин.
— Да лучше десять раз в атаку сходить, чем такое увидеть!
— А что ты видал? — насторожился Чаплыгин.
— Только мы с Замостья свернули на Чесники, там дорожка такая лесная, гляжу, из-за дерева солдат в меня целится. Я за клинок — и к нему. А он целится и не стреляет. Что такое? Подъезжаю — мертвяк! Рыжеватый такой, усы кверху. Видать по личности — с немцев. Да. Ну, осмотрелся. Вижу, у него винтовка между суков всунута, а сам, как убило, до дерева привалился. Издали посмотришь — прицеливается! Вот тут-то я и напугался до ужаса. А потом, — боец усмехнулся, — а потом Петров и говорит: «Посмотри у него в ранце, может, консервы есть?» Я за ранец. А он тяжелый. Пуда два, если не больше. Раскрываю. И чего там только нет! Сверху миткаль. Целая штука. Потом товар на три пары сапог. Потом бабских рубах и сподников дюжины две. А на самом низу чего-то блестит. Я сначала думал — консервы. Нет, гляжу, что-то тяжелое, фунтов на двадцать. Вынимаю. Что за чудо? Штуковина такая, будто серебряная, а в ней сверху семь дырок. Пошарил еще — вторую вынимаю. Петров посмотрел. «Это, — говорит, — семисвечник. — Он, — говорит, — его из какой-нибудь синагоги унес»… Ну, а консервов не оказалось. Видать, он их сам поел. Очень даже толстый немец.
— И до чего человека жадность доводит, — сказал Харламов, — такой груз с самой Украины тащил!
Отдаленный гул артиллерийской стрельбы внезапно придвинулся. Впереди начали бить тяжелые пушки.
— Четвертая на прорыв пошла, — определил Харламов при общем тревожном молчании. — Ай и молодцы ребята в четвертой дивизии! Одно слово — шахтеры. Горами ворочают, да.
— Не зря Семен Михайлович ее впереди послал, — сказал Чаплыгин, прислушиваясь к шуму все нараставшей стрельбы.
— Семен Михайлович сам при ней все время находится, — заметил Харламов. — Связные гутарили, который день не слазит с коня. А товарищ Ворошилов вчера самолично первую бригаду шесть раз в атаку водил, как прорывались с Замостья.
Артиллерийская стрельба неожиданно смолкла. По лесу раскатывался мощный сливающийся крик.
— Что это? — спросил Щербатый, бледнея.
— В атаку пошли.
— А чего вдруг замолчали?
— Рубят. Какой может быть крик!
— Тихо, ребята! — предупредил Чаплыгин, хотя все молчали. — Слушайте, кто это шумит?
Со стороны штаба полка, размахивая руками и что-то крича, бежал Митька Лопатин.
— Братва! Братцы! Товарищи! — кричал Митька. — Четвертая дивизия прорвала фронт! Ура! Коммуникации противника прорваны! Противник бежит! По коням, братва!
Вскочив в седла, бойцы продирались сквозь трещавшие кусты. Под копытами лошадей захлюпала жидкая грязь.
Отыскивая глазами командира полка, Вихров повел эскадрон к опушке леса, откуда вновь послышались крики.
Мимо него, размахивая над головой тяжелым мечом, проскакал Дерпа. За ним с дробным топотом прошел эскадрон. Вихров словно впервые увидел мелькавшие мимо него молодые и старые, чубатые и давно небритые усатые лица бойцов, полные одним и тем же выражением суровой решительности. У многих головы были обмотаны окровавленными бинтами и тряпками.
— Вихров, гляди! Вон они! — крикнул скакавший рядом с ним Ильвачев.
В ту же секунду перед Вихровым открылся пологий склон поля с блестевшей неподалеку рекой. Все поле было покрыто отступающими белополяками. Среди бегущих, настигая их, скакали всадники в буденовках, фуражках и косматых папахах. Там часто взлетали и опускались клинки…
У опушки несколько бойцов быстро амуничили лошадей захваченной батареи.
Близ дороги гнали бегом большую толпу пленных. Вихров перехватил налитый ужасом взгляд офицера и, отвернувшись, увидел двух всадников с осунувшимися, утомленными лицами. Они стояли в стороне, на пригорке, и пропускали мимо полки.
Под одним из них была большая рыжая лошадь в белых чулках, под другим, который держал опущенную к стремени обнаженную шашку, переступал с ноги на ногу буланый жеребец с черным хвостом.
— Ура! Ура! — повертывая к ним головы, радостно кричали бойцы, потрясая клинками.
Конная армия, выйдя из окружения, присоединялась к общему фронту.
1946–1948
Москва
Примечания
1
Аппель — в коннице отзывной из атаки сигнал.
(обратно)2
Односум — у казаков товарищ одного года рождения, присяги и службы.
(обратно)3
Ныне город Серафимович.
(обратно)4
Корнет — младший офицерский чин в кавалерии русской армии, соответствует званию лейтенанта.
(обратно)5
Так в гражданскую войну называли белогвардейцев.
(обратно)6
Миронов — полковник царской службы. Имел задание от Деникина работать в Красной Армии для разложения ее рядов.
(обратно)7
Краповые — темнокрасные.
(обратно)8
Как вы поживаете?
(обратно)9
Очень хорошо!
(обратно)10
Непереводимое восклицание, выражающее испуг.
(обратно)11
Корпус Мамонтова в это время находился юго-восточнее Воронежа.
(обратно)12
Кучэ — усадьба (серб).
(обратно)13
В коннице музыканты полковых хоров трубачей во время боя используются как санитары.
(обратно)14
Стрюк — незадачливый кавалер (шахтерское словечко).
(обратно)15
Копченка — девушка, работающая в шахте.
(обратно)16
14-я дивизия была сформирована в марте 1920 года из донбасских шахтеров и добровольно перешедших от Деникина донских, кубанских и терских казаков.
(обратно)17
Во время длительных переходов конницы через каждые два-три дня движения назначаются дневки для полного отдыха лошадей и бойцов.
(обратно)18
Ныне станица Буденновская.
(обратно)19
Ныне станица Пролетарская.
(обратно)20
Кошлач — удалец, сорви-голова (Шахтерское словечко).
(обратно)21
Войт — староста.
(обратно)22
В львовском сражении против Конной армии участвовали, кроме пехотных дивизий, 1-я и 2-я кавалерийские дивизии, гарнизон Львова, восемь бронепоездов, многочисленная тяжелая и легкая артиллерия, несколько эскадрилий французской и американской авиации.
(обратно)









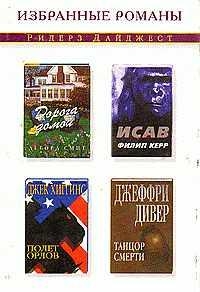



Комментарии к книге «Калёные тропы», Александр Петрович Листовский
Всего 0 комментариев