Игорь Яковлевич Болгарин Мертвые сраму не имут
Часть первая
Глава первая
Поезд пришел в Москву с большим опозданием. Несколько часов простояли на каком-то полустанке под Тулой, а от Серпухова их состав тащила маломощная «кукушка» едва ли не со скоростью пешехода. И в столицу они въехали вместо раннего утра незадолго до полудня.
Глядя на полузнакомые московские улочки, проплывающие мимо вагонного окна, Кольцов пытался вспомнить, сколько же времени он здесь не был. После веселенькой буколической Франции он всего лишь несколько дней побыл в Москве, но тут же отправлен в Харьков. Потом Берислав, Каховка, Строгановка, Сиваш и, наконец, залитый кровью Крым. Все это пришлось на зиму. Значит, в Москве он был поздней, с холодными дождями, снежной крупкой и короткими ночными снеговеями, осенью.
Сейчас было то же самое: тот же снег ночами и лужи днем. Но только это уже была весна. Весна двадцать первого года, первая весна без войны.
Иван Игнатьевич тоже смотрел в вагонное окно, высматривал среди домов позолоченные купола церквей и церквушек. Завидев, каждый раз истово крестился. И при этом каждый раз удивленно приговаривал:
– А баили мужики, быдто Рассея от Бога отринула.
На перроне их встречал Гольдман. Едва Павел спустился на перрон, Гольдман обхватил его и, по-медвежьи тиская, приговаривал:
– Ну, здравствуй, друг сердечный, таракан запечный! Ждали тебя! Ох, как ждали! Я тут подсчитал: мы с тобой целую вечность не виделись. Девяносто шесть дней.
– Меньше.
– У меня бухгалтерия точная.
– А в Харькове? – напомнил Кольцов.
– Это когда ты при начальстве стоял. Даже не поздраствовался как следует. Боялся уронить свой авторитет? – упрекнул приятеля Гольдман. Тот не успел ему ответить, потому что Гольдман слегка отступил в сторону и Кольцов увидел второго встречающего… Бушкина. Он даже не сразу узнал его, исхудавшего и от этого, как ему показалось, будто даже ставшего выше ростом.
Тогда, в калейдоскопе последних крымских драматических событий, Кольцов не сразу вспомнил, что отправленный во Владиславовку к Кожемякину Бушкин своевременно не вернулся. Уезжая в Харьков, Павел подумал, что вымещать свою ненависть на Бушкине Землячка вряд ли станет. Впрочем, Землячка просто ни разу не встретилась с Бушкиным, иначе трудно сказать, чем бы эта встреча могла закончиться.
Кольцов обнялся с Бушкиным, после чего представил встречающим турецкого гостя. Иван Игнатьевич, здороваясь за руку, тоже слегка нагибал голову, как это иногда делал Кольцов, и при этом приговаривал:
– Здравствовать и вам!
Преображенный одеждой, Иван Игнатьевич и сам теперь стремился придерживаться тех правил, которые примечал в российских людях, с которыми доводилось общаться. Как и почти все они, лицо он держал строгим, озабоченным. Большинство из них выглядели так, будто даже на ходу решали какую-то важную задачу.
Еще в Одессе на фронтоне красивого здания, кажется театра, он увидел красное полотнище, на котором большими белыми буквами было выведено: «Мы построим социализм!» И Иван Игнатьевич уже тогда понял, почему все окружающие его люди в большинстве своем такие строгие, суетливые, задумчивые. Они строят социализм. Что это, он не знал. Но, видать, дело трудное, и пока, похоже, у них еще не все получается.
С вокзала они ехали на большущем «Остине». Сидя на переднем сиденье, Иван Игнатьевич с любопытством прилип к окну.
– Ох, ти, мать чесна! – едва ли не на каждом повороте восклицал он.
– Ты чего, Игнатьич, мать вспоминаешь? – спросил Кольцов.
– Да ить как жа! Оне Станбул выхваляють, а чо в ем? Одна София, и ту испоганили. Не, Москва лучшее!
Даже в пасмурную погоду благодаря большому количеству церквей, ярко расписанных, с позолоченными куполами, маковками и крестами, Москва действительно гляделась радостной и приветливой. И все же она открывалась Ивану Игнатьевичу совсем не такой, какой виделась по песням перехожих калик-гусляров. Случалось, они забредали и в его родную Новую Некрасовку. В своих песнях они звонкоголосо воспевали Москву, и она виделась некрасовцам в виде большого и нарядного тульского пряника или дородной, блистающей золотом хохломской боярыни.
Глядя в окно машины, он нисколько не разочаровался. Наоборот: даже в слякотную весеннюю погоду Москва представала перед глазами Ивана Игнатьевича намного красивее, чем в сладкоголосых песнях гусляров, потому что была живая, невыдуманная, в чем-то узнаваемая, в чем-то поражающая его воображение.
А Кольцов, Гольдман и Бушкин тем временем говорили о своем.
– Ты вот дни считал, а мог бы, между прочим, и весточку подать: как вы, что вы? – упрекнул Кольцов Гольдмана и тут же обернулся к Бушкину: – И ты тоже, артист!
– Не могли, Паша! – вступился за себя и за Бушкина Гольдман. – Опасались твое лежбище открывать. Землячка могла вычислить, где ты схоронился. Хитрющая баба. И мстительная.
– А что же сейчас не побоялись меня сюда вытащить?
– Теперь ей Феликс Эдмундович чуток руки укоротил. Он намедни с самим Троцким встречался. Насколько знаю, и о тебе разговор был.
Мельком Кольцов заметил, что они уже миновали Лубянскую площадь и выехали на Тверскую.
– А что, мы не в Чека? – удивленно спросил Кольцов.
– Потом, потом! – с некоторой загадочностью в голосе сказал Гольдман. – Попутно у нас еще одно небольшое дело.
С Тверской они свернули на Садовое кольцо, потом – на Арбат. С Арбата – в узкий переулок и затем нырнули в тесный уютный дворик.
– Ну вот! Приехали!
– Что у нас здесь за дела? – спросил Кольцов, не выбираясь, однако, из автомобиля.
– Да ты хоть выйди! Разомнись!
По их веселым и таинственным взглядам Кольцов понял: тут что-то затевается.
Кольцов выбрался из автомобиля, следом то же сделал Иван Игнатьевич: он внимательно следил за Кольцовым и повторял все его движения.
– Ну ладно! – с легким раздражением сказал Кольцов. – Выкладывайте! Что у вас здесь за тайны?
– Никаких тайн! Решили попутно проведать человека.
– Какого еще человека? Кончайте шутки. Меня на Лубянке ждут.
– Не шуми, Паша! Всему свой черед! – с прежней загадочностью сказал Гольдман и направился к двери подъезда. Обернувшись, он заметил, что Кольцов продолжает стоять на месте. Это взбесило Гольдмана:
– Ну, ты, козлище упрямый! Зачем людей обижаешь? Неужели тебе не интересно, какой сюрприз приготовили тебе товарищи!
– Так бы и сказали: сюрприз. А то: «кого-то проведаем». Гардеробщика с Лубянки, – и Кольцов пошел следом за Гольдманом.
В подъезде Гольдман спросил у Бушкина:
– Третий, что ли?
– Третий, третий, Исаак Абрамович, – укоризненно проворчал Бушкин. – Который раз сюда наведываетесь, а все не запомните.
На третьем этаже Бушкин прозвенел ключами и затем отпер высокую резную дверь. Распахнув ее, отступил.
Отступил и Гольдман, пропуская впереди себя Кольцова.
– Входи!
Кольцов вошел в прихожую. Она была пуста. Кроме прибитой к стене деревянной вешалки, здесь больше ничего не было.
– Ну, вошел, – сказал Кольцов. – Ну и что?
Кольцов начинал догадываться: Гольдман, зная нелюбовь Павла к многолюдным казенным гостиницам, которых он по возможности старался избегать, снял для него на время пребывания в Москве частное жилье.
Гольдман бросился к следующей двери, ведущей из прихожей в комнаты.
– Сюда!
Кольцов, а за ним и остальные вошли в коинату. Оттого, что в ней не было никакой мебели, кроме большого круглого стола, она казалась огромной.
Бушкин тем временем поочередно открыл еще две двери, ведущие в комнаты поменьше. При этом он голосом циркового шпрехшталмейстера объявил:
– Спальня!.. Детская!..
Гольдман, в свою очередь, открыл еще одну дверь и тоже, но скромнее сказал:
– Кухня!
– Так! А теперь, наконец, объясните, что это значит? – строго, с некоторым недоумением спросил Кольцов.
– Сам не догадываешься?
– Начинаю догадываться. Но боюсь вслух сказать.
– Правильно догадываешься, – сказал Гольдман. – Твоя квартира! Понимаешь? Твоя! – объяснил Гольдман. – Подарок тебе от советской власти!
Кольцов молча заглянул в одну, другую комнату. В одной комнате стояла кровать с хромированными набалдашниками, грубый деревянный гардероб и две табуретки. Кровать была аккуратно застелена. Во второй комнате, кроме кушетки, ничего не было.
В кухне к умывальнику был приставлен длинный узкий стол, на котором в ряд стояли примус, керосинка, стопка тарелок, чашек и деревянный ящичек с вилками, ложками и ножами. И еще Кольцов увидел там несколько непонятного назначения закрытых коробок.
Снова вернувшись в гостиную, Кольцов спросил:
– Так это все же не шутка?
– Какая шутка? Какая шутка? – возмутился Гольдман. – Третий месяц тебя дожидается. Я когда из Крыма вернулся, Феликс Эдмундович о тебе начал расспрашивать. Рассказал. И про Харьков спросил, где ты там жить будешь? Словом, поговорили. А на следующий день он снова меня вызвал и дал ордер на заселение. Посмотрели: хорошая квартирка. Так она и стояла, тебя дожидалась. А вчера Феликс Эдмундович сказал, что ты приезжаешь. Попросил привести ее в жилой вид. Целый день мотались. Но, извини, не все успели.
– Но зачем мне одному такие хоромы? – спросил Кольцов.
– На вырост, Паша! На вырост!
– Ну а детская?
– Сегодня не нужна. А там, глядишь, одной мало окажется, – невозмутимо парировал Гольдман вопросы Кольцова.
– А кто-нибудь у меня спросил, собираюсь ли я жить в Москве?
– А где ж еще?
– Вот разберемся до конца со всей нечистью – и все! И – в Харьков. Буду там жить при коммуне Заболотного. Стану беспризорных детишек грамоте учить, воспитывать. Там и двое моих – усыновленных. Куда они без меня?
– Сюда заберешь. В Москве, между прочим, беспризорников поболее, чем в твоем Харькове. Тут коммуну организуешь.
– Лихой ты мужик, Абрамыч, – насмешливо сказал Кольцов.
– Это что ж так?
– Гляжу, ты уже все мои дела за меня порешал, на все мои вопросы знаешь ответы.
– А с тобой иначе нельзя, Паша. Объясняю для неграмотных. Чекист ты от Бога, не спорю. Тебе за армию или там за Чека двумя руками держаться надо. Тут за тебя обо всем подумают: и где переспать, и как одеться, и что поесть. А в цивильной жизни все не так. В цивильной жизни четыре глаза надо иметь и чтоб голова на все стороны света вертелась.
– Как-то же живут люди. Приспосабливаются.
– Во! Правильно понимаешь: приспосабливаются. Но ты-то приспосабливаться не умеешь. Не дано тебе это: приспосабливаться. А в цивильной жизни без этого – труба. Так что сиди ты на своем месте и не рыпайся, – совсем не шутя, посоветовал Гольдман Кольцову.
– Рыпаться буду, – скупо улыбаясь, упрямо сказал Кольцов. – А что касается твоего совета – подумаю. Благо принимать решение предстоит не сегодня и не тебе.
Кольцов еще раз обошел квартиру. Изучая ее более подробно, заглянул во все уголки. Под конец обхода распахнул балконную дверь, впустив в квартиру сырой весенний воздух. Вышел на балкон, Гольдман последовал за ним.
– Сюда я на днях короба завезу, в столярке заказал. Здесь повешу, – Гольдман указал на балконное ограждение. – Земельку в них засыплем, цветочки в свободное время будешь разводить, – и мечтательно добавил: – Представляешь? Утречком, еще сонный, выходишь на балкон…
– На цветочки у меня не будет времени, – оборвал Гольдмана Кольцов.
– Ну, не ты, так жена. Бабы любят цветочки на балконах разводить.
– Прости, а я что, уже женат? – удивленно спросил Кольцов. – Тогда уж позволь полюбопытствовать: на ком?
– Но ведь не будешь же ты весь век бобылем? А при такой квартире какая-нибудь москвичка быстро гнездышко здесь совьет.
– Так! Все понятно! – решительно сказал Кольцов и сухо спросил: – Это не шутка? Квартира действительно моя?
– Обижаешь, Паша. Такими вещами не шутят, – даже сердито нахмурился Гольдман.
– Тогда категорически запрещаю чем бы то ни было захламливать балкон. Кстати, цветы на балконе я действительно не люблю. Мещанство!
– Как скажешь. Мне даже легче, – смиренно согласился Гольдман и в том же тоне продолжил: – А как насчет балконного пейзажа? Не прикажешь ли его несколько подкорректировать?
– Не понял вопроса.
– Посмотри во-он на те крыши, – Гольдман указал вдаль, где из-за домов выглядывали остроконечные кремлевские башенки с венчающими их двуглавыми орлами: – Те две курицы не портят тебе настроение? Может, велишь убрать?
Кольцов понял веселую издевку Гольдмана.
– Пока не трогай. Я подумаю, чем их заменить, – Кольцов дружески обнял Гольдмана за плечо. – Спасибо, тебе, Исаак Абрамыч, за заботу.
– Это не меня, это Дзержинского поблагодаришь. Герсон велел тебе передать, что Феликс Эдмундович ждет тебя сегодня ровно в семь вечера.
– Одного?
– Я так понял: пока одного. А Иван Игнатьевич пусть отдохнет с дороги, побродит по окрестным улицам, на Кремль посмотрит. А чтобы не заблудился в Москве, на время его пребывания велено прикрепить к нему Бушкина.
Задолго до семи вечера Кольцов вошел в приемную Дзержинского. Он пока еще не пришел.
Феликс Эдмундович, за спиной которого остались стачки, аресты, тюрьмы, ссылки, побеги, снова тюрьмы и снова побеги, не любил перемен в быту. Он подолгу носил одну и ту же одежду, трудно привыкал к новой мебели и не терпел все перестановки и обновления. В приемной стоял все тот же старенький диван, та же тумбочка в углу, на которой стоял все тот же давний (или такой же) тульский самовар.
И хозяин приемной тоже был все тот же, еще крепкий, но уже немолодой Герсон. Он не первый год работал с Дзержинским и знал все его привычки и предпочтения. Долгие годы, оставаясь секретарем, он постепенно стал и его денщиком, а затем и строгим охранником.
Ходоков с различными жалобами шло к Дзержинскому много, и он по возможности старался принять всех. Герсон вменил себе в обязанность допускать к Феликсу Эдмундовичу только людей с важными ходатайствами и жалобами, которые никто иной решить не мог.
Дзержинский вошел в приемную без пятнадцати минут семь. Увидев Кольцова, обрадовался. Поздоровавшись, не выпуская его руку из своей, повел в кабинет. На ходу спрашивал:
– Как жили в Харькове? Как доехали? Как устроились?
На все эти ритуальные вопросы Кольцов отвечал коротко, позволил себе лишь пространно поблагодарить Дзержинского за заботу о нем.
– Вы о чем? – не сразу вспомнил Дзержинский.
– О квартире.
– Понравилась? Все устраивает?
– Намного больше, чем мне нужна.
– Привыкнете. Я случайно узнал, что у вас до сих пор нет в Москве своего угла. А без него человек не так прочно стоит на земле. По себе знаю.
– Спасибо.
– Все ваши бытовые вопросы я поручил решать Гольдману. Он человек опытный, справится, – и, подведя черту под политесом, Дзержинский сказал: – И закроем эту тему. Перейдем к делу. А дела, собственно, пока и нет. Есть суета. Речь у нас с вами пойдет о тех тысячах белогвардейцев, которые бежали из Крыма. Вы лучше меня знаете, кто бежал. Немного армейской знати, немного богачей с семьями. Но в основном-то бежали мужики. Запуганные пропагандой господина Климовича, из страны бежали также рабочие, но в массе – крестьяне, гречкосеи, кормильцы народа. Главный контрразведчик Врангеля нашел те слова, после которых и невиновные почувствовали себя виноватыми.
– Но как теперь разобраться, кто виноват, а кто нет. «Кровь на руках» – не аргумент, – задумчиво сказал Кольцов. – Найдите такого, кто скажет: у меня кровь на руках. Даже палач промолчит.
– Ну, положим, это можно и выяснить, и доказать, – сказал Дзержинский – Нет ничего тайного, что при определенном профессиональном опыте не стало бы явным.
– А это значит, что десятки и десятки тысяч тех, кто вернется, мы снова пустим в безжалостную следственную машину. Поверьте мне, все будут виноваты, – жестко сказал Кольцов. – Все без исключения. И что тогда? Расстрел, как это только недавно было в Крыму? Или лагеря? Тогда зачем мы просим их вернуться? Чтобы насладиться жаждой мести?
– Однако вы либерал, – скупо улыбнулся Дзержинский.
– Вовсе нет. Просто я лично наблюдал эту кровавую мясорубку там, в Крыму. У этих «революционных троек» отходов не было. Все шли под нож.
– Какой же выход вы видите? – спросил Дзержинский.
– Выход только один: простить всех. Всех! И виновных и невиновных. И никогда больше к этому вновь не возвращаться. Страсти улягутся, все придут в нормальное состояние. Будем не мстить, а просто жить.
Дзержинский грустно улыбнулся:
– Дорогой Павел Андреевич! Я об этом говорил не однажды. Почти на всех последних совещаниях. Ни Ленин, ни Троцкий меня не поддержали. Лев Давыдович, это понятно. Он всех ушедших из Крыма считал врагами и объявление амнистии рассматривал лишь как способ заманить всех их сюда и здесь расправиться. Владимир Ильич мягче, он понимает, что многие, особенно крестьяне, не выступали под политическими лозунгами. Они сразу заявили о своих справедливых притязаниях на землю. Но и с этим мы пока не справились. Крестьянин пока хозяином земли не стал.
– Тогда о чем мы говорим, если ни вы, ни я не хотим участвовать в этой грязной операции заманивания людей домой, а на самом деле для расправы? Я лично не хочу быть тем козлом, который ведет стадо овец на бойню. Вы, как я понимаю, тоже.
– Предположим. Но тогда вы должны понимать альтернативу всему этому. Врангель увел армию из Крыма вовсе не для того, чтобы спасти людей. У него совершенно иные планы. Он готовится к новому походу на Россию. И не только он. В Польше собирает свое войско Булак-Балахович, на Дальнем Востоке – этот забайкальский атаман Семенов, ставший преемником Колчака. Не ликвидирован и международный авантюрист Борис Савинков, который доставляет нам немало неприятностей. Вам всего этого мало? Могу добавить еще. Нам надо быть предельно бдительными. Один неверный шаг – и война. Причем, возможно, еще более кровавая, чем предыдущая.
Кольцов долго молчал. Многого из того, о чем ему рассказал Дзержинский, он не знал. О личном отношении Троцкого к белогвардейцам он частично знал, но о многом догадывался. Было о чем задуматься.
– Я понимаю вас, – наконец сказал он. – Но неужели так трудно убедить наших вождей забыть о мести? В конце концов, подумали хотя бы о том, что Россия обезлюдела. Миллионы погибли в войне четырнадцатого. И Гражданская война едва ли не уполовинила российское народонаселение. Земля осталась, а работать на ней некому. Даже те, кто кормился от земли, уходят в города, пытаясь там найти себе место и мизерный заработок, чтобы хоть впроголодь прокормить семью. Еще немного, и в России начнется жестокий голод.
– Мы говорим об этом почти ежедневно. И почти ежедневно я повторяю, что амнистия должна быть безоговорочная и распространяться абсолютно на всех. Я не одинок. Многие из руководства со мной согласны. Надеюсь все же достучаться и до Ленина, и до Троцкого, – уверенно сказал Дзержинский..
– Ну а пока что? Ждать?
– Нет, конечно. Ваши предложения?
– Их у меня много.
– Ну так вот! Прежде всего выслушайте мои. Я отозвал вас в Москву не только из-за этого вашего…э-э… турецкого дьякона. Мне о нем рассказывал Менжинский, и об этом мы еще поговорим. Но прежде всего мы хотели бы предложить вам организовать и затем возглавить некое пропагандистское бюро или перепрофилировать уже существующее, под конкретную задачу: возвращение соотечественников на Родину. Подробности обговорим потом. Сейчас я хотел бы знать, что вы по этому поводу думаете? Мне показалось, что наши взгляды на этот вопрос во многом совпадают.
Вот уж чего Кольцов никак не ожидал – такого предложения. Он не считал себя гуманитарием, хотя в свое время, после гимназии, три года проучился в университете на юридическом факультете. Здесь его привлекала не писанина, которой нельзя избежать, а обустройство мира, как построить его честным и справедливым для людей. Время от времени он размышлял и записывал какие-то свои мысли в тетрадку, которую озаглавил «Институт справедливости». Давно потеряна где-то под Каховкой эта тетрадка, а мысли не забылись и по сегодняшний день.
Откуда это пошло? Может, от отца с матерью. Не обладающие достатком, они превыше всего ставили честность и справедливость. Отец порой мучился потому, что кому-то задолжал какие-то копейки, и помнил об этом, и томился душой до тех пор, пока не возвращал долг. Честность и справедливость, это было то, что с малых лет привито Павлу семьей и стало его жизненным правилом, которого он постоянно стремился придерживаться, даже в самые трудные минуты.
А чем он займется на этом новом своем поприще? Листовки, воззвания… Впрочем, и в этом деле, которого пока он еще почти совсем не представлял, было, вероятно, не все так уныло.
– Думаете? – спросил Дзержинский. – Ну, думайте, думайте! У вас на это есть еще… минут двадцать.
– Ну, если всего лишь двадцать, то не будем их тратить попусту. Я согласен.
– Ну, вот и договорились! – радостно сказал Дзержинский. – Я был совершенно уверен, что это дело вам по плечу.
– Я совсем не уверен, – уныло сказал Кольцов. – Я даже не понимаю, с чего начинать, когда и как?
– Это ведь не я сказал: «Не будем тратить время попусту». Начинайте!
– С чего?
– Ну, хотя бы… – Дзержинский какое-то время размышлял и затем стал торопливо говорить: – Сегодня же передаем вам типографию бывшего Южного фронта. Фрунзе уже переправил ее в Москву. При ней есть небольшой штат типографских рабочих. Начинайте с листовок. Это наше первейшее дело. Их мы должны будем доставить в белогвардейские лагеря. Это очень важно. Надо заронить в души наших бывших противников простую мысль: война кончилась. Все! Советская власть не собирается воевать со своим народом, даже с теми, кто по тем или иным причинам оступился, запутался, не сумел своевременно разобраться в том, кто прав. Никто и никогда не имеет права напоминать им их вину. В их вине виновата война. Это – тезисы. Развейте их так, чтобы все было предельно убедительно!
– Главное, чтобы это было честно, – Кольцов поднял глаза на Дзержинского. – С этим должны согласиться и Ленин, и Троцкий. Иначе не стоит этим заниматься.
– Обещаю вам добиться их согласия. В конце концов, справедливость на нашей стороне.
Дзержинский поднялся с кресла, разминаясь, прошелся по кабинету:
– А теперь вернемся к этому вашему дьякону. Вы провели с ним уже два дня. Ваши впечатления?
– Они не расходятся с впечатлениями Менжинского. Деревенский мужик. В меру грамотный, бесхитростный и, по-моему, честный. Во всяком случае, таким показался он мне.
И Кольцов вкратце рассказал Дзержинскому обо всем, что недавно сам узнал от Ивана Игнатьевича. И о восстании в 1706 году донского казачьего атамана Болотникова и его верного сподвижника Игната Некрасова против царя Василия Шуйского. После подавления восстания Болотников погиб, а Игнат Некрасов увел с собой шестьсот семей, которым грозила царская расправа, сначала за Дунай, а затем и в Турцию. Там они обосновались, рассеялись по всей турецкой территории и вот уже больше двухсот лет живут на чужой земле обособленно, своим патриархальным православным укладом.
– Мне Менжинский сказал, что этот дьякон живет в селе на побережье Эгейского моря, совсем близко от полуострова Галлиполи. Как раз там французы поместили около тридцати тысяч наших солдат и офицеров. Некоторые находятся там даже с семьями.
– Я тоже слышал это от дьякона. Село, в котором этот дьякон проживает, совсем небольшое: дворов под семьдесят. Есть церковь. Но случилась беда: умер поп. Другого найти не смогли. И сельская община делегировала дьякона идти в Москву к патриарху, чтобы он прислал им попа, а если такой возможности не окажется, то возложил бы чин священника на этого самого дьякона.
– Понятно. Чтоб ввели дьякона в сан. Так, кажется, это называется.
– Вы и такие вещи знаете? – удивился Кольцов.
– Когда-то изучал каноны православия. Из чистого любопытства, в ссылке. А, оказалось, позже пригодилось. Еще раз убедился: любые знания, которые человек приобретает, не оказываются бесполезными. По некоторым причинам я однажды выдал себя за ксендза. И идти бы мне по этапу, если бы случайно в полицейский околоток не зашел местный ксендз. Мы с ним немного поспорили о теологии, и ксендз заверил полицейских, что я истинный знаток богословия.
Дзержинский расстелил на столе часть карты, на которой можно было увидеть Константинополь, Проливы, Красное и Эгейское моря. Жестом пригласил Кольцова приблизиться.
– Вот Эгейское море, а вот Галлиполи. Мы уже дважды посылали туда своих людей. И оба раза они потерпели неудачу: в обоих случаях их расстреляли румынские грабители. У них ничего с собой не было, мы только прокладывали туда эстафету.
– Чем же смог заинтересовать Менжинского наш дьякон? – спросил Кольцов.
– Только тем, что живет поблизости от Галлиполи. В сущности, это возможная и не слишком опасная эстафета. Во всяком случае, если удастся зацепиться за это село, за Новую Некрасовку. Сейчас Вячеслав Рудольфович наладил связь с болгарскими контрабандистами. Но это всего лишь половина дела, – Дзержинский взмахом руки показал на карте путь от болгарского побережья Черного моря до Эгейского и ткнул пальцем в какую-то точку. – Это вот – Новая Некрасовка. Путь от мыса Калиакра до Новой Некрасовки вроде бы и недальний. Но большая его часть – по турецкой территории. По болгарской территории до турецкой границы согласились проводить болгарские товарищи. А дальше? Кругом турецкие поселения. Вероятность встречи с турками огромна. Вячеслав Рудольфович возлагает большую надежду на этого вашего дьякона. Он там живет. Всю тамошнюю землю пешком исходил. Знает, как с турецкими жителями общаться. Вячеслав Рудольфович полагает, что, если заручиться поддержкой этого дьякона, риск добраться до Галлиполи минимальный. А там, в галлиполийском лагере, у нас есть свой человек. И в Чаталдже. Это вот здесь! – и, свернув карту, Дзержинский поднял глаза на Кольцова. – Вот, пожалуй, и все, что мы имеем на сегодняшний день. Как я понимаю, вся надежда на вас. Надо суметь обратить этого вашего дьякона в нашу веру. В переносном, конечно, смысле.
– Я так понимаю, надо этому дьякону всячески помочь, – сказал Кольцов. – Насколько успешна будет его миссия, настолько он ответит нам добром на добро.
– Совершенно верно, – согласился Дзержинский. – Как видите, от вас сейчас зависит куда больше, чем от всех нас. Рассчитываю на ваши дипломатические способности при переговорах с патриархом. Задача, поверьте, не из легких. Он очень обижен на советскую власть, она полностью отмежевалась от церкви. Владимир Ильич полагает, что уже в скором времени религия как некий дурман будет искоренена в границах советской власти.
– Ну а вы? – с легкой усмешкой спросил у Дзержинского Кольцов. – Как вы относитесь к этому?
– Я пока еще чуть-чуть католик. С католичеством я все еще соблюдаю нейтралитет, – в ответ на вопрос Кольцова с легкой улыбкой ответил Дзержинский.
– Вы тоже дипломат, – сказал Кольцов.
– Мы все дипломаты, если в этом возникает необходимость, – Дзержинский встал, давая понять Кольцову, что встреча закончена.
– У меня последний вопрос, – торопливо сказал Кольцов.
– Да, слушаю.
– Эта мысль возникла у меня сейчас. Быть может, есть смысл мне отправиться в Галлиполи на переговоры. В качестве агитатора. Дело, конечно, опасное. Но не намного опаснее тех, которые мне уже приходилось выполнять в белогвардейских тылах. Я думаю, я справился бы. На девяносто процентов там, в лагерях, люди, которые мечтают вернуться на родину. Они ждут не листовки, а живого человеческого слова.
Дзержинский нахмурился:
– Меня поражает ваше легкомыслие. Я поручаю вам ответственнейшее дело, а вы… Вы предлагаете мне… как это у вас, у русских, говорят: палить из пушек по воробьям.
– Но кто-то же должен будет туда пойти?
– Кто-то должен, – согласился Дзержинский. – Значит, кто-то пойдет. И вы его, естественно, хорошо подготовите. Вы не будете возражать, если вместо вас туда пойдет ваш хороший товарищ…
– Кто?
– Ну, скажем, Семен Красильников. Вряд ли вы скажете, что у него намного меньше опыта?
– Но его здесь нет. Я отправил его в Евпаторию, чтобы он ненароком не попался на глаза Землячке. Он должен был ждать моего сигнала.
– Он оказался непослушным, – улыбнулся Дзержинский. – Даже не так. Он пришел к Менжинскому, истомившись от безделья. И тот отправил его подальше от Землячки, сюда, ко мне. Хороший сотрудник. Он тут с товарищами недавно раскрыл в Мытищах небольшую, но зловредную контрреволюционную банду. Сейчас занимается зачисткой. Завтра-послезавтра вы с ним встретитесь.
Вечером на квартиру к Кольцову пришел Гольдман с двумя пакетами в руках. Ставя на стол тот, что больше, объяснил:
– Это тебе, Паша, презент от поклонника твоего таланта. Заметь, это его слова. Он что-то говорил…
– Что это и от кого? – сухо и деловито обрезал его Кольцов.
– Беня Разумович, ты его хорошо знаешь, велел тебе кланяться и передать все, что только смог найти в своей швейной мастерской. И еще он что-то говорил о двух его братьях-капиталистах. Но, честно, я не запомнил. Кажется, у кого-то кто-то родился. Сам выяснишь, если тебе это интересно. А в коробке, насколько я понял, полотенца, пододеяльники, простыни – словом, все, что в домашнем хозяйстве лишним не бывает.
Затем рядом с подарком Разумовича Гольдман поставил еще одну коробку, поменьше:
– У нас нет братьев-капиталистов, поэтому и подарок несколько скромнее. Тут вам с Иваном Игнатьевичем немного харчей, чтобы, неровен час, не померли в Москве с голоду.
Лишь после этого Гольдман снял свою кожанку, повесил ее на спинку стула и присел к столу:
– Примус не забыл, как разжигается?
– А зачем?
– Бурбон! В Москве, которая всегда считалась гостеприимным городом, прежде гостей хорошо кормили. Но ты – голытьба. Угости нас хоть нашим же чаем. Привыкай к московским традициям, – назидательно, но шутливо сказал Гольдман.
– Пошел ты к черту! – рассмеялся Кольцов.
– Понял. Разжигать примус тоже не умеешь. Ладно, я тебе помогу.
Гольдман пошел на кухню и уже оттуда, через открытую дверь, сказал:
– Герсон просил передать, что с патриархом Тихоном договорились. Он примет вас с Иваном Игнатьевичем завтра в два часа пополудни. И просили не опаздывать. У них там, в Троицком подворье, пропускная система построже, чем в нашей конторе.
Кольцов обернулся к отрешенно сидящему в уголке гостиной Ивану Игнатьевичу:
– Слышал, Игнатьич? Завтра пойдем к твоему патриарху!
– К самому? – взволновался Иван Игнатьевич.
– Не слышал, что ли? К самому Тихону.
– Ох ти, мать чесна! Дондеже своимы глазами на яго не погляжу, в век не поверю, – бормотал Иван Игнатьевич. – До константинопольского меня и на порог не пущали, а тута… фу ты – ну ты! Из ентого чего выходить? Шо наш рассейский патриарх лучшее усех других, бо людей понимаить. Потому, православный.
И Иван Игнатьич схватился с места, склонился к своей котомке, стал что-то в ней искать. Краем глаза Кольцов заметил: своей серой заячьей шапкой он стал старательно начищать подаренные ему в Харькове сапоги, доводя их до зеркального блеска.
Глава вторая
До Троицкого подворья на Самотеке они шли пешком. День был веселый, солнечный. В город незаметно и осторожно прокрадывалась весна.
Они долго шли вдоль высокого каменного забора, и Иван Игнатьевич старательно обходил лужи, опасаясь испачкать сапоги.
Отыскали ворота, рядом с ними – отдельную калитку, возле которой лениво прохаживался красноармеец. Заметив приостановившихся Кольцова и Ивана Игнатьевича, он окликнул их:
– Тута не дозволено стоять. Запрещено!
– А может, нам все же можно! – не спросил, а утвердительно и строго сказал Кольцов. – Вызови начкара!
– Они час назад, как отбыли, – ответил часовой и, что-то вспомнив, торопливо полез в карман шинели, извлек оттуда клочок бумаги, заглянул в него: – А вы случаем не Кольцов будете?
– Кольцов!
– Из Чеки?
– Из Чеки.
– Вы тут чуток погодить. Я зараз!
Красноармеец скрылся за калиткой. И они услышали, как он там, на подворье, кого-то окликнул:
– Гавриш! Гукни сюды того святого, шо утром компотом нас поилы. До их прийшлы!
Вскоре калитка вновь открылась, и за спиной красноармейца они увидели высокого холеного священника в черном подряснике.
– Входите! – сказал он.
Красноармеец посторонился, пропуская Кольцова и Ивана Игнатьевича.
Священник подождал, пока они пройдут сквозь калитку, и молча повел их к приземистому двухэтажному зданию с куполом и золоченым крестом на самой макушке.
По подворью ходили красноармейцы, нарушая патриарший покой своими громкими разговорами. Щуплый рыжий красноармеец тащил с патриаршего яблоневого сада охапку толстых сучьев. Во дворе слабо дымил костер, над ним на камнях стояла бочка.
– Охрименко, ты пошто яблони рубишь? – крикнул от калитки часовой.
– Та я трошки. Хочу постираться чуток!
– Баньку бы вздул!
– Труба завалилась. Дым на улицу не выпущаеть.
– А дрова сыры, токо тлеть будуть, а жару не дадуть.
– Ничо. С божьей помощью!
Сопровождающий Кольцова и Ивана Игнатьевича священник коротко взглянул на Кольцова и тихо пожаловался:
– Так ноне и живем.
– Беспокойно, – посочувствовал Кольцов.
– Это бы еще ничего. Бесправно! – и священник со вздохом добавил: – Пытаемся уживаться.
– Простите, как вас величать? А то как-то неудобно. Идем, разговариваем, а обратиться затрудняемся, – сказал Кольцов. – Между собой мы словом «товарищ» обходимся. Не подскажете, как к вам обращаться?
– Скажу, если запомните. Меня отцом Анемподистом кличут, – и затем добавил: – Мирская фамилия тоже сохраняется. Родительская: Телегин. При патриархе экономом состою.
– Очень приятно. Я – Кольцов. Можно и проще: Павлом Андреевичем.
– Тогда позвольте узнать, как спутника вашего? – поинтересовался священник.
– Иваном Игнатьевичем, – ответил Кольцов.
– Наслышаны, как же! Заграничный гость, если не ошибаюсь?
– Так точно. С Туреччины прибымши. Там посредь турков проживаем. Веру токмо православну блюдем.
– Вы не волнуйтесь. Потом все подробно расскажете Его Святейшеству. Ему это будет очень интересно узнать, – тихим голосом успокоил Ивана Игнатьевича отец Анемподист и открыл перед ними красивую резную, окованную красной медью дверь.
Они вошли в длинный сумеречный коридор. Священник торопливо обогнал их и открыл перед ними дверь в небольшую комнатку с мягкими диванами по углам. На широком подоконнике в фаянсовом вазоне стоял фикус и еще несколько комнатных цветов. Стены тоже были украшены цветами: живописными натюрмортами с диковинными папоротниками, подсолнухами и гроздьями красной калины.
– Присядьте здесь! – предложил им священник и скрылся за высокой дубовой дверью. В комнате стояла неземная тишина, и воздух был напоен пряными запахами ладана.
Ждать им пришлось недолго.
Снова, но теперь уже медленно и торжественно, отворилась большая дверь, и прозвучал голос невидимого, но уже знакомого им отца Анемподиста.
– Войдите!
Кольцов неторопливо поднялся, Иван Игнатьевич вскочил так, будто его ужалило одновременно десяток диких пчел. Поплевав на ладони и пригладив топорщащиеся волосы, Иван Игнатьевич почему-то на носках своих щеголеватых сапог и пригибаясь как-то нелепо, словно крадучись, двинулся за Кольцовым.
Посреди большой комнаты со сводчатыми потолками и розовыми стенами стоял патриарх Тихон. Невысокий, широкоплечий, с длинными белыми волосами и с такой же белой бородой, в своем черном домашнем просторном подряснике он был похож на пожилого крестьянина. Встретил он их приветливой, едва заметной улыбкой.
Отец Анемподист отрешенно сидел в дальнем углу приемной. Он словно выключил себя, не вслушивался в то, что происходит в приемной, и лицо его не выражало никаких эмоций.
Иван Игнатьевич торопливо подался вперед и упал перед патриархом на колени. Тихон протянул к нему руки, и Иван Игнатьевич, заливаясь тихими счастливыми слезами, стал истово их целовать.
– Ну, буде! Буде! – остановил его патриарх и снова осенил Ивана Игнатьевича крестным знамением.
Стоя неподалеку от патриарха, Кольцов почувствовал какую-то неловкость. На мгновение подумал: не обидеть бы старика. Может быть, следовало бы из приличия преклониться перед патриархом, как преклонялись в детстве перед священником, когда ходили по воскресеньям с родителями в церковь. Но тут же отбросил эту мысль. Лишь слегка поклонился, как здороваются с пожилым человеком.
– Здравствуйте, Ваше Преосвященство! – сказал он. – Я здесь всего лишь сопровождающий.
– Знаю. Меня известили, – и указал глазами на диван: – Присаживайтесь.
Сам же патриарх уселся в глубокое кожаное кресло и неторопливо стал перебирать четки, как бы подчеркивая, что сам никуда не спешит и их нисколько не поторапливает… Спросил у Кольцова:
– Ваш знакомый, сказали мне, прибыл к нам из заграницы? – и затем перевел взгляд на Ивана Игнатьевича, спросил у него: – Откуда же прибыли? Из каких краев?
Иван Игнатьевич вскочил с дивана:
– Из Туреччины прибымши, Ваше Преосвященство!
– Да вы сидите! – попросил патриарх Ивана Игнатьевича. – Не ближний свет. И ради чего, позвольте узнать, вы такой путь сюда, к нам, проделали?
– Вишь ли, церква у нас осиротела. Отец Иоанн в прошлом годе по хворости телесной престависи. И село наше тоже все одно як примерло. Сколь за энто время невенчанных, некрещеных, семь душ неотпетыми по чину на той свет уйшли. Непорядок энто.
– Непорядок, – согласился и Тихон. – А что, нигде вокруг нет священников? Сёла-то, поди, поблизости есть?
– Нету поблизу. На той стороне, за Красным морем, есть много православных сёл. И на Маньясе, и возле Апольонта, и возле Изника – энто все озера рыбные. За то, поди, им те земли приглянулись. А нам тут, на Гейском море, любо. Тут и остались, – пространно объяснил Иван Игнатьевич.
– И что, никто из священников не захотел к вам?
– Не уговорили, видать. Не сумели. И то сказать: мы там як в медведьском краю обитаем. Токмо и медведи у нас отродясь не водятся. Из дикого зверя токмо зайцы, и тех обмаль.
– А людей в вашем селе много?
– Душ триста, можа, чуток поболее. Церква в праздники всегда была битком. А счас – така, вишь, беда.
– Может, с Афона кто согласился бы?
– Ходил я на Афон, не нашел до нас согласных. И до патриарха в Константинополь, было дело, ходил. И чё? Вишь, како дело. Мы рассейские, православны, а у их, видать, друга вера, до нашей не клеится. Меня до яго даже пред очи не допустили. Мы яму, патриарху константинопольскому, без интересу. У яго свои люди, им радеет.
Иван Игнатьевич вдруг замер, зачем-то испуганно пощупал карманы пиджака, но затем, посветлев лицом, торопливо сунул руку за пазуху, достал оттуда холщевую торбочку и бережно извлек из нее порядком потертое атаманское письмо.
– Во! Не утерял! – счастливо сказал он. – Тебе, благодетель, наш сельский атаман Григорий Силыч свою слезну мольбу шлеть. Всем сельским обчеством с великою печалью писали.
Отец Анемподист прошел со своего угла, принял от Ивана Игнатьевича письмо, долго в него вчитывался. Разобравшись, прочитал вслух:
– «Ваше Преосвященствие! Отець родный! На милосць твою уповають несчастны православны сироты села Нова Некрасовка, шо на Гейском мори обитаеца. Бога ради, не оставлляйтя нас сирыхъ, худых и забутых на чужеземной Туреччине. Оу нас отець Иоанн престависи бизизика и нам никакова ответу не дал. Вас Богим молим не забутя нашу сирыю церкву, а нас тож не забутя. Бога ради для свяченика оу нас диакон есць Иван сын Игната Мотуза. Толкя пыстынывлять молим вас для православных душ. И колени преклоняють усе Вашему Преосвященствию».
Закончив слушать, патриарх сказал:
– Отчаянное в своей безысходности письмо. Однако же трогательное. Надо подумать.
Патриарх опустил голову и долго сидел так, молча. Отец Анемподист присел за спиной патриарха, продолжая держать в руках послание атамана Новой Некрасовки.
Стояла такая тишина, что жужжание отогревшейся после зимы и бившейся в оконное стекло мухи казалось оглушительным.
После длительного молчания патриарх вновь поднял глаза на Ивана Игнатьевича:
– А вы, стало быть, дьяконом при храме состояли?
– Дьяконом, дьяконом! – снова подхватился с дивана Иван Игнатьевич, но тут же сел. – И татко мой паламарем в нашей церкви состояв. И мамка тож: первая на клиросе. Меня завсегда с собой водила.
– Ну что ж! Ну что ж! – патриарх в задумчивости нервно постучал пальцами по деревянному подлокотнику кресла. Снова испытующе посмотрел на Ивана Игнатьевича:
– А скажи, сын мой, Псалтырь знаешь?
– Як не знать? С малых годков читаю. И молитвы, и акафисты, и тропари. И во здравие, и за упокой. Почитай, весь Псалтырь на зубок вывчил.
– Ну и прочти нам что-нибудь из того, что ты там, у себя на службе, читаешь, – попросил патриарх.
– Шо скажете?
– Да что тебе самому хочется. Ну, почитай, к примеру, Покаянный канун.
– Усе девять песней? – спросил Иван Игнатьевич.
– Четвертую песню прочти.
Иван Игнатьевич встал, воздел глаза к потолку. Пару раз тихо, в кулак, откашлялся. Какое-то время постоял молча, сосредоточиваясь, и затем громко речитативом запел:
– «Широк путь зде и угодный сласти творити, но горько будет в последний день, егда душа от тела разлучатися будет: блюдися от сих, человече. Царствия ради Божия…»
Голос у Ивана Игнатьевича был чистый, баритональный, с красивыми обертонами, которые придавали его чтению необъяснимую притягательность. Было даже странно, что в таком тщедушном теле хранится такой голос.
– «Почто убогого обидиши, мзду наемничу удержуеши, брата твого не любиши, блуд и гордость гониши, – продолжал Иван Игнатьевич. – Остави убо сия, душе моя, и покайся, Царствия ради Божия…»
– Достаточно! – кивнул патриарх и обернулся к отцу Анемподисту. – Велите приготовить к завтрашней утренней службе.
Отец Анемподист подошел к патриарху, наклонился, но сказал так громко, что услышали и Кольцов с Иваном Игнатьевичем:
– Я подумал, может, в воскресенье, в храме Христа Спасителя?
– Нет! Завтра же! – не согласился патриарх. – В нашей Крестовой. Малым чином.
Вскоре они тепло простились с патриархом.
Провожал их к калитке отец Анемподист. Он со вздохом оглядел по-хозяйски бродящих по подворью красноармейцев, обратил внимание на костер, горящий неподалеку от калитки. Над костром теперь уже висел казанок, видимо, красноармейцы варили себе ужин.
Неожиданно священник обратился к Кольцову:
– Прошу прощения за неудобный вопрос. Если вы, конечно, позволите его вам задать.
– Я вас слушаю, – несколько удивился Кольцов. Он знал: после того как советская власть объявила церковь отделенной от государства, священнослужители тоже стали отчужденно относиться к мирским учреждениям, стремились не вступать с ними ни в какой контакт. Кроме редких исключений. Кольцов же был высокопоставленным сотрудником ВЧК, о чем, конечно, не мог не знать отец Анемподист.
– Вопрос такой. Недавно ваш комиссар Хрусталев совершал у нас обыск и унес с собой – изъял, реквизировал – не знаю, как это назвать, две патриарших панагии, напрестольный крест и митру. С восемнадцатого века эти ценнейшие православные реликвии числились за нами. Но Хрусталев сказал, что провел следствие и выяснил, что все это нами было похищено в Чудовом и Вознесенском монастырях. Скажите, можем ли мы надеяться, что каким-то случаем нам все это еще удастся вернуть?
Вопрос был тупиковый. Кольцов не ожидал такого. И, главное, так решительно, откровенно и в лоб. И поэтому не сразу нашелся с ответом. Он стал торопливо размышлять, как бы точнее ответить священнику и при этом не обидеть его. Кольцов понимал, что, вероятнее всего, это было обыкновенное воровство. Суть была лишь в том, с чьего посыла все это было совершено: мелким чиновником-грабителем или высокопоставленным вором-коллекционером. С чиновником можно было побороться, припугнуть, доложить в партячейку. С высокопоставленным вором бороться нельзя. У него имелся документ на его личную неприкосновенность и на неприкосновенность всего им награбленного.
Отец Анемподист понял затруднение Кольцова и деликатно поспешил ему на помощь:
– Я, конечно, понимаю: лес рубят… – заканчивать эту всем известную поговорку он не стал.
– До какой-то степени дело и в этом. Когда рубят лес, всегда найдутся те, кто отнесет себе на растопку одну-две вязанки хвороста, а иной и бревнышко укатит. А для высокопоставленного чиновника весь лес в округе повалят и к дому свезут. А то и домишко бесплатно поставят. Потому, что высокопоставленный. Кем? Он и сам порою этого не знает.
– Грустно рассуждаете, – сказал отец Анемподист. – Полагаете, что все это безвозвратно?
– Ничего не могу вам обещать, кроме одного. Я обязательно об этом доложу своему руководству. Фамилию грабителя я тоже запомнил: Хрусталев. А уж что из этого получится, сказать вам не могу. Все зависит от того, насколько высоко взлетел этот ваш Хрусталев. Уже появились такие орлы, до которых трудно дотянуться. Извините, но, к сожалению, это правда.
– Да благословит вас Господь, добрый человек! – сказал отец Анемподист и обернулся к Ивану Игнатьевичу: – Значит, завтра к утренней службе. Встретимся здесь же, красноармейцев я предупрежу.
– Приду, как жа! Тако счастье! – утирая слезы, сказал Иван Игнатьевич.
Кольцову показалось, что он только уснул, как его уже начал тормошить Иван Игнатьевич.
– Будя спать, Павло Андреич! На тому свети досыта отоспимся.
– Ну что ты такой неугомонный! Ночь на дворе! – не открывая глаз, сонным голосом проворчал Кольцов.
– Кака ночь! Уж третьи петухи отпелись.
Кольцов понял, что Иван Игнатьевич от него уже не отстанет, пока не добьется своего. Он свесил на пол босые ноги, сел.
– А вот врать, Иван Игнатьич, не годится. Нету в Москве петухов. Всех съели.
– Есть! Можа, один всего! – заупрямился Иван Игнатьевич. – Недалеко тут обитает. Горластый!
– Ну и пусть бы пел! А ты бы тем временем поспал, – зевнул Кольцов. – И тебе хорошо, и другим бы не мешал.
Но Иван Игнатьевич уже заканчивал одеваться, наводил блеск на своих сапогах.
Кольцов понял, что хоть немного поспать ему уже не удастся и хочешь – не хочешь, а надо вставать. И он стал неторопливо одеваться.
– А мог бы и пошустрей! – подгонял Кольцова Иван Игнатьевич. – А то придем, кода последнюю молитву отпоють.
– Успеем, – сердился Кольцов. – Утренняя же служба!
– Ага! Утро у усех разно! – не отступал Иван Игнатьевич. – Стануть ане нас дожидаться! Как жа!
Как и предполагал Кольцов, они пришли намного раньше. Вынуждены были долго стучать в калитку. Наконец явился сонный часовой. Он был предупрежден, но во двор их не впустил. Лишь коротко сказал:
– Ждите! – и удалился.
Светало. На горизонте стали прорисовываться силуэты домов. Было холодно и сыро. Часовой все не возвращался. Они терпеливо ждали, Кольцов продолжал сердиться на Ивана Игнатьевича: время от времени мрачно на него поглядывал.
Наконец пришел отец Анемподист, поздоровался и велел следовать за собой. Теперь они к знакомому крыльцу не пошли, а обошли здание почти вокруг и вошли в крохотную комнатушку.
– Здесь можете разоблачиться.
После того как они сняли с себя верхнюю одежду, отец Анемподист открыл перед ними тяжелую дубовую дверь, она тоже была красиво инкрустирована. Это была даже не дверь, а настоящие царские врата. Они вошли.
– Наш домовой храм, – объяснил отец Анемподист и затем сказал Ивану Игнатьевичу: – Даже не упомню, чтобы мы проводили здесь таинство хиротонии. Патриарх великую милость вам оказывает.
Храм был небольшой, но уютный. Его своды устремлялись вверх и где-то там, куда не доставал свет, сходились в одной точке. Пахло ладаном. Света было немного, горело лишь свечей десять. Лампадные огоньки у икон света не добавляли.
Едва войдя в храм, они услышали негромкий торопливый голос проводящего службу священника:
– Восставшие от сна, припадаем ти, Блаже, и ангельскую песнь вопием ти, сильно: Свят, Свят, Свят еси Боже, Богородицею помилуй нас!
Читая молитву, священник то уходил из светлого круга в сумерки храма, то снова возникал на свету, у иконостаса..
– Слава: от одра и сна воздвигл мя еси, Господи, ум мой просвети и сердце, и устие мое отверзи…
Привыкнув к полумраку, они увидели справа от себя молящихся монахов. Еще дальше – группку келейников.
Кольцов внимательно наблюдал за всем происходящим во храме. Иван Игнатьевич истово молился.
Спустя какое-то время к ним снова приблизился отец Анемподист.
– Вы подождите здесь, – тихо сказал он Кольцову, а Ивана Игнатьевича взял за руку и повел с собой.
В сумеречном свете Кольцов с трудом увидел, как они прошли к алтарю, как открылась маленькая боковая дверь и отец Анемподист ввел Ивана Игнатьевича в ярко освещенный алтарь.
Ждать пришлось долго. Кольцову показалось, что стоящие в ряд несколько иереев прочитали уже все молитвы и все каноны, и все тропари Псалтыри, а Иван Игнатьевич все не возвращался.
Двое монахов, выступивших из темноты, зажгли еще по нескольку свечей, и в храме стало светлее. Монахи, стоящие справа от Кольцова, и слева стоящие келейники разом со стоящими у алтаря священниками дружно запели благодарственную молитву.
Медленно и торжественно открылись алтарные ворота, и через них в храм вошел патриарх. Он вывел кого-то с собой и поставил его в ряд со стоящими вдоль алтаря священниками.
Хор закончил петь благодарственный молебен. Службу стал править патриарх. Голос у него был слабый, читал он тихо. Продолжая читать молитву, он прошел вдоль ряда священников и остановился возле того, которого только что вывел. Коротко взглянул на него. И тот, несколько выступив вперед, подхватил и продолжил молитву, начатую патриархом.
И Кольцов узнал этот удивительный баритон. Он слышал его вчера, там, в приемной у патриарха. Здесь, в храме, с его высоким потолком, голос приобрел еще большую мощь, свежесть и чистоту. Он то взмывал вверх, взлетая к самым высоким нотам, то вдруг обрушивался вниз и звучал трубно, басовито.
Кольцов с трудом узнал Ивана Игнатьевича. Он был в священническом облачении: в черном подряснике с камилавкой на голове. Его голос, казалось, заполнил все пространство храма.
Даже священники, присутствующие на утренней службе, давно не слышали подобного голоса. Стоящие в ряд, они удивленно переглядывались.
Потом снова читали молитвы священники – то хором, то соло. И каждый раз, когда подходила очередь Ивана Игнатьевича, он вступал безошибочно и четко. И Кольцов, слышавший многих хороших певцов, неожиданно подумал, что Иван Игнатьевич обладает поистине уникальным певческим талантом.
Вероятно, об этом же подумал и патриарх Тихон, потому что, вопреки всему, он закончил последнюю молитву вместе с Иваном Игнатьевичем.
Провожал их с патриаршего подворья снова отец Анемподист.
Иван Игнатьевич не переоделся, он так и остался в своем новом священническом облачении. Вышагивая рядом с отцом Анемподистом в своем новом длинном подряснике, из-под которого едва выглядывали носки его фасонистых сапог, он нес в руках завернутый в холстинку сверток.
– Это что у тебя? – Кольцов указал глазами на сверток.
– Шо, шо? Знамо, шо! Моя одежа, можа ишшо спонадобится. До дому-то добираться надоть.
– Ну, надо! – согласился Кольцов.
И Иван Игнатьевич пояснил:
– Дорога далека, колготна. Пошто я свяченное облачение стану трепать без надобности? То-то! А дома одену, скажу: сам Его Святейшество Патриарх Тихон лично мне подарив. И ще скажу, шо он сам лично меня в свяченики рукоположив.
Прошли через калитку на улицу, остановились.
– Скажите, – обратился Кольцов к отцу Анемподисту. – И что же, теперь Иван Игнатьевич может там, у себя дома, службу в церкви править?
– И не только, – ответил священник. – Это была не просто утренняя молитва. Патриарх провел таинство хиротонии и ввел Ивана Игнатьевича в сан иерея. И с нынешнего дня он больше не Иван Игнатьевич, а отец Иоанн.
– И бумагу дали, – Иван Игнатьевич похлопал себя по груди, где теперь вместо письма атамана Григория Силыча лежал в полотняной торбочке документ, подписанный патриархом, что отец Иоанн (Мотуз) является иереем российской православной церкви.
Отец Анемподист вздохнул:
– Сожалею, креста подходящего не нашли. Видать, тоже… при обыске…
– Попытаемся как-то поправить дело, – пообещал Кольцов. – Подыщем.
– В очередной церкви? – насупился отец Анемподист. – При обыске?
– Нет, конечно, – без обиды ответил Кольцов. – Понимаю вас. Но не переносите свою обиду на все наше ведомство. Не будь его, поверьте, в стране творился бы хаос и повальные грабежи.
– Уже творятся. На Кубани люди восстали. В Тамбове тоже. В Кронштадте…
– Вы хорошо осведомлены.
– Так ведь в одном ковчеге плывем. А море штормит, и не видно берега.
– После такой войны трудно было бы сразу ждать полного штиля – прибегну к вашему сравнению. Это как бросить в воду камень. Взбурлит вода, а потом еще долго колышется, пока успокоится. Да ведь уже и успокаивается. Верно, и вы это замечаете?
– Мы – нет. Даже наоборот. И, похоже, скоро еще хуже будет.
Кольцов промолчал. Он не стал спорить. Понимал: обида, нанесенная патриарху комиссаром Хрусталевым, не скоро загладится. И загладится ли?
Они попрощались. Кольцов по мирской привычке или, скорее всего, по забывчивости протянул руку отцу Анемподисту для рукопожатия, и тот неожиданно принял ее.
– Вы показались мне порядочным человеком, – пожимая руку Кольцова, сказал он. – Если бы таких, как вы, было побольше, еще на что-то светлое можно было бы надеяться.
– Спасибо на добром слове, отец Анемподист, – сказал Кольцов и затем добавил: – А я верю… нет, я абсолютно убежден, что честных и порядочных людей на нашей земле все же большинство. И я не сомневаюсь, рано или поздно мы одолеем этих хрусталевых.
Отец Анемподист перевел взгляд на Ивана Игнатьевича:
– Прощайте и вы, отец Иоанн. Рад нашему такому необычному знакомству. Буду вспоминать и молиться за вас.
Они уходили. Прежде чем свернуть за угол, Кольцов обернулся и увидел все еще стоящую вдали одинокую фигурку отца Анемподиста. Заметив, что Кольцов обернулся, священник послал им вслед свое благословение.
Глава третья
На следующий день Гольдман показал Кольцову его собственный кабинет. Скромная комнатка располагалась на первом этаже одного из самых старых домов Лубянки среди сложного лабиринта нескольких зданий ВЧК. Кольцов критически осмотрелся: комнатка за ненадобностью давно пустовала или служила какому-то начальству для временного пребывания – пока приводили в порядок новый кабинет в одном из основных зданий. Здесь все было старое: старый, заляпанный чернильными пятнами канцелярский стол, дешевенькие стулья для хозяина кабинета и двух его посетителей – больше посетителей здесь не предполагалось. И еще примитивная вешалка у самой двери. Даже телефона здесь не было: не полагается или не успели поставить. И еще в полстены за его спиной висела большущая карта «Российских императорских железных дорог».
– Ну, а это еще зачем? – указав на карту, Кольцов насмешливо посмотрел на Гольдмана.
– Как это «зачем»? Я тебя, Паша, хорошо знаю. На одном месте долго не усидишь. Понадобится тебе, к примеру, в Омск, Томск или в какую-никакую там Голозадовку. Глянул на карту, и уже знаешь, ходят ли туда поезда, сколько туда верст, как долго ехать. И вообще! – даже слегка рассердился Гольдман: – Зайди к любому начальнику, у каждого на стене что-нибудь висит, какая-нибудь фитюлька. А у тебя, чувствуешь, вся Россия за спиной! Какой масштаб личности!
– Чувствую! Очковтирательство. Афера. Сегодня, к примеру, личность будет добывать обычный поповский крест для Ивана Игнатьевича, потом попытается что-то выпросить для типографии, хотя бы килограммов пятьдесят белой милованной бумаги, потом… потом будет сочинять текст листовки, которая пойдет потом начальству на утверждение. А начальство не сразу ее утвердит, а заставит десять раз ее переписать, и не потому, что она плохо написана, нет. А лишь для того, чтобы доказать личности, что она пока никакая не личность. Безо всяких объяснений. А ты, Исаак Абрамыч, о масштабе личности! Словом, сними, к свиньям, эту карту и повесь что-нибудь скромнее, какие-нибудь цветочки.
– Цветы не положено, – не согласился Гольдман. – Вождей мировой революции можно. Только у нас на складе никого нет. Прислали шесть Карлов Марксов, тут же расхватали.
– Ну какого-нибудь другого повесь. Менделеева, Шерлока Холмса. На крайность даже Навуходоносора.
– Тут такое дело, Паша, – замялся Гольдман, чувствуя, что Кольцов настойчиво и упрямо отвергает карту. – Я говорю, тут не все так просто. Портреты, понимаешь, маленькие, а стена большая.
– Ну и в чем проблема?
– Не то чтобы проблема, – жевал слова Гольдман и наконец решился: – Тут, понимаешь, кусок стены изуродованный. Был вмурован сейф, его выломали, а стену… ну не успели. А Герсон получил нагоняй от Феликса Эдмундовича. Приказал, что б сегодня же у Кольцова был кабинет.
– С этого бы и начинал, – понял затруднение Гольдмана Кольцов. – Ладно! Пусть висит!
– А про крест ты чего вспоминал? – у Гольдмана отлегло от сердца, и он решил поговорить с Кольцовым просто ни о чем.
– Не мне. Гостю нашему. Он у нас теперь иерей, их словами: священник, – пояснил Кольцов. – Кстати, можешь у него исповедаться. Все грехи по знакомству отпустит.
– У меня для этого Фрида Марковна есть. Я ей иногда исповедуюсь. Тоже отпускает, – и затем Гольдман поинтересовался: – А не подскажешь, какой крест ему нужен?
– Слушай, ты начинаешь деградировать. Я тебе рассказываю: нашему гостю присвоили звание. Как бы тебе это объяснить: не самое высокое в их православных войсках, но все же офицерское. Был дьякон, это что-то вроде сержанта. А теперь ему офицерское – иерей. И нужен соответствующий званию крест. А у патриарха ничего такого не нашлось. Я пообещал достать.
– Ну, и в чем дело! – удивился Гольдман. – Через пару часов у него будет крест. Кстати, а какой нужен: золотой, серебряный?
– Лучше всего медный. Дорога у него дальняя. За золотой или серебряный и убить могут, – и Кольцов спросил: – А где ты его достанешь?
– Секрет фирмы.
– Не вздумай только, пожалуйста, в каком-нибудь храме реквизировать.
– Ты плохо обо мне думаешь, Паша. Зачем мне грабить, если уже есть награбленное. В Гохране, у Юровского.
– Юровский что, все еще в Гохране?
– А куда он денется?
– Должен бы повеситься. Детей ведь расстреливал.
– Вот тут ты, Паша, положим, не совсем прав. Я тоже не люблю Юровского за его паскудный характер. Но закавыка в другом: дети-то царские.
– Дети, они дети и есть. Чьи бы они ни были. Они еще не успели ни перед кем ничем провиниться.
– Рассуждаешь, как гувернантка. Выросли бы – натворили дел. Нет, Паша, тут я не на твоей стороне.
– Ну и ладно. Хорошо, что тебе столько власти не дадено, как тому же Юровскому Ты бы, возможно, еще больше чего натворил.
Гольдман заметил, что Кольцов нахмурился, замолчал.
– Ну, чего ты! – примирительно сказал он. – Юровский сам за свои грехи и ответит. Если есть Бог – перед ним. А нет – перед людьми. Люди ничего не забывают.
Кольцов продолжал молчать. Гольдман немного потоптался в кабинете, подошел к карте, отогнул край. Кольцов заметил под нею неглубокую, но грубо развороченную нишу.
– Знаешь, если тебе эта карта не по душе, я тут, в кабинете у Ходжакова, приметил большой портрет Льва Давыдовича Троцкого. Он, пожалуй, это безобразие прикроет, – попытался примириться Гольдман с Кольцовым: – Я у него сегодня же этот портрет выменяю.
– Не трожь карту! – сухо сказал Кольцов.
– Хотел как лучше.
– Не надо как лучше.
– Ну, как знаешь. Так я пошел, – Гольдман дошел до двери, обернулся: – Так я это… пошел добывать тебе крест.
– Зачем тебе самому идти? Бушкина отправь, – подобрел Кольцов. – Он этот Гохран вдоль и поперек знает. Их со Старцевым там конспирации учили. Это когда их в Париж командировали.
– Бушкина я отправил в Мытищи.
– Зачем?
– Все хочешь знать? В моей хозяйственной работе тоже кое-какие секреты водятся. Не могу разглашать.
– И не надо! Не больно хочется в ваши секреты вникать. Своих по горло, – Кольцов уселся за стол, положил на него локти. Неудобно. Пододвинул стул поближе. Снова уселся. Дотянулся до чернильницы, обнаружил возле нее перьевую ручку. Макнул перо в чернила. Пробуя перо, вывел на четвертушке бумаги красивым каллиграфическим почерком: «Милостивый господинъ…» Немного поразмышлял. Заметил, что Гольдман краем глаза из-за плеча наблюдает за его манипуляциями, он снова обмакнул перо и размашисто продолжил: «…и товарищ Гольдман И.А. А не пошли бы вы к…»
Гольдман, прочитав написанное, понял, что Кольцов сменил гнев на милость.
– Хулиган! – улыбаясь, сказал он и поднялся: – Ухожу! Но совсем не туда, куда ты хотел меня послать.
– А ты знаешь куда?
– Догадываюсь.
И он ушел.
Когда Кольцов остался один, он снова повертелся на стуле, как бы утверждая себя на нем. Снова положил на стол локти и так, в задумчивости, застыл. На мгновение подумал о том, что кончилась его молодость, кончилась боевая, опасная, но такая насыщенная событиями интересная жизнь. Теперь до конца своих дней он будет сидеть в этом или подобном кабинете и решать какие-то мелочные и бессмысленные дела, возможно, ссориться и спорить из-за них. А еще он время от времени будет с завистью поглядывать на карту с такими притягательными для него названиями, как «Севастополь», «Феодосия», «Херсон», «Каховка». Или же с малознакомыми, но оставшимися на слуху и ставшими мечтой: «Царицын», «Екатеринбург», «Омск», «Кронштадт». Где-то там будут хлестать колючие ветры, носиться пронзительные метели, бушевать ливневые дожди… Там будет жизнь! А здесь, в тесной коморке, – сиротливое одиночество и тихое умирание.
Разложив на столе чистые листы бумаги, Кольцов снова потянулся к ручке и, немного помедлив, отложил ее. Достал из кармана подаренную ему Дзержинским газету «Правда», нашел нужную статью, подписанную А. Евдуком. Кто такой А. Евдуков, он не знал, но подумал: раз ее поместили на страницах «Правды», вероятно, она утверждена ВЦИКом. Но тут же подумал, что в статье нигде не ссылаются на ВЦИК. Скорее всего, это точка зрения А. Евдука. Вот он пишет:
«Тысячи людей, не являющихся классовыми врагами пролетарской власти в России, в силу случайных причин оказались за ее рубежами: часть из них – по прямому принуждению, так как всем известен факт увода крестьян и жителей прифронтовой полосы белыми войсками; часть – испугавшаяся принудительной мобилизации; часть – в силу белогвардейской агитации или ошибочной веры в возможность остаться в стороне от борьбы. Всех случаев пересчитать невозможно, но для меня важно отметить ту категорию лиц, которая, во-первых, не является нашим классовым врагом, во-вторых, в настоящее время после всего испытанного искренне стремится в Россию, честно решив работать для ее блага»…
Кольцов просмотрел всю статью: скучно, косноязычно и неинтересно. Если листовки писать таким языком, никто не поверит ни единому их слову. Из прочитанного он сделал вывод: листовки должны быть короткими и убедительными. Как этого добиться, Кольцов не знал, и все же решил попытаться. Он снова обмакнул ручку в чернила и вывел первую строку:
«Рабочим и крестьянам!..»
Затем вычеркнул «и», вместо нее поставил запятую и продолжил:
«… и всем, кто независимо от причин покинул свою Родину – Россию! Дорогие товарищи…»
Потом он подумал о том, что далеко не всех их можно назвать товарищами. Да и вернуться домой, в Россию, он собирается звать не только товарищей, не только тех, кто сочувствует новой власти, а всех, кто оказался на чужбине и понял, что жить там не сможет, но и возвращаться домой боится. Слишком хорошо поработала белогвардейская пропаганда и сумела вселить в их души страх. Он же хочет позвать вернуться домой всех, кто считает Россию своей Родиной и не мыслит без нее своей жизни.
Он вычеркнул слово «товарищи» и поверх него написал «земляки».
Прежде чем начать писать текст, он долго ходил по своему крошечному кабинету.
Кто-то распахнул его дверь и удивленно уставился на него:
– А Сидоровский? Где Сидоровский?
– Не знаю, – пожал плечами Кольцов. – Должно быть, его переселили в другой кабинет.
– А коробку с «Домино» он тут, случайно, не забыл?
– Не видел.
– Если обнаружите, передайте их Маслову. Собственно, Маслов это я и есть.
– Обещаю. Обязательно верну.
Дверь захлопнулась.
Кольцов снова сел за стол и еще долго держал перо, занесенное над листом бумаги. Затем стал решительно писать:
«Окончилась Гражданская война, и на всей территории России прочно и навсегда установилась рабоче-крестьянская власть. Тысячи и тысячи российских граждан, не являющихся убежденными классовыми врагами пролетарской власти, в силу самых разных причин оказались на чужбине.
Настало время изменить отношение ко всем, вынужденно оказавшимся в изгнании…»
Он снова походил по кабинету и, не присаживаясь, навис над частично исписанным листком и торопливо продолжил:
«В настоящее время, когда Советская Россия приступает к строительству новой хозяйственной жизни, везде, во всех отраслях производства, в городе и в деревне нужны ваши руки!..»
Текст листовки давался Кольцову мучительно трудно. Он снова ходил по кругу вокруг стола, с трудом изобретая убедительные слова об амнистии.
«Собственно, а чего тут придумывать? – успокаивал он сам себя. – Нужно просто довести до читающего листовку человека главную мысль о том, что Советское правительство объявляет амнистию всем гражданам. Всем, без исключения. Виноватым и невиновным. Всем, кто после перенесенных испытаний искренне стремится в Россию. Если, конечно, они твердо решили включиться в строительство новой жизни».
Но тут же его одолели сомнения:
«Это все же только слова. А нужны гарантии. Причем самого высокого, правительственного уровня. Скажем: ВЦИКа. Только такой гарантии люди могут поверить. Но такой гарантии у них пока нет. Даже Дзержинский засомневался, возьмет ли ВЦИК на себя такие обязательства… Если же таких гарантий не будет, стоит ли ввязываться в это предприятие? Чтобы не выглядеть потом козлом, который ведет стадо на бойню».
И он решительно написал:
«ВЦИК заранее объявляет, что никто, подчеркиваем никто, добровольно вернувшийся на Родину, не будет подвергнут репрессиям».
Кольцов решил: если эти строки о гарантиях ВЦИКа будут каким-то способом из листовки изъяты, это станет сигналом ему сворачивать свою самодеятельную публицистическую деятельность и любым способом избегать ее. Он хорошо помнил Зотова. Таких, как он, не единицы. Они в своей злобе могут свободно пустить «под тройки» всех тех, кто вернется, поверив листовкам.
Кольцов еще несколько раз возвращался к своему сочинению, вычеркивал какие-то слова, дописывал другие.
Во второй половине дня он отдал все им написанное, тщательно отредактированное и выверенное машинисткам и уже отпечатанный текст отнес помощнику Дзержинского Герсону.
– Пусть Феликс Эдмундович ознакомится. Если у него не будет никаких замечаний, он обещал подписать это во ВЦИКе. Лучше, если подпишет сам Ленин.
– Вы многого хотите, Павел Андреевич! Ленин у нас один, а важных дел – горы. Может быть, Троцкий? Амнистия бывшим белогвардейцам, это все же по его ведомству.
– Нет-нет! Ленин! – настойчиво попросил Кольцов.
Герсон бегло прочитал текст, поднял глаза на Кольцова:
– Сами сочинили?
– А что? Плохо?
– Наоборот. Вы прирожденный публицист. Все убедительно, ни одного лишнего слова.
– Спасибо за поддержку.
– Думаю, Ленин согласится с Феликсом Эдмундовичем.
Кольцов ушел.
Вторую половину дня он посвятил поискам типографии. После самоликвидации Южного фронта Фрунзе за ненадобностью отправил ее в Москву, и в конечном счете она оказалась на Лубянке. Но ни в хозуправлении, где, по идее, она должна была находиться, ни в других отделах о ней никто ничего внятно не говорил. Везде, к кому бы Кольцов ни обращался, ему отвечали:
– Слышали. Но где она сейчас, не знаем.
Наверняка что-то о ней знал Дзержинский, но он едва ли не с утра уехал по делам, и Герсон не знал, вернется ли он вечером на Лубянку или сразу же уедет домой.
По поручению Дзержинского типографию принимал у представителей Южного фронта бывший начальник ХОЗУ Кашерников, но его вскоре откомандировали по каким-то делам в Швецию. Кажется, закупать паровозы. И так получалось, что прояснить судьбу типографии может только Дзержинский.
Герсон, которому Кольцов уже порядком намозолил глаза, вдруг что-то вспомнил:
– А в нашей типографии ВЧК вы не наводили справки: может, они что-то знают?
В самом деле, почему он сразу же не подумал о печатниках ВЧК? Ее они просто могли присоединить к своей типографии или отдать кому-то за ненадобностью.
Но выяснилось, что типография ВЧК находится едва ли не на самой окраине Москвы, в районе Ходынского поля. Быстро туда съездить не удастся, и Кольцов перенес поиски следов типографии на следующее утро.
Уставший и злой после бессмысленных хождений по кабинетам и впустую потраченного времени, он возвращался по внутреннему двору Лубянки к себе в кабинет.
– Боже мой! Павел Андреевич? – услышал он за своей спиной чей-то голос.
Обернулся и увидел давнего знакомого, портного спец-ателье Беню Разумовича.
– Нет, подумать только! Вы четыре дня здесь. Нет, таки пять. И мы ни разу не встретились. Кого не хочешь видеть, так видишь пять раз на дню, а кого хочешь – так нет. К слову сказать, вы получили от меня небольшой презент? Простынки, пододеяльники, полотенца, носовые платки?
– Да, я вам очень благодарен.
– Вот! Это то самое главное для мужчины, который уже намерен жениться.
– Кто? – удивился Кольцов.
– Но мне сказали, что вы получили квартиру? Или это неправда?
– Получил, – согласился Кольцов.
– Тогда, возможно, меня обманули, что вы все еще не женат?
– И это правда.
– Так слушайте меня внимательно. Вы уже в том возрасте, когда надо жениться. Возможно, вы тянули бы с этим, если бы у вас не было приданого. Но, слава богу, оно у вас есть. И квартира тоже. Попомните мое слово, к осени вы уже будете очень счастливы. Вы поняли мой намек? Кстати, я вас очень часто вспоминаю. И Мира тоже.
– Ну, как там, в Париже, ваши братья? Надеюсь, они процветают? – перевел разговор Кольцов в другую плоскость.
– Какой еврей скажет вам, что он процветает? И знаете почему? Сколько бы денег у еврея ни было, он всегда думает, что у соседа их больше. И это очень портит настроение, – Беня наклонился к Кольцову и, перейдя на полушепот, сказал: – Надеюсь, это останется между нами.
– Не сомневайтесь, – успокоил его Кольцов.
– И еще по секрету. Я получил от Натана письмо. Его привез какой-то француз. Но он не пожелал мне представиться и бросил его в почтовый ящик. Знаете, такое толстое письмо, что оно с трудом пролезло в ящик. Честно скажу, я подумал, что брат решил поделиться со мною долярами. Но там были только фотографии. Двадцать восемь штук: Натан и Исаак, их жены и дети, сваты и сватьи и их дети, и их внуки, пусть все они живут до ста лет! Нет, вы мне скажите, разве нельзя было положить между фотографиями хоть немного доляров?
– Ну и зачем они вам? – спросил Кольцов..
– Вот! Они, наверное, подумали так же, как и вы. Зачем? Но я тоже хочу, как всякий приличный человек, хотя бы один раз в неделю сходить в Торгсин.
– Может, у них не было такой возможности. Это все же контрабанда!
– Да, конечно! Когда не хочешь что-то отдать, всегда можно найти какой-нибудь закон. «Контрабанда!» – и, продолжая все тем же сварливым голосом, Беня спросил: – Мне сказали, вы теперь у нас?
– Да. Надеюсь, временно.
– И что за дело вам определили?
– Тупое и бессмысленное: искать то, чего здесь нет.
– Здесь есть все, только надо уметь искать, – уверенно сказал Беня и спросил: – Так все же, что вы ищете?
– Типографию. Там печатный станок, шрифты, краски, бумага – словом, все необходимое для печатания агитлистовок.
– Вам это нужно? Я бы вас понял, если на нем можно было печатать деньги, – сказал Беня Разумович. – Нет, ничего подобного я не видел.
Кольцов решил больше не тратить время попусту, откланялся и пошел дальше. Он уже пересек двор и хотел войти в здание, когда его догнал запыхавшийся портной:
– Павел Андреевич, постойте. Вы сказали: бумага.
– Какая бумага? Я говорил о печатном станке, о типографии.
– Нет-нет! Вы сказали: бумага.
– Ну, допустим, я так сказал.
– Не знаю, может, это наведет вас на какую-то мысль, но вон в той пристроечке стоят какие-то ящики. Но дело не в этом. Там еще лежит большой рулон бумаги. Мы ею потихоньку пользуемся, если надо кого-то культурно обслужить и что-то, как в прежние времена, аккуратно завернуть. Слушайте, до чего мы дожили! Соленую рыбу вам дают прямо в руки, крупу насыпают в фуражку.
– Где эта бумага?
– Идемте.
Они вновь прошли в другой конец двора. Это были замусоренные задворки большого учреждения, куда, как водится, сносят и свозят все ненужное, но которым в трудную минуту еще надеются воспользоваться. А потом забывают.
Иными словами, это была обычная свалка местного значения.
Пристройка к сараю походила на большую собачью будку. Дверь была не заперта. Точнее, она была прикрыта, и через одну из двух петель, на которых должен был висеть замок, продета веревка с дощечкой, на которой красовалась сургучная печать. Этот «медальон» существовал сам по себе и к двери имел косвенное отношение.
Беня по-хозяйски распахнул ворота. Первое, что Кольцов увидел в сумерках сарайчика, – большой рулон типографской бумаги. Дальше у стены стояли в ряд три деревянных ящика: большой и два поменьше. Кольцов поискал глазами какой-нибудь кусок железа, которым можно было приподнять доски и узнать, что в ящике.
Не найдя ничего подходящего, он поднял булыжник, с его помощью проломил пару досок и затем запустил в ящик руку. Он долго там что-то ощупывал.
Беня напряженно ждал.
– Она! – наконец выдохнул Кольцов. – Типография.
– Странно! – удивился Беня. – Вы, конечно, уже ходили по городу. Заметили, все афишные тумбы, все телеграфные столбы, даже заборы и стены домом обклеены различными объявлениями. Продают, покупают, ищут работу, женятся, лечат от всех болезней, изгоняют бесов и снимают порчу. Печатный станок, работающий круглосуточно, – это мильоны. А этот валяется на свалке. Нет, это не укладывается в моей голове.
– Может, случайно потеряли. Забыли, – предположил Кольцов.
– Забыли, – хмыкнул Беня. – Мильйонеры!
Типографию и верно почти забыли. Когда Фрунзе за ненадобностью отправил ее из Мелитополя в Москву, в ВЧК была своя хорошая типография, и ее мощности вполне хватало. Подаренную Фрунзе решили спрятать до лучших времен. И постепенно, за чередой бесконечного количества дел, о ней забыли. Дзержинский был один из немногих, кто все еще помнил о ней. Но где она находится, он тоже не знал.
Обрадованный Кольцов поднялся к Герсону и рассказал ему о своей находке. Но это было лишь полдела. Нужны были печатники, нужен был метранпаж. Чтобы до конца завершить все дела с типографией, надо было уже сегодня ехать на Ходынку. Кольцов надеялся с кем-то там договориться, кого-то перевербовать и, если с этим ничего не получится, разместить у них свой заказ на первую партию листовок. Герсон поддержал его и даже предложил для поездки на Ходынку автомобиль.
Все оказалось проще простого. Бывших печатников фронтовой типографии вместе с метранпажем не уволили. По распоряжению Дзержинского их оставили в типографии ВЧК. Кольцов познакомился со всеми шестью работниками бывшей фронтовой типографии и с метранпажем – пожилым подслеповатым человеком с интеллигентной бородкой клинышком. До Гражданской войны Александр Иванович Фадеев работал курьером у знаменитого книгоиздателя Сытина, повзрослев, стал работать в типографии и одновременно помогал большевикам-подпольщикам, печатал прокламации, воззвания. А в семнадцатом он оставил сытинскую типографию, но не оставил профессии. Его талант печатника оказался очень востребованным революцией.
Кольцов задал им один короткий вопрос:
– Когда?
– Когда надо? – спросил Фадеев.
– Завтра, – ответил Кольцов.
– Если так надо советской власти, значит, типография начнет работать завтра, – и, подумав, он добавил: – Если, конечно, есть помещение?
Помещение было.
Домой Кольцов вернулся ночью. Его остановили у двери неожиданный шум, смех, голоса. «С кем это так веселится Иван Игнатьевич?» – подумал он и открыл дверь.
В гостиной помимо Ивана Игнатьевича был еще Бушкин и, полная неожиданность, Семен Красильников. Иван Игнатьевич ютился, как и прежде, в облюбованном уголке гостиной, но сейчас на равных со всеми сидел в своем черном облачении за столом, и на его груди медово поблескивал хорошо начищенный медный крест.
Красильников вскочил со стула и обнял Кольцова.
– И опять здравствуй, – весело сказал он.
– Почему – «опять»? – удивленно спросил Кольцов.
– Так ведь у нас с тобой, Паша, всю жизнь: то здравствуй, то прощай. Когда уже наша жизнь в тихую заводь завернет?
– Уже завернула, – хмуро сказал Кольцов и пожаловался: – Круто завернула. Тише заводи не бывает. Собачья конура, стол, стул. Сиди и вой! Хочешь – на луну, хочешь – на солнце. Полная свобода выбора. Кончилась моя бедовая жизнь, Семен! Стреножили меня! Все!
– Да что ты, дружаня! Что ты! Вспомни, из каких переделок выбирались! – Красильников ободряюще похлопал его по спине. – Мы с тобой, Паша, еще поскачем по воле! Еще потопчем ковыли!
– Ну, помиловались – и за дело! – сказал Бушкин и отправился на кухню. Следом за ним туда же отправился и Красильников.
И вскоре на столе появились чашки, ложки, хлеб, кольцо колбасы, с десяток уже очищенных тараней – словом, все, что нашлось в пока еще не до конца обжитой квартире Кольцова.
Потом в дверь снова постучали. Бушкин пошел открывать и вернулся в гостиную с Гольдманом.
– Пьянствуете? – оглядев стол, строго спросил Гольдман.
– Ну, положим, собрались отметить, – с нарочитой дерзостью в голосе сказал Красильников. – А что?
– А то, что велено поломать вашу трапезу!
– Это уже невозможно, потому что стрелки манометра подошли к красной черте. Могут подорваться крышки котлов, – сказал Красильников.
– Запретить не имею полномочий. Но хозяина забираю.
– Не получится.
– У меня – нет. У Феликса Эдмундовича получится, – Гольдман оглядел компанию, остановил взгляд на Кольцове. – Тебя, Паша, ждет Дзержинский.
– Это что? Такая у тебя иезуитская шутка?
– Если это шутка, то не моя, а Герсона. Он разыскивал тебя по всему управлению. Я по дури на него налетел. Дальнейшее, надеюсь, тебе не нужно рассказывать.
Уже одетый Кольцов заглянул в гостиную, оглядел приунывших товарищей.
– Все, как я и сказал: посадили меня на цепь. Единственное утешение: цепь пока еще длинная.
Дзержинский извинился, что был вынужден потревожить его в столь позднее время. И положил перед Кольцовым его же, но отпечатанную на пишущей машинке листовку.
– Владимир Ильич ознакомился. Никаких возражений.
– Я не вижу его подписи.
– Павел Андреевич! Я привык доверять Ленину на слово, – жестко сказал Дзержинский. – И вам советую.
Герсон внес в кабинет поднос с двумя стаканами чая и с горсткой бубликов. Поставил поднос на приставной столик.
– Пожалуйста! – Дзержинский пригласил Кольцова к чаю и, выждав, когда он возьмет стакан, сам тоже обхватил обжигающий стакан двумя ладонями, стал греть руки.
– Мне текст листовки тоже понравился. Строго, лаконично, убедительно. Никаких расшаркиваний и никаких обещаний, – и тут же коротко спросил: – Разобрались с типографией?
– Сегодня ночью и завтра утром они полностью установят все оборудование. Завтра к вечеру сделают первые пробные оттиски. Если все будет нормально, за ночь отпечатают несколько тысяч. Я ориентировал их тысячи на три.
– Я думаю, пока достаточно и тысячи экземпляров, – сказал Дзержинский. – Дело и в весе, и в габаритах. Проверим надежность эстафеты, тогда будем лучше знать, как действовать. Кстати, там, в Галлиполи, надо бы выяснить, налажена ли у них связь с Чаталджой? Туда бы для начала хоть сотню листовок забросить… Кстати, вы уже продумали, кто отправится в Турцию с этим вашим попом?
– Насколько помню, мы об этом уже говорили, – сказал Кольцов. – Вы назвали тогда Красильникова.
– Не возражаете?
– Наоборот. Я давно его знаю и всячески рекомендую. Неторопливый, вдумчивый.
– На этом и решим. Я тоже, как и вы, боюсь молодых, быстрых, решительных и смелых. Пусть подрастают, набираются опыта.
Помолчали. С хрустом ломали сухие бублики, грели руки об остывающие стаканы.
– Когда? – спросил Кольцов.
– Мне сообщили, что болгары скоро будут в Одессе. Стало быть, дня через три-четыре Красильников вместе с попом должен быть в Одессе, – Дзержинский, не донеся стакан до рта, вдруг поставил его на столик, поднял вопрошающий взгляд на Кольцова: – Прошлый раз, когда я назвал вам кандидатуру Красильникова, мне показалось, вы отнеслись к этой идее неодобрительно. Или я ошибся?
– Нет, не ошиблись. Слишком много ему за жизнь досталось. Дети выросли. Трое. А он их почти и не видел.
– Почему же вы изменили свой взгляд.
– Многих перебрал в голове, а никого лучше Красильникова не вспомнил.
– А может, еще подумаем? – спросил Дзержинский. – День-два у нас пока есть. Я ведь понимаю вас. Ваш старый товарищ. Всю войну вместе прошли. Выжили. Трое детей – не последний аргумент. Ведь случись что: погибнет, вы себе этого не простите.
– Давайте больше не будем об этом, – нахмурился Кольцов. – Вы все правильно понимаете. Он, конечно, тоже может погибнуть. Но уж дешево свою жизнь не отдаст. И все же я надеюсь, что смерть обойдет его стороной. Потому и согласился.
Они долго сидели молча
Кончился керосин в большой лампе. Герсон внес подсвечник с несколькими весело горящими свечами.
– И чтоб закончить этот разговор, – вдруг решительно сказал Дзержинский. – Война еще тлеет. И люди по-прежнему гибнут. И всех их жалко. Но мы не можем не рисковать. Вынуждены. Иначе погубим то дело, которое добыли, в том числе и сотнями тысяч смертей.
Следующие сутки ушли на сборы. Кольцов с полудня просидел в типографии. Долго что-то не ладилось. Но, в конце концов, далеко за полночь листовки были отпечатаны.
Бушкину как знатоку театральных перевоплощений было поручено экипировать Красильникова под подстарковатого дядьку-крестьянина.
Из растолстевшей от подарков торбы Ивана Игнатьевича Бушкин извлек всю его старую одежду, ту самую, в которой тот прибыл недавно в Одессу.
Переодевая Красильникова в поношенное домотканое старье, Бушкин откровенно радовался и даже немного завидовал Красильникову, которому предстояло выступить в таком грандиозном спектакле. А когда стал надевать на его ноги постолы, откровенно расхохотался:
– Ты, Алексеевич, мог бы самого графа Льва Николаевича Толстого в синематографе сыграть. Ну просто не отличишь. Только бы бороду отрастил для полного сходства.
Красильников пообещал больше, до возвращения из Турции, не бриться.
Даже Иван Игнатьевич, придирчиво оглядев принаряженного в прежние его одежды Красильникова, сдержанно улыбнулся и похвалил:
– У нас в селе…ета… дед Ерофей пастушит. Тожа так-то глядится.
А вскоре Герсон сообщил Кольцову, что получено сообщение: болгарские товарищи уже снова в пути, и, если не случится ничего непредвиденного, они скоро прибудут в Одессу.
Через двое суток Красильникова и Ивана Игнатьевича в Одессе встречал Деремешко.
Часть вторая
Глава первая
По пятницам правоверные мусульмане не работают. Этот день они целиком посвящают молитвам. Торговать в этот день запрещает Коран. Этот порядок действует во всей Турции кроме разве что Галлиполи.
С тех самых пор, как на полуострове французы поселили русских солдат, в жизни местных жителей произошли некоторые перемены, главным образом в их извечном укладе.
По пятницам на Центральной площади городка стал собираться большой базар, куда съезжались жители окрестных сел. Они везли сюда все, что имело хоть какую-то цену. Особым спросом пользовались продукты питания. Здесь можно было купить картофель и лук, мясо и муку, фрукты, мед, различные восточные сладости, сушеные душистые травы и специи.
А какие здесь выстраивались рыбные ряды! Выловленная всего лишь несколько часов назад, рыба и всякая морская живность еще билась в лотках, переливалась на солнце всеми цветами, но главным образом серебром и золотом.
Небольшой, сонный по будним дням городок Галлиполи по пятницам становился шумным и многолюдным и приобретал слегка праздничный вид. В пестрой толпе торговцев, покупателей и просто ротозеев мелькали темнолицые зуавы и французские офицеры в одинаковых песочного цвета одеждах.
Русские солдаты появлялись здесь довольно поздно, после утреннего построения. Поначалу, едва ли не на рассвете, здесь бродили всего лишь несколько человек, которых в виде поощрения офицеры отпускали в увольнение. Самовольщиков строго наказывали.
Но с каждым базарным днем русских солдат становилось все больше. Они тайно уходили сюда из лагеря не ради веселых приключений, а всего лишь для того, чтобы хоть чем-то отовариться и что-то принести к обеду товарищам: десяток картофелин, пшеничную лепешку или пару рыбешек.
В базарной толпе звучала турецкая, румынская, греческая, болгарская, французская и наряду с русской почти забытая в России, но словно расконсервированная здесь стародавняя русская речь.
Степенные бородатые мужики в стеганых домотканых бешметах и кафтанах, стоя в телегах, груженных свежей рыбой, переговариваясь между собой, делились свежими новостями:
– Як живете-можете, некрасовцы?
– А пошто нам? Живем, хлеб жуем, табак не пьем и в ус не дуем!
– Чутка была, ваший дьякон Иван Игнатьич в Москву подалси-от?
– Слава те Господи, возвернувся. Токмо, подався ен в Москву Иваном Игнатичем, а возвернувся отцом Иоанном. Гумагу свяченую од самого патриарха Тихона привез. И чеботы хромовы, одежку шелкову, хрест золоченый.
– Ну, и як ен? Подступный?
– А як узнаш. Доньдеже требы не правил. А так чудеса про Рассею баить. Царя, сказыват, в Рассее скинули.
– Как жа енто без царя? Хучь бы для порядку. Коню, и то кучер нужон. А Рассея – во-она кака! Без царя не обойдется. Хучь какой самый плохонькой царишко, а нужон!
– Бяда, бяда! Як же ж мы двести годов без царя живем!
– А Салтан? Той же самый царь, токмо шо турок.
– Я Салтану не молюсь. И без царя дондеже обходився. Я, почитай, двести годов сам себе царь.
– Пуста твоя башка. И слова твои – глупство!
– Спасибочки! Встренулись.
Бородатые парни в длиннополых армяках и замысловатых картузах время от времени подходили к своим возам, зачерпывали бадейками рыбу и несли к весам, а там румянолицые молодицы в расшитых овчинных тулупах и шерстяных приталенных свитках отвешивали ее покупателям, принимали деньги. С турками говорили по-турецки, с болгарами – на их родном болгарском, с греками – по-гречески.
Даже в России, в самой Богом забытой глубинке, уже не встретишь таких женщин и мужчин. А здесь, в Турции, сохранились, законсервировались. Спасли от забвения все извечно российское: и язык, и одежду, веками сложившийся образ жизни и вольнолюбивые нравы.
После утреннего построения Андрей Лагода наскоро перехватил вареной рыбы с хлебом, запил студеной водой. Торопился. Вечером ему рассказали, что едва ли не до полудня возле вахты стоял местный парень, из «некрасовцев», и всех проходящих мимо солдат спрашивал, не знает ли кто Лагоду. Все же нашелся один, который жил с ним в одной палатке.
– А зачем тебе Лагода? – спросил он.
– Родня, бают, мы с им. Мой прадед с хутора Татарского, и тоже Лагода. Повидать ба! Все ж какой-никакой, а родич.
– Где ж его счас отыщешь! Приходи вечером.
– Не сумею. Вы передайте, завтра я на базаре буду его выглядать.
Это было не в диковинку. Время от времени возле вахты появлялись люди, разыскивающие своих родственников. Все помнили недавний случай, когда мать отыскала здесь сына и генерал Кутепов разрешил несчастной одинокой женщине увезти его с собой во Францию. И еще: князь Рылеев нашел в лагере двух своих сыновей и с разрешения Кутепова остался здесь с ними.
Лагода понял: его ищут, приглашают выйти на связь. Родственник с хутора Татарского – может быть, это пароль? Но, похоже, Менжинский называл другой хутор, кажется Томашевский. Но кто же он, этот разыскивающий его человек? Стал выспрашивать, как он выглядит? Сказали: парень как парень. Высокий, худощавый, загорелый – никаких особых примет. Верно, одет по-чудному. Так одеваются живущие в Турции русские. Но это тоже ничего Андрею не говорило. Догадаться, кто его разыскивает, он так и не смог. Оставалось только надеяться, что разыщут его. А для этого надо в каждый базарный день отпрашиваться в увольнительную. Что само по себе может навлечь на него подозрения. Но иного выхода не было.
Базар был в разгаре, когда на нем появился Лагода. В не слишком густой базарной толпе он время от времени замечал фланирующих среди людей русских солдат, но ему не знакомых. Здоровались взмахами рук и расходились.
Андрей всматривался в проходящих мимо него людей, выискивая в толпе молодых, деревенских, загорелых. Иных примет у него не было. Деревенские парни в основном толпились в рыбных рядах, возле своих телег. Он несколько раз прошелся мимо лузгающих семечки парней и бойких молодиц, сидящих на деревянных бадейках.
Дело близилось к полудню, народу на базаре все убывало. Побродив по базару еще с полчаса, Андрей стал постепенно сомневаться в пароле. Хутор Татарский большой. Может, кто-то и в самом деле разыскивает таким способом свою родню. Мало ли какие совпадения в жизни случаются. Могли бы придумать что-то помудреннее. А то ходишь дурак дураком по базару, кого-то ищешь, а кого – и сам не знаешь. Бред какой-то! Может, уйти?
Но ведь был же тогда, давно, разговор с Менжинским о пароле? Не придумал же он все это? Только хутор какой-то другой назывался. Не Татарский. Напряг память, вспомнил: Томашевский. В конце концов, это можно еще было бы как-то понять. Но при чем здесь парень-«некрасовец»? Его он никак не мог привязать к этой «легенде».
Превозмогая легкий страх, Андрей все же решил еще немного походить по пустеющему базару и при этом зорко наблюдал за всем. Его больше всего привлекали почему-то рыбные ряды. Может, потому, что там в основном торговали российские крестьяне, которых называли «некрасовцами». А возможно, потому, что сам когда-то рыбачил и любил море, воду и степенных несуетных рыбаков. Они внушали ему какое-то спокойствие и доверие.
Проходя по рядам, он всматривался в блестящие на солнце серебряные слитки. Последним в этом ряду, чуть на отшибе, стоял возле своей рыбы дедок в старой домотканой одежде.
– Гляди, сынок! Рыба на любой вкус: сардина, скумбрия, горбыль.
Андрей коротко глянул на него, что-то знакомое привиделось в этом старике: фигура ли, голос? Да нет! Просто почудилось! Он искал глазами другого, а этого старца он лишь на мгновение удостоил своим вниманием.
– Такая не только здесь. Где она только не ловится. В Черном море, к примеру.
Голос! Да, и он показался Андрею знакомым. Даже не голос, а та мягкая украинская округлость в букве «Г» и едва заметная хрипотца, подозрительно ненастоящая. Не старческая, а «под старческую».
И все же ни облик, ни сам владелец знакомого голоса не приходили на память. Вероятно, случайность. Совпадение. Но с чьим голосом?
Андрей тронулся дальше.
– Напрасно уходите. Мне бы с вами хотелось малость о Феодосии потолковать.
«Феодосия»? Ну, конечно же! Вот откуда знаком ему этот голос! Семен Алексеевич Красильников! Это он! Но при чем тут парень-«некрасовец»? Впрочем, какое это имеет теперь значение?
Пристально всматриваясь в стоящего неподалеку от него человека, Андрей с удивлением обнаружил, какие поразительные превращения могут сотворить с человеком одежда, облысевшая заячья шапка и неухоженная небритость.
– Ну и ну! – только и вымолвил Андрей.
Красильников подошел к Андрею, взял его за руку, отвел в сторонку, где стояли уже опустевшие телеги и кони доедали припасенное для них сено.
– Признал все же, – скупо улыбнулся Красильников.
– Не понимаю я эти ваши игры, – облегченно вздохнул Андрей. – Я и товарищу Менжинскому тогда сказал: не по мне это.
– Это – наживное, – успокоил его Красильников.
– А зачем тогда пароль? К чему эти детские игры? Увидели бы – окликнули.
– А как бы я смог вытащить тебя сюда из лагеря. В ваш лагерь мне не с руки. Глядишь, могу на кого-то из знакомых напороться. Их там у меня немало.
– У меня тоже не всегда сердце на месте, тоже ведь и тут и там служил..
– У тебя все просто: в плен до большевиков попал, но сумел сбежать.
– Под этой легендой и живу, – сказал Андрей. – Что хочу вас еще спросить. Вы, случаем, пароль не перепутали? Мы с Менжинским о хуторе Томашевском договаривались.
– Я-то не перепутал. Это напарник мой. Он местный. Я послал его тебя из лагеря выманить. Ну он и сморозил насчет Татарского.
Они стояли посреди уже затихающего базара, разговаривали. Их обтекали люди, как вода камень. И ничего не было необычного в этой встрече двух людей: может, знакомые встретились, может, продавец с покупателем торгуются.
– Теперь – о деле, – уже строже, по-деловому сказал Красильников. – Слушай меня внимательно. Подойдешь вон к той пустой телеге, сегодня я на ней хозяйную. Сзади из-под сена вытащишь два пакета с листовками. Сунешь за пазуху, должно поместятся. Я на себе примерял. Старайся все делать незаметно. Стреляй глазами по сторонам, но не торопливо, вроде как базаром любуешься. Как их в лагере раскидать, подумай. И после затаись. Обязательно будут искать, кто мог в лагерь листовки принести. Всех, кого в городе видели, через сито просеют.
– Это я понимаю.
– Мало понимать, надо не вызывать подозрение.
– Постараюсь
– Уж, пожалуйста, постарайся, – едва заметно улыбнулся Красильников. – Но не перестарайся. Это тоже грозит теми же последствиями.
Красильников незаметно посмотрел по сторонам:
– Сходи, забери листовки
Андрей сделал все, как велел Красильников. И все же, разместив пакеты с листовками под мышками, почувствовал себя неуклюжим и толстым. Понял, что наблюдательный человек это может заметить, а то и поинтересоваться припрятанной ношей. Заподозрят, что несет в лагерь что-то съестное. Солдаты возвращались с базара, как правило, с какой-то добычей, тщательно ее скрывать было не принято.
Немного поразмыслив, Андрей потуже затянул поясной ремень и переложил один пакет за спину, а второй так и оставил под мышкой левой руки. Если руку держать в кармане, то и вовсе никто ни о чем не догадается.
После всех этих процедур он снова вернулся к Красильникову. Тот критически оглядел его, удовлетворенно сказал:
– Вроде нормально, – и затем спросил: – Кормят вас французы как?
– Заботятся, что б ненароком не растолстели, – усмехнулся Андрей.
– Мог бы дать тебе рыбы, сколько унесешь. Но подумал: не стоит. Такое богатство от голодных людей не скроешь. По рыбе и вычислят, что ты тоже бываешь на базаре. Ничего опасного, но под подозрение уже попадешь. Даже если ты удачливый, все равно работать станет труднее, – Красильников немного помолчал, словно вспоминая, какие еще советы и предостережения он может дать своему малоопытному товарищу, но спросил затем о другом: – А скажи мне еще вот о чем: какие-либо связи у вас с лагерем в Чаталдже есть?
– Не слыхал. Начальство в Константинополь ездит, может, и в Чаталджу наведывается.
– Припрячь где-нибудь в укромном месте сотню-другую листовок. Вдруг возникнет какая-нибудь оказия забросить их в Чаталджу.
– Скорее в Бизерту, если постараться, – с легкими сомнениями сказал Андрей. – У нас иногда останавливаются суда, идущие в Бизерту или же, наоборот, в Константинополь. Зачастую там наша команда. Надо будет постараться с кем-то из наших морячков дружбу завести.
– Это бы хорошо. Только вдруг не с тем задружишься?
– Согласен. Риск есть. В лагере больше двадцати тысяч человек. И у каждого два глаза и два уха. Но я не сказал: сделаю. Я сказал: постараюсь.
– Н-да, – сокрушенно вздохнул Красильников. – С Москвы все по-иному видится. Кажется, главное – достичь Галлиполи, а там оно – как комару ногу оторвать. А выходит, что в Галлиполи все только начинается.
Они какое-то время еще постояли, поговорили о погоде в Турции, о зиме, что уже на лето повернула, о том, что Врангель собирался весною выступить против Советской России.
– Ты вот что: смотри в оба. Когда станут готовиться к походу, мимо твоих глаз это не пройдет. Сразу же дай знать, – Красильников указал вдаль, где почти у самого выхода из базара высился небольшой, похожий на высокую и нескладную собачью будку стационарный кирпичный ларек. – Обрати внимание: вон в той будке сапожник сидит. С утра и до вечера, каждый день. Нужен буду, скажи ему, что хочешь меня видеть. На следующий день выходи на набережную. Не сумеешь, к вечеру я появлюсь возле вахты у вашего лагеря.
– Запомнил, – кивнул Лагода.
– Ну что ж! – решительно сказал Красильников. – Вот и все наше с тобой свидание. Готов бы и день с тобою говорить, да… – он развел руками.
– Скажите хоть, что там у нас? – попросил Лагода.
– Там? – он чуть задумался, улыбнулся. – Там – хорошо. Там – оркестры… Все наши приветы тебе передавали. И Кольцов, и Гольдман, и Бушкин… все-все…
– Мне-то долго здесь? – с грустью спросил Андрей.
– Не думаю. Если до лета они не выступят, то к осени дома будешь, – и, вспомнив что-то, Красильников сказал: – Твоих там, в этой твоей Голой Пристани, известили. Они знают, что ты живой, здоровый, находишься в командировке.
– Не сказали, что у белых? – осторожно спросил Лагода. – А то потом не отмоешься
– Этого ты не опасайся. За это тебе, может, орден на грудь! – успокоил Лагоду Красильников.
– Очень уж домой охота, – вздохнул Андрей. – Силов никаких нету.
Глава вторая
План ухода армии из Галлиполи сохранялся в тайне. О нем знали только те немногие, кто присутствовал на первом совещании. К ним добавилось еще какое-то количество офицеров, которые принимали участие в подробной разработке будущего маршрута.
Мысль об авантюрном овладении Константинополем держали в уме только те немногие, кто присутствовал на самом первом совещании. Это был бы красивый и отчаянный шаг, который годился бы лишь для того, чтобы громко, на всю Европу заявить о неисполнении французами своих союзнических обязательств и попытках раздробить, обезоружить и ликвидировать Российскую армию. Что было бы потом, никто предсказать не мог. Поэтому ориентировались все же на вполне разумный и не столь эпатажный план – уходить в Болгарию.
Генерал Штейфон вскоре связался с высокопоставленными чиновниками Сербии и Болгарии и получил обещание принять у себя Русскую армию.
Поскольку маршрут пролегал через греческую территорию, Штейфон вскоре заручился также поддержкой греческих военных властей, которые пообещали, что окажут Русской армии всяческое содействие при ее передвижении по греческой территории. Греки брали на себя снабжение армии продовольствием, перевязочными материалами и опытными проводниками.
Тем временем несколько штабных офицеров были заняты рекогносцировкой будущего пути, определяли время продвижения и места привалов. Заранее намечали подразделения, которые примут на себя авангардную разведку в пути и арьергардное охранение войска.
По всем прикидкам, самым опасным для армии местом при ее уходе будет Беллайирский перешеек, соединявший полуостров Галлиполи с материком. Это было самое узкое место и, как ни странно, самое неизученное. Дорога, по которой должны были пройти войска, пролегала неподалеку от берега, возле которого денно и нощно дежурили французские военные корабли – канонерка или миноносец.
Чтобы подготовить войска к внезапному выступлению и вместе с тем усыпить бдительность французов, было решено провести несколько маневров. Кроме того, Кутепов хотел проверить, насколько корпус после нескольких месяцев лагерного существования все еще дисциплинирован, управляем и мобилен.
Первый раз решили устроить не ночные маневры, а всего лишь смотр каждого подразделения по отдельности – без боевой выкладки, но с коротким строевым маршем. Начинать решили в два часа ночи с расположенного на окраине города Александровского военного училища, которое уже здесь, в Галлиполи, было переименовано в Александровское имени генерала Алексеева военное училище.
Но непредвиденный случай сорвал этот план.
Вечером генерал Витковский пришел к Кутепову и сказал:
– Я только что велел генералу Курбатову отменить ночной смотр.
– В чем дело? – спросил Кутепов. Он знал: Витковский не сделал бы этого, не посоветовавшись с ним, если бы на то не было бы веских причин.
– Умер поручик Савицкий. Надобно похоронить его со всеми воинскими почестями. В нашем положении это важно прежде всего для живых.
– Да, конечно, – согласился Кутепов. – Надо проводить его достойно.
– Я отдал необходимые распоряжения, – сказал Витковский. Однако Кутепов заметил, что он не собирается уходить.
– Что-то еще? – спросил он.
– По этому же поводу: хочу с вами посоветоваться.
– Да, слушаю.
– Мы здесь, в Галлиполи, похоронили уже двадцать семь солдат и офицеров. Местные власти согласны навечно уступить нам часть территории кладбища. Этот кусочек турецкой земли навсегда останется русским.
– Да-да, все это хорошо! – нетерпеливо сказал Кутепов. Он знал медлительность Витковского, его манеру даже о самом пустячном деле докладывать, оснащая свой рассказ массой ненужных подробностей. – Но в чем суть ваших сомнений?
– Подпоручик Акатьев, имеющий наклонности к рисованию, обратился ко мне с предложением установить на кладбище памятник, дабы увековечить память всех почивших на этой чужой земле россиян, – Витковский развернул перед Кутеповым лист ватмана. – Вот его проект. Взгляните, Александр Павлович. Лично мне эта задумка очень по душе.
Кутепов долго рассматривал нарисованный на бумаге остроконечный каменный холм.
– Что сие означает? Что вас так привлекает в этом рисунке? – холодно спросил Кутепов.
– Мысль, Александр Павлович. Сия горка – некое подобие скифского кургана. Такие рукотворные курганы они воздвигали на местах великих битв, под которыми были погребены воины. Ведь если взглянуть на нашу историю, то она восходит к самым древним нашим предкам – воинственным хлеборобам-скифам. И здесь, на земле, где мы сейчас находимся, тоже полегло немало наших пращуров, в том числе и недавние наши предки – казаки-запорожцы, умершие в турецком плену, и славяне, с боями пробивавшие себе путь «из варяг в греки».
– Ну, допустим, что вы с подпоручиком Акатьевым меня убедили. И как это будет осуществлено практически?
– Подпоручик предлагает воскресить обычай седой старины, когда каждый выживший в кровавой сече воин приносил в своем шлеме землю на могилу своих павших товарищей. И вырастал высокий курган. Так же предлагается поступить и в нашем случае. Пусть каждый воин принесет сюда хоть один камень, и здесь поднимется каменный холм. Он будет виден всем, кто будет проплывать по проливу.
Кутепов стал снова рассматривать рисунок и, как всегда в минуты раздумья, барабанил пальцами по столу.
– Груда камней. И все? Чего-то здесь еще недостает, чтобы это стало памятником. Какой-то мелочи, детали.
– У нас тоже возникло подобное ощущение, – сказал Витковский.
– «У нас» – это у кого?
– Прежде чем посоветоваться с вами, я этот рисунок показал кое-кому из генералов. Одобряют. А генерал Туркул тоже сказал, что замысел хороший, но бедновато выглядит. Он предложил вмуровать в этот курган большую мраморную доску, на которой поместить соответствующую надпись. Причем на нескольких языках: прежде всего на русском, а также турецком, французском и греческом.
– Ну вот! Это уже ближе к желаемому, – согласился Кутепов. – Надпись-то придумали?
– Вчерне. Набросок, – Витковский извлек из кармана мундира вчетверо сложенный листок, развернул его: – Тоже генерал Туркул предложил.
– Знаю, балуется пером. Даже что-то читал. Не граф Толстой, но все же… Читайте!
– «Упокой, Господи, души усопших! Первый корпус Русской армии своим братьям-воинам, в борьбе за Честь Родины, нашедшим вечный покой на чужбине в 1920—21 годах».
– Это все?
– А что можно еще сказать? – смутился Витковский и после некоторых размышлений сказал: – А может, вместо «Упокой, Господи, души усопших» написать: «Мертвые сраму не имут»? Мне кажется, это было бы больше к месту.
– Сам выдумал? Или Туркул?
– Киевский князь Святослав Игоревич почти тысячу лет назад сказал своим ратникам перед битвой с византийцами.
– Скажи, что знаешь! – удивился Кутепов.
– Историю в гимназии очень любил, – с доброй улыбкой вспомнил свои юные годы Витковский. – Да и в военном училище мне тоже на хороших историков-преподавателей повезло.
– Ну-ну, расскажи, – заинтересовался Кутепов.
– Византийцев была тьма-тьмущая, князь почувствовал: одной силой их не одолеть, нужна еще отчаянная храбрость. Вот он перед боем и сказал: «Да не посрамим землю русскую, поляжем костьми, мертвые бо сраму не имут!»
– Что, так и сказал?
– У Нестора в летописи так записано. А битва состоялась неподалеку от городка Доростола, нынешняя Силистрия. И досюда когда-то интересы России простирались. И до Стамбула. Было время, Царьградом звался, в центре города знаменитый православный храм Святой Софии построили. И сейчас, как вы заметили, он по-прежнему стоит, только на куполе вместо православного креста чужой турецкий полумесяц.
– Про эту битву с византийцами я в училище тоже слыхал. Но Нестор тут что-то напутал. Не мог князь Святослав так сказать, – не согласился с Витковским Кутепов. – Получается, если ты пал на ратном поле, тебе нет срама. А если ты храбро дрался и не победил, но остался живым, то тебе в награду срам и позор? Не по-христиански это, да и не по-людски.
– Но так у Нестора.
– Я думаю, князь Святослав примерно так сказал: «Не токмо мертвые, но и живые, кто за свою землю бился, сраму не имут». Так было бы правильнее. А то что же получается? Поручик Савицкий помер – он срама избежал. А мы с тобой, да и все наши? Прошли через годы лихолетья, израненные, искалеченные, но живые – не по своей воле на чужбине оказались – нам срам и позор? Так, что ли?
Витковский промолчал.
– Кто не за «зипунами», не грабить ходил, а за свою землю, за свою правду бился, всем им честь и хвала, и живым, и тем, кто в боях сложил свои лихие головы. Так я понимаю, – продолжил Кутепов. – Конечно, и наших славных предков – запорожских казаков – следует упомянуть, коль их останки покоятся на здешнем кладбище. Но и те, кто остался живым, их славу приумножили.
– Ну, а как с большевиками? Я имею в виду не это кладбище, а в общем, исходя из нашего разговора? Они ведь тоже за свою правду воюют. Что, и им честь и слава? – отпарировал наконец Витковский.
– В этом и есть трагедия нашей смуты: каждый по-своему прав. Брат против брата, сын против отца – у каждого своя правда, – и, подумав немного, добавил: – Я бы так написал: «Не токмо мертвые, но и живые, кто за правду сражался, сраму не имут». Правда и верно у каждой стороны своя. Шкурной правды не бывает, потому что за нее слишком часто приходится платить жизнью.
– Тут я с вами согласен. Но мы ведь ищем слова, чтобы высечь их на граните кладбища. Хотелось бы увековечить память конкретно наших солдат, галлиполийцев.
– Найдем слова. У нас еще есть немного времени, – закончил разговор Кутепов.
Витковский что-то дописал на листке и положил его в карман мундира.
На следующий день хоронили поручика Савицкого. Гроб везли на лафете, в который были впряжены две небольшие гнедые лошадки, выменянные хозяйственниками у местных крестьян в окрестных селах. Сопровождал процессию духовой оркестр. После отпевания и завершения похорон протоиерей Миляновский оповестил всех, кто присутствовал на похоронах, о сооружении на кладбище памятника и попросил каждого галлиполийца принести сюда, в обозначенное место, хотя бы по одному камню.
Несколько находчивых солдат насобирали тут же, за оградой кладбища, по нескольку камней и, пока еще протоиерей не ушел в свою палатку, принесли их и высыпали прямо в самом центре отведенного участка.
– С почином вас, братья! – сказал протоиерей и, осенив крестным знамением первые камни будущего памятника, добавил: – Пусть оставленный нами здесь, у берегов Дарданелл, памятный холм на долгие годы, может быть на века, напоминает всем, посетившим эту скорбную юдоль, о почивших здесь русских героях.
Первыми в эту ночь, как намечалось еще до похорон Савицкого, подняли по тревоге александровцев. Почти голые курсанты грешными ангелами выскакивали из палаток и, придерживая в охапке свою одежду, мчались к тускло освещенному карбидными лампами плацу. Ухитрялись виртуозно, на ходу, одеваться. Сапоги натягивали уже в строю.
Но, когда на плац вышел начальник училища генерал-майор Курбатов, почти все курсанты уже четко выстроились и «ели глазами» начальство.
Курбатов неторопливо вынул из кармана мундира часы и, поглядывая на секундную стрелку, давал время последним полусонным курсантам добежать до строя и одновременно привести себя в порядок. Лишь после этого коротко сказал:
– Благодарю. Успели.
Внезапно на плац въехали несколько всадников во французской форме. В неверном холодном карбидном свете Курбатов рассмотрел гостей. Это был французский комендант Галлиполийского гарнизона подполковник Томассен, его переводчик и два сопровождающих их темнолицых зуава. Они спешились и стали удивленно рассматривать выстроившихся на плацу курсантов.
Видимо, кто-то уже успел сообщить русскому командованию о нежданных гостях, потому что почти сразу же за ними на плацу появились Кутепов, Витковский и еще несколько штабных офицеров, в том числе и переводчик командующего корпусом полковник Комаров.
После того как они поздоровались, подполковник Томассен недружественным тоном спросил:
– Нельзя ли узнать, что здесь происходит?
– А что вас интересует? – удивленно посмотрел на Томассена Кутепов.
– Мне доложили: у вас здесь какой-то шум, голоса. В городе тоже заметили каких-то солдат. Я подумал, у вас что-то случилось.
– Подполковник, вы не первый год в армии и, вероятно, знаете, что для поддержания дисциплины и боеспособности армии в ней иногда даже ночью проводятся учения, боевые тревоги, смотры. Вот такой ночной смотр мы и проводим сегодня.
– Во-первых, вы были обязаны известить об этом коменданта города, то есть меня.
– Ну, а во-вторых? – с легкой улыбкой спросил Кутепов.
– Я вас уже информировал о том, что мое руководство не считает вас больше армией. И, стало быть, вы не имеете права проводить на территории вверенного мне гарнизона какие бы то ни было учения или смотры, – все так же жестко произнес Томассен. Его взбесила улыбка Кутепова, но он попытался овладеть собой.
– Я тоже могу повторить то, что уже однажды вам сказал, – спокойно ответил Кутепов. – Что думает ваше командование о моей деятельности как командующего корпусом, меня мало интересует. Я подчиняюсь своему командованию. Генерал Врангель считает, что наша армия, как и любая другая, должна находиться в постоянной боевой готовности. Для этого я и провожу сегодня ночной смотр.
– Я все думаю, откуда у вас, русских, столько спеси, – сердито продолжил Томассен. – Проиграли войну, находитесь на чужой территории, причем, замечу: на чужом иждивении. Что дает вам право так себя вести?
– Достоинство, господин подполковник. Это то немногое, что у нас еще осталось и что пока мы никому не позволяем ни растоптать, ни предать забвению.
– О каком достоинстве вы говорите? Вы, кажется, собираетесь уйти? Но даже для этого вам придется просить у нас разрешение.
– О чем вы? – спросил Кутепов и подумал о том, что Томассен либо блефует, либо намерение россиян каким-то способом стало известно французам.
Впрочем, эта загадка тут же разрешилась.
– Болгарское правительство известило нас, что в ответ на вашу просьбу оно готово предоставить вам для временного пребывания свою территорию. Ну, уйдете. И что? Только продлите агонию. Воевать вы уже не сможете. Большевики с каждым днем становятся все сильнее. Забудьте о реванше! Они сметут вас еще там, на бывшей вашей границе.
Разговор был мерзкий, отвратительный. Но, к сожалению, и Кутепову самому иногда ночью приходило в голову нечто подобное. Но он тут же пытался отбросить подобные мысли прочь.
– Я так понимаю: мы с вами ни до чего не договоримся, – сухо сказал Томассен
– В таком тоне – никогда.
– Но зачем вам все это? – Томассен указал глазами на строй курсантов, которые не без интереса наблюдали за спорящими. Многие из курсантов в совершенстве знали французский и хорошо вникали в суть перебранки. – Вы воруете у них лучшие годы, вы воруете у них будущее. Молодость – это время, когда молодежь ищет и находит себя в этом мире. Вы отбираете у них эту возможность. И потом, эти лишения, холод, болезни. Эти палатки! Зачем им все это?
– В той стране, откуда мы ушли, у них не было бы будущего. Ради того, чтобы вернуть себе свою страну, в которой они смогут найти себя, они готовы переносить лишения.
– Вы их спросили?
– Бесспорно. Они думают так же, как и мы, их командиры. Мы вернемся в Россию и подарим им то будущее, какого они заслуживают.
– У вас обширные планы! – язвительно сказал Томассен.
– Сэ ля ви! Так, кажется, утешают себя французы?
Витковский с удовольствием слушал этот разговор. Он нравился ему не глубиной содержания, ни оригинальностью мыслей – обычная перепалка двух рассерженных мужчин. Он нравился Витковскому единственным: его продолжительностью. Он готов был бы слушать его до утра. Но, по его прикидкам, возможно, хватило бы еще часов двух-трех…
Едва только Томассен появился в лагере, Витковский предположил, что между Кутеповым и Томассеном на этот раз не обойдется без серьезного скандала. А скандал этот нужен был не Кутепову, а именно Витковскому, и он тут же отправил в город человек двадцать казаков с заданием: во что бы то ни стало извлечь из-под воды притопленное еще осенью в порту оружие. Оно уже довольно долго пролежало в соленой морской воде, и его надо было во что бы то ни стало достать и привести в порядок. Кто мог сказать, как сложатся дальнейшие отношения с французами, и, вполне возможно, россиянам придется внезапно покидать Галлиполи. Не оставлять же оружие под водой? Тем более что неизвестно, как в дальнейшем развернутся события, и оружие и боеприпасы им еще могут пригодиться.
Две прежние попытки извлечь оружие из воды окончились неудачей, помешали бдительные зуавы.
Витковский долго ждал этого дня, вернее этой ночи. И вот, она случилась. Томассен со своей командой находится в лагере. Ночи холодные, зуавы спрячутся в тепло и будут спать. У пирса не было судов. И – самое главное – по всем прогнозам, в эту ночь морской отлив будет на самом низком уровне. Под воду глубоко нырять не придется, возможно, удастся обойтись заранее заготовленными металлическими крючьями.
Поняв, что разговор Кутепова с Томассеном близится к концу и дело может сорваться, Витковскому нужно было во что бы то ни стало задержать французов здесь, в лагере.
– Господин подполковник, к чему все эти споры, если мы на них никак не можем повлиять? Вспомните, были ли у нас с вами до сегодняшнего дня серьезные причины для размолвок или ссор?
Кутепов удивленно покосился на Витковского.
Но Витковский, не обращая внимания на косые взгляды Кутепова, продолжал:
– Чтобы загладить эти горькие минуты недоразумений, мы все же рискуем пригласить вас присутствовать на нашем смотре. Это займет не более пары часов. А затем за поздним ужином или ранним завтраком вместе посмеемся над причинами наших ненужных недоразумений и мелких ссор.
По той упрямой настойчивости, с которой Витковский пытался удержать Томассена в лагере, Кутепов не сразу, но понял, что вся эта сладкая речь затеяна Витковским неспроста. И, в конце концов, тоже бросился ему на помощь:
– Да-да, за рюмкой чего-нибудь обсудим причины наших разногласий и, возможно, то, что мы сейчас считаем пропастью, всего лишь канавка, которую легко переступить.
– Да, так часто бывает, – сказал Томассен и посмотрел на своих спутников. Они были явно не против рюмки «чего-нибудь». Томассен и сам не понаслышке знал о русском гостеприимстве, но для приличия слегка посомневался:
– Ночь без сна. А завтра такой тяжелый день, – и решительно сказал: – Разве что… в порядке обмена опытом.
Картина была достойна кисти Айвазовского. Под холодным светом луны, задравшей кверху рога, несколько раздетых до кальсон казаков попеременно бултыхались в холодной воде Пролива. Из воды выскакивали пробками, держа канаты в зубах. Передав канат в руки «бурлаков», как называли себя казаки, которые вытаскивали тяжелые тюки из воды, купальщик бежал переодеваться в сухое.
Работа у казаков была нелегкая. Без шума и плеска, ежесекундно с опаской наблюдая за комендатурой, они извлекали затопленное здесь поздней осенью оружие: несколько тысяч винтовок, больше десятка станковых пулеметов, коробки с патронами. Потопили от отчаяния: не хотели отдавать французам, а вынести с кораблей не смогли. За количеством всего вынесенного на берег французы строго следили.
И тогда какой-то умелец придумал хитроумный план и был Кутеповым и Витковским одобрен. Все лишнее оружие, которое по мирному договору россияне должны были сдать французам, они упаковали в связки и ночью опустили в море, под днища кораблей. А чтобы их можно было извлечь из морских глубин, к каждой связке привязали доски-поплавки. Расчет был такой, что даже в самый низкий отлив доски не всплывут на поверхность воды.
А дальше все просто. В любую ночь во время отлива заранее заготовленными крючьями «ловить» поплавки и затем подтаскивать тюки к берегу.
На рассвете подхорунжий Бойко подошел к палатке Витковского. За парусиновой стеной отчетливо слышались русские и французские голоса.
Подхорунжий спросил у прогуливающегося возле палатки денщика Витковского:
– Кто там, у генерала?
– Французы.
– Как думаешь, скоро кончится?
– Думаю, вечером. Дуже суръезне совещание. Вже до третьей Четверти приступылы. Видать, ще одну осылять.
– Чего так думаешь?
– А шо, сам не слышишь? Ще не спивають.
– Ну, сходи, вызови хозяина.
– Не велено.
– А ты ему на ушко. Скажешь, мол, Бойко пришел. Намекнешь: веселый
– Смотри, земеля! Осерчае, всех собак на тебя спущу.
– Иди, иди!
Из палатки тут же вышел Витковский. Вопросительно взглянул на подхорунжего.
– Все тип-топ, Владимир Константинович! – сказал Бойко.
– Молодцы!
– Эта валюта сегодня не в цене, ваше превосходительство. Может, чего согревающего пропишете? – и, чтобы окончательно уговорить Витковского, Бойко обстоятельно доложил: – Насилу до лагеря доперли. Две ходки пришлось делать. Мужики приблизительно подсчитали: тонн восемь железа. В арсенале сложили. Пущай сутки протряхнет, потом почистим, по новой смажем.
– Значит, так, – размышляя, сказал Витковский. – Сбегай до хозяйственников. Скажешь: я велел бутылку налить.
– У меня шо то со слухом, Владимир Константинович. Сколько?
– Бутылку.
– На двадцать две души?
– Души не пьют. Сколько надо?
– Для разминки чи окончательно?
– Если для разминки, то сколько?
– Давайте так: я отвернусь, а вы считайте. Если по стакану, это двадцать два стакана. Так? Калабуху за одного человека не считайте. Калабуха за раз ведро борща съедает. Считайте, ему для разминки четыре стакана надо. И Грицьку Грубе тоже не меньше четырех.
– Ну, так сколько?
– Вы ж считалы… Не, давайте по-другому! А то шо может получиться. Вы нам для разминки, а нам, не приведи Господи, захочется окончательно. А до вас то командующий в гости, то Кутепов. И шо получится? Недопитие. А это ж така страшна болесть. Один раз меня прихватила. Ну-й и помучився!
– Короче, что ты хочешь?
– Лично я – ничого. А хлопцы, чуете, кашляют. Три часа в холодной воде. До утра половина вымрет. Так шо вы вже не скупитесь. Отлейте два ведра, и пойду спасать. Может, хто и выживет.
Витковский подумал и сказал:
– Иди до хозяйственников, скажешь от моего имени: пусть выдадут вам премию: четыре фунта сала, четыре паляницы хлеба и нальют бутылку…
– Побойтесь Бога! Две! – возопила душа Бойко.
– …и нальют четверть, – поправил сам себя Витковский. Он любил казаков.
Хозяйственники еще спали. Подхорунжий разбудил каптенармуса:
– Выдь для разговора!
– Поговорим днем! Дай сон доглядеть! – взмолился каптенармус.
– Выйди! Не то счас генерал придет. Я от него.
– Какой генерал? У нас много генералов.
– Витковский Владимир Константинович.
Каптенармус накинул шинель, вышел из палатки.
– Не дал, басурман, сон доглядеть. Баба снилась.
– Не намиловался, пока мирно было?
– Дак чужая!.. Говори, чего тебе.
– Велено четверть налить.
– Ну, ты даешь! Четверть! Может, четвертинку?
– Не веришь? Сходи спытай.
– Так вы весь наш «энзэ» в три дня зничтожите! – сердито сказал каптенармус.
– Не жадься! Не для питья, а токмо для здоровья души и тела, – повеселел Бойко.
– Кони воды меньше пьют! – пробормотал себе под нос каптенармус. – Посуду прихватил?
– В ведро отольешь! Не бойсь, верну. Если на какой-сь литр в нашу пользу случайно ошибешься, не зобидимся.
Каптенармус скрылся в палатке, должно быть, одевался. Потом прозвенел ключами и вышел.
– Идем со мной. До складов!
Он пошел впереди, Бойко чуть отстал, но торопливо поспевал за каптенармусом, радуясь хорошему началу дня.
Во время застолья, на которое были вынужденно приглашены французы, Томассен улыбался, шутил, но пил в меру и старался избегать раздражающих хозяев высказываний. Он был верным слугой своих господ и добросовестно выполнял все то, что ему предписали.
Пару раз Витковский осторожно, как бы невзначай, попытался выяснить, почему французское командование так изменило в худшую сторону отношение к Русской армии? Какие силы влияют на это?
Но Томассен либо отшучивался, либо переводил разговор в другую, более нейтральную плоскость: о русских женщинах, о варьете на Монмартре – обо всем, что никак не сопрягалось с нынешним пребыванием Русской армии в Галлиполи.
Проводив гостей пением «Марсельезы», Кутепов из всего их «братания» сделал однозначный вывод: отношения с французами вряд ли улучшатся, скорее наоборот, поэтому следует не расхолаживаться, а продолжать готовиться к уходу из Галлиполи. Рано или поздно французы станут более энергично вмешиваться в их дела, применяя для укрощения их строптивости любые средства, и в первую очередь уменьшение продовольственной помощи, которая и так была довольно скудной.
Витковский же смотром остался доволен: ему удалось обвести Томассена вокруг пальца и вернуть армии фактически потерянное оружие. Если случится самое худшее, что вполне возможно, и им придется внезапно покидать Галлиполи, они уйдут, как и подобает солдатам, во всеоружии, способными достойно постоять за себя, а не как изгнанники, беженцы.
– Как вы думаете, не пришло ли время обо всем доложить Петру Николаевичу? – спросил Витковский у Кутепова, обсуждая проведенное совместное с французами застолье. – Вдруг Врангель не одобрит всю эту нашу самодеятельность насчет ухода?
– Уходить надо красиво, так, чтобы вся Европа поняла, что французы просто подло предали нас. Но мы пока еще не готовы.
– Почему вы так думаете?
– Французы не дураки, – продолжил Кутепов. – На протяжении всего нашего пребывания здесь они внимательно следили за всеми нашими телодвижениями и, как мы убедились, посвящены в наши планы.
– Ну, и что вас беспокоит?
– Многое. В частности, Балайирский перешеек.
Кутепов разложил перед своими генералами карту и указал на самую узкую часть Галлиполийского полуострова, соединяющую его с Фракией, иначе говоря, с Европой.
– Здесь предстоит нам пройти. Но кто мне скажет, какие опасности подстерегают нас здесь? Ну ладно, здесь мы еще как-то сами разберемся. А дальше? Там ведь тоже далеко не все мы знаем в деталях. А, как известно, дьявол кроется именно в мелочах.
И все промолчали.
Глава третья
В самом деле, постепенно накопилось много вопросов, на которые никто из них не мог, да и не имел права самостоятельно ответить, а тем более решить, кроме самого Верховного главнокомандующего. Вся затея с дерзким уходом из Галлиполи грела их, но поддержать или запретить ее мог только Врангель.
Но Врангель был далеко, и решать какие-либо вопросы по рации или по телеграфу было неразумно, опасно, к тому же категорически запрещалось кроме разве что различных бытовых вопросов, в них, естественно, были посвящены французы, но они их нисколько не интересовали. Никто не был уверен, что все переговоры со штабом армии не прослушиваются и тут же доводятся до французской администрации. Во всяком случае, иногда вдруг выяснялось: о чем бы французам не следовало знать, они знали. И никак не удавалось выяснить, виновата в этом связь по рации или телеграфу или же в штабе уже успел завестись французский осведомитель.
Время терпело. Даже если бы Верховный согласился на уход из Турции, к этому надо было корпус хорошо подготовить. Сама мысль перебазироваться куда-то в Болгарию или Словению, где армию окружили бы сочувствием, пониманием и братской заботой, грела всех, кто принимал участие в разработке этого плана. Теперь только надо было его изложить Верховному и получить одобрение.
Кутепов не исключал, что Петр Николаевич может не поддержать их порыв. Впрочем, не только Кутепов, но и многие другие генералы, особенно штабные, заметили, что после поражения в Крыму Верховный очень изменился: его покинули решительность, дерзость и безрассудная отвага, чем он всегда отличался, когда служил под командованием Деникина. Собственно, не исключено, что во многом за эти прежние свойства его характера 22 марта прошлого года на Военном совете его избрали главнокомандующим Вооруженными силами Юга России, практически передав ему всю полноту власти над огромной частью российской территории.
Кутепов верил, что сумеет уговорить Врангеля уйти из Турции, потому что к тому же это был единственный способ приумножить армейские ряды: часть российских войск была рассеяна по другим странам. Они объединились там в монархические организации. Довольно мощные такие организации находились в Чехо-Словакии, Греции, Сербии, Польше, Германии и во Франции. Но как поведут они, согласятся ли войти в состав Русской армии Врангеля? Об этом сейчас не стоит говорить с Петром Николаевичем. Лучше потом. Находясь, к примеру, в Болгарии, с этими организациями станет удобнее взаимодействовать. Это, вероятно, хорошо понимает и сам Верховный.
Собравшись с мыслями, Кутепов внезапно отправился в Константинополь. Благо подвернулся попутный транспорт «Лазаревъ», который по договору уже принадлежал Франции, но его все еще пока обслуживал русский экипаж.
Несмотря на раннее время, Врангель уже находился в штабе армии. Адъютант Верховного Михаил Уваров встретил его радушно.
– Приятная неожиданность, – здороваясь, сказал он.
– В наше время неожиданности редко бывают приятными, – мрачно ответил Кутепов.
– В таком случае вы, вероятно, забыли, что мы – в Турции…
Кутепов удивленно взглянул на Уварова.
– Ну, как же! По местным обычаям, гонцам с плохими вестями султаны рубили головы, – широко улыбаясь, пояснил Уваров.
– Ну и шуточки у вас, полковник, – брезгливо поморщился Кутепов и деловито спросил: – На входе мне сказали, что Петр Николаевич уже у себя?
– С шести утра. У него бессонница, – и со вздохом Уваров добавил: – У меня, соответственно, тоже… Сейчас доложу.
Врангель вышел навстречу Кутепову в приемную и, приобняв его за талию, повел в кабинет. Не оборачиваясь, велел Уварову:
– Пожалуйста, Михаил, кофе, чай и что-нибудь на завтрак.
Усадив Кутепова в кресло напротив себя и внимательно его рассматривая, он сказал:
– И не виделись-то всего ничего, а почернел, похудел. Не сладко живется на выселках?
– Французы донимают, Петр Николаевич. Едва не каждый день какой-нибудь новый сюрприз.
– Ну, докладывай!
И Кутепов стал неторопливо и обстоятельно рассказывать о своей последней встрече с французским комендантом Галлиполи подполковником Томассеном, о том, что русскую армию французы больше не считают воинским подразделением и намерены перевести ее в состав беженцев. Объясняет это тем, что по всем международным законам воинское образование, которое не представляет конкретную страну, не является армией.
Закончив свой рассказ о встрече с Томассеном, Кутепов продолжил:
– Мы там у себя обдумали это унижающее нас и нашу армию предупреждение и решили, не ожидая, когда нас станут выживать, а то и силой выгонять, нанести некоторые упреждающие действия. О чем хочу доложить вам и выслушать ваше решение, – Кутепов решительно встал: – Позвольте подойти к карте.
До сих пор Врангель, не прерывая, слушал Кутепова. Но после того, как Кутепов пожелал подойти к карте, он остановил его:
– Пока не продолжайте, – и нажал кнопку звонка.
Дверь в кабинет тотчас открылась, и на пороге встал Уваров. Он пропустил в кабинет вестового с подносом, на котором стояли кофейник и чайник, чашки, и, накрытая салфеткой, возвышалась на тарелке горка круассанов.
Вестовой покинул кабинет, а ожидающего дальнейших распоряжений Уварова Врангель попросил:
– Пожалуйста, Михаил Андреевич, разыщите Шатилова, пусть зайдет ко мне.
Спустя минуту Уваров вновь появился в двери кабинета:
– Ваше превосходительство, Шатилов в городе, через полчаса вернется в штаб, и в тот же час зайдет к вам.
– Ну, что ж, подождем, – вздохнул Врангель. Он поднялся из-за стола и стал расхаживать по кабинету. – То, что вы, Александр Павлович, сейчас сообщили, для меня не новость. Может, в более деликатной форме французы намекали мне на это. По моему размышлению, скорее всего, это там, в Париже, ищут вариант, как избавиться от нас. В самом деле, зачем мы теперь им? Свое они получили: я имею в виду наш российский флот, и не только. Однако на окончательное решение они пока не решаются, боятся международного скандала.
Подойдя к столу, где стоял утренний завтрак, он предложил Кутепову:
– Присаживайтесь к столу. Вот кофе, вот чай. Я с утра предпочитаю кофе.
– Я тоже, – согласился Кутепов. – Прочищает мозги.
За завтраком Врангель продолжил:
– Ну, вот! Я тогда сказал французам, что у нас существует договор, подписанный не только Францией, но и Англией, и ликвидировать Русскую армию французам так просто не удастся. И все их намеки, даже если они идут с самых верхов, – это обычная самодеятельность, которая никакими документами, ничем, кроме слов, не подкреплена. Подчиняться этим намекам мы не намерены и не будем. Попутно я предпринял кое-какие шаги. Но это строго между нами.
– Я понимаю, – согласился Кутепов.
– Вероятно, и для вас не секрет, что наша Русская армия, ее задачи и цели пользуются значительной поддержкой эмигрантских кругов, но также и частью населения Болгарии, Сербии, отчасти Румынии, Венгрии и Польши. Если допустить, что мы уйдем в Болгарию, то только наша организованная сила может увеличиться на сто тридцать-сто пятьдесят тысяч человек, из них – около пятидесяти тысяч офицеров.
Слушая Врангеля, Кутепов подумал: как хорошо, что нелегкая не дернула его за язык и он не изложил Врангелю свои размышления по этому же поводу. Он все это уже давно вычислил. А начальство не очень любит держать возле себя таких же умных и прозорливых подчиненных, как и оно само. Оно должно быть уверено, что его подчиненные на ступеньку, а то и на две по интеллекту ниже. По многолетним наблюдениям, Кутепов знал, что Врангель из их числа. Не зря он тут же, в Турции, сразу избавился от Слащева, одного из самых блестящих генералов, который нередко вступал с Верховным в жестокие словесные перепалки. И не только от Слащева. А такие генералы и офицеры были бы очень нужны сейчас армии.
– По моей просьбе генерал Шатилов встречался с королевичем Александром и заручился его всемерной поддержкой, – продолжил Врангель. – Словом, все это – та сила, которая уже сегодня поддерживает нас в нашем стремлении продолжить борьбу с большевиками. И ее не так просто сбросить со счетов. Наше пребывание в Турции – это всего лишь передышка перед предстоящими действиями. Если же судьбе будет угодно, мы покинем Турцию и уйдем в Болгарию или в Сербию и там продолжим нашу подготовку к весеннему походу.
– Удивительное совпадение, – решил польстить Врангелю Кутепов. – Разрабатывая свой план, мы опирались почти на все те факты, о которых вы сейчас сообщили. То есть наш план как бы увязывает ваши размышления с нашей практикой.
– Что ж, интересно, – тусклым голосом промолвил Врангель. Ему показалось, что Кутепов несколько уничижительно отозвался о его размышлениях и пытается возвысить в его глазах свои практические наработки. – Но я хочу, чтобы вас выслушал и генерал Шатилов. Он точнее оценит ваши мысли, поскольку знает всю подноготную наших связей с поддерживающими нас странами.
Вскоре появился и начальник штаба армии генерал Шатилов.
– Присаживайтесь, Павел Николаевич! Если не возражаете, немного посовещаемся. Вот Александр Павлович прибыл с интересными размышлениями, – и Врангель попросил Кутепова: – Повторите вкратце все то, что вы мне уже рассказали.
Кутепов коротко повторил и вновь предложил пройти к карте. Там он продолжил:
– Мысль такая: из Галлиполи за неимением флота мы пешим строем уйдем с полуострова и, соединившись с нашими войсками, расквартированными в Каталджи, уходим в Болгарию.
– Вот так сразу? Завтра? – насмешливо спросил Шатилов.
– Зачем же сразу? Подготовимся к походу. Если французы не прекратят свой шантаж, а они уже урезали нам продовольственное снабжение, мы не должны молчать и покажем, что их угрозы нам не страшны. Больше того, возникло авантюрное, но вместе с тем совершенно выполнимое предложение. Суть его в следующем: соединившись с нашими подразделениями из Каталджи, мы широко распространим слух, что уходим в Болгарию. Французов это будет устраивать. А мы тем временем делаем короткий бросок и занимаем Константинополь.
Врангель слушал внимательно, но вместе с тем с легкой скептической улыбкой, словно бы ему рассказывают детскую сказку.
– Ну, допускаю: взяли Константинополь, – сказал он. – И что дальше?
– Дальше? Мы положим его к ногам Мустафы Кемаля, который давно мечтает овладеть Оттаманской столицей. И, таким образом, мы получаем в его лице мощного союзника. Неужели он не поможет нам в борьбе с большевиками?
– Нет, не поможет, – твердо сказал Шатилов. – По моим сведениям, он уже давно заигрывает с большевиками. Кажется, даже заключил что-то вроде мирного договора.
– Ну, что ж! Обойдемся без Константинополя. Хотя и жалко: уж очень красивый завиток получился бы при нашем уходе из Турции. Весь мир бы об этом заговорил, – легко согласился Кутепов. – Но остальной план? Уходить из Турции все равно придется. Раньше или позднее. Лучше раньше.
Наступила длительная пауза. Затем Шатилов взял из рук Кутепова указку:
– План ваш, бесспорно, имеет некоторый смысл. И его следует иметь в виду на самый крайний случай. Мы не знаем, как будут развиваться дальнейшие события, и, вполне возможно, он смог бы нам пригодиться, – сказал Шатилов и повторил: – Мог бы пригодиться, если бы не одно «но», – и он ткнул указкой на карте в самое узкое место Галлиполийского полуострова: – Это вот Балайирский перешеек шириной метров пятнадцать-двадцать. Вам, вероятно, известно, что там постоянно дежурит миноносец. И, конечно, понимаете, зачем он там?
Это было самое больное место и при их обсуждении ухода с полуострова. Кутепов знал, зачем там миноносец, но ответа, как преодолеть без потерь Балайирский перешеек, у него пока не было.
– Там сейчас один миноносец, но через час, едва тронетесь из лагеря, их появятся там два или три, – продолжал Шатилов. – И они разнесут весь ваш корпус в самое короткое время. И все. И конец забавам!
– Этот вопрос тоже решаемый, – не согласился Кутепов. – Я почти уверен, что и эту задачку мы вскоре сумеем решить.
– Вот когда решите… – неопределенно сказал Шатилов.
– Это не разговор. Как перейти через Балайирский перешеек без потерь, над этим мы думаем. Еще день-два, еще неделя, и мы с этим разберемся. Если, конечно, вы не выбросите наш замысел на мусорник, – Кутепов говорил твердо, настойчиво. – В противном случае предложите нам какой-либо другой, с вашей точки зрения, более безопасный! – и он перевел свой взгляд с Шатилова на Врангеля.
– Ну, что вы так раскипятились, Александр Павлович! – тихо и миролюбиво сказал Врангель. – Кто сейчас может предсказать, как сложатся дальнейшие события? Может, французы вывезут нас кораблями? Может, они не станут препятствовать нашему уходу. Но ваш план как запасной, резервный для самого крайнего случая надо держать в голове. Естественно, существенно доработав его и, что главное, решив вопрос безопасного прохода через Балайирский перешеек. Всяко в жизни бывает, вдруг пригодится.
Врангель отошел от карты и уселся за своим рабочим столом, считая разговор о плане Кутепова законченным. Расселись вокруг главнокомандующего и Кутепов с Шатиловым.
– И вот еще что! Не слишком ли много страху нагнал на вас этот…э-э…Томассен? Ну, шантажировал. В давние годы на Руси за это морду валенком били, всего-то, – продолжил размышлять Врангель о новостях, привезенных с полуострова Кутеповым.
– А если это не шантаж? – спросил Кутепов. – Продовольственное снабжение-то урезали. Это же факт. И это, несомненно, санкционировано сверху.
– «Шантаж – не шантаж». Я бы тоже хотел это доподлинно знать. Зная намерения французов, мы могли бы более основательно обсуждать и этот ваш план. Конечно, опуская авантюрные предложения вроде захвата Константинополя.
– Я тоже об этом же подумал, – сказал Шатилов. – Мне почему-то кажется, что это попытка выяснить, как мы будем реагировать. И не идет ли это с самых высоких правительственных кругов? Хорошо бы послать кого-то в Париж: выяснить, чем они там, наверху, дышат?
– Не возражаю, – согласился Врангель. – Мог бы Котляревский. У него там хорошие связи. Но, к сожалению, он болен и, похоже, надолго. Не далее чем вчера мне об этом сообщил главный врач французского военного госпиталя. Котляревский лежит у них.
– А если вашего адъютанта Михаила Андреевича? – спросил Шатилов. – Он у меня несколько раз спрашивал, не намечается ли поездка в Париж. Мне кажется, у него там помимо некоторых деловых связей есть еще и сердечные дела.
– Вы думаете? – удивился Врангель.
– А что ж тут такого! Молодой, красивый, уже полковник, и все еще не женат, – сказал Шатилов. – А время бежит. И я думаю, его сердце не только одной войной занято.
– Пожалуй, – Врангель задумчиво побарабанил пальцами по столу и затем нажал кнопку звонка.
Уваров почти тотчас встал в двери.
– Пройдите сюда, Михаил Андреевич, – пригласил его Врангель и усадил в свободное кресло. Михаил понял: за этим последует какое-то серьезное поручение.
– Скажите, Михаил Андреевич, если я попрошу вас съездить в Париж, это никак не повлияет на ваши ближайшие планы?
– Если это необходимо, я готов, – охотно отозвался Михаил Уваров. Он не слышал, что сказал Шатилов о его сердечных делах, и, мгновенно согласившись, выдал себя с головой.
Все трое заулыбались. Михаил не понял, почему они улыбаются, покраснел.
– Я что-то не так сказал? – смущенно спросил он.
– Нет-нет, именно так, – сказал Врангель. – Я мог бы послать в Париж Котляревского, он там хорошо прижился и как рыба в воде легко плавает среди высшего чиновничьего люда. Но он болен. А вы, как мне известно, тоже имеете определенный пиетет в тех же кругах. Это важно, потому что надо неприметно, ненавязчиво выведать у французов их ближайшие виды на нашу армию. Понимаете, нас интересует не их точка зрения, уже оформленная различными договорами. Мы их знаем. Иными словам, нам необходимо знать их настроение, выяснить, на какой почве произрастают запугивания французами перевести нашу армию в беженцы, урезать, а потом и лишить армию продовольственной помощи. Что это? Отголоски прежних настроений определенной части французского общества или же намечающийся новый поворот, пока еще не скрепленный печатями президентом Мильераном и премьер-министром Аристидом Брианом?
– Но договор? Разве это не гарантия? – удивился Михаил Уваров.
– Договора пишут на обычной бумаге. Ее можно порвать, сжечь, скомкать и выбросить в урну. Они действуют до тех пор, пока написанное в них соответствует взглядам и желаниям властей, а также влиятельному большинству общества. В противном случае в договор можно заворачивать селедку, – и, немного помолчав, Врангель добавил: – Нам необходимо хотя бы приблизительно знать, какие документы о нашей армии подпишет в ближайшем будущем президент Мильеран. Все подробные инструкции вам даст Павел Николаевич, – он указал взглядом на Шатилова. – И еще. Навестите в госпитале Котляревского, его советы вам тоже окажутся не лишними.
Глава четвертая
Не зря в давние времена художники один из оттенков синего назвали парижской лазурью. Даже в самые хмурые зимние дни Париж был подернут легкой, едва ощутимой голубизной и от этого выглядел чуть более нарядным, праздничным. Или эта праздничность лишь показалась Михаилу Уварову после неопрятной сероватой белизны Оттоманской столицы.
Где-то вдали от столицы Франции на вопрос: «Как там Париж» парижане неизменно отвечают «Париж всегда Париж». Михаилу Уварову в последнее время несколько раз доводилось приезжать сюда по делам – и летом, и зимой, – и Париж не претерпевал никаких видимых изменений. На улицах спокойное, безмятежное многолюдье. Никто никуда не торопится, на лицах улыбки, звучит смех. Совсем другой мир, где совершенно забыто или ему даже неведомо, что такое война. Париж и в самом деле никак не меняется. Он всегда все тот же веселый, беспечный, неунывающий Париж.
День клонился к вечеру, учреждения закончили свою работу, на фабриках и заводах – пересменка, рабочие и чиновники вливались в людской поток и, весело обмениваясь новостями, направлялись домой.
Уваров понял, что в этот день он уже тоже ничего не сможет сделать, нигде его не примут, не побеседуют. Да и ему самому после утомительной дороги в «Восточном экспрессе» хотелось хоть на время забыть обо всем, о предстоящей здесь работе, тем более что она была весьма неопределенной. Он знал, что должен привезти ответы на вопросы: что означают все эти запугивания распустить Русскую армию и перевести ее в разряд беженцев, откуда это идет, кто отдал приказ отобрать оружие, сократить поставки продовольствия? Все это лишь блеф, шантаж французской администрации в Стамбуле или же такие планы вызревают у французского правительства?
Даже Котляревский, который немало времени провел в правительственных коридорах, не смог ему подсказать, как подступиться к выполнению этого задания. Получалось, как в сказке: «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что».
Выйдя с Восточного вокзала, Михаил перешел через привокзальную площадь, вышел к Страсбургскому бульвару и в густом потоке пешеходов, иногда останавливаясь возле ласкающих взгляд нарядных витрин магазинов, спустился вниз, к знаменитой Риволи. Ее всегда преимущественно заполняли туристы. Вместе с ними он перешел через Сену и вскоре оказался возле знакомого собора Парижской Богоматери – чуда французской готики. Сооруженный без малого тысячу лет назад, он и до сих пор поражал своей величественной красотой.
Ночевал он в одной из маленьких уютных домашних гостиниц, которые здесь встречаются едва ли не на каждом шагу.
Утром он отправился в российское консульство, чтобы отметиться о своем пребывании в Париже и оформить обратные выездные документы.
Посетителей в эту раннюю пору в консульстве еще почти не было, в одной небольшой комнате, куда он заглянул, сидели трое консульских работников, и среди них и тот, с которым Михаил хотел увидеться прежде всего, потому что знал его по совместной службе у генерала Ковалевского. С недавних пор Николай Григорьевич Щукин по семейным обстоятельствам вышел в отставку и теперь занимал здесь должность одного из консульских служащих. На его дельные советы Михаил особенно рассчитывал. К тому же он надеялся осторожно выведать у него о парижской жизни его дочери Тани, в которую был давно и не очень тайно влюблен. По крайней мере парижская эмиграция была посвящена в этот секрет и полагала, что Михаил Уваров – достойная партия дочери Щукина. Но посвящен ли в эту тайну вечно занятый различными делами бывший начальник контрразведки Щукин, Уваров не знал, равно как не знал, с чего начинать с Николаем Григорьевичем разговор о его дочери. Хотя Щукин всегда относился к нему не так официально, как к остальным посетителям, – Михаил это чувствовал во время каждой их встречи.
Едва увидев Михаила, Николай Григорьевич и в этот раз обрадовался его появлению в Париже, крепко пожал руку и тут же увел в коридор, который еще пустовал, и у них была возможность поговорить без свидетелей.
За то короткое время, что они не виделись, Щукин почти нисколько не изменился, разве что под его черными глазами пролегла легкая синева, отчего его взгляд стал менее строгим и колючим, и его цивильная одежда тоже прибавила ему мягкости. А возможно, это сказывался возраст? Замечено: большинство людей от груза пережитых жизненных хлопот с годами становятся добрее.
– Ну, рассказывайте, как там у вас? Что? Как Петр Николаевич? Какие настроения? С чем приехали? – засыпал Щукин вопросами Михаила.
Михаил коротко рассказал ему обо всем. И, лишь закончив, спросил:
– Вы-то как здесь? Много работы? Не обижают французы?
– У нас в консульстве работы выше крыши. Народ все прибывает. Кто-то сумел бежать, кого-то большевики выслали, как людей им не нужных. Даже ученых с мировым именем, крупных инженеров. Полный абсурд. И нам надо каждого как-то здесь легализировать, помочь получить хотя бы право на проживание. Впрочем, этот контингент у нас больших хлопот не вызывает: ученых, инженеров тут же разбирают французские фирмы. Хуже было, когда основным потоком беженцев были военные: тяжело с трудоустройством. Но и те как-то устраивались: кто в таксисты, кто в охрану. Знавшие язык, те лучше устроились. Сейчас едут писатели, музыканты, артисты, ну и еще разные фабриканты, заводчики, предприниматели. Эти легко вписываются во французскую жизнь. Труднее с деятелями культуры. Хлопот с ними, конечно, хватает, но и они постепенно находят свои ниши и становятся для нас все менее обременительными.
Закончив свой рассказ, Щукин, еще раз взглянув на Уварова, заметил:
– А вы возмужали. Уже язык не повернется называть вас Микки.
– Отчего же, вам можно. Родители и сейчас меня так называют. Мне даже нравится.
– Нет-нет, вы уже не Микки. И полковничьи погоны вам очень к лицу, – и с легкой завистью Щукин добавил: – Я до полковничьих погон бессчетное количество военных дорог протоптал. А вы – на автомобиле. Быстрее. Нет-нет, я не полковничьим погонам завидую. Вашей молодости.
– Спасибо на добром слове. Но я все еще не ощущаю себя так уж сильно возмужавшим. И погоны, боюсь, мне все еще не придают солидности. Хотя я и пытаюсь изо всех сил быть солиднее: должность обязывает, – после этого Михаил спросил: – Скажите, а как живет наше посольство?
– Тревожно, – одним словом ответил Щукин и потом объяснил: – Французы потихоньку начинают его игнорировать. В правительственных кругах идут постоянные переговоры с большевистскими делегациями. Нашего посла Маклакова на эти переговоры не приглашают, в суть обсуждаемых вопросов не посвящают.
– Но просачиваются же какие-то слухи? – спросил Михаил.
– А что такое слухи? Вода на ветру: ветер стих, и волна успокоилась. Сегодня говорят одно, завтра – другое. Определенности никакой. Знаю одно: большевики настаивают, чтобы сменить весь посольский и консульский состав сотрудников и открыть новое, уже советское посольство. Французы им ответили, что для этого должна назреть такая необходимость, то есть прежде всего заключен мирный договор. А его нет, и пока не предвидится. На эту тему даже слухов никаких нет.
– А какие слухи ходят по поводу пребывания нашей армии в Турции? – задал тот самый важный для себя вопрос Михаил. Собственно, ради этого и послал его в Париж Врангель.
– Разные. Особых слухов нет. Существует договор о помощи Францией Русской армии. Когда заговорят о нем, тогда поплывут различные слухи. Если же его денонсируют, тогда станет ясно, что французы отказываются помогать Русской армии. Пока же о денонсации в высших кругах речь не идет. Поэтому и особых слухов нет. Вернее, они есть, но выслушивать их, а тем более обращать на них внимание – дело пустое.
И тогда Михаил подробно рассказал Щукину о цели своего приезда: о шантаже французами наших воинских подразделений, разбросанных по глухим окраинам Турции, об угрозе отобрать оружие, перевести всех военных в разряд беженцев, прекратить продовольственное снабжение.
Немного помолчав, Щукин сказал:
– Вы назвали это точным словом: шантаж. Здесь подобных разговоров я не слышал. Но, вполне возможно, они прошли мимо меня. Тут вам придется немного походить по правительственным коридорам. Ни президент Мильеран, ни премьер Бриан вас конечно же не примут. Но даже, если бы и приняли, ничего они бы вам не сказали. Политика варится в темной кухне, зажигают свет лишь тогда, когда все готово. А вот в правительственных коридорах что-то из области слухов вы узнаете много разного. Но правды там будет крайне мало или не будет совсем.
Больше Уваров задерживать Щукина не стал. Тем более что в консульство уже стали подходить посетители, Щукин направлял их то в один, то в другой кабинет. Но Михаил почувствовал, что уже пришло время и Щукину приниматься за работу.
Провожая Михаила, Щукин спросил:
– Ну, недельку-то пробудете в Париже?
– Не знаю, – ответил Михаил. – Петр Николаевич просил не задерживаться.
– А я не сумею так быстро оформить вам выездные документы.
Михаил так и не понял, пошутил или серьезно сказал это Щукин, и поэтому коротко обронил:
– Неприлично задерживаться. Это как во время боев – засиживаться в тылу.
Пожимая Михаилу руку, Щукин как бы между прочим сказал:
– Я полагаю, у вас все же найдется свободное время. Не соблаговолите ли как-нибудь однажды навестить Таню. Скрасьте ее одиночество. Она будет рада.
– Я изо всех сил постараюсь. Да-да, я непременно ее навещу.
И уже когда Михаил покинул помещение и по лесенке спустился на улицу, звякнул дверной колокольчик и на пороге вновь встал Николай Григорьевич:
– Совсем упустил. Примите один дельный совет. Вы, верно, слышали о Павле Николаевиче Милюкове? – с верхней площадки спросил Щукин.
– Припоминаю. Кажется, во Временном правительстве был министром иностранных дел? – стоя внизу, на улице, ответил ему Михаил.
– Ну, это так, проходное, – отмахнулся Щукин от этих слов Михаила. – Но он – блестящий историк, политолог, публицист. Он только недавно вернулся из Англии и сейчас находится здесь, в Париже. Рекомендую встретиться с ним. Он вам многое прояснит. А эти правительственные клерки ничего умного вам не откроют. У них профессия такая: быть дураками. Скажешь умное слово, и тот, который выше тебя, подумает, что ты умнее. И завтра ты уже на улице. У них там все по Дарвину – естественный отбор. Умных туда не берут. Поговорите с ними хотя бы для того, чтобы убедиться в этом.
– Спасибо за добрые советы.
И с этим они расстались.
Вечером Щукин пораньше ушел со службы: спешил порадовать Таню, что в Париж снова приехал Микки Уваров (для Тани он по-прежнему оставался Микки) и в ближайшие дни обещал ее навестить.
Щукин догадывался, что у Тани с Микки сложились определенные отношения. Совсем недавно он заметил, что Таня стала носить непривычную для нее одежду: широкую, не облегающую талию, и до его сознания дошло, что дочь находится в интересном положении, и ждал. Ждал, когда однажды Уваров попросит руки его дочери. А еще он ждал, что Таня сама пойдет с ним на откровенный разговор. Он начинать его не хотел, но понимал, что и Тане пойти на такие откровения с отцом очень нелегко. Щукин же боялся, что своим неуклюжим мужским разговором он разрушит те добрые доверительные отношения, которые сложились у них давно, вскоре после смерти матери. В Париже Таня редко выходила в свет и большей частью находилась в одиночестве, и эти их отношения только еще больше укрепились.
– У меня для тебя очень хорошая новость, – едва войдя в квартиру, еще с порога сказал он.
– Письмо или какие-то вести от Вяземских? – попыталась угадать Таня.
Вяземские после отъезда из Турции Щукиных тоже вскоре оказались в Париже, и их дочери почти все время проводили с Таней: либо сидели у нее в гостях, либо они все вместе гуляли по Парижу. Но больше всего Таня дружила со своей сверстницей Анютой – старшей из трех дочерей Вяземских. Но уже вскоре после их переезда в Париж Анюта вышла замуж за какого-то высокопоставленного итальянского чиновника. Свадьба была шумной, бестолковой, с большим количеством итальянских гостей, и речь за столами в основном звучала итальянская, которую никто из немногих присутствующих русских не понимал.
Вскоре после свадьбы Анюта с мужем уехала куда-то в Италию, кажется, в Милан, остальные Вяземские тоже здесь долго не задержались и вскоре переехали в Лондон. С тех пор Таня осталась в Париже в полном одиночестве.
– Нет, не угадала. Это не вести от Вяземских, – сказал Николай Григорьевич.
– Ну, не томи, пожалуйста! Тогда что же? – почти вскрикнула Таня.
– Что ты волнуешься? Я же сказал: хорошая для тебя новость. В Париж по своим служебным делам снова приехал Микки Уваров и обещал в ближайшие дни навестить тебя.
– Микки? – угасшим голосом переспросила Таня.
– Да. Он уже полковник! Ты увидишь, как ему идут полковничьи погоны! Гусар!
Таня не приняла этот торжественный тон отца и спокойным, будничным тоном сказала:
– Но он, кажется, и был полковником, когда последний раз навещал меня.
– Нет. Всего лишь капитаном, – поправил Таню Николай Григорьевич и, поняв, что его сообщение не произвело на дочь никакого впечатления, спросил: – Вы что же, перессорились?
– Нет, почему же? У нас с ним милые дружеские отношения.
– Только и всего?
– Разве этого не достаточно?
Щукин понял, что Таня не собирается открывать ему свою тайну, и решился.
– Танька! – так иногда называл Таню отец в порыве дружеского расположения. – Не пора ли нам поговорить откровенно и начистоту. Или ты думаешь, что я ничего не замечаю? Нет, мне далеко не безразлично, как ты живешь и чем ты живешь.
– Я хотела. Я много раз собиралась. Но не хотела тебя расстраивать. Даже не так: я боялась, – решительно, но сбивчиво заговорила Таня. – Да, у меня будет ребенок. Поначалу я боялась, что ты начнешь меня отговаривать. А сейчас… сейчас уже поздно, он уже есть. Он подает признаки жизни и, вероятно, очень ждет своего появления на свет. Ты это хотел от меня услышать?
– Я догадывался. А потом, позже, я уже знал, – сказал Щукин. – Но почему он не пришел ко мне и, как всякий порядочный человек, не попросил у меня…как это…твоей руки? Или благословения? Так поступают в нормальном человеческом обществе. Даже если рушится мир, если война, эти законы никто не отменял. Даже сегодня. Я думал, он отважится. А он? «Полковник!».
– Ты напрасно гневаешься на Микки, папа. Это не он.
– Не он? – сраженный этой новостью, Николай Григорьевич опустился в кресло. Когда-то, в совсем недавние времена, он вершил судьбами тысяч людей, а тут рушилась судьба одного-единственного родного ему человека, а он был слеп. Он шел по ложному следу. – Что, это и в самом деле не Уваров?
– Нет, папа.
– Ну, хорошо. Я верю тебе. Но я не могу допустить мысль, что твой избранник – какой-то проходимец. В таком случае почему он до сих пор не пришел ко мне? Ну, случилось! Но разве он не понимает, что пойдут суды-пересуды, сплетни. Он губит не только твою, но и мою репутацию.
Он говорил и в то же время понимал, что это не те слова. Но иных слов он сейчас не находил. Все то хорошее, связанное с его дочерью, которое он слишком долго рисовал в своем воображении, в одночасье рухнуло. Он готов был ко многому, к тому, что все может произойти не совсем так, как ему хотелось, но оправдывал это войной, которая вторглась в их размеренную, спокойную жизнь. Он допускал, что может произойти какой-то сбой, и случится все не совсем так, как мечталось. Но главное обязательно сбудется: у Тани будет красивая свадьба, будет муж, дети и будет его тихая старость в кругу близких ему людей.
– И все же, кто он? – спросил наконец Николай Григорьевич.
– Его нет, папа.
– Как это – «нет»? Он погиб?
– Возможно. Я не знаю. Да и в этом ли сейчас дело? Будет ребенок. Мой ребенок.
– Наш ребенок, – поправил Таню отец.
– Надеюсь, ты полюбишь его так же, как всю жизнь любил меня и маму.
– В этом ты можешь не сомневаться, – тихо сказал Щукин, размышляя о чем-то своем. И затем сказал: – Я только хотел бы знать, он погиб в бою? Он был достойным офицером? Это важно, потому что и я, и ты – мы должны им гордиться. И твой ребенок… наш ребенок… для него это тоже когда-то будет иметь значение, кто был его отец.
– Давай оставим этот разговор, у меня заболело сердце, – взмолилась Таня. – Придет время, и я все тебе о нем расскажу, и ты, и наш будущий ребенок, не сомневаюсь, будете им гордиться.
Пережив этот тяжелый разговор, Таня долго не могла уснуть. Она слышала: даже заполночь отец не ложился спать. Он ходил взад-вперед по узкой кухоньке и время от времени открывал и закрывал оконную форточку. Таня поняла: отец, много лет не куривший, снова закурил.
Два дня у Михаила Уварова ушло на то, чтобы получить аудиенцию одного из чиновников секретариата премьер-министра. Ришар Ромбер был советником Аристида Бриана и занимался русскими вопросами. Уже не молодой лысоватый человек, с пожеванным лицом, в роговых очках с увеличительными стеклами, делавшими глаза большими, совиными, встретил Михаила в бюро пропусков и провел в свой небольшой кабинет. Усадив Михаила в кресло, сам сел напротив. За его спиной висела карта Российской империи, Турции на ней не было. Получалось, что разговор о судьбе Русской армии будет умозрительным.
– Итак, позвольте узнать, что привело вас ко мне? – спросил господин Ромбер на русском языке, который с его грассированием был больше похож на французский. – Коротко доложите суть вашего вопроса.
– Коротко не получится, – сказал Микки и тут же успокоил месье Ромбера: – Но я постараюсь.
И Уваров рассказал Ромберу о причинах столкновений русского генерала Кутепова с комендантом французской администрации полуострова Галлиполи подполковником Томассеном. Французский подполковник потребовал разоружения русского армейского корпуса и перевода его в статус беженцев. Он же без всякого предупреждения уменьшил продуктовое довольствие, и солдаты и офицеры вынуждены ловить в проливе рыбу, чтобы несколько улучшить свое питание.
– Я, полковник Уваров, послан сюда Верховным главнокомандующим Российской армией генералом Врангелем для того, чтобы получить официальные ответы на несколько вопросов, – строго и официально отрекомендовался Михаил Уваров. – Генерал Врангель хотел бы знать, на каком основании все это происходит? В договоре, который заключен между Францией и Российской армией, такие санкции не прописаны и не могут выполняться в одностороннем порядке, по чьей-то прихоти.
– «Прихоти»? Означает «желанию»? – спросил Ромбер.
– Если хотите, можно и так. Но менее вежливо, – согласился Уваров и продолжил: – Если французским правительством весь этот шантаж не санкционирован соответствующими документами, подполковник Томассен должен быть наказан, вплоть до увольнения. Если же какое-то официальное решение по этому поводу уже возникло, российская сторона должна была бы заблаговременно поставлена о нем в известность. Не так ли, господин Ромбер?
Уваров умолк.
– И это все? – с некоторым удивлением спросил Ромбер.
– А разве этого мало? – в свою очередь, задал вопрос Уваров.
– Для решения таких вопросов достаточно телеграфа.
– Досадная ошибка. Но генерал Врангель не знал, что такие важные вопросы в вашем ведомстве так просто решаются, и поэтому снарядил меня сюда, будем считать, в качестве телеграфа, – с легкой иронией сказал Уваров. Он уже понял, что господин Ромбер – старый, испытанный во многих политических передрягах бюрократ и ждать от него откровенного разговора вряд ли стоит. И все же сказал: – Продиктуйте мне вразумительный ответ.
– Вра-зу-мительный? Это надо понимать: разумный? – спросил Ромбер.
– Нет, это означает: четкий, ясный, определенный. Ну, и желательно, чтобы он был разумный.
– Спасибо. Ваш язык богаче французского, у вас больше тонких нюансов, – похвалил русский язык Ромбер и затем с готовностью сказал: – Я готов дать вам вра-зу-мительный ответ.
– Заранее благодарю вас.
– Существует договор, он не денонсирован, – Ромбер тут же поправился: – Это не русское слово. По-русски оно будет означать «не отменен». Так вот в самом деле он не отменен. Это все, что я могу вам сказать.
– Ну, в таком случае, быть может, вы мне подскажете, почему подполковник Томассен и другие официальные лица французской администрации в Турции позволяют себе так грубо шантажировать командование Русской армии?
– Вероятно, подполковник Томассен так неудачно пошутил, – объяснил Ромбер.
– Остальные тоже шутили?
– А почему нет? Мы, французы, очень любим юмор. Мы очень много шутим, случается, неудачно, но никто ни на кого не обижается. Знаете, мы очень веселая нация. Не в пример нам, вы всегда мрачные, суровые.
– Война сделала нас такими, – сказал Уваров. – Быть может, вы дадите мне документ? Ну, что все, что произошло, было шуткой. На тот случай, если господин Томассен или кто-либо еще снова вздумает так пошутить.
– А вы, я смотрю, тоже веселый человек, – похвалил Ромбер Уварова. – Как, к примеру, должен выглядеть такой документ? «Считать шутку подполковника Томассена действительно шуткой?»
– Ну, и должность, подпись, – подсказал Уваров.
– Такие глупости я не имею права подписывать. Даже в шутку, – перешел на сухой деловой тон Ромбер.
– А вам и не надо. При чем тут вы? Шутка-то тяжелая, нешуточная. Государственного масштаба шутка, – веселясь в душе, отчитывал Ромбера Уваров. – И подпись под документом тоже должна быть весомой, скажем, премьер-министра Аристида Бриана.
– Что вы! Что вы! – лицо Ромбера побелело. – Это, знаете ли… это оскорбление…
– Это шутка, месье Ромбер. Поверьте, мы, русские, тоже любим шутить. И умеем шутить, – Уваров тоже перешел на деловой тон. – Надеюсь, у господина Томассена мы тоже не останемся в долгу. И на этом давайте закончим насчет шуток. Теперь по делу. Это все, что вы хотели мне сказать по поводу вопросов, поставленных не мною, а Главнокомандующим Русской армией генералом Врангелем?
– Да, это мой официальный ответ. Наш договор с Русской армией о помощи остается в силе и не подвергается никаким изменениям. Это, пожалуй, все, что я могу вам сказать. Был очень рад с вами познакомиться. Благодарю за визит.
– Пожалуйста. Но я ждал, что вы тоже зададите мне один-единственный вопрос, который задаете всем посетителям, – глядя в совиные глаза Ромбера, сказал Уваров.
– Какой же? – удивился Ромбер.
– Вопрос вежливости: доволен ли я вашими ответами? Сразу скажу вам: нет.
– Ничего иного вам никто не скажет. В своих ответах я руководствуюсь принятыми правительственными решениями. О вашей Русской армии – нигде ни слова. Значит, все остается, как было. И радуйтесь этому. Еще раз благодарю вас за визит. И до свидания.
Месье Ромбер молча проводил Уварова до выхода. Уже стоя в двери, он еще раз подчеркнуто попрощался:
– До нового свидания!
– Нет-нет! Хватит одного! – торопливо сказал Уваров. – Поэтому прощайте!
Выйдя на улицу, он полной грудью вдохнул в себя свежий сыроватый зимний парижский воздух.
Не удовлетворенный беседой с месье Ромбером, Уваров попытался получить внятные ответы в сердце всей политической жизни страны: в секретариате президента Франции Мильерана. Встретиться с Мильераном он и не пытался, его статус не позволял этого. С помощью российского посла Маклакова Михаилу Уварову назначил встречу один из самых ценимых Мильераном спичрайтеров Бернар Котти. В недавнем прошлом он был главным редактором очень влиятельной газеты, которая в основном держалась на его острых политических статьях. Когда же Котти перешел на службу к Мильерану, газета быстро захирела и затем незаметно отдала богу душу.
Коттар встретил Уварова во дворе президентской резиденции. Высокий стройный рыжеволосый красавец в безупречном зимнем пальто на распашку, но без головного убора, он одиноко стоял посредине большого двора и курил сигару.
Выйдя из бюро пропусков, Уваров сразу же увидел стоящего в клубах сигарного дыма Коттара. Тот пошел ему навстречу.
– Здравствуйте, полковник Уваров.
– Здравствуйте, месье Коттар. В относительно давние времена, совсем юношей, я увлекался вашими статьями. Мне казалось, что нет на свете более смелого человека. Я представлял вас в виде Овода Войнич. Вы и в самом деле очень на него похожи.
– Спасибо за такую кучу комплиментов. Отвечу тем же. В свое время я брал интервью у вашего батюшки Андрея Николаевича. Замечательный старик: веселый, остроумный и великолепный полемист. Ему палец в рот не клади, так, кажется, у вас говорят о людях, которые умеют побрить словом, – Коттар взглянул на Михаила и, обдав его сигарным дымом, сказал: – Полагаю, все эти качества ваш батюшка по наследству передал вам.
– Надеюсь.
– Родители все еще в Лондоне? При первой же возможности передайте им от меня привет.
– Спасибо. Непременно передам. Они будут рады, – ответил Михаил. Коттар все больше и больше ему нравился.
– А вы, как я узнал, пребываете в Турции?
– Да, вместе с Российской армией.
– Я разговаривал с месье Ромбером, которого вы позавчера навестили. Он изложил мне причину вашего приезда.
– Тем лучше. Мне не нужно будет повторяться.
– Извините, что я не приглашаю вас к себе в кабинет. Во-первых, надеюсь, наш разговор не будет носить официальный характер, а во-вторых: я так много времени провожу в различных помещениях, что пользуюсь хоть малейшей возможностью побыть на свежем воздухе. Тем более что я искренне хотел бы дать самые исчерпывающие ответы на те вопросы, которые вы задали месье Ромберу и ответы которого вас не удовлетворили. Собственно, вопрос у вас один: имеют ли под собой политическую почву те притеснения, которые чинит вам время от времени французская администрация в Турции? Я правильно понял?
– Да, генерала Врангеля интересуют не только причины этого, но также от кого конкретно французы в Турции получают такие указания? – более точно сформулировал свои вопросы Уваров и затем добавил: – Армия готовится к новым сражениям. А за спиной главнокомандующего что-то происходит, в воздухе витает запах предательства, и это мешает полностью сосредоточиться исключительно на военной подготовке.
– Да, я вас понимаю, – и, немного помолчав, словно собираясь с мыслями, Коттар продолжил: – Вам известно, я спичрайтер президента Мильерана. Это высокая честь и не менее высокая ответственность. Слова, которые президент произносит с трибун, имеют вес золота и зачастую это мои слова. Я отслеживаю все важные политические и экономические события в мире, все тенденции, анализу подвергаю все заслуживающее общественный интерес, и лишь после всего этого мои размышления становятся речью Мильерана.
– Вы на редкость откровенны. Может, вам стоит однажды выставить свою кандидатуру на должность президента? Вам не нужен был бы спичрайтер, – весело сказал Уваров, вместе с тем желая польстить Коттару и тем самым вызвать его на большую откровенность по делу, ради которого он оказался в Париже.
– Ну, зачем мне это? Слишком большая головная боль, – так же весело отмахнулся от слов Уварова Коттар. – Помнится, у вас, у русских, есть одна замечательная пословица… Я ее смутно помню, что-то про сверчка.
– «Каждый сверчок должен знать свой шесток», – напомнил Уваров.
– Да-да, именно ее я пытался вспомнить. У меня свой…как это…шесток. Я им вполне доволен.
– Ну, а теперь о деле, – напомнил Уваров.
– Да, конечно, – Коттар несколько раз пыхнул сигарой и лишь после этого сказал: – На ближайшие шесть месяцев никаких изменений во французской политике по отношению к Русской армии не будет. Отвечаю за каждое свое слово. Я понимаю: генерал Врангель боится, что мы сорвем его планы относительно нового похода на Москву. Вы, верно, догадываетесь, что нам большевистская Россия так же не нужна, как и генералу Врангелю.
– Но тогда что означают те запугивания, к которым в последнее время стала прибегать французская администрация в Турции по отношению к Русской армии?
– Ровным счетом ничего. Там, в Турции, вероятно, есть какое-то ничтожное количество офицеров, которые устали от войны. Они не думают о политике, им хочется, чтобы поскорее кончилась эта ваша война. От них все и исходит. Поверьте, их настолько мало, что обращать внимание на их мелкий шантаж не следует. «Собака лает, а караван идет». Кажется, такая пословица есть у русских?
– У русских такой нет, – не согласился Уваров. – Скорее это азиатская.
– Не имеет значения. Но она хорошо ложится в окончание нашего разговора. Надеюсь, мы с пользой провели время: хорошо поговорили и подышали свежим воздухом.
– А сигары? Они не мешают дышать свежим воздухом?
– Ах, это? – Коттар вынул изо рта сигару, объяснил: – Это для того, чтобы немного подразнить вкусовые рецепторы, подстегнуть настроение.
– Может быть, и наш разговор вроде этой сигары: чтобы подстегнуть настроение генералу Врангелю? – глядя в глаза Коттару, с легкой улыбкой спросил Уваров.
– У вас, как и у вашего батюшки, острый ум, полковник! – похвалил Коттар. – Из вас получился бы хороший журналист.
– Об этом поговорим после войны. А сейчас: я к тому, что мне вы настроение не подстегнули. Вероятно, и я не подстегну генералу Врангелю.
– Что я могу вам еще сказать? – даже слегка обиделся Коттар. – Поворот в государственной политике – дело не одного месяца. Кроме, конечно, революций, переворотов. Смею только заверить: ни на одном высоком совещании вопрос об отношении к Русской армии пока не возникал. А на всякие слухи, извините, просто наплюйте. Они не стоят скорлупы выеденного яйца.
Потом Уваров снова бродил по знакомым и давно полюбившимся улочкам Парижа. И обдумывал состоявшийся с Коттаром разговор. Что-то в нем было недосказано. Уже существует Советская Россия, сюда, в Париж, приезжают ее представители, ведут какие-то секретные переговоры. А Коттар о них – ни слова, словно мир застыл сразу же после ухода Врангеля из России. Как будто после образования нового огромного государства – Советской России – в политике Франции никаких изменений не произошло. Коттар почему-то вычеркнул это из своей памяти.
Конечно же Коттар врал. Точнее, он не говорил всего, что знал. Он обязан врать, потому что решения, которые сейчас обдумываются в высших правительственных кругах, еще нигде не были высказаны с трибун, не стали документами – и пока что все они являются совершенно секретными. Прав был полковник Щукин: «Врать – основная профессия правительственных чиновников». Нет, они вовсе не дураки. Точнее, не все они дураки. Но они продались мамоне и верно ему служат. И получалось так, что Уваров съездил в командировку безрезультатно: ничего нового он сообщить Петру Николаевичу не сможет.
Оставалось последнее: встретиться с Павлом Николаевичем Милюковым. Он ни от кого не зависящий, кроме своей совести, журналист, политолог, историк. Россия для него такая же боль, как и для них, для тех, кто находится сейчас на чужбине. И не важно где: в Турции, Испании, Эквадоре или во Франции.
Милюков во время своего частого пребывания в Париже всегда останавливался в одной и той же небольшой уютной гостинице, которая находилась в крохотном переулке Жюльет, выходящем на Риволи.
На вопрос Уварова, может ли он увидеться с господином Милюковым, управляющий гостиницей коротко призадумался, потом окликнул консьержку:
– Жаннет, не знаешь, где сейчас господин Милюков?
– Он, как всегда, в кафе. Это совсем близко, – четко ответила консьержка. – Могу позвать.
– Не нужно. Если нетрудно, покажите мне это кафе.
– Легче легкого, – ответила разбитная Жаннет и, пропустив впереди себя на улицу Уварова, в чем была, в легком платьице и в тапках на босу ногу, вышла следом. Сеял мелкий зимний парижский дождик. Она немного пробежала по тротуарным лужицам и остановилась. Указала на двухэтажный домик напротив, втиснувшийся между двух высоких солидных особняков. Уличный фонарь вывеску кафе освещал плохо, и Уваров так и не узнал, как оно называется.
– Вы господина Милюкова раньше не видели? – спросила Жаннет.
– Нет, к сожалению.
– Посмотрите, он сидит у правого окна. Видите? Худенький, с седой бородкой? Он всегда там сидит и что-то пишет, пишет.
– Весьма благодарен вам, мадам, – Уваров положил в руку консьержке пятифранковую монету. – И быстрее к себе! Простудитесь!
Перейдя через улицу, он едва не вплотную подошел к указанному консьержкой окну и довольно хорошо рассмотрел Милюкова. Он сидел за столом, который был «сервирован» книгами и исписанными листами бумаг, и продолжал что-то писать. На краю столика, не мешая бумагам, стояли чашка кофе и блюдце с круассанами.
В коридоре кафе Уваров разделся, вошел в крохотный безлюдный зал и прямиком направился к Милюкову.
Увидев идущего к нему человека, Милюков привстал и, опережая его, сказал:
– Здравствуйте, Михаил Андреевич Уваров.
– Поразительная осведомленность. Здравствуйте, Павел Николаевич, – поздоровался Уваров и тут же спросил: – Ну почему вы решили, что это я? Здесь ведь бывает много посетителей.
– Посетителей много лишь вечером, а утром и днем здесь тихо и удобно работать. Присаживайтесь.
Потом гарсон принес еще чашечку кофе и еще одно блюдечко с круассанамии, аккуратно расставил на краю стола, не потревожив в беспорядке лежащих на столе бумаг, и удалился. После чего Милюков объяснил:
– Я вчера по мелким делам забрел в наше консульство и встретился с милейшим Николаем Григорьевичем Щукиным. Он-то и поведал мне о вашей миссии.
– Слава богу, – сказал Уваров. – Хоть не придется еще раз все рассказывать. Устал. Был в секретариате у Бриана, рассказывал. Потом – в секретариате у Мильерана. Снова рассказывал.
– Ну и что? – коротко спросил Милюков.
– Ни-че-го. То есть слов много, но за ними туман. Ни одного четкого, ясного ответа. Кроме разве что: никаких действий против Русской армии до весны союзники предпринимать не будут. Спасибо! А после того, как весной или летом мы выступим на Москву, тогда что? Предпримете? Собственно, я не ждал откровений, не надеялся, что в их мутной воде что-то выужу. И не сумел. Мне показалось, что это роботы. Они так устроены, чтобы много говорить и ничего не сказать.
– Это нормально. У них такая служба: строго сохранять государственные секреты, но при этом выглядеть простецкими парнями, готовыми распахнуть перед вами свою душу. Вы подумали, кто вы для них? Они устроили вам спектакль, а что происходит на самом деле, никто из них ничего не знает. Разве что Коттар. Тот все-таки спичрайтер, человек, допущенный к некоторым секретам. К тому же в прошлом он блестящий аналитик. Что-то интересующее вас он знает. Но он дорожит своим местом. С какой стати он станет просто так раскрывать вам глаза?
– Как вы думаете, что помогло бы развязать им языки? – поднял взгляд на Милюкова Уваров. – Может быть, деньги?
– Не знаю. То есть знаю наверняка лишь одно: таких денег у вас нет.
– Думаете, все так беспросветно? – в отчаянии спросил Уваров.
– И да, и нет. Многие нужные нам факты витают в воздухе. Давайте попробуем собрать из них общую картину, вывод, я уверен, будет не намного отличаться от того, который находится в их секретных головах. Вот вам факт. Он лежит на поверхности. С тех пор как союзники дочиста обобрали Россию, и особенно после ухода армии Врангеля в Турцию, им она уже стала неинтересна. И у них теперь единственная задача: как красиво и благородно избавиться от всех своих обязательств. И они сейчас усиленно размышляют, как бы переложить тяготы содержания Русской армии, а также всех беженцев на русскую колонию. А нуждающихся в помощи – количество огромное, и русская колония такую ношу не осилит. Пойдем дальше, а к этому я еще вернусь. У меня есть не до конца проверенные сведения, что с самого начала эвакуации армии генерала Врангеля из Крыма у французов существовала мысль: едва эскадра бросит якоря в Константинополе, сразу же ее разоружить.
– Такая попытка была. Я это помню, – согласился Уваров.
– Никаких документальных свидетельств я пока не обнаружил, но вот и вы подтверждаете этот факт, – сказал Милюков. – Но, надеюсь, какие-то следы этого приказа еще обнаружу. Что еще? Первая растерянность после краха в эмигрантских кругах постепенно проходит. О реванше, о новом возвращении в Россию уже почти никто не думает. Понимают: это невозможно. И жизнь поставила очередные задачи, связанные с катастрофой. Мысль о разоружении Русской армии и превращении ее в беженцев исходит прежде всего от эмигрантских деятелей. Эта мысль, естественно, доведена и до французского правительства. Никаких шагов оно пока не принимает. Выжидает. Поэтому вы не получили, да и не могли получить, определенные ответы на свои вопросы. Хотя они абсолютно логичны, и слишком долго молчать по этому поводу французам не удастся. Как я уже говорил, количество беженцев очень велико, эмиграция и французское правительство пытаются привлечь к этому делу, и кажется небезуспешно, крупные благотворительные учреждения.
– Грустная информация, – вздохнул Уваров. – Вы считаете, что наше дело безнадежно?
– Не знаю. Пока – да. Но ведь жизнь продолжается, и какие еще сюрпризы она нам преподнесет, никто сказать не может. Мне ясно только одно: воззвать к патриотизму эти благотворительные общества и направить их на помощь беженцам – дело не одного дня и даже не одного месяца. Так что ближайшее время вас будут только так или иначе запугивать, внедряя в сознание мысль, что будущего у Русской армии нет и не будет. И все же некоторое время вас ждет относительное затишье. Но готовиться надо ко всему. Я недавно из Англии. Англичане настроены заключить с советской Россией пока лишь торговый договор. Это только слухи. Когда за ним последует мирный договор – это вопрос. Франция все это время будет молчать. А затем и она последует за Англией. Но это произойдет не скоро. И все же, думаю, что новый поход Врангеля на Россию не состоится. Это моя точка зрения. Дай бог, чтобы я ошибался.
– Вы считаете, что это конец?
– Боюсь, что это так. Я внимательно слежу за этим процессом и, вероятно, в недалеком будущем выступлю в прессе со своей гипотезой. Вполне возможно, с поступлением новых фактов я ее пересмотрю. За это один процент из ста. Во всяком случае, если я выступлю с такой статьей, вас я о ней извещу.
– Господи, что же я скажу Петру Николаевичу? – растерянно спросил Уваров.
– Подумайте. Можете мою точку зрения пока ему не излагать. В конце концов, это всего лишь моя гипотеза. Тем более что я тоже согласен с правительственными чиновниками, с которыми вы общались: действительно, похоже, что до весны никаких ощутимых перемен в жизни Русской армии ожидать не следует. А там…Там уж, как распорядится Господь.
Ушел Михаил от Милюкова с тяжелым камнем на сердце. Радовала лишь предстоящая встреча с Таней, которая, как он надеялся, может многое изменить в его жизни.
Глава пятая
Париж просыпается очень рано.
Еще только едва-едва посветлеет на востоке небо, окрестные крестьяне уже сгружают со своих одноконных колымаг или из старых, донельзя изношенных автомобилей сборные столы, деревянные конструкции, которые затем накроют выбеленной солнцем и дождями парусиной, – и получатся торговые палатки. Их устанавливают на каком-то свободном городском пятачке. И едва только выглянут из-за домов первые лучи солнца, эти самодельные базары заполняют пришедшие за покупками парижане.
Чего только здесь не увидишь! Нежное розовое мясо и кольца покрытой светло-коричневым загаром колбасы соседствуют с похожими на артиллерийские ядра головками сыра, только час назад выдоенное, еще теплое молоко – с творогом. Тут же рядом гуси, утки, индейки ощипанные, помытые, лоснящиеся своей масляной белизной. А дальше фрукты и овощи, которые издревле произрастали на этой земле, и здесь же, вперемешку с ними, неведомые до сих пор парижанам авокадо, маракуя, манго, папайя, батат.
А рыба! Фауна едва ли не всех рек и морей представлена здесь, на этом крошечном парижском пятачке.
Чуть в сторонке, не мешая основному потоку покупателей, пристроились торговцы духовной пищей и экзотикой. Здесь можно купить антикварные книги, старинные открытки, дагеротипные семейные фотографии (даже портреты вождей Парижской коммуны), граммофоны, чугунные утюги, фарфоровые статуэтки, хрустальные и глиняные вазы, отнюдь не редкие старинные монеты и медали, кляссеры с марками… Словом, здесь можно отыскать даже то, чего, казалось, вообще не существует на свете.
Особый ряд заполнен только что срезанными цветами. Уварова поразило не только огромное их количество, но и разнообразие видов, сортов и размеров. Но больше всего – обилие самых невероятных, самых диковинных их расцветок.
Михаил Уваров закончил все свои дела и сегодня вечером должен уезжать. Ему не спалось, он еще до рассвета вышел из отеля и пошел бесцельно бродить по пока еще пустынному городу. Когда совсем рассвело, обошел несколько возникших на его пути базарчиков, удивляясь количеству и приятной свежести выставленных крестьянами на продажу товаров, но также опрятности, чистоте и вежливости продавцов.
Прийти на рю Колизее, где проживали Щукины, он собирался немного позже, когда Николая Григорьевича уже не будет дома: консульству в последние месяцы приходилось работать ежедневно, без выходных. Война разметала россиян по всему белому свету, но по каким-то неизвестным причинам большинство из них всеми правдами и неправдами стремилось добраться до Франции и где-то осесть. Многим удавалось обосноваться в Париже, поэтому здесь образовалась самая большая русская колония, и с каждым днем она, к неудовольствию французских властей, все разрасталась.
Правда, уже появились беженцы, которые, помыкав по белу свету, решили вернуться домой, в Советскую Россию, и никакие запугивания их не страшили. Таких было пока немного, консульство ими не занималось, поскольку не имело с новой Россией никаких юридических связей. Отмахнуться от них тоже было трудно, они требовали помощи в возвращении домой. И Николай Григорьевич Щукин всех пожелавших вернуться в Советскую Россию стал посылать во французское отделение Лиги Наций, где некоторое время назад норвежский полярный исследователь, а сейчас один из основателей Лиги Наций Фритьоф Нансен был назначен комиссаром по репатриации беженцев и военнопленных. Он обеспокоился судьбами русских беженцев, разбросанных Гражданской войной по всему миру, и стал им всячески помогать, главным образом в возвращении на Родину. Многие из них оказались на чужбине без документов, и Нансен ввел в обиход свой так называемый «Нансеновский паспорт», который постепенно стали признавать большинство государств мира, с трудом даже Советская Россия.
Еще пару часов побродив по утреннему городу, Михаил вышел к рю Колизее. Там же, на базарчике, купил большой букет белых роз и направился к знакомому дому с венецианскими окнами на первом этаже. Щукины жили на третьем.
Дверь Михаилу открыла Таня. В просторном халатике, из-под которого заметно выпирал округлый животик, она несколько изменилась: уже не выглядела той миловидной девушкой, которую он видел в начале осени. Исчезла некоторая угловатость, ее лицо отражало тихое спокойствие.
– Здравствуй, Микки! Папа мне сказал, что ты здесь, и я надеялась, что ты непременно зайдешь.
– К сожалению, было много глупых, бессмысленных дел, на которые я потратил пять дней. Но с плохим настроением я не смел явиться к тебе.
– Значит, у тебя сегодня хорошее настроение, – сделала вывод Таня. – Я угадала?
– Да. Я ждал, когда все эти глупости, эти хождения по чиновничьим коридорам закончатся и я увижу тебя. Ты очень похорошела. Не зря говорят, что такое положение украшает женщину.
– Ты уже успел заметить, – улыбнулась она. – Да, у меня будет ребенок.
– Позволь узнать, кто этот счастливец?
Таня передернула плечиками:
– Разве это важно, кто он? Есть я, будет ребенок. Я хотела иметь малыша. А остальное… разве это важно?
– Моя мама говорила, что счастье – это когда есть и тот, третий.
– Нет третьего, а я счастлива. Значит, бывает и такое.
– Я не согласен. Это неправильно.
– Не будем об этом! – попросила Таня. – Почему ты не раздеваешься?
– Хозяйка не приглашает.
– Извини. Ты с порога начал ненужный разговор. Раздевайся, пожалуйста.
Михаил вручил Тане букет, снял фуражку, шинель. Таня тем временем уткнулась в букет, тихо сказала:
– Господи, а пахнут так же, как и у нас, в России, – и лишь после этого оглядела Михаила. – Знаешь, а тебе очень идут полковничьи погоны. Папа тоже мне это сказал.
– Спасибо.
– Проходи сюда, на кухню. Ты ведь не завтракал? Чай? Кофе?
– Все, что предложит хозяйка.
Она проворно заметалась по длинной, похожей на пенал кухне: поставила в вазу цветы, открывала и закрывала кухонные шкафы, и уже через пару минут на столе стояли тарелки с колбасой, сыром, вазочка с конфетами, красивая серебряная сахарница. И при этом она без умолку говорила:
– Знаешь, кухня – мое любимое место. Я тут вяжу, читаю, иногда прямо в кресле немножко подремлю.
Вскоре запел чайник. Она разлила в чашки кофе. И лишь после того, как они сели друг против друга, Михаил спросил:
– Ты помнишь мое письмо? Я прислал его тебе в Стамбул.
– Еще бы! Я берегу его, – лицо ее стало веселым. – Я выучила его почти наизусть. Оно было такое милое, такое по-мальчишечьи влюбленное. Мне девочки даже немного позавидовали… Ты помнишь Рождественских?
– Да, конечно.
– Анюта, когда я дала ей его прочесть, сказала: «Я думала, что такая любовь – только в романах, в пушкинские времена. А оказывается, и сейчас тоже бывает», – и Таня счастливо, но грустно улыбнулась.
– Помню ее. Хорошенькая такая. Но уж очень серьезная, рассудительная.
– Она – в маму, та тоже такая. И представь себе, Анюта совсем недавно вышла замуж. Мне созналась, что вышла не по любви, хотя мечтала о большой и чистой, как в твоем письме.
– А я и сейчас тебя люблю, – вдруг сказал Михаил. – Может быть, даже больше, чем тогда. Поверь мне, это правда.
– Что уж теперь, – и Таня тряхнула головой, словно отгоняя от себя прошлое.
– И я приехал сюда не просто в служебную командировку, – продолжил Михаил. – Я очень долго ждал этого случая. Я приехал, чтобы просить твоей руки. Выходи за меня замуж, Таня. Я буду безмерно счастлив и сделаю все для того, чтобы и ты была такой же счастливой.
– Ты сумасшедший, Микки. Ты разве не понял: у меня будет ребенок. Не твой ребенок.
– Он будет и мой. Я буду любить его так, как и тебя. А может быть, и больше. Я люблю детей. У меня два младших брата. Мама говорила, что я за ними ухаживал лучше, чем и няня, и гувернантка.
– Они в Лондоне?
Таня попыталась изменить тему разговора, но Михаил это сразу почувствовал.
– Я потом. Потом я тебе все расскажу. А сейчас я жду ответа. Это серьезно.
– Я понимаю, – сказала Таня. – Я отвечу тебе искренне и правдиво. Я люблю тебя, Микки, но как друга. А люблю я совсем другого, отца своего ребенка. Попытайся меня понять.
Михаил долго молчал, потом решительно сказал:
– Я, кажется, догадываюсь, о ком ты говоришь. Но его уже нет в твоей жизни. Нет, и уже никогда не будет. Не обманывай себя. Похоже, той, прошлой России уже не вернуть. Есть другая Россия, но тебе в нее путь заказан.
– Никто ничего не знает. Жизнь сложнее наших фантазий. Все еще может случиться, – тихо, но твердо возразила Таня.
– Он из другого мира. Он твердый и упрямый большевик. То, что произошло, его и таких, как он, рук дело. Россия в руинах. У нее нет будущего. Мир отвернулся от большевиков. На что ты рассчитываешь?
– На Бога.
– Если бы он был, он не позволил бы большевикам превратить великую Россию в пустыню. Там люди пухнут с голода, я это знаю не по слухам. Они фанатики. Они не сумеют управлять такой огромной и сложной страной. Они погибнут.
– Вот видишь, ты же сам говоришь: они не сумеют. Значит, рано или поздно все вернется обратно.
– И ты готова ждать? Может, десятилетия. И встретишься с ним глубокой старухой.
– И буду счастлива, что встретилась.
– Ты такая же фанатичка, как и он.
– Я просто люблю. Похоже, что навсегда.
– Извини, я представлял себе этот наш разговор совсем по-другому, – мягче сказал Михаил. – Я думал, ты выйдешь за меня замуж хотя бы для того, чтобы исчезли сплетни и пересуды, чтобы не трепали по углам доброе имя твоего отца.
– Я их не слышу. Отец тоже умный человек, не станет придавать значения всему этому. Налетает ветер – пошумят деревья, улетит ветер – и снова все вокруг тихо и благостно. Разве не так?
– Нет, не так. Ты выходишь за меня замуж, и ты, и твой ребенок – вы проживете счастливую и обеспеченную жизнь, у твоего отца будет достойная старость. О них подумай.
– Подумала, – Таня уже не спорила. Она приняла решение и говорила теперь тихим и спокойным голосом: – Я поступила на курсы модельеров женской одежды. Мне это нравится. Со временем открою свою швейную мастерскую. И будем тихо жить, как все.
– Ну и ну! – вздохнул Михаил.
– А тебя, Микки, я считаю своим верным другом. И если ты не отвернешься от меня…
– Не отвернусь, – как клятву произнес Михаил. – И что последует?
Таня улыбнулась:
– Будем дружить до старости.
– Не знаю ни одного случая, чтобы влюбленный в женщину мужчина просто дружил с нею. Он, наверное, захочет иметь от нее детей…
– Я же сказала: дружить.
Михаил понял: продолжать сейчас с Таней этот разговор бессмысленно. И у него, и у нее еще есть время. Оно расставит все по своим местам. Во всяком случае, сейчас было для него не лучшее время просить ее руки. Она пока еще витает в облаках, но не пройдет много времени, и она опустится на землю.
Потом она извинилась: у нее сегодня курсы. Михаил, подождав, пока она собиралась, пошел ее провожать. Они какое-то время погуляли по Парижу, он довел ее до двери ателье, и она, помахав ему рукой, скрылась за дверью. А он пошел к себе в отель, чтобы забрать свои вещи и идти на Восточный вокзал. «Восточный экспресс» уходил в Стамбул в пять часов вечера.
Во второй половине дня в Париже похолодало, сеял мелкий и нудный дождик. И у него тоже было такое же мрачное настроение, как и эта погода. Поездка в Париж, на которую он возлагал столько радужных надежд, оказалась на редкость неудачной.
Под дремотный перестук вагонных колес «Восточного экспресса» Михаилу не спалось. Он вновь и вновь перебирал в памяти все встречи в Париже и тоже еще раз подвергал их жестокому анализу. Предстоящая встреча с Врангелем не радовала его. Петр Николаевич ждал от него утешительных новостей, а он везет разочарование. Впрочем, почему разочарование? Врангель хотел узнать, от кого идет провокационный шантаж по отношению к его армии. А он лишь узнал: в высших правительственных кругах Франции вопрос о разоружении Русской армии и переводе ее в статус беженцев до сих пор не рассматривался. Это то единственное, что он может сказать Врангелю. Слабое утешение, но все же…
Еще он может рассказать Врангелю о слухах, которые бродят в эмигрантских кругах. Они исходят от тех, кто уже успел хорошо прижиться во Франции, нашел в ней свое место. Они смирились с поражением и вновь возвращаться в разрушенную и разграбленную Россию уже не хотят. Они выступают против войны. Но это только небольшая часть прочно обосновавшихся во Франции россиян. А что думает остальное большинство? Вряд ли они поддерживают успешных соотечественников. Нужно ли знать это Врангелю, Михаил никак не мог решить.
И еще одно сомнение не покидало его: следует ли Петру Николаевичу рассказывать о встрече с Милюковым, о его пессимистических выводах? В конце концов, выводы, которые он сделал, строятся опять же не на известных фактах, а лишь на ощущениях, слухах, наблюдениях. Другой журналист из этих же ощущений, слухов и наблюдений может сделать совершенно противоположные выводы.
Нет, пусть Милюков опубликует свою статью, тогда он просто покажет ее Врангелю. А сейчас… сейчас, по выводу того же Милюкова, у Русской армии есть чуть ли не пол года безмятежной жизни, которую Петр Николаевич может целиком посвятить подготовке Русской армии к новому походу на Россию.
Глава шестая
По возвращении из Парижа Михаил Уваров доложил Врангелю, что из всех его многочисленных встреч он сделал единственный вывод: пока никто и ничего против Русской армии не замышляет. Полгода спокойной жизни у них есть.
– Нам даже не нужно столько. Зима-то уже повернула на весну, – сказал Врангель. Слушая Уварова, он медленно расхаживал по кабинету. – Я доволен вашей поездкой, Микки, – и весело поинтересовался: – Ну, а как там у вас на личном фронте?
– Примерно так же, ваше превосходительство, – не соврал Уваров. Врангель решил, что и у Уварова на личном фронте тоже все складывается хорошо. Михаил добавил: – Весной тоже перейду в наступление.
– Вы умница, Микки. Какая барышня откажется от такого бравого офицера! Если пригласите, обязательно хочу присутствовать на вашей свадьбе.
– Непременно приглашу, Петр Николаевич.
Врангель остановился у карты и долго молча всматривался в нее. После длительного молчания сказал:
– Напомните мне перед поездкой в Галлиполи. Несмотря на ваши благоприятные новости, пусть не медлят с Балайирским перешейком. Кто знает, как и когда мы будем покидать Галлиполи. Когда придет тот час, чтобы перешеек не стал для нас камнем преткновения. Мы должны пройти его без потерь.
– Ну а если они все же продолжат нас шантажировать? – спросил вдруг Уваров. – Понятно, что это идет не от высших правительственных кругов. И все же, как нам к этому относиться?
– Думаю, пренебрегать, – твердо ответил Врангель. – Иначе это будет выглядеть как наша слабость.
Не зря в народе говорят: не вспугни удачу, она приведет за собой еще одну.
Так и случилось.
Едва ли не через неделю после возвращения Михаила Уварова из Парижа в штаб Первого корпуса, который обосновался в недавно отремонтированном особняке на одной из центральных улиц Галлиполи, пришел переводчик с письмом от Томассена.
Комендант Галлиполи и командир Галлиполийского гарнизона Томассен приглашал генералов Кутепова и Витковского вместе с сопровождающим их полковником Комаровым посетить маневры войск Галлиполийского гарнизона при участии сенегальского батальона. Письмо было длинное и изобиловало массой самых лестных эпитетов в адрес приглашенных.
После короткого обмена мнениями Витковский сказал:
– Неудобно все-таки. Ответный визит. Долг вежливости.
– Если у вас есть время, езжайте, – предложил Витковскому Кутепов. – Потом поделитесь впечатлениями.
– К сожалению, эти дни у меня распланированы до минуты. Не смогу, – ответил Витковский.
Полковник Комаров внимательно ознакомился с приглашением.
– Интересная подробность, – сказал он. – Маневры намечаются именно на Балайирском перешейке. Как раз в том месте, где постоянно находятся канонерка и миноносец.
– Та-ак. Это уже интересно, – сказал Кутепов, которому этот перешеек уже давно не давал покоя. – Я так понимаю, здешние французы пытаются интеллигентно предупредить нас. Не зря ведь сказал Томассен, что, даже если мы захотим отсюда уйти, придется просить у них разрешения.
– Ну, а если не спросим? – воинственно поднял голову Витковский.
– Для этого, полагаю, и устраивают эти маневры. Хотят показать нам, что проход через Балайирский перешеек надежно закрыт, – сказал Кутепов. – Да-да! Они поняли, что наш конфликт зашел слишком далеко и мы будем пытаться его разрешить. А может, до них дошли какие-то слухи о цели поездки Уварова в Париж. Короче говоря, они поняли: намерения покинуть Галлиполи у нас есть. И, вероятнее всего, мы попытаемся уйти через Балайирский перешеек. Собственно, иного пути у нас нет. Но и он, хотят сказать нам французы, для нас закрыт.
– Пробьемся. Оружия, патронов у нас в достатке.
– Не очень уверен. Они знают то, чего не знаем мы, – задумчиво произнес Кутепов. – Мы примем неравный бой и там погибнем. Или же нас вынудят вернуться обратно и принять статус беженцев. Кому-то из вас нравится такой исход событий? Мне – нет.
Комаров еще раз взглянул на письмо.
– Да, тут еще есть небольшая приписка. Вот: «Если господа пожелают, они могут наблюдать за маневрами в абсолютно комфортных условиях, с борта миноносца».
– Ну, вот видите, они не забыли упомянуть и миноносец. Какая забота! – ухмыльнулся Кутепов и спросил у Витковского: – Ну, что предлагаете теперь?
– Пренебречь, – по-прежнему стоял на своем Витковский.
– Теперь, пожалуй, нет! – отрицательно покачал головой Кутепов. – Подберите кого-то из опытных топографов. Пусть побывают на маневрах. Мы должны изучить каждый метр этого проклятого перешейка, которым нас пытаются так запугать. Прежде чем искать какой-то иной вариант, надо до конца убедиться, что путь через Балайирский перешеек нам действительно заказан.
Маневры длились сутки. Топографа не нашли, и на французские маневры послали старого опытного артиллериста, командира Третьей батареи Марковского дивизиона полковника Айвазова. Вернувшись, Айвазов поделился с Кутеповым интересными наблюдениями. Он обратил внимание на артиллерийский обстрел перешейка. Топография местности в самом узком его месте была такова, что снаряды или перелетали через дорогу, или попадали в каменную гряду, прикрывавшую дорогу с моря. Этот относительно опасный участок был длиной всего лишь в двести-триста метров, и его можно было бы пробежать за короткое время. Дальше дорога тянулась между скал и была почти недоступной для артиллерии. Причем, изгибаясь, она круто уходила подальше от моря.
Это были очень важные сведения. Приглашая русских посетить маневры, Томассен, надо думать, намеревался припугнуть. Но результат получился обратный: Кутепов узнал именно то, что больше всего и беспокоило, и интересовало и его, и генерала Врангеля. Самый узкий участок Балайирского перешейка был не самым опасным местом на их пути, если вдруг они решатся покинуть Галлиполи.
– Я тут подумал, – сказал полковник Айвазов, – в случае, если нам придется без спросу уходить, есть одно оригинальное решение.
– Какое же? – заинтересованно спросил Кутепов.
– Только велите! Мои хлопчики потопят и канонерку, и миноносец. Я советовался, им это вполне по силам. Подтянут две пушченки, и прямой наводкой. Два дела одновременно сделаем: и флот Томассена уничтожим, и проход через Балайир обеспечим. Нет, три. Еще и радиостанцию вместе с миноносцем утопим. Пока они себе подмогу вызовут, мы уже во-она где будем, едва ли не под самым Константинополем.
– «Оригинальное решение», ничего не скажешь, – усмехнулся Кутепов. – Но ведь это уже почти война.
– Ну, если они нас на Балайире застукают, тоже мир не получится.
Кутепов подумал, что размышления старого артиллериста имеют резон. Их надо иметь в виду, но прибегнуть в самом крайнем случае.
Часть третья
Глава первая
Весна была такая же дождливая, как и зима. Но сквозь стылую землю густой щетиной стала пробиваться первая зелень.
Корпус готовился к Пасхе. Ждали главнокомандующего. Командование корпуса решило переодеть всех обносившихся солдат в белые праздничные гимнастерки. У кого-то запасливого они отыскались в «сидорах», но для большинства их шили из простыней и любой другой белой ткани, какую только смогли обнаружить на своих складах снабженцы.
Пригодилась даже ветошь, когда-то давно подаренная артиллеристам Симферопольской мануфактурной фабрикой. Среди мелких обрезков, которые пускали на протирку стволов орудий, можно было найти и вполне приличные лоскуты. Из трех-четырех таких лоскутов армейские портные ухитрялись сшить вполне приличную, хотя и недолговечную, гимнастерку.
Не хватало пуговиц. Кто смог, срезал их со своих старых гимнастерок. Но тут постарались армейские умельцы, они стали изготавливать их из сухой, продубленной на солнце древесины. Подкрашенные в коричневый цвет, они даже на небольшом расстоянии не выглядели самоделками.
В страстной четверг из Константинополя в Галлиполи приехал с врачебной инспекцией доктор Нечаев, привез последние новости. Рассказал о притеснениях, которые на каждом шагу чинят французы всем чинам нашей армии – от Бизерты до Чаталджи. Дошло до того, что Врангелю даже запретили в праздничные дни навестить войска.
Врангель не на шутку рассердился. Разразился скандал, и чем это закончилось, и закончилось ли, доктор Нечаев не знал. Но предположил, что при таком давлении и контроле главнокомандующий вряд ли сумеет ускользнуть от французов.
Но в страстную субботу к вечеру к Галлиполийскому причалу пришвартовалась штабная шхуна российского главнокомандующего «Лукулл».
Едва только она показалась из-за поворота, ее заметили охранявшие комендатуру зуавы и доложили Томассену. Томассен послал нарочного в штаб корпуса к Кутепову. Но Кутепов был уже на берегу. Следом, запыхавшись, прибежали музыканты и юнкера Константиновского военного училища, которое тоже, как и штаб корпуса, располагалось в самом городе. К удивлению Кутепова, подсуетился и Томассен. Он тоже выстроил рядом с «константиновцами» своих сенегальских стрелков.
Под звуки Преображенского марша и восторженные приветствия юнкеров Врангель сошел на берег.
Кутепов отдал главнокомандующему рапорт. Выждав удобную минуту, к Врангелю подошел и Томассен. Поздоровался.
«Что за странные дела? – удивился Кутепов. – Еще несколько дней тому назад Томассен считал и Врангеля, и всю Русскую армию беженцами. И вдруг – такой поворот! Что же случилось? Что за всем этим кроется? – недоумевал он. – Похоже, после возвращения Уварова из Парижа ветер подул в другую сторону».
Припомнился и рассказ доктора Нечаева о скандале, который закатил французам Врангель. «Испугались? Или сменили тактику?»
После церемониального марша, исполненного юнкерами, Врангель, Кутепов и другие сопровождающие их лица на трех автомобилях, которые к этому времени техническая служба перегнала в Галлиполи, отправились в лагерь.
«Долина роз и смерти» уже не была такой безрадостной и унылой, как зимой. Выпустили свои клейкие листики розы, зазеленели дальние холмы.
Всю оставшуюся часть дня Врангель посвятил подробному знакомству с лагерем. На большой лагерной площади выстроились войска. Врангель принял рапорт у начальника почетного караула – командира Самурского полка, отдал честь старому боевому знамени, побывавшему в боях еще под Мукденом. После чего стал обходить строй войск.
На правом фланге стояла пехота, в центре – артиллерия, на левом – безлошадная конница. Барбович привел своих «хуторян», когда Врангель уже начал обход войск.
Около часа под звуки маршей Врангель обходил стройные ряды, здоровался с командирами полков, оказывал особое уважение заслуженным старым солдатам, вместе с которыми прошел все годы гражданского лихолетья.
– Здорово, орлы! – приветствовал он каждый полк в отдельности. И вслед ему неслось раскатистое: «Ур-ра!»
Вечером каждому солдату раздали по одному крашеному яйцу: хозяйственники больше месяца выпрашивали, выменивали и покупали их у крестьян окрестных селений. Ночью, ближе к полночи, в разных местах на территории лагеря запылали костры, армейские кашевары варили перловую и кукурузную кашу, щедро приправляя их мясными консервами. Кто сумел, тот еще загодя, днем, выменял или купил на базаре спиртное.
Службу в лагере правил протоиерей Агафон (Миляновский) прямо на площади, возле небольшой палаточной церкви. Площадь едва вмещала всех желающих отстоять праздничный молебен.
Врангель и Кутепов вместе с частью штабных офицеров отправились на всенощное богослужение в Галлиполийский греческий собор. Совершал богослужение греческий митрополит Константин в сослужении с русскими, проживающими в лагере, духовными лицами.
Во время службы Кутепов почувствовал сзади себя какое-то движение. Он слегка обернулся и увидел подполковника Томассена. Тот был в полной парадной форме, при оружии и орденах. Чуть сзади, тоже при полном параде, выстроилась вся его свита. Протискиваясь сквозь толпу, они все приблизились к Врангелю и Кутепову. Томассен наклонился к ним и негромко, но торжественно произнес:
– Ваши превосходительства! От имени французского гарнизона Галлиполи и от себя лично хочу поздравить вас и вверенную вам армию по случаю приближения нашего общего праздника! – и тут же отступил в сторону.
Лишь когда священники провозгласили «Христос Воскресе», Томассен вновь приблизился к Врангелю и Кутепову:
– Искренне и от души – «Христос Воскресе!»
– «Воистину Воскресе!» – ответил ему Кутепов и непроизвольно, скорее по привычке, подался к нему и трижды приложился своей щекой к его щеке.
Врангель тоже ответил: «Воистину Воскресе!» и сделал какое-то неловкое движение в сторону Томассена, однако целовать не стал.
После всенощной они все вышли на улицу, прощаясь, остановились на паперти. Томассен немного потоптался на месте и при этом морщил лоб, словно силился что-то вспомнить. И затем через переводчика сказал Кутепову:
– Мне рассказывали, у вас у русских есть замечательный обычай: раз в году просить прощения за ненароком нанесенную обиду.
– Можно и чаще, – съязвил Кутепов.
– Да, конечно. Я понимаю, – не сразу нашелся с ответом Томассен. – Мне нравится этот обычай. Я хотел бы попросить у вас прощения, если в наших незлых спорах я иногда был несдержан и нечаянно нанес вам обиды. Простите, если можете!
– Бог простит, и я прощаю, – ответил Кутепов. – Хорошо бы так и в будущем: без споров. Тогда и прошения не надо просить.
– Хочу верить, что так и будет, – согласился Томассен.
И они расстались.
– Чего он хотел? – спросил задержавшийся сзади Врангель.
– Мира без аннексий и контрибуций, – улыбнулся Кутепов. И добавил: – Попросил прощения. Только я так и не понял за что. Видимо, решил больше не ссориться. Или ссориться и не просить прощения. Не знаю.
– Он знает. И его начальство тоже. Ну и я чуть-чуть догадываюсь. Вероятнее всего, это отголосок поездки Уварова в Париж, а также моей последней схватки с французским оккупационным начальством. Я тут на днях высказал им все, что я о них думаю. Надеюсь, на какое-то время они образумятся, – и, немного помолчав, Врангель добавил: – Время покажет.
После всенощной началось разговление. Солдаты разобрались по своим полкам, окружили густо парующие котлы с кашей. Щедро накладывали в свои миски.
– Так бы кажин день! – сказал кто-то.
– Тебе бы, Козюля, одному такой казан. До утра бы прикончив.
– Не-а, до утра не подужав бы. За сутки – слободно.
Запасливые солдаты наливали в кружки кто водку, кто местную турецкую ракию. «Причащались». Скупо отливали жадно глядящим на них товарищам. Смачно христосовались.
Андрей Лагода долго ждал дня, когда можно будет без особого риска разбросать по палаткам доставленные сюда Красильниковым листовки об амнистии.
Ночь была тихая, но облачная, беззвездная. Палатки пустовали. Почти никто не спал. Грелись у костров, доедали кашу, допивали недопитое, пели, смеялись, переругивались.
На наполовину опустевшем плацу на спор затевали кулачные бои: «болели» за сильных, высмеивали слабых.
Пасхальная ночь.
Андрей почти на ощупь шел в темноте от палатки к палатке. Подойдя, окликал:
– Федорченко, не спишь?
В ответ тишина.
Он приоткрывал полог палатки, торопливо вбрасывал три-четыре листовки и шел дальше.
В иной палатке кто-то отзывался:
– Какого еще тебе Федорченка? Ищи в другом дому!
В эту палатку Андрей не заходил, торопливо шел дальше.
Часа за полтора он разнес почти все листовки. Оставил только небольшой запас: вдруг пригодятся? Быть может, случится какая оказия и он сумеет передать хоть несколько штук в Чаталджи или в Бизерту. Эти листовки он припрятал неподалеку от своей палатки, в ямке, прикрыл их от дождя плоским камнем и сверху камень притрусил песком. Простой, надежный и безопасный тайник.
Утром за завтраком они вернулись к начатому на паперти греческого собора разговору. Кутепов снова попытался напомнить Врангелю о планах всем корпусом уйти из Галлиполи.
– Не повторяйтесь. Я все помню, – остановил Кутепова Врангель. – Вернемся к этому разговору снова лишь тогда, когда вы решите самый главный вопрос: безопасный проход через Балайирский перешеек.
– Он уже решен, ваше превосходительство.
И Кутепов подробно рассказал главнокомандующему о маневрах, которые устроили для них французы. Послали на маневры полковника Айвазова. Тот выяснил, что каких-то пара сотен метров самого узкого места перешейка отгорожено от берега скалами и снаряды либо взрываются в скалах, либо перелетают через перешеек. А дальше путь совершенно безопасный, в скальном коридоре. Упомянул Кутепов и еще об одной идее Айвазова: заранее и скрытно подкатить к берегу две легкие пушки, снятые с кораблей, и в нужное время легко потопить миноносец. Вместе с миноносцем потонет и рация, так что своевременно вызвать подкрепление французы не смогут.
Врангель слушал молча, не перебивая. И лишь когда Кутепов закончил, Врангель сказал:
– Айвазова знаю давно. Толковый и грамотный артиллерист. Он что же, все еще полковник?
– Так точно, ваше превосходительство. Командует третьим Марковским дивизионом, – четко ответил Кутепов.
– Вернусь, подпишу приказ о повышении в звании. Надо порадовать старика. Если не доведется его увидеть, поздравьте его лично от меня с Пасхой и со званием генерала.
– Дед будет счастлив, – согласился Кутепов и еще раз попытался напомнить Врангелю о своем плане захватить Константинополь. Эта идея его грела с тех самых пор, как только она родилась.
– Я так понимаю: вы по-прежнему считаете эту затею авантюрной? – грустно спросил Кутепов.
– Вне сомнений. Но зато до чего же она изящна! Как фарфоровая статуэтка! – улыбнулся Врангель. – Впрочем, вы не очень огорчайтесь. Это я сегодня так рассуждаю, зная весь расклад сил. А вчера… вчера я поддержал бы ваши намерения. Это хорошая задумка. У картежников она называется «Игра по-крупному». Сейчас трудно подсчитать, какие бы выгоды мы при этом получили и какие потери понесли. Но шуму бы наделали на весь мир. Ладно, не огорчайтесь. Нам не шум на весь мир нужен, а победа над большевиками. Пожалуй, наши зарубежные соотечественники не верят в то, что это возможно. А я верю. И мы все должны верить, иначе зачем переносим все эти тяготы? А что касается захвата Константинополя, оставьте это для своих будущих воспоминаний. Не случилось – и не случилось. Господь, как говорится, удержал нас от этого сомнительного шага. Зато вспомните в старости, какие мятежные мысли бродили когда-то в вашей голове.
– Иначе говоря, смириться? Даже если отношение к нам французов не изменится и все эти расшаркивания Томассена – всего лишь праздничный политес? – спросил Кутепов.
– Я так не думаю. Я уже как-то вам говорил: время покажет. Посмотрим, как будут развиваться события. И теперь, после решения безопасного прохода через Балайирский перешеек, будем держать в голове ваш план ухода из Галлиполи. Если отношение союзников к нам не улучшится, если они будут продолжать смотреть на нас с позиции «с них уже больше нечего взять», мы конечно же будем вынуждены предпринять по отношению к ним довольно резкие шаги.
Пришел Витковский, который всю пасхальную ночь провел в лагере. Похристосовался с Врангелем и Кутеповым.
– Прошу к столу! – пригласил его Кутепов и бодро спросил: – Доложите новости? Ветер стих, облака рассеялись, день обещает быть хорошим!
– Не знаю, – мрачно ответил Витковский. – Во всяком случае, начался он не слишком хорошо, – и положил перед Врангелем бумажный листок.
– Что это? – спросил Врангель.
– Большевистская листовка.
– Добрались таки, – сокрушенно вздохнул Кутепов. – Проникли.
– Объявляют амнистию. Причем всем без исключения.
– Всем? – переспросил Врангель. – Так уж им и поверят.
– Довольно убедительная. Вполне допускаю, что многие поверят, – сказал Витковский.
Врангель бегло прочитал листовку, передал ее Кутепову. Тот читал ее медленно, вдумчиво. Затем вновь положил ее перед Врангелем и перевел взгляд на Витковского:
– «Поверят – не поверят» – не тема для дискуссии, – мрачно сказал он.
– Собрать бы их все и сжечь, – посоветовал Врангель.
– Боюсь, это невозможно, – сказал Витковский. – Вы ведь знаете русского мужика, ваше превосходительство. Если не дают – возьму, отбирают – спрячу. А этих листовок в лагерь, по моим предположениям, забросили много. Полагаю, в лагере уже обосновалось большевистское подполье. Одному незаметно разместить в лагере столько листовок не под силу.
– Тут я согласен с Владимиром Константиновичем, – поддержал Витковского Кутепов. – Кто-то сдаст, у кого-то отберем. Все равно, много останется. Прочтут все, даже те, кто яростно сражался с большевиками.
– Что вы хотите этим сказать? – спросил Врангель.
– Пытаюсь понять, почему вдруг такое уныние? – глядя в лицо Врангеля, сказал Кутепов. – Мы что, не ожидали этого? Да, большевики, естественно, знают, что мы в Турции. И наверняка выяснили, где мы дислоцируемся. Несомненно, они посвящены в наши намерения вновь вернуться в Россию. Война большевикам не нужна: они добились своего. И теперь их задача – развалить нашу армию. Для этого они и заслали сюда к нам какое-то количество своих агитаторов, которых мы постепенно будем выявлять и уничтожать. Война продолжается, господа! И все то, что пытался творить с нами здесь Томассен, возможно, это тоже идет оттуда, от большевиков.
– Я допускаю, что ваша пафосная речь, Александр Павлович, имеет под собой серьезные основания. Более того, я рассуждаю примерно так же, как и вы, – тихо и неторопливо заговорил Врангель. – Но я хотел бы услышать ваш совет: что делать? Спрошу даже еще конкретнее: что делать сегодня, сейчас?
– Сегодня? – переспросил Кутепов. Он не сразу нашелся. Он знал, как поступить в будущем. Оно всегда туманно, и о нем можно тоже рассуждать неясно, неопределенно. Но вопрос в упор: что делать сегодня? Сейчас? А медлить было нельзя: Врангель ждал ответа. Кутепов чувствовал себя гимназистом, который не выучил домашнее задание. – Я полагаю, уже сегодня надо будет посоветоваться с командным составом. Коллективная мудрость богаче мудрости одного человека, – попытался уйти от прямого ответа Кутепов.
– Не помешает, – с легкой укоризненной улыбкой согласился Врангель. – И насчет коллективной мудрости: она, конечно, тоже бывает полезна. Хотя далеко не всегда верна.
И после длительной паузы, дав понять Кутепову, что свою долю крапивы по голой заднице тот получил, Врангель продолжил:
– Мы растеряли или забыли замечательный опыт Евгения Александровича Климовича. Если помните, он не так уж давно, в Добровольческой армии, создал великолепный контрагитационный аппарат. Благодаря его убедительным и своевременным листовкам тысячи и тысячи крестьян покидали Красную армию и переходили на нашу сторону. Что здесь? – Врангель брезгливо взял в руки принесенную Витковским листовку: – Пустота! Слова! Климович же всегда опирался на факты. Разве у нас их недостаточно для контрагитации? Те же восстания в Тамбове, на Кубани, в Кронштадте? Наконец, мы можем вспомнить «всероссийское кладбище» Крым. Их словам надобно противопоставлять факты. Только в этом случае нам поверят и мы сможем рассчитывать на успех. А что касается совещания с командирами? Ну, почему же! У нас грамотные командиры, пусть и они подумают, как свести на нет вред от этих листовок. И священники пусть поищут доходчивые слова.
– Я хотел сказать примерно то же самое, – совсем тихо сказал Кутепов. – Делать все, что надобно, но не забывать про агитацию. Согласен, это еще одно оружие, которое у нас порядком заржавело.
Первый день Светлой Седьмицы! Иными словами, первый праздничный пасхальный день, выдался на редкость теплым и солнечным.
«Подъем» в это утро не играли. Впрочем, в эту ночь мало кто спал. Полусонные, но нарядные солдаты ходили в обнимку по территории лагеря, заходили друг к другу «в гости», искали земляков, вспоминали о своих краях, об оставшихся на далекой Родине родных и близких.
И почти в любой компании заходил осторожный разговор о листовках.
– Вам подкинули?
– Три штуки. Две сдав, одну на курево оставил.
– Не бреши. Где ты тут «самосадом» разживешься?
– Ну, не для курева. Для памяти.
– Опять брешешь. Собираешься до дому возвертаться?
– Я шо, сдурел? Большевики для меня уже давно пулю заготовили.
– Так гарантируют же. Всем все прощают.
– Ага! Всем, да не каждому. Держи карман шире. Помнишь ту еврейку в Крыму? Кажись, Землячка ее фамилия. Тоже гарантировала. А чем все кончилось?
В другом полку, в другой палатке – о том же.
– Весна! У нас, як и у турок, весна рання. Об эту пору, должно, уже отсеялись.
– Рановато. У нас, другой раз, ще неделю стоять заморозки.
– А шо зерну заморозки. Оно, зернычко, лежыть себе под черноземом, як под одеялом, наружу не высовывается. Тепла ждет. А як припекло, оно – р-раз – и выглянуло! Ото уже весна!
– Собираешься?
– Не. Пущай други туды съездять. Он, той же дадько Юхым Калиберда. Если ему всех пострелянных простять, тоди, може, и я надумаю. Чого ж!
– До жинкы на перины потянуло?
– Дурный ты. Бо молодой. За дитьмы скучився, тоби цього не понять.
Листовки, посеянные Андреем Лагодой, взбудоражили лагерь. Где бы ни собрались двое-трое, с чего бы ни начинали разговор, а заканчивали все тем же: верить большевикам или не верить, возвращаться или не возвращаться?
Андрей тайным именинником ходил по лагерю, прислушивался к разговорам, иногда и сам принимал в них участие. Когда его спрашивали, не собирается ли он возвращаться домой, он искренне отвечал:
– Меня большевики уже один раз расстреливали. Или два. Больше вставать под их пули нет у меня настроения.
И это была почти полная правда. Феодосийская «тройка» приговорила Лагоду к расстрелу. Ни за что. Просто так. Первый раз его спас чистый случай: пуля его не задела, и, не шевелясь, он пролежал под мертвыми телами почти до вечера, до той поры, когда уставшие от расстрелов чекисты ушли к себе в казармы, чтобы там пить, есть, отдыхать и набираться сил для следующего дня и следующих расстрелов. Второй раз его спас Кольцов, вырвав из смертельно опасной банды Жихарева. Останься он в банде, неизвестно, прожил бы еще день или два?
Андрей не гордился этой своей работой, даже тяготился ею. Она казалась ему ненастоящей и даже какой-то фальшивой. Он редко когда оставался сам собой и почти никогда не выказывал своих подлинных чувств. Разведчиком он не был, этому его не учили. Но как вести себя, чтобы выжить, он знал. И делал все, чтобы его ни в чем не заподозрили и в один из дней смог бы вернуться в свою родную Голую Пристань.
Глава вторая
Первый пасхальный день тянулся бесконечно долго. Надоело есть, пить, без дела слоняться по лагерю. Все надоело.
И тут как-то сама собой у артиллеристов возникла благодатная мысль: снести на кладбище, к будущему памятнику, валяющиеся под ногами камни. Поначалу включилась в эту работу лишь одна батарея. Артиллеристы сходили один раз. Постояли, подумали. И отправились за следующей партией. Собрали все камни вокруг кладбища. Потом стали собирать их на территории лагеря.
Усердную работу артиллеристов заметили и другие. Тоже подключились. И уже вскоре белые гимнастерки рассеялись по всей долине, добрались даже до окраины Галлиполи. Кто-то нес камни в руках, но большинство приспособили для этого рогожные мешки или самодельные носилки. И приносили к месту, где собирались строить памятник, по десятку камней зараз. Никто не заставлял их это делать, не упрашивал, не подгонял. Шли с охотой, желая лично поучаствовать в этом поистине святом деле.
Каждого, кто приносил камни, отец Агафон благословлял:
– Спаси Господи!
И когда отец Агафон понял, что на первый случай камней нанесли уже достаточно, хотя еще далеко не все солдаты приняли участие в этой работе, он сказал пришедшим с очередными рогожками:
– Пожалуй, пока достаточно, сыны мои, – и объяснил: – Когда все эти камни строители израсходуют, позже поднесем еще.
Солдаты высыпали камни, отряхивались.
Подходили и подходили еще, освобождали свои рогожки от камней, приводили себя в порядок.
Когда солдат возле священника собралось много, отец Агафон взобрался на груду камней:
– Видел я сегодня, братья, прелестные письма, заброшенные вам сюда большевиками. Прочитал одно, – начал он свою священническую речь. – И хочу сказать вам: слово слову рознь. Только божье слово имеет твердость камня. А нынешними письмами прельщают вас вернуться, изменить долгу и присяге. Не верьте таким словам, а верьте сердцу своему. Оно вас не обманет. Нет у большевиков правды, негде им ее взять. Бога они от себя отринули. А живущий без Бога в сердце способен на все: нарушить клятву, предать товарища, ничем не поступиться. Он и убийство грехом не считает. А уж солгать, это для него вроде летнего дождика. Когда будете читать эти подметные письма, подумайте об этом. Не верьте ни единому их слову! И да спасет вас Господь!
– Верь не верь, отче, а до дому сердце тянется.
– Вернетесь! – пообещал отец Агафон. – Победителями вернетесь, не собаками побитыми.
– Когда энто будет, отец святой? Жизня, як вода в Дону, быстро текеть.
– Чует мое сердце: скоро! Безбожная власть долго не продержится! Верьте в это! И молитесь!
Шли с кладбища молча, задумчиво.
– Под Каховкой отец Агафон тоже обещал: на Днепре большевики остановятся, – сказал казачок в уже порванной в праздничный день белой рубахе. – И про Крым тоже всего наобещал…
Никто ему не ответил. Тихо расходились по палаткам.
Вечером в большой сдвоенной палатке, с пристроенной к ней по случаю пасхальных празднеств сцене, давали концерт. Это сооружение выглядело громоздким, называлось оно «корпусным театром», но разместить даже часть желающих в нем не могли. Поэтому на каждый полк, на каждое училище и другие армейские службы выделили всего по нескольку пропусков.
Счастливчики, приглашенные на концерт, собрались возле театра заранее, ждали, когда начнут впускать. Пришли и многие из тех, кому пропуска не достались. Они надеялись каким-то способом проникнуть внутрь театра. Если это не получится, то можно просто постоять у входа, и если не увидеть, то хоть услышать происходящее внутри действо: сквозь брезентовые стены театра звуки легко проникали наружу.
С заходом солнца палатка-театр осветилась изнутри карбидными лампами, на сцене зажгли яркие керосиновые десятилинейки.
Неожиданно над лагерем внеурочно прозвучала всем знакомая сирена побудки и отбоя. Солдаты-контролеры стали пропускать в театр владельцев пропусков и отчаянно отбиваться от тех, у кого пропусков не было..
В сопровождении полковых командиров и начальников других служб в театр прошли Врангель, Кутепов, Витковский и заняли скамейки первых двух рядов.
Сцена была закрыта тяжелым брезентовым занавесом, и оттуда доносились какие-то ленивые рабочие перебранки. Видимо, артисты договаривались о том, о чем еще в суете и в спешке не успели договориться.
Наконец перед занавесом встал архитектор, музыкант и режиссер – всеобщий любимец подпоручик Акатьев. Он выждал тишину и громко, голосом циркового шпрехшталмейстера провозгласил:
– Народная пиеса! «Царь Максимилиан и непокорный сын его Одольф»!
После того как стихли аплодисменты, двое солдат натужно раздвинули тяжелый брезентовый занавес. Сцена была пуста, но на полу валялся всякий хлам. Слева возле свернутого занавеса стоял все тот же Акатьев. Он снова объявил:
– Действующие лица!
И после этого объявления следом, один за другим через сцену прошли главные действующие лица. Посредине сцены они останавливались, кланялись залу и исчезали за кулисой. Акатьев во время прохода каждого действующего лица сообщал зрителям необходимые сведения.
– Царь Максимилиан. Не могу сказать о нем ничего: ни хорошего, ни плохого. Царь как царь. Хвастливый, жадный и очень жестокий.
Одет был царь в то, что смогли найти корпусные портные в своем скудном хозяйстве. Дамский халат изображал мантию. Он был расшит различными блестками из фольги и украшен лентами. И военная шапка тоже вся переливалась блестящими стекляшками. У него из-под мантии выглядывали штаны с лампасами. Видимо, их выпросили на время действия у кого-то из полковых командиров. На груди переливались разными цветами до блеска надраенные бляхи, надо думать – ордена…
Под смех публики Максимилиан скрылся, а на сцене возник высокий тощий его сын Одольф, одетый примерно так же, как и царь-отец, но только несколько скромнее, шапка беднее, похуже.
– Сын Максимилиана Одольф, – объявил Акатьев. – Что о нем можно сказать? В целом хороший парень. Но, к сожалению, безвольный, слабый характером. Но невероятно добрый. Даже удивительно, как у такого папы мог вырасти такой замечательный наследник.
Потом через сцену прошел и галантно раскланялся непонятно что за персонаж: в картонных латах, одной рукой он держал бутафорскую шашку, другой – что-то напоминающее щит. На его голове возвышалось нечто, напоминающее кастрюлю. По замыслу устроителей действа это был шлем…
– Аника-воин!
Так, под смех и аплодисменты зрителей, прошли все герои этого праздничного представления: рыцарь Брамбеус, маршал-скороход, старший гробокопатель. Гурьбой прошествовали пажи, стража. Последней шла Смерть. Она была в тряпье и с косой. Остановившись на середине сцены, она несколько раз взмахнула косой и церемонно поклонилась на три стороны – всем зрителям.
После представления всех героев сцена какое-то время пустовала. До зрителей доносились только звуки шагов бегущего человека. И, наконец, на сцену выбежал запыхавшийся маршал-скороход. Он оглядел зал и поздоровался со зрителями:
– Здравствуйте, господа сенаторы!
После веселых восторженных аплодисментов он продолжил:
Не сам я сюда к вам прибыл, А прислан из царской конторы. Уберите все с этого места вон И поставьте здесь царский трон. Прощайте, господа! Сичас сам царь прибудет сюда.Стража, слуги, пажи и воины торопливо убирают разбросанный по сцене хлам, затем, все вместе, вносят на сцену нечто громоздкое, напоминающее причудливый царский трон, и удаляются. И тут же на сцену выходит сам царь Максимилиан и обращается к публике зала:
– Вопрос вам, господа сенаторы!
За кого вы меня считаете? За инператора русского Или за короля французского? Я не инператор русский, Не король французский. Я есть грозный царь ваш Максимилиан. Шибко силен, по всем землям славен, И многаю милостью своею явен.На сцене продолжает идти действие.
Врангель тем временем повернулся к сидящему рядом Кутепову:
– Молодцы! Ничего не скажешь! – полушепотом одобрительно сказал он. – Это кто же такое сочинил?
– Не знаю. Народная, объявили, пиеса. Должно, сам Акатьев и сочинил. Он у нас ба-альшой выдумщик, на все руки мастер: и архитектор, и музыкант, поди, и пиесы сам сочиняет.
– Это тот, который памятник здесь, в Галлиполи, удумал поставить?
– Он самый.
– Какой удивительный народ. В боях, за военными хлопотами, не досуг было проявлять свои таланты, – и после коротких раздумий добавил: – Я уж думал, оторванная от родной земли армия пребывает в унынии и тоске. Ан нет! Живет! Чувствую, боевой дух пока сохраняется.
Действие на сцене продолжалось. Царь Максимилиан, оглядывая приготовленный для него трон, указывает на него рукой и с удовлетворением говорит:
– Воззрите на сие предивное сооружение, Воззрите на его дивные украшения! Для кого сия Грановита палата воздвигнута? И для кого сей царственный трон На превышнем месте сооружен? Не иначе, что для царя вашего. Сяду-ка я на оное место высокое И буду судить свово сына непокорного По всей царской справедливости.Под смех зала Максимилиан, кряхтя, взбирается по лестнице на вершину трона и там усаживается. Поболтав от удовольствия ногами, продолжает:
– Подите в мои царские белокаменны чертоги И приведите ко мне разлюбезного мово сына Одольфа. Нужно мне с ним меж собой тайный разговор вести.Пажи хором, в один голос, отвечают:
– Сей минут идем, И Одольфа приведем!Сделав саблями замысловатые движения, они, пятясь задом, спускаются в зал. В конце зала, у самого выхода, стоял Одольф, укутанный в конскую попону, чтобы его не узнали и не увидели в сумеречном свете зрители задних рядов.
Пажи сняли с Одольфа попону и под руки провели через весь зал на сцену. Там они поставили его перед троном на колени. Пажи встали по бокам с обнаженными саблями. Одольф воздел глаза вверх, туда, где на вершине трона восседал Максимилиан:
– О, преславный Максимилиан-царь, Разлюбезный мой родитель-батюшка! Бью тебе челом о матушку сыру землю: Зачем любезного свово сына Одольфа призываешь? Или что делать ему повелишь-прикажешь?Максимилиан:
– Любезный Одольф, сын мой! Не радостен мне ныне приход твой: Ныне я известился, Что ты от наших кумерических богов отступился И им изменяешь, А каких-то новых втайне почитаешь! Страшись мово родительского гнева, Поклонись нашим кумерическим богам!Одольф встает с колен и с пафосом произносит:
– Я ваши, отец-царь, кумерические боги Повергаю под свои ноги! А верую я в Господа Иисуса Христа И изображаю против ваших богов Знамение креста! (Крестится и крестит зал.) Содержу и содержать буду его святой закон!Пажи от таких слов в ужасе падают на пол. Царь Максимилиан в гневе топчет ногами трон, что-то кричит. Но его слова тонут в громе аплодисментов.
Занавес закрыли. На просцениуме вновь появился подпоручик Акатьев. Тоном судьи он коротко сообщает:
– Я ведь предупреждал вас, что царь Максимилиан не только жадный, но и очень жестокий. За то, что сын его отступил от кимерической веры и принял и полюбил новую веру, справедливую, православную, царь Максимилиан решил казнить Одольфа.
Где-то за сценой что-то грустное заиграл корпусной духовой оркестр. Солдаты вновь раздвинули тяжелый занавес.
Одольф перед смертью прощается с белым светом:
– Прощай, родимая земля, Прощайте, родные поля, Прощайте, солнце и луна. Прощай, весь свет и весь народ… Одольф кланяется своему отцу: – …и ты прощай, отец жестокий!И под сабельным ударом маршала-скорохода Одольф ничком падает на землю.
Но справедливое возмездие настигло Максимилиана. Он слышит высоко над собой громкий стук, затем жуткий женский вой. Максимилиан поднимает вверх лицо и кричит:
– Что там за баба? Почему пьяна?За кулисами что-то вспыхнуло, сцена на короткое время окуталась дымом. Он быстро расходится, и перед троном возникает оборванная старуха-Смерть с косой. Она отвечает Максимилиану:
– Я вовсе не баба, И вовсе не пьяна. Я – смерть твоя упряма!Зал разразился аплодисментами.
– Ну чертяки! Ну молодцы! – весело отозвался на аплодисменты Врангель.
А действо двигалось к своему завершению. Испуганный царь Максимилиан, все так же кряхтя, слез по лестнице со своего трона вниз, упал перед Смертью на колени, взмолился:
– Мати моя, любезная Смерть! Дай мне сроку жить еще хоть на три года!Смерть ему отвечает:
– Нет тебе срока и на один год!Максимилиан:
– Мати моя, разлюбезная Смерть! Дай мне пожить еще хоть три месяца!Смерть покачивает косой:
– Не будет тебе и на месяц житья!Максимилиан:
– Мати моя, преразлюбезная Смерть! Продли мою жизнь хоть на три дня!Смерть:
– Не будет тебе сроку и на три часа! Вот тебе моя вострая коса!Смерть ударяет Максимилиана косой. И под бурные аплодисменты зрителей он долго и мерзко умирает.
Потом все действующие лица, и живые, и ожившие, вышли на поклоны и вывели на авансцену смущенного и упирающегося подпоручика Акатьева. Стрельцы, пажи, сенаторы, Максимилиан с Одольфом и даже вполне симпатичная, с умытым лицом, Смерть подхватили его на руки, стали раскачивать и подбрасывать в воздух.
Зал аплодировал.
– Да погодите вы! Постойте! Дайте сказать! – просился Акатьев.
Когда его наконец поставили на ноги, он, тяжело дыша, объявил:
– Это не все! У нас еще концерт!
И потом, после небольшого перерыва, начался концерт. Танцевали и пели русские и украинские танцы и песни.
– Сколько талантов! – между какими-то номерами восторженно сказал Врангель Кутепову. – Как замечательно вы все это придумали!
– Вы не устали, Петр Николаевич? – заботливо спросил Кутепов.
– Пожалуй, можно и на покой, – согласился Врангель. – Я не устал. Но уж слишком много впечатлений. А молодежь пускай повеселится. Завтрашние занятия отмените.
И они стали осторожно продвигаться к выходу.
…Сыпал снег буланому под ноги, С моря дул холодный ветерок… —разносился со сцены чистый красивый голос.
Врангель остановился, обернулся. На сцене пел высокий, чуть сутулый солдат. Врангель уже слышал когда-то эту песню про казака, который заехал в хутор погреться. И, кажется, совсем недавно. Да-да, вот же эти слова:
…Ехал я далекою дорогой, Заглянул погреться в хуторок…Это была та же самая песня, некогда прежде им уже слышанная. Когда же он услышал ее впервые? Ну да! Во время перехода из Севастополя в Константинополь. И голос такой же. Нет, пожалуй, тот же голос. Врангель вспомнил: каждый раз ему что-то мешало дослушать песню до конца.
…Встретила хозяйка молодая, Как встречает родного семья, В горницу любезно приглашала И с дороги чарку налила… —пел солдат. Это был Андрей Лагода.
Поняв, что он мешает зрителям смотреть и слушать, Врангель неожиданно для Кутепова, пригибаясь, стал обратно пробираться к своему месту. Кутепов, не очень понимая такого маневра командующего, двинулся следом.
– Хочу дослушать эту песню, – усаживаясь на свое прежнее место, шепотом объяснил он Кутепову.
…А наутро встал я спозаранку, Стал коня буланого поить. Вижу, загрустила хуторянка И не хочет даже говорить.– Вы не знаете этого солдата? – спросил Врангель.
– Слишком много их у меня, – ответил Кутепов.
– Да-да, конечно, – согласился Врангель и добавил: – Голос редкий. Ему бы в консерваторию.
А Андрей продолжал:
Руку подала, и ни словечка Мне не хочет вымолвить она. Снял тогда с буланого уздечку, Расседлал буланого коня.Краем глаза Андрей заметил, что Врангель, глядя на него, о чем-то разговаривает с Кутеповым. Его прошибло холодным потом: неужели до чего-то докопались? А ведь все, казалось, продумал, нигде не наследил.
Так и не доехал я до дома, Где-то затерялся в камыше. Что же делать парню молодому, Коль пришлась казачка по душе?Закончив петь, Андрей торопливо раскланялся и ушел за кулисы. Подумал: «Если сейчас схватят, значит, все, что-то не до конца продумал, не так сделал. Он еще тогда предупреждал Красильникова, что такая жизнь не по нему. Не годится он для чекистской работы. Если все обойдется, надо бежать! Но куда? Для начала в Новую Некрасовку. Там есть Никита Колесник, он знает, где можно его спрятать». Все это промелькнуло в голове мгновенно.
И тут к нему подошел Акатьев.
– Я тебя ищу! Спустишься в зал и подойдешь к генералу Врангелю, – он придирчиво оглядел Андрея. – Гимнастерку одерни, причешись. И не забудь представиться!
– Может, потом? После концерта? – с надеждой оттянуть время спросил Андрей.
– Делай, что сказано!
Но от сердца у Андрея все же немного отлегло: если бы хотели арестовать, не послали бы к самому Врангелю. Что-то тут другое! Но что?
Он проскользнул со сцены в зал и, пригибаясь, направился к сидящим в первом ряду генералам. Увидев его, Врангель встал, за ним подхватились и остальные его сопровождающие.
– Дозвольте доложить, ваше… – приглушив голос, но все же довольно громко начал Андрей.
– Ти-хо! – остановил его Кутепов. – Не шуми, солдат. Выйдем отсюда.
Они покинули палатку-театр, отошли чуть в сторону от любопытных. Кутепов сказал:
– Вот теперь доложись. Только, пожалуйста, не кричи, не расходуй понапрасну голос.
– Солдат Лагода, дроздовской пехотной дивизии. Начальник дивизии генерал-майор Туркул.
– Хорошо поешь! Благодарю за песню, – сказал Андрею Врангель. – Сам песню сочинил?
– Никак нет, ваше превосходительство! От донских казаков слыхал. Запомнил.
– Пению учился?
– Дома. У нас вся семья такая, все любят спивать.
– Украинец?
– Так точно.
– Откуда? Где такие соловьи рождаются?
– С Таврии, ваше превосходительство. С Голой Пристани. Небольшое такое село в самом устье Днепра. Корсунский монастырь неподалеку.
– Знаю, – сказал Врангель. – Рыбой ваше село славится. И еще у вас там молоко отменное.
– Выпасы хорошие. Плавни. Трава сочная, – объяснил Андрей.
– Я у вас там бывал. Помню, там есть знаменитое соленое озеро. Говорят, от всех болезней лечит. Меня после контузии два раза туда возили. Попустило руку, – и без перехода Врангель спросил: – Домой-то, поди, тянет?
– Если скажу, шо не тянет, сбрешу. А токо нельзя мне туда. Навечно дорога заказана.
– «Навечно»? – не понравился ответ Лагоды Кутепову. – Ты что же, не веришь в нашу победу?
– Я в том смысле, что, пока там большевики, расстреляют они меня. Один раз уже расстреливали. Да, видно, еще не пришло мое время. Промазали. До ночи среди мертвяков пролежал, насилу выбрался. И – назад, к своим.
– Большевики амнистию объявили. Всем обещают прощение, независимо от вины.
– Брешут. Если тогда не добили, счас добьют.
«Ишь ты, как издалека заходят, – подумал Лагода. – Выпытать хотите? Или что-то знаете? А я буду вам так отвечать, чтобы вам нравилось».
И Лагода добавил:
– Конечно, если гуртом до дому в Россию вернемся, я согласен. А поодиночке – не. У меня с большевиками разные путя!
– Правильно рассуждаешь, солдат! – сказал Врангель. – Вместе вернемся! – он взглянул на Кутепова: – Вот вам, Александр Павлович, истинный голос народа. Побольше бы нам таких солдат!
Врангель и Кутепов распрощались с Лагодой. Направляясь к автомобилю, чтобы уехать в город, и затем в автомобиле они продолжили разговор.
– Вы типографию наладили? – спросил Врангель.
– Как и обещали. Даже газету выпускаем, пока один номер в неделю. С бумагой беда.
– Вернемся к нашему разговору об опыте Климовича. Расскажите об этих листовках. Их ведь все равно уже все, кто хотел, прочитали. Объясните, чего добиваются большевики, развенчайте их ложь, приведите убедительные примеры. Возьмите того же солдата Лагоду. Чем не герой для вашей газеты? Однажды уже расстрелянный большевиками, чудом спасшийся, он снова вернулся в наши ряды. Поучительный пример.
Когда Лагода вернулся к театру, где все еще не расходились солдаты, его обступили.
– Ну, что тебе сказали генералы?
– Спросили: листовки читал? Говорю: читал.
– И что ты по этому поводу думаешь?
– Я и сказал: думаю.
– Брешешь! Не сказав.
– Хотел сказать, да раздумав. Но я не брешу. Я и вправду думаю.
– Об чем?
– Да об этих листовках. Поверить – не поверить, хочется поверить. Сильно до дому тянет.
Наутро Врангель на «Лукулле» отправился обратно в Константинополь. Поездкой в Галлиполи он остался доволен. Армия жила и крепла. Только бы ничего не случилось непредвиденного, и тогда если не летом, то осенью можно будет выступать в новый поход.
Он подумал даже о деталях, которые уже не первый день вынашивал. Высаживаться надо будет не в Крыму. Как страшный сон ему хотелось навсегда забыть этот распроклятый гнилой Сиваш, этот богом забытый Крымский перешеек. Выбросить десанты надо будет где-то в районе Одессы и разослать войска по равнинным просторам Причерноморья. И дальше, и вперед…
Почему вдруг тогда пришла ему в голову эта бредовая мысль: пересидеть зиму в тепле и продовольственном достатке в Крыму? По чьему наущению он тогда воспринял ее как спасительную?
Нет, теперь он эту ошибку не повторит!
Через неделю после отъезда Врангеля в Константинополь в Галлиполи вышел очередной номер газеты Первого армейского корпуса «Галлиполиец». В довольно большой заметке под названием «Стойкий солдат» подробно рассказывалось о трудной судьбе однажды расстрелянного большевиками русского солдата Андрея Лагоды. Он на своей шкуре испытал цену этой амнистии и поэтому одним из первых сдал подброшенную ему большевистскую листовку своему командиру.
Глава третья
Говорят, время лечит. Слащев это почувствовал на себе. Обида на Врангеля постепенно отступила, оставила лишь незлобивую память о прошлых ссорах, размолвках и недоразумениях.
Слащев не сразу, но приспособился к своей новой цивильной жизни. Его авторитет прославленного генерала стал работать на него и даже приносить небольшой доход. Иногда он стал помогать Соболевскому на собачьих боях и тоже зарабатывал какие-то копейки. Времени эта работа отнимала немного. Бои проводились по пятницам в светлое время суток.
Кроме того, к его честности и справедливости стали обращаться такие же, как и он, обездоленные, не сумевшие прочно стать на ноги на чужбине – и вскоре он стал непререкаемым арбитром в самых запутанных хозяйственных спорах. Это тоже не занимало много времени. Вся эта его многогранная деятельность много денег не приносила, но скромное проживание обеспечивала.
Хорошим помощником стал Слащеву его на редкость хозяйственный денщик Пантелей. В прежней армейской кочевой жизни он не мог в полной мере проявить свои хозяйственные способности, зато сейчас он освободил и Якова Александровича, и Нину Николаевну от многих бытовых забот. Он принял на себя хождение на базар, приготовление пищи, а часто даже стирку. И поэтому Нина Николаевна выговорила у Якова Александровича право работать и вскоре нанялась гувернанткой к богатым русским, давно и прочно обосновавшимся в Константинополе.
Томясь от безделья, Яков Александрович большую часть своего свободного времени посвящал Марусе. Он полюбил эти часы, когда в доме не было Нины, а Пантелей где-то неподалеку погромыхивал кастрюлями – и он просто сидел возле колыбельки, сотворенной из снарядного ящика, и задумчиво смотрел на тихо спящую дочь. При этом он думал о чем-то своем или же представлял Марусю уже взрослой. Вот они идут по Санкт-Петербургу, который он покинул совсем мальчишкой, и невзначай встречают на улицах совсем непостаревших довоенных знакомых своих родителей, и своих приятелей, которые остались все такими же, какими они были тогда. И все они восторгаются красотой его дочери. И его душа наполняется от этого гордостью.
Примерно так выглядела его мечта.
Иное произошло в его прошлой жизни. Была у него дочь Вера, но память о ней не сохранила ничего. В том возрасте зачастую молодые родители считают крохотных крикливых малюток некоей обузой, помехой в веселой, удалой жизни. Он не знал, как она росла, потому что видел ее крайне редко и мельком, не знал, когда она сделала первые шаги, не помнил, какие она произнесла первые слова.
Иное дело Маруся. С первых дней он принял в ее жизни самое горячее участие, отстоял ее у голодной смерти и с интересом наблюдал за каждодневными крохотными ее изменениями. Только недавно она, казалось, куклой лежала в колыбельке и бессмысленно хлопала своими чистыми синими глазами. И вот взгляд стал осмысленный, и она уже хватается за все, до чего может дотянуться, ворочается, кривляется, пускает пузыри и издает какие-то невнятные комичные звуки, все громче и настойчивее заявляя о своем появлении на свет.
И сам Слащев, и Нина Николаевна постепенно смирились с такой жизнью, понимая, что другой у них уже не будет, что вернуться в Россию им не суждено. Они твердо знали, что слухи об амнистии, которые в последнее время до них доносились из-за моря, на них не распространяются. Если же он когда-нибудь и окажется в России, его расстреляют прямо на Графской пристани. Вряд ли сохранят жизнь и Нине с дочерью. В лучшем случае их отправят на каторгу, где они тихо, незаметно навсегда исчезнут.
У Нины были дальние родственники в Италии. Они переехали туда в самом начале российской смуты и все еще с трудом приживались на новом месте. Уехать в Италию? Такая мысль иногда посещала Нину, но Слащев тут же взрывался:
– Не смей даже думать об этом. Случись что, меня не станет, тогда сама решай. Но, пока я жив, никаких Италий, Бразилий! Все!
Слащев постепенно входил во вкус неторопливой и тихой обывательской жизни. Ни тебе начальников над тобой, ни подчиненных, за которых несешь ответственность.
Там, в городе, он все еще пока слыл грозным генералом, а дома, особенно когда оставался один, поначалу терялся из-за подгоревшей каши или описанных пеленок, расстраивался, когда Маруся поднимала крик, что-то требуя или против чего-то протестуя.
Но постепенно все основные хозяйственные и бытовые заботы Пантелей полностью переложил на себя, а все оставшееся ему, даже крик Маруси, уже не приводило его в ступор.
Слащев часами мог просто просиживать возле спящей дочери, и ему это нравилось. Петь он не умел и, когда начинал «колыбельную», Маруся тут же от страха поднимала крик. Потом он сменил тактику и вместо пения стал ей что-то рассказывать. И заметил, что, едва начинал звучать его голос, Маруся затихала и безмолвно, даже с интересом выслушивала его «отчеты» о происходящих событиях в мире, в городе или в доме. Очевидно, ее успокаивал его тихий, спокойный, умиротворяющий голос. А возможно, она уже начинала что-то понимать. Во всяком случае, когда он принимался ей что-то рассказывать, она стихала и не мигая смотрела на него.
– У попа была собака, – говорил он. – Ну, не совсем собака, а так, собачка, маленькая, пушистая и очень непослушная. Несмотря на некоторые ее недостатки, поп, понимаешь, ее любил. А она, неблагодарная, однажды высмотрела, когда повара не было на кухне, быстренько туда заскочила и, представляешь, украла кусок мяса. Как ты думаешь, что сделал поп? Он ее побил…
Это повторялось много раз. И Маруся, едва только он начинал свой рассказ про попа, с различными, естественно, вариациями, внезапно смолкала и в десятый раз с неизменным интересом слушала одно и то же.
Но со временем Слащеву надоела эта каждодневно повторяемая глупость, и он стал рассказывать Марусе о выигранных им сражениях, потом перешел к различным новостям, которые сам же возле кроватки и выдумывал.
– Яша! Ну что ты все какие-то глупости? Какие сражения? Какие пожары? – нечаянно услышав очередную беседу папы с дочкой, возмущенно сказала Нина. – Неужели тебе в детстве «колыбельные» не пели?
– Пели. Старуха-нянька. Она так страшно пела, что я стал ее бояться.
– Ну а сказки?
– Ну как же! Немка-гувернантка. Ну, это уже позже. И они были все какие-то глупые. Да и какая разница, что я Маруське рассказываю?
– Сказки с другой интонацией рассказывают. Сказки добрые, и рассказывать их надо добрым голосом.
– А если сказка злая? Про ведьму, Змея Горыныча или про злых карликов?
– А ты такие не рассказывай. Ты про что-нибудь доброе. Про добрых королей, про красавиц фей.
– Не помню таких
– А ты сам что-нибудь сочини.
– Я не сочинитель. Я – военный.
– Сочини про военных. Только что-то доброе.
Однажды Маруся закапризничала. Слащев склонился к ней:
– Ну, и чего ты? На кого обижаешься? – и, подумав, сказал: – А хочешь, Маруська, я тебе такое расскажу, чего ты еще никогда не слыхала. Да и я тоже. Но – ничего. Авось как-нибудь выберемся?
Маруся стихла и стала ждать.
– Ты только наберись терпения. Хорошие сказки короткими не бывают. В них же люди живут. И про каждого хочется рассказать…Так вот! Жил, понимаешь, на свете один король. Точно не знаю где, но, должно быть, в Тридевятом царстве. Там они все обычно проживают. Ты только палец в рот не клади, некрасиво это… Ну, жил он и жил…
Пантелея дома не было, вероятно, пошел на базар. Нина чем-то занималась на кухне. Но, как всегда, прислушивалась к звукам в детской комнатке на случай, если придется поспешить Якову на помощь. И услышала, как Яков сочиняет сказку.
– Ходил король, между прочим, в короне. Ну, это такая шапка, очень, скажу тебе, красивая, но неудобная. Зато все, кто видел его в короне, сразу догадывался: это король. И что ты думаешь? Однажды вор, который почему-то тоже проживал в Тридевятом царстве, украл у короля корону. Воры любят проживать в Тридевятом царстве, потому что там очень добрый и беспечный народ. И законы там для воров замечательные: большой вор за большое воровство получает самое маленькое наказание, а маленький вор за совсем крохотную кражу осуждается на пожизненную смерть. Такие были у них законы. Король про них ничего не знал, поскольку был неграмотный, ни читать, ни писать не умел, зато научился красиво расписываться.
Так вот! Буквально на секунду снял король с головы корону, может, чтобы расписаться, – и все, и нет короны. И что ты думаешь? Народ вдруг сразу перестал узнавать короля, потому что он ничем не отличался от остальных жителей Тридевятого государства кроме разве что короны. Были когда-то, очень и очень давно, такие короли. Сейчас таких уже нет. Даже в сказках они повывелись. Король, конечно, очень огорчился случившимся, ходил по всему своему королевству и всех спрашивал, не видел ли кто-нибудь где-нибудь его корону. Он не уставал всем рассказывать, что это он – король, что он только на минуту снял корону с головы – и нет ее. А ему не верили. У них там, в Тридевятом царстве, хоть и очень хороший народ, но никому просто так, на слово не верит. Мало кто скажет, что он король. А чем докажешь? Где доказательства? Ни паспорта у него, ни хоть какой-нибудь завалященькой справочки при нем не было. Их вообще в этом царстве не было. Сама подумай, какой прок в паспорте или в справке, если весь народ в этом царстве был сплошь неграмотный…
Маруся внимательно слушала.
Приостановив свои дела, Нина тоже незаметно прислонилась к косяку двери.
– И знаешь, что случилось? – продолжил рассказывать Слащев. – Из королевского дворца ушла вся прислуга. Даже все повара, лакеи, садовники. Захотел король, к примеру, есть, хлопнул в ладоши – такая у них привычка: в ладоши хлопать, когда есть хотят – но никто не явился, ничего не принес… Тогда он громко распорядился принести ему обед. Но, сама посуди, кто станет прислуживать какому-то самозванцу? Тогда он стал угрожать. Он объявил, что за неповиновение половину жителей королевства он повесит, а половину утопит. Он, конечно, не собирался никого ни топить, ни вешать, потому что был добрый. Но и добрый, понимаешь ли, может озвереть, когда хочет кушать. Народ ему не верил, все над ним только потешались. И в конце концов стража просто выгнала его из дворца. Такие вот печальные дела! Только ты, Маруська, не хнычь, пожалуйста. Это все же сказка. А в сказках все обязательно хорошо кончается
Нина, стоя у двери, улыбалась.
– Так вот: однажды вор вышел из дому и по рассеянности вместо шапки надел на голову украденную корону. И все стали ему кланяться. Он шел по улице, и все жители кричали: «Король вернулся! Какая радость! У нас опять есть король!»
И вор поселился теперь в королевском дворце, к нему тут же вернулись все лакеи. Хочешь спросить: почему? Потому что они лакеи. Лакей – это ведь не профессия, а свойство характера. Не понимаешь? Когда-нибудь, когда подрастешь, сама все это узнаешь. Ну вот! Вор стал жить-поживать во дворце и постепенно даже стал забывать, что он – вор.
А настоящий король жил теперь под мостом и голодал. Питался он тем, что ему как нищему что-то подадут. И больше он никогда и никому не говорил, что он король. Наверное, стал со временем даже забывать, что он когда-то был королем.
Такие вот дела, Маруся!
Ты, конечно, хочешь у меня спросить: а как же жители? Ты не поверишь! Они стали жить намного лучше, чем прежде. Потому что вскоре не стало в королевстве ни бедных, ни богатых. И знаешь почему? Воровство больше не стало преступлением. Воровать стали все.
Вор-король даже учредил награды и знаки отличия: «Главный вор королевства», вор первой, второй и третьей гильдий, а также поощрительная медаль «Начинающий вор королевства». Выпущен был даже обязательный к ношению знак «Вор-неудачник», но его пока никому не вручили, поскольку неудачливых воров пока не было: богатые воры воровали у бедных, а бедные у богатых. Постепенно все жители королевства стали одинаково бедными или одинаково богатыми – это уж как посмотреть.
Слащев посмотрел на Марусю. Она тихо лежала, прикрыв глаза.
– А ты, подруга, спишь? Ну ладно. Я тебе в другой раз все доскажу, – и он смолк.
Но Маруся снова открыла глаза и что-то нечленораздельно сказала.
– Что, настаиваешь, чтобы продолжал? А я не знаю, что там было дальше. У сказки ведь должен быть хороший конец, правда? А какой может быть конец у такого воровского королевства, я даже ума не приложу, – и он решительно сказал: – Ладно! У нас ведь сказка? А в сказке, да будет тебе известно, можно кое-что присочинить, чтобы добро обязательно победило зло. В жизни чаще всего наоборот, но это ты тоже узнаешь позже, когда вырастешь. А пока… Слушай, что было дальше.
Был жаркий день, даже намного жарче, чем сегодня. Вор-король выехал со своего ворованного дворца и поехал по городу. Когда он переезжал мост через реку, ему очень захотелось искупаться. Так сильно, что он остановил карету и бултыхнулся в воду. Плавал, кувыркался.
А под мостом, как ты, наверное, помнишь, жил наш настоящий король. Он жил там потому, что его отовсюду прогоняли и только здесь его никто не трогал. Так вот, бывший король тихонько спустился к реке, и, что ты думаешь, он увидел лежащее на траве что-то блестящее и красивое. Это была королевская корона. Та самая, его корона. Он надел ее на голову, и все проходящие мимо жители тут же узнали его. И сразу же повезли во дворец. Там его встретила жена-королева и его маленькая дочь-принцесса, которая родилась тогда, когда король жил под мостом. А королева пряталась в королевском дворце, в котором было сто комнат, а может быть, и тысяча. Поэтому ее никак не могли там найти. Я там не был, не знаю. Во всяком случае, там было где спрятаться.
Как заканчиваются сказки? Стали они жить-поживать и снова добро наживать. Прежнее добро-то было разворовано.
Вот и все. Тут и сказке конец.
– Нет. Неправильно. Ты забыл рассказать, что стало с вором. В сказках зло должно быть наказано, – войдя в комнату, сказала Нина. – Иначе какая же это сказка?
– В моей сказке никто никого не наказал, – не согласился Слащев. – Вор не стал спорить, что-то доказывать, судиться, что у него украли корону. Он ведь знал, что он вовсе не король. Правда, ему иногда все еще снятся сны, что он снова украл корону и опять стал настоящим королем. Такой конец сказки тебя устраивает?
– Нет.
– Иной конец я тебе предложить не могу. Потому что в моей сказке этот вор был вполне приличный человек. Бывают и приличные люди – воры. Ну те, которые воруют у воров и возвращают ворованное обворованным. Правда, это случается очень редко, и то – только в сказках.
– Нет! Мне не нравится такой конец, – решительно сказала Нина. – Чему в таком случае учит эта твоя сказка?
– Ничему. Это ведь неправда, что сказки чему-то учат. Учит жизнь. И то, если больно учит.
Иногда по старой памяти к Слащеву заходил Жихарев. Он как-то незаметно вошел к нему в доверие. И хотя едва сводил концы с концами, почти всегда приносил с собой какой-то дешевенький подарок, игрушку ли для Маруси или гроздь винограда, апельсин или кусочек рахат-лукума для Нины Николаевны. Ему льстило, что он знаком с самим Слащевым и имеет возможность иногда его навещать.
Когда однажды Маруся заболела, Слащев вызвал из посольства врача. Тот сказал, что ребенок ослаблен, ему нужно усиленное питание, и посоветовал включить в ее рацион куриный бульон.
Узнав об этом, Жихарев принес двух живых кур.
– Вы уж, пожалуйста, одну зарежьте, – попросил Слащев.
– А что ж вы сами? – удивился Жихарев.
– Не могу.
– Как это? – не понял Жихарев.
– А так. Я за всю свою жизнь ни одной курицы не зарезал. Боюсь крови.
Жихарев отошел к связанным курам, возле которых уселась и наблюдала за ними добела отмытая Зизи. Трогая их лапой, играла с ними.
Зизи в доме никого не признавала, ни хозяина, ни хозяйку и как привязанная постоянно ходила следом за Пантелеем, и он всегда находил для нее на кухне что-нибудь вкусненькое. Она любила конфеты, и у Пантелея в кармане всегда лежало для нее какое-нибудь угощение. Даже конфеты, которые Пантелей покупал для нее на базаре, выкраивая для этого несколько копеек из семейного бюджета.
– Скажите Пантелею, пусть зарежет курицу! – распорядился Слащев.
– Да чего там! – Жихарев вынул из кармана складной, слегка похожий на ятаган нож и, прихватив одну из связанных куриц, скрылся с нею за сарайчиком. Вскоре вернулся, положил у ног Слащева мертвую курицу и стал травой протирать нож.
– Пантелей! – окликнул Слащев денщика. – Тебе работа!
Пантелей унес зарезанную курицу на кухню, следом за ним последовала и Зизи.
Жихарев присел на скамейку рядом со Слащевым, задумчиво закурил. После долгого молчания сказал:
– Я, конечно, извиняюсь, а что ж большевики в газетах писали: «Слащев – кровавый палач», «Слащев – вешатель»? Я сам читал.
– Они дураки, – ответил Слащев. – Генералы не расстреливают и не вешают. Они отдают приказы. Всего лишь. Расстреливают и вешают другие.
– А не жалко людей? – спросил Жихарев.
– Людей?.. Ну, вот завелись у тебя вши, блохи или клопы. Жалеть их будешь?
– Ну, вы скажете! Мы – о людях.
– А чем эти твари отличаются от тех, кто ворует, грабит, убивает ни в чем не повинных?
– Все равно он, хоть и плохой, но человек.
– Ошибаешься. Такой – не человек. И цена ему такая же, как той же блохе. Человек – это тот, кто живет на пользу людям. Или хотя бы думает, что живет им на пользу.
– По-вашему выходит, что красные, они вроде как и не люди.
– Ошибаешься. Они думают, что создают новый мир, полезный человечеству. Они – люди. Возможно, заблуждающиеся, но люди, – и, помолчав немного, Слащев добавил: – Это, брат, сложные материи. Я и сам не до конца в них разобрался. Но изо всех сил пытаюсь.
После возвращения Врангеля в Константинополь начальник штаба Шатилов пришел к нему с докладом. Ничего заслуживающего внимания главнокомандующего в первые пасхальные дни не произошло.
– Правда, дважды заходил в штаб и хотел с вами встретиться господин Юренев, – сказал Шатилов.
– Что за Юренев? – удивленно спросил Врангель. – Кто такой?
– Помните, в рождественские дни заходил к вам господин? Назвался Юреневым. Сказал, что представляет в Константинополе российских общественных деятелей.
– Что ему было нужно?
– Просил вас походатайствовать насчет помещения для общества.
– Что-то припоминаю. Там у них, в этом обществе, всякие политики, адвокаты, журналисты. Шайка дезертиров. И что же?
– Вы попросили нашего посла Нератова помочь. Кажется, им выделили комнату в здании посольства.
– Оказывается, я иногда по доброте своей совершаю большие глупости, – скупо улыбнулся Врангель. – И что ему надо на сей раз?
– Он оставил письмо. Думал, срочное. Распечатал. Это что-то вроде доноса.
– На кого?
– На вас, ваше превосходительство. К ним обратился Яков Слащев, вменяет вам в вину все наши военные неудачи. Осторожный господин Юренев ответил Слащеву, а вам пересылает его копию.
– Интересно, – Врангель взял особняком лежащее на столе письмо, углубился в чтение. Прочтя, поднял глаза на Шатилова: – Ну, и что вы по этому поводу думаете?
– Не обращать внимания. Их много теперь таких, ваше превосходительство.
– Каких?
– Ну, уверенных в том, что они могли бы разгромить красных. Всем языки не укоротишь. Как это говорится: собака лает…
Врангель нахмурился:
– Слащев – это не один из многих Он один такой – Слащев-Крымский. Вот только он, к сожалению, уже забыл, что это я присоединил к его фамилии почетное звание «Крымский», что это я поддерживал его во всех его делах? Закрывал глаза на все его кокаиновые непотребства?
– Я с трудом представляю, как на него можно повлиять! Был бы он в армии, можно было бы предать его суду чести, – размышлял Шатилов. – Ведь это вы сами своим приказом отстранили его от армии.
– Но он все еще генерал. Отставленный от армии, но – генерал.
Шатилов начинал неторопливо что-то уяснять:
– Вы предлагаете…
– Я пока ничего не предлагаю, – ворчливо сказал Врангель. – Я всегда полагал, что предлагать – обязанность моих подчиненных, в том числе и начальника штаба. А моя задача – выбирать среди предлагаемого лучшее.
Врангель все больше багровел. Шатилов хорошо знал своего командующего: еще минута-другая, и он зайдется в неприличной истерике.
– Я вот о чем думаю, – почти как в цирке дрессировщик львов, тихим успокаивающим тоном сказал Шатилов. – Все же мы можем предать Слащева Суду Чести. Я сегодня же подготовлю для суда соответствующее представление, – он замялся. – Хотя, конечно…
– Что?
– В этом содержится некоторое нарушение. По статуту Суду Чести предаются только действующие офицеры.
– К черту формальности! Судить будем всех высших офицеров, которые роняют авторитет нашей армии! И не имеет значения, находятся они на службе или отстранены от нее! – все же наконец взорвался Врангель.
Спустя неделю состоялся Суд Чести. Судили Слащева заочно. Основанием послужило его обращение на имя председателя Комитета общественных деятелей Юренева. В постановлении Суда Чести говорилось:
«Признать поступок генерал-лейтенанта Слащева-Крымского Я.А. в переживаемое нами тяжелое время недостойным русского человека и тем более генерала, посему генерал-лейтенант Слащев-Крымский Я.А. не может долее быть терпимым в рядах Русской армии».
Принесенное Шатиловым постановление Суда Чести на одобрение Врангель бегло просмотрел и размашисто написал:
«Утверждаю! Приказываю уволить генерал-лейтенанта Слащева-Крымского от службы…»
– Ваше превосходительство, но он уже однажды уволен! – сказал Шатилов. – Как тут быть?
Врангель какое-то время молча размышлял и затем приписал:
«… без права ношения мундира».
Шатилов забрал утвержденное Врангелем постановление, прочитал конец резолюции.
– Вот с этим Слащев никогда не смирится, – сокрушенно покачал головой Шатилов. – С семнадцати лет в армии, девять боевых наград…
– Не давите на жалость, Павел Николаевич. Я в своей жизни из-за доброты совершил немало ошибок. Сейчас иное время. Оно заставляет меня быть жестоким.
И уже когда Шатилов покидал кабинет, Врангель бросил ему вслед:
– И, прошу вас, никогда больше не напоминайте мне о Слащеве. Для меня он погиб еще тогда, в мае девятнадцатого, в боях при овладении Крымом.
Вечером штабной нарочный принес Слащеву подписанный Врангелем приказ об увольнении из армии.
– Они что, больные! – сказал он Нине. – В который раз меня со службы увольняют. Одного раза им показалось мало?
Но, дочитав приказ до конца, он удивленно проворчал:
– Но нет, тут не все так просто.
– Что там еще? – спросила Нина.
– Похоже, они решили добить меня до конца. Вот, читай: «…уволить со службы…». Это ладно, смотри дальше: «…без права ношения мундира».
Он нервно походил по комнате, осмысливая происшедшее. И затем сказал, но не Нине, а тем другим, которых здесь, в комнате, не было:
– Ну, подлецы! А вы мне его давали, этот мундир? А генеральское звание? Я что, на базаре его купил? Испугались, что открою правду о бездарном руководстве военными операциями? Не я провалил битву за Каховку, и не я почти без сопротивления отдал большевикам Крым! Чтобы я молчал, решили вычеркнуть меня из жизни?
Он продолжал раздраженно ходить по комнате, где, широко раскинувшись на своей кроватке, спала Маруся. Несмотря на громкие голоса, она не просыпалась, лишь изредка приоткрывала свои синие глазенки, словно проверяя, все ли в порядке, и, увидев вышагивающего по комнате отца, снова успокаивалась и медленно смежала веки…
Слащев еще немного походил, прислушиваясь к чему-то. Неподалеку, на кухне, тихо звенела посуда, и Нина о чем-то переговаривалась с Пантелеем. Решившись, он проскользнул в другую комнату, осторожно косясь по сторонам, бесшумно открыл дверцу шкафчика, стал торопливо там шарить среди всякой домашней мелочи.
То, что искал, нашел не сразу. Наконец, зажав в руке что-то маленькое, невидимое, он закрыл дверцу шкафчика и обернулся.
В двери комнаты стояла Нина и строго на него смотрела.
Слащев сник.
– Ну, что? Что ты так смотришь? – зло спросил он. – Тебя что, за мной следить приставили?
Нина протянула руку:
– Дай!
– Что? В чем ты меня подозреваешь?
– Ты клялся мне!
– Один раз! Всего один раз, Нина!
– Ты хорошо знаешь, чем это кончается. Отдай!
– Нет! Клянусь, только один раз! Только один! И все! Навсегда! – Слащев уже не требовал. Он унизительно и жалобно просил: – Ты же знаешь меня! Я смогу! Я уже пять месяцев продержался!
– И сейчас не надо, Яша! Не надо, миленький! Умоляю! Возможно, они на это и рассчитывают?
Нина подошла к нему, одной рукой обняла, второй вынула из его руки небольшой пакетик. Он покорно разжал ладонь и обессиленно склонил голову на ее плечо.
– Тяжко мне, Нина! – с болью в голосе сказал он. – За что они так со мной?
На следующий день, тщательно выбритый, бодрый, он снова обложился бумагами, стал что-то писать.
– Прекратил бы ты, Яша, всю эту тяжбу. Они сильнее.
– Правда сильнее! Я добьюсь суда над ними.
– Что такое правда? Ты добьешься только еще больших неприятностей. Не зря ведь говорят: не судись с богатым.
– Так говорят дураки и проходимцы. Я ни в чем и никогда не запятнал своего мундира и хочу потребовать лишь малости: разобраться в этом деле и всенародно заявить о моей невиновности. Они отменят этот унижающий мое достоинство приказ. Я добьюсь этого. Со мной они не смеют так поступить!
Нина с какой-то доброй бабьей жалостью и сочувствием тихо сказала:
– Ну пиши, чего уж там! Только пустые это хлопоты, Яша, – и вышла.
Успокаиваясь и перебирая в памяти все касающееся этого его повторного увольнения, он снова продолжил какое-то время ходить по комнате, затем опять присел к столу. Написал о том, что на Суде Чести не присутствовал и ничего о нем не знал:
«Я не допрашивался и не давал показаний, мне не дано было право отвода лиц, которых я сам неоднократно обвинял. К тому же никакому Суду Чести я не подлежу еще и по той причине, что еще задолго до него был уволен в беженцы.
Помимо всего прочего, я – Георгиевский кавалер, и в связи с этим могу быть лишен мундира только со снятием с меня этого ордена, который был пожалован мне не генералом Врангелем, а Государем Императором», – написал Слащев и отложил ручку. Вспоминал, не упустил ли еще чего.
Снова взялся за перо:
«В Приказе сказано, что мой поступок недостоин русского человека. Обсудим! Я не знаю, какой мой поступок так разгневал господ судей. Но я тот самый русский человек, кто с горстью солдат-храбрецов в мае девятнадцатого освободил от большевиков Крым и позже удерживал его, давая приют бежавшим из Новороссийска.
Лишили же меня права ношения мундира те, которые провозгласили Крым неприступной крепостью, но, имея почти равные с противником силы, довели своими действиями российские войска до позорного бегства из Крыма.
Как русский человек, я заявляю, что пребывание таких людей в Русской армии даже сейчас, когда она находится на чужбине, вреднее для всего дела, что инкриминируется судом мне».
Слащев отложил перо, задумчиво ходил по комнате. Заглянул в соседнюю комнатку, Маруся по-прежнему спала. Снова вернулся к столу:
«Льщу себя надеждой, более того, настаиваю на том, чтобы вы, генерал Врангель, нашли в себе гражданское мужество сознаться в своих ошибках и отменили свой нелепый приказ. Требую, чтобы вы предали суду всех тех, кто допустил столько незаконных и бездумных действий, приведших армию к разгрому.
Остаюсь уволенный от службы, но продолжающий работать на пользу нашей Родины Я. Слащев-Крымский».
Последующие несколько дней Слащев каждодневно посещал штаб Русской армии в надежде передать письмо и объясниться с Врангелем.
Врангель не нашел времени для встречи с ним. Его письмо также не приняли.
Он устал от этих унизительных хождений и, отчаявшись, уходил из штаба с твердым решением больше никогда сюда не возвращаться. В коридоре он увидел торопящегося по каким-то делам Шатилова, остановил его, попросил объяснений.
– Чего вы добиваетесь? – недружелюбно спросил Шатилов. – Главнокомандующий более не считает необходимым встречаться с вами. Его ознакомили с вашим возмутительным письмом, которое вы изволили направить господину Юреневу. В нем бездоказательная ложь.
– Так считаете вы?
– Так считает главнокомандующий.
– Я изложил свою точку зрения и подкрепил ее довольно убедительными фактами.
– Ну и живите со своей точкой зрения, – раздраженно сказал Шатилов. – Кому интересно перетряхивать старое белье? Мы пытаемся выстраивать будущее.
– Если не проанализировать прошлое, трудно ждать успехов в будущем.
– Вы – демагог, с вами трудно спорить, – сухо сказал Шатилов и, немного поразмыслив, сказал: – Ну, хорошо. Допустим, главнокомандующий, поступившись своими убеждениями, все же отменил бы свой приказ. В чем я совершенно не уверен. Ну и что из того?
– Я буду требовать нового суда. Общественного и гласного.
– Над кем?
– Над главнокомандующим генералом Врангелем и над всеми теми, кто своими неразумными действиями довел армию до бесславного разгрома. Я это докажу.
– Послушайте, Яков Александрович! – как с больным, совсем по-другому, ласково и участливо, заговорил Шатилов. – Ну зачем вам все это? Тратите свои силы и время, отбираете его у других. Не будет никакого суда, потому что война не закончена. А потом, когда мы вернемся в Россию, кто посмеет судить победителей? Или вы не верите в нашу победу? Я – верю. Прощайте! – и Шатилов пошел по коридору.
– Павел Николаевич! – окликнул его Слащев. – Вы все же отдайте мое письмо Врангелю! – и он протянул Шатилову конверт с письмом. – Может, он еще одумается?
– Не могу! Не велено! – уже издали, не оборачиваясь, ответил Шатилов и торопливо зашагал по коридору.
Слащев еще какое-то время стоял с протянутым конвертом, провожая взглядом Шатилова.
– Лакей, – зло прошептал он ему вслед. И громче добавил: – Холуй!
Потом медленно повернулся и неторопливо пошел к выходу. У двери, ведущей на улицу, заметил урну для мусора. Остановился. И после коротких размышлений бросил в нее письмо.
Это было одно из немногих сражений, которое Слащев пока проиграл.
Возвращаясь домой, Слащев неторопливо шел по узким улочкам, по которым мог с трудом проехать ишак с вязанкой хвороста. Он чувствовал себя так, будто его пожевали и выплюнули. Разве можно такое простить? Но что он может сделать, если они не хотят его слышать? Им невыгодна правда. Они ее боятся.
И постепенно в его голове начал рождаться план. Поначалу он показался Слащеву не заслуживающим внимания, а по дальнейшему размышлению он пришел к выводу, что на самом деле этот план просто гениальный.
Они не хотят читать его письма? Не хотят выслушать его факты и убедительные доводы, почему проиграна Гражданская война, особенно последний ее период, когда главнокомандующим стал Врангель? Не надо! У него есть время. Он вспомнит всё, все неудачи, свои и чужие. Он подробно проанализирует все операции на Каховском плацдарме и в боях за Крым и подробно расскажет, как и почему белая армия пришла к поражению. Он поименно назовет всех виновников сокрушительного поражения на Каховском плацдарме, когда все сражения еще можно было выиграть, и о тех провальных операциях крымской катастрофы, прямым виновником которых был Врангель. Наконец, он с фактами и схемами докажет, что многих неудач, которые произошли, можно было избежать и даже обратить себе на пользу, а Гражданскую войну успешно выиграть.
Когда-то Слащев умел хорошо писать. Его работа «Ночные действия» – о тактике войсковых подразделений во время боя в ночное время – была высоко оценена еще в тринадцатом году и как пособие не утратила своей актуальности и для нынешних боев.
Он напишет книгу и, как бы это ни было трудно финансово, опубликует ее. И Врангель, который не хотел читать его письма, будет вынужден прочесть все, что он, Слащев, думает о нем и о его ничтожных полководческих способностях.
И назовет он книгу «Требую суда общества и гласности»! Да, именно так! И пусть Врангель попробует оправдаться от всего того, что он вменит ему в вину!
Часть четвертая
Глава первая
Вскоре после Пасхи началась не весна, а прямо как-то сразу, вдруг лето. Ветры, раскаленные Сахарой и Ливийской пустыней, достигли Константинополя и дохнули на него африканской жарой. Город изнемогал от зноя. Началась страда у водоносов. Они разносили воду бегом.
Базар жил своей обычной жизнью. Разморенные от жары люди сонно бродили под полощущимися на горячем ветру брезентовыми тентами, иногда что-то покупали, но по большей части просто ротозейничали.
Весть об амнистии, которую объявила Советская Россия, довольно скоро разнеслась из Галлиполи по всем лагерям. Так же горячо обсуждали ее и беженцы Константинополя. В базарной сутолоке, основную часть которой в эти жаркие дни составляли русские, чаще других звучал короткий вопрос:
– Не собираетесь? – и ни слова больше. И каждый, к кому обращались, понимал, о чем идет речь.
Кто-то с презрением обжигал спрашивающего злобным взглядом (этот уже хорошо прижился в Турции, имел работу и жену, а то и двух-трех детей), иные матерились (домой хотелось, но руки были настолько в крови, что в никакую амнистию не верили), а кто-то – таких было совсем немного – так же коротко отвечал:
– Думаю.
Так, беженцы, настрадавшиеся и не нашедшие своего места в этом чужом мире, искали таких же, как и они, обездоленных, принявших решение вернуться домой. Они понимали, что каждый в одиночку ничего не сумеет добиться, нужно создавать коллектив, который сможет не просить, а требовать. Этот процесс похож на сбивание коровьего масла. Надо долго колотить сметану, пока появятся первые крохотные масляные комочки. Сталкиваясь, они слипаются, и в конечном счете все вместе они образуют большой масляный ком.
Находя друг друга в базарной толпе, они сговаривались и в один из дней, уже большим коллективом, отправились в российское посольство.
Изнемогающий от жары и безделья, обычно деятельный посол Нератов сразу принял выделенную толпой небольшую делегацию, представлявшую пока что только чуть больше ста человек. В этой компании в основном были отставленные от армии по болезни солдаты и офицеры, которые в силу своих увечий уже давно перестали бояться смерти, а также не нашедшие своего места на чужбине, ничего не умеющие и никому здесь не нужные чиновники, четыре священника и несколько женщин с детьми.
Нератов внимательно и с некоторым сочувствием выслушал тощего впалогрудого подпоручика по фамилии Дзюндзя.
– И много вас? – спросил Нератов.
– Душ сто, може, чуток больше. Но энто не все желающи. Кликнем клич – и тыща будет.
– Казак? – оглядев парламентера, спросил Нератов.
– Терский.
– Не боишься возвращаться? Терские злые были.
– У нас как говорять: «Кака жизня, такой и карахтер».
– Ну, и чего уезжать надумали?
– Известно дело: своя земля – мать, а чужа – мачеха. Весна. У нас в Рассее, поди, помните, весна светла, пушиста. Тепло ласково, як дите. И пчелки гудуть.
– Что ж раньше о пчелках не вспомнили? – с упреком спросил Нератов.
– И раньше помнили. Но шибко много грязи на большевиков вылили: и убивають, и граблють.
– Раньше белым верили, а теперь что же?
– В войну люди звереють. В бою – там хто ловчее, хитрее, сильнее, того и верх. И убивали, бывало. И грабили, случалось. Не без того. А счас из Рассеи пишуть, – Дзюндзя полез в брючный карман, извлек оттуда листовку, точь-в-точь такую, какие раскладывал в галлиполийском лагере Андрей Лагода. – От, пожалуйста! Пишуть, шо шибко за нас болеють. Усем амнистию объявили. Усем, под чистую, и виноватым тоже. Зовуть: возвертайтесь, дел дома накопилось, як у поганой хозяйки немытой посуды.
Нератов снова оглядел делегатов. Краем глаза заметил: к приоткрытой двери тоже приникли беженцы. Зачем-то снял и протер очки, и лишь после этого сказал:
– Понимаю, вы пришли ко мне за надеждой. Но я не могу ее вам дать, – начал он.
Дзюндзя встрепенулся:
– А нам так сказали, будто вы рассейский посол.
– Правду сказали. Я посол той России, которой уже нет. Сочувствую вам. Но вовсе не по поводу трудностей вашего отъезда на Родину. Это в конечном счете как-то образуется. Но в той России, куда вы намерены отправиться, вас вряд ли встретят хлебом-солью. Я вас не запугиваю. Это всего лишь мое предположение, потому что уже давно не имею почти никаких сведений оттуда. Весьма сожалею, но ничем вам помочь не могу. Сам сижу на чемоданах, изо дня на день сдам этот почетный пост другому послу. Вероятно, это будет большевик, комиссар. Приходите сюда несколько позже, через неделю, быть может, чуть позже. К тому времени все прояснится и, надеюсь, новый посол вам поможет.
Нератов встал из-за стола, давая понять, что ничего нового он им больше не скажет.
– Столько ждать? – возмутился за всех своих товарищей Дзюндзя.
– Я же сказал: через неделю-две. Может, быстрее. Не знаю. Меня с недавних пор уже никто ни о чем не ставит в известность, – беспомощно развел руками Нератов.
– Так чего ж вы тогда?.. – продолжил возмущаться Дзюндзя, но вдруг осекся. До него дошел смысл сказанного Нератовым: он уже не посол и в силу этого не может оказать им никакой помощи. У него, как и у них, нет никакой власти. И сколько ни стучи кулаком, ни кричи и ни требуй – ничего не добьешься. И тогда Дзюндзя сменил тон и сочувственно спросил:
– Так, може, того… шо то присоветуете?
– Думаю, вам следует обратиться к генералу Врангелю. У него вся полнота власти, касающаяся русских граждан. Все равно так или иначе, но решать ваше дело будет только он.
Делегаты неторопливо направились к двери.
– Весьма сожалею, – вслед им вновь повторил Нератов. Какой смысл вложил он в эти слова, никто из них не понял.
Потом они всей гурьбой направились к штабу армии, уселись на ступенях у входа. Делегаты во главе с Дзюндзей в сопровождении караульного начальника отправились на переговоры к главнокомандующему.
После того как Уваров доложил о делегации, Врангель вышел из кабинета и, стоя в проеме двери, долго и с некоторой брезгливостью осматривал порядком обносившихся, небритых, худых делегатов, затем мрачно спросил:
– Ну-с, почему не докладываете? Кто? Что надобно?
Дзюндзя выступил вперед. Он ожидал от этой встречи всякого, поэтому не оробел, не вытянулся в струнку, а попытался обстоятельно ответить на вопрос:
– Весна, ваш высоко…э-э…благородь!
– Догадываюсь. Ну и что же, что весна?
– Тут тако дело: промеж нас чутка прошла, будто большевики… советы, значится…энту… прощению усем объявили. И не виноватым, и виноватым тож.
– Врут большевики, а вы им верите, куриные ваши головы! – сердито произнес Врангель.
– Мы и сами, ваш высокоблагородь, сумлеваемся. Похоже, шо брешуть, – согласился Дзюндзя. Согласно закивали и двое его напарников-делегатов. – А ежли с другой стороны поглядеть? – продолжил он. – Весна. Мужиков повыбито море. А мы туточки, в Туреччине, штаны заздря протираем. От сообча мы и подумали, и дошли до такого понимания. Надоть возвертаться до дому, бо земля промедлению не терпить. Вспахать надоть? Пробороновать, посеять яровые, бо озимые и ихние и наши кони почти все вытолочили. Баба не сумеить, ей природой энто не отпущено. От и получа…
Слушая Дзюндзю, Врангель все больше багровел. И, оборвав Дзюндзю на полуслове, он высоким, почти петушиным голосом закричал:
– Все! Прекратить словоблудие! Дезертиры и предатели! Вместо того чтобы возвращать себе свою же землю, они рвутся к большевикам в крепостные!.. Во-он!.. Уваров, зачем впустили сюда этот сброд?.. Карнач! Уберите их с моих глаз!
Врангель скрылся за дверью своего кабинета, а караульный, явно им сочувствующий, тихо сказал:
– Пошли! Видать, не ваший сегодня день, хлопцы.
В сопровождении караульного начальника они вышли на крыльцо.
Все сидящие на ступенях и просто на земле направили на них вопрошающие взоры. По унылым и мрачным лицам ожидающие поняли, что делегаты потерпели неудачу.
– Не прийняв?
– Прийнять то прийняв, – Дзюндзя недоуменно пожал плечами. – Раскричався, обозвав дезентирами и чуть не того… на дав по шее.
Толпа ахнула.
– Не, не самолично, конечно, – поправился Дзюндзя. – У нього под дверями таки мордовороты сыдять…
– Ну, и шо ж теперь? – спросил кто-то из толпы. – Може, есть хто, который над им?
– Вроде главнее нету.
– Може, усем обчеством зайдем? Попросим?
– Бесполезно, – сказал Дзюндзя. Он тоже опустился на ступеньку лестницы и с досады закурил. – Надо какось с другого конца до энтого дела подойтить.
– Если шо-то знаешь, говори!
– Шо я думаю? – щуря глаза от едкого турецкого самосада, многозначительно сказал Дзюндзя. – Не может такого быть, шоб над ним не было начальствия. Той же Султан, он над усеми генералами начальник.
– Над турецкими – это понятно. А над нашими?
– Французы, – подсказал стоящий в двери начальник караула.
– А шо, точно! – обрадовался такой подсказке Дзюндзя. – Мне мой однокорытник рассказывав – он тут одно время часовым при штабе состояв. Так шо он углядев? Наш часто до французов ездит, а оны до нього – не шибко. Усе больше он. От и думайте, хто из их главнее?
– Ну, так пошли до французов! – загудела толпа.
– Теперь, раз уж засветились, надоть до конца.
– Ага! «Дезентиры!». А то теперича, в случай чего, враз под корень сведуть!
– А франузы тут при чем?
– Раз они начальствие, пущай разбираются!
И они всем скопом двинулись по набережной к резиденции Верховного комиссара Франции в Константинополе.
Верховному комиссару Пеллё доложили, что его хотят видеть русские, должно быть, беженцы. Среди них много отставленных от армии солдат.
– Что они хотят? – спросил комиссар.
– Вы знаете этих русских. Когда их много и они все вместе кричат, разве можно что-то понять! – сказал адъютант, довольно сносно знающий русский язык.
– Ну, хорошо! Выберите двух-трех самых спокойных, пусть расскажут, что им нужно.
Молодой, высокий, стройный, одетый во все цветное и от этого похожий на породистого петуха адъютант вышел к ожидающим. К этому времени толпа намного увеличилась и выглядела едва ли не каким-то митингом.
– Ты, ты и ты! – оглядев толпу, выбрал троих адъютант. – Проходите!
– Не пойдем! – сказали они.
– Почему?
Сквозь толпу протиснулся Дзюндзя:
– Без меня не пойдуть..
– Почему? – совсем растерялся адъютант.
– Языка не знають.
– А ты знаешь?
– Тоже не знаю.
– Так в чем дело?
– В том, шо оны… как бы энто вам объяснить? У их неважный характер. Их можно уговорить. А меня нельзя.
– Ну, проходи и ты.
И они пошли вслед за адъютантом.
Комиссар вышел им навстречу, усадил в кресла, ласково спросил:
– Ну, рассказывайте, что у вас за дела? С чем пришли?
Дзюндзя вновь повторил то, что уже рассказывал Нератову, а затем пожаловался на Врангеля. Он не только не стал обсуждать с ними их проблему, но даже не особенно их выслушал и даже едва не выгнал взашей.
– Я понимаю вас, – сочувственно сказал комиссар. – Весна. День год кормит. Так, кажется, у вас говорят? У меня родители тоже фермеры, я знаю ваш крестьянский труд.
– Мы не крестьяне. То есть среди нас есть и крестьяне. Но мало, – сказал крепенький бородатый мужичок в очках, отобранный адъютантом – Я, для примера, до войны выучился, маркшейдером на шахтах работал. Оттудова, с Донбассу, когда немец на нас попер, меня и мобилизовали.
– Я хорошо понимаю шахтеров, – снова посочувствовал комиссар. – Тяжелый труд! У меня родной брат всю жизнь в шахте проработал. В Эльзасе. Вы что-нибудь слышали об Эльзасе?
– Нам бы лучшее шо-нибудь про Рассею услыхать! – Дзюндзя почувствовал, что грамотный шахтер несколько отодвинул его от переговоров о главном, и испугался, что комиссар начнет им долго рассказывать о тяжелом труде шахтеров в Эльзасе. Их же интересовало совсем другое: – Як там теперь у нас? Стреляють, чи нет? Якое до нашего брата – белого солдата – при Советах отношение? Ходять слухи, шо полную амнистию объявили. Листовки прислали. А от як обстоить на самом деле? Може, шо присоветуете?
– Да-да, понимаю вас. У Франции нормализуются отношения с Советской Россией. Мое правительство намерено способствовать возвращению на Родину всех русских беженцев, независимо от того, воевали они или нет.
– Хотелось бы знать, як нас там примуть? Може, сразу до стенки? – спросил еще один из тех трех, отобранных адъютантом, совершенно лысый.
– Вы в чем-то провинились?
– А то вже не важно, шо я про сэбэ думаю Важно, як оны про мэнэ решать, – обстоятельно ответил лысый.
– Не надо ничего бояться, – сказал комиссар. – Я подтверждаю: действительно объявлена амнистия. И вы все подпадаете под нее. Естественно, определенные беседы с вами будут проведены.
– В этом собака и зарыта, – сказал шахтер.
– Обычная процедура. Так поступает любое государство.
– Речи-то у вас сладки. А як все на самом деле? – спросил Дзюндзя.
– По моим сведениям, после окончания войны никаких притеснений на бывших своих противников советские власти обещают не оказывать. Так что можете смело возвращаться.
– Ну, а як это сделать практически? – задал свой главный вопрос Дзюндзя.
Комиссар некоторое время молчал, видимо, у него не было ответа, хотя и предполагал, что такой вопрос ему зададут.
– Скажу честно, я затрудняюсь сейчас вам ответить. Дело в том, что Франция не связана с Советской Россией ни торговыми, ни дипломатическими отношениями, – наконец заговорил Пеллё. – Ваше посольство здесь, в Турции, практически уже не существует. Положение вашего посольства во Франции не намного лучше. Той могущественной России уже, к сожалению, нет. Новая Россия: кто сегодня скажет, какой она будет? Сейчас же она разгромленная, голодная и нищая.
– А мы не особенно много просим, – сказал бородатый шахтер. – Перевезите нас через Черное море, только и всего. В Севастополь там или в Одессу. Наши российские корабли, я видел, здесь в бухтах стоят, и по проливу в Средиземное ходят, и в Бизерте стоят.
– Вы не совсем точно выразились, – возразил комиссар. – Когда-то эти суда действительно были вашими. Но Врангель задолжал нам огромные деньги и был вынужден продать ваш флот нам. И возникает следующая проблема: мы отправляем вас на вашем же, но теперь уже нашем корабле в Советскую Россию, и большевики корабль тут же реквизируют.
– Но вы ведь сказали: суда проданы. Стало быть, они уже принадлежат Франции. Так я понимаю? – возразил шахтер, который был в этой компании грамотнее других и был один из тех немногих, кто пытался докопаться до смысла всего происходящего. – Какое же большевики имеют право реквизировать ваши корабли?
– Этот вопрос вы и задайте большевикам, – сухо сказал Пеллё. – Они действительно проданы, это факт. На их покупку имеются все необходимые документы. Но… Советская Россия не признает никакие царские договора. И флот, о котором мы с вами говорим, они все еще считают своим.
– Ну, с энтим могли ба какось уладить, – сказал Дзюндзя. – Поди, ради людей все ж.
– Не все мне подвластно уладить, – не согласился комиссар. – К примеру, с Советами я не уполномочен вести переговоры. Поймите меня правильно: только наше правительство может решать такие вопросы. Зафрахтовать корабль можно было бы у турков. Но ведь это, помимо всего прочего, еще и крупные финансовые затраты.
– Получается, что положение безвыходное? – грустно спросил бородатый маркшейдер.
– Нет, почему же? У нас, французов, есть такая пословица… не помню, как она точно звучит… «Из каждого безвыходного положения есть выход, уже хотя бы потому, что был вход». Что-то в этом роде.
– Ну шо ж! Спасибо вам на добром слове, – поблагодарил комиссара Дзюндзя.
– Извините, чем смог. И уж точно: сочувствием, – сказал комиссар и крепко пожал каждому из делегатов руку.
Уже когда они покидали резиденцию верховного комиссара Пеллё, их догнал его адъютант:
– Господин комиссар извиняется и просит одного из вас вернуться на минуту, – и он указал взглядом на бородатого шахтера. – Всего на два слова.
– Мы тоже не против послухать энти слова, – сказал Дзюндзя. Он не хотел отдавать свою власть в руки незнакомого и только сегодня примкнувшего к ним человека. Они все вместе двинулись обратно по коридору.
Адъютант недоуменно пожал плечами и пошел следом.
– Извините, совсем упустил из вида, – встретил их у двери своего кабинета Пеллё – Здесь, в Турции, сейчас находится комиссар Лиги Наций господин Фритьоф Нансен. Может, кто-то из вас слышал о нем? Известный полярный исследователь, изучает север. Он один из самых авторитетных в мире ученых.
Все четверо промолчали: никто из них никогда и ничего о Нансене не слышал.
– Он совсем недавно был в Советской России и, кажется, даже встречался с кем-то из их вождей: так у них там называются правители. Сейчас он прибыл на день или на два в Турцию. Не упустите шанса, попытайтесь встретиться с ним уже сегодня.
– А до чего он нам, энтот северный ученый? – спросил Дзюндзя. – Нам бы до дому, а не на север. На север нас и без его помощи большевики, ежли надумають, сошлють. У нас пол-Рассеи – север.
– Слушайте дальше! – строго сказал комиссар. – Лига Наций назначила его комиссаром по репатриации беженцев и военнопленных. Насколько я знаю, он занимается прежде всего российскими гражданами. Таких, как вы, очень много, война раскидала по всему миру сотни и сотни тысяч. Обратитесь к нему. Уверен: вам помочь – в его силах.
– И иде ж его найдешь, энтого… как его?
– Нансена.
– Заковыриста фамилия. Должно быть, китаец? – предположил Дзюндзя.
– Норвежец.
– Не слыхав, – покачал головой Дзюндзя. – Подумать, какие токо люди на свете не водются! Все одно, як в речке чи в мори: и плотва, и карась, и щука, и той же кит. И все разны, – но спохватился, что своими рассуждениями отнимает у занятых людей время, коротко спросил: – Так иде можно его повидать?
– Скорее всего, это вы сможете выяснить в итальянском посольстве. Где-то там, возле них, находится филиал Лиги Наций, и в нем Комиссия по репатриации. Ее господин Нансен только создал. Поэтому спросите у итальянцев. Они подскажут, – сказал комиссар и, еще раз кивнув им на прощание, торопливо ушел в глубину своего кабинета.
А делегаты, оставшись у двери, растерянно смотрели друг на друга.
– Что-то непонятно? – спросил сопровождающий их адъютант комиссара.
– Усе понятно, окромя одного: а иде искать энто самое итальянское посольство. Город вона какой, за день не обойдешь.
– Это просто. Сядете на фуникулер, выйдете через три остановки – в районе Пера. Там вам любой подскажет, – объяснил адъютант. Он вывел их на улицу, дружелюбно со всеми попрощался и скрылся за дверью своей резиденции.
А они направились к томящимся в ожидании своим товарищам. За то короткое время, что они беседовали с комиссаром, их коллектив пополнился еще доброй сотней человек.
Глава вторая
Итальянское посольство оказалось совсем близко от остановки фуникулера. Не пришлось им искать и филиал Комиссии по репатриации Лиги Наций. Он находился в небольшом особнячке рядом с итальянским посольством, и на высоком заборе возле калитки висела большая броская вывеска на нескольких языках. Была среди них и на русском: «Комиссия Лиги Наций по репатриации «Помощь Нансена».
Все те же четверо, которые еще час назад встречались с французским комиссаром Пеллё, прошли к особняку, внимательно изучили вывеску. И лишь после этого, посовещавшись, трое остались за оградой, а четвертый – Дзюндзя – прошел через калитку во двор, поднялся по ступеням, поискал на двери кнопку звонка, но не нашел и тогда постучал в дверь.
Какое-то время там, за дверью, не было слышно никаких звуков, потом раздались отдаленные шаги. Они приближались. И, наконец, дверь открылась, и в проеме встал господин в зеленом халате с молотком в руке. Он внимательно оглядел стоящего перед ним Дзюндзю, обратил внимание на его уже порядком изношенную, но все еще имеющую пристойный вид одежду русского солдата.
– Русский? – спросил он и, не ожидая ответа, посторонился, впуская посетителя в коридор особняка.
– Так точно, русский, – бодро ответил Дзюндзя, рассматривая молоток в руках высокого тощего человека с квадратным подбородком. Это был Колен. Еще совсем недавно он был успешным репортером известной английской газеты «Таймс» и мотался по всей объятой огнем войны России, освещая в своей газете все увиденное и услышанное. Но война в России кончилась, и господин Колен оказался больше не нужен газете. Вероятно, по той причине, что он знал Россию не понаслышке, Нансен пригласил его к сотрудничеству в комиссии.
Только сейчас и сам Колен заметил, что держит в руках молоток, и, несколько смутившись, сказал:
– О, пардон, месье… извините… случайно. Небольшой ремонт. Мы только, как это, осваиваемся в этом… как это… помьещении. А вам, как я понимай, нужен господин Нансен?
– Так точно. Он самый.
Увидев поднявшихся к самой входной двери остальных трех делегатов, он спросил у Дзюндзи:
– Тоже ваши?
– Наши, рассейские! Чьи ж еще!
– Проходите сюда, в коридор, – пригласил он и остальных трех солдат. – У нас еще не все перфект для гостей. Но мы уже работаем. И скоро здесь будет…как это…гор-ни-ца. Нет, принима…
– Приемная, – подсказал бородатый шахтер.
– Спасибо. Красивый прием-ная, – и, улыбаясь, Колен побежал на второй этаж, сверху крикнул: – Сейчас вам будет комиссар Нансен.
И пока они ожидали, кто-то из делегатов шепотом сказал:
– Я был у большевиков в плену, так у их там тоже сплошь комиссары. И у французов. У которого мы сьодни были, тоже комиссар. Може, весь свет в большевицку сторону движется?
– И итальянцы, похоже, тоже сочувствуют большевикам. Гляди, какую домину им пожертвовали, – сказал шахтер.
– У их, капиталистов, все на грошах держиться. Купили хату, и усе. Коммерция! – не согласился Дзюндзя.
– Читал вывеску? «Комиссия по репатриации». И по-нашему есть, – возразил шахтер. – Получается, Лига Наций помогает и большевикам. А что с нас, голодранцев, возьмешь? Какие гроши? А переправить в Россию надо тыщи и тыщи таких, как мы. Нет, тут дело не в коммерции. Тут политика. А то и просто сочувствие. Может, оно еще не вывелось на белом свете.
Услышав приближающиеся по второму этажу шаги, они смолкли.
К ним по лестнице спустились высокий, рыжеволосый, с жесткими, как сапожная щетка, усами, мрачный норвежец Нансен, следом за ним – уже знакомый делегатам Колен и третий, румянощекий юноша-переводчик. Они остановились сразу же возле перил лестницы, и норвежец, коротко, но внимательно оглядев всю компанию русских солдат, обращаясь к ним, произнес несколько фраз на непонятном им языке. Юноша тотчас перевел его слова:
– Рад приветствовать вас от имени Лиги Наций и от моей Комиссии по репатриации, которая называется «Помощь Нансена». Нансен – это я. Не я назвал ее так, но я горжусь этим и буду изо всех сил стремиться помогать всем тем, кто оказался на чужбине в беде. Можете обращаться ко мне «Господин Нансен», можете, если запомните, Фритьофом. Фритьоф – так звучит мое норвежское имя. Надеюсь, я достаточно полно вам представился?
После этого норвежец поздоровался с каждым за руку.
– Теперь я хотел бы услышать, с какой бедой вы пришли к нам?
И снова вперед попытался выступить бородатый шахтер. И он, и остальные двое делегатов уже поняли, что Дзюндзя косноязычен, порой выражается непонятно, но невероятно упрям, и с намеченного пути его невозможно свернуть. Этим он и нравился. Ему бы чуть больше грамотности, и он был бы хорошим вожаком. Дзюндзя не хотел отдавать власть в чужие руки: он придержал шахтера за пояс шинели и сам стал впереди.
– Нам бы в Советску Рассею. Весна пришла, сеять надо, а мы тут без дела. Большевики энту… амнисцию объявили. Всем без разбору. А наш командуючий Петро Николаевич ни в какую. Надеется снова походом на Советы иттить. Хто хочет, пущай. У кажного своя голова, мы никого не неволим. А в большости народ до дому хочет. Нету больше силов по чужим углам скитаться. Бабы, сами знаете, не сумеють до путя с землей совладать. И так получается, шо к зиме голодать придетца.
Выслушав переводчика, Нансен что-то долго ему говорил.
– Господин Нансен понимает ваши заботы. Он недавно был в Советской России, сам все видел и понял, что уже давно надо кончать вам воевать и налаживать мирную жизнь.
– Во! Вы энто понимаете, а Врангель пока еще до энтого не додумався. Обозвав нас дезентирами и предателями. А якие ж мы предатели, ежли всем сердцем за Рассею. А какое в ей управление будет, так, може, и мы шо-то присоветуем, подскажем, – изложил свои мысли Дзюндзя. И заключил: – От всего нашего обчества просим вас подмогнуть нам попасть до дому.
– А, собственно, конкретно, в чем проблема? – спросил Нансен.
– Пароход нужен. Врангель не хочет нас выпускать, и французы, те тоже говорять, шо у их нету денег нанять пароход. Брешуть, конечно: весь наш рассейский флот задарма до своих рук прибрали, а нас всего-то через Черное море переправить – денег нету.
– И много вас?
– Трудно сказать. Около тыщи, энто те, про которых мы знаем. А еще в Галлиполи, в Катладже, та й до острова Лемнос тоже, надо думать, большевицки листовки долетели. Много чи мало нас? Я так думаю, шо почти половина тех, хто с Врангелем пошел, уже раскаялись и до дому рвутся. Так шо желаючих много будет, в один пароход усех не затрамбуешь, – выложил свою арифметику Дзюндзя, после чего вдруг жалобным, почти нищенским голосом добавил: – Вы уж, вашее превосходительство, поспособствуйте нам. Неохота в чужих краях без пользы пропадать.
– Я понял вашу просьбу, – сказал Нансен. – Кое-какие хорошие новости у меня для вас есть. Но я пока не хотел бы их разглашать. Надеюсь, уже в ближайшее время вы их узнаете. Но для этого я еще должен побывать в Париже, кое-что согласовать с французским правительством.
И все четверо разочарованно вздохнули.
– Так получается, шо ничого хорошего вы нам сейчас не скажете? – спросил Дзюндзя.
– Пока не скажу. Но сегодня вечером я уезжаю. Завтра вечером – в Париже. Послезавтра к вечеру я сообщу вам все, до чего сумел договориться. Послезавтра в такое же время приходите сюда, и, надеюсь, мой заместитель господин Колен сообщит вам хорошие новости.
– Через три дня? – спросил Дзюндзя.
– Потерпите, – попросил Нансен.
– А ну, ежели Врангель рогами упрется? – спросил Дзюндзя. – Он… энто… с фанаберией.
– Ничего. И с Врангелем все как-нибудь уладим, – пообещал Нансен. – Так что потерпите. Всего три дня. Дольше ждали.
– Мы то ще можем, а у большости других уже все терпение кончилось. Они даже предлагали до Салтана сходить, впасть йому в ноги. Може, смилуется, выдиле нам один пароход. Нам бы токо через Черное море.
– Не надо к Султану, я только вчера встречался с ним. Он связан какими-то обязательствами с французами, а какими-то – с Врангелем. Вряд ли он пойдет вам навстречу, это будет означать, что он нарушил нейтралитет. А он поклялся его не нарушать. Так-то! – строго сказал Нансен. – И вообще, не суетитесь. Можете все мои планы и договоренности разрушить, а сами вы, поверьте, ничего не добьетесь. И что тогда?
– Тогда?.. – не сразу ответил Дзюндзя. – Тогда, пеши. Через Болгарию, Польшу. Мы и энто прикинули. Токо уже ни посеять, ни собрать врожай не сумеем. Голод будет.
– Голод хоть так, хоть иначе все равно будет, – сказал Нансен. – Ни двадцать, ни сто тысяч возвращенцев страну уже не спасут. Нужно в корне перестраивать всю ветхую, заскорузлую экономику вашей страны. Иначе, действительно, пропадете. От голода, или конкурирующие страны задавят.
– За год-два экономику не перестроишь, – возразил Нансену бородатый шахтер. – Но помереть с голода за два года можно.
– Тут вы правы. Для этого, в частности, и создана Лига Наций. Будем по возможности помогать голодающим странам.
– И России? – спросил бородач.
– Безусловно. И России.
– Ваши бы слова до Бога дошли, – вздохнул шахтер.
– У нас с вами один Бог. Православный. Авось услышит? – сказал Нансен и, резко обернувшись, торопливо побежал по лестнице к себе на второй этаж.
Затем к делегатам обратился Колен:
– Давайте закончить наш разговор. У господина Нансена еще много дел. А до поезда совсем мало времени, – сказал он. – Встретимся через три дня, в это же время. Надеюсь, господин Нансен обрадует вас хорошими вестями.
Они вышли на улицу. Остановились возле вывески у забора. Постояли, помолчали.
– И куда теперь? – спросил шахтер.
– Куда, куда! До наших, – сердито ответил Дзюндзя. – Оны ж там нас ждуть.
Они ждали.
– Ну, шо? – спросили из толпы.
– Пообещали. Через три дня усе до подробностев скажуть.
– Ну, а если Врангель не согласится? Чи французы? – выкрикнули из толпы давно наболевшее, которое уже обсуждали делегаты с Нансеном.
Встав на какой-то камень, над толпой поднялся Дзюндзя:
– Мы с имы и энто обсуждали. Сказалы, шо договорятся, – и, подумав немного, он по-мужицки убедительно добавил: – Оны там усе из одного гнезда: как-то уладять. Ворон ворону глаз не выклюнет.
Это несколько успокоило толпу.
Расходились с надеждой. Договорились через три дня всем вместе собраться возле «Комиссии по репатриации «Помощь Нансена».
Глава третья
Слух о том, что всем русским, пожелавшим вернуться в Россию, окажет содействие Комиссия Лиги Наций по репатриации «Помощь Нансена», разнесся не только по Константинополю. За три дня он докатился до Галлиполи, Чаталджи и даже до дальнего острова Лемнос – до всех тех мест, где были размещены эвакуированные из Крыма солдаты и офицеры Русской армии.
Уже к полудню назначенного дня возле особняка, где размещалась Комиссия по репатриации, собралось человек триста бывших военных, среди них были и беженки-женщины, некоторые с детьми. По одежде и по слегка надменному выражению их лиц можно было понять, что еще совсем недавно они занимали довольно высокую ступень в обществе. Спасаясь от большевиков, присоединились к отступающей армии Врангеля. Но здесь, в Турции, Врангелю было не до них. Проев последние увезенные с Родины ценности, обносившись и наголодавшись, они поняли, что или, никому не нужные, они закончат свое земное существование в какой-то грязной константинопольской подворотне, или вернутся к себе домой, в Россию. Авось большевики окажутся совсем не такими кровожадными, как о них повсюду говорили и писали, и в России у них еще будут счастливые дни.
Постепенно народу возле здания комиссии становилось все больше. Приходили поодиночке и группами и тут же смешивались с основной толпой. Просто ждать неизвестно каких новостей было скучно. Солдаты и цивильные стали толкаться в многолюдье, разыскивая знакомых или земляков. Иногда находили. Счастливцев тесно обступали, слушали их сбивчивый разговор:
– Здорово, земеля. И ты до дому?
– А то куда ж еще?
– С Врангелем. Говорят, с лета собирается выступить на Советы.
– Обещал с весны.
– Что-то не заладилось. Перенес на лето.
– Пускай выступает. Только без меня.
В другом месте иной разговор:
– Лешка? Фоминых? Ты как здесь?
– Как все.
– Ты ж вроде в Галлиполи был? У Кутепова?
– Был. Насилу утек. Спасибо, наши морячки с «Херсона» подвезли.
– Что? Так просто?
– Не просто, конечно. В трюме спрятали. А другие пеши пошли. Кутепов не сразу усек, а как узнал – караулы понаставил. Сашку-артиллериста помнишь?
– Пронина?
– Ну! Тоже до дому рвался. Пеши отправился. На перешейке схватили. Теперь на «губе» сидит.
– Не повезло.
Когда солнце стало клониться к закату, Дзюндзю отправили в особняк комиссии, чтобы он выяснил, что и как. Стоит ли ждать? Можно ли надеяться?
На пороге его встретил Колен, который из окна второго этажа время от времени наблюдал, как возле здания комиссии разрастается толпа. Она уже заполнила площадку перед зданием и растягивалась вдоль дороги в сторону итальянского посольства.
– Здравствуйте, – Дзюндзя уже на правах старого знакомого поздоровался с Коленом за руку и взглядом указал на улицу: – Видали, шо творится? Прям, море!
– Очень хорошо, – согласился Колен. – Но новости пока нет.
– Как жа энто? Три дня, як обещали, уже пройшло.
– Не прошло, – возразил Колен. – Вечером – прошло, – и объяснил: – Нет связи. Ждем.
– И долго ждать?
– Там знают, – Колен указал на небо, но тут же успокоил Дзюндзю. – Но продолжайте ждать. Господин Нансен очень… как это…четкий человек.
Когда Дзюндзя вернулся с переговоров, толпа смолкла: ждала, что скажет «парламентер». Откуда-то притащили большой деревянный ящик, поставили его «на попа», помогли взобраться на него Дзюндзе.
– Шо вы хочете од меня услыхать? – спросил он у толпы. – Хороших новостей? А их пока нема. Бо нема связи.
Толпа разочарованно зашумела.
– Ну, и чого гергочете? Сказано было: вечером. А ще не вечер. Спешить некуда, подождем.
Когда стало смеркаться, раскрылась дверь, и на лестничную площадку вышли Колен и переводчик. При этом они продолжали начатый еще в помещении разговор. Наконец переводчик сделал какое-то легкое движение и оказался чуть впереди Колена. И при этом он поднял руку.
– Перестаньте гудеть! Смолкнить! – со своего ящика выкрикнул Дзюндзя.
Наступила такая тишина, что был слышен даже крик чаек, носящихся поодаль, в заливе.
– Послушайте, пожалуйста, новости, которые сообщил из Парижа пять минут назад комиссар Нансен. Прежде всего, господин Нансен честно и ответственно отзывается на тот, возможно, один из самых главных вопросов, который часто ему задавали. Действительно Советское правительство объявило полную амнистию всем без исключения, кто сражался на противоположной стороне, – следует понимать, на вражеской. Никаких притеснений на бывших своих противников, кто возвращается с чистыми помыслами и искренним желанием помогать своей стране, советская власть оказывать не будет. Такие гарантии получила от Советского правительства и Лига Наций. Поэтому можете без страха, смело и спокойно, возвращаться на свою Родину. Это первое.
После этого переводчик вновь обернулся к Колену, и они какое-то время продолжили разговор. А толпа безмолвно вслушивалась в чужую речь, пытаясь что-то понять по их интонациям.
– И, во-вторых, – вновь обратился переводчик к плотно сбившейся толпе, – слушайте внимательно и запоминайте. Через три дня, ровно в двенадцать часов дня, от восьмого причала в Советскую Россию отправится турецкий пароход «Решид-Паша». С французскими оккупационными и турецкими властями все согласовано. Просьба создать инициативную группу, чтобы составить поименные списки всех отъезжающих. Мы, господин Колен и я, будем всячески вам содействовать. Но главное, что касается порядка при отъезде, ложится на ваши плечи. Надеюсь, всем все ясно? Если есть вопросы, спрашивайте.
Вопросов было много, поскольку сюда прибыло немало новичков. Они задавали те же вопросы, которые Дзюндзя и трое его делегатов уже не однажды обговаривали. Они и отвечали всем собравшимся возле здания комиссии.
Расходились, когда на небе уже зажглись крупные южные звезды.
На следующий день комиссар Пеллё пригласил к себе Врангеля. Настроен он был решительно. После выговора, полученного им из Франции за его безделье, он стал активно помогать Комиссии по репатриации. Он тоже был заинтересован как можно быстрее отправить в Советскую Россию хотя бы один корабль с репатриантами, чтобы показать французскому правительству, что и он здесь, в Константинополе, не зря ест казенный хлеб.
– Вчера у меня была делегация ваших русских, которые изъявили желание вернуться на Родину.
– Я выгнал их, – сообщил комиссару Врангель. – В большинстве своем это дезертиры, которые подлежат военно-полевому суду.
– Хочу напомнить вам, генерал, что война кончилась, и вы не в России, где были вольны поступать так, как вам захочется. Здесь же все, и гражданские, и военные лица, находятся под протекцией моей республики, – и затем добавил: – Отправить желающих вернуться на Родину не моя инициатива. Более того, это даже не инициатива моего правительства. Этим занимается Лига Наций. И отказать им в своем содействии я был не вправе. Надеюсь, вы тоже не станете этому препятствовать.
– Я так понимаю, это ультиматум? – спросил Врангель.
– Ну при чем тут ультиматум? Это реальность. Они не в тюрьме, и у них есть такое право: вернуться домой.
– Но вы же понимаете, что это означает? – жестко спросил Врангель. – Практически это уничтожение Русской армии.
– Надеюсь, вы не скажете, что это для вас новость Мы неоднократно говорили с вами об этом. Вы не прислушались к моим словам. И напрасно. То, что я сообщу вам сейчас, для вас будет еще более неприятной новостью. Надеюсь, вы воспримете ее мужественно. Мое правительство сообщило мне, что рассчитывает на скорейшую демобилизацию Русской армии. Уже в ближайшее время Франция прекратит вам бесплатные поставки продовольствия. Все займы, которые вам были отпущены, вы полностью исчерпали. И даже более того.
– А флот, который мы вам передали? Разве он ничего не стоит?
– Нет, почему же! Но, по оценке наших экспертов, стоимость большинства судов оказалась весьма завышенной. Они конструктивно и морально устарели, крайне изношены, и решено в ближайшее же время отправить их на металлолом.
– Мы не на базаре, господин комиссар. Есть договор.
– Да, мы не на базаре, – согласился комиссар Пеллё. – Но у России миллиардные долги. Я имею в виду царские долги. Советское правительство отказалось их признать, и его можно понять. Кто их нам выплатит? Об этом мое правительство тоже вынуждено думать.
Врангель молчал. После бесконечно длинной паузы Пеллё снова заговорил:
– Я вам сочувствую. Вам и вашим храбрым солдатам, которые до сегодняшнего дня все еще продолжают верить вам. Далеко не все, в этом вы тоже, конечно, уже начинаете убеждаться. Понимаю, как трудно будет вам найти слова, которые убедят тех, кто пока с вами, отказаться от мысли продолжать борьбу. Но, к сожалению, это необходимо. Не в наших с вами силах в настоящее время что-либо изменить.
Врангель встал.
– Благодарю вас, господин комиссар, за откровенную беседу, – сказал он и направился к двери.
– Отнеситесь к моим словам со всей серьезностью. Иначе ваши люди столкнутся с весьма разрушительными для них сюрпризами, – сказал вслед Врангелю Пеллё.
Врангель у самой двери остановился:
– Я вас понял, комиссар. И все же я убежден: нам пока еще рано сдавать оружие.
– Оно вам уже не пригодится. Поймите, Совдепия с каждым днем становится все сильнее. Именно поэтому от вас начали уходить люди.
– Уходят слабые и дезертиры.
– Против вас уже вся Европа. Лимит на войны исчерпан, – увещевал Врангеля Пеллё. Он понимал, что Врангель упрям. И не только. Он пока не знал, как, отказавшись от борьбы, «сохранить свое лицо». Но, возможно, потом, позже, проанализировав все, он придет к разумным выводам.
– Не уверен.
– Читайте газеты.
– У меня плохое зрение. Я не вижу того, что видите вы.
И Врангель покинул кабинет комиссара.
Глава четвертая
После последнего, унизительного, визита в штаб Врангеля Слащева охватила болезненная бессонница. Уставившись глазами в потолок, он перебирал в памяти все обиды, нанесенные ему Врангелем. Он осунулся, постарел. Среди ночи вдруг вскакивал и шел к заветному шкафчику, где прятал кокаин, в надежде, что там еще что-то завалялось. Что ему стоило затеряться, этому крохотному пакетику? Возможно, он лежит там, среди белья, случайно им не найденный.
Он тщательно перетряхивал простыни, рубашки, полотенца. Но все тщетно. Были бы деньги, он знал, где его купить. Даже сейчас, среди ночи. Но денег у него не было. Деньги были у Нины. Но он знал: она поймет, для чего они ему…
И он снова ложился и продолжал досматривать картинки его прежней жизни. Вспоминал кошмарное бегство из Новороссийска. Обозленный постоянными неудачами и критикой Врангелем Деникина, он увольняет Врангеля из армии. Врангель покидает Россию. Как он верил тогда Врангелю! При прощании сказал ему:
– Умоляю вас, Петр Николаевич, не уезжайте!
– Я уволен и не могу поступить иначе. Есть еще кодекс чести.
– Но тогда не уезжайте далеко. Поверьте, вы еще понадобитесь России.
Слащев как в воду смотрел. После целого ряда новых неудач на фронтах союзники отказали Деникину в поддержке. И 21 марта в Севастополе был созван Военный совет, где он, Слащев, назвал имя преемника Деникина – генерала Врангеля. У Слащева тогда был высокий авторитет, и к его словам прислушались почти все военачальники.
Да, так было!
Как быстро Врангель все это забыл!
Слащев любил Врангеля за его богатырский рост, мужественную фигуру. Лишь несколько позже он убедился, что на самом деле он человек слабый, нерешительный, часто идущий на поводу у окружающих его бесталанных советников.
Он снова вскочил с постели, аккуратно разложил на столе бумаги, проверил, в порядке ли перья, и стал писать. Писал он торопливо, вызывая в памяти картинки прежних боев. Иногда останавливался, задумывался, нервно грыз деревянный кончик ручки. И снова пытался торопливо записать, как протекал тот или иной бой и как бы все могло быть, если бы не допущенные Врангелем ошибки.
Иногда к нему заходила Нина, тихо говорила:
– Ты бы что-нибудь поел.
– Не мешай! Потом! – грубо обрывал он ее и выставлял за дверь.
На третий или четвертый день, изнемогая от бессонницы и усталости, он крупными буквами написал: «Уроки Крыма».
Немного подумав, перечеркнул «Уроки Крыма» и сверху сделал новую надпись: «Требую суда общества и гласности».
Поставив точку, он упал на диван и уснул. Спал больше суток. Проснувшись, наскоро что-то пожевал и отправился на базар. Долго ходил в толчее, высматривая долговязую фигуру Соболевского. Спрашивал у знакомых, не видел ли кто генерала. И тогда он пошел к нему домой.
Соболевский, увидев его в окне, вышел на порог.
– Входи! Пообедаем!
– Нет-нет! Я по делу!
– Первый раз вижу человека, который из-за дела отказывается от обеда.
– Ну правда: мне некогда.
– Ну говори!
– Я написал!
Соболевский удивленно посмотрел на Слащева.
– Ну, помнишь? Я тебе говорил. Про Врангеля, про себя. Все-все описал, как на духу. Пусть судят.
– О чем ты? Кто будет судить? И кого?
– Меня. Врангеля. Для чего и написал.
– Та-ак! – сокрушенно покачал головой Соболевский.
– Найдешь время, прочитай! – попросил Слащев.
– Ну, прочитаю. И что?
– Понимаешь, ты у них в типографии когда-то какие-то приглашения печатал. Может, договоришься? Немного, штук хоть бы полсотни. А, Саша?
– Как тебя заело! – покачал головой Соболевский.
– Напечатай, Саша! Прошу!
– Я вроде обещал. Попытаюсь.
– Только, понимаешь, в смысле финансов я пока на мели. Но я рассчитаюсь. Ну, пришлют же мне когда-нибудь эти проклятые фунты!
– Не в деньгах дело! По-моему, ты на свою задницу хлопоты ищешь.
– Может быть, – согласился Слащев. – Но мне нужна эта книжка. Я потом выброшу все из головы. Все забуду. Буду жить, как ты. Индеек стану разводить. Слыхал, мне индюшачью ферму подарили? Хорошая птица. Большие капиталы можно на ней нажить!
– Ну, богатей, богатей! Не пойдешь обедать?
– Нет! – твердо отказался Слащев и снова попросил: – Ты сегодня же к ним сходи!
– К кому?
– Ну, в типографию. А я завтра с утречка к тебе забегу, узнаю.
Соболевский ничего не ответил, пошел по ступеням в дом. А Слащев, глядя ему вслед, вдруг подумал: не вернуть ли его Глафире Никифоровне Зизи? То-то радости было бы! Но почему-то стало жаль. Он к ней привык. Еще немного, и она станет утехой для его Маруси. Может, позже когда-нибудь? Вот если книжку Соболевский напечатает, тогда…
И он пошел со двора.
Дня через четыре Соболевский отдал ему тридцать экземпляров аккуратненькой тощенькой книжицы, на обложке которой крупными буквами была напечатана его фамилия. Чуть ниже: «Требую суда и гласности». И в скобках, чуть помельче: «Оборона и сдача Крыма». Последняя надпись Слащева весьма удивила. В рукописи он ее вычеркнул, но Соболевский, внимательно прочтя рукопись, ее восстановил.
Со стопкой книг в руках Слащев отправился в штаб Врангеля.
В коридоре штаба его встретил адъютант Врангеля Михаил Уваров:
– Вы к кому?
– Я на минутку, – взволнованно и сбивчиво начал он. – Чтоб главнокомандующий не подумал, что я за его спиной…
– Вы о чем?
– Вот! – Слащев протянул Уварову свою книжку. – Я написал. Пусть прочтет. Ни одним словом не слукавил.
– Я не могу это принять, – сказал Уваров. – Обратитесь к начальнику штаба генералу Шатилову!
– Да что вы, в самом деле! – возмутился Слащев.
– Извините, но мне не велено от посторонних… – попытался оправдываться Уваров.
– Да! Я совершенно забыл, что я посторонний, – с неловкой, застенчивой улыбкой Слащев повернулся и пошел по коридору.
Шатилов, с которым он столкнулся в коридоре, тоже не принял из рук Слащева книжку и тут же скрылся за дверью своего кабинета.
Слащев какое-то время медленно побрел по коридору. Остановился у окна, постоял возле него. Что дальше? И решительно положил на подоконник книжку. То же сделал на следующем подоконнике. И на третьем…
Вышел из штаба. Остановился возле часового. Достал еще одну книжку и протянул ему:
– Возьми, браток! Тут про то, как мы с тобой славно воевали.
– Спасибо, ваше превосходительство, – сказал часовой. – Я вас помню. Мы с вами в прошлом годе летом под Каховкой встречались. Вас тогда еще ранило, – и спросил: – Обошлось?
– Обошлось, парень. Все в жизни как-то обходится.
Глава пятая
Ко времени отплытия «Решид-Паши» на площади неподалеку от порта собралась большая толпа желающих возвратиться на Родину. Они были уверены, что сюда Врангель не посмеет дотянуть свою руку.
Дзюндзя, вдруг случайно, по воле толпы, оказавшийся помощником по репатриации, толкался среди отъезжающих в Россию и время от времени выкрикивал:
– Токо не надо, як той скот в череди. Не позорьте Рассею. Разбериться по четверо и, если можно, до парохода с песней!
– С песней мы по Севастополю!
– А мо по Феодосии! У мэнэ там теща!
– Это бабка надвое гадала. Може, без песни, но под конвоем? – выкрикнул кто-то Дзюндзе из толпы.
Но все постепенно выстраивались в колонну.
– А если с музыкой? – спросил кто-то
– Ще лучшее! – ответил феодосийский реэмигрант.
– А где ты ее возьмешь, тую музыку? – спросил Дзюндзя.
– Труба, бас и барабан есть. Всю войну с нами прошли. Не выкидать же!
– А шо можете сыграть?
– А что скажете! Можно «Боже, царя храни», а можно и «Интернационал».
– Ну-ну! Без шутков! – рассердился Дзюндзя. – Шо-нибудь интернациональнэ! «Марсельезу» знаете?
– Як «Отче наш»!
– Ну, так вжарьте «Марсельезу»!
И под музыку сиротского оркестра они строем пошли к причалу, туда, где стоял под загрузкой «Решид-Паша».
Уже в порту к музыкантам пристроился гармонист, и «Марсельеза» зазвучала веселее.
Порт заполонили пришедшие проводить пароход: женщины, мужчины, старики и старухи, детвора, И по расовому признаку здесь тоже кого только не было: турки и греки, французы и абиссинцы, негры и китайцы…
– Шо тут празднуют, – подбежал запыхавшийся подвыпивший русский солдат.
– Свадьбу! – ответили ему.
– В таку жару? А кто на ком женится?
– Белогвардейцев за Красную армию выдаем!
– Тьфу ты! – рассердился шутке солдат.
«Решид-Паша» дал протяжный прощальный гудок и отошел от причала. И пока корабль не скрылся за поворотом, никто из провожающих не уходил из порта.
Часть пятая
Глава первая
Похоже, пока все шло, как задумывалось. Одесса сообщила Кольцову, что Красильников благополучно добрался до Новой Некрасовки и даже успел благополучно связаться с Лагодой. А Кольцов надеялся, что пройдет еще немного времени, и листовки, распространенные в галлиполийском лагере, сделают свое дело.
Так и случилось. Спустя месяц – новое сообщение, от самого Красильникова. Он ухитрился перелать его по рации проданного французам транспорта «Рюрикъ», который пока все еще обслуживали российские моряки. Текст сообщения был совершенно невинный: «Мама купила билет, скоро выедет». Теперь надо было заблаговременно и серьезно подготовиться к возвращению белогвардейцев-репатриантов в Советскую Россию: достойно, без злобных эксцессов встретить, помочь разъехаться по домам. И, быть может, самое главное: трудоустроить их сразу же по возвращении.
Задача, которую поставил Кольцов перед собой и своим новым отделом: сделать все, чтобы уже с первых дней не отторгнуть от себя репатриантов, ничем не напугать их при первых же шагах. Они с самого начала должны почувствовать заботу новой власти. От них, от тех первых, кто вернется на Родину, будут многие ждать вестей там, на чужбине. Они должны из первых уст узнать, что все вернувшиеся действительно прощены и никто не пытается выяснять их прошлое, не осуждает и не упрекает. Эти вести должны успокоить их, придать решительность тем, кто пока пребывает в сомнениях и все еще боится возвращаться домой.
В эти хлопотные дни помощник Дзержинского Герсон попросил Кольцова зайти.
– Феликс Эдмундович передал вам перевод этого письма. Ознакомьтесь. Он полагает, что оно представляет для вас несомненный интерес.
Кольцов бегло взглянул на переданный Дзержинским ему листок.
«Французская Республика. Париж. Директор департамента политических и торговых дел Франции Перетти де ла Рокко – Господину Военному Министру (Генштабу, 3-е бюро, секция Востока)».
В своем письме господин Перетти де ла Рокко сообщал, что Служба здравоохранения республики привлекает внимание военного ведомства на неудовлетворительное санитарное состояние русских, эвакуированных в Турцию, и на опасность, которую оно представляет.
Далее господин Перетти де ла Рокко приводил рекомендации главного врача первого класса Ортинони. Главный врач считал необходимым настоятельно рекомендовать военным властям в Константинополе как можно больше поощрять возвращение русских эвакуированных домой, в Россию, «используя в этих целях все меры, благоприятствующие и ускоряющие их отъезд».
Это письмо имело для Кольцова не только чисто познавательный интерес. Оно означало: едва эвакуировав русских в Турцию, французы сразу же стали размышлять, как избавиться от этой многотысячной человеческой обузы. Англия, по непроверенным пока сведениям, уже предусмотрительно отказалась от помощи Врангелю. Франция пока держится, и, вполне возможно, что ввязалась она в эту авантюру из-за русского флота. Но едва флот оказался на отстое в Бизерте, а ежедневно кормить русскую армию, как выяснилось, дело затратное, и неизвестно, как надолго это затянется, Франция стала понемногу забывать свои клятвы и обещания и даже стала осторожно подвергать сомнению законность заключенных прежде договоров.
Иными словами, сразу же после бегства белой армии из Крыма она утратила для французов свою привлекательность. Кольцова обрадовало это письмо хотя бы тем, что теперь он еще раз убедился: французы не будут чинить препятствия возвращению на Родину российским солдатам и офицерам, а также гражданским лицам, именуемым беженцами.
Кольцов разослал соответствующие распоряжения и инструкции во все особые отделы черноморских портовых городов, таких, как Новороссийск, Одесса, Севастополь, Керчь, куда в любой момент могли прийти транспорты с репатриантами, и предупреждал, что к этому надо тщательно подготовиться.
Он, конечно, понимал, что вернуться решатся далеко не все. Кто-то подыщет себе другую родину где-нибудь в Аргентине, Бразилии или Австралии, кто богаче, осядут во Франции или Бельгии. Кто-то подастся искать свое призрачное счастье во французский иностранный легион. Но таких все равно будет немного, ну двадцать, от силы – тридцать тысяч. А ушли только с Врангелем из Крыма что-то около трехсот тысяч. Многие покинули Россию еще во время «новороссийской катастрофы», а это тоже тысяч около ста. А кто подсчитал тех, кто оказался в плену еще во время Великой войны четырнадцатого года? Эти ни в чем не провинившиеся ни перед той, ни перед другой Россией тоже вскоре, пусть небольшими ручейками, потянутся на Родину.
Кольцов ждал добрых вестей. Но «мамы» все не было.
Но однажды, когда он уже отчаялся ждать, ему позвонил из Севастополя начальник Особого отдела ВЧК «Черно-Азовморей» Беляев и сообщил, что из Константинополя вышел пароход «Решид-Паша» больше чем с тремя тысячами врангелевцами, изъявившими желание вернуться в Советскую Россию. Беляев не знал, как с ними поступить, вопросов возникло много, разосланные ВЧК инструкции не отвечали даже на половину из них.
Кольцову и самому было интересно встретить первый пароход с реэмигрантами, посмотреть на тех, с кем он не один год сражался. Какими они стали после бегства из Крыма, как перемололо их турецкое сидение? И он выехал в Севастополь, в котором родился, вырос, но в котором не был едва ли не с подполья и ожидания смертной казни в севастопольской крепости.
В Особом отделе ВЧК «Черно-Азовморей» его встретил Беляев, который никак не мог понять, как принимать прибывающих белогвардейцев? Где их разместить: в гостиницах, которые по этому случаю пытались полностью освободить, но это никак не получалось, или же сразу прямо в тюрьму? Точнее: солдат – в тюрьму, офицеров – в Севастопольскую крепость. Беженцев легонько «профильтровать» – и по домам. В этом случае места хватило бы на всех.
– Я как рассуждаю, товарищ Кольцов, ежели они все же покаместь враги, тогда их в тюрьму. Ежели советской властью полностью прощенные – тогда с хлебом-солью и по домам. А может, тут имеется какая-то серединка? Дело политическое. А в присланных вами инструкциях про это маловато написано. Не сразу поймешь.
– С хлебом-солью не надо. Не гостей долгожданных встречаем, – пояснил Кольцов.
– Уже чуть прояснилось. Значит, по тюрьмам и быстренько на «отфильтровку»? А мое дурачье, слышь, оркестр организовали. Флаги, транспаранты.
– Оркестр, конечно, не помешает. И флаги. Пусть другими глазами посмотрят на наше красное знамя.
– А как насчет транспарантов? Не будет политическим перегибом?
– Смотря что на транспарантах написано.
– Вот! И я про то же самое. Что бы ты, товарищ Кольцов, к примеру, написал?
– Что-нибудь скромное: «С возвращением на Родину!» или «Добро пожаловать!»
– Как смотришь, ежели, к примеру: «С пролетарским приветом!»?
– Ну, какой ты пролетарий, Беляев? – скептически хмыкнул Кольцов. – Да и они, прямо скажем, далеко не все пролетарии.
– Что значит – столица! Сразу – в корень! – с восторженным придыханием сказал Беляев, умильно глядя на Кольцова. – Честно скажу, если б не ты, могли что-то и не в ту сторону загнуть. Дело политическое, сложное.
До прихода «Решид-Паши» еще оставалось время, и Кольцова неудержимо потянуло отправиться на окраину Севастополя – в свою родную Корабелку. У него там уже никого не было, никто не ждал. Просто захотелось увидеть свой старый дом, пройтись по знакомой улице, вдохнуть тот незабываемый соленый морской воздух, смешанный с запахами чебреца, полыни и растопленной до кипения смолы.
Улочки окраинной Корабелки никогда не знали ни щебенки, ни булыжника, идущие по улице поднимали своими башмаками белесую известковую пыль. Но старые домики всегда к весне были старательно выбелены, а стены, своими фасадами глядящие на улицу, были разрисованы диковинными цветами, которые никогда здесь не произрастали. Так они выглядели в фантазиях населявших Корабелку моряков, которые нагляделись на них в дальних тропических странах.
Отец у Кольцова был машинистом. С утра и до вечера его маломощная «кукушка» перетаскивала по станционным путям грузовые платформы и товарные вагоны. В дальних странах ему побывать не довелось, и фасадная стена их домика была украшена обычными подсолнухами. Мать любила подсолнухи, и, сколько ее помнит Павел, она рисовала их повсюду.
Ноги сами вывели его к своему бывшему домику. Он совершенно не изменился и был такой же ухоженный и чистенький, как и при жизни матери. Фасадная стенка была отчаянно белой. Но, если присмотреться, сквозь побелку все еще проступали скромные мамины подсолнухи.
Сердце у Кольцова тоскливо заныло: зайти или не надо? Зачем будоражить душу ненужными, расслабляющими воспоминаниями? Напоминать новым хозяевам о том, что здесь была когда-то другая, вполне счастливая жизнь. Новые хозяева живут здесь своей, и вряд ли им интересно знать, что было здесь некогда. Издревле так на Руси ведется: поселяясь в покинутом обиталище, новые хозяева старательно уничтожали даже самые ничтожные следы пребывания иных людей: красили, мыли, протирали, а после приглашали батюшку вновь освятить старый приют.
Увидев долго стоящего возле дома мужчину, к калитке подошла девчушка с пышными бантами на голове.
– Ты ко мне? – спросила она.
Этот вопрос поставил Кольцова в тупик. Но девчушка сама же его и выручила:
– А мама сказала, что гости придут вечером.
«У них какое-то торжество, – догадался Кольцов. – Возможно, у этой малявки день рождения?».
– У тебя сегодня праздник? – спросил Кольцов.
– Да, – девочка подняла руку и показала три пальца, но, подумав, распрямила еще один. – Вот сколько мне.
– Я поздравляю тебя!
– Ты лучше вечером.
Он хотел было сказать: «Ладно, вечером!» Но подумал, что вот так легко он вскользь растопчет ее доверие, и уйдет, и забудет за хлопотами дня об этой маленькой встрече. А она, возможно, будет его ждать. Вспомнил себя почти в таком же возрасте, те давние мелкие обиды, которые порой долго жили в нем. И он сказал:
– Понимаешь, какая неприятность. Сегодня вечером я обязан быть в другом месте по очень важному делу. Поэтому я и решил поздравить тебя пораньше. Но я обязательно к тебе зайду как-нибудь в другой раз. Ладно?
– Хорошо.
Кольцов пошел дальше. Краем глаза он видел: на пороге появилась женщина, должно быть, мать девочки.
– С кем ты тут?
– Это мой друг, – услышал Кольцов. – Он приходил меня поздравить. Но он не может вечером, у него важное дело…
Павел шел по своей улице, на которой некогда жил, и встреча с этой девчушкий вернула его в то давнее босоногое детство. Он смотрел по сторонам, узнавал и не узнавал их старые дома. Вроде они были тогда повыше и больше, а сейчас словно ссохлись от старости.
Вот в этом доме жил вечно болезненный «очкарик» Валька Овещенко. Он приучил Павла к чтению, и всего Жюля Верна, Майна Рида и Фенимора Купера он прочитал у него в маленькой сараюшке. Там было много сена и веток, впрок заготовленных для козы, и из-за щелей между досками в солнечные дни там было светло до самых сумерек. Выносить книги со двора Вальке не разрешали родители.
Вальки уже не было в живых. Кольцову кто-то рассказывал, что его повесили слащевцы, схватив на базаре во время облавы. У него за поясом нашли книжку Фридриха Ницше под названием «Так говорил Заратрустра».
– А что он говорил? – спросил у Вальки слащевский полковник.
– Много всего.
– А ты – самое главное.
– Говорил, что государство – самое холодное из всех самых холодных чудовищ на земле. «Я, государство, есмь народ», – говорило всем государство.
– Интересно, – сказал полковник. – Продолжай!
– «Людей рождается слишком много! Для лишних и изобретено государство!» – почти процитировал Валька Фридриха Ницше, точнее его героя Заратрустру.
– Ну, еще!
– «Вы совершили путь от червя к человеку, но многое в вас еще осталось от червя», – процитировал Валька…
– Достаточно. Я понял: тебе не нравится государство, ты не любишь людей.
– Это не я сказал! – выкрикнул Валька.
– Я понял. Ты повторил Заратрустру. Но повторил потому, что солидарен с ним, – слащевский полковник был философ, но ему в свое время не дался Ницше, и он был исключен из университета. – Ты хочешь, чтобы народами правили люди, которые уже не черви, но еще не человеки? Скажи, не они ли хотят до основанья разрушить весь мир? Ты умный парень. Ты представляешь, что они «а затем» построят? Я не хочу жить в том вашем мире… Я понял, ты большевик!
Валька даже не успел возразить полковнику, как его повесили на арке при входе на базар.
Пройдя еще немного, Павел увидел дом, где когда-то жил Колька Виллер. Когда-то он выделялся на их улице красивыми резными ставнями на окнах и стоящей «на курьих ножках» голубятней. Отец Кольки был немец и славился в Корабелке своим мастерством краснодеревца и еще тем, что был страстным голубятником. Это можно было определить по тому, с какой любовью и фантазией была построена голубятня. Иной раз сюда специально приезжали голубятники из окрестных городков, чтобы полюбоваться этим произведением столярного искусства.
Перед Первой мировой войной отец уехал в Германию и больше оттуда не вернулся. Ходили слухи, что он там женился. От обиды на отца Колька сменил свою немецкую фамилию на материну украинскую – Приходько.
Колька Приходько стал хозяином в доме и даже в их мальчишьей ватаге выделялся своей немецкой аккуратностью и украинской рассудительностью.
Когда началась Великая война, Колька едва ли не первым из их ватаги ушел на войну. Ушел и сгинул. Ходили слухи, что его расстреляли немцы лишь за то, что он сменил фамилию.
Проходя мимо Колькиного дома, Павел невольно посмотрел во двор и увидел… Кольку. Это, несомненно, был он. Укутанный в теплый платок, он сидел посреди двора в самодельной инвалидной коляске.
Павел взмахнул рукой, чтобы привлечь его внимание. И хотя Колька смотрел прямо на улицу и не мог его не видеть, он Павлу не ответил. Что за ерунда? Знать не хочет? Обиделся? Когда и за что?
И тогда Павел пошел во двор.
Едва скрипнула калитка, как ему навстречу со свирепым лаем бросился лохматый черный пес.
– Полкан! Полкан! – позвал Колька и, не поворачивая головы, сказал: – Хто там? Не бойсь. Он смирный.
Полкан и верно резко развернулся и помчался к хозяину.
Уже подойдя поближе, Павел увидел белесые и неподвижные Колькины глаза. Маленький, с желтым безжизненным лицом, Колька сидел в коляске на вымощенном ватном одеяле. Справа от него стояла ополовиненная бутылка самогона, слева, на беленькой холстинке, лежала закуска: пластинки сала, покрошенный лук, пара отваренных и разделенных на четыре части вареных картофелин…
Ног у Кольки не было выше колен.
Когда Кольцов почти вплотную подошел к нему и хотел поздороваться, тот предупреждающе поднял руку и попросил:
– Молчи! Я сам угадаю! – и после недолгой паузы сказал: – Семка! Куренной!
Только сейчас Павел понял, что Колька совершенно слепой. Его мертвые глаза были направлены не на него, а немного мимо. На Павла было направлено правое ухо, и Колька по каким-то характерным звукам пытался угадать имя гостя.
– Толик! Хандусь! – сделал Колька вторую попытку.
Павлу показалась непристойной такая игра в прятки. Он тихо сказал:
– Нет, Коля! Это я, Пашка Кольцов.
– Ты, Паша? – обрадованно и удивленно воскликнул Колька. – А тут в прошлом годе шутка прошла, будто тебя врангелевцы в крепости расстреляли. Будто судили и расстреляли. В газете про это, говорят, пропечатали. А выходит, брехня! А, Паша? Брехня, выходит?
– Выходит, брехня! – поддержал Кольцов бурную радость Кольки.
Колька протянул к Павлу руки, но не дотянулся, пошарил по воздуху, попросил:
– Подойди поближе! Дай руку!
Он стал неторопливо ощупывать руку Павла, затем провел пальцами по лицу.
– Фу ты, ну ты! С усами! – отметил он и, словно все еще не веря в такую невероятную, невозможную встречу, повторил: – Пашка!
– В войну отпустил. Да так и оставил. Привык, – сказал Павел, чтобы только не молчать. Память подсовывала ему того, другого Кольку – раздумчивого, обстоятельного, но вместе с тем плутоватого, хитроглазого изобретателя лихих мальчишеских проказ. Ровным счетом ничего не осталось от того Кольки.
Они оба ощущали какую-то неловкость от этого их несправедливого житейского неравенства. И чтобы скрасить ее, Колька, насколько мог, бодро сказал:
– А я слепой, як той крот, – и он даже засмеялся, но как-то невесело, как бы предупреждая Павла, чтобы он не вздумал, не посмел его жалеть. – Немец, гад. Газами. Сперва не поняли, вроде як слабый туман по долине. А потом в глазах засвербело, ну прямо спасу нет. Вода была бы, может, можно было промыть. Да где ж ты той воды в окопах напасешься? У кого в флягах была, на себя вылили. Все равно не помогло. Такая вот песня.
– Где ж это тебя? – спросил Кольцов.
– На Западном. В Галиции. Весной пятнадцатого.
– Я тоже на Западном был. В Восьмой армии. Только уже ближе к осени.
– С осени я уже по госпиталям валялся. Рассказывают, мне сам император руку жал. Только я его не видел. А руку запомнил: слабенькая такая, хлипкая, почти что без костей, – и затем без паузы добавил: – Да и откуда у него в руках сила будет, если он ничего тяжелее куриного яйца в руках не держал.
– А с ногами что?
– Видать, дура-смерть что-то не так рассчитала. Уже в тылы нас вывозить собрались. Немец то ли спьяну, то ли сослепу госпиталь обстрелял. Пустячное ранение в обе ноги. Даже врачи сказали: «Через неделю танцевать будешь». А повернулось все наоборот. Гангрена. Я им перед морфием кричал: «Зарежьте! Все одно, жить не буду!» А живу! И радуюсь! Какая-никакая, а жизнь! Чужих скольких зарезал, а себя рука не поднимается. Жалко себя.
Помолчали. Разговаривать вроде уже было не о чем.
– Ты надолго в Севастополь? – спросил Колька. – Будет время, загляни! Выпьем какого-нибудь пойла, вспомним прошлое. Или ты не пьешь?
– Если удастся, обязательно зайду, – пообещал Кольцов.
– Ты где теперь? – поинтересовался Колька.
– В Чека.
– Высоко залетел: не зайдешь. Я знаю, – сказал Колька и зло добавил: – Вы теперь хозяева России. Когдась мы были с тобой ровней. А теперь жизнь меня малость укоротила, а тебя возвысила, – он пошарил рукой справа от себя, схватил бутылку, нервно, проливая на себя, сделал пару больших глотков и лишь после этого сказал: – Не заходи. Не надо. Я не обижусь. Я на жизнь не обижаюсь. Она редко бывает справедливой. Могла б и глаза сохранить, и ноги. Хоть одну.
– Чем я могу тебя утешить, Коля! – с сочувствием сказал Кольцов. – Прости, не зайду! И не потому, что не хочу. Не смогу. Сегодня под вечер буду встречать репатриантов, и сразу же, ночью, в Москву.
– Репатрианты. Это которые еще недавно были белогвардейцами? – спросил Колька. – На расстрел едут? Новый Крым им устроите?
– Зачем ты так злобно, Колька? Домой отпустим. Не слыхал? Амнистию объявили.
– Передай им привет от Кольки Приходько, – с некоторым вызовом сказал Колька. – Сколько белые в Севастополе были, здорово мне помогали. И харчами, и одежкой. Спросят, бывало: «У красных служил?» Говорю: «А то как же! Скороходом! И зоркоглазом!» Смеются. А потом что-ни-то принесут. И выпить, бывало, и закусить…
Ближе к вечеру Кольцов вернулся в Особый отдел. Но там уже никого не было, лишь один Беляев продолжал его ждать.
– Ну, где ты ходишь, товарищ Кольцов? «Решид-Паша» уже на подходе!
Но время у них еще было, и они неторопливо, пешком, пошли к Графской Пристани.
– Представляешь, фокус! – поспевая за Кольцовым, продолжал говорить Беляев: – Радиограмма с «Решид-Паши», в аккурат, когда ты ушел. Сообщают, что через три часа будут в Новороссийске. Те ни сном, ни духом ничего не знают. Я от твоего имени вызываю огонь на себя: «Не валяйте дурака, повертайте оглобли на Севастополь. Встреча назначена на Графской Пристани Севастополя. Повернули. А то, понимаешь, могли сорвать мероприятие.
– Ну, прямо скажем, невелико мероприятие.
– Не скажи, товарищ Кольцов, на первый взгляд и невелико. А если с политической стороны взглянуть – ого-го! Вышли б они в Новороссийске с корабля, и что?
– А в самом деле, что?
– Разбрелись бы по городу. Лови потом, собирай. А затем куда? Обратно на корабль и взаперти держать, пока мы то-се. А у нас тут другой коленкор. Перво-наперво митинг. Опосля официальная беседа с каждым. Надо, понимаешь, каждого как этим…как рентгеном просветить. Товарищ Троцкий еще загодя телеграмму прислал: «Решительно настаиваю на тщательной проверке каждого прибывшего белогвардейца. Не допустить возвращения в советскую семью классово чуждых элементов».
– Я что-то не помню такую телеграмму, мне о ней никто ничего не говорил.
– Это он Розалии Самойловне прислал. Ну, Землячке. Она нас вызывала, инструктировала.
– Она что же, приедет на митинг? – спросил Кольцов.
– Собиралась. Я ей сообщил сегодня, что ты приехал. Она вроде как обрадовалась. Сказала: «Тогда я могу спокойно поболеть».
– Не выдумываешь?
– Так и сказала. Дословно.
– Не подведем Розалию Самойловну? – спросил у Беляева Кольцов, а сам подумал, что кто-то хорошо поработал с Землячкой: боится встречи с ним. Должно быть, Дзержинский или Менжинский. Вряд ли сам Троцкий, они с Розалией Самойловной одинаково дышат. И еще Бела Кун с ними. Они втроем всех прибывающих на «Решид-Паше» еще сегодня тут же, на Графской пристани, прикончили бы.
– Так как думаешь, не подведем Землячку? – снова повторил свой вопрос Кольцов.
– Та ни боже мой! Такая женщина! Совесть революции! Глаз какой! Сколько случаев знаю. Бывало, глянет на человека и сразу же определяет: враг! Редкое качество!
Кольцов коротко взглянул на Беляева:
– Вот я и задумался теперь, как же мы с тобой, товарищ Беляев, будем чуждых элементов выявлять?
– Ты за меня, товарищ Кольцов, не переживай. Кой-какой опыт у меня по этому делу имеется.
– Это вы вместе с Землячкой тут, в Крыму, чуждый элемент искореняли?
– И с нею тоже. И у товарища Белы Куна тоже нюх на врага, як у той овчарки. Это я у них классовую ненависть постигал.
– Так вот, товарищ Беляев, слушай теперь меня. Митинг, беседа, сразу же на вокзал – и домой.
– Всех? А ну как…
– Всех! – твердо сказал Кольцов.
– А казаки? Как, к примеру, поступить с ними? Что, тоже домой?
– Домой! Пусть хлеб растят. И женщин – тоже домой. И военнопленных, которые еще с Первой мировой, кто в Германии в плену был – тоже. Пусть на местах с ними разбираются. А то мы тут с тобой такого наворотим…
– Но хоть с десяток бывших офицеров, чиновников, попов на месте надо бы проверить. Самых подозрительных.
– Не надо! – твердо сказал Кольцов.
– С огнем играешь, товарищ Кольцов! – сухо и с легкой угрозой в голосе сказал Беляев. – С меня отчет потребуют. Что я товарищу Троцкому напишу?
– Напишешь коротко: встретили, зарегистрировали, отправили по домам.
– Всех?
– Всех.
– Не понравится это товарищу Троцкому. Где ж тогда нашая классовая бдительность, товарищ Кольцов, на каковую нам постоянно указывает наша партия большевиков?
– Про классовую бдительность я тебе, товарищ Беляев, как-нибудь на досуге целую лекцию прочту. А сейчас для меня важно одно: чтоб никто, ни один из вернувшихся не мог никому сказать, что с ними учинили расправу. Иначе остальные, которые еще там размышляют, ехать или нет, побоятся возвращаться. Понимаешь? Я, собственно, и приехал сюда, только чтобы предупредить тебя об этом. Нет, даже не так: чтобы ты понял это.
Какое-то время они шли молча. Затем Беляев вдруг резко остановился, с восхищением посмотрел на Кольцова:
– Ну, хитро! – и снова повторил: – Нет! Ну что значит столица! На десять ходов вперед загадываешь!
– Думаю, а как же!
– Так и я тоже думаю, – сказал Беляев.
– Мы – о разном. Ты: как бы товарищу Троцкому угодить. А я: как бы нашему делу не навредить. Небольшая разница.
На Графской пристани было многолюдно. Весть о возвращении бывших белогвардейцев быстро разнеслась по городу, и все, кто мог ходить, поспешили на набережную, чтобы лично увидеть, как будет советская власть встречать своих недавних врагов. В этой толпе было немало и тех, кто пришел сюда с тайной надеждой встретить кого-то из близких или хорошо знакомых, которые, опасаясь большевистской расправы, последними покинули Крым. Проводив их, многие остались в городе, уцелели во времена «троек» и бессудных расправ, пережили голод, холод, унижения и сейчас, стоя на набережной, всматривались вдаль, где недавно возникшая темная точка постепенно приобретала очертания корабля.
Оттуда, с корабля, с такой же жадной надеждой рассматривали тех, кто толпился на берегу.
Пока пароход швартовался, Беляев, оставив Кольцова одного, отправился наводить порядок. Прибывшие ему на помощь красноармейцы потеснили встречающих и образовали широкий проход к площади, куда, сойдя с парохода, должны были направляться репатрианты и останавливаться возле заранее обустроенной там трибуны.
В разных местах над толпой взмыли несколько красных флагов, а также наспех написанные на кусках фанеры и на листах ватмана приветствия и поздравления с возвращением на Родину. В уголочке возле трибуны собралась кучка музыкантов, и тут же не совсем дружно зазвучал «Интернационал». Весь взмыленный Беляев снова пробился сквозь толпу к Кольцову:
– Уже пора! Пройдемте на трибуну!
– А это нужно? – спросил Кольцов.
– Ну, как же! Пусть знают: не только Севастополь, но и Москва их встречает.
– Кто их встречает, Беляев, им наплевать. Им важнее, как их встречают.
– Ну, может, хоть пару слов? – попросил Беляев.
– Вот ты их и скажешь, эти слова, – и затем Кольцов приказал: – Иди! Начинай! А я отсюда, со стороны, посмотрю, как это у нас получилось. Опыт, который в ближайшие дни нам очень понадобится.
Беляев нырнул в толпу.
Пассажиры «Решид-Паши» уже заканчивали сходить на причал и по людскому коридору двигались к площади. Шли робко, жались друг к другу. Осторожно косились по сторонам в надежде выискать в толпе встречающих знакомое или родное лицо.
Над площадью стояла настороженная тишина. Ни приветственных хлопков ладошками, ни ободряющих слов, ни добрых взглядов. Даже те, кто с надеждой их ждал, даже они прятали свою заинтересованность и сочувствие от жестких взглядов большинства, пришедшего сюда лишь затем, чтобы насладиться унижением недавних врагов. Но и они, глядя на усталые, измученные лица, изношенную одежду, на их засаленные и истрепанные мешки и сумки, стали вдруг мягче, их лица приобрели выражение сострадания и сочувствия.
Мелькнуло в этом «марше побежденных», как назвала возвращение репатриантов газета «Крымский вестник», и лицо Дзюндзи. Он шел, как и все, низко опустив голову. Неунывающий, энергичный, он тоже поддался чувству коллективной вины, хотя, едва ступив на берег, понял, что ни мстить им, ни судить их никто не собирается.
Но вот смолк оркестр, и Беляев поздравил всех сошедших с корабля с возвращением на Родину и выразил надежду, что вернулись они домой, в Россию, не с камнем за пазухой и буквально с завтрашнего дня приступят к строительству нового коммунистического будущего.
– Каким оно будет, про то знают только три человека: товарищ Карл Маркс и его друг и напарник Энгельс, и еще товарищ Владимир Ильич Ленин. Они выведут нас на ту самую дорогу, которая ведет прямо к коммунизму. И мы с вами, товарищи, еще при своей жизни увидим, шо оно такое – коммунизм! – с таким вывертом закончил свою короткую речь Беляев.
Потом на трибуну поднялся уполномоченный Реввоенсовета Девятой Кубанской армии Базаров. Он внимательно оглядел репатриантов и затем спросил:
– Кубанцы имеются?
– Есть кубанцы, – нестройно ответили с разных концов толпы.
– Много?
– Энто як считать. Человек четыреста. Може, чуток поболее.
– Не забыли ишшо, як косу мантачить?
– Помним, чего там! Нехитрое дело!..
– Я к тому веду, шо роботы у нас непочатый край. Весна дружна, отсеяться не вспеваем. А вы, извинить за грубое слово, яким я мысленно вас назову, шоб культурный народ не смущать, тыняетесь десь там, по турецьким огородам, а осинь прийде, за нашим куском хлеба руку протянете.
Базаров снова строго оглядел вернувшихся и продолжил:
– Перед лицом усех тут собравшихся шо хочу вам сказать? Вростайте в нашу жизню и трудиться вместях с нами. Для вас мы вложили свой карающий меч в ножны. Ну, а ежли опять зачнете воду баламутыть, ежли не оправдаете нашего до вас доверия, опять дамо вам по жопе. Як мы энто умеем делать, все вы хорошо знаете, так шо, в случай чого, не прогневайтесь!
Потом Базарова снова сменил Беляев:
– В связи с тем, что больше желающих выступить не оказалось, гости тоже чего-то стесняются, объявляю митинг закрытым. Теперь короткая бюрократическая процедура. Сверим списки. На каждого репатрианта хоть одним глазом глянем и – на все четыре стороны. У кого есть жинка, дети, езжайте до них – заждались. Комендант вокзала каждому выдаст проездной литер. Дома через день-два зарегистрируйтесь в Чека. У кого мало грехов, с теми и разговор будет короткий. Кто побольше нашкодил, подольше побеседуете. И, прошу вас, не брешите, ничего не скрывайте. Потому что у брехни длинные ноги и хорошая память. Любая брехня своего хозяина отыщет. Последнее. Кому ехать некуда, обмозгуем ваши проблемы. В беде не оставим.
Вечером Беляев провожал Кольцова в Москву. Возле вагона, в котором должен был ехать Кольцов, они остановились.
– Ты мне, товарищ Кольцов, честно скажи, как сам думаешь, ничего мы не перегнули в смысле встречи? По политической линии?
– А ты чего боишься?
– Старался, чтоб было и не горько, и не сладко, а в самый раз. Правда, один раз чуток споткнулся.
– Это когда же?
– А когда я их «товарищами» обозвал. Мог бы, конечно, «гражданами», но вовремя не пришло на ум это слово.
– Не казни себя. Все получилось в самый раз.
– От спасибо, товарищ Кольцов. А то я все думал: это ж надо, на пустом месте так споткнуться.
– Поезд отправляется, – предупредил Кольцова проводник.
– Так какие будут дальнейшие распоряжения? – спросил Беляев.
– Никаких. Нет, одно все же будет. Полагаю, сейчас белогвардейцы потянутся на Родину. Я встречать их не буду, справитесь сами. Прошу об одном: никого не обижайте. Не мстите. Их пожалеть надо. Загнанные в угол, они там, на чужбине, прислушиваются к каждому слуху. Хотят вернуться, но боятся. Постарайтесь, чтоб от нас исходили только хорошие слухи. Не ложь, не подделка…
– Понимаю! – даже прищелкнул каблуками сапог Беляев и тут же не выдержал, в который раз польстил Кольцову: – Нет, большое дело – столица. Приехал, и все сразу на место поставил. А без тебя могли что-то политически или недогнуть, или перегнуть.
Поезд тронулся. Беляев приложил руку к козырьку фуражки и так стоял, вытянувшись, пока мимо него не проплыл хвостовой вагон.
Глава вторая
О том, каким непростым был путь «Решид-Паши» из Константинополя в Севастополь, Кольцов узнал вскоре после возвращения в Москву. На протяжении всего лишь суток его еще несколько раз перенаправляли из одного порта в другой. Выйдя из Константинополя, он взял курс на Новороссийск, но в пути его перенаправили в Одессу. Затем новая радиограмма: Одесса отказывается принимать «Решид-Пашу» и предложила ему следовать в Севастополь.
Ночью, после того как Беляев проводил Кольцова в Москву, ему позвонили от Троцкого и просили проявить особую бдительность: есть сведения, что далеко не все офицеры возвращаются в Россию с мирными намерениями. Обескураженный и напуганный новым звонком, Беляев велел дежурному по вокзалу попридержать выдачу прибывшим из Турции белогвардейцам проездных литеров, и уже утром их стали собирать по всему городу и доставлять в комендатуру. Там с каждым проводили беседу сотрудники Особого отдела.
Кончилось все это печально. Председатель Всеукраинской ЧК Манцев сообщил Дзержинскому о том, что после тщательной проверки прибывших из Константинополя врангелевцев сорок человек были задержаны и препровождены в тюрьму. У этих сорока были изъяты шифры, явки, пароли и даже пироксилиновые шашки. Среди этих белогвардейцев были даже выявлены несколько агентов контрразведки.
Вечером Кольцова пригласил к себе Дзержинский, показал ему телеграмму Манцева:
– Что вы по этому поводу думаете?
– Думаю, что это, мягко говоря, неправда.
– Но телеграмму подписал Манцев. Я ему доверяю.
– Он тоже кому-то поверил на слово. В Севастополе я познакомился с начальником Особого отдела ВЧК «Черно-Азовморей» Беляевым. Он лишь при одном упоминании имени Троцкого начинает дрожать от страха. Хороший человек, исполнительный, но безвольный. Полагаю, что все это с сорока белогвардейскими агентами не обошлось без вмешательства Льва Давыдовича. Возможно, к этому причастна Землячка.
– Почему вы так в этом уверены? Они ссылаются на факты.
– Я тоже. Скажите, какой здравомыслящий человек повезет с собой в Россию пироксилиновые шашки, если их пока еще можно на улицах насобирать. В крайнем случае на базаре купить. Глупости! А шифры, явки, пароли? Их не в чемоданах везут и не в карманах, а в голове, в памяти. Одного бы выявили, и то я бы удивился.
– Тогда что же это?
– Это из серии тех же крымских «троек». Розалия Самойловна всех пленных записывала во вражеские агенты – и расстреливала. Боюсь, и сейчас не ее ли это работа? Или Льва Давыдовича. Их почерк.
– Экий вы злопамятный, – проворчал Дзержинский.
– Памятливый. Так точнее.
– Хорошо! – решительно сказал Дзержинский. – Я попрошу всех этих задержанных доставить в Москву. А вы будете присутствовать при их допросах.
– Спасибо. Это важно хотя бы для того, чтобы убедиться, что это перестраховочный блеф, – согласился Кольцов. – Я допускаю, что Врангель попытается заслать к нам своих агентов. Но не таким способом. И уж вряд ли с первой же партией репатриантов.
И уже заканчивая разговор, Кольцов сказал:
– Я чего, Феликс Эдмундович, боюсь. Слухи об этих арестах скоро просочатся и туда, в Турцию. И все наши усилия, все эти амнистии, листовки не сработают. Люди станут бояться возвращаться. Не исключаю также, что Врангель в ответ предпримет свою контрагитацию. Тогда ради чего мы это затеяли?
Дней через восемь – новая неприятность.
В Одессу направлялся пароход «Кизил-Ермак» с новой группой бывших белогвардейцев, пожелавших вернуться в Россию. В море его настигла радиограмма, что Одесса не может принять две тысячи семьсот репатриантов. Командующий украинскими войсками, которым на то время стал Фрунзе, прислал Дзержинскому объяснение причин, почему Одесса не может принять «Кизил-Ермака». Он ссылался на отсутствие помещений, недостаток продовольствия и на ряд других уважительных причин, которые в радиограмме названы не были.
«Ряд других уважительных причин» был куда более весомым, чем отсутствие помещений и недостаток продовольствия. Одесская губернская ЧК раскрыла широкий антисоветский заговор, и такое дополнительное скопление репатриантов – людей политически непроверенных – вызывало у чекистов небеспричинное беспокойство. Штаб заговора находился в Елисаветграде, руководил заговором бывший царский полковник Евстафьв. Но ядро заговора, его костяк, находился в Одессе. Благодаря многолюдности и территориальной разбросанности города заговорщики едва ли не открыто создавали подпольные группы. Часто в город наведывались банды атаманов Коваленка, Лыхо, Кошевого.
Чекистов не хватало. Они едва справлялись с арестами бандитов, грабителей и воров. Недоставало только подбросить в это время сюда еще едва ли не три тысячи бывших белогвардейцев! Как поведут они себя в этой сложной городской обстановке? Не переметнутся ли на сторону заговорщиков?
После недолгих размышлений «Кизил-Ермака» перенаправили в Новороссийск, и туда сразу же выехал Кольцов. Наученный первым горьким опытом, он решил по возможности сам присутствовать при всех допросах.
Казаков и солдат сразу же отпустили по домам. Для тщательной проверки и бесед задержали около сотни офицеров, чиновников и двух священников. Всех их допрашивали очень дотошно, порою устраивали перекрестные допросы, придирчиво изучали имевшиеся при них документы.
Перед Кольцовым прошли измученные войной и чужбиной, усталые, во всем изуверившиеся люди. Богатых среди них не было. Почти у всех были оставлены где-то семьи. Они надеялись, что наконец-то скоро весь этот кошмар для них кончится и после стольких лет тяжелой разлуки они вновь вернутся в лоно семьи. Ни о каком продолжении дальнейшей борьбы они не мыслили: надеялись в какой-нибудь глуши тихо прожить остатки своих дней. И все.
Воспользовавшись открывшейся перед Кольцовым возможностью с глазу на глаз пообщаться с репатриантами, он высмотрел среди них пожилого полковника, отвечавшего во время допросов на все задаваемые вопросы без обычной в таких случаях скованности. Отыскал в здании крохотную, никем не занятую комнатку, попросил проводить к нему полковника и принести на двоих чаю.
– Хочу сразу же вам сказать: это не допрос. Просто беседа, которая нигде и никем не фиксируется. Более того, вы имеете право не отвечать, не соглашаться с точкой зрения оппонента и даже спорить, если возникнет такая необходимость, – сказал Кольцов.
– Спрашивайте. Если сумею – отвечу. Я уже сказал вашим товарищам, что скрывать мне нечего Моя вина лишь в том, что я по воле судьбы оказался в противоборствующем лагере. Впрочем, по своему социальному положению я на вашей стороне оказаться не мог, – и затем он снова спокойно добавил: – Спрашивайте.
– Вопрос не очень конкретный. Что вы, человек мыслящий, обогащенный жизненным опытом, думаете о будущем России. Можно несколько сузить вопрос: что вы думаете о перспективах Белого движения?
– Вопрос не только не конкретный, но, я бы сказал, и странный. Война окончена, итоги подведены. Или вы сомневаетесь в итогах?
– Слишком мало времени прошло, чтобы быть окончательно в чем-то уверенным.
– А разве столько пролитой крови ничего вам не говорит? – спросил полковник.
– Только то, что война была жестокая. Какую-то часть людей, живущих на территории России, сегодняшние итоги устраивают, какую-то – нет. Я еще раз повторяю: это не допрос. Я просто пытаюсь разобраться, что случилось со всеми нами. И, соответственно, чего ждать в будущем.
– Я субъективен. Слишком долго я верил в торжество белых идей. Была страна, которой я в меру своих сил верно и честно служил. Когда все началось, я пошел защищать закон. Да-да, закон! Я и сегодня продолжаю верить: без закона нет государства. Если вы сумеете собрать осколки разрушенной России, объединить все их законом… Непонятно?
– Нет, почему же!
– Понимаете, закон – слово всеобъемлющее. Оно включает в себя сотни составляющих, таких, как свобода, равенство, честность, справедливость, милосердие, доброта и многое-многое другое. Они, эти слова, как почва для растения, – они питают закон. Сумеете вы создать закон, который объединит Россию, ее территорию, ее население, значит, все ваши усилия были потрачены не зря. Но ответ на этот вопрос вы получите не завтра и не через месяц. Через годы. Вот тогда, быть может, вы и сами поймете, что случилось со всеми нами. Я ответил на ваш вопрос?
– Ответ философский, – сказал Кольцов.
– Какой вопрос, такой и ответ.
– Во всяком случае, у меня есть над чем подумать. Спасибо.
– Могу ответить проще, понятнее. То есть на примере. Но за ответом все равно надо будет обратиться к философии.
– Я вас слушаю.
– Скажем так: я верил Врангелю, верил в его полководческий талант, в его счастливую судьбу, в его божий промысел, провидение. Но вот уже и лето, но все происходит совсем не так, как всем нам хотелось. Союзники отказались от нас. Врангель пытается скрывать это, но почти каждый, имеющий глаза, видит это. Врангель мечется, он что-то изобретает, но, похоже, он уже и сам не верит в успех.
– Но что же можно было сделать? – спросил Кольцов.
– Многое. Но только законами. Нужно было разработать закон или законы, которые привлекли бы на сторону Врангеля миллионы. Как пример: закон о земле. Разработай Врангель такой закон, устраивающий большинство, и мы с вами, боюсь, не встретились бы сегодня здесь. Сейчас, уже на чужбине, у него возникла неплохая мысль. Он предложил создать Русский Совет. Вполне здравая мысль, но запоздалая. Возникни она у него раньше, она могла оказаться спасительной. А сейчас? Сейчас Врангель хочет с его помощью сохранить свое лицо. Вы разве не ознакомились с «Воззванием» Врангеля, в котором он излагает суть и смысл Русского Совета. Это «Воззвание» было со мной. Документы мне вернули, а «Воззвание», извините, оставили себе на память. Попросите своих товарищей, пусть они вам его покажут.
Минут через несколько Кольцову принесли этот распространенный среди белых офицеров документ. В нем говорилось:
«Русские люди! Более двух миллионов русских изгнанников находятся на чужбине…»
– Не слишком ли барон завысил цифру? – спросил Кольцов.
– Подсчитано довольно точно.
Кольцов снова склонился к «Воззванию»:
– «…Я обращаюсь к вам с призывом разделить со мною выпавший на мою долю тяжкий крест…
Создание Русского Совета должно исключить возможность навязать будущей России всякое единоличное решение, не поддержанное русской национальной мыслью. Он может быть жизненным лишь при единении не только внешнем, но и внутреннем…»
– Понимаете, о чем речь? – прервал полковник чтение. – Иными словами, он говорит о том же: о необходимости не единолично, а сообща выработать законы, которые бы объединили нацию.
Кольцов бегло прочел несколько абзацев, где развивалась мысль о началах, на которых может объединиться русский народ, и в конце прочел «крик души» Петра Николаевича:
«…Мы потеряли последнюю пядь Русской земли, и все попытки объединиться на чужбине не увенчались успехом.
Время не терпит! В дружном единении всех сил эти недостатки восполнятся!
Да благословит Господь наше будущее дело!
Генерал Врангель».
Кольцов закончил читать и положил «Воззвание» перед собой на стол.
– Надеюсь, вы получили ответ не только на заданные, но и незаданные вопросы, – сказал полковник. – Врангель получил ответы слишком поздно. Вы, большевики, надеюсь, получили их в самый раз. Создадите законы, прельщающие всех без исключения – это очень трудно, – но выиграете страну, которая будет стоить пролитой крови. Если будете продолжать проливать кровь, потеряете то, к чему стремитесь.
– Что вы имеете в виду? – насторожился Кольцов.
Полковник указал на лежащее перед Кольцовым «Воззвание»:
– Как видите, Врангель не сидит сложа руки. Перед тем как покинуть Константинополь, я еще там, в Турции, видел несколько изготовленных врангелевской пропагандой листовок. Хотелось бы думать, что это бессовестные фальшивки. Их цель – запугать тех, кто решил вернуться обратно в Россию. В одной сообщалось, что почти всех, покинувших Константинополь на «Решид-Паше», вывезли на окраину Севастополя и расстреляли. Священников и нескольких офицеров повесили. Поместили даже фотографии.
– Вы поверили?
– Да. Очень убедительно. С фамилиями.
– Почему же вы приехали?
– Потому, что та жизнь, которой я жил последнее время, хуже смерти. Я просто не хотел, чтобы меня похоронили в чужой земле. Вы не поймете меня. Для того чтобы так думать, надо пережить все то, что пережил я.
– Благодарю вас за откровенный и искренний разговор! – поблагодарил Кольцов полковника. – Вы свободны.
– Простите, меня больше не будут допрашивать?
– Нет, конечно. Вам куда ехать? Где ваша семья?
– В прошлом году они все еще были в Костроме. С тех пор я ничего о них не знаю.
– Комендант вокзала выдаст вам литер до Москвы. Там, на Ярославском вокзале, получите проездной литер до Костромы.
– Да, Господи! Из Москвы я уже и пешком дойду.
Полковник поднялся и, помедлив немного, спросил:
– Позвольте тоже задать вам вопрос.
– Да, пожалуйста.
– Что, в вашем ведомстве все такие?
– Какие?
– Не знаю. Вежливые, что ли. Предупредительные, – подумав, он добавил: – Не то. Может, интеллигентные, доброжелательные. Это, возможно, точнее.
– Трудный вопрос, – ответил Кольцов. – Я, как и все остальные, разный.
– Разные тоже бывают разными. Извините за корявость мысли. Но если у вас, большевиков, хотя бы десять процентов таких, хочу верить: Россия выживет.
– Спасибо за комплимент, – улыбнулся Кольцов.
– Ну, что вы! Я солдафон. Комплименты говорю только женщинам, и то нечасто. Просто я давно не испытывал такого удовольствия от беседы… э-э…
– С чекистом, – подсказал Кольцов.
– Я не то хотел сказать. С чекистами мне встречаться не доводилось, – полковник вытянулся и, кажется, даже слегка прищелкнул каблуками: – Позвольте представиться! Полковник Бурлаков – участник русско-японской, Великой и этой… право, не знаю, под каким названием она войдет в историю. Я бы назвал ее братоубийственной.
– Кольцов.
Представляться своим полным чекистским званием «полномочный представитель ВЧК, комиссар…» ему не захотелось. Да и не было в этом никакой необходимости. К тому же он все еще никак не мог привыкнуть к своей высокой должности.
Изо дня на день Кольцов ждал новых транспортов с реэмигрантами. Но шли дни, потом недели. Пограничники и сотрудники оперативного отдела Региструпа сообщали в ВЧК о небольших – десять-пятнадцать человек – группах, которые доставляли к советским берегам на своих фелюгах и яхтах контрабандисты. Это был нищенский улов, который вконец разочаровал Кольцова. Он надеялся на значительно большее.
Но постепенно Кольцов начал осознавать, что после того, как «Решид-Паша» покинул турецкие берега с первой партией репатриантов, Врангель не сидел сложа руки. Он однажды понял, что уступил агитационное поле большевикам, и стал срочно исправляться. По крайней мере об этом красноречиво свидетельствовала листовка, о которой ему рассказал полковник Бурлаков. Он вспомнил также небольшую брошюрку, которую видел в информотделе Региструпа – «Кладбище по имени Крым», изданную врангелевским агитпропом вскоре после бегства белых из России.
Рассказ о жестокостях красных в Крыму не был фальшивкой. В книжечке приводились фамилии повешенных, расстрелянных и казненных самыми варварскими способами. Имена этих солдат и офицеров были известны в белой армии.
Что можно противопоставить такой агитации? Какие слова найти, чтобы людей покинул страх и они бы поверили, что такое больше не повторится? Осудить палачей? Покаяться?
Но ведь это будут всего лишь слова. Словам уже давно перестали верить. «Кладбище по имени Крым» – это факт. Ему верят. А слова – это пух на ветру. Куда ветер повеет, туда он и полетит.
Кольцов посмотрел на лежащую перед ним газету «Красное Черноморье». В ней было опубликовано обращение кубанского казака Дзюндзи к своим товарищам, которые все еще оставались на чужбине. Региструп рекомендовал Кольцову напечатать обращение в виде листовки. Но бодряческий тон обращения не понравился Кольцову. Не мог так написать усталый, измученный чужбиной казак, после долгих мытарств вернувшийся на Родину.
«Браты! Казаки! Темные массы людей, не проникнутые сознанием, что такое советская власть и какова ее программа, пошли за офицерами и генералами-поработителями…».
Кольцов брезгливо поморщился. «Какая бойкая, бодряческая гадость, это обращение. Надо бы найти время и зайти в редакцию газеты, посмотреть на этого борзописца. Пусть хоть извинится перед казаком, имя которого он измарал своей бессмысленной трескучей болтовней».
Он подумал, что, судя по всему, и его листовке не очень поверили там, в Галлиполи. Какой непростой оказалась эта работа! И с какой легкомысленной готовностью взялся он за нее. Ему казалось все таким простым: напишет текст листовки, ее отпечатают и доставят туда, на другую сторону Черного моря. И пойдут в Советскую Россию караваны судов с реэмигрантами.
Кольцов отбросил газету и с огорчением подумал, что этими двумя пароходами вернулись только те, кому не нужны были никакие слова. Они, возможно, и не читали его листовку. У них, вероятнее всего, уже не было иного выхода: или возвращаться в Россию, или смерть. Но таких мало. Его задача – вернуть тех, кто колеблется, или тех, кто еще не утратил надежды на новый освободительный поход Врангеля в Россию. Какие слова найти для них? Чем убедить?
Что-то он делал не так! Суетился, хлопотал, недосыпал ночей, но, как оказалось, отдача была почти нулевая. Надо в корне перестраивать работу. В первую очередь до мелочей разобраться в том, что происходит на той стороне, во врангелевском лагере? Возможно, так он найдет ту единственную ниточку, потянув за которую распутает целый клубок.
С чего начинать?
Не откладывая задуманное в долгий ящик, он отправился в информационный отдел Регистрационного управления (Региструп) или, как его еще с издевкой называли, «Мертвый труп». Начальник Региструпа Ян Давидович Ленцман распорядился ознакомить Кольцова со всеми интересующими его материалами, касающимися внутренних политических процессов в российском зарубежье.
В шестнадцатом спецотделе Кольцов провел не один день, разбираясь в залежах интересных, но не идущих ему в дело материалах.
После того как зарубежная эмиграция поняла, что новый поход Врангеля на Москву откладывается и вряд ли когда состоится, ею постепенно овладевала надежда на многочисленные повстанческие движения, которые стали возникать в Советской России. Антибольшевистские эмигрантские организации стали активно подталкивать французское правительство на помощь различным антибольшевистским объединениям. С такими просьбами к французам обратились Керенский, Савинков, Шульгин и генерал Глазенап.
Керенский возглавил антибольшевистскую организацию, в которую входили бывшие русские политические партии от кадетов до эсеров. Они надеялись вызвать народные мятежи и восстания внутри Красной армии.
Савинков возглавил антибольшевистскую организацию, созданную русским политическим комитетом в Польше. Он действовал совместно с украинским правительством Петлюры. Савинков и Петлюра рассчитывали на военную интервенцию в Украину, Белоруссию и в северные и северо-западные районы России.
Намерения Савинкова и Петлюры импонировали Шульгину, за спиной которого стояла довольно большая часть влиятельной русской интеллигенции.
Генерал Глазенап поддерживал планы германофильских кругов в Берлине. Он намеревался создать из бывших врангелевских частей полицейские армии, в удобное время вторгнуться в Галицию и идти дальше, на Киев и Москву.
Все это было интересно, но для Кольцова представляло куда меньший интерес, чем армия Врангеля в Турции. Но ничего конкретного по армии Врангеля он пока не обнаружил.
Девушка, сидящая на первоначальной разборке писем, подошла к Кольцову, сказала:
– Взгляните! Быть может, вас это заинтересует?
Письмо было совсем недавнее: комиссар Франции в Константинополе М. Пеллё обращался к генералу Врангелю. Каким образом оно оказалось в Региструпе, никто не знал. Девушка предположила, что, скорее всего, оно было найдено среди бумаг, изъятых у репатриантов. Но самое главное: у кого в кармане оно хранилось, выяснить, к сожалению, так и не удалось. Впрочем, само письмо тоже представляло для Кольцова определенный интерес.
М. Пеллё писал генералу Врангелю: «Господин генерал! Мое правительство, проинформированное мною об отправке двух судов с репатриированными русскими беженцами, предписало мне предпринять все необходимые меры по формированию новых конвоев не только в Россию, но и в другие, заинтересованные в рабочей силе страны. Например, в Бразилию и Аргентину.
При этом вы должны исходить из того факта, что Франция в ближайшие дни может прекратить всякие бесплатные поставки продовольствия русским беженцам. Под беженцами мы подразумеваем всех русских людей, как то: солдат, офицеров, чиновников, представлявших когда-то русскую армию, а также других лиц.
С уважением М. Пеллё».
Читая это письмо, Кольцов вспомнил прочитанное совсем недавно, похожее по смыслу. Его писал военному министру Франции директор департамента политических и торговых дел Перетти де ла Рокко. Он обращал внимание министра на неудовлетворительное санитарное состояние русских и настаивал на том, чтобы без особых задержек все русские, находящиеся в Турции, как можно быстрее были отправлены домой.
Вывод, который сделал из всего прочитанного Кольцов, был следующий. Противостояние между Францией и Русской армией зашло слишком далеко. Французы поняли, что, поддерживая Врангеля, они участвуют в подготовке новой войны, которая никому не была нужна. Поддерживать же антибольшевистское подполье в России Франция не отказывалась. Дело это было малозатратное, не слишком афишировалось и не наносило Франции почти никакого морального ущерба.
Глава третья
Дзержинский постоянно встречался с Кольцовым, интересовался новостями о количестве вернувшихся из Турции в Советскую Россию бывших белогвардейцев. Попросил каждодневно с утра давать ему сводку: Ленин каждый раз при встречах с ним допытывается об успехах репатриации. Помимо всего прочего, он интересовался категориями вернувшихся: сколько офицеров, унтер-офицеров, рядовых мобилизованных, казаков, добровольцев.
Но за последние две недели прибыли лишь две крошечные группки – семь и десять человек. Они буквально сбежали из Константинополя при помощи контрабандистов. На допросах сбежавшие рассказали, что врангелевские службы развернули широкую пропаганду по запугиванию и гонению желающих вернуться в Россию.
И все. Больше никаких сведений о новых возвращениях бывших белогвардейцев Кольцов не получал.
– Полагаю, мы поступили слишком самонадеянно, рассчитывая только на амнистию, – выслушав Кольцова, сказал Дзержинский. – Должно быть, контрагитация Врангеля оказалась сильнее нашей агитации. Мы-то полагали только на печатное слово. Но этого оказалось мало. Наладить бы разговор напрямую, это, конечно, действеннее.
– Я помню, в Первую мировую агитаторы спускались к противнику прямо в окопы, – вспомнил Кольцов.
– Да-да. Что-то в этом роде, – оживился Дзержинский.
– Иные времена. Переправили в Турцию отклики о теплых встречах в портах, – сказал Кольцов. – Рассчитываем на них.
– Владимир Ильич предложил обратиться к правительствам зарубежных стран, редакциям газет. Он считает, что надо сообщить всей мировой общественности, что Врангель запугивает своих солдат и офицеров жестокими расправами вернувшихся в Россию. Надо развенчивать и эту ложь.
Обращение было опубликовано во французских, английских и даже турецких либеральных газетах.
Но все оставалось по-прежнему: поток желающих вернуться на Родину быстро иссякал.
Врангель сумел даже это обращение обернуть себе на пользу. В тех же самых газетах, где было опубликовано обращение, едва ли не сразу выступили известные зарубежные писатели русского происхождения, такие, как Бунин, Гиппиус, Мережковский, Шмелев, Гуль, Шульгин. Они напомнили читателям о беспрецедентных чекистских расправах над белогвардейцами не только в Крыму, но и по всей охваченной недавней войной России и предупреждали, что все может повториться.
Это была битва агитпропов, и пока в ней одерживали верх те, кто поддерживал Врангеля.
На один из расширенных пленумов Политбюро ЦК РКП(б) Дзержинский взял с собой Кольцова.
Вел пленум Ленин. После решения множества неотложных дел вновь вернулись к поднятому на прежних заседаниях вопросу о возвращении домой, в Россию, покинувших в эти трудные годы русских и прежде всего находящихся в Турции бывших белогвардейцев.
Слово взял Троцкий
– Не понимаю, – сказал он, – почему мы уделяем столько времени невозвращенцам? Ну не хотят ехать – и не надо! Мне говорят: это военная сила, это новая война. Как наркомвоенмор хочу ответственно заявить: войны не будет. Мы уже настолько окрепли, что сумеем дать отпор любому, кто надумает идти к нам с войной.
– Но отпор – это тоже война, – заметил Ленин.
– Нет. О том, что мы уже сильны, уже не нужно никого убеждать. Европа устала от войн. И Врангель вряд ли решится выступить против нас. Вспомните, он собирался сделать это ранней весной. И что же?
– Но они пытаются объединиться. Значительные антибольшевистские силы помимо Турции находятся в Польше, Венгрии, Прибалтике, Финляндии. Они вполне организованны, и нам не стоит сбрасывать их со счетов, – возразил Ленин.
– Уверяю вас, еще месяц-два, может быть, полгода – и они рассеются по всему миру, от Европы до Латинской Америки, и сгинут.
– Ну хорошо! Посмотрим с другой стороны, – горячо заговорил Ленин. – Всех русских, находящихся в вынужденной эмиграции, что-то около двух миллионов. Может, несколько больше. Не кажется ли вам, что мы поступим слишком расточительно, если откажемся от этих людей. Я понимаю, вернутся не все. Кто-то уже где-то обжился, кто-то стоит на перекрестке, не зная, в какую сторону направить свои стопы. Как можем мы, имея такие огромные пространства, сказать: вы нам не нужны. Нет, дорогой Лев Давыдович, нам нужна каждая пара рабочих рук. Пусть возвращаются, пусть берутся за работу. Страна в разрухе. Они нам нужны. В войне погибло столько людей, что мы и за ближайшие двадцать-тридцать лет не восстановим людские потери.
– Вы, Владимир Ильич, все говорите правильно, – издалека зашел Троцкий. – Я не очень боюсь, что в массе вернувшихся белогвардейцев будут и те, кто станет откровенно нам вредить. Главное не в этом. Вот вы говорите: нам дорога каждая пара рабочих рук. Кто спорит! Но дело-то в том, что все те, кто собрался там, в Константинополе, – это армия. Подавляющее большинство из них последние семь лет занимались только тем, что воевали. Они уже не умеют ничего иного делать. Но в Красную армию, которая конечно же нуждается в пополнении, мы их взять не можем. В разнорабочие – а в них в любой разрушенной стране наибольшая нужда – они не пойдут. И не потому, что не захотят. Нет, они просто не смогут! Нетрудно догадаться, что недовольство нынешней жизнью приведет многих из них в ряды внутренних врагов советской власти.
– Соглашусь с вами, если вы имеете в виду офицеров. Но армия в основном состоит из солдат, казаков, в недавнем прошлом это бывшие рабочие, крестьяне-хлеборобы, – обычно энергичный, торопливый в речи Ленин сейчас говорил задумчиво, размышлял. – Генералов, офицеров, различных военных чиновников в армии, как я понимаю, процент небольшой. Не больше десяти процентов. Хорошо, поговорим о них! В большинстве своем они тоже уже настолько устали от войны, что вряд ли снова захотят взять в руки оружие. А тех немногих, кто попытается нам вредить, вычислим и обезвредим. А кого не вычислим, он и сам, убедившись в бессмысленности борьбы с нами, откажется от нее и в конечном счете найдет себя в мирной жизни. А что касается солдат, казаков, у каждого из них есть своя довоенная профессия на фабрике ли, на поле.
– А молодежь? Едва встав на ноги, она пошла воевать. Ничего другого не умеет. К кому она примкнет? – спросил Троцкий.
– Рабоче-крестьянская молодежь придет на поле или на завод. Их приведет генетическая память, заложенная еще дедами-прадедами. И конечно же семейный уклад. То есть я хочу сказать: не нужно никого бояться. Мы крепнем и сумеем найти общий язык почти со всеми, кто вернется.
Кольцов с восхищением слушал дуэль этих двух людей. Каждый из них был по-своему прав и убедителен. И все же доводы Ленина казались Кольцову более простыми и более понятными.
На стене за спиной членов президиума висела большая карта России. Павел взглянул на нее и словно впервые так явственно ощутил эти бескрайние и в большей своей части малолюдные пространства. Огромная крестьянская страна! А осваивать ее некому!
Как по-разному думали эти два человека. Ленин мыслил масштабно, не упуская при этом человека, его нужды. И говорил об этом доходчиво и убедительно.
Ленина поддержало большинство участников пленума. Почти все согласились, что нужно сделать все возможное и невозможное, чтобы разбросанные по белу свету русские люди перебороли страх и вернулись домой, к мирной жизни. А вот как этого добиться? Эти вопросы в той или иной мере относились ко всем и к каждому в отдельности. Но больше всего они относились к нему, Кольцову, потому что он был больше всех посвящен в тонкости этой сложной пропагандистской дуэли, которая развернулась в эти дни между Врангелем и Советской Россией. И так уж случилось, что он оказался среди тех немногих, кто мог и был обязан хоть в какой-то мере повлиять на исход дальнейших событий.
С пленума Кольцов вернулся на Лубянку вместе с Дзержинским.
– Какие впечатления? – спросил Дзержинский.
– Бой гладиаторов, – улыбнулся Кольцов. – Я не думал, что Владимир Ильич такой задиристый полемист.
– Этот бой он выиграл вчистую, – Дзержинский коротко взглянул на Кольцова. – А мы с вами его вчистую проигрываем.
Герсон принес им чай с неизменными баранками.
– Я вот все думаю: армия Врангеля держится там, на чужбине, не за счет патриотизма и не за счет мечты о реванше. Кровавые крымские события, о которых им время от времени напоминает белогвардейский агитпроп, держат их там. Страх! Там, на чужбине, у них пусть плохая, но жизнь, возвращение на Родину грозит кровавой расправой. По крайней мере им внушают это.
– Но возвращаются же, – сказал Дзержинский.
– Возвращаются те, кто вконец отчаялся, кто уже пережил свой страх. Есть такое состояние у человека. Я его испытал в Севастопольской крепости, когда был приговорен к расстрелу. Так и те, кто, вопреки всему, возвращается: чем такая жизнь, лучше уж смерть. Мне недавно один полковник сказал, что он вернулся сюда умирать. Хочет быть похороненным в родной земле.
Они еще долго разговаривали за чаем о разном. Но время от времени возвращались все к тому единственному вопросу, который уже который день мучил Кольцова: что бы такое придумать, изобрести, какие слова найти, чтобы белогвардейцы поверили им, чтобы они избавились бы от страха и дружными рядами вернулись домой?
Прощаясь, уже в прихожей, Павел краем глаза заметил лежащую на тумбочке тоненькую книжонку, точнее, брошюрку. Поначалу он даже подумал, что это творение белогвардейского агитпропа. На это указывала и фамилия автора: Слащев-Крымский. Правда, не совсем обычным было для белогвардейского агитпропа название книжечки: «Требую суда общества и гласности» с не менее значительным подзаголовком – «Оборона и сдача Крыма».
– Простите, Феликс Эдмундович! Что это? – он указал взглядом на книжицу: – Изучаете бывшего противника?
– Прислали из ИНО для ознакомления.
– Прочли?
– Просмотрел. Ничего интересного. Слащев разругался с Врангелем, обвиняет его в бездарности и доказывает, что каховско-крымские события могли пойти совсем по-другому, если бы Врангель не окружил себя подхалимами. Обычная история после поражения: все ищут виновников… Возьмите, если вам не жалко времени!
Кольцову не было жалко времени на Слащева. В шутку он считал себя его «крестным отцом». Если бы тогда, под Каховкой, в Корсунском монастыре, он не пожалел его, какие-то события на завершающей стадии войны могли и в самом деле пойти иначе. При всем том, что свой поступок он и сам оценил потом как сумасшедший.
Слащев был не просто враг, он был «кровавый генерал», «генерал-вешатель». Не было в Симферополе ни одного телеграфного столба, на котором бы его подчиненные по его приказу не повесили подпольщика, партизана или красного командира.
Почему Кольцов поступил тогда так, он не мог объяснить и сам. Возможно, несколько позже он отдал бы его в руки Розалии Землячки, и на этом кровавая биография Слащева была бы закончена. Но тогда? Тогда Кольцов был влюблен, но война разлучила его с любимой. Все чувства еще были свежи, он жил ими. И вдруг, среди этой кровавой грязи, среди боев и смертей, он столкнулся с такой же безумной, всепоглощающей любовью, ради которой человек добровольно шел на смерть. Кольцов понял его, и по достоинству оценил его поступок. В те минуты Слащев не был для него генералом, противником, а всего лишь таким же, как и он, несчастным влюбленным, готовым ради любви пойти на все, даже на смерть.
Он, Кольцов, спасал тогда не генерала Слащева, он спасал любовь.
Сунув книжонку в карман своей кожанки, Кольцов ушел домой.
Москва уже спала. Лишь кое-где еще теплились в темноте окна. Улицы все еще не освещались, и, если бы не звездное небо, темень была бы кромешная и идти пришлось бы едва ли не на ощупь.
Но в такой ничем не отвлекающей темноте хорошо думается. Вышагивая по булыжнику мостовой, он вспоминал свою неожиданную встречу с Таней, несколько упоительных вечеров во Флёри-ан-Бьер и затем печальное расставание в Париже… И тоже вечер.
«Почему-то все печальное происходит вечером, – сказала как-то Таня. – Каждый вечер – это маленькое умирание дня. Он, как конец жизни. Сегодняшней. Завтра будет новый день и новая, завтрашняя жизнь». Он помнил не только эти ее слова, но и печальное выражение лица, с каким она их произносила.
Вот и со Слащевым он встретился вечером. Он хорошо его запомнил, этот туманный вечер где-то там, под Каховкой. Корсунский монастырь, храмовые свечи. И их нелегкий разговор. Слащев был крайне взволнован и напряжен, но внешне выглядел почти совершенно спокойно, если бы только его волнение не выдавала легкая дрожь в руках. Он добровольно пришел во вражеский лагерь, чтобы обменять свою жизнь на только еще зарождавшуюся.
Запомнился их уход. Мягкий шелест опавших листьев. Две нелепые фигуры: одна – в грубом парусиновом плаще с укутанной башлыком головой и другая – в лоснящейся кожаной куртке и в широких генеральских штанах. Поначалу они идут порознь, отчужденно, на небольшом расстоянии друг от друга. Потом они взялись за руки и стали убыстрять шаги. И, наконец, побежали. И исчезли в наползающем с Днепра тумане. Тренькнули виноградные лягушки. Потом простучали, удаляясь, конские копыта. И все: напоенная туманной влагой холодная тишина.
«Интересно, вспомнил бы его Слащев? Оценил бы тот недавний безрассудный поступок? – подумал Кольцов. – Встретиться бы! Интересная была бы встреча!».
И новая внезапная мысль словно обожгла Кольцова: вот оно, то искомое, которого мы никак не могли нащупать! Что если Слащева или одного из известных всему белому лагерю генералов уговорить вернуться в Советскую Россию? Само по себе это еще ничего не дает. Но если по-человечески встретить, создать нормальные условия для жизни, трудоустроить – и ничего больше. Остальное сделает время. Торопливые слухи довольно быстро разнесут эту новость по всем округам и весям. Достигнут они и Турции. Да если еще к этому прибавить от этого персонажа какое-то обращение… или письмо…
Нет-нет! Не нужно никаких писем, никаких обращений. Все сделают слухи. Они в этом случае убедительнее любых печатных слов.
Кольцов не заметил, когда он остановился. Он стоял посредине пустынной темной улицы и торопливо переваривал только что пришедшую в голову мысль. Поначалу она выглядела как некий бред, фантазия. Кто из крупных военачальников согласится поехать сейчас в Россию? На первый взгляд никто. Ни Врангель, ни Кутепов, ни Витковский. Никто из них не поверит, что его возвращение домой обойдется без допросов, пыток, суда. А уж тем более Слащев. «Кровавый генерал». Его расстреляют или повесят Землячка или Бела Кун, едва только он ступит на советскую землю.
Ну а если ради дела помиловать одного? Может ли пойти государство на великодушный поступок, чтобы сотни тысяч изгнанников сумели побороть свой страх и решились вернуться домой?
Вопросы, вопросы. Коварные, головоломные, неразрешимые. Для него, Кольцова, они неразрешимые. Но ведь есть еще Дзержинский. Он человек рациональный. Он поймет его. Надо только внятно изложить ему эту идею. Сегодня же. Сейчас. Вдруг поддержит?
Кольцов хотел было тут же вернуться на Лубянку, но понял, что Дзержинский, вероятнее всего, уже уехал домой. И мысль эта, так греющая его сейчас, пусть отстоится. Возможно, к утру он и сам увидит все ее изъяны?
Дома его встретил Бушкин. Он ждал.
– Где вы все ходите. Уже два раза кипятил чай, – буркнул он.
– Не нужно чая. Спать! – коротко сказал Кольцов и, быстро раздевшись, укутался в одеяло. Попытался уснуть. Но эта пришедшая к нему мысль снова и снова возвращалась к нему, не давала уснуть.
Кого бы послать в Турцию? Красильников там, но он не годится для этой сверхделикатной миссии. Надо не только наедине встретиться с нужным им человеком, но еще и умело провести переговоры. Риск огромный, почти смертельный.
Может, поручить это Сазонову? После Фролова и Серегина он управлял филиалом «Банкирского дома Жданова». Сазонова Кольцов немного знал по Харькову. Потом его по рекомендации Фролова внедрили в филиал «Банкирского дома Жданова» в Константинополе. Сазонов принял банк почти обанкротившимся, и он даже сумел его слегка реанимировать. Но с крушением армии Врангеля он снова пришел в упадок, и, кажется, уже навсегда. Сазонов дважды просился, чтобы ему разрешили вернуться домой, в Россию. Но его продолжали держать в Турции, в надежде, что Константинополь вскоре перейдет в руки Мустафы Кемаля, с которым советская власть поддерживала тесные дружеские связи, и тогда «Банкирский дом Жданова» получил бы новую жизнь. А пока Сазонов был там, в Константинополе, кем-то вроде сторожа. Советских денег еще никто в глаза не видел, да их еще и не было, не говоря уже о том, что они никого не интересовали. Спрос был на английские фунты, американские доллары и французские франки. Турецкие лиры были для иностранцев чем-то вроде фантиков.
Но, насколько Кольцов знал, Сазонова не позволят вовлечь в эту рискованную игру. И не потому, что считали его ценным работником. Дорожили самим банком. В скором времени он может понадобиться Советской России. И, кажется, Жданов даже собирался сменить Сазонова на более сильного финансиста. Возможно, уже даже сменил. Надо будет узнать.
Бушкина? Он способен наломать много дров, но вряд ли справится с таким сложным заданием. Здесь нужен был человек, который смог бы на равных поговорить с тем же Врангелем, Кутеповым или Слащевым.
Кого же? Вероятно, такие люди есть в ИНО ВЧК. Их хорошо знает Феликс Эдмундович. Может, он кого-то назовет, если, конечно, его согреет эта авантюрная кольцовская идея.
Через два дня Дзержинский сказал Кольцову, что саму идею в СНК одобрили. Лишь Троцкий в нее не поверил и назвал ее «пустыми хлопотами».
– А вы? Как вы к этой затее отнеслись?
– Я же сказал: СНК одобрил. Я, как вы, вероятно, знаете, являюсь членом СНК. Разногласия произошли из-за вашей кандидатуры.
– И что же?
– С болью в сердце я отстоял вашу кандидатуру. Хотя и понимаю, что для вас это огромный риск. Для всех остальных – смертельный. Просто я почему-то верю в вашу счастливую звезду.
– Я так понимаю: одобрение получено?
Глава четвертая
Много раз в жизни Кольцову приходилось куда-то уезжать и, соответственно, каждый раз собираться в дорогу. Но в этот раз сборы были весьма необычные. Они полностью подчинялись легенде, с которой он отравлялся в Турцию.
Сама биография почти не расходилась с его подлинной. Его двойник, как и он, вырос в Севастополе на Корабелке. В армии с начала Первой мировой. Контужен. По этой причине уволен из армии, но бежал из Совдепии и находится в Турции на положении беженца.
Еще два дня ушло на изучение путеводителей по Константинополю и подробных карт, и уже вскоре он знал, где какая улица, какие на ней достопримечательности, как и на чем туда добраться. Изучил в подробностях полуостров Галлиполи и его окрестности. С него, а точнее с Новой Некрасовки, он собирался начать. Надеялся каким-то образом сблизиться с Кутеповым или, на крайность, с Витковским. Оба годились для дела, за которое он собирался взяться.
Потом Кольцову давали советы
Дзержинский сказал, что при необходимости, если случится Кольцову быть в Константинополе, он может прибегнуть к помощи или совету управляющего «Банкирским домом Жданова». Правда, по последним сведениям, Сазонова по каким-то причинам отозвали из Константинополя, и он кружными путями возвращается в Москву. Константинопольский филиал «Банкирского дома Жданова» пока остался без хозяина, но уже в ближайшие дни из Парижа туда выедет рекомендуемый Ждановым сотрудник. Дзержинский посоветовал Кольцову в случае крайней необходимости обращаться к нему.
– К кому? Кто он? Как его звать? – удивленно, но весело спросил Кольцов. Да и дела константинопольского филиала, насколько было известно Кольцову, уже давно лишь искусственно поддерживались на плаву в надежде, что, когда к власти в Турции придет Мустафа Кемаль, этот банк еще очень даже может послужить новой Советской России.
Впрочем, дела константинопольского филиала банка Жданова мало заботили Кольцова, поскольку его дела никак не пересекались с делами банка. Поэтому и знакомство с новым банкиром может не состояться кроме разве что какой-то чрезвычайной ситуации, о которой Кольцову даже думать не хотелось.
Через полтора дня Кольцов был уже в Одессе. Его встречали недавний знакомый Артем Перухин, которой в свое время сопровождал в Харьков дьякона Ивана Игнатьевича, и степенный седовласый смуглолицый пограничник в добротной, чуть не до пят, похожей на шинель кожанке.
– Деремешко! – представился он. – Начальник округа.
Они прошли через здание вокзала на площадь, уселись в автомобиль.
– Поедем, товарищ, в гостиницу. Помоетесь с дороги, отдохнете, на город посмотрите. А завтра подумаем, что и как, – мягким, убаюкивающим голосом изложил Деремешко ближайшую программу пребывания Кольцова в Одессе.
– Извините, как вас?
– Иван Аврамович.
– Вы что же, Иван Аврамович, решили, что меня сюда на экскурсию направили? Одесские достопримечательности посмотреть или на поправку здоровья?
– Зачем вас сюда направили, я знаю. Но не будем торопиться.
– Будем.
– Это я понимаю, – все так же лениво сказал Деремешко. – Но суть дела в другом.
– В чем? – подгонял Кольцов неторопливую речь хозяина погранокруга.
Они ехали по беленькой аккуратной улице города, на которой не было просто прохожих. Были только продавцы и покупатели.
– Это, между прочим, Дерибасовская! Слыхали про такую? Московскую Тверскую меньше знают. Хто на Дерибасовской не бывал, тот света не видал. Это одесситы. У их вопрос обязательно с каким-то вывертом. Веселый народ.
– Так в чем все-таки суть? – напомнил Кольцов начатый разговор.
– А, ну да! Отправить вас по назначению пока не могу. Нету тех хлопцев, шо должни вас переправить. Позавчера ждал. А их, видишь ли, и сегодня еще нет
– Ну, а если они и вовсе не прибудут? Может, с ними что-то приключилось?
– Все может быть, – согласился Деремешко. – У их работа рисковая. Не придут еще завтра-послезавтра, тогда и будем как-то это дело решать.
– У меня нет времени ждать.
– Понимаю. А у меня нет никаких других возможностей тебя переправить.
– Так, может, мне вернуться? У меня и там, в Москве, дел по горло.
– Не надо суетиться. Давай поторгуемся. Еще сутки ждем, а потом будем думать. Мне тоже неинтересно вас канителить.
– Ну, сутки, это еще куда ни шло! Сутки можно.
Гостиница называлась «Лондонской». Из окна номера было видно море и несколько стоящих на рейде и на причалах грузовых кораблей.
Артема Деремешко отпустил, а сам, усаживаясь к столу, сказал:
– Вы тоже присядьте, товарищ Кольцов. Обсудим еще одно важное дело.
– Важное? – улыбнулся Кольцов.
– Сами рассудите, важное чи нет. У меня тут дожидается отправки в Константинополь гражданочка с сыном. А мне от Фрунзе звонили, просили уладить это дело. А дело, значится, такое. У гражданочки муж по фамилии Бородин. Белогвардеец, подполковник. Был в лагере в Галлиполи, но заболел. Видать, что-то серьезное. Врангель об ем побеспокоился, переправил его в госпиталь в Константинополь.
– Это, конечно, интересно. Но при чем тут я? И какое отношение ко мне имеет эта гражданочка с сыном? – довольно сухо остановил это длинное повествование Кольцов.
– Вот! – поднял палец Деремешко. – Михаил Васильевич Фрунзе просил переправить ее с сыном в Константинополь. Ну, до мужа.
– Ничего не понимаю. Вам поручили – вы и занимайтесь.
– Какой вы нетерплячий. Слухайте дальше. Фрунзе позвонил по этому вопросу товарищу Дзержинскому. Он не возражает. Говорит: «На усмотрение Кольцова». На ваше то есть усмотрение.
– Но при чем тут я? Что, нельзя легально? Пароходы-то ходят?
– Легально нежелательно.
– Не понимаю.
– Вот если б я вас, к примеру, легально отправил? Что б произошло? А ничего хорошего. Потому как если за вас советская власть беспокойство проявляет, значит вы, хотите не хотите, представляете определенный интерес для кого-то там, – объяснил Деремешко и многозначительно указал пальцем наверх и вдаль. – Видать, и с гражданочкой что-то похожее.
– Вы хотите сказать…
– Именно то, что вы подумали. Каким способом этот самый Бородин помогав Красной армии, про то нам знать не положено. Такое вот дело, – закончил Деремешко, после чего спросил: – Важное или нет, хочу узнать от вас?
– Будем считать, что важное, – согласился Кольцов. – Но как нам дальше быть? Мне надо бы сначала попасть в Галлиполи, точнее в Новую Некрасовку, а гражданочке – в Константинополь.
– Об этом у вас пущай голова не болит. Вопрос продуманный. Мои болгары вас в Калиакри высадят, а сами потом в Константинополь сбегают. Там недалеко. Им ночи хватит, чтоб туда и обратно. А потом вас до Новой Некрасовки сопроводят.
– Ну, что ж! Значит договорились! – сказал Кольцов.
– Договориться-то договорились. Только теперь все не от меня, а от тех болгарских пацанов зависит. Их провожаю, об их сердце болит. Наших – то же самое. Мне не провожать, мне встречать вас живыми и здоровыми радостно. Семь человек за это время отправил, шестеро вернулись. Ни царапинки. А дружочка свово – я его самым первым провожал – так и не встрел. Видать, сложил где-то в Туреччине свою бедовую голову.
– Первым ты Красильникова отправлял, – вспомнил Кольцов.
– Верно. Он с попом ехал. Я еще подумал: нехорошая примета – с попом.
– Да живой он, Красильников! Живой и здоровый.
– А ты откуда его знаешь? – Деремешко от радости перешел на «ты». – Я-то с им партизанил вместе. Он поначалу в Бахчисарайском отряде был, а опосля до товариша Папанина прибился.
– А я с ним пол Гражданской войны бок о бок прошел.
– С Красильниковым?.. Постой! Так ты и есть той самый Кольцов?
– А что, ты знаешь какого-то другого? – спросил Кольцов
– Семен мне рассказывал, будто был у него дружок с такой фамилией. У генерала Ковалевского в адъютантах служил. А на самом деле чекистом был. Только, слыхав я, будто его убили. Даже в какой-то белогвардейской газетке писали.
– Не, живой он!
– Откуда ты знаешь?
– Так это я и есть.
– Ты?
– Я!
– Ну, зараза! – восхищенно выдохнул Деремешко. – Это ж надо! И ты – Кольцов, и Семен мне про Кольцова. Я еще подумал: видать, этих Кольцовых у нас в России, як все равно Ивановых
И они обнялись.
– А теперь скажи мне: откуда ты знаешь, шо Сенька живой? Только не бреши.
– Мы с ним вместе работаем.
– Так он шо, в Москве?
– Не, там, у Ивана Игнатьевича. Помнишь его? В Новой Некрасовке.
– Ну, как же!
– Так Семен у него там.
– Дьяконом, что ли.
– Примерно.
– Поняв. Вроде как этим… шпионом?
– Если нравится, можешь и так называть.
– Честно тебе скажу, я другой раз так подумывал. И Дзержинский как-то им интересовался, и Ленцман беспокоился. А то, еще до его отъезда, я у него как-то спросил: «Кем ты, Сеня, в Чека работаешь? Не шпионом, случаем?» Так он мне такого набрехал, на голову не натянешь.
Когда Деремешко уехал, Кольцов долго ходил по номеру, еще и еще раз продумывал предстоящую поездку. Остановился у окна, смотрел на море. С досадой подумал о какой-то неопределенности. С самого начала не все заладилось. Не пошло бы и дальше все наперекосяк.
Но на рассвете его разбудил Артем:
– Кончайте ночевать. Командир велел вас к нему доставить!
И вскоре они были на Старобазарной площади. Миновали часового и двух мраморных грифонов, поднялись на второй этаж. Дверь была открыта. Повеселевший Деремешко вышел навстречу Кольцову, ввел его в кабинет, где сидели двое крепких загорелых мужчин, точнее даже парень и мужчина. Они были чем-то похожи, и Кольцов даже поначалу решил, что это отец с сыном. Лишь значительно позже он случайно узнал, что они просто хорошие друзья и не менее хорошие соседи.
Они поднялись. Старший с вислыми, почти казацкими усами шагнул навстречу Кольцову, представился:
– Атанас… можно еще, но не надо… Даргов.
Второй крепко пожал Кольцову руку.
– Здравствуй, товарищ! Я – Коста! – после чего поднял кулак в коммунистическом приветствии: – Да здраво революция!
– Ты коммунист? – весело спросил Павел.
– Пока еще нет. Пока контрабандист, – со смехом ответил Коста.
– Здраствуйте! – поздоровался с обоими болгарами Кольцов. – Называйте меня Павел! Можно Паша! Кому как нравится.
– Уже нравится, – сказал Атанас и добавил: – Сегодня вечером. Если можно?
– Нужно, – улыбнулся Кольцов.
– Так будет! – в ответ улыбнулся Атанас.
И контрабандисты покинули кабинет Деремешко.
– Атанас – коммунист, – провожая их взглядом, сказал Деремешко.
– Коммунисты – контрабандисты – рецидивисты! – улыбнулся Кольцов.
– В жизни все бывает, – философски заметил Деремешко. – Даже то, чего не бывает.
– Почему они задержались? – спросил Кольцов.
– У Косты, который помоложе, жена рожала. Трудно, говорит, еле спасли. Двенадцать фунтов. Богатырь.
– Мальчишка – это хорошо, – сказал Кольцов. – Хотя с девочками меньше хлопот.
– У тебя много детей? – поинтересовался Деремешко.
– Пока нет, – но тут же Кольцов поправился: – Впрочем, есть. Двое. Мальчик и девочка.
Деремешко удивленно взглянул на Кольцова:
– Забыл, что ли?
– Да нет. Тут другое, – сказал Кольцов и неохотно добавил: – Не будем об этом!
– Не хочешь – не говори, – Деремешко почувствовал какую-то боль в словах Кольцова и понимающе добавил: – Под каждой печкой свои тараканы.
Помолчали.
– Погуляй по городу, – посоветовал ему Деремешко. – Но еще засветло будь в гостинице. Я за тобой заеду.
Вечером, когда солнце клонилось к закату, Деремешко вывез Кольцова за город, к небольшой, упрятавшейся между известняковых обрывов бухточке. Неподалеку от берега в ней покачивалась на тихой волне двухмачтовая рыбацкая фелюга. Они спустились к берегу. Им навстречу вышел Атанас. Вынув изо рта курительную трубку, он указал ею на фелюгу:
– Нравится? – спросил он.
В закатном свете полуспущенные латаные паруса сухо шелестели.
– Я потом скажу, когда на место прибудем, – сказал Кольцов.
– Надеюсь, доплывем, – пыхнул трубкой Атанас: – Бог поможет.
– Ты в бога веришь?
– Наверное, да, – и, заметив какой-то непорядок, Атанас что-то по-болгарски закричал Косте и побрел к нему по воде – разбираться.
Кольцов обернулся к Деремешко:
– Богомольные коммунисты-контрабандисты! До такого я бы никогда не додумался! – и спросил: – Ну что? Будем прощаться?
– Не торопись. Успеем.
Солнце уже почти ложилось на горизонт, когда наверху, у обрыва, появился Артем. Придерживая за руку женщину, он помогал ей спускаться вниз, к берегу бухточки. Следом за ними шел мальчишка. Они добрались почти до половины, когда мальчишка их окликнул:
– Мама, подождите, пожалуйста!
– Что там у тебя? – отозвалась женщина.
– Я сейчас. Камешек в сандалий попал.
– Догоняй! – сказала женщина. – Видишь, нас уже ждут!
И они продолжили спускаться.
Мальчишка присел, вытряхнул камешек, обогнал Артема и свою маму и спрыгнул на песок неподалеку от Кольцова.
– Здравствуйте! – сказал он Кольцову и указал глазами на Деремешко: – А с Иваном Аврамовичем мы уже познакомились. Меня зовут Леонидом. А то вон – моя мама, Елизавета Михайловна.
– Здравствуй, Леонид. Можно, я буду называть тебя просто Леней?
– Я сам хотел вас об этом попросить. Даже Ленькой, если я в чем-то провинюсь. Меня так папа иногда называет. Ну, это если я что-то…
– А ты не допускай этого «что-то».
– Иногда оно почему-то само собою получается. Но я, конечно, буду стараться.
– Значит, договорились, – Кольцов протянул мальчишке руку. – Меня зовут Павел Андреевич. Можно дядя Павел… или дядя Паша. Как тебе будет удобнее.
– Благодарю вас, – едва не пристукнул ногой мальчишка и тут же добавил: – Я здесь впервые увидел море. У нас в Киеве река, называется Днепр. Она тоже широкая, но, конечно, с морем не сравнить.
Мать Леонида тоже подошла к Кольцову и Деремешко:
– Я так поняла, Леонид меня уже вам представил. А Иван Аврамович сказал, – она указала взглядом на Деремешко, – что вы будете нашим попутчиком и зовут вас Павел Андреевич.
– Совершенно верно, мадам. Буду рад сопутствовать вам с Леонидом в этом, надеюсь, приятном путешествии…
Женщина была невысокого росточка, миловидная, с легкой раскосинкой в глазах. Разговаривая, она приятно картавила.
– Честно скажу, я очень боюсь. На большом пароходе не так страшно.
– Здесь более безопасно, – успокоил ее Кольцов. – Фелюга идет вблизи берегов. Она в любой момент может пристать к берегу.
– Спасибо. Вы меня успокоили. Обещаю, не буду бояться! – с шутливой торжественностью сказала она.
Подошли Атанас и Коста, сказали Деремешке и Артему:
– Как это по-русски: прос-чай-те!
– Так не надо. Лучше: до свидания!
Артем передал Косте увесистый пакет.
– Отнеси на борт.
– Что здесь? – спросил любопытный Леня.
– Все, что доктор прописал, – ответил Артем.
– Мы тоже… имам, – Коста вброд прошел к фелюге, оставил там пакет и вернулся.
Когда все попрощались с Деремешко и Артемом, Коста сказал женцине:
– Пардон, мадам! – и, не дожидаясь согласия, подхватил ее на руки и отнес на фелюгу.
– Я сам! – сказал Леонид и, торопливо сняв сандалии, побрел к фелюге. Там его подхватил Коста и поставил на дно посудины.
Кольцов тоже легко добрел до борта и пружинисто перебросил свое тело через борт.
Деремешко и Артем, стоя на берегу, смотрели, как тронулась с места фелюга, осторожно, не задев камни, выскользнула через горловину бухточки в море.
Когда фелюга заколыхалась на легкой волне, над нею взмыли вверх оба паруса, и шхуна, неторопливо набирая скорость, побежала по волнам.
Глава пятая
Ветер был попутный. Моряки называют его фордевиндом, рыбаки – бризом. Редкая удача в эту пору года. Обычно к ночи ветер дует с моря на нагретый берег, и лишь за полночь меняет направление. Небо было усыпано крупными звездами. Стояла тишина, которую подчеркивали лишь легкий плеск волн о деревянные борта фелюги и мягкие хлопки парусов, пытающихся поймать слабые порывы ветра.
Дно фелюги было устлано брезентом, и пассажиры, укрывшись за высокими бортами, коротали время за разговорами. Леонид был перевозбужден началом необычного путешествия и донимал Кольцова своими вопросами.
– Интересно, Павел Андреевич, с какой скоростью идет наша шхуна? – спрашивал он. Ему нравилось слово «шхуна», он слегка подчеркнуто произносил его.
– У нас не шхуна, Леня.
– А Иван Аврамович называл ее шхуной. А на чем же мы тогда плывем?
– На фелюге.
– А какая между ними разница?
– Я ведь не моряк, Леня.
– Ну, а все же?
– Труба пониже и дым пожиже.
– На нашей шхуне нет трубы. И дыма нет.
– Поэтому она и называется фелюга, – и, улыбнувшись, Кольцов сказал: – Это у матросов есть такая шутка. Вопрос: Какая разница между крейсером и линкором? Ответ: Труба пониже и дым пожиже.
– Ну, хорошо, пусть фелюга. Сколько узлов она проходит за час? Хотя бы приблизительно?
– Ты, вероятно, прочел всего Жюля Верна? – спросил Кольцов. – «Дети капитана Гранта», «Таинственный остров», «Пятнадцатилетний капитан»? Тебе сколько?
– Только четырнадцать. Я и Станюковича всего прочитал, и Стивенсона. У него замечательно про пиратов. Маме не нравится Билли Бонс…
– А почему мне должны нравиться пираты? – спросила Елизавета Михайловна. – Я люблю героев честных, великодушных, благородных, мужественных.
– А Билли Бонс? Ему черную метку, а у него даже глаз не дрогнул. Один – против банды пиратов, – и Леня снова спросил у Кольцова: – А вы не скажете, Павел Андреевич, на Черном море есть пираты?
– Думаю, что нет.
– Жаль! Вот бы с ними встретиться!
– Господи! – вздохнула Елизавета Михайловна. – Неужели нельзя поговорить о чем-нибудь умном?
– Но я же задал умный вопрос: с какой скоростью идет наша фелюга?
– Ну, и зачем тебе это?
– Потом я узнал бы, сколько миль до Константинополя, и точно сказал бы, когда мы будем на месте.
– Но еще неизвестно, пойдет ли наш корабль в Константинополь.
– Он не корабль и даже не шхуна, – поправил Елизавету Михайловну Леня. – Он – фелюга.
– Какая разница. Неизвестно, согласятся ли наши матросы отвезти нас в Константинополь. В Одессе они ничего не обещали, сказали: «Может быть».
– Значит, отвезут.
– Почему ты так уверен?
– Потому что, когда у нас в гимназии директор говорит: «Учитель заболел. Может быть, завтра не будет занятий», это точно, их не будет.
– Неизвестно, – вздохнула Елизавета Михайловна. – Все так зыбко, все так неопределенно.
– Ну, допустим, не отвезут. Болгария граничит с Турцией. Я смотрел по карте, там близко. Болгары нас не тронут. Перейдем границу. Там турецкие пограничники, колючая проволока. Мам, ты можешь проползать под колючей проволокой? Тебя арестуют турки! – и грозным голосом добавил: – Усатые, в фесках, с кривыми ятаганами!..
– И так целый день, – пожаловалась Елизавета Михайловна.
– Прекрасный возраст! – не поддержал Елизавету Михайловну Кольцов. – Еще три-пять лет, и романтика испарится, улетучится. Жизнь обломает его, как обломала всех нас, – он указал глазами на дымящего своей трубкой у штурвала Атанаса. – Когда-то и контрабандисты проходили на уровне пиратов. Ну, и что от них осталось? Только слово. А за ним – тяжелый труд, мизерные заработки и страх…Поздно родились.
Паруса были полны ветра, и фелюга бежала легко и почти бесшумно. Взошла луна, большая, красивая. И на море стало видно почти как днем.
Атанас передал штурвал Косте, сам заглянул в какой-то закуток и вынес на середину фелюги анкерок с водой и сумку с едой. Расстелил на брезенте скатерку, выложил на нее вареные яйца, тарань, тонко нашинкованные пластиночки сала, нарезал лук и хлеб.
– Можно… пожалуйста, – Атанас сделал приглашающий жест.
Гости не заставили себя упрашивать. На свежем воздухе, под яркими звездами и луной, под завораживающий плеск моря все это выглядело романтическим пикником.
– Как называется эта рыба? – неумело очищая рыбину, спросил Леня.
– Рыба, – ответил Атанас.
– Ну, как ее называли, когда она была живая?
– Не знаю, как это по-русски.
– Тарань, – подсказал Кольцов.
– А теперь, когда ее засолили?
– Тоже тарань.
– А вот и нет. Она называется вобла. Мне дядя Миша говорил. Это еще когда мы в Туркестане жили. Дядя Миша вместе с папой к нам приезжал. Он привозил такую.
– Дядя Миша, возможно, не знал. Вобла меньше и совсем сухая. А эта. Смотри, какие у тебя жирные руки.
– Дядя Миша все знает.
– Леня, но ведь нет таких людей, которые бы все знали.
– Дядя Миша все знает. Он был там, в Туркестане, нашим командиром. Он целой дивизией, нет, целой армией командовал.
Елизавета Михайловна насторожилась, строго сказала:
– Я о чем тебя просила, Леонид!
– Извини, мама, я забыл.
Кольцов нахмурился и тоже решил поддержать Елизавету Михайловну. Он поднялся, позвал Леню с собой.
– Отойдем в сторонку.
Они остановились на корме.
– Это очень хорошо, что ты знаком с Михаилом Васильевичем Фрунзе. Но вот хвастаться этим не обязательно, – тоже, так же строго, как и мать, сказал Кольцов. – Особенно там, где сейчас твой папа.
– Мама мне говорила. Только я случайно забыл. Извините.
– Я тоже, так же как и твоя мама, прошу тебя: никогда больше ничего такого не говори ни о папе, ни о Михаиле Васильевиче. Ты умеешь хранить секреты?
– Еще как! Мне в гимназии все друзья доверяли свои секреты.
– То, о чем мы сейчас с тобой говорим, не просто секрет. Это военная тайна… Поклянись, что ты будешь вечно хранить эту военную тайну! – торжественно сказал Кольцов.
– А как?
– Как можешь. Как твои друзья клянутся?
– Тут не получится. Нужна земля.
– Найдем. Но зачем?
– Для клятвы.
Кольцов еще на берегу, в Одессе, заметил внутри фелюги на стыках бортовых досок чахленькие растения. Видимо, за годы ветры насыпали в пазы порядком пыли и забросили туда зернышки различных трав.
Павел отошел от Лени всего на шаг, провел пальцами по внутренним пазам бортовых досок и уже через минуту протянул ему горсточку влажной земли.
– Нужно пожевать землю и вырвать из головы несколько волосков. Выплюнуть землю на бумажку, положить туда же волосы…
– В виду особых условий, в которых мы находимся, я освобождаю тебя от жевания земли, – сказал Кольцов. – Что дальше?
– Теперь надо похоронить и запечатать! – сказал Леня и стал тщательно месить бумагу, в которой лежали грязь и волосы. Все это месиво постепенно превратилось в грязный комочек.
– Теперь? – взглянул Кольцов на Леню.
– Теперь – похоронить. Лучше в дупле столетнего дуба. И произнести слова клятвы.
– Мы похороним еще лучше, – сказал Кольцов. – Знаешь где? Никто никогда не догадается. В море.
Кольцов нашел валяющийся на дне фелюги кусочек ноздреватого известняка и сунул в его трещину подготовленный комок.
– Опускай в море.
– Надо только через левое плечо, а после этого сказать клятву.
После чего Леня какое-то время думал, где у него левое плечо, а где правое. Разобравшись, бросил камень в море. Едва только камень скрылся под водой, Леня торжественно сказал:
– Пусть навсегда накроет мою голову мать сыра земля, пусть я умру в страшных муках, если… если кому бы то ни было выдам военную тайну, доверенную мне мамой и Павлом Андреевичем.
– Все?
– Нет. А запечатать?
– Это на земле надо запечатывать, а тут… Особые же условия! – сказал Кольцов.
– Тогда все.
Кольцов взял Леню за руку, и они вернулись к Атанасу и Елизавете Михайловне.
– Что вы там обсуждали? – поинтересовалась Елизавета Михайловна.
– Ничего такого, – невинным голосом сказал Леня.
– Просто немножко по-мужски посекретничали, – поддержал Леню Кольцов.
Под утро, когда погасли звезды и на востоке стало зажигаться небо, Коста спросил у Атанаса:
– Как думаешь, может, уйдем в нейтральные воды?
– Хочешь идти и днем?
– А что!
– Еще налюбуешься на своего пацана. Не торопись. У румын злые пограничники.
– Что предлагаешь?
– Как прошлый раз. Опустим мачты, заберемся в камыши у Сфынтул-Борге. Сам черт нас там не найдет.
– Комары заедят.
– Комары только дурную кровь пьют.
Кольцов, стоя неподалеку от рубки, слышал их разговор. Многие слова были сродни русским. Кольцов подумал, что, если бы они говорили немного медленнее, он бы все понял. Но и так, угадав всего несколько слов, он понял, что они советуются, как им лучше поступить в связи с наступающим утром.
Коста слегка приспустил паруса, и Атанас направил фелюгу к пока еще невидимому берегу. Вскоре в серых сумерках они нашли широкую заводь и какое-то время шли по ней. Потом с двух сторон фелюги зашуршали высокие камыши. Раздвигая их и сбавляя ход, она еще долго двигалась по этому камышовому царству, время от времени вспугивая сонных птиц. И, наконец, остановилась.
– Что? Уже приехали? – спросил Леня у проходившего мимо Косты, который опустил на дно фелюги мачты.
– Перва станция, – сказал Коста.
Над ними взвилась стая комаров. Они словно ждали их, налетели сразу, тонко зудели, забирались в нос, уши. Коста дотянулся до камышовых метелок, сломал несколько, и раздал по одной гостям. Своею же стал обмахиваться, показывая, как надо спасаться от нашествия комаров.
– Скоро комар нэт, – и Коста указал на восток, где за горизонтом уже угадывалось солнце.
И верно, когда солнце поднялось над камышами, комары словно по команде исчезли, будто их никогда здесь и не было. Куда они делись – неизвестно.
Днем весь экипаж фелюги коротал время кто как мог. Коста устроился на носу и там уснул. Атанас сидел на кнехте и задумчиво курил свою трубку. Елизавета Михайловна с Ленькой читали какую-то книгу, кажется «Приключения Тома Сойера», но Лене книга не нравилась, он кривился и говорил, что у этих американцев какие-то совсем ненормальные пацаны. У них ни одной хорошей игры, и вообще они все там совсем как дети. Только с Геком Финном Леня не прочь был подружиться. Кольцов, сидя на носу, наблюдал за мелкими рыбешками, которые неторопливо сновали в воде. Они никого не боялись, и у них там была полная гармония.
Потом они дважды принимались обедать.
Под вечер проснувшийся Коста искупался, подав тем самым пример другим. Атанас, в очередной раз выбив из своей трубки пепел, посмотрел на небо и что-то сказал Косте. По выражению их лиц Кольцов понял, что их что-то встревожило.
– Что-то случилось? – спросил он у Атанаса.
– Так. Мало… Чайка нэт. В воду садись, берег ходи. Плохо.
– Что делать?
– Дом надо бежать.
Коста поднял мачты. Зашелестели и наполнились ветром паруса. Сам же сел на носу и, веслом раздвигая камыши, медленно проталкивал фелюгу на чистую воду.
В глубоких вечерних сумерках они проскочили сквозь узкую горловину залива и оказались в море.
Атанас снова долго смотрел на небо, на звезды. Они уже стали появляться на вечернем небе, и их то накрывали, то снова открывали быстро мчащиеся рваные облака. В сумерках уже еле проглядывался берег. Фелюга торопливо уходила от него в море.
Кольцов остановился возле Атанаса, спросил:
– Может, лучше вернуться? Переждем ещё день.
– Назад – нет. Там много бакан. Риф. Мель, – попыхивая трубкой, ответил Атанас. – Лучше море. Болгария близко. Дом близко. Хорошо.
В сумеречной дали скрылся берег, но фелюга теперь бежала вдоль него.
К Кольцову подошла Елизавета Михайловна, спросила, указывая взглядом на Атанаса:
– Они чем-то взволнованы?
– Возможно, будет шторм, – как можно спокойнее сказал Кольцов и успокаивающе объяснил: – Но они надеются добежать до границы с Болгарией и там где-то от него спрятаться.
– Мы что же, так и не увидим шторм? – с некоторым сожалением спросил Леня у Кольцова.
– Возможно, – ответил Кольцов.
– Жаль, – вздохнул Леня. – Я никогда не видел шторма.
– Лучше бы его не видеть.
– Убери один парус! – приказал Атанас, вставая вместо Косты за штурвал.
Коста бросился к мачтам.
В это время высокий водный вал настиг фелюгу и, словно молотом, с силой ударил ее в левый борт. Затрещала и рухнула на дно фелюги мачта, сбив Косту с ног.
– Гаси второй! – сквозь свист ветра Коста не услышал, а угадал команду.
Он с трудом поднялся и бросился ко второй мачте. Но под бешеным порывом ветра парус на ней затрещал и, разорванный надвое, жалкими тряпками заполоскался над фелюгой на ветру.
Волны свирепо охаживали фелюгу, то поднимая ее на гребень волны, то с силой роняя в кипящую пучину. Коста несколько раз пытался встать на ноги, дважды или трижды ему это удавалось, но новый тяжелый удар волны по фелюге безжалостно сбивал его с ног.
Затем он устал сражаться со свирепой стихией и, сидя в воде и двумя руками придерживаясь за вертикальный обломок мачты, наблюдал за трепыхающимися на ветру кусками разорванного паруса.
– Констанцу прошли? – донесся до него голос Атанаса.
– Не знаю. Вроде промелькнули какие-то огни.
– Идем к берегу. По-моему, это уже Болгария.
– Напоремся на рифы! – Атанас лихорадочно вращал штурвал, пытаясь поставить фелюгу поперек надвигающихся из моря валов.
Сверкали молнии. В их вспышках Кольцов видел вцепившегося в штурвал Атанаса… и Косту, опять тщетно пытающегося подняться на ноги и спасти обрывки второго паруса…а также мокрую Елизавету Михайловну, которая лежала рядом со сломанной мачтой и, прикрывая своим телом Леонида, молилась.
Ветер слегка поменял свое направление и подул теперь с моря. Крутые валы стали толкать фелюгу в корму и подгоняли ее к берегу, Прошла, казалось, вечность, но берега все еще не было видно.
Скорее бы наступил рассвет! Можно было бы хоть что-то увидеть, рассмотреть, сориентироваться.
Кольцов, с трудом балансируя и спотыкаясь о какие-то банки, коробки, плавающие по днищу, приблизился к Косте. Помог ему подняться на ноги. Тот встал и, вновь обхватив руками уцелевшую мачту, лишенную парусов, стал всматриваться в проступающую в рассветных сумерках дальнюю и пока еще едва заметную полоску берега.
– Ну, где мы? – спросил Атанас.
– Пока не понять! – ответил Коста, но вдруг почувствовал нечто странное. Даже когда не дробился о борт шхуны водяной вал, на его голову, на лицо падали тяжелые капли воды. Он слизнул с губ влагу и почувствовал ее пресный вкус.
Он поднял голову. Тяжелые частые капли омывали его лицо. Открыв рот, он поймал несколько капель. Сомнения развеялись: это был дождь. Нет, не дождь – ливень! Густой летний ливень, предвещающий конец жестокой бури – «Боры».
– Атанас! Ливень! – изо всех сил закричал Коста. – Ты слышишь, Атанас? Ли-и-вень!
Прошло еще какое-то время. Водяные валы в море все еще были высокие, крутые. Но их уже не украшали белопенные барашки. Море медленно успокаивалось.
– Там, слева, я видел какие-то огни, – сказал Атанас. – Может, Констанца?
– Нас так несло! – отозвался Коста. – Думаю, проскочили. Может, Монстырище?.. Погоди! Счас! – он выждал, когда сверкнула очередная молния. – Слышь, Атанас! Вроде как элеватор!
– Мангалийский, что ли?
– Другого я тут не знаю. Версты три не дотянем.
– Чему ты радуешься! Мангалия – это ж Румыния.
– Радуюсь, что живы остались.
– Я не сомневался, – сказал Атанас. – Теперь, смотри, тут где-то должна быть заводь.
Какое-то время они двигались в кромешной темноте. А потом подряд полыхнули три молнии.
– Коста! – окликнул помощника Атанас. – Когда пристанем к берегу, перво-наперво купи себе очки!
– Это зачем еще?
– Элеватор от маяка отличить не можешь!
– Какого еще маяка? Какого маяка? – обиделся на упрек Коста.
– Нашего, Калиакринского!
Снова еще раз полыхнула молния.
– Коста! А и правда, наш маяк! Калиакринский. Это что ж получается? Нас чуть ли не курьерским поездом «Бора» несла. Мимо всей Румынии – курьерским!
– Это, Коста, получается, что мы дома. И ты был прав: возле маяка нас прямо на скалы кинет.
– Я и говорю: вместе до аптекаря сходим, – в отместку на упрек Атанаса сказал Коста.
– Мне-то с чего вдруг? – насупился Атанас.
– Чтоб новую память тебе вставил. До дома мы без парусов не дотянем – версты три, не меньше. И скалы мы без парусов не обойдем.
– Ну, и что ты предлагаешь?
– Предлагаю тебе заводь вспомнить. В ней и фелюгу на ход поставим.
Светало. Постепенно стал хорошо вырисовываться берег. Фелюга тихо плыла мимо скал. Коста, стоя на носу, отталкивался от больших скользких глыб.
– Вон она, заводь! – указал Коста Атанасу и, вставив весло в расщелину между двух каменных глыб, остановил фелюгу. Стали вместе наблюдать, как бурлит вода у входа в небольшую заводь.
– Волна мелкая, через гирло не перекинет, – покачал головой Атанас.
– Девятая – перекинет.
– Если не перекинет, фелюгу погубим. Переломит, – пыхнул дымом Атанас. – Ну, шут с тобой. Рискнем!
Они подвели фелюгу поближе к гирлу. Коста вновь веслом придерживал ее. Вновь постояли, присматриваясь к волнам.
– Заметил? Девятая хорошо вошла, – сказал Коста.
– Без груза, понятное дело.
– А ты правее забирай. Чтоб она всем днищем на волну легла.
– Кого ты учишь, сопляк! Я тут дольше плаваю, чем ты по земле ходишь.
Они снова стали считать волны:… третья, четвертая…
– Режь волну! – скомандовал Атанас. – На восьмой круто, изо всей силы, выворачивай. Она в аккурат всем днищем на девятую ляжет!
И фелюга точно легла на девятую волну, волна подхватила ее и как щепку увлекла с собой. Какое-то время она несла ее на гребне. Казалось, еще мгновение, и она с силой швырнет ее на усеянный камнями берег. Но произошло нечто странное: волна прогнулась, горло заводи стало ненасытно всасывать в себя воду. Фелюгу развернуло, обо что-то тяжело ударило и вбросило в узкую длинную бухточку.
По инерции, приданной ей умирающей волной, фелюга проплыла в дальний ее конец, прошелестела днищем о песок и едва не уткнулась носом в скалы.
Только теперь все как-то оживились, повеселели. Коста стал вычерпывать из фелюги воду. Леня нашел какой-то черпак и принялся ему помогать.
– Как себя чувствует мадам? – спросил Кольцов у рядом оказавшейся Елизаветы Михайловны.
– Сказать, что это ужасно, – ничего не сказать. Я уже попрощалась с жизнью и жалела лишь о том, что Леня проживет такую короткую и даже не встретится с отцом. Не знаете, нет ли у них какой-нибудь аптечки? У меня разыгралась мигрень.
– Боюсь, если даже она у них есть, они сейчас не сумеют ее найти, – Кольцов обернулся к Атанасу: – Капитан! Пассажирам можно покинуть борт корабля?
– Можно. Мы дома! – ответил Атанас, вглядываясь в даль, где на высоком пригорке рядом с похожим на свечу маяком стоял большой каменный дом. Но во дворе он не заметил никакого движения и поэтому разочарованно добавил: – Почти дома.
Кольцов спрыгнул в воду и протянул руки Елизавете Михайловне:
– Позвольте, я вам помогу. Вашу руку!
Она испуганно подала ему руку. Кольцов потянул ее на себя. Подхватив женщину на руки, он понес ее на берег. Леонид последовал примеру Кольцова и тоже, не снимая сандалии, прыгнул в воду. Пошел к берегу рядом с несущим Елизавету Михайловну Кольцовым.
Атанас и Коста ходили по фелюге, определяя убытки, нанесенные «Борой».
Коста тоже, как и Атанас, время от времени поглядывал на пригорок. Он первым увидел процессию, покинувшую дом и спускающуюся по узкой дороге в долину. Несколько мальчишек толкали двухколесную тачку с высокими колесами. Следом за тачкой шли мужчины и женщины, молодые и пожилые, и еще дети и даже две собаки.
– Проснулись! – ухмыльнувшись, указал вдаль Коста. Атанас ничего не ответил, лишь коротко взглянул на дорогу и снова занялся своим делом.
Глава шестая
Они торопливо спускались с пригорка, старики еле поспевали за чумазой детворой и молодежью. Даже собаки придерживались принятой молодежью скорости, не забегали далеко вперед.
Неподалеку от берега бухты процессия остановилась и неподвижно и молча стала ждать. Лишь молодая темноволосая статная загорелая болгарка с белым сверточком в руках отделилась от толпы, вошла по колени в бухту и остановилась там, наблюдая за занятыми на фелюге мужчинами.
«Жена Косты», – подумал Кольцов с потаенной завистью. На какое-то мгновение вспомнил Таню. Она иногда, правда все реже и реже, являлась к нему в коротких беспокойных снах почти всегда одной и той же застывшей картинкой: ромашковое поле, вероятно, где-то во Флери-ан-Бьер, и она, чуть наклонив голову, кокетливо смотрит на него и едва заметно улыбается.
Коста наконец спрыгнул со шхуны и побрел по воде к жене. Он не поздоровался, не обнял ее, а лишь приподнял край одеяльца, прикрывавшего личико младенца от света. Ребенок смешно поморщился, размышляя, заплакать или нет, и плакать не стал.
«Вероятно, это и есть вершина счастья: небо, солнце, крикливые чайки и их трое – он, она и этот крохотный сверточек, который крепче манильских канатов связывает их друг с другом», – подумал Кольцов. В его жизни это не было и, кто знает, случится ли когда-нибудь что-то подобное?
Атанас тоже вышел на берег и пошел к ждущим его родителям и стоящей рядом с ними немолодой болгарке – его жене.
И, словно по команде, на опустевшую фелюгу разом бросились и детвора, и молодежь. Они привычно волокли на берег и укладывали на телегу все, что не должно находиться там во время ремонта. Вероятно, эта процедура повторялась не один раз, и каждый знал в этой работе свое место и свои обязанности.
Лишь еще двое – молодой и старик – не участвовали в общих хлопотах и стояли чуть особняком. Быть может, смотритель маяка и его помощник или какая-то родня Атанаса или Косты. Заросший, в неопрятной крестьянской одежде и в странной, сшитой по турецкой моде фуражке, он время от времени с едва заметной улыбкой поглядывал на Кольцова. И когда старик наконец надолго остановил на нем свой взгляд и широко улыбнулся, лишь тогда Кольцов, и то не сразу, узнал… Красильникова. Его выдали широкая улыбка и смеющиеся глаза, вокруг которых лучиками разбегались мелкие морщинки.
Вся процессия, толкая груженую тачку, теперь потянулась наверх, к маяку, туда, где над самым обрывом стоял дом Атанаса.
Мальчишки-болгары обратили внимание на Леню, на его короткие «барские» штанишки, на сандалии, которые он нес в руках. Стали что-то обсуждать, посмеиваться. Леня заметил это, стушевался и отошел поближе к Кольцову. Кольцов все понял. Он взял Леню за руку, подвел к мальчишкам и, указав на него взглядом, сказал:
– Леонид. Можно Леня. Понятно?
Мальчишки кивали и один за другим стали молча пожимать ему руку.
Кольцов вернулся к Красильникову.
– Зачем сам сюда пришел? – спросил Кольцов. – Прислал бы кого-то из проводников.
– Позже поговорим, – уклончиво ответил Красильников.
Потом, пока хозяева и соседи готовились к праздничному обеду, Кольцов и Красильников отошли в конец двора и уселись на большую деревянную колоду. Она лежала почти на самом краю обрыва, и оттуда были хорошо видны слегка колышущееся море и несколько легких парусников.
– Я знаю, зачем тебя сюда послали, – сказал Красильников.
– Я сам себя послал, – не согласился Кольцов. – И не сюда, а в Галлиполи.
– Поэтому я и решил встретить тебя здесь, – Красильников произнес это тоном, в котором можно было угадать нотки назревающего недовольства.
– Что-то случилось?
– Ничего. Но… – Красильников слегка замялся, пытаясь найти нужные слова. – Понимаешь, не нужно тебе в Галлиполи. Ни тебе, ни мне там уже делать нечего.
– Можно узнать почему?
– Ты хорошо меня изучил, Паша. Я добросовестный, делал все, что мог, и до тех пор, пока мог. И даже сверх того. Задачу свою хорошо понимал, – Кольцов знал, что за этим последует продолжение, и будет оно далеко не благостным, иначе не стал бы Семен Алексеевич тратить столько слов на подготовку. – Кстати, и Андрюха Лагода добросовестным парнем оказался. А результатов – ноль. Все наши листовки – пустые хлопоты.
– Почему же сразу не сообщил?
– А оно не сразу прояснилось. Поначалу вроде поверили. А потом Кутепов свою контрагитацию предпринял. Крымом стращать начал. И еще. Вы нас там, из России, не очень поддержали. Письма кое-кто оттуда получил. Описывают, как их там, у нас, встречали. Про допросы, расстрелы, лагеря. И, конечно, про Кронштадт. Он здорово на мозги повлиял. Когда вести из Кронштадта сюда дошли, я уже здесь был. И надо же такому случиться: на наши листовки про амнистию, про братские встречи – письмо из Кронштадта. Не фальшивка, нет! Как дошло, не знаю. И все! И кончилась наша агитация! Я копию для тебя припас, почитай, если дома не довелось.
Красильников полез в карман рубашки, извлек во много раз сложенный листок, распрямил на колене, передал Кольцову:
«Мы, матросы, красноармейцы и рабочие, восстали против коммунистов, которые в течение трех лет льют невинную кровь рабочих и крестьян. Мы решили умереть или победить. Но мы знаем, что вы этого не допустите. Мы знаем: вы придете на помощь довольствием, медикаментами, а, главное, военной мощью. Главным образом мы обращаемся к русским людям, которые оказались на чужой земле, мы знаем, что они придут нам на помощь».
– Думаешь, не фальшивка? – вернув письмо, задумчиво спросил Кольцов.
– Не мне тебе рассказывать, что там, в Кронштадте, было, – вместо ответа сказал Красильников. – Им на помощь никто не пришел. Не успели. А потом Антоновское восстание. Следом пошли слухи, будто бы взбунтовался Буденный и уже даже взял Москву. Дальше – больше: убит Ленин, Антанта начинает новый поход на Москву, Русская армия собирается выступить в поход, согласовываются детали. Знаешь, были такие дни, когда и я начинал верить во всю эту чепуху. Такая была обстановка. Вот и агитируй за возвращение. Один в лицо плюнет, другой кулаком съездит, а третий… Обошлось, правда. В глаза никто ничего. Все боялись выказывать свои намерения.
Помолчали.
Кольцов поднял с земли палочку и стал что-то задумчиво чертить. Не думал он, сидя в Москве, что все так безнадежно. Больше того, он надеялся, что он встретится с Кутеповым и, зная, что тот – человек здравомыслящий, уговорит принять его условия. Биографию Кутепова он хорошо изучил. Неродовитый, сын лесничего, все чины и награды давались ему не так легко, как сынкам знатных родителей. С нищетой сталкиваться не приходилось, а с несправедливостью – часто и густо. Неужели и он настолько очерствел, что уже перестал принимать близко к сердцу беды тысяч и тысяч людей? Или все еще верит, что сумеет дважды вступить в одну и ту же воду?
– Что из себя представляет Кутепов? – спросил наконец Кольцов.
– Четкий генерал. Служака. Дисциплинирован сам и требует жесткой дисциплины от других. Трех человек судил военный трибунал. Полковника Щеглова за агитацию возвращаться домой велел расстрелять. Успенского тоже. А Годневу удалось сбежать.
– Значит, все же есть еще такие, кто, несмотря ни на что, хочет вернуться?
– Были. С каждым днем их все меньше. Кутепов даже здесь, на чужбине, создал образцовый войсковой лагерь: полки, батальоны, эскадроны, батареи. Сохранены армейские знамена. Есть духовой оркестр. Устраиваются парады.
– Ты, брат, серенады поешь Кутепову.
– Правду говорю. Чтобы ты не обольщался. Оттуда, из Москвы, все по-иному видится. Подумай, он всю жизнь наверх карабкался. На такую высоту взошел. А у нас кем будет? Даже если помилуют, больше батальона не дадут, – Красильников немного помолчал и задумчиво добавил: – Троцкий не помилует.
– Не о том говорим! – сердито сказал Кольцов. – Больше двух миллионов россиян рассеялись по миру в наше с тобой время, Семен. Цифра, не из пальца высосанная, верь. Есть, конечно, и те, кто провинился перед Россией. Но их-то капля в этом огромном людском море. А страдают все: их жены, родители, дети. Они нужны им. Не меньше они нужны России. Страна во-она какая, за год из конца в конец пешком не пройдешь, на коне не проскачешь. Богатства несметные под ногами лежат, а поднять некому.
– Ты меня, Паша, не агитируй. Я на своей шкуре испытал это стремление все бросить к чертям собачьим – и до дому. Хоть пеши, но до дому. Я вот полгода на чужбине, и у людей хороших живу, а больше не могу. Не выдерживаю. Вот, все говорят: война кончилась. А я, прости, еще не успел этого заметить. Всю жизнь всем умным приказам подчинялся. И неумным, случалось, тоже. Все, хватит! Домой, в Донузлав, хочу. Сесть, понимаешь, хочу у себя в скверике, открыть бутылку нашего домашнего виноградного и поспорить с мужиками до хрипоты за жизнь, за будущее, каким его нам поднесут. Чи, может, мы сами его, своими руками? Или до Андрюхи Лагоды в Голую Пристань поеду. У них, рассказывает, тоже вина знатные. Кстати, про Андрюху. Надо его отсюда выручать. Не ровен час, вторично к стенке приставят.
– Так. С этим разобрались, – мрачно сказал Кольцов. Помолчав немного и что-то вспомнив, вопросительно взглянул на Красильникова: – Как там Иван Игнатьевич?
– Часто тебя вспоминает и патриарха Тихона. И еще Москву. Ожило село: крестит, венчает. Я сам пару раз в церкву заходил. Поет, рыбья холера, как соловей. Голосина – заслушаешься. Я сам, бывало, в церкву заходил. Народу полно, с других сел приезжают. Жил бы у нас, может, знаменитым артистом бы стал.
– Не собираются в Россию возвращаться?
– Обсуждали как-то. Вроде даже настроились. Вон Никита все расскажет, – и добавил: – И то сказать: живут справно, каждый своим хозяйством. Куда им ехать? Ни родни, ни знакомых. В чисто поле?
Их позвали к столу.
Красильников встал, посмотрел на море и, тряхнув головой, подобревшим голосом, в ответ на какие-то свои затаенные мысли, сказал:
– Свободы хочу, Паша! Такой, про какую мы когда-сь в песнях пели.
В горнице собрались все взрослые, в меньшей комнате – мелюзга. Леню как гостя усадили со взрослыми. Пили домашнее вино, мужчины – плиску. Перед Леней поставили графин с виноградным соком. Закусывали всем домашним, что могли сотворить женщины за короткое время.
Разговор все больше шел о «Боре» – урагане, который наведывается сюда нечасто, но каждый раз оставляет после себя недобрую память. На этот раз у него было хорошее настроение, никакого зла, кроме сломанной мачты и порванных парусов, он им не причинил.
После обеда Кольцов и Красильников вновь любовались с колоды морем и «перетирали» сложившуюся ситуацию. Встречаться с Кутеповым смысла никакого не было, тут Кольцов целиком положился на мнение и знание ситуации Красильниковым.
Остров Лемнос, где были размещены кубанские, донские и терские казаки, Кольцов решил посетить потом, в самом крайнем случае. Незаметно пробраться на заброшенный и малодоступный скалистый остров – задача сама по себе была весьма трудная, да и фигуры генералов Богаевского, Фостикова и Науменко представлялись для задуманного менее привлекательными, чем Врангель, Кутепов или же Слащев.
После того как оказался недоступным Кутепов, оставались еще два человека из тех пяти-шести, кто мог бы представлять интерес как фигурант для перевербовки и дальнейшей игры, задуманной Кольцовым, – Врангель и Слащев. Оба находились в Константинополе. Это – плюс. Оба были доступны. То есть, если приложить какое-то количество усилий, с каждым из них можно встретиться.
На то, что ценой амнистии и других привилегий можно до чего-то договориться с Врангелем, Кольцов не рассчитывал, если не произойдут какие-либо непредвиденные события. В частности, если армии Врангеля Антантой будет полностью отказано в продовольственных поставках или если Мустафа Кемаль займет Константинополь… Впрочем, при стольких «если» на Врангеля рассчитывать не стоит.
Немалый интерес мог бы представлять для задуманной операции Яков Слащев – личность зловещая и достаточно известная как на советской, так и на этой стороне. Вконец перессорился с Врангелем – это плюс. В иное время он мог представлять интерес только для советского суда. Но сейчас…
Сейчас, когда и сюда медленно, но все же проникают слухи о том, что Кронштадтский мятеж против советской власти подавлен, Антоновское восстание доживает последние дни, Буденный не собирался поднимать против Советской России Дон, Ленин жив, Антанта не выступила в помощь Врангелю, русская эмиграция должна была бы начать избавляться от несбыточных иллюзий. И если Слащев будет помилован и заживет в советской стране жизнью обычного гражданина, и слухи об этом докатятся в Турцию, это может серьезно повлиять на настроения всей белой эмиграции.
Впрочем, это пока лишь теория. Надежд на то, что Слащев согласится вернуться, очень мало. За это лишь то, что он потерял себя в Белом движении, перессорился со всеми своими бывшими сослуживцами и единомышленниками, одинок и пока не видит берега, к которому мог бы прибиться. Поверит ли он, что помилование будет распространено и на него? И тут Кольцов рассчитывал на ту их давнюю мимолетную встречу в Корсунском монастыре.
Если же не Слащев? Дальше шли фигуры меньшего масштаба. Фостиков, Богаевский, Барбович, Туркул, Скоблин – их много. Можно попытаться уговорить кого-то из них. Но это потом, если ничего не получится со Слащевым.
Два дня они провели на маяке, ожидая, когда Атанас и Коста приведут после урагана в порядок шхуну.
Как и было условлено еще в Одессе с Деремешко, болгары собирались доставить Елизавету Михайловну с сыном поближе к Константинополю. Это вполне укладывалось в новый план Кольцова и Красильникова.
Никиту Колесника Красильников решил больше не задерживать возле себя на маяке и отпустил домой.
Никита с грустью расставался с Семеном Алексеевичем. Он настолько привык к нему, что считал его едва ли не членом семьи.
– Энто ж како получаица, Семен Лексеич? Больше, поди, никада не свидимся? – печально спросил он.
– Отчего же! Я не приеду, вы – к нам, – сказал Красильников и подмигнул Кольцову. – Я так думаю, хватит вам чужую землю обсевать, своей на Кубани много. Царя в России больше нет, так что заветы Игната Некрасова не порушите.
– Думали мы про энто, Лексеич. Крепко думали. Отец Иоанн с амвона сказал: «Горький хлеб на чужбине, сладкий токмо на родине». Есть, которы не супротив. Бабы плачуть: родны могилы осиротим. А есць, которы по-другому думають: живем, хлеб жуем, не тужим. Пошто от хорошего лучшее искать? Такой клубок в голове, без помочи не распутаешь. Чутка прошла: скоро в Рассее новый царь появица. Вроде бы турчаны на рассейский престол Кутеп-Пашу хотять посадить, – степенно сказал Никита.
– Не посадят, – возразил Красильников. – Прошло, Никита, время царей. Теперь народ российский сам собою будет править.
– Не получица. Рассейский народ – простак. Придет фармазон: ноги колесиком, головка тыковкой, щеки надует, глаза вылупит. Я, скажет, самый умный. Я усе звезды до одной на небе пересчитав. И шо ты думаешь? Поверят. И в цари выберут. Вспомним мы тогда Игнашку Некрасова, да поздно будет.
– Мы теперь учены, – сказал Красильников. – Кого зря не выберем.
– Ну-ну! Мы покаместь тут ишшо малость поживем. Поглядим, шо у вас из энтого получица… Ленин, сказывал ты, у вас. Он не из царей?
– Мужик.
– От и поглядим. Получица у вас чо без царя – возвернемся. В ноги упадем. Примить нас, убогих, в свое коммунистическо государствие!
Кольцов, вполуха слушая этот забавный разговор, написал Андрею Лагоде записку. Велел ему при малейшей возможности бежать из Галлиполи. Для начала с помощью Никиты Колесника – в Болгарию. Там свои люди помогут вернуться домой.
Он попросил Никиту доставить Андрея в Калиакру и сдать его с рук на руки Атанасу и Косте.
А через два дня они вышли в море. Экипаж фелюги оставался прежний.
Ленька всю ночь не смыкал глаз, и ему время от времени доверяли постоять у штурвала. К утру ему даже присвоили звание подвахтенного.
Солнце еще только поджигало восток, как их фелюга мягко коснулась берега. Справа, за спиной у них, был маленький поселок Мидие, слева был хорошо виден входной Босфорский маяк. До дороги, ведущей в Константинополь, было меньше версты, до Константинополя восемь верст.
Поначалу они шли по дороге рядом с морем. От него его загораживали песчаные барханы, поросшие высокой травой. До них доносился только успокаивающий шум прибоя.
Уже совсем рассвело, но дорога по-прежнему была пуста: ни пешего, ни конного, ни встречного, ни попутного. Миновали какой-то жилой барак, огороженный ажурным забором, но и здесь во дворе не было ни души.
– Ничего не понимаю, – удивился наконец Кольцов. – Вымерли, что ли?
– Пятница, – коротко ответил Красильников.
Лишь когда они вышли на более широкую, пыльную наезженную дорогу, увидели первого человека. Он катил им навстречу тележку с клеткой, в которой, важно нахохлившись, куда-то ехали два пестрых петуха. Видимо, они были бойцовые и направлялись куда-то на петушиную «корриду».
Потом их нагнала пароконная повозка. Проезжая мимо них, возчик попридержал коней, что-то спросил. И тут, удивительное дело, в разговор с турком вступил Красильников. И затем сказал своим спутникам:
– Садитесь, до города подвезет.
Все стали усаживаться, моститься. Леню возчик пригласил к себе на облучок и, подмигнув, дал в руки кнут. Когда тронулись, возчик неожиданно спросил:
– Рюс?
И снова возчику что-то ответил Красильников. Ему – возчик. И оба засмеялись.
– Семен, почему ты так долго это скрывал? – спросил Кольцов.
– Что «это»?
– Ну, что ты говоришь по-турецки.
– Ты просто никогда меня не слушал, – ответил Красильников. – Во-первых, не по-турецки, а по-татарски. И то с костылями. Ты, наверно, забыл, где я родился и вырос.
– Помню. В Донузлаве. Это где-то возле Евпатории.
– Донузлав – татарский аул. Так скажи мне, с кем я там мог дружить? Конечно, с татарчатами. Вот и вспомнил кое-какие слова.
– Ну, и что ты у него выяснил?
– Ничего. Я спросил, не атеист ли он, почему в пятницу работает? Он ответил, что его лошади – не мусульмане и по пятницам тоже хотят есть.
Пустырь кончился, и с двух сторон дороги потянулся нищий пригород. Бедные хибары с плоскими крышами, сколоченные из фанеры, досок, жести и картона, с маленькими подслеповатыми оконцами, они кучно жались друг к другу, словно пытались упрятать от чужих глаз свою нищету.
В ближних пригородах дома были богаче, нередко двухэтажные, обнесенные высокими заборами. Эти тоже прятали, но… свой достаток от чужих завистливых глаз.
Город встретил их оживленными улицами.
Возница съехал на обочину, что-то сказал Красильникову. Тот обернулся к своим попутчикам:
– Эфенди говорит, что до этого места он вез нас бесплатно. Но не может повезти нас бесплатно туда, куда нам надо. Говорит, что дорого с нас не возьмет.
– Кони и в пятницу хотят кушать, – улыбнулся Кольцов. – Пусть везет. Нам нужно на Гранд рю-де-Пера. Точнее даже: «Пера-Палас».
– «Пера-Палас»? Карашо, – выказал возчик свое знание русского языка.
Повозка снова тронулась и уже через квартал втиснулась в густой поток различного транспорта, движущегося по «старому» мосту с европейской части города через залив Золотой Рог в район Галаты. Пропускная способность у этого моста была небольшая, поэтому неподалеку построили еще один мост, который справедливо назвали «новым». Несмотря на эти два моста, переезд из одной части города в другой был весьма затруднен. Пешеходы, телеги, кабриолеты, фуры, автомобили стекались сюда, к мосту, с нескольких улиц. Резкие гудки автомобильных клаксонов, ржанье лошадей, ругань идущих по мосту рабочих, топот ног – вся эта какофония звуков сливалась на мосту в один протяжный раздражающий гул, обрывающийся внезапно, едва кончался мост. Здесь этот единый живой поток распадался на свои составные части и растекался по улицам Галаты.
Если район Галаты был деловым и строгим, то примыкающий к нему Пера – константинопольский дэнди, аристократ. Он блистал фешенебельными домами, зазывными вывесками отелей, зеркальными рекламами дорогих автомобилей и бесконечным количеством крохотных цветочных магазинчиков.
Здесь не услышишь громкие и пугающие тишину выкрики водоносов и кафеджи, не надрываются клаксоны автомобилей. Прохожие никуда не спешат, идут медленно и вальяжно.
Возле «Пера-Паласа» Кольцов расплатился с возчиком, заплатив ему и за то, что он доставит Елизавету Михайловну с сыном к русскому военному госпиталю.
Прощаясь, Кольцов задержал руку Елизаветы Михайловны в своей:
– Верю, что еще когда-нибудь встретимся. Не здесь, а дома, в России. И тешу себя надеждой, что это будет поводом для приятных воспоминаний о таком необычном путешествии. Право, я весьма рад, что и вы, и Леонид по воле случая оказались моими спутниками. Благодарю вас.
Он перевел взгляд на Леню:
– И тебя тоже. Ты был достойным спутником и выдержал нелегкий экзамен. Вот только, прошу тебя, распространяться о своих подвигах будешь дома. Ладно?
– Я помню, – кивнул Леня и опустил глаза, чтобы удержать накатывающиеся слезы.
– И выше нос, капитан!
Они проводили взглядами повозку, пока она не скрылась вдали. Лишь после этого Кольцов сказал:
– Где-то здесь за углом «Банкирский банк Жданова», где, возможно, мы на пару дней найдем приют. Во всяком случае, хоть отоспимся.
Они прошли мимо ресторана «Уголок», который в эту раннюю пору пока еще был закрыт. Его работники мыли фасад. Сквозь сверкающие чистотой окна можно было увидеть, как несколько официантов накрывают столы белоснежными накрахмаленными скатертями.
Об этом ресторане Кольцову рассказывал Фролов. Здесь Сергеев заливал свое горе, случившееся в России с семьей. В результате его вынуждены были отозвать. Сазонов, сменивший Сергеева, задержался здесь подольше. По последней информации, которую Кольцов получил в ИНО, Борис Иванович Жданов, разочарованный рядом неудач, которые постигли константинопольский филиал «Банкирского дома Жданова и К°», взялся лично исправить положение и намеревался направить сюда управляющим опытного финансиста. Он был убежден, что ликвидировать банк в это время – дело неумное и расточительное. При хорошем управляющем он не только может, но и должен стать вровень с лучшими банками Константинополя.
Глава седьмая
Филиал «Банкирского дома Жданова и К°» находился почти рядом с «Уголком». Это был старинный двухэтажный особняк, отстоящий чуть на отшибе от других домов. Со всех сторон его окружал металлический забор, вдоль него густо порос кустарник. Две богатые вывески сообщали, что это филиал банкирского дома, иными словами – банк. Отполированная каменная дорожка вела от крыльца дома и до калитки. Судя по замкам, калитка открывалась автоматически.
Калитка была заперта.
Кольцов позвонил. Из глубины дома донесся мелодичный, похожий на бой старинных часов звон. Но никто не вышел и не отозвался.
Они постояли возле калитки, прислушиваясь. Но дом молчал. Никакого движения внутри, никаких звуков.
Кольцов позвонил снова – долго, настойчиво.
Какой-то мужчина вышел из соседнего дома. Забирая из ящика утренние газеты, он изучал стоявших у калитки Кольцова и Красильникова. Потом он пошел к своей калитке и, не открывая ее, издали спросил на русском языке:
– Господа пришли в банк?
– Да. Но, к сожалению…
– Надо думать, господа приезжие.
– Да, черт возьми. А сегодня, к несчастью, пятница.
Незнакомец подошел к ним, осмотрелся вокруг, сказал:
– Управляющего, видимо, давно нет дома.
– Почему вы так решили?
– Газеты! – незнакомец указал на почтовый ящик, в котором еще находилась почта.
– Может, еще спит?
– Нет-нет! Скорее всего, он в полиции.
– В полиции? – удивился Кольцов. – Что-то случилось?
– Вы, видимо, не читали последних газет?
– Да! И что же?
– Попытка ограбления. Но, кажется, все обошлось благополучно.
– Вы так хорошо информированы?
– Слежу за новостями, – ответил незнакомец. – Ну и как соседи иногда перебрасываемся парой слов с управляющими. С новым еще познакомиться не довелось.
– Вы имеете в виду нового управляющего?
– Да. Приехал буквально на следующий день после ограбления. Неразговорчивый. Попытался с ним поговорить, не получилось. Понять можно: подозревает всех.
– Откуда же вы знаете, что обошлось?
– Эта новость стоила мне сигареты. Я вышел за газетами, а тут как раз полиция. Ну, один отошел в сторонку, спросил, кто я, не видел ли чего подозрительного. Я показал, где живу, угостил сигаретой. Он и сказал: попытка была, но вскрыть не сумели. Он имел в виду сейфы.
И незнакомец ушел. Уже на своем крыльце он обернулся, сказал так, чтобы они услышали:
– Вы чуток подождите. Хозяин, я заметил, надолго не уходит. Или полиция подъедет, тоже вам все поподробнее расскажут.
– Спасибо тебе, добрый дядя, за полицию, – буркнул Красильников после того, как незнакомец закрыл за собой дверь своего дома и обернулся к Кольцову: – Представляешь, могли бы влипнуть, как петух в борщ. Может, уйдем, Паша, подальше от греха?
– Уйти успеем, – сказал Кольцов. – Надо бы…
– Ну да! Если успеем.
– Надо бы все же выяснить, что тут случилось.
– Паша, неугомонная твоя душа! Ты ищешь приключений? У нас другое дело, давай им займемся.
– Давай! – решительно, уже начиная злиться, сказал Кольцов. – С чего начнем?
– Ну, надо каким-то способом встретиться со Слащевым. Если удастся, познакомиться.
– Правильно рассуждаешь. И знаешь, где нам подскажут? В контрразведке. И еще, быть может, в штабе у Врангеля. Я тут подожду управляющего банком, а ты тем временем сходи, узнай адресок. Кстати, не кажется ли тебе, что твой внешний вид вызовет нездоровое любопытство у любого полицейского.
– Для Новой Некрасовки он был в самый раз, меня там за своего принимали, – даже слегка обиделся Красильников.
– Новая Некрасовка – не Константинополь. Покажи мне, кто здесь так же живописно одет.
Красильников промолчал.
– Вот и не надо так легкомысленно относиться к делу, – укорил Красильникова Кольцов и вернулся к прежнему разговору: – Я все же надеюсь, управляющий подскажет нам, как найти Слащева. Во всяком случае, ему выяснить это намного легче и безопаснее, чем нам с тобой.
– Может, ты и прав, – согласился Красильников.
– Но твои опасения вовсе не безосновательны, – примирительно сказал Кольцов. – Вокруг нас враги, и об этом не нужно забывать. И мы с тобой идем буквально по лезвию бритвы. Один неверный шаг…
– Я все это понимаю.
– Теоретически. Этого мало.
– Что ты предлагаешь?
– Ну, прежде всего, пристойно тебя одеть. И второе: не ходить парой. Куда бы я ни пошел, держи меня в поле зрения. Мало ли что может случиться. Какая-нибудь нежелательная встреча. Я ведь во время службы у Ковалевского со многими сталкивался. И кто не погиб, все они здесь.
– Ну, случилось что-то, с кем-то нежелательным встретился, мои действия?
– По уму.
– Приблизительно понял.
– Остальные вопросы решим после встречи с управляющим. Посмотрим, что за человек, насколько он нам пригодится в нашем деле.
– Никаких возражений, – согласился Красильников. – Не решен главный вопрос: где будем жить?
– Если он для тебя главный, отвечаю: Не в «Пера-Паласе», – Кольцов еще раз коротко и критически оглядел Красильникова. – И главное сейчас для тебя, Сеня, не бухнуться на кровать, а сменить наряд. Это – прежде всего. В Новую Некрасовку нам вряд ли уже придется возвращаться. А здесь ты, как курица в лебединой стае.
Они погуляли по улицам города, побывали в нескольких магазинах одежды. Кольцов сменил свою и теперь стал больше походить на бизнесмена. Да и Красильникова в Новой Некрасовке никто бы не узнал, особенно после того, как он к тому же побывал в парикмахерской.
К полудню они вернулись к банку. Еще издали увидели, что жалюзи на окнах подняты. Однако калитка по-прежнему была заперта.
Кольцов настойчиво позвонил. На этот раз они услышали топот ног сбегающего по лестнице хозяина, услышали русское «Иду! Иду!». Щелкнул замок калитки. Они вошли в дворик и остановились возле крыльца.
Входная дверь банка распахнулась, и на пороге встал… Кольцов не поверил своим глазам: на пороге, улыбаясь, стоял Илья Кузьмич Болотов, знакомый Кольцова по Парижу, компаньон и помощник Бориса Ивановича Жданова. Спускаясь к Кольцову вниз по ступеням крыльца, Илья Кузьмич раскинул руки для объятий.
– А я ждал вас, меня известили. Правда, ничего не сказали о вашем спутнике. А я уже начал беспокоиться, аккуратно выяснять… Здравствуйте, Павел Андреевич. Вот уж не чаял снова встретиться с вами. И где! Поистине неисповедимы пути господни!
Они обнялись. Кольцов представил Болотову Красильникова. И они вошли в банк.
Собственно, первый этаж занимал сам банк с операционным залом и другими службами. Ниже был угрюмый сводчатый подвал, который еще именовался «хранилищем» или даже «сейфовым залом». Второй этаж – жилые апартаменты: гостиная, несколько спален, кухня и прочие службы. Все это было рассчитано на большую семью, и поэтому Болотов заранее извинился за свой холостяцкий образ жизни.
Угощал он их тоже чисто по-холостяцки: наскоро сжаренной яичницей-глазуньей, мясными и рыбными консервами и кофе с круассанами.
Ели неторопливо и так же неторопливо разговаривали о Париже, Жданове. Вспомнили о поездке в Флёр-ан-Бьер, о Тане Щукиной. Так случилось, что Илья Кузьмич с тех пор больше с ней не встречался и ничего о ней не слышал. Он конечно же все до подробностей выяснил, если бы его заранее предупредили, что они здесь встретятся.
Об ограблении банка Кольцов разговор не начинал, ждал рассказа Болотова.
За кофе Болотов неожиданно сказал:
– Вы только не делайте вид, что ничего не знаете об ограблении. У вас слишком постные лица для такой радостной встречи. Да, была попытка ограбления, но безуспешная. Ничего не украдено. Это – к счастью. Зато, к несчастью, сейфы варварски изуродованы.
И Болотов коротко рассказал, как это произошло. Неделю банк находился в беспризорном состоянии. Предыдущий управляющий был по каким-то причинам Ждановым отозван и даже, по легкомыслию или по глупости, уволил персонал. Оставил лишь сторожей. Его же Жданов уговорил немного поработать в константинопольском филиале. Болотов несколько задержался в Париже. В это время все и случилась: исчез дежуривший в ту ночь сторож. Его пока не нашли. Либо в бегах, либо… В ту же ночь грабители посетили банк. Но…
– Что я вам рассказываю, когда могу показать, – решительно сказал Болотов. – Идемте!
Они стали спускаться в подвал и остановились перед мощной металлической решеткой, запиравшей вход в хранилище. Болотов тоже ждал.
Прошло несколько секунд, и тяжелая решетка с легким шумом, как занавес в театре, раздвинулась
– Автомат, – пояснил Болотов и добавил: – Не знаю, как здесь, в банках Константинополя, а все хранилища в наших банках, в том числе и этот, Борис Иванович оборудовал такой защитой
– Как же они открыли? – спросил Кольцов.
– Видимо, решетку просто забыли закрыть. Ничем иным я это объяснить не могу. Пульт был припрятан наверху, в апартаментах. Без пульта они в хранилище не проникли бы. Взломать эту решетку не смогли бы. Это довольно сложный механизм, и при варварском обращении он бы просто перестал работать и решетку не открыл.
Подвал был низкий. Вдоль стены стояли три мощных современных сейфа знаменитой фирмы «Миллер». Двухметровые в высоту, метровые в ширину, стальные, с синеватым отливом, они одним своим видом внушали некое благоговение.
Впрочем, такое впечатление они производили всего лишь несколько дней назад. Сейчас передние стенки всех трех сейфов были побиты и исцарапаны. Замковые барашки валялись на полу. Кольцову и Красильникову такая картина была уже знакома. Примерно такое издевательство над сейфами они видели в Крыму. Похоже, как и там, над ними добросовестно потрудились бандиты ломами и молотами. Трудно сказать, сколько потов сошло с них во время их горячей работы. Но ни одна дверь не поддалась, и грабители ушли ни с чем.
– Знатные сейфы, – сказал Болотов и провел рукой по изуродованной стороне одного из них.
– Могли бы динамитом, – сказал Красильников.
– Малым количеством тут ничего не сделаешь, а большим погубишь ценности. Тот, кто тут усердствовал, знал, что они не пустые. По отчетам предыдущего управляющего, здесь все же есть какие-то ценности. Немного бриллиантов, золотые монеты, иностранная валюта. Не в тех, конечно, количествах, что у нас в Париже, но все же…
Кольцов обратил внимание на два очень узких, но тоже зарешеченных окошка.
– Нет-нет, через окошки невозможно. Они вошли сюда через дверь. Сторож исчез, его до сих пор не нашли. Я так думаю, скорее всего, его бандиты убили.
– И что теперь? – спросил Кольцов.
– Не знаю. Доложил Борису Ивановичу, жду указаний. Может, он в Париже найдет хорошего мастера. Мне тут полиция привозила одного. Знаменитого. Целый день бился – ничего. Возможно, из Англии фирмача придется вызывать. Только чтобы вскрыть и извлечь ценности. Сами сейфы – на переплавку.
Они снова вернулись на второй этаж, в апартаменты.
Поднимаясь по ступеням, Кольцов подумал о Миронове. Интересно, смог бы он вскрыть эти сейфы. Целые, не изуродованные, может, и смог бы.
Ниточка памяти потянула его в Феодосию, где тоже орудовали такие же грабители сейфов – братья по лому и молоту. Сколько же их развелось во время войны – убийц, воров, грабителей, «медвежатников»! В какие только уголки света они не заползли!
Кольцов поделился с Ильей Кузьмичом своими проблемами. Их было не меньше, чем у Болотова. В конце этого разговора он сказал, что ему крайне необходимо встретиться с Яковом Слащевым, но каким способом найти его в этом многомиллионном городе, он пока не может придумать. Не обращаться же, в самом деле, к белогвардейскому руководству!
– Мне кажется, я смогу вам помочь. Во всяком случае, попытаюсь, – выслушав Кольцова, сказал Болотов.
– Каким образом? – спросил Кольцов.
– В Константинополе с недавних пор обитает мой парижский знакомый Ростислав Карлович Юренев. Он занимает здесь даже какой-то общественный пост. Он мне что-то рассказывал о генерале Слащеве. Я так понял, он с ним знаком. Я не вникал в их дела, но, надеюсь, он подскажет, где искать Слащева.
Глава восьмая
На следующий день Болотов ненадолго отлучился и принес адрес Слащева: квартал Везнеджилер, улица Де-Руни, дом 15–17.
Кольцов решил не торопиться. Надо было хорошо подготовиться к этой встрече, продумать все, что он скажет этому своему давнему знакомому. Узнает ли его Слащев? Не сдаст ли тотчас контрразведке? И еще вопрос: когда идти? Как рано он встает? Утром обычно находится много домашних дел. А днем он может куда-нибудь уйти. Но разве можно узнать распорядок дня незнакомого человека?
И они решили идти не рано и не поздно, ближе к полудню. Сразу договорились: Красильников к Слащеву не идет. Он будет находиться неподалеку от дома, на подстраховке.
У Болотова, человека исключительной четкости и предусмотрительности, нашлась привезенная им из Франции подробная карта Константинополя. Они с трудом отыскали квартал Везнеджилер и улицу Де-Руни, Она была длинная, узкая и тянулась вдоль бухты Золотой Рог.
Из дому Кольцов и Красильников вышли порознь, твердо соблюдая уговор: непрестанно держать партнера в зоне видимости. На помощь приходить лишь в самом крайнем случае.
Кольцов шел впереди, за ним на приличном расстоянии – Красильников. Когда он терял Кольцова из вида, прибавлял шаг и вскоре находил его. Повернув в очередной переулок, Кольцов ждал на углу, пока Красильников не увидит его и не даст ему об этом сигнал.
Улица Де-Руни была безлюдная. Домов почти не было видно, они скрывались в глубине дворов за высокими заборами.
Возле дома, где, согласно адресу, жил Слащев, Кольцов остановился и обернулся. Стал ждать. Увидев в конце улицы возникшего Красильникова, Кольцов постучал в калитку висящим на цепочке молоточком.
Спустя короткое время дверь калитки отворилась, и на пороге встал бородатый янычар. Это был Мустафа.
– Русский? – пристально оглядев Кольцова, спросил турок.
– Русский.
– Что угодно?
– Угодно генерала Слащева.
– Он вас приглашал?
– Не помню. Наверное, приглашал. Но это было давно.
– Как вас представить?
– Скажешь, старый знакомый.
– У него много старых знакомых.
– Я – один из немногих. Мне кажется, он будет рад меня видеть.
Калитка захлопнулась. Ожидая, Кольцов посмотрел вдаль и увидел лениво прислонившегося к забору Красильникова.
Вновь открылась калитка, и в ее проеме встал босой, в распахнутой рубахе Слащев. Он изучающе, с головы до ног, оглядел гостя и лишь после этого неприветливо сказал:
– Не имею чести… Ну, я – Слащев. Что надобно?
– Поговорить.
– Не имею времени. Извините, – и он стал закрывать калитку.
Кольцов стал лихорадочно думать, как ему напомнить о их той давней драматической встрече? Еще мгновение, он захлопнет дверь калитки, и уже больше Кольцов никогда не сумеет встретиться с ним вот так, с глазу на глаз, потому что, прежде чем встретиться с посетителем, отсеивать посетителй, судя по всему, он доверил этому злому янычару.
– Я тоже был тогда очень занят там, под Каховкой, в Корсунском Богородицком монастыре, – торопливо сказал Кольцов. – Но я нашел для вас время.
В калитке какое-то время оставалась только узкая щель. Слащев через нее долго и внимательно всматривался в Кольцова. Затем резко распахнул калитку:
– Входите!.. Черт, знакомое лицо, – озабоченно сказал он. – Вас у меня тысячи. Упомнишь ли всех!
– Смею надеяться, я не вхожу в эти тысячи.
Эти слова «зацепили» Слащева. Он смотрел на Кольцова, и его лицо как-то напряглось, сосредоточилось. Он мучительно вспоминал.
– Контузия, понимаешь. Память стала подводить, – виновато бормотал он и вдруг резко вскинулся, вскочил: – Помню! Комполка!
– Ты за жену приходил просить. Беременная жена была. Родила?
– Родила, родила! Девку! – торопливо и озабоченно говорил он, занятый уже явно какими-то своими, более важными мыслями. – Я о другом! Куда ты, парень, забрался! В самое пекло! Тебя тут же расстреляют.
– А я рисковый, – спокойно сказал Кольцов. Он уже понял: от Слащева ничего плохого ему ждать не следует. – Ты вон рискнул, и живой!
– Что мы тут, на улице, стоим! – окончательно убедившись, что это именно он, тот самый комполка, который в ту ветреную ночь спас под Корсункой их двоих. Нет, их троих!
Он схватил Кольцова за руку и повел его к своему домику. И при этом ворчливо выговаривал:
– Я тогда шел на самоубийство. У меня иного выхода не было. Жена дитя носила. А ты-то зачем сюда?
– Я – к тебе. Правда! К тебе!
– Кому я нужен, отставной генерал, подчистую уволенный, лишенный всех наград и званий?
– Я все это знаю.
– Откуда?
– Книгу твою читал «Требую суда общества и гласности». Там читал. В Москве.
– Скажи, куда долетела! – удовлетворенно сказал Слащев и тут же спросил: – Ну, и как?
– Вполне достойная книга. И честная.
– Брешешь небось.
– Не умею.
– Ладно, поверю. Ну, и зачем я вам?
Кольцов посмотрел вокруг:
– Давай в каком-нибудь тихом, уютном месте спокойно поговорим.
– Хорошая мысль! У меня вон там хорошее место. С видом на Золотой Рог, – указал Слащев на беседку в конце двора. И тут же закричал: – Пантелей! Мустафа!
Из домика вышел старый денщик.
– Ну, чего раскричались! Дитя разбудите!
– Неси сюда дитя. Он не видел Маруську! Я его в крестные отцы упрошу!
– Так уже ж хрестылы. Енерал Соболевский – хрестный батько. Забулы?
– У моей дочки будет два крестных батьки!
– Два не положено!
– Меньше разговаривай! Неси Маруську! – и тут же крикнул вышедшему во двор хозяину: – Мустафа! Чаю и что там?.. Шербет, пахлаву, курабье! Все неси! У меня дорогой гость!
– Насчет дорогого гостя не очень распространяйся, – попросил Слащева Кольцов.
– На моей территории ничего не бойся! – продолжал возбужденно распоряжаться генерал. Заметив, что Пантелей вынес самодельную колыбельку, он бросился к нему, сгреб девочку на руки, поднес к Кольцову: – Гляди, кого ты тогда спас! Мария! Маруся! Мама Руси!
Девочка, видимо, уже привыкла к таким грубым отцовским нежностям. Она не плакала и даже ничему не удивлялась. Лишь с интересом водила своими глазенками по сторонам и что-то говорила на только ей понятном языке.
На столе в беседке появились различные турецкие сладости, кувшин с крепко заваренным чаем. Марусю угостили шербетом и унесли в дом. Мустафа спросил, не нужно ли еще что, и тоже удалился. Они остались одни. Разлив чай по стаканам, Слащев сказал:
– Если имеешь что сказать, говори. И не бойся, тут нас никто не услышит.
– Ты ведь уже понял, я не из робкого десятка. Вопрос такой! Домой, в Россию, хочешь?
– Мимо! – коротко сказал Слащев.
– Не понял.
– Есть вопросы, на которые я не хочу и не буду отвечать. Этот – один из них.
– Война кончилась. ВЦИК объявил амнистию.
– Я хорошо помню, что ты для меня сделал. И хотел бы тебе поверить. Но не будем друг друга обманывать: она на меня не распространяется.
– Она распространяется на всех.
– Я – «кровавый генерал». Сам читал в ваших листовках.
– Война кончилась. Если вернешься с добрыми намерениями, эта амнистия распространяется также и на тебя.
– Война не кончилась, и такое не забывается, а значит, и не прощается.
– Я говорил о тебе с Дзержинским. Я тебе гарантирую, ты можешь мне не верить. Но тебе гарантирует прощение Дзержинский.
– Это – слова. Не всем словам можно верить.
– Что тебе нужно? Письмо Дзержинского?
– Над ним есть Троцкий.
– Я полагаю, на эту тему Дзержинский говорил с Троцким.
– Троцкому я много перца за штаны насыпал. Не простит.
– Я не рискнул бы отправиться к тебе, если бы не был уверен, что тебе нечего бояться.
– Я знаю, что ты веришь им, иначе не отправился бы ко мне. Но, по-моему, это мышеловка. Троцкий – человек мстительный. Он не забывает обиду, – и после долгого молчания Слащев спросил: – Ну, скажи, зачем я им? Я понимаю, им Врангель нужен. Почему они не послали тебя к нему?
– Потому, что он мне не поверит, и потому, что у него есть какой-то уголок на земле, кроме России.
– Думаешь, у меня нет?
– Нисколько не сомневаюсь, что нет. Иначе ты не сидел бы здесь.
– Логично, – согласился Слащев. – Давай начистоту! У меня семья: жена, дочь. Ну, вернусь я в Россию. И что? Я всю жизнь воевал. Но в вашу рабоче-крестьянскую меня не возьмут. Ничего другого я не умею. Скажи, каким способом я смогу заработать у вас там семье на кусок хлеба?
– Не пропадешь ни ты, ни твоя семья.
– Это опять же слова. А я гордый. Я далеко не на каждую работу пойду. У меня неуживчивый характер. Меня нельзя унижать. Униженный, я делаю много глупостей. Порой непростительных.
– Не исповедуйся! Я не священник, – улыбнулся Кольцов. – Я сказал то, во что верю. А тебе решать.
Вроде бы исчерпан разговор. Но уходить не хотелось, и он понял почему: к ним ни разу не вышла жена. А ведь он спас тогда и ее. Почему она не вышла? Почему Слащев ее ни разу не окликнул, не позвал?
– Нескромный вопрос, – сказал он Слащеву. – Я ухожу, но так и не поздоровался с твоей женой.
– А мы поменялись с нею ролями. Я ухаживаю за Маруськой, а она работает гувернанткой у одного богатенького жулика. Пока я воевал, он наживал на нашей крови капиталы. Такая вот метаморфоза! – и после длинной паузы он куражливо добавил: – А что! Вполне могу ухаживать за детьми. Мне это даже нравится. Буду работать у вас там нянькой в каком-нибудь детском инкубаторе. У вас, говорят, будет теперь все общее: жены, дети.
– Ты начитался много глупостей. Выбрось их из головы.
– Подумаю.
Кольцов решительно встал. Продолжать разговор дальше не имело смысла. Зерно вброшено. Предложение вернуться в Россию Слащев никогда и ни от кого не получал и, соответственно, не рассматривал. Ждать сейчас от него большего, чем он уже сказал, не следовало. Спустя несколько дней он наведается к нему еще раз, чтобы узнать, какие новые мысли родились в его голове. И тогда примет какое-то решение
– Уходишь? – спросил Слащев.
– Если пригласишь, еще зайду.
Он проводил Кольцова к калитке. Шли медленно.
– Да, бывает ведь такое, – с некоторым удивлением задумчиво сказал Слащев.
– Ты о чем?
– О тебе, о себе. Скажи мне кто, что мы с тобой еще встретимся… Такое и во сне не приснится. А может, это и правда сон?
– Один человек мне как-то сказал: в жизни такое бывает, чего не может быть, – вспомнил Кольцов слова Деремешко. – Ну, будь здоров!
И, уже на улице, когда Кольцов отошел от калитки, Слащев окликнул его:
– Слушай, комполка!
– У меня есть имя – Павел Андреевич. Фамилия не обязательна. И комполка я тогда был по несчастью: друга убило.
– Догадываюсь, ты по другому ведомству. Хоть скажи мне, где тебя искать, если в моей дурной голове вдруг возникнет мысль еще раз повидать тебя?
– Не нужно искать. Если ничего не случится, я еще зайду к тебе, – пообещал Кольцов.
– А если случится?
– Тоже узнаешь.
– Ничего не случится. Зайди обязательно.
Кольцов еще издали увидел сидящего в конце улицы под чьим-то забором Красильникова. Тот встал, давая знать, что увидел, и неторопливо пошел обратно. Теперь, по их уговору, Кольцову надо было обогнать Красильникова и уйти вперед.
Он оглянулся. Слащев все еще стоял у калитки.
Уже перевалило за полдень. Стало оживленнее. Даже по этой тихой улице шли одинокие прохожие.
Кольцов шел неторопливо, анализировал встречу. Что это? Неудача? Провал? Но тогда что бы могли означать эти его последние слова «Зайди обязательно»? Видимо, эта встреча как-то его «зацепила», что-то всколыхнула в душе.
Идя по улице Де-Руни, Кольцов снова и снова перебирал в памяти этот только что состоявшийся разговор, реакцию на те или иные слова Слащева. Он был настолько углублен в этот анализ, что совсем не заметил человека, который шел ему навстречу. Они поравнялись. Незнакомец вдруг резко отвернул голову, словно чего-то испугался, и какое-то время шел так, словно боялся, что его узнают. Но, занятый своими размышлениями, Кольцов ничего этого не заметил.
И, когда они поравнялись с Красильниковым, тот встревоженно спросил:
– Паша, ты ничего не заметил?
– А что?
– Мужика, шел тебе навстречу.
– Ну и что?
– Шут его знает. Или я уже сильно напуган. Мне показалось, что я его уже где-то видел. И даже недавно. И никак не могу вспомнить, – и с сомнением Красильников добавил: – Может, и правда: примерещилось?
– Бывает такое. Может быть, просто похожий на кого-то из знакомых?
– Нет, тут другое! Мне даже показалось, что я его знаю. Откуда, как? Но точно: знаю!
Они разом повернули головы. Но улица была пустынна – нигде ни души.
– Ну, и где он? – скептически спросил Кольцов.
– Может, в переулок свернул или в дом зашел?
– Может, и так, – согласился Красильников.
Если бы Кольцов не был углублен в свои размышления, он наверняка бы узнал этого человека. И, возможно, все дальнейшие события развернулись бы совсем по-другому.
Но случилось то, что случилось. Эта встреча была неизбежна уже хотя бы потому, что этот человек часто посещал Слащева. И сейчас он тоже шел к нему.
Это был Жихарев.
Жихарев шел к Слащеву без определенного дела. Просто у него это вошло в привычку: с тех пор как он поселил Слащева у Мустафы, он время от времени стал наведываться к нему. Ему льстило общение с прославленным генералом и всячески пытался ему понравиться, предполагая, что такая дружба в будущем не будет ему лишней. Случись какая беда, глядишь, генерал своим авторитетом прикроет его, придет на помощь.
Появлялся он у Слащева не слишком часто и лишь тогда, когда его жена Нина Николаевна находилась на работе. Своими разговорами он старался не обременять генерала, понимая разницу не только в образовании, но и в их общественном положении. Большей частью он просто помогал ему и его денщику Пантелею в хлопотных хозяйственных делах. Пока Пантелей занимался с дочкой, Жихарев не отказывался иногда сходить на базар, забрать из прачечной постиранное белье или вместе с генералом скоротать какое-то время за беседой. Слащева интересовали последние слухи, и он охотно их выслушивал. Их каждый день рождалось множество, и какие-то иногда сбывались. Поэтому слухи не девальвировались, не теряли свою цену, и к ним относились так же серьезно, как и к газетным новостям.
Слухи о том, что Русскую армию собираются переселить куда-то на Балканы, будоражили всех русских не однажды. Но если прежде они возникали как некий мираж, который вскоре рассеивался, то на этот раз Жихарев нес Слащеву газету на русском языке, в которой среди прочего находилась перепечатка статьи известного военного журналиста Колена о Проливах, первоначально опубликованная в «Таймсе». Работая в Лиге Наций, он не прерывал и своего сотрудничества в английской прессе. В статье Колен прямо говорил: события развиваются так, что чуть раньше или чуть позже Мустафа Кемаль приберет к рукам всю Турцию, в том числе и ее Проливы. Пребывание там Русской армии грозит серьезными неприятностями. Озлобленные на союзников русские военные обязательно ввяжутся в возникший конфликт, который может перерасти в серьезное сражение, а то и в войну. И французы, которые разместили Русскую армию в зоне Проливов, не могут не понимать своей ответственности за возможные последствия.
В Постскриптуме российский политический обозреватель Николай Пальчиков сообщил, что французы, видимо, озаботились назревающими событиями и собираются предложить Врангелю покинуть Турцию и переселиться в Болгарию и Сербию. Чтобы он легче перенес эту новость и подстегнуть Врангеля, французы наполовину урезали ежедневный продовольственный паек Русской армии, который был обусловлен франко-русским договором, и до настоящего времени русские солдаты получали его в полном объеме.
И если бы не эта неожиданная встреча с советским чекистом Кольцовым, в чем Жихарев нисколько не сомневался, все произошло бы так, как происходило прежде. Но Жихарев успел хорошо его рассмотреть, и его вдруг обожгла жестокая обида, какую нанес ему Кольцов еще там, в Феодосии. «Зачищая» сейфы покинутых богатых крымских особняков, Жихарев в одночасье разбогател, Но после встречи с Кольцовым ему пришлось, спасаясь от расстрела, бросить все награбленное и без гроша в кармане бежать в Турцию.
И вот он, этот большевистский чекистский комиссар, шел по улице – живой, здоровый, невредимый. И, судя по одежде, вполне успешный. К счастью, чекист не узнал его, точнее, не заметил, поскольку шел, опустив глаза в землю. И значит, он – почти в его руках. Нужно только хорошо продумать, как лучшим образом это исполнить. Можно просто убить его. Ну и что? Просто смерть. Он даже ничего не почувствует, не осознает, что это месть. Нет, надо придумать что-то другое. В феодосийской тюрьме комиссар всласть поиграл с ним, как кошка с мышкой. Чудом удалось спастись. Тогда он был мышкой. Теперь ему захотелось быть кошкой и от души насладиться этой увлекательной игрой, которая называется смерть.
Потом он вспомнил о десяти тысячах долларов, обещанных ему за живого или мертвого комиссара. Эти десять тысяч ему обещал адъютант Врангеля Уваров за Кольцова. Десять тысяч. Состояние! Если тратить их с умом, можно обеспечить себя на годы безбедной жизни. Уваров здесь, в Константинополе, и это – удача. Надо только встретиться с ним и поторговаться. Если он не накинет ему пару лишних тысяч, можно дорого продать комиссара самому Врангелю. Тот знает, как по-хозяйски комиссаром распорядиться.
Все эти мысли промелькнули в голове Жихарева почти мгновенно, пока он глядел вслед уходящему Кольцову.
«Вряд ли комиссар приехал в Турцию легально. Остается только проследить, куда он пойдет дальше. Лучше, конечно, узнать, где, в каком отеле он остановился, выяснить его маршруты по городу – словом, узнать о нем все, что только возможно», – подумал Жихарев.
Он подождал, пока комиссар уйдет как можно дальше, и, хоронясь за заборами, за углами домов, последовал за ним. Он знал, комиссар был тертый калач: он время от времени оглядывался, и Жихареву стоило большого труда не обнаружить себя.
По пути Жихарев едва не потерял Кольцова из виду. Увидев людской поток, комиссар нырнул в эту толпу, и она внесла его в многоголосый и сутолочный городской базар.
Жихарев поначалу тоже, проталкиваясь за Кольцовым, бросился в базарную толпу, но тут же потерял его из вида. Отыскать в этой сутолоке он пока его еще мог, но понял, что тем самым обратит на себя внимание. Рассчитывать на то, что комиссар его не узнает, не стоило. Жихарев был пока хозяином положения, и терять это преимущество он не хотел.
У базара было четверо ворот. Через какие из них выйдет в город комиссар, Жихарев не знал. Он надеялся только на то, что он плохо ориентируется в незнакомом городе и обязательно выйдет через те же ворота, в которые вошел. И уже когда он окончательно понял, что потерял комиссара и хотел уходить, тот снова возник в толпе. Причем базарная толпа вынесла его через те самые ворота и вытолкнула едва ли не в объятия Жихарева. Тот чудом успел увернуться.
Но теперь, хоть и мельком, Кольцов тоже сумел хорошо его рассмотреть. Сомнений больше не было, Красильников был прав: это был сумевший бежать от них из Феодосии не без помощи чекиста Зотова бандит Жихарев. То, чего так опасался Кольцов, случилось. Теперь надо было хорошо продумать, как поступить дальше.
Прежде всего надо как-то предупредить Красильникова и сообща подумать, что предпринять в этой ситуации. Конечно, самое мудрое было бы исчезнуть из Константинополя. Исчезнуть, не выполнив то самое главное дело, ради которого они сюда проникли. Так хорошо задуманная и не без успеха начавшаяся операция была на грани провала. Но нет, не надо торопиться. Возможно, еще можно что-то придумать.
Прежде всего надо покинуть банк и поселиться в небольшой гостинице. И при этом стараться как можно меньше светиться в городе. «Залечь на дно». Постепенно что-то должно проясниться.
И он тут же решил: не идти сейчас в банк, чтобы не привести туда Жихарева. И предупредить об этом же Красильникова.
Он огляделся по сторонам, но Красильникова нигде не увидел. Видимо, в той базарной сутолоке он его потерял.
Несколько часов он ходил по узким улочкам города, иногда выходил на широкие главные и смешивался с толпой, внезапно возвращался на одну из тех улочек, по которым уже ходил. Время от времени он часто незаметно оглядывался, но ни разу ничего подозрительного не заметил. И, лишь сильно устав, он отправился в банк.
Возле ресторана «Уголок» Кольцов еще раз остановился и, прежде чем свернуть в переулок к банку, снова внимательно огляделся по сторонам. Красильникова нигде не было видно, Жихарева тоже. Предвечерняя улица была на редкость пустынна. Женщина с коляской и грузчики, заносящие в «Пера-Палас» мебель, в счет не шли. А Жихарев, который сумел проделать вслед за Кольцовым утомительную прогулку по городу, сумел своевременно нырнуть под арку.
У Жихарева перед Кольцовым было одно немаловажное преимущество: он хорошо знал город. Но и ему эта прогулка стоила немалых нервов. Когда он снова выглянул из-под арки, Кольцова нигде не было. Куда он делся? Зашел в «Уголок»? Или свернул в переулок?
Жихарев пробежал до угла и все же успел увидеть комиссара, который поднялся на крыльцо банка и тут же скрылся за дверью.
Жихарев знал этот банк. Это он здесь совсем недавно потерпел сокрушительную неудачу. Их было трое. Они тщательно подготовились, ликвидировали сторожа, овладели входными ключами. Им заранее было известно, что банк не работает, а управляющий куда-то уехал. Казалось, удача сама плывет им в руки. Они проникли в банк. Трудились почти всю ночь. Под конец, отчаявшись, применили универсальные инструменты – ломы и молот. Но искалеченные сейфы так им и не поддались.
Да, это был тот самый банк. Жихарев стоял за углом и ждал, когда оттуда снова выйдет комиссар. Надо было узнать, куда он отправится еще и где он остановился.
Но комиссар не выходил. Похоже, он здесь жил.
Жихарев не оставлял надежды вскоре все же поквитаться с этим банком и его упрямыми сейфами. Но теперь у него возникла и вторая причина: заодно поквитаться также с комиссаром, пока он никуда не исчез. Надо было торопиться, но и хорошо подготовиться, чтобы удача на этот раз не отвернулась от него.
Лишь под вечер Жихарев отправился к Слащеву. Его руки жгла газета с новостями о намерениях французов удалить Русскую армию из Турции. Интересно, что скажет по этому поводу Слащев, которому так же больше некуда деваться, как и ему.
Жихарев сразу заметил, что Слащев был чем-то озабочен. Всегда энергичный, быстрый в движениях, в этот раз он был вял и задумчив.
«Ни к нему ли приходил большевистский комиссар? – подумал он, но тут же отбросил эту мысль как нелепую. – С меньшим риском он мог прийти к Врангелю. Слащев люто ненавидел большевиков, как и большевики его. И если бы комиссар посетил Слащева, то он вряд ли ушел от него своими ногами».
Но на всякий случай Жихарев спросил:
– У вас плохое настроение. Вам кто-то его испортил?
– Почему ты так решил?
– Я вас хорошо изучил. Вы сегодня какой-то другой. К вам никто не приходил?
«Бестия, выследил», – про себя отметил Слащев проницательность гостя и спокойно ответил:
– Нет, никто. Во всяком случае, Мустафа мне ничего не говорил. А что?
– Я видел на вашей улице большевистского чекиста. Не вас ли он выслеживает?
– Кому я нужен, Жихарев? Война кончилась, а генералы представляют какой-то интерес только в войну. По-моему, тебе он просто примерещился.
– Нет-нет. Я узнал его.
– Ну, и что ты собираешься делать?
– Не знаю, – и затем решительно сказал: – Продам.
– Ну и ну! Высоко прыгнуть хочешь.
– А чего? Знаю людей, хорошие деньги за него дадут, – едва не шепотом, с каким-то придыханием сказал Жихарев, – Не зря же чекист тут. Наверно, что-то замышляет. Ну, а не получится с ним, другое дело проверну. Может, миллионный куш сорву. И мне, и вам до смерти денег хватит.
– Фантазер ты, однако, – скептически ухмыльнулся Слащев.
– Я все свои фантазии за войну растерял. Теперь свои фантазии, как золото, на зубок проверяю, – обронил Жихарев и испугался, что слишком уж разоткровенничался. И торопливо закончил: – Не хочу в нищете жить.
– Не лез бы ты в эти дела, Жихарев. Только хлопот на свою задницу накличешь, – сказал Слащев. При этом подумал, что и в самом деле Жихарев может заварить кашу, которая сейчас не в его интересах. Он размышлял над предложением Кольцова и пока не принял никакого решения. Но даже если он и откажется от возвращения в Советскую Россию, по совести, не имел права позволить погубить человека, которому обязан своей жизнью. Надо будет предупредить Кольцова, ну и как-то, хоть на время, остановить рвение этого не очень знакомого ему человека. После долгого молчания Слащев добавил: – Ты вот что! Ты, прежде чем что-то предпринимать, посоветуйся. Хотя бы и со мной. Не торопись. Не наломай дров.
– Честно скажу, это я и хотел вас просить, – просиял Жихарев и опять подумал, а не рассказать ли все подробностях Слащеву: и о том давнем их знакомстве с комиссаром, об адъютанте Врангеля Уварове, и о десяти тысячах долларов, а может, и о русском банке. Но у Слащева могут возникнуть свои идеи. И кончится это тем, что генерал сделает так, как ему захочется, и он, Жихарев, окажется в этой истории совершенно ни при чем. И он сам себе еще раз сказал: стоп. Он не настолько знает генерала, чтобы полностью ему доверяться. И все же добавил: – Фантазии не фантазии, а в случае удачи и вас не забуду. Долю принесу. Из уважения.
– Ты что же, меня в подельники приглашаешь? – нахмурился Слащев.
– Нет! Зачем же? Я все сам. А только вижу: тоже живете в нищете, а генерал.
– Не гожусь я в подельники, Жихарев. Не та у меня совесть. Не для таких дел, – сказал Слащев, а сам подумал: «Как же я раньше тебя не разглядел, подлеца эдакого? Выгнать бы взашей, да теперь, пожалуй, нельзя. Теперь надо как-то выбираться из этой грязи и Кольцова вытаскивать». И продолжил: – А насчет моего настроения ты правильно заметил: Маруська кашляет.
Затем они вместе прочли газетную статью о намерениях французов изгнать Русскую армию с пределов Турции.
– Ну, и что вы думаете по этому поводу? – спросил Жихарев.
– Ничего, – сухо ответил Слащев. – Меня это не касается.
– Ну, как же! Вы – русский генерал, который…
– Ты, кажется, забыл, – перебил его Слащев. – Ты забыл, что я уже давно не генерал. Я – беженец. Меня оставят здесь, как старые, изношенные сапоги. Меня нет. Меня вычеркнули.
– Но вы же не останетесь здесь, если они уйдут.
– Какое я теперь имею к ним отношение? Я сам по себе, они – тоже.
– Ну, и здесь оставаться…
– Ну, почему же? Неужели не слыхал? Мне Земский союз индюшиную ферму подарил. Стану фермером, – он поднял глаза на Жихарева, ухмыльнулся. – Нинка – бухгалтером, Маруська – пастухом. Буду индюшиными яйцами торговать! Озолочусь. А что!
И смолк, лишь нервно барабанил пальцами по столу. Снова подумал о Кольцове. Когда-то он появится? Поискать бы его, да как? Сказал: сам приду. Прийти не побоялся, а где его искать, не сказал. «Конспиратор».
Время от времени Слащев то уходил в себя и отсутствующим взглядом смотрел на Жихарева, а то вдруг вспоминал о нем и, пристально глядя ему в глаза, говорил какие-то глупости.
– Говорят, выгодное дело.
– Какое? – не понял Жихарев.
– Ну, эти… индюшки или как их там?.. Индейки? А мужья у них кто? Индейцы?
Но Жихарев чувствовал, что Слащев думает в это самое время о чем-то совсем другом. Разговор не получался.
Еще немного посидев у Слащева, Жихарев ушел.
На заходе солнца домой вернулась Нина. Прошла в дом, переоделась. И снова вышла. Уселась за столом напротив Слащева.
– Какие новости? – спросил он у Нины.
– Никаких. Все как всегда.
Слащев протянул ей газету:
– Прочти. Английская пресса про нас пишет.
Она быстро просмотрела статью.
– Тоже мне новость, – бросила она на стол газету. – Об этом уже с полгода говорят.
– А если и в самом деле нас отсюда попросят?
– Когда-то это обязательно случится. Зачем преждевременно впадать в панику?
– Ты, похоже, даже радуешься этому?
– Я – реалистка. Когда это случится, тогда и подумаем, что делать, куда ехать?
– Ну, и куда мы поедем? К кому? Кто и где нас ждет? Впрочем, кажется, у тебя где-то там, в Испании, есть родня?
– В Италии, – спокойно поправила она.
– Не имеет значения. Все же родня!
– Мы слишком бедны, чтобы ехать к ним.
– Хорошо. Согласен. Останемся здесь, у турков. Будем торговать индюшатиной. Маруська вырастет и выйдет замуж за богатого толстого турка, – начинал распалять себя Слащев.
– Ее дело. За кого захочет, за того и выйдет. Я у родителей не спрашивала благословения. Не обижусь, если и она у меня не спросит.
– Без приданого ее в хороший гарем не возьмут. Ты бы хоть на эту нашу ферму съездила. Посмотрела бы, что там делается.
– Что там делается? Индюшки пасутся.
– Вот и посмотрела бы. Хозяйка все же!
– Мне эта твоя ферма не по душе, Яша! Мне бы конеферму! Сутками бы там пропадала!
– Не обещаю. Разве что когда богатый турок у нас с тобой зятем будет, мы с него калым – лошадками.
Нина укоризненно посмотрела на Слащева, спросила:
– Ты чего сегодня такой взъерошенный?
– Маруська кашляет.
– Неправда! Что случилось?
– Размышляю, – он накрыл своей большой ладонью ее руку, виновато произнес: – Испортил тебе жизнь. У тебя все по-другому могло сложиться.
– К чему эти разговоры, Яша! – с тихим упреком сказала она. – Я сама себе такую жизнь выбрала. И довольна. Так что не казни себя, ты ни в чем не виноват.
– Ты великодушна! Еще спасибо скажи мне, что гувернанткой работаешь! Скажи, что стремилась к этому! Что безработного мужа мечтала кормить!
– Ну и что! Так сложилось! Кстати, не по твоей вине! Что сейчас об этом говорить!
– А почему бы и не сейчас? Еще кусок жизни остался. Мы ведь, по сути, не жили. То дождь, то жара. То в палатках, то под звездами. То бои, то госпитали. И так – сколько лет! Все думали: ничего, ничего, вся жизнь впереди. А она как свечка – уже только тлеющий огарок остался. Все! – он поднял на нее голову и внезапно деловито спросил: – А где они там, в Италии?
– Зачем тебе? – насторожилась Нина
– Из интереса.
– Кажется, в Анконе.
– Кажется или точно? – настойчиво допытывался Слащев.
– Ну, в Анконе.
– Я о чем думаю. Может, уедем туда? А, Нина?
– Надо у них спросить, примут ли?
– А не надо спрашивать. Нам всего лишь кусочек теплого неба. Адриатика, там всегда тепло.
– Нищих никто не любит, Яша. Даже родственники.
– А мне не надо, чтоб меня любили. Мне надо за что-то зацепиться. Мне бы три дня! Всего три дня! И я бы эту твою Анкону со всеми твоими родственниками вверх задницами поставил! Сами принесли бы и еще уговаривали, чтоб взяли! – с гневом в чей-то адрес произнес Слащев.
– Что с тобой, Яша? Я никогда не видела тебя таким.
– Каким?
– Не пойму.
– Я сам себя не пойму, дорогой мой «юнкер Нечволодов». Понимаешь, мне очень не хочется, чтобы моя Маруська вышла замуж за турецкого султана.
– Это ей не грозит, – улыбнулась Нина.
– Ты меня почти успокоила. Она будет пасти этих наших… индейцев…
– Индюшек!
– …и выйдет замуж за такого же нищего, как и мы с тобой. И до глубокой старости мы будем наслаждаться пением муэдзинов, – и, помолчав, добавил: – Грустная история.
Красильников пришел в банк в сумерках. Болотов уже начинал волноваться: его сразу по приезде предупреждали, что Константинополь – город неспокойный и по вечерам по нему лучше не гулять. К тому же эта попытка ограбления банка. Кольцов тоже сердился на него за опоздание.
Увидев мрачного Кольцова, Красильников стал сварливо оправдываться:
– Не ставь меня к стенке, начальник! Заблудился! – и, перейдя на нормальный тон, добавил: – Понимаешь, мне показалось, что тот мужик за нами увязался.
– Какой еще мужик?
– Ну, тот феодосийский бандит. Тот тоже как-то чудно ходил, с подскокцем… Жмухарев, Жмыхарев…
– Жихарев, – напомнил Кольцов. – Я его, хоть и мельком, но вроде тоже хорошо разглядел. Уцелел, гад?
– Не сомневайся, Паша, это он. Ты идешь, гляжу, он за тобой. С той еще улицы, куда ты на встречу ходил.
– Де-Руни.
– Ну да. Я – за угол, пропустил его. Думаю, дай другой улицей на него выйду, разгляжу. Кругом заборы. Назад вернулся, ни тебя, ни его. Побегал по переулкам – нет. И куда идти, не знаю. Пошел наугад, опять вышел к Золотому Рогу. А спросить боюсь, чтоб не накликать подозрение. Случайно вышел… как она? На рю де-Пера. Тогда уж вспомнил, как наш банк найти.
– Ну, и хорошо, что погулял, – выслушав покаянную исповедь Красильникова, сказал Кольцов. – Город немного изучил. Это нам сейчас может очень даже пригодиться.
– Не, я для города не очень гожусь, – вздохнул Красильников. – Я в ауле вырос.
– Помню: Донузлав.
– У нас там две улицы, четыре переулка. И мечеть отовсюду видать.
– Вообще-то ты прав, Семен, – согласился с Красильниковым Кольцов. – Глупое это дело – друг за другом ходить. Предложил для перестраховки. Видимо, в юности слишком много Пинкертона с Ником Картером начитался. Отменяю. С завтрашнего дня новую жизнь начнем, – и решительно добавил: – Иди, устраивайся. Эту ночь еще здесь проведем, а завтра надо куда-то на окраины перебираться.
– Вот так сразу? – неохотно спросил Красильников.
– А чего ждать? Когда нас этот бандит Врангелю сдаст?
И уже когда улеглись в отведенной им Болотовым комнате, Красильников продолжил начатый разговор:
– А может, рыбья холера, на время нам ретироваться в Новую Некрасовку? Пересидим какое-то время.
Кольцов долго молчал, затем задумчиво ответил:
– Конечно, это было бы лучше: исчезнуть на какое-то время. Но только нет у нас с тобой никакого времени. Мы оказались здесь в самый подходящий момент: Слащев в аккурат сейчас стоит на раздорожье. Если армия покинет Турцию, что ему здесь делать? В эти самые дни он примет какое-то решение. Если нас здесь не будет, он, конечно, тоже куда-то уедет. Но почти наверняка не в Советскую Россию. А он сейчас – именно, сейчас – очень там нужен. С ним мы положим на лопатки весь врангелевский агитпроп.
– И что ты предлагаешь? – спросил Красильников.
– Предлагаю быть осторожными и продолжать работу со Слащевым. Но также не спускать глаз с Жихарева. Не думаю, что он так легко свою добычу бросит. Ты же понимаешь, какой капитал он может себе наварить за нашу поимку? Поэтому будет сейчас денно и нощно землю носом рыть.
Часть шестая
Глава первая
После двух рейсов «Решид-Паши» поток желающих вернуться домой, в Советскую Россию, почти прекратился. Врангель был доволен: его агитпроп успешно справился с поставленной задачей. Листовки о зверствах большевиков в Крыму и размноженные письма вернувшихся домой с описанием жестокого с ними обращения советских властей возымели свое действие. Третье отплытие «Решид-Паши» из Константинополя в Россию по инициативе Лиги Наций, которое намечалось вскоре, состоялось недели через три и увезло в Россию меньше полутора тысяч репатриантов и беженцев. К четвертому рейсу на набережной собралось всего человек пятьдесят, и штабной подполковник Кузьмин, посланный наблюдать за происходящим, глумливо предложил беженцам и солдатам вернуться в места их пребывания, доложиться начальству и покаяться.
Докатившиеся до Врангеля вести о Кронштадтском восстании, а потом и о выступлении на Тамбовщине и в некоторых других губерниях подогрели его надежды. Он воспрял духом, подумал: «Хороший знак. Надо немного подождать, пусть огонь борьбы с большевиками охватит всю Россию…»
Но восстания и мятежи были довольно быстро подавлены. И тогда он решил, что выступить следует осенью, сейчас же продолжать готовиться к походу. За это время большевики наделают много новых ошибок, окончательно восстановят против себя население. И когда осенью он вновь ступит на родную землю, мятежи охватят уже всю страну, и ему, Врангелю, останется только возглавить эту пылающую гневом стихию.
Так летом с турецких берегов виделось Врангелю ближайшее будущее.
Впрочем, слухи о брожениях и недовольстве в армии иногда до него доносились. Но он либо не обращал на них внимания, либо оправдывал это тем, что солдаты просто устали ждать. И время от времени он переназначал время начала похода на Россию: сперва – на лето, а потом уже – и на осень.
Он несколько раз побывал в Галлиполи, и под бодрый, но будоражащий память марш «Прощание Славянки» принимал парады. И каждый раз был доволен состоянием и боеспособностью корпуса, которым командовал Кутепов.
И вдруг словно гром среди ясного неба до Врангеля докатился слух о серьезных брожениях в воинских подразделениях кубанских, донских и терских казаков, частично размещенных на отшибе, на дальнем острове Лемнос. Связь с ними была нерегулярной и редкой. Недовольство казаков поддержал кубанский атаман Вячеслав Науменко.
У Врангеля с Науменко были довольно сложные отношения. Своенравный и грубоватый атаман не всегда ладил с командующим и зачастую поступал вопреки его советам и даже приказам. Уже после Крыма, когда встал вопрос объединения всех казаков под единым командованием, на Лемносе собрался Казачий Круг. Врангель предложил на должность атамана генерал-лейтенанта Фостикова. Науменко не поддержал тогда Врангеля, но Фостикова все же выбрали. Однако прошло совсем немного времени, и Науменко, втайне от Врангеля, собрал новый Казачий Круг и отстранил Фостикова.
Но все это – следствие предыдущих встреч Науменко с Врангелем. После неудачной высадки Улагаем десанта на Кубани Врангель сказал Науменко: «Не умеете, не брались бы. Должны же вы наконец понять, что сами ничего не можете. В следующий раз подбросим вам в помощь не казаков, у них поучитесь». Это было унизительное оскорбление, которое Науменко не мог Врангелю простить.
В эти дни из кратковременной поездки в Сербию, где частично расквартирована Кубанская дивизия, вернулся начальник штаба Шатилов. Там он встретился с Науменко, который показал ему письмо, присланное с острова Лемнос. Запечатав его, он попросил передать его Врангелю.
Письмо было в плотном конверте, на котором беглым почерком Науменко написал: «Генералу Врангелю, лично. От генерала Науменко».
Врангель повертел в руках конверт, прочитал надпись, не громко, но брюзгливо, скорее сам себе, сказал:
– Вровень хочет быть.
Шатилов промолчал.
Врангель вскрыл конверт, отложил приписку, сделанную рукой Науменко, и стал читать пространное письмо:
«Атаману войска Кубанского генералу Вячеславу Григоровичу Науменко. Батько наш, пишуть тебе твои верныи сыны, з которыми ты пройшов через огонь, воду и медни трубы, а теперь мы перебиыаемось у чорта на куличках на острови Лемнос, шо в Эгейсом мори. Вы бывали у нас, знаете, шо это не остров, а тюрьма. Зимой замерзаем, а з весны од жарюки пропадаем. Розместылы нас французы по-дурному: з одной стороны заливу – кубанци, а з другой – донци. И друг дружку не бачимо, бо пеши йты – восемнадцать верст. Не находишься. И кругом одни каменюки. Живем и тужим, хлеба в обмаль, воды тоже не хватае. Дров немае, в холода в палатках не нагреешся. Ще й витры палатки сдувають. Пообносылысь, ходим, як старци, холодни, голодни и невмыти. И не бачимо конця нашим страданиям.
Дорогий наш батько, вызволяй нас з цього проклятого острова, бо жить тут нельзя. Свирид Гуща, Блызнюк, Ганжа, браты Хвесенкы, яких вы зналы, бо пройшлы з вамы все военни путя-дорогы, померлы. А поховать-замучишься, бо кругом одне каминня. По два-три дни одну могиля выдовбуем. Так и живем. Якшо не вызволыте нас, скоро все повымремо.
З цым остаемся, вирни вам козакы-кубанци, з надеждою, шо вызволыте. А не получиця, так лучше в тюрьму, чи даже до большевыкив. Такого аду и воны нам не змогуть сотворыть».
И дальше шли три страницы подписей.
Врангель отложил письмо, взглянул на Шатилова.
– Читал?
– Мне его Науменко показывал.
– Но ты же был на Лемносе?
– Не райское место, конечно. Но люди же там живут. И не голодают, и не уезжают. Два городка там, с десяток деревень.
– А для чего он мне это письмо прислал? – спросил Врангель. – Понимаю, устали. Но еще масяц-два, и тронемся в поход.
– Не верят.
– Кто? Казаки?
– И казаки, и Науменко.
Врангель потянулся к приложенной к письму записке самого Науменко. Прочитал вслух:
– «Ваше превосходительство, Петр Николаевич. Письмо отчаянное, и я, как атаман войска Кубанского считаю, что обязан шось предпринять, бо все они дезертирують и уедуть до большевиков. Военные лагеря тають. Солдаты и офицеры увольняются из армии, переходят в беженци. А други и вовсе отправляются в села, нанимаются в работники, только бы якось прокормиться и выжить. Надеюсь, не будете возражать, если я пожелавших кубанцев перемещу в Сербию, где они окажутся в лучших условиях и благожелательной обстановке в окружении местного населения. Генерал Науменко», – после чего Врангель с долей сарказма отметил: – А подпись-то, подпись какая! Вензель, а не подпись. Уважает себя! – и, взглянув на Шатилова, спросил: – Что скажешь, начальник штаба?
– Вы правы. Люди, конечно, устали ждать. И французы потихоньку притесняют, сеют всякие слухи. Время от времени урезают продовольствие, часто и густо забывают его доставить: ссылаются на погоду, на отсутствие свободного транспорта. Повсюду жалуются, что им дорого обходится содержание нашей армии.
– Общипали Россию как курицу. Пусть помалкивают.
– Так ведь не молчат. Раньше – шепотом, теперь – все чаще в полный голос, – поддержал возмущение Врангеля Шатилов и, после коротких раздумий, добавил: – Я вот о чем подумал: не стоит ли нам кого-то послать в Париж? Прояснить обстановку.
– Ты прав. Они становятся все агрессивнее. Не может быть дыма без огня, – согласился Врангель и тут же предложил: – Котляревского. Он выздоровел. С его связями и с дипломатическим талантом без новостей не вернется.
– Я тоже вчера его видел. Хромает. Жаловался на поясницу.
– Дорогой Павел Николаевич! Молодость наша уже за кормой. С ярмарки едем. Вот и у меня тоже иногда поясница болит и сердце пошаливает, – пожаловался Врангель и торопливо предложил: – Уварова дадим ему в сопровождающие. Прошлый раз он не без пользы съездил. К тому же у него там, кажется, невеста?
– Согласен. Кстати, сейчас в Париже Науменко. Посоветуйте Котляревскому встретиться с ним. Пусть не бунтует. Негоже сейчас расшатывать армейскую дисциплину. Не на пользу общему делу.
– Он упрямый. К тому же обижен на меня, – покачал головой Врангель. – Как-то однажды я сказал ему что-то нелестное о казаках, до сих пор не может забыть. Даже по тону его записки я это чувствую.
– Он разумный человек. Поймет, – сказал Шатилов.
– Ну, а не поймет? Ну и что? – обозлился Врангель. – У меня пока еще хватит сил смирить его гордыню.
– Не может не понять. С пустяка начнется и пойдет…
– К сожалению, уже началось, – вздохнул Врангель. – Два рейса «Решид-Паши» к большевикам с нашими солдатами.
– Три, – подсказал Шатилов. – Четвертый не состоялся из-за отсутствия желающих.
– Пусть это всего лишь семь-восемь тысяч, пусть это не сильно скажется на боеспособности армии, но это уже началось. А Науменко давно держит нос по ветру и лучше многих понимает, что к чему. Не хочет оказаться в обозе, – и добавил: – Пусть съездят, поговорят с ним. Только ничего хорошего я от этого не жду. И все усилия пусть направят на французов. С ними нам надо наконец расставить все точки. Без этого наш поход на Россию может не состояться.
– Ну, что ж вы так, ваше превосходительство! – с укоризной в голосе сказал Шатилов.
– Гипербола, брат Павел, – едва заметно улыбнулся Врангель. – Я пока так не думаю. Просто иногда так сам себя слегка подстегиваю.
Глава вторая
Не спалось Жихареву. Голова шла кругом, тяжело ворочались мысли. Не упустить бы комиссара. Неспроста появился он здесь. Что-то серьезное затевают большевики, иначе не стали бы рисковать таким козырным тузом.
Знать бы, надолго ли появился он здесь? Может исчезнуть в один из ближайших дней – и все! И не утолит он жажду мести, которая все еще клокочет в его сердце. Но это ладно. Местью можно было бы и поступиться. Время лечит – забудется. Но деньги! Они нужны были вчера и нужны будут завтра. Пока они лежат в почти неохраняемом банке в искалеченных сейфах. Еще вчера их, эти сейфы, можно было просто вывезти за город и там, не торопясь, под пение соловьев, вскрыть. Сегодня это уже не удастся. Сегодня их охраняет не один лишь управляющий, но и еще двое чекистов. Надо думать, что они оба чекисты. А уж что один из них высокий чин – это он не просто знал, в этом он тогда, в Феодосии, убедился, что едва не стоило ему жизни. Но и эта преграда преодолима, если хорошо продумать.
Десять тысяч долларов! Их когда-то пообещал Уваров за живого или мертвого комиссара. Правда, это было давно. Но Уваров ни разу не сказал ему, что обстоятельства изменились и тот их уговор потерял силу. Ну, а не заплатит Уваров, такую птицу, как комиссар, купит Врангель. За живого он, конечно, не поскупится.
Вот ведь какие чудеса случаются в жизни! Все собралось в один клубок: сейфы с приличными ценностями, комиссар, который сам по себе стоит кучу денег, и, вполне возможно, Уваров за этого комиссара щедро рассчитается. У них, у богатых, честное слово еще в цене.
Теперь остается только решить нелегкую задачу: как одним приемом распутать этот клубок! Легко это не получится. Тут надо высушить все свои мозги и придумать что-то хитрое. А начать надо с Уварова. А советами Слащева можно пока и пренебречь. Когда он принесет генералу хорошую кучу денег, тогда можно будет и выслушать его советы. Интересно, что он скажет?
Жихарев ворочался в своей постели. Сон его не брал. Говорят: утро вечера мудренее. Но где оно, это утро? Ночь тянулась бесконечно.
Утром Жихарев отправился на набережную, где в помещении бывшей таможни размещался штаб Русской армии. Совсем рядом со штабом покачивалась на легких волнах личная яхта Главнокомандующего «Лукулл». А это значило, что Врангель находился в городе. Стало быть, и его адъютант Уваров тоже, как и полагается, был при нем.
Немного постояв на набережной, Жихарев еще раз подробно продумал весь свой разговор с Уваровым. Он обещал доставить ему живого или мертвого Кольцова, и с большим трудом, не считаясь ни с временем, ни с затратами, выполняет свое обещание. Речь о сроках не шла, значит, договор остался в силе. И лишь после того, как Уваров раскошелится, он сообщит ему место пребывания чекистского комиссара. Идите и берите!
Возле штаба Врангеля всегда было оживленно. Туда и обратно взбегали и спускались по лестнице бравые штабные офицеры, на рысях подскакивали всадники, оставляли у коновязей лошадей, на минуту скрывались в штабе и затем снова куда-то мчались. У входа неторопливо прохаживался часовой.
Жихарев поднялся по ступеням и обратился к часовому:
– Слышь, браток! Как бы мне это… адъютанта Врангеля повидать?
– По делу, что ли?
– По делу, по делу! – закивал головой Жихарев. – Очень важное дело.
– Документ у тебя есть?
– Какие документы у беженца? Да мне и не надо в штаб. Сюда бы вызвал, только и делов. А он уже тогда сам рассудит, что до чего.
– Опоздал ты самую малость, земеля, – сказал часовой и, немного подумав, объяснил: – Уваров сейчас по Парижу гуляет. Вчера уехал. Так что, если у тебя дело стоющее, приходи под вечер. Будут записывать на прием до Командующего. Може сам тебя примет, чи по назначению направит. И то не сразу. Может, через неделю, а может, позжее. Шибко он занятой, Командующий. Сам понимаешь, вся армия на его плечах.
– А Уваров, говоришь, в Парижи?
– Не стану ж тебе брехать.
– Ну, ладно. И на том спасибо, – вздохнул Жихарев. – Подожду. Дело терпит.
Жихарев снова спустился вниз и, глядя на мелкую зыбь, лижущую гранит набережной, закурил. С огорчением подумал, что ждать возвращения Уварова из Парижа конечно же глупое дело. За это время комиссар уже исчезнет из Константинополя. В запасе у него оставался последний вариант: поквитаться с банком, а заодно и с комиссаром. Поразмыслив, решил, что в этом деле советы Слащева ему не понадобятся.
Глава третья
Париж летом – это буйство жизни, оптимизма и любви. Куда делись пожилые парижанки? Их словно куда-то вывезли, и на улицы высыпала только молодежь. В большинстве – барышни в смелых декольтированных платьицах и в юбках немного ниже колен, чтобы не слишком смущать пожилых мужчин. Впрочем, и мужчины к лету тоже сбросили с себя по пять-десять лет и, затянув потуже отрощенные за зиму животы, гусарили на улицах и бульварах, словно ищейки-легавые на утиной охоте.
Котляревский и Уваров прямо с Восточного вокзала отправились на рю Гренель, в российское посольство. Котляревский зашел к Маклакову, а Уваров, чтобы не терять время, отправился в соседнее здание консульства навестить Щукина.
Николай Григорьевич встретил Михаила, как всегда, радушно, отвел в какой-то тихий уголок и стал расспрашивать о Врангеле, Кутепове, Галлиполе. Его интересовало все: не только условия жизни Русской армии, но и настроения среди рядового и командного состава и даже слухи, которые ходят сейчас там, на Анатолийских берегах.
Уваров ничего не стал скрывать, рассказал о мелких стычках и ссорах Врангеля с тамошней французской администрацией и о многих других неприятностях: хуже стало с доставкой продовольствия, иной раз задержки случаются до нескольких дней, и тогда солдаты и офицеры живут впроголодь. Многие солдаты и офицеры, прельщенные большевистскими листовками о всеобщем прощении, изъявили желание выехать на Родину, около семи тысяч уже выехали. Вспомнил о жалобе нескольких сотен солдат и офицеров, размещенных на острове Лемнос, атаману Кубанского войска генералу Науменко на тяжелую жизнь. Науменко пригрозил Врангелю, что он обязан обратить внимание на письмо, подписанное несколькими сотнями кубанцев, и поступит так, как велит ему совесть и обязывает должность. Иными словами, внутри Российской армии тоже стало не слишком уютно.
– Об этом конфликте я наслышан. Не далее чем вчера попутный транспорт доставил с Лемноса около тысячи солдат и офицеров в Словению, – сказал Щукин. – Боюсь, на сей раз вы привезете Петру Николаевичу не слишком оптимистичные новости.
– Не пугайте. Неужели все так плохо?
– Похоже на то. Если, конечно, в ближайшие дни не произойдет ничего неожиданного в поддержку Русской армии. А что касается Науменко, он мужик непростой, умный, хитрый и властный. Он раньше всех нас понял или почувствовал, что дело идет к концу, – Щукин поднялся. – Одну минуту. Я сейчас.
Он прошел в свой кабинет и тут же вернулся, держа в руках какие-то бумаги.
– Вот! Вероятно, Врангель об этом еще не знает. Это копия телеграммы министра иностранных дел Бриана французскому комиссару в Константинополе Пеллё. Ознакомтесь на досуге. Вероятно, Маклаков познакомит с копией этой же телеграммы Котляревского.
Уваров принял бумаги, не удержался, выхватил взглядом несколько строк:
«…Я плохо могу объяснить себе, почему вы не приняли до сих пор мер, которые я просил от Вас еще в марте месяце, по удалению генерала Врангеля… Его присутствие в Константинополе является главным препятствием для роспуска его армии…».
– Потом прочтете, – сказал Щукин. – Все очень печально.
Уваров промолчал. Он подумал о том, как это известие воспримет Петр Николаевич. Он все еще рассчитывал осенью выступить в новый поход на Россию. Как переживет он это известие?
– Но я все же думаю, что какие-то надежды еще остаются, – Щукин попытался как-то ободрить Уварова.
– Какие надежды? – удивился Михаил. – О чем вы?
– Судите сами. Насколько я знаю, именно сейчас идут переговоры в Берлине. Дипломатические представители нашей России настаивают на том, чтобы международное сообщество признало Врангеля единственным преемником российской власти. Создан русский комитет в Варшаве. И еще. Из области слухов: японцы пытаются подписать соглашение с атаманом Семеновым, налаживается связь с Порт-Артуром и Харбином. Оттуда обещают денежную поддержку. Да! И еще! На Украине Петлюра вновь собирает свою армию, это порядка восьми тысяч человек…
– Вы рассказываете, а я мысленно представляю себе карту Российской империи, – перебил Щукина Уваров. – Где Харбин, где Семенов? Что такое Польша и Украина?
– Я к тому, что вся большевистская Россия окружена, и если бы все разом, одновременно и дружно… – вступил в спор Щукин.
– Вы же понимаете, что не будет этого «одновременно и дружно». Все они в разное время потянут в разные стороны, я в этом убежден. И воз вряд ли сдвинется с места. Если распадется Русская армия, боюсь, останется надеяться только на Бога.
– Вы еще больший пессимист, нежели я, – с легким раздражением произнес Щукин.
– Наоборот. Я оптимист, – возразил Михаил. – Но, к сожалению, недостаточно хорошо информированный.
– Нет, это другое. Мы – люди разных поколений, по-разному воспринимаем факты, по-разному их анализируем. Петр Николаевич – человек моего поколения. Надеюсь, он пока еще не впадает в панику. Кто-то верно сказал: «Надежда умирает последней».
– Так все-таки умирает?
Щукин понял, что спорить с Уваровым бессмысленно. У них разные взгляды на происходящее. У Уварова дом в Англии, родители давно живут там, и он с душевной легкостью уедет туда и вскоре забудет об этой кровавой бойне. Ничего не нажил, но и нечего не потерял. Иное дело он, Щукин. Он потерял все: дом, родину с большой и маленькой буквой «Р». Не зря ведь говорят: «Родина – мать, чужбина – мачеха». Не понять им друг друга, не стоит и пытаться.
– Не будем о печальном! – решительно сказал Щукин.
– А чему радоваться?
– Порадуйтесь хотя бы за меня, – Щукин как-то загадочно улыбнулся, и по этой улыбке Уваров догадался, но не успел произнести. Щукин опередил его: – Не так давно я обрел новое официальное звание: дед.
– Мальчик, девочка? – спросил Михаил и радостно заулыбался. Он даже мысленно укорил себя за то, что вступил в спор со Щукиным, ибо он бессмысленный. Будет так, как будет. И ни он, ни Щукин на это повлиять никак не могут. И как бы они ни спорили, но, действительно, сейчас, похоже, уже только остается уповать на Бога.
– Девочка. И я очень рад. Мальчики уходят на войну, и там их убивают. А девочка – это совсем другое. И хранительница очага, и нянька, и мамка, и сиделка. Они, женщины, всегда вытягивали Россию из всех бед хотя бы тем, что восстанавливали количество населения. Иначе нас слопали бы еще триста лет назад, – он смолк, и затем добавил: – Простите за пафос. Он в сегодняшней нашей ситуации к месту. В самом деле, вот и у меня: печаль от череды поражений стала не такой черной из-за радости, что родилась наследница. Появился смысл бороться за хорошее будущее.
– Как Таня, ее здоровье?
– Таня молодец. Откуда все взялось: купает, пеленает, кормит. Жаль, не дожила Люба до этой радости. Она мечтала о внуках и еще многому бы Таню научила. Впрочем, у нас появилась нянька. Верно, вы не помните Рождественских?
– Ну, почему же? Отлично помню. У них, кажется, три дочери.
– Да. Так вот средняя, Маша, приехала из Лондона и уже две недели живет у нас. Приняла на себя половину Таниных хлопот, – и поднял глаза на Михаила: – Вы уж навестите их, пожалуйста.
– Да, конечно. Обязательно. Вот устроимся в гостинице и, надеюсь, уже завтра, – пообещал Михаил.
И они расстались.
Маленькая гостиница при посольстве с незапамятных времен служила для кратковременного пребывания наезжающих сюда деловых людей со срочными делами. Она находилась здесь же, во дворе посольства, на рю Гринель и содержалась в том пристойном, как и прежде, порядке, несмотря на все беды, которые свалились на Россию.
Как они выяснили у дежурного, уже несколько дней здесь же проживает и прибывший из Словении кубанский атаман генерал Науменко. Но его в номере не оказалось, и Котляревский оставил ему записку.
Науменко объявился поздно вечером. Он без стука открыл дверь их номера и с порога, распахнув руки, пошел на Котляревского. Они обнялись.
– Сто лет не виделись, Николай Михайлович. А вспоминаю вас часто. Особо в последнее время. Жизнь подкидывает таки задачки, шо другой раз и не решишь. От часто и думаю: мне б иметь таку светлу голову, як у вас…
– Остановись, Вячеслав Михайлович. Такую гору комплиментов не вынесу за один раз, – нахмурился Котляревский.
– А шо, я только правду! – и, оглядев их гостиничный номер, он брезгливо сморщился: – А шо это вас в таку конуру засунули? Идемте ко мне, там у меня, як дома. И под «Бургунске» у нас лучше разговор получится.
Перешли к Науменко, в его большой двухкомнатный номер. Уваров мельком заметил целую кучу лежащих в углу пустых винных бутылок. Науменко перехватил его взгляд, пояснил:
– Гостей принимаю так, як у нас на Кубани положено. Кацапы, те больше по водке. А мои кубанцы до хорошего вина приучени. Таким, як французы пьють, кубанци у себя дома ноги мыють.
И тут же на столе появились бокалы, колбаса, сыр и две литровых бутылки «Бургунского». Громко утверждая на столе вино, он с легким пренебрежением заметил:
– Як той кацап говорыв: «За не имением гербовой, пышуть на простой».
За две-три минуты стол был сервирован и уставлен едой. При этом чувствовалось, что этот ритуал давно отработан.
После того как было разлито в бокалы вино, Науменко сказал:
– Чого жметесь, як невеста на свадьби? Придвигайтесь блыжче до столу, та й приступым до переговоров.
И пока усаживались возле стола, Науменко осушил свой бокал, после чего произнес:
– Чокаться не будем. Тостов тоже не надо: отнимають багато времени, – и снова наполнил свой бокал. – Сутками по делам бегаю, як той бездомный собака. То до французов, то в Лигу Наций, то до наших эмигрантив. Другой раз за деламы не вспиваю пообедать, а про сон, так я и зовсем про него забув. Так выпьем, шоб смягчить горло и на серци повеселело!
– Ты и так веселый, Вячеслав Михайлович. Не по обстоятельствам.
– Надо понимать, это упрек? – слегка обиделся Науменко. – Якое там веселье? По большости горючи слезы.
Был Науменко высокий, широкоплечий. Руки, как пудовые гири. Когда брал бокал, словно в кулак его прятал. Пил тоже необычно: не глотал, а просто вливал в себя, как в флягу.
– Я знаю, Николай Михайлович, о чем говорить хочешь. Про остров Лемнос небось. Да, вывез хворых, увечных! Не вывез бы – повмирали. Я там побывав. Знаешь, як оны выживали? На огурцях, помидорах та капусте. Хлеба за все проживание на острови вдоволь не ели. А мяса, так и вовсе не видали.
– В этом трудно тебя упрекнуть, – сказал Котляревский. – Но все же, может, прежде чем дрова ломать, встретился бы с главнокомандующим? Нашли бы, как исправить ситуации. Может, частично их в Галлиполи переселили бы?
– Встречався. Там, в Константинополи. Вы тода в госпитали лежалы.
– Ну, и что?
– Поговорили! Еще как! Чуть до матюков дело не дошло. Я ему про тож самое: голодають солдаты, помалу вымирають. А он мне: солдат должен все невзгоды стойко переносить. Якое там стойко? Оны вже стоять не могуть, ноги не держать. Говорять мне: батько атаман, спасай – вымираем. А я им шо должен сказать? Про стойкость?
– Я тебе скажу, в чем ты не прав, Вячеслав Михайлович, – Котляревский разговаривал с Науменко тихо и неторопливо. Он понял, что Науменко болезненно самолюбив и криком у него ничего не добьешься. Тем более что дело уже сделано: частично своих кубанцев, недолго размышляя и ни с кем не советуясь, он вывез в Словению, а уже там они демобилизовались, получили статус беженцев и ждали ближайшей оказии, чтобы покинуть Словению. – Если бы ты не на басах поговорил с главнокомандующим, нашли бы способ, как вызволить твоих кубанцев из беды.
– А донцов? А терских?
– Я это и предполагаю: всех, кто размещен на Лемносе. А ты, ни с кем не посоветовавшись, стал самостоятельно заботиться о своих. Но ведь это армия, боевая единица. А ты стал от нее отщипывать. С этого и пошло: посыпалась армия. Многие стали уходить в беженцы. А ведь их можно было удержать, сохранить армию в целостности. И тот же вопрос с продовольствием. Поверь, власть пока у Врангеля в руках, он все еще крепко ее держит. Мог бы…
– Не мог! – даже еще не зная, о чем дальше скажет Котляревский, он стукнул кулаком по столу так, что стоящий возле него бокал покатился по столу и со звоном упал на пол. Но Науменко вроде даже не заметил этого, продолжил: – Ничего Врангель уже не может! Упустил власть!
После чего Науменко снова прошел к буфету, достал оттуда пивную кружку и еще две бутылки вина. Поставил перед собой кружку, налил до краев. Гостям тоже наполнил бокалы. Указав взглядом на кружку, объяснил:
– Лекарствие од нервов. А из бокалов, то кошача доза! – после чего он влил в себя вино из кружки и довольно сердито спросил у Котляревского:
– Ну, и чим бы Врангель мог мне допомогты? Я ж хитрый, я все выясныв. Галлиполийцев французы тоже с продовольствием крепко пощипалы. Не так, конечно, як на Лемноси, но тоже. От я и приняв самосотятельне решение. Бо надеяться, як я поняв, уже не на кого.
– Ну, и что дальше? – спросил Котляревский. Он понял, что Науменко закусил удила и его уже не остановить.
– Шо дальше? Объясняю. Для тебя, Николай Михайлович, и от для полковника, для вас Россия – скорей всего, географическе понятие. Вы за власть боретесь. Не получиться, разбежитесь по разным концам свету. Не знаю, куда вы, Николай Михайлович, отправитесь, а от полковник – в Англию. Уваровы уже годов пять, як Россию покинули, там ихний дом и там ихня родина. А для меня родина – Кубань, там вся моя семья, если большевики ее не сничтожили, там все мои друзья и все мои враги. А как же! Без них тоже жить нельзя, сразу жиром заплывашь. Там люди, якых я понимаю: гречкосеи, когдась не только всю Россию хлебом кормили. З имы я тыщи верст пройшов, в дождь, в люту стужу и в жарюку под сорок. Все вытерпилы, все вынеслы. И меня з собою. А если их тут повыбьють, чи голодом заморять – обезлюдние Кубань, кончиться. Займуть ее кацапы. Россия будет, а Кубани не стане. А мени на Кубань надо. От и посоветуй мне своей светлой головой, як мне поступить? Россию спасать, чи Кубань. По-моему, пущай каждый про свою малу родину заботится.
– Ну, и как же ты будешь Кубань спасать, если Россия сгинет? – спросил Котляревский.
– А очень просто. Вчера договорывся з Лигой Наций, вывезу пока три тысячи кубанцев в Батум, оттудова через Грузию в Баку. Поработають на нефтепромыслах, отхарчатся. Азербайжанци обещають мяса и хлеба вволю, ще й зарплату, и всяки разни други блага. Может, не сбрешуть. А вже опосля, когда все полностью закончится, собремся все вмести, и кацапы, и хохлы, кубанци и донци, и други разни народы, погутарим и определим, як нам сообща жить. Поглядим, шо у большевиков получиться. Може, и з имы поладим?
– Хорошая программа, – жестко похвалил Котляревский Науменко. – Кубань, я так понимаю, спасете. А Россию кто спасать будет? Ты своих вон на нефтепромыслы вывозишь. Остальные тоже по норам разбегутся. И в каком море, на каких островах тогда твоя Кубань окажется? Под чьей крышей всех соберешь?
Науменко ответил не сразу. Он налил себе в кружку, посмотрел на бокалы гостей.
– Чего не пъете? Настроение вам спорыв? Не берить в голову. То я немного придуриваюсь, – и, после того как осушил свое вино, сказал: – Я так думаю, вы не сами по себе сюды приехалы, Врангель послав. Так?
– Ну так, – согласился Котляревский. – Что ему передать?
– Передайте Петру Николаевичу привет. Пущай не сомневается, як только он тронется в поход, и мы будем тут как тут, поддержим всеми силами. От Баку до Одессы чи там до Севастополя рукой подать. Сразу явымся, не подведем.
На протяжении всего этого разговора Уваров не проронил ни слова. Понял: ему вступать в их разговор не следует. Науменко откровенно игнорировал его, не смотрел в его сторону, общался только с Котляревским. Человек резкий и самолюбивый, он ждал хотя бы одной фразы Уварова, чтобы осадить его, поставить на место. И не дождался. Тем более с самого начала было ясно, что он уже принял решения и не отступится от них.
Котляревский встал, чтобы попрощаться. Уваров поднялся следом.
– Шо, уходите? Не понравились вам мои речи?
– Нет, почему же! – возразил Котляревский. – Во всяком случае, лучше честно все сказать, чем врать или ходить вокруг да около.
– От за это давайте и выпьем! – поднялся и Науменко. – Не положено оставлять в бокалах вино. Говорять, это хозяину на слезы.
Котляревский переглянулся с Уваровым, но поднял бокал. Чокнулись, выпили стоя.
– И пущай Петр Николаевич не сомневается. Науменко – кремень. Сказал: не подведу, значит, не подведу.
– Уже подвел, – сказал ему на прощание Котляревский. – Но не будем начинать сначала.
– Заходите ще! – вслед уходящим по коридору гостям крикнул Науменко. – Посидим, погутарим! Жалко токо, шо вы не пьющи! Но это дело наживное!
Они вернулись к себе в номер.
– Что скажете, Николай Михайлович? – спросил Уваров.
– Ничего хорошего не скажу. Надежда только на то, что не все в Российской армии такие, как Науменко, – ответил Котляревский. – Хотя, вероятно, и таких уже немало.
Они уселись на свои кровати. Уваров вспомнил о копии письма Бриана, которую дал ему Щукин.
– Скажите, вам Маклаков показывал телеграмму Бриана комиссару Пеллё?
– Пересказал.
– Можете прочитать, – Уваров протянул Котляревскому листы.
Котляревский стал медленно просматривать телеграмму. Она не была переведена с французского, и он читал ее медленно. На каких-то строках задерживался, прочитывал вслух:
– «…Число русских на нашем содержании уменьшилось всего на тринадцать тысяч за два месяца. А количество вооружения, которым они располагают, увеличилось, несмотря на мои неоднократные указания приступить к полному разоружению. Если это положение будет продолжаться, оно вызовет ответственность нашего Верховного комиссариата. Я тоже плохо могу себе объяснить, почему вы до сих пор не приняли мер, которые я просил от вас еще с марта месяца, по удалению генерала Врангеля, так как его присутствие в Константинополе является главным препятствием для роспуска его армии…».
Котляревский оторвался от телеграммы и поднял глаза на Уварова:
– Н-да, напрасно тогда Петр Николаевич не решился осуществить предложение Кутепова.
– Вы имеете в виду уход галлиполийцев в Болгарию? – спросил Михаил.
– Нет. У него было очень хорошее авантюрное предложение захватить Константинополь и выгнать с Турции французов. Тогда это было Русской армии вполне по силам.
– Но это был бы всемирный скандал. И чем бы все это могло закончиться?
– Не знаю, – Котляревский заулыбался: – Зато какой роскошный был бы скандал! – и, помолчав немного, Котляревский добавил: – Во всяком случае, все дальнейшие события развивались бы не по французской схеме и, допускаю, в более благоприятной для Русской армии. К сожалению, время не вернуть обратно.
И он снова углубился в чтение телеграммы. Читал вслух:
– «…Военный министр сообщил мне, что запасы продовольствия для русских беженцев подхолят к концу. И мне трудно подписать их пополнение…». И, отвлекшись от телеграммы, Котляревский сказал: – А, помнится, Болгария обещала тогда нам помочь с продовольствием. Упустили момент.
– Возникли бы другие трудности. Флота у нас нет. Пришлось бы пешим походом, в обход. Большевики бы заранее узнали наши намерения и примерный район, где начнутся боевые действия, – напомнил Уваров.
– Если бы, по плану Кутепова, выгнали из Турции французов, все произошло бы совсем по-другому, – возразил Котляревский. – Кстати, часть флота оказалась бы в наших руках.
– Какой смысл мечтать о несбывшемся? – вздохнул Уваров. – Дочитывайте.
Котляревский снова склонился над телеграммой. Дочитал.
– Вот теперь все ясно, – поднял он глаза на Уварова.
– Что именно? – спросил Уваров.
– А вот послушайте. «Я считаю, что после того, как мы им помогали в течение семи месяцев, сейчас пришло время передать другим частным организациям заботу о помощи тем из них, которые не в состоянии самостоятельно себя содержать», – и после небольших раздумий Котляревский подытожил: – Короче, они умывают руки. Пусть Русскую армию теперь содержит кто хочет, только не они. Вопреки всем обязательствам, они считают своим все российское, что по разным причинам оказалось в их руках. Теперь Русскую армию пусть кормят разбогатевшие эмигранты ну и все другие, кто еще рассчитывает на наш успешный реванш. Но таких, к сожалению, становится все меньше.
Укладываясь спать, Уваров спросил:
– Николай Михайлович, какой план на завтра?
– Я намерен проведать своих знакомых правительственных чиновников. Интересно, что они обо всем этом думают? Не гложет ли совесть? – взбивая подушку, ответил Котляревский. – А вы свободны. Можете проведать свою невесту. Петр Николаевич открыл мне ваш секрет.
– Моих секретов Петр Николаевич не знает, – улыбнулся Уваров. – Но я с удовольствием воспользуюсь свободным временем.
Утром Котляревский ушел из гостиницы рано и очень тихо. Когда Михаил проснулся, кровать Котляревского была аккуратно застелена, а он сам уже исчез.
Повалявшись еще с полчаса в постели, Михаил встал, немного послонялся по номеру, затем спустился вниз, в буфет. Идти к Тане он не торопился. Он не хотел застать дома Щукина. В его присутствии встреча с Таней была бы некомфортна. Не скажешь того, что хотел бы сказать, и не получишь искренний ответ Тани. Присутствие Маши Рождественской, которая приехала, чтобы немного помочь Тане, его нисколько не смущало. В его памяти она все еще оставалась той угловатой девчонкой, которая ему запомнилась тем, что на каком-то детском празднике играла Королеву. Ее монолог начинался со слов «Уж я стара», после чего зал взорвался хохотом. Выждав тишину, она начала снова «Уж я стара». И снова такой же хохот. Маша заплакала и ушла со сцены. Кажется, тогда рухнула ее мечта стать актрисой. Потом он еще пару раз видел ее в Стамбуле, во дворе посольства, где в одном из кабинетов ютилась вся семья Вяземских, ожидая оказии, чтобы выехать в Лондон.
Он вышел из гостиницы, когда Париж уже стряхнул с себя сонную леность и шумно растекался по умытым улицам и бульварам. В ближайшем цветочном магазинчике купил букет белых роз. Он знал: Таня любит именно белые розы. Когда он в одну из прежних встреч спросил у нее: «Почему белые?», она ответила: «Не знаю. Их любила моя мама. Возможно, это наследственное. Посмотри на красные. Они такие импозантные, уверенные в себе, а белые – нежные, тихие, стеснительные. Они, как белые банты на детских головках».
Михаил почти подошел к знакомому дому, но вдруг что-то вспомнил и снова с тихой рю Колизее вернулся на шумную и многолюдную Риволи.
В квартиру Щукиных он пришел едва ли не в полдень, отягощенный помимо букета роз еще и несколькими коробками и коробочками.
– Господи, прям настоящий русский Дед Мороз среди лета! – открывая дверь, всплеснула руками Таня. – Меня папа предупредил, что ты здесь. Но я подумала: ты будешь бегать по делам и, как всегда, примчишься в последний день. Чем ты так загрузился?
– Это тебе, – он протянул Тане букет, – а это…это… – и спросил: – Как назвали?
Таня поняла вопрос.
– Люба. Любовь. Так звали мою маму. Папа еще называл ее Любавой.
– Это все – Любе, – передавая коробки, сказал Михаил.
– Идем к ней, – сложив коробки у зеркала, она взяла Михаила за руку.
– Я с улицы. Хоть руки помою.
И тут из-за Таниного плеча на Михаила вопросительно глянули широко распахнутые серые глаза милого веснушчатого подростка с чуть вздернутым носиком и с наспех причесанными непокорными волосами. Таня чуть посторонилась, девушка сделала книксен и, улыбаясь, совсем неробко сказала:
– Я так понимаю, нам придется знакомиться еще раз. Вы так удивленно на меня смотрите.
– Не верю глазам своим. Такие превращения бывают только в сказках. Еще совсем недавно была таким сорванцом с вечно ободранными коленками.
– Вспомнили? – обрадовалась Маша.
– Еще бы! Я даже помню Королеву в вашем исполнении. «Уж я стара». Всех помню, кто тогда в Стамбуле при посольстве жил. Вот уж не думал, что из того хулиганистого сорванца вырастет такое чудо.
– Я вам уже нравлюсь? – эпатируя Михаила, спросила девушка.
– Потом скажу, – улыбнулся Михаил. – Когда лучше познакомимся.
– Так! Все! Слышите? – донесся из кухоньки голос Тани. – Люба нервничает. Ей тоже не терпится познакомиться.
Из кухни и верно доносились какие-то вздохи, перемежающиеся с похожим на мяуканье голосом.
Вымыв руки, Михаил вошел в похожую на пенал кухоньку. Таня посторонилась, пропуская его. Он направился к кроватке и увидел в ней это крохотное существо, розовенькое, большеглазое, укутанное в какие-то рюшечки и кружавчики. Таня лукавила, говоря Михаилу, что ждала его в конце пребывания в Париже. Втайне она надеялась, что он не затянет с посещением, и поэтому уже с утра одела ребенка во все гостевое, нарядное.
Михаил смотрел на малышку. А она лишь мельком взглянула на него и продолжила, кряхтя, тянуться до висящей перед ее глазами погремушки в виде красного шара. Под взглядом Михаила девчушка прекратила свою борьбу за обладание шаром и тоже остановила взгляд на Михаиле и с неким удивлением скривила свое личико.
– Ну, Люба, Любаня… Любовь Павловна! – сказал Михаил и заметил, как на лицо Тани набежала печальная тень от произнесенного им отчества.
– Не подслушивай. Неприлично! Мы с Любой решили тет-а-тет побеседовать! – шутливо укорил Михаил Таню и снова вернул взгляд к ребенку: – Поздравляю тебя, девочка! С чем, спрашиваешь? С тем, что ты пришла на этот свет, со временем будешь его переустраивать на пользу тем, кто на нем живет.
Люба снова стала кривить личико и попыталась что-то ответить Михаилу.
– Обратите внимание, она все поняла, – сказал Михаил и обернулся к перенесенным сюда его коробкам. Стал извлекать из них погремушки различных видов и форм, они то тарахтели, то посвистывали, а то разражались какой-то музыкой. И на каждую из них Люба то тянула руки, то удивленно корчила личико, то не обращала внимания и равнодушно пускала слюнявые пузыри.
– Танечка, пора! – напомнила Маша.
– Я помню.
Маша извлекла ребенка с кроватки, быстро и умело раздела, завернула в простынку и передала Тане. При этом приговаривала:
– Ну вот! Покрасовались, и хватит… А теперь, мадемуазель, у вас по расписанию третий завтрак… Ну, хорошо, хорошо: первый полдник!
Таня ушла в свою комнату кормить ребенка. Михаил похвалил Машу:
– Поразительно! Вы так ловко, так уверенно, почти как профессиональная нянька, обращаетесь с ребенком.
– Почему «как»? Я профессиональная нянька.
– Когда же успели? Вам ведь, кажется, лет шестнадцать?
– Зачем такие комплименты? Мне уже почти девятнадцать. Через два месяца.
– И все равно, откуда опыт?
Маша улыбнулась:
– Смеяться не будете?
– Ни в коем случае! Клянусь.
Маша стала рассказывать:
– Еще там, в России, у нас дома жила кошка Маркиза. Так ее звали. Она два раза в год выводила котят. Каждый раз ровно шесть штук. Уничтожать их, топить – на это в нашем доме никто и никогда бы не согласился. И так получилось, что однажды меня обязали их выхаживать и раздавать. На несколько лет это стало моей постоянной обязанностью. Я их выхаживала и за ними ухаживала. Вы будете смеяться: я стирала пеленки, я их пеленала, пела им колыбельные. И потом раздавала. Оказалось, это не так просто. Я научилась сочинять для них привлекательные биографии, привычки. Этот трехцветный задира приносит в дом счастье. А этот толстенький бутуз родился совсем черным. Черных кошек никто не хотел брать. А я придумала, что черные кошки приносят богатство. И проблем не стало. И так семь лет подряд.
Кольцов слушал Машу, и она все больше ему нравилась: сама выглядела эдаким уютным котенком, веселым и своенравным.
– Скучаете по России? – спросил Михаил.
– Как вам сказать…
– Скажите, как думаете.
– Немного скучаю. Но мы теперь обосновались под Лондоном. Кстати, ваш папа иногда у нас бывает. И знаете, чем они там занимаются? Играют в древнюю русскую игру «Городки». Кажется, даже приохотили к ней уже нескольких англичан.
– Тоже останетесь в Англии? – спросил Михаил.
– Как распорядится Господь, – совершенно серьезно ответила Маша. – Если бы была такая возможность, я конечно же хотела жить в России. Представляю себе такой большой дом возле леса. В лесу ягоды, грибы. И я с детьми брожу по лесу, собираем грибы.
– С какими детьми? – удивился Михаил.
– Со своими, конечно. Я давно так задумала: у меня будет шесть детей.
– Почему шесть? – засмеялся Михаил. – Как у кошки Маркизы?
Маша не обиделась, ответила все так же серьезно:
– Не знаю. Может, мне это веление свыше. Мне всегда почему-то нравилось число шесть. Смотрите: шесть – детство, двенадцать – отрочество, восемнадцать – юность. Многое в нашей жизни связано с цифрой шесть.
Почти весь день Михаил провел у Щукиных. Они сообща варили обед. Маша вызвалась слепить настоящие русские пельмени, и часа через полтора они действительно обедали совсем по-русски: ели суп с пельменями.
Михаилу Маша не давала скучать, попросила помогать лепить ей пельмени.
– Но я не умею, – попытался отказаться Михаил.
– Я научу.
Таня раскатывала тесто и бокалом вырезала заготовки, а Маша старательно показывала Михаилу, как надо их лепить. Они у Михаила не сразу стали удаваться, поначалу получилось несколько уродиков.
Маша сказала:
– Этого терпеть больше нельзя. Ставлю на голосование: за каждый испорченный пельмень виновный получает щелчок по лбу. Кто «за»?
Таня и Маша подняли руки.
– Принято большинством. При одном воздержавшемся.
– Откуда у вас такие инквизиторские наклонности? – спросил Михаил.
– Это папины шутки, – пояснила Маша. – Они там у себя в землеуправлении даже серьезные дела так обсуждали. Не со щелчками по лбу, конечно. Но все равно не без шуток.
Весь день прошел весело.
Они потом купали Любу, после чего Таня укатила коляску в свою спальню, и вскоре оттуда послышалась тихая колыбельная про волчка.
– А хотите, я покажу вам Таниного мужа? – таинственным полушепотом спросила вдруг Маша.
– У нее нет мужа, – сказал Михаил.
– Так не бывает. Раз есть ребенок, значит, есть и муж, – искренне и убежденно сказала Маша. – Она даже иногда с ним разговаривает. Достанет портрет, смотрит на него и о чем-то с ним разговаривает. Я как-то сидела в спальне, слышу, Таня с кем-то разговаривает. Я и подсмотрела. Только, чур, это под большим секретом! Согласны?
– Конечно, – кивнул Михаил. – Тем более что это никакая не тайна. Отец малышки – Павел Кольцов. Он был старшим адъютантом у генерала Ковалевского. Тайна в другом: Кольцов был в Париже, и это каким-то способом прошло мимо папы Тани полковника Щукина. Как я понял, он до сих пор не догадывается, кто отец Любы.
Маша стала на стул и, дотянувшись до верхушки буфета, достала небольшой бумажный сверток. Прислушалась: Таня все еще продолжала петь.
Спрыгнув со стула, Маша торопливо развернула сверток, и Михаил увидел портрет Павла Кольцова, написанный давним приятелем Тани, художником с Монмартра Максимом.
– Очень хороший художник, – сказал Михаил, отметив, что и в самом деле он схватил самое характерное для Кольцова: его проницательный, доверчивый и чем-то привораживающий взгляд.
Глядя на портрет, Михаил вспомнил, сколько самых разных эмоций связано с именем этого человека. Он искренне любил его, потом с такой же силой ненавидел, ревновал, мучился, желал его смерти и однажды едва сам не стал ее инициатором. Но все это ушло в давность. Время, как вода, смывает и уносит с собой все недостойное человека. Осталось одно-единственное желание: была бы такая возможность, встретился бы с ним, по-братски обнялся бы и во всем плохом повинился. Делить им нечего. Родину не разделишь, она все равно на всех одна.
И вдруг он подумал: еще месяц, а, возможно, даже неделю назад он совсем не так вспомнил бы о бывшем своем сослуживце. Последние события словно рассеяли какой-то туман, который окружал его на протяжении всех лет войны.
– Увидели? Все! Хватит! – и Маша снова торопливо завернула пакет и сверток вернула на место. Успела. В комнату вошла Таня, тихо сказала:
– Уснула.
Под вечер Михаил собрался уходить, но тут пришел Щукин. Он разделся, вошел в кухню, оглядел всех, спросил:
– Что так тихо?
– Люба спит.
– Я провел у вас почти целый день, – сказал Михаил. – Внучка у вас – чудо!
– Старались, – улыбнулся Щукин и обернулся к Тане: – Правда, Танюха?
Это было так необычно для Щукина: Уваров даже не помнил, когда он видел улыбающегося Николая Григорьевича. Даже шутки он произносил с мрачным выражением лица.
Таня подхватила шутку отца, вытянулась в струнку:
– Так точно, ваше превосходительство! Очень старались!
И все четверо засмеялись.
– Ну, и какие у вас планы на вечер? – спросил Щукин.
– К сожаленрию, я вынужден покинуть такую замечательную компанию, но очень не хочется обижать Котляревского. Он уже давно ждет. С вашего позволения, по возможности я буду навещать Любу. Мы с ней об этом условились.
– Мы тоже будем рады вас видеть, – сказал Щукин.
Маша выказала желание немного прогуляться и отправилась провожать Михаила.
Неторопливым шагом они прошли по узким улочкам, и они вывели их к Елисейским Полям. Здесь было зелено и тихо, ничто не отвлекало их. В разговоре Маша вновь вернулась к Кольцову:
– Знаете, после родов Таня очень изменилась. Я часто видела: положит его портрет и разговаривает с ним, разговаривает. И плачет. Я пыталась успокаивать ее: бесполезно. Однажды сказала мне: уеду в Марсель, там ходят пароходы в Россию, упрошу, чтоб взяли нас. Денег дам – возьмут. Я отговаривала ее, говорила ей: это бред, это невозможно, предлагала ей немного подлечить нервы. А она мне: все возможно. Я, говорит, не должна была рожать. Я не могу себе представить, что у Любы не будет отца. Она ведь когда-то спросит. Что я ей отвечу?
– Вы правы, Маша. Это, действительно, невозможно, – согласился Михаил. – Время лечит. Пройдет еще месяц, возможно, год, и все забудется. Больше того, встретит достойного человека и выйдет замуж.
– Вы думаете, любовь забывается? – спросила Маша.
– Все забывается. Вот и война. Мы все еще пока живем ею. Но постепенно она все удаляется от нас. Еще вчера я поддерживал Петра Николаевича Врангеля. А сегодня… сегодня я думаю: не нужна она. Столько крови, столько погибло людей. Пусть те, кто ее пережил, проживут свой срок в мире и счастье.
– Я читала в книгах: люди умирают, когда их разлучают с любимыми.
– Это в книгах, – возразил Михаил.
– Нет-нет, так бывает, – не согласилась Маша. – Вот я, если влюблюсь и выйду замуж, то навсегда. Таня, наверное, тоже такая. Я за нее боюсь. Мне кажется, она что-то задумала. Она или умрет, или наделает массу каких-то глупостей. Я ее как-то спросила: допустим, ты уедешь, тебе отца не жалко? Он уже старенький. А она сказала: конечно, жалко. Но он мужественный, он выживет. А я – нет. Я сказала ей: он тебе не простит. А она: если любит – простит. А потом, говорит, все может так быстро измениться, все помирятся – и белые, и красные. Нельзя же вечно жить со злобой в сердце.
– Согласен, нельзя. Но слишком серьезные противоречия раскололи Россию. Чтоб люди простили потери своих близких, должно пройти много времени. Может, не одно десятилетие. Вон война восемьсот двенадцатого. Какая кровавая была! Прошло больше ста лет, чтобы от нее в памяти остались только кивера, ментики, бравые гусары.
Они долго шли молча. Каждый думал о своем.
– Я боюсь за нее, – снова со вздохом повторила Маша.
– Понимаю. Но не вижу выхода.
Снова молчали.
– Я читала, большевики объявили амнистию всем, кто с ними воевал, – сказала Маша. – Обещают никого не преследовать, наказывать. Как думаете, станут возвращаться?
– Возвращаются.
Они остановились.
– И мы вернемся, – сказал Михаил. – Уже темнеет. Вам надо домой. Я вас провожу.
– Я сама. Вам до рю Гренель здесь совсем близко. Вы ведь, кажется, в посольской гостинице остановились?
– Да. Но мне еще неохота возвращаться. И расставаться с вами мне тоже не хочется.
– Мне тоже.
И они пошли обратно.
– Когда вы собираетесь в Лондон? – спросил Михаил.
– Скоро. Родители третье письмо прислали. Ругаются. Настаивают, чтобы я уже вернулась. А мне Таню жалко, она останется совсем-совсем одна.
– У нее есть отец, значит, она уже не одинока.
– Нет, это не то. Он весь в работе и, как правило, приходит домой, только чтобы переночевать.
– «Сэ ля ви», как говорят французы. Такова жизнь.
Они шли по тем же узким уютным малолюдным улочкам. Михаил стал рассказывать Маше о своей жизни в Турции, об армии, которая размещена на островах и полуостровах. Собирались вновь идти походом на Россию, чтобы освободить ее от большевиков. Но все пошло не так, как задумывалось. Похоже, война действительно закончилась.
– И что же будет? – спросила Маша. – Куда же денутся все эти люди?
– Я же сказал: те, кто поверил большевикам, вернутся домой. Пока немногие, но с каждым днем их все больше. У кого-то есть родственники в других странах, отправятся к ним. Кто-то побоится возвращаться в Россию и поедет туда, где есть нужда в рабочей силе, и там осядет. В конечном счете все как-то образуется.
И уже когда они остановились на рю Колизее, возле дома, где живут Щукины, Маша вдруг сказала:
– Михаил, миленький! Давайте поможем Тане. Это же все очень просто. Раз туда уже возвращаются, отправим и мы ее в Советскую Россию. Ну, подумайте: большевики простили даже тех, кто с ними воевал. Станут ли они мстить женщине с ребенком, которая с ними не воевала, влюбилась в человека из их лагеря, родила ему ребенка. Мы не можем осчастливить всех, но хоть трех человек мы сможем? Я знаю, вы сильный, вы умный, вы сможете. А я буду во всем вам помогать. И Господь за это простит нам многие наши грехи. Правда!
– Сумасшедшее предложение! – ошарашенный такой внезапной безумной просьбой сказал Михаил. – Куда она поедет?
– В Москву. Она знает, он там.
– А если не там?
– Она найдет его. Я знаю, она такая: если что-то задумала, обязательно выполнит. Только без нашей помощи ей будет сделать это во много раз труднее. К тому же может наделать много глупостей. По неведению.
– Маша! Это невозможно! – твердо сказал Михаил. – Она с маленьким ребенком. Даже в самом лучшем случае это же очень дальняя дорога, неудобства.
– Ну, подумайте еще. Вы умный, вы обязательно что-то придумаете.
– Не знаю, что можно в этом случае придумать.
– Пожалуйста, только не говорите «нет». Обещайте подумать.
Уваров долго молчал. Она смотрела на него умоляюще и с надеждой.
– Это подлость по отношению к моему старому хорошему знакомому Щукину. Он не простит меня.
– Он ничего не будет знать.
Михаил молчал.
– Ну скажите же… Пожалуйста, скажите «да».
Уваров вздохнул и тихо сказал:
– Обещаю подумать.
Вечером в гостинице Котляревский рассказал о своих посещениях французских правительственных учреждений. Ни Бриан, ни тем более Мильеран от встречи с ним уклонились. В результате он владел практически всеми теми сведениями, которые почерпнули из копии письма Бриана комиссару Пеллё, которое дал Уварову Щукин. Ясно было только одно: от какой-либо помощи Русской армии Франция окончательно отказывается и будет настаивать на выводе ее из Турции. Каким образом и куда, на эти вопросы Котляревский хотел получить ответы. Но пока не получил. И есть ли у французов на них исчерпывающие ответы, тоже пока оставалось тайной.
Вероятнее всего, как и пишет в своей телеграмме Бриан, Франция умывает руки, и пусть теперь всем занимаются эмигрантские общественные организации – финансово. А помощь в возвращении бывших русских солдат и офицеров на Родину уже начала оказывать Лига Наций, конкретно, недавно созданная Комиссия по репатриации «Помощь Нансена». С Фритьофом Нансеном Котляревский намерен был до возвращения в Турцию встретиться с Нансеном. У него, вероятно, сможет узнать, как французы собираются поступить с Русской армией.
Выслушав неутешительные новости, Уваров долго переваривал их в голове. Собственно, ничего неожиданного они уже не узнали. Медленно, но верно все шло к этому. Неизвестно только было, как на это отреагирует Врангель. Вариантов могло быть только два: либо со смирением примет весть об окончательном своем поражении, либо предпримет какие-то резкие шаги, чтобы «сохранить лицо». Их Котляревский предуагадать не мог.
Уже когда они улеглись в свои постели, Михаил долго лежал молча. Вновь вспомнил слезную просьбу Маши. Эта девочка, похоже, покорила его сердце: вспоминал ее рассказы о шести котятах, которых она пеленала и выхаживала, а потом раздавала, о том, как быстро и умело она стряпала пельмени, и о ее самоотверженности, с какой она пыталась помочь своей несчастной подруге. Подумал, что из Маши может получиться хорошая хозяйка и прекрасная верная жена. Кому-то очень повезет. Впрочем, а почему бы и не ему? В самом деле, ему уже пора жениться, об этом все чаще намекали родители. Он все надеялся, что Таня рано или поздно образумится. И вдруг судьба посылает ему такой сюрприз.
Затем он снова мысленно вернулся к просьбе Маши помочь Тане. Посоветоваться бы с Котляревским. Но открывать ему, кто эта женщина, ему не хотелось. Можно сказать, что это просто его знакомая. Без лишних подробностей, которые бы натолкнули Николая Михайловича на мысль, что это дочь полковника Щукина.
– Николай Михайлович, не спите? – бросил Михаил в темноту.
– Думаю.
– У меня вопрос. Встретил знакомую. Она в свое время влюбилась в большевика, кажется, он чекист. Даже, кажется, хорошо известный в высших большевистских кругах. Она родила от него, любит, он отвечает ей взаимностью. Такая коллизия. По воле судьбы она оказалась здесь, в Париже, но мечтает вернуться домой. Раньше, возможно, она не очень к этому стремилась. Но сейчас, когда родила ребенка, ищет способы вернуться. Спросила у меня совета. Я не решился. Что бы вы ей посоветовали?
– Она уверена, что он будет рад? – спросил Котляревский. – Не повредит ли это его карьере? Насколько я осведомлен, у них с этим строго. Жена чекиста должна сама быть чекистом или уж, на крайний случай, членом партии большевиков.
– Вероятно, она владеет информацией, что он ее ждет. Верит, что, пользуясь своими связями, он все это уладит. В конце концов, она каким-то образом докажет свою лояльность советской власти, а может быть, даже вступит в их партию. У них, кажется, всего одна?
– Да, – отозвался Котляревский. – Одна идеология, инакомыслие строго наказывается. Стало быть, и партия одна.
– Она в белой армии не служила, нигде никаких постов в царской России не занимала даже в силу своей молодости. Подскажите, что ей посоветовать?
– Очень просто. Как я вам уже говорил, при Лиге Наций не так давно создана Комиссия по репатриации, руководит ею известный полярный исследователь норвежец Фритьоф Нансен. Всем русским беженцам, изъявившим желание вернуться домой, эта комиссия безвозмездно помогает. Как мне говорили, процедура предельно упрощена. Короткое заявление, и человек тут же получает «нансеновский паспорт», который большевики обязались признавать. И все. И – счастливого пути.
– Но есть одна проблема, – сказал Михаил. – Она не знает его московского адреса.
– Там всех реэмигрантов встречают, беседуют, отправляют по своим местам жительства. Ты говоришь, он чекист?
– Да. И, по ее словам, он очень влиятельный.
– Тогда все еще проще. Обратится в Чека, это на Лубянке. Там, бесспорно, помогут.
– Спасибо за совет.
– Кстати, завтра или послезавтра я буду в Комиссии по репатриации, возможно даже, встречусь с Нансеном, – вспомнил Котляревский. – Если хочешь помочь этой даме, идем со мной. И больше не морочь мне голову, я засыпаю, – но через короткое время он снова нарушил тишину: – Фамилию, имя, отчество, год ее рождения и возраст ребенка, надеюсь, ты знаешь? Все! Сплю!
Три последующих дня Уваров повсюду сопровождал Котляревского. Лишь дважды он сумел встретиться с Машей, пообещал что-то для Тани сделать.
Дело было уже даже не в Тане. Ему хотелось показать Маше, что он верный человек, держит слово, и вообще: он из тех мужчин, которые прочно стоят на земле и многое могут.
В день его отъезда в Турцию Маша пришла на Восточный вокзал его провожать. Он передал ей для Тани «нансеновский паспорт» и другие проездные бумаги. При этом сказал:
– Мне все это не очень нравится. Я всего лишь выполняю ваш каприз. Как она уедет, я не знаю. Но я не имею права больше здесь задерживаться. Все остальное ложится на ваши плечи.
– Я постараюсь, – сказала Маша. – Ни Таня, ни я никогда не забудем этот ваш благородный поступок. А вырастет Люба, она тоже будет знать о вашем участии в ее судьбе. Спасибо вам, Миша!
– И еще. Имейте в виду, Николай Григорьевич достаточно влиятельный человек, – напомнил Михаил. – Если он узнает, сделает все, чтобы не выпустить их из Франции.
– Не беспокойтесь, он никогда ничего не узнает, – пообещала Маша. – Я говорила об этом с Таней. Она напишет папе письмо, где скажет, что все это она сделала самостоятельно, и попросит у него прощения. Он прочтет его, когда она будет уже в пути.
Котляревский стоял возле своего вагона «Восточного экспресса» и изредка на них посматривал.
Когда прозвенел колокол, извещающий пассажиров о завершении посадки, Уваров торопливо, перейдя на «ты», сказал:
– Знаешь, Маша, мне нравится цифра шесть.
Она не сразу поняла, удивленно на него посмотрела.
– Я согласен, у нас будет шесть детей. Но об этом мы поговорим при следующей встрече. Надеюсь, она состоится довольно скоро.
Она заулыбалась.
– Знаешь, а я тоже, кажется, в тебя влюбилась.
– Надеюсь, ко времени нашей следующей встречи из этой фразы исчезнет слово «кажется». Иначе к чему тогда следующая встреча?
– Я согласна, – она приподнялась на цыпочки и сказала: – Можно, я тебя поцелую?
Он наклонился к ней, и они поцеловались.
– За все, – сказала она.
Экспресс медленно тронулся, он вскочил в вагон. Она пошла по перрону следом за вагоном, но вскоре отстала. Но еще долго стояла, глядя вслед уплывающему вдаль экспрессу.
Котляревский, все еще стоя в тамбуре вагона, улыбнулся Уварову и многозначительно сказал:
– Ну, вот! А вы говорили мне, что Петр Николаевич не знает ваших секретов.
– Может, и знает, но не все, – ответил Уваров. – Этого секрета он точно не знает.
Глава четвертая
Два дня Слащев в одиночестве сидел в беседке, смотрел на залив, где шла своя напряженная жизнь. Одни корабли тихонько его покидали, иные, потрепанные океанскими штормами, входили в него.
Флаги, флаги. Десятки самых разных. Но больше всего турецких и французских. Много и других: американских, английских, японских, австралийских. Были и такие флаги, которых он прежде никогда не видел и не мог определить, чей он. Весь огромный земной шар представляли они. Каждый флаг – это кусочек земли, большой или маленькой. И на каждом из них живут люди, где-то их больше, где-то совсем мало. И только ему одному нигде нет места: жил, воевал, отвоевывал себе хоть маленький клочок земной тверди – и ничего не получил. Впору объявлять себя банкротом.
Сейчас еще хоть как-то теплится здесь российская жизнь. Можно сходить на базар, встретиться с кем-то из своих однополчан, узнать свежие новости, порадоваться или огорчиться.
А когда уйдет отсюда армия, здесь останутся только такие же обездоленные, как и он. К кому пойдешь? С кем поделишься своими печалями?
Вот и этот, Павел Андреевич, очень уж мягко он стелет. А что у него в голове, не заглянешь. С добром к нему приехал или черное вынашивает? И посоветоваться не с кем. Все, что эти его боевые-отставные сослуживцы ему скажут, он наперед знает: не верь, обманут, кому ты там нужен, у них там теперь своя жизнь, они создают новую страну. Такую, как они говорят, какой еще никогда не было.
Что такой еще не было, это точно. А вот какой она будет, никто не знает. И даже те, кто ее строит.
Здесь ему скоро делать будет нечего. Можно бы и поверить этому Павлу Андреевичу, рискнуть. Тогда, в Корсунском монастыре, этот комполка тоже на кон свою жизнь поставил, не струсил. Это чего-то стоит!
Ну а если что-то с ним случится? Если не сумеет потом забрать к себе Нину и Марусю? Что будет тогда с ними? Мысли о них все больше угнетали его.
Был бы он один, какое бы решение ни принял, оно было бы верным. Но были те, за которых он нес ответственность. Прежде надо решить их судьбу, а уже затем он легко решит свою.
Все эти тяжелые мысли он ворочал в голове с тех самых пор, как в его доме появился Кольцов. Ему, прошедшему тяжелые годы войны и не раз выбиравшемуся из самых головоломных передряг, казалось, что из этого капкана без серьезных потерь он уже никогда не сможет вырваться.
К нему бесшумно подошел Мустафа.
– Яков Александрович, там к вам гость пришел.
– Кто? – не поднимая головы, спросил Слащев. Настроение у него было мрачное, он никого не хотел видеть.
– Ну, который у вас уже был. Какой-то ваш знакомый. Мне показалось, он вам тогда понравился.
«Кто же это? Может, Кольцов? Он обещал», – подумал Слащев и сказал Мустафе:
– Пригласи.
Это был действительно Кольцов. Он узнал его еще издали, и сделал несколько шагов ему навстречу.
– Легок на помине. Здравствуй, комиссар.
– Мы же договорились: Павел Андреевич. А лучше – Павел, – чуть нахмурился Кольцов.
– Помню. Извини.
– Ждал? – спросил Кольцов.
– Как тебе сказать. Думаю. Понимаешь, слишком трудную задачку ты мне задал. Много неизвестных. Почти неразрешимую. Вот и думаю.
По его доброжелательной интонации Кольцов понял: он действительно ждал.
– И все же?
– Я же тебе ответил: думаю.
– Ну, что ж. Продолжай, – спокойно, даже несколько равнодушно сказал Кольцов. – Больше уговаривать не буду. Ничего нового тебе не скажу. Как решишь, так и будет.
– Понимаешь, хочу тебе поверить. Ну, а как вглубь копну, сомнение берет: не в капкан ли вскочу?
– Я тебе уже говорил: не я тебе гарантии даю – Дзержинский.
– До Дзержинского все сходится. Тут, положим, я тебе верю. А если дальше копнуть? Над Дзержинским есть Троцкий, над Дзержинским есть Ленин. И не только. А сколько тех, кого я, мягко говоря, обидел? Их немало. Они тоже совсем не так, как Дзержинский, думают. У кого-то зависть, у кого-то желание расквитаться…
– Знаешь, я со многими разговаривал, – перебил Слащева Кольцов. – И о тебе конкретно тоже. И с твоими доброжелателями, их много. И с врагами.
– Их еще больше, – подсказал Слащев.
– Не думаю. Может быть. Но кончилась война, и большинство тех, кто воевал, начинают постепенно переосмысливать свои взгляды. Понимают, кровь все мы одну проливали, российскую. Пришло время осознать, что у каждой стороны была своя правда. И теперь надо отобрать все лучшее из этих двух правд.
– Это, брат, философия. В ней я не силен, – не согласился Слащев. – Ты проще скажи: богатые хотели сохранить свое богатство, а неимущие, бедные хотели все это богатство поровну разделить. Это, если рассуждать примитивно. Я вот навидался людских страданий за все эти военные годы и тоже, пожалуй, соглашусь с большевиками: каждый человек имеет право на безбедную жизнь. А только никто еще не сказал, как этого добиться?
– Почему же? Маркс, Энгельс сказали. И Ленин.
– Может быть. Что-то читал, не помню, – и, вскинув на Кольцова холодный взгляд, он тихо, но с ожесточением сказал: – Это же теория! Ее на бумаге пишут: никому никакого вреда. А вы, большевики, решили сразу проверить теорию практикой. Разумные люди всякие бессмысленные теории на мышах проверяют. А вы – на людях, на такой агромаднейшей стране, как Россия.
– Вот и давай вместе посмотрим, что на практике у большевиков получится, – миролюбиво сказал Кольцов. Спорить ему не хотелось, тем более что и сам чувствовал в чем-то правоту Слащева.
Слащев тоже вдруг почувствовал, что он нарушил закон гостеприимства и превысил градус спора, и поэтому тоже потеплел, улыбнулся:
– Помнишь детский стишок, или как его еще назвать? «У попа была собака, он ее любил, она украла кусок мяса…» Так и мы с тобой: начинаем все сначала. Прекратим?
– Мудрое предложение, – согласился Кольцов. – Собственно, я зашел к тебе лишь затем, чтобы сказать: дня три-четыре я к тебе не зайду, – и встал, чтобы распрощаться.
– Не торопись. Сядь! – и после того, как Кольцов снова сел, Слащев сказал: – Хочу сообщить тебе неприятную новость. Ты в Константинополе уже успел засветиться, и чем это может кончиться, я не знаю. Будь предельно осторожен.
– Я догадываюсь, о ком ты говоришь.
– Откуда?
– Столкнулся с ним. Я уходил от тебя, он меня заметил. Это Жихарев.
– Да, это он. Почему же сразу мне об этом не сказал? – удивленно спросил Слащев. – Ты мог бы уйти, и я ничего бы не подозревал.
– Я так понял, он у тебя бывает, и не знал, какие у тебя с ним отношения, – объяснил Кольцов. – Когда-нибудь, позже, я обязательно тебя о нем бы спросил.
– Возможно, что и не успел бы. А отношений ровным счетом никаких, – сказал Слащев и попросил: – Но раз ты познакомился с ним давно, расскажи мне, что это за человек.
– Это не человек. Обыкновенный грабитель, бандит. У него была небольшая банда. Он грабил в Крыму покинутые богатые особняки. Специализировался на сейфах, да и на всем остальном, что имело материальную ценность. Банду мы ликвидировали, он же с помощью одного ублюдка-чекиста сумел бежать. Награбленное мы сумели отобрать, а этот твой знакомый почти голышом бежал в Батум, потом сюда, в Константинополь. Предполагаю, занимается тем же. Во всяком случае, я думаю, что это он попытался уже здесь ограбить российский банк.
– Я читал об этом ограблении в газетах. Он мне ничего не говорил. Почему ты думаешь, что это он? – спросил Слащев.
– По его бандитскому почерку. Вскрывает сейфы с помощью лома и молота. Здесь ему не повезло: сейфы поуродовал, но вскрыть не сумел. Вот и вся история.
– Интересно, – Слащев какое-то время сидел молча, потом задумчиво сказал: – Я ничего о нем не знал, но почему-то почти сразу, интуитивно, что ли, почувствовал, что это грязный человек.
– Что ж впустил в свой дом? – упрекнул Слащева Кольцов.
– Слаб человек. Прикупился на лесть, на угодливость. А тут он буквально вчера стал мне намекать, что скоро разбогатеет, что едва ли не миллионы на него свалятся.
– Не спросил, откуда?
– Я подумал: может, и не врет. Всякое в этой нашей крученой жизни случается. Но, с другой стороны: так, в одночасье, можно обогатиться только ворованным.
– Что ж не выгнал?
– Хочешь, честно? – Слащев долго смотрел в глаза Кольцову: – Из-за тебя. Он ведь рассказал мне, что встретил тебя, что ты чекист. Надеюсь, он и в дальнейшем будет со мной откровенным. И, быть может, владея моей информацией, ты живым вернешься к себе в Россию.
– Я так понимаю, ты предлагаешь мне, чекисту, свою помощь? – улыбнулся Кольцов.
– Я просто хочу вернуть тебе свой долг. Во всяком случае, я предупредил тебя: опасайся этого человека.
– Поэтому я и пришел к тебе, чтобы сказать, что на какое-то, надеюсь короткое, время попытаюсь раствориться, исчезнуть.
– Разумно. К сожалению, больше ничем, кроме информации, я помочь тебе не могу, – сказал Слащев.
– Ты мне дал много полезного для размышлний. Мне кажется, Жихарев продолжает надеяться поживиться содержимым сейфов русского банка. Не об этих ли миллионах он тебе говорил?
– Ты же говоришь, что он там все изуродовал, уничтожил.
– Да. Но сейфы не вскрыл, – Кольцов встал, решительно сказал: – Но ты прав: давай закончим наш разговор. И думай. Будем пытаться решать наши трудности: ты – свои, я – свои. Как видишь, у меня тоже задачка со многими неизвестными, и ее не так просто решить. Но постараюсь. Если же я не появлюсь на протяжении трех дней, значит, я ее не решил. Ты узнаешь это из газет. Журналисты вряд ли пройдут мимо такого материала: чекист в Константинополе.
– Не шути так, не надо! – с испугом сказал вдруг Слащев. – Если, спаси Бог, это случится, я в Россию не поеду.
– А если не случится?
– Я же сказал тебе: я думаю.
Слащев проводил Кольцова до калитки, и они тепло попрощались.
Жихарев осторожничал. Он не хотел провалить такое верное дело. За банком он установил настоящее наблюдение. Но банк словно вымер. Жихарев даже испугался, не исчез ли уже комиссар?
Вечерами из банка никто не выходил, и окна на втором этаже не светились. Это означало только одно: скорее всего, чекисты тоже узнали его и покинули Константинополь. Надолго или нет, кто знает? И еще отстраненно подумал: «Не гонялся бы ты, парень, за двумя зайцами. Бери то, что судьба предлагает».
Но и с банком долго тянуть резину нельзя. Два-три дня от силы, пока новый управляющий еще не вернул на работу отпущенных прежним банкиром сотрудников, не сменил замки и не усилил охрану. А что касается комиссара Кольцова, он, конечно, умный и хитрый, этого у него не отберешь. Где-то залег сейчас. Растворился, скрылся. Так бы поступил и он, случись такое с ним. Знать бы, с каким заданием он прибыл сюда, может, и вовсе уже успел его выполнить и покинул Турцию. Это тоже возможно. В таком случае встреча с ним сейчас не состоится. Ну что ж! Пусть позже, но все равно где-то когда-то они встретятся. Жихарев знал: когда чего-то очень хочешь, оно обязательно сбывается. И тогда он получит с Кольцова за все сполна.
Прокол с Кольцовым в Феодосии Жихарев не относил на свой счет. Народу было много, а такие громкие дела делаются в полной тишине. Пошумишь – испугаешь судьбу, и она отвернется от тебя. Так тогда и случилось.
Снова брать банк Жихарев на этот раз собирался тихо. Надо только хорошо подготовиться. Для этого взять с собой газовый баллон с горелками. Неизвестно только, порежет ли газовая горелка толстый сейфовый металл, его даже тяжелый молот едва прогибал. Не лучше ли разжиться ленточной пилой? Удобная и любой металл возьмет. Редуктор, правда, тяжеловат. Для этого возьмет с собой Серегу Шило, у него ума мало, зато дурной силы на двоих. Он будет и редуктор таскать, и потом маховик крутить. И еще Дробязко надо позвать. Этот будет на охране и на подхвате. Он хлопец хоть и сельский, но сноровистый и сообразительный. Единственное, что Жихарева смущало: ни у одного из его помощников, как говорится, руки на ленточную пилу не заточены. «Ничего. И это как-то решится. Захочешь до вету, как штаны снять, сообразишь».
После короткого ленивого времени, что Жихарев провел в Константинополе, перебиваясь с хлеба на воду, он вновь сосредоточился, все его мысли были направлены только на дело. Он был напряжен, как зверь перед прыжком.
Глава пятая
Положение банка в самом деле было препаршивое. Тихий и спокойный интеллигент Болотов нервничал, все чаще впадал в жуткую депрессию и тогда начинал угрожать, что он устал, он больше так жить не может, он бросает все и уезжает домой, в Париж.
Что предпринимает в Париже в помощь банку его владелец Жданов, Болотов не знал, потому что связь с Константинополем не всегда была устойчива и стабильна. И Болотов все больше сомневался, что этот банк вообще еще кому-то нужен.
Русскую армию банк нисколько не интересовал, пользы от него ждать в ближайшее время не приходилось. А что будет потом?.. Так это будет потом. То есть неизвестно когда.
Турецкая полиция брать банк под свою охрану не хотела, поскольку он был некредитоспособный, больше того, до сих пор было неясно, кому он принадлежит? Франции? Той, старой России? Или же Совдепии? Новая Россия заявила на него свои права, но, как известно, она была бедна как церковная крыса, к тому же пока даже не имела своих денег. Зачем ей свой банк?
Они не ушли от Болотова, как собирались. Болотов посмотрел на них с такой укоризной и печалью, что Кольцов не выдержал, сел в кресло и решительно сказал Красильникову:
– Остаемся.
– Это, Паша, будет твоя самая дорогая глупость, – в ответ мрачно обронил Красильников.
– А давай немного обсудим все «за» и «против», – предложил Кольцов. – Третьи сутки мы здесь. Надо было бы сразу. А теперь, я уверен, Жихарев знает, где мы обитаем.
– Ну, тем более: надо исчезнуть с его глаз, – настойчиво возразил Красильников.
– А зачем? Выдать нас турецкой полиции не в его интересах. Султан придерживается нейтралитета и с оккупационной армией Франции, и с Русской армией. К тому же он всячески пытается наладить хорошие отношения с Мустафой Кемалем. А Кемаль давно симпатизирует Советской России.
– Ну, и к чему мне сейчас твой политический ликбез? – спросил Красильников.
– К тому, что, оказывается, Жихарев хоть и бандит, но в политике лучше тебя разбирается. Он знает, что полиция Султаната передаст нас России. К тому же он может предполагать, что мы сообщим полиции, кем он является, этот Жихарев. В Султанате, кажется, и сейчас еще рубят ворам руку. А за тяжкие преступления – голову. Я не знаю, как посмотрит турецкая Фемида на попытку ограбления банка?
– Ну хорошо, будем считать это «за», – согласился Красильников. – Но он же может сдать нас врангелевцам. И тут уж мы никак не выкрутимся. Расстреляют.
– Не знаю. Не уверен. Будем надеяться, что Врангель – благородный человек и вспомнит, что именно чекисты помогли его матери избежать ареста в Петрограде и, более того, переправили ее в Финляндию. В ответ на это, если знаешь, Врангель приказал освоболить меня, приговоренного к смерти, из крепости. Может, помилует нас и в этот раз? Но это так, шутка. Жихарев не сдаст нас врангелевским властям хотя бы потому, что побоится. Побоится наших разоблачений его «подвигов» в Крыму. Он знает, что его расстреляют раньше, чем нас.
– Очень уж условное «за», – сказал Красильников и мрачно, брюзгливо добавил: – Будем радоваться, что нас расстреляют позже Жихарева.
– Объясняю: он не глупый, не сдаст он нас врангелевцам, – сердито сказал Кольцов.
– Вы исключили из своих рассуждений банк. Мы-то с вами знаем, что он не просто российский, – сказал все время молчавший Болотов.
– Нет, не забыл, – поднял Кольцов глаза на Болотова. – Так случилось, что мы совершенно случайно и по другому делу оказались здесь в самые драматические дни вашего банка. Можно было бы, конечно, заниматься своим важным делом, не очень обращая внимания на все случившееся. Но по принадлежности банка к нашей стране, по совести и по долгу службы мы, вне сомнений, ему обязаны помочь.
– Все точно, все логично, – сказал Красильников. – Но это наше видение. А вот что думает Жихарев и что он предпримет, этого мы не знаем.
– Тоже логично, – согласился Кольцов. – Но давай еще немного продолжим. Жихареву нужны не мы. Мы – лишь препятствие на пути к банковским ценностям. Он, вероятно, попытается от нас избавиться. Не стоит ли нам самим избавить его от этих трудов?
– Каким образом? – с некоторым беспокойством спросил Болотов. Он все еще продолжал бояться, что они его покинут, хотя и понимал, что их дело, их задание, связанное с личностью Слащева, намного важнее. И поэтому они обязаны не подвергать себя риску и удалиться, исчезнуть отсюда.
– Не будем ни уходить из банка, ни возвращаться. Нас нет. Свет вечером не зажигать. По возможности осторожно за всем наблюдать из окон. Изучить все вокруг со всех четырех сторон, – объяснил Кольцов. Эта мысль пришла к нему утром, но он никак не мог объяснить даже сам себе ее притягательность. И только тут вдруг понял: если сделать все аккуратно, Жихарев поверит, что чекисты исчезли, залегли на дно. Так бы поступил он, окажись в такой же ситуации. И не только он. Остаться здесь, это было вопреки всякой логике. И именно это должно убедить Жихарева, что чекистов здесь уже нет. И долго он уже ждать не станет, придет сюда, чтобы завершить начатое.
С тех пор они из дома кроме Болотова старались не выходить. Все свое время, от рассвета и до темной ночи, они проводили у окон, осторожно наблюдая за всем тем, что там, вокруг них, происходит. И довольно скоро заметили, что днем, а иногда и вечером вокруг банка кто-то слоняется. Что за люди, издалека не особо разглядишь. К ним не подойдешь и не расспросишь. Но с каждым днем те становились смелее и уж почти не прятались. Пару раз Красильников заметил Жихарева, который небрежно прошел вдоль забора, не поворачия головы и никак не выказывая интереса к банку.
Какие шаги предпримет Жихарев, пока никто из них не знал. И все же Кольцов был твердо убежден, что его по-прежнему интересуют пока еще невскрытые банковские сейфы. Во всяком случае, об этом свидетельствовала и слежка, установленная за банком. Видимо, на этот раз Жихарев хотел получить быстро, все и сразу. И поэтому не торопился и тщательно готовился.
Не только Болотову, но и Кольцову, и Красильникову надоело все время жить начеку, в какой-то неопределенности. Такое ожидание было невыносимо. У всех троих было ощущение, что узел с каждым днем затягивался все туже.
Развязать его помог случай.
За утренними сдобными булочками или круассанами к кофе теперь по утрам к ближайшему маленькому и уютному кондитерскому магазину ходил только Болотов. Его обслуживал веселый продавец, который довольно сносно, но смешно говорил по-русски, потому что мама у него была турчанка, а папа – чистокровный одессит. Папа-одессит однажды по молодости решил: какая разница, по какую сторону Черного моря жить? Важно только, чтоб оно было всегда рядом, – и женился на чистокровной константинопольской красавице-турчанке. Она ничем не отличалась от одесситок, была так же весела, остроумна, криклива и остра на язык. И еще она была хорошим кулинаром, на ее плечах держался весь их бизнес. Папа же не нашел себя на берегах Константинополя, но как знаток русского языка работал охранником в русском банке. Когда случилось то неудавшееся ограбление, смена была не папы-одессита, и поэтому он остался живым, а его сменщик исчез, и что с ним произошло, никто не знал.
Все эти дни после приезда в Константинополь общение с веселым продавцом придавало Болотову бодрость, отвлекало от тяжелой тоски по родному парижскому дому.
Но на этот раз веселый продавец повел себя довольно странно. И хотя никого в магазинчике не было, он сказал полушепотом:
– Если месье не против, я бы хотел сказать вам несколько важных слов.
– А почему не здесь? – с легкой настороженностью спросил Болотов.
– Это очень важные слова. Я не хочу, чтобы они вылетели в эту форточку и попали еще кому-то в уши.
Болотов подумал: «Это либо серьезная провокация, либо действительно серьезный разговор». К серьезной провокации он не был готов. Еще в Париже Жданов предложил ему небольшой, почти игрушечный револьвер, как он сказал: «На самый крайний случай». Он привез его с собой, но никогда не носил и даже не помнил, в какой чемодан его засунул. А это, возможно, и был именно тот случай, когда он мог бы пригодиться. Но и отказаться пройти в кабинет Болотов тоже не мог: вдруг продавец скажет ему действительно что-то важное?
Посетителей пока в магазине еще не было. Продавец широко открыл дверь в кабинет, тем самым как бы показывая, что кабинет пуст и опасаться некого. Впрочем, засаду даже в таком помещении устроить было довольно легко. Есть шторы, за которыми может спрятаться пара человек, есть до пола закрытый письменный стол, наконец, вешалка, на которой висят несколько плащей, а возле нее стоят большие и пока сложенные зонты, ожидающие, вероятно, жарких дней и летней торговли. Болотов все замечал, все анализировал и всего боялся.
В кабинете и в самом деле никого не было.
– Ну, я вас слушаю, – нетерпеливо сказал Болотов.
– Всего два слова. Сегодня вечером вас хотят убить, – совсем невесело сказал веселый продавец.
Ноги у Болотова вдруг стали ватными.
– Откуда вам это известно? Вы меня ни с кем не перепутали?
– Нет-нет. Вы ведь сотрудник банка? Управляющий или что-то в этом роде?
– Да-да, что-то в этом роде, – согласился Болотов. – Но откуда у вас такие сведения?
– От моя мама. Нет, от мама моя жена. Но не от них. Извините мой русский.
– У вас прекрасный русский. Так кто вам это сказал?
– Не знаю. Возможно, мой папа.
– Вы все правильно поняли? – переспросил Болотов. – Ваш папа, как я понимаю, русский?
– Он не просто русский. Он хорошо говорит даже по-одесски.
– Значит, все это рассказал вам ваш папа?
– Он ничего такого не говорил. Он боится говорить. Но мама сказала, что думает папа. Она всегда знает, что думает папа. Так вот: вчера папа ходил к нотариусу и написал завещание.
– При чем тут завещание? Ничего не понимаю. Давайте, пожалуйста, все сначала, подробно и по порядку.
– Я постараюсь, но не уверен, что смогу. Я еще и сам не до конца во всем разобрался. Но мама хотела, чтобы я вас секретно предупредил.
– Итак, кто угрожает мне? Кто собирается меня убить?
– Разве вы еще не догадались? Тот человек, который уже пытался ограбить ваш банк.
– Он один?
– Кажется, трое. Так говорил папа.
– И когда они это намечают?
– Папа думает сегодня вечером. Так слышала мама, когда к нам приходил этот человек. Но, к сожалению, мама плохо слышит. Старость. Но думаю, что это ей сказал папа.
Прозвенел колокольчик на входной двери. Пришли утренние посетители.
– Подождите, я провожу вас другой дверь.
Он ждал еще минут десять, пока посетители делали покупки. Потом звякнул колокольчик, и они ушли. Веселый продавец открыл дверь в туалет, но там оказалась еще одна дверь, которая вывела их в узкий коридор.
– Извините за такой неприятный сюрприз. Но я подумал: лучше, если вы будете все знать.
– Это хорошо. Только я так и не понял, почему он пришел к вашему папе? Что общего у вашего папы с этим бандитом?
– Разве я вам не сказал? Это просто. Папа работал охранник ваш банк. Когда они ломали сейфы, с ними был другой охранник. Я думаю, они его убивать. Потом они приходили папа, сказали, чтоб он ничего не знал. Папа им сказал, что он ничего не знал. Потом они пришли опять. Сказали: пойдешь с нами, откроешь калитку и входную дверь. Папа говорит им, что он болен. Тогда они сказали: давай ключи и молчи.
– У папы были ключи? – удивился Болотов.
– И у другого тоже. Наверное, те они потеряли. Только от калитки и входной двери. Два ключа. Я их видел.
– И папа их отдал?
– Если бы он не отдал, его бы уже не было в живых, – сказал веселый кондитер и, что-то вспомнив, добавил: – Вы спросили, при чем тут завещание? Папа думает, что они его все равно убьют. После того как еще раз побывают в вашем банке. Им не нужен человек, который что-то знает.
Прощаясь, он сказал:
– Послушайте, а может, вам на время уйти из банка? Да хотя бы даже сюда, ко мне. Ну, спрятаться. Я вас так спрячу, никто не найдет. Или, знаете что? Может, сообщить полиции?
Болотов ответил не сразу. Надо было бы посоветоваться с Кольцовым, но он уже заранее знал его ответ. И он сказал веселому продавцу:
– Нет-нет, не нужно полиции! Единственный совет: если можете, действительно спрячьте папу, чтоб его никто, кроме вас, не нашел.
– Это я могу. Но я не смогу прятай его всю жизнь. Будет завтра, и они придут. Что тогда?
– Надеюсь, у них не будет завтра, – и, чтоб взбодрить себя больше, чем кондитера, Болотов с фальшивой улыбкой добавил: – Спасибо вам за предупреждение. И спокойной вам ночи.
– Господи! О чем вы? Разве я смогу уснуть в эту ночь?
Болотов вернулся домой перевозбужденный и испуганный. Он в подробностях пересказал товарищам весь разговор с кондитером. После чего растерянно спросил:
– Ну, и что будем делать? Зачем рисковать? Не лучше ли и в самом деле сообщить полиции?
– А если вы немножко подумаете? – пристально посмотрел на Болотова Кольцов. – Или объясните нам с Красильниковым, как вы представите нас полиции?
– Да-да, понимаю. Вам придется уйти.
– Уйти не проблема. Проблема уйти незаметно. Пока что Жихарев и его компания думают, что вы здесь, в банке, один, будут вести себя нагло. Если же заметят кого-то из нас, поймут, что здесь что-то не то. И даже, если заметят не нас, а полицию. Чего мы добьемся? Жихарев на время все отложит и переключит все свое внимание на нас. И нам придется действительно скрыться, исчезнуть. За это время может многое измениться, и мы будем вынуждены вернуться домой ни с чем, – неторопливо, обстоятельно Кольцов объяснил Болотову все последствия этого шага и добавил: – А к вам они все равно потом наведаются.
– Хорошо. Допустим, что я понял, – нервно сказал Болотов. – Но тогда скажите мне, что вы собираетесь делать?
– Переформулируйте вопрос, – строго, как школьный учитель нерадивого ученика, попросил Кольцов.
После длительной паузы Болотов сказал:
– Понял, – и спросил: – Так что мы будем делать?
– Я так думаю, Жихарева мы ликвидируем, – твердо сказал Кольцов.
– У вас есть такие полномочия? – удивился осторожный Болотов. – Как там посмотрят на эту вашу самодеятельность?
– Нашу, – поправил его Кольцов. – Мы достаточно позволили Жихареву грабить нас там, в Крыму. И здесь тоже. Должен же он рассчитаться за все.
– Только не кровь! Только не кровь! – взволнованно вышагивая по комнате, несколько раз повторил Болотов.
– А есть какие-то другие мысли по этому поводу? – спросил Красильников.
– Есть одна. Мы ее сейчас и обдумаем. Очень красивая, – после долгой паузы отозвался Кольцов. – Только бы до нее не додумался Жихарев, – и затем добавил: – Не будет того эффекта.
Впереди у них был целый день, и они начали готовиться к встрече незваных гостей. Несколько раз спускались в хранилище. Болотов трижды проверил дистанционный пульт, с помощью которого открывались и закрывались створки решетки. После нажатия кнопки на втором этаже они каждый раз быстро и послушно смыкались и защелкивались. Почему решетки оставил открытыми прежний управляющий, ни у кого никаких предположений не возникло. Кроме одного: в отъездной суматохе и спешке о них просто забыли. Или легкомысленно относились к решеткам, рассчитывая на прочные замки и сверхпрочные сейфы.
Жихарев не любил сложные планы, в них, как правило, неожиданно обнаруживался какой-то изъян, и они либо проваливались, или уж, во всяком случае, зачастую не осуществлялись из-за какой-то мелочи или сущей безделушки.
Нынешний план Жихарева был прост, как молоток. Придут в банк, разберутся с сейфами. Новый управляющий от страха не подаст голоса. А если взбунтуется, значит, покойнику не повезло.
Они пришли глубокой ночью, когда Болотов с надеждой уже несколько раз повторил:
– Мне кажется, не придут.
Но они пришли, не особенно таясь. Три тени промелькнули в чахлом кустарнике, который окружал банк. Миновали Красильникова, затаившегося среди густой, сильно пахнущей уже отцветающей сирени, и почти по-хозяйски поднялись по ступеням к входной двери банка. Жихарев прозвенел ключами, и дверь с едва слышимым шумом отворилась.
Не шевелясь и затаив дыхание, Красильников, стоя внизу, видел лишь темные фигуры грабителей сквозь зелень листьев на фоне бледноватого, усеянного звездами неба. Первый – Красильников определил, что это был Жихарев, – шел, не обремененный никакой поклажей, у второго была какая-то сумка, в такт шагам она позвякивала железом, третий, замыкающий, судя по силуэту, был мужик богатырского сложения и нес в мешке что-то тяжелое. Поднявшись по лестнице, он опустил к ногам свою поклажу и тихо пожаловался подельникам:
– Тяжелюща, зараза.
– Отдыхай, пока мы низ разведаем, – тихо сказал Жихарев.
– Угу, – отозвался богатырь.
– И не вздумай курить, – приглушенно предупредил его Жихарев, скрываясь за дверью.
Вскоре внизу вспыхнул свет, просочился сквозь оставленную приоткрытой дверь. Красильников угадал подходящий момент. Он по-кошачьи приблизился к богатырю и сунул ему в спину ствол револьвера. И властно прошептал:
– Тихо! Не шевелись, если жить хочешь!
И тот в полуобороте застыл.
– Оружие?
– З-за п-поясом.
Красильников одной рукой приобнял богатыря, нащупал под одеждой рифленую рукоятку и выхватил револьвер.
– Спускайся, Шило! – донесся снизу голос Жихарева.
– Спускайся, – шепотом приказал Красильников. – Но молча. Чуть что, ты – покойник.
– П-понял, – прошептал богатырь и склонился, чтобы прихватить свою поклажу.
– Не трожь. Сам принесу.
– Угу.
– Ну, где ты там, Шило? – сердито выкрикнул снизу Жихарев.
– Иди! – толкнул Красильников бандита стволом револьвера.
Тот, все еще не до конца понимая, что происходит, скованный страхом переступил через свою поклажу и, как сомнамбула, подошел к лестнице, ведущей в подвал.
– Отзовись. Только без глупостей. Не то… – снова приказал Красильников.
– Иду, – сдавленным голосом отозвался Шило, все еще боясь сделать резкое движение, стал спускаться вниз. Красильников шел сзади, упираясь стволом револьвера в его спину. Не дойдя до решетки, он остановился, а Шило продолжал медленно спускаться, сохраняя в теле все тот же полуповорот, когда еще там, перед входной дверью, ему в спину уперся револьвер Красильникова.
Кольцов наблюдал за всем происходящим, готовый в случае необходимости вмешаться. Но все происходило даже лучше, чем было задумано.
Когда Шило спустился вниз и минул решетку, Кольцов взмахнул рукой.
Болотов тот же час нажал на кнопку пульта. Створки решетки с тихим шипением сомкнулись. Звякнул замок.
Красильников торопливо вернулся назад и предусмотрительно встал на ступенях лестницы, ведущей с первого на второй этаж.
– А редуктор чего не спустил? – набросился на Шило Жихарев.
– Не позволылы.
– Кто?
– Н-не знаю, – уже оказавшись внизу, в хранилище, Шило начал понимать, что избежал смерти. – Якыйсь, з наганом.
Жихарев не сразу его понял, приказал:
– Мотнись, принеси!
– Так той… ворота закрылысь.
– Какие ворота?
– А ось ци, сзаду мэнэ.
Только сейчас Жихарев заметил решетку, которая преграждала им путь наверх.
– Что ты с ними сотворил? – гневно выкрикнул Жихарев и бросился к решетке, схватился за створки, стал трясти, пытаясь их развести в стороны. Но толстые прутья стояли мертво, недвижимо.
– То не я. То оны.
– Кто? Тут никого нет!
– Есть. Мэнэ чуть не застрелыв.
Начиная что-то понимать, Жихарев вновь с яростью стал трясти решетку.
– Подмогни, Шило! И ты, Дробязко!
И они, все трое, дружно навалились на решетку, пытались с разбегу свалить ее, затем трясли, пинали ногами. Но все было тщетно: решетка не поддавалась.
– Не мучайтесь, бандиты! – крикнул вниз Кольцов. – Это все же банк! Все против вас рассчитано!
В ответ на голос Кольцова Жихарев выхватил револьвер, просунул его сквозь прутья решетки и в бешеной злобе и бессилии стал палить вдоль ведущей вверх лестницы.
Вверху, на первом этаже, разлеталась штукатурка, падала к ногам Кольцова и Красильникова.
Когда Жихарев прекратил стрельбу и еще не рассеялся дым, он услышал все тот же голос:
– Жихарев! Прибереги хоть один патрон: пригодится!
Жихарев в бессилии опустил отстрелявшийся револьвер и поднял голову. Вглядываясь в дымную синеву, сказал наверх:
– Вроде голос знакомый? Это вы, комиссар Кольцов?
– Узнал?
– Я вас раньше узнал. Еще там, на базаре. Больше недели назад.
– Я тоже там тебя узнал, Жихарев.
– Выходит, вы все свое время на меня тратили? А я-то думал, что вы сбежали.
– Не угадал.
– Выходит, что так.
– И прогадал.
– Значит, постреляете?
– Я в людей не стреляю. Один раз в жизни было такое, всю жизнь жалею.
– Но мы ж тоже люди.
– Вы – не люди. Вы бандиты, грабители. Но все равно я не стану руки пачкать. Посидите тут, поголодаете. Может, друг дружку съедите. А нет, постреляетесь.
– Шутки шуткуете, – Жихарев изобразил нечто подобное улыбке.
– Нет.
– И все же, может, как-то столкуемся? У меня есть что предложить.
– Говори.
– Вы нас выпускаете, а я за это не выдаю вас ни Врангелю, ни туркам. Заметьте, вы уже больше недели здесь, я вас узнал, но не выдал. А мог бы. Еще и крест какой-нибудь на грудь бы повесили. Понимаю, вы сюда не на прогулку прибыли. Вот и делайте свое дело, я вам препятствовать не буду. А потом спокойно уезжайте. На том и расстанемся.
– Нет, Жихарев, не договоримся. Понимаешь, есть такое слово – «совесть», оно тебе незнакомо. Так вот, моя совесть не позволит оставить ни тебя, ни твоих напарников-бандитов живыми. Не имею права. Слишком много горя, страданий, смертей вы посеяли вокруг себя.
Эти слова Кольцов сказал жестко. Жихарев понял: ни договариваться, ни просить пощады – ничто уже им не поможет. Но есть еще случай, стечение обстоятельств, везение: остается надеяться только на них. Бывает, человека вешают, а веревка обрывается. И ему по закону оставляют жизнь.
Жихарев поверил, что нечто подобное произойдет с ними. И гневно закричал:
– Слушай, комиссар! Мы живучие! Мы выживем! И когда мы выйдем отсюда, сдадим вас самому Врангелю. Уверен, он с благодарностью примет такой подарок.
– При чем тут Врангель? И при чем тут мы? – ответил Кольцов. – Поговорим о вас. Вы нарушили турецкие законы. Они жестокие, но справедливые. За воровство отрубают руку, грабителей вешают.
И еще Кольцов подумал, что, прежде чем уйти, он должен лишить бандитов даже самой малой надежды на спасение. И сказал стоящим рядом с ним Красильникову и Болотову:
– Подождите, я еще кое-что сделаю.
Он прошел в кабинет управляющего, который пока не успел обжить Болотов, но видел там бумагу и чернила. Присел за большой стол, макнул перо в чернила и вывел:
«Полиции Константинополя! Уважаемые господа…»
Писал он торопливо, без остановок. Вероятно, еще раньше, когда у него только возникла мысль о «мышеловке», он продумывал и этот текст, который окончательно вызрел только сейчас.
Закончив писать, он вернулся к Красильникову и Болотову.
– Ну, что там? – он указал вниз, на подвал.
– Матерились. Угрожали. А теперь смолкли, должно быть, думают.
– Это хорошо. Я им еще кое-что подкину для размышлений, – Кольцов обернулся и крикнул вниз, в подвал: – Господа бандиты! Слышите меня?
– Говори, комиссар, – отозвался снизу Жихарев.
– Послушайте письмо, – сказал Кольцов. – Оно адресовано не вам, но вы обязаны знать его содержание! Мы оставим его здесь, на видном месте, чтобы те, кто придет вас вызволять, знали, с кем имеют дело.
После чего Кольцов склонился к листку, стал читать:
– «Полиции Константинополя! Уважаемые господа!..» – и, выдержав длительную паузу, прислушался, как реагируют бандиты.
Они молчали.
Кольцов подошел к лестничному парапету, глянул в подвал. Они, все трое, обреченно стояли возле решетки, держась руками за ее толстые стальные прутья.
Наконец отозвался Жихарев:
– Читай дальше, комиссар, свой роман. Это не ты ли написал про Монтекристу?
– Тоже пытаешься шутить? На что-то еще надеешься? – спросил Кольцов. – Тогда слушай продолжение. Оно еще больше вас позабавит! – и он продолжил: – «…Оставляем вам в ограбленном русском банке трех грабителей, пойманных на месте преступления. Это их вторая попытка ограбить этот банк, такая же неудачная, как и первая. Все трое являются профессиональными грабителями, к политике никакого отношения не имеют. Жихарев хорошо известен. Во время войны он грабил и белых, и красных, разорял покинутые богатые дома, убивал мирных жителей. Был приговорен советским судом к смерти, но с помощью такого же бандита, как и он сам, сумел бежать из тюрьмы крымского города Феодосия.
Рассчитываем на ваш справедливый суд. Могли привести приговор в исполнение сами, но, являясь гражданами другого государства, по всем международным правилам не считаем это возможным».
Закончив читать, Кольцов спросил у бандитов:
– Надеюсь, всем все понятно.
Бандиты молчали. Может, лихорадочно размышляли, как освободиться? Впрочем, уже убедились, что тяжелую решетку им ни вырвать, ни сломать.
– Мы уходим. С вами прощаемся навсегда. Для утешения скажу: дня через три-четыре вас освободит из этого подвала турецкая полиция, будут судить и воздадут каждому по заслугам.
Болотов, Красильников и Кольцов направились к выходу. Болотов шел последним, он и погасил в доме свет. Бандиты кричали им что-то вслед.
На улице стояла красивая ночь с большими, размером с кулак, южными звездами, ярко светила перевернутая вверх рогами турецкая луна.
– Завтра уезжаю в Париж, – сказал Болотов. – Но не хочу ночевать в банке.
– Ночевать в банке не надо. Но и уезжать в Париж не следует, – сказал Кольцов. – Через три дня кто-то сообщит турецкой полиции, что из банка доносятся какие-то крики.
– Кто?
– Не имеет значения. Вполне возможно, что это сделает ваш сосед – кондитер? Не вы, а он скажет турецкой полиции, что вы вернулись из Парижа, и у вас есть подозрение, что в банке кто-то хозяйничает. Остальное – дело полиции.
– Допустим, – согласился Болотов.
– Но где-то надо бы переночевать? – зевнул Красильников и добавил: – Вроде бы ничего такого тяжелого не делал, а в сон клонит, устал.
– Тут ночи осталось всего ничего, – сказал Болотов. – Знаете что: проведаем кондитера.
– Глубокая ночь. Люди спят, – засомневался Красильников.
– Он не спит, – убежденно сказал Болотов.
– Пошли, – согласился Кольцов. – А завтра переберемся в какую-то гостиницу на окраинах Константинополя. Нам с Семеном надо хоть на несколько дней затаиться, – и добавил, глядя на Болотова: – И вы тоже эти дни побудете с нами. И нам хорошо, и вам нетоскливо.
Они покинули территорию банка, прошли до конца ограды и посмотрели на кондитерскую. На всей улице Панкалди лишь одно окно светилось: в жилых апартаментах, рядом с кондитерской.
Глава шестая
Кольцов исчез. Идут дни, но он не появляется. Лишь понапрасну разбередил его душу. Слащев на короткое время даже поверил, что в его жизни еще может наступить светлая полоса.
Но почему его нет? Если бы что-то случилось, наверняка об этом хотя бы несколькими строками было в газетах
– Мустафа! – позвал он.
Мустафа, как вышколенный адъютант, тут же возник во дворе:
– Что надо, Яков Александрович?
– Свежие газеты брал?
– Нет. Вы не приказывали.
– Бери! Теперь новости, как дождь: не знаешь, будет или нет, слабый или сильный, тихий или с ветром. А в газетах все напишут.
– После обеда схожу.
День прошел, как почти сотня других, и сколько их еще, таких же пустых, серых, ничем не запоминающихся, промчатся мимо, ничем не задев Слащева.
Вечером он внимательно просматривал газеты, принесенные Мустафой: старые – трехдневной давности – и совсем новые – сегодняшние. Но ничего заслуживающего внимания не обнаружил. Прочитал лишь еще одно короткое сообщение о транспорте, ушедшем с очередной партией беженцев, солдат и офицеров в Советскую Россию. Подумал: редеют ряды русских в Турции, пройдет совсем немного времени, и даже словом по-русски не с кем будет переброситься. Поднимаясь из-за стола, он еще раз бросил взгляд на свежую газету. Его чем-то привлекли несколько строк мелким шрифтом в самом низу последней страницы. Мельком прочитал короткое сообщение и не поверил своим глазам.
Снова присел за стол и уже внимательно, слово за словом, прочел полицейское сообщение:
«Как уже сообщалось, двумя неделями раньше была совершена неудачная попытка ограбления русского банка. Спустя время грабители решили повторить попытку и вчера, при попытке сопротивления, были уничтожены. Главарь банды – русский бандит Жихарев, личности остальных двух выясняются. Всех, кто может пролить какой-либо свет на это ограбление, просим обратиться в полицию».
Вот и все! Что там случилось, если не появится Кольцов, он теперь никогда не узнает.
Если все обошлось для Кольцова благополучно, он должен в ближайшие дни появиться. Или уже не появится никогда. Вполне возможно, он вынужден был бежать. А может, случилось что-то еще худшее. Профессия у него: спаси и помилуй. Каждый день, и днем и ночью, даже в относительно мирное время, рядом со смертью ходит.
Независимо от этого надо что-то предпринимать. Но что?
Постепенно одна мысль, которая нет-нет и прежде возникала в его голове, стала обретать какую-то ясность. И уже спустя совсем короткое время он понял, что должен поступить именно так. Во всяком случае, он сейчас был убежден, что это единственный поступок, о котором он не пожалеет даже в том случае, если его жизнь даст крен в худшую сторону.
На следующее утро он решительно оделся, вышел из домика.
– Генерал куда-то уходит? – спросил Мустафа. – Что сказать вашей жене?
– Скажи, что генерал ее по-прежнему любит. Маруську тоже.
– Это будет ей приятно услышать. Но она захочет узнать, куда вы пошли?
– Генерал еще сам не знает, куда понесут его ноги, – уклонился от прямого ответа Слащев. Он с юных лет верил в то, что, если какая-то мысль овладела им и мозг ее не отбросил, значит, надо приступать к ее осуществлению. Во всяком случае, так он поступал все последние годы, и военное счастье не обходило его стороной.
Миновав прибрежные улицы Галаты, Слащев уселся в фуникулер, еще не до конца зная, что предпримет. Вернее, он не знал, как к этому подступиться, с чего начинать.
Мелькали за окном вагона скромные серые дома, потом вагон долго мчался в темноте туннеля, и на свет он выскочил в совсем другом мире: это был район Пера. Время от времени он замечал на отдельных домах флаги. На эти флаги он насмотрелся там, в заливе Золотой Рог. И здесь они тоже! Их вывесили посольства на своих домах.
Посольство – вот что ему нужно! Итальянское посольство!
Кто-то из пассажиров фуникулера подсказал Слащеву, где ему выйти. И вскоре он уже разговаривал с двумя господами: итальянским консулом и его переводчиком. Русские переводчики появились в консульствах с тех недавних пор, когда в Турции оказалось много русских, сопровождающих Русскую армию, покинувшую поначалу Новороссийск, а затем и Крым.
Ни на что не рассчитывая, Слащев пробился к консулу. Консул сказал, что он рад бы помочь прославленному генералу, но консульства – учреждения, в которых царит рутина.
– В данном случае я говорю о рутине в положительном смысле, как о незыблемом порядке. Мы не можем сделать быстрее то, что не можем сделать быстрее, – сказал консул. – Визы для вашей семьи будут готовы недели через две. Если я очень постараюсь, дней через десять.
– Мне некогда ждать. Мне они нужны сегодня, – сказал Слащев.
– Увы! – ответил ему консул. И они попрощались.
В коридоре Слащева догнал переводчик:
– Господин генерал! Все не так безнадежно! Господин консул советует вам обратиться в репатриационную комиссию Лиги Наций.
– Что это за зверь? – спросил Слащев.
– Это Комиссия по делам военнопленных и беженцев. Называется комиссия «Помощь Нансена», – объяснил переводчик. – Это буквально рядом.
И уже минут через пять Слащева принимал представитель комиссии господин Колен. Высокий, сухощавый, он торопливо вошел в кабинет и затряс руку Слащева:
– Очень, очень рад вас снова видеть!
– Я тоже. Но скажите, какими судьбами вы здесь? – удивился Слащев. – Насколько я помню, вы журналист. И вдруг: офис, комиссия Нансена?
– Ничего странного. Времена меняются, меняется и жизнь. Можно назвать это служением или благотворительностью. Сюда попал только потому, что знаю русский язык. К тому же журналистика – нелегкая профессия. Устал. Надоело скитаться по свету, – и напомнил: – Мы с вами давно и хорошо знакомы. Помнится, я фотографировал вас в Харькове на банкете. Вас представлял тогда Владимир Зенонович Ковалевский.
Они действительно были давно знакомы. С лета девятнадцатого, и с тех пор несколько раз мельком встречались.
– А фотографий ваших у меня нет, – упрекнул Колена Слащев.
– Нехорошо. Будем понемножку исправляться. Оставьте мне свой адрес.
– Адрес? – удивленно переспросил Слащев. – Знаете, а у меня никогда не было адреса.
– Но вы же куда-то собираетесь ехать?
– В Италию, в Анкону, – и затем Слащев пояснил: – Нет-нет. Я не еду. Только жена и дочь.
– А вы?
– Я не сейчас. Несколько позже. Понимаете, русские постепенно покидают Турцию.
– Правильное решение. Еще полгода – и Константинополь сильно опустеет. Европа принимает не только русских, – и затем Колен спросил: – Так вы хотели бы в Италию?
– Да. В Анкону. И как можно быстрее.
– У нас с вами разное понимание слова «быстрее». Через две недели мы отправим комфортабельный пароход. Места пока есть.
– Мне нужно сегодня. Ну, на крайность, завтра, – сказал Слащев.
– Что так срочно?
– Я должен уехать в командировку, она может затянуться. Я не хочу оставлять жену и дочь в одиночестве.
– Понимаю. Но, к сожалению… – Колен, разговаривая, рылся в своих папках? Что-то искал. – Завтра ничего нет. Послезавтра в Равенну отправляется грузо-пассажир. Он взял восемь человек. Есть одно свободное место.
– Дочь совсем маленькая. Пока еще от силы четверть человека.
– Думаю, можно договориться. Но вот вопрос: захотят ли они сделать остановку в Анконе?.
– Да! И еще визы, – вспомнил Слащев. – Они ведь нужны завтра?
– Визы? Какие визы? Мы пока обходимся без бюрократии. Наш «нансеновский паспорт» открывает любые двери.
После возвращения домой Слащев первым делом зашел в Марусину комнату, где возле колыбельки подремывал Пантелей.
– Скажи, старый разбойник, можешь представить пред мои глаза Нину Николаевну?
– Дак она ж на работи, – удивился Пантелей. – Но ежли алюром, то можно. Она туточки, недалеко.
– Сбегай к ней. Пусть на минуту придет домой.
– Приспичило. Дождаться вечера не можете? – стал привычно ворчать Пантелей.
– Но-но! А то в рядовые разжалую.
– Дак я усю жизню рядовым справно служу. Хучь бы до ехрейтора возвысили.
– Делай, что велено! И не рассуждай!
– Слухаюсь, господин енерал, – нарочито вытянулся Пантелей и приложил руку к непокрытой голове. – А вы тем часом, пока я летаю, в хате подметить, молоко закипятить, пелюшки простирнить – и отдыхайте.
– До чего ж ты противный старик! – незлобиво огрызнулся Слащев.
– С измальства карахтер у меня така.
Через полчаса прибежала запыхавшаяся Нина.
– Что случилось?
– Ровным счетом ничего. Побеседовать с тобою захотелось.
– Что, нельзя было вечером?
– Во! И у тебя «карахтер», как у Пантелея. Сядь! И слушай! Хочу довести до твоего сведения приказ.
Нина села, насмешливо глядела на мужа: что за шутку он на этот раз «отчебучит»:
– Так вот! Пойдешь сейчас до твоего жирного кота и попросишь расчет! Сегодня же! Не то, скажешь, муж придет для беседы.
– Ты что, наследство получил? – насмешливо предположила Нина.
– Пока не получил! Не от кого.
– Ну и как же жить будем?
– Пока чуть-чуть поживем порознь. Вы с Маруськой послезавтра уезжаете в Анкону.
– Долго думал? – все еще полагая, что это какая-то шутка мужа, с издевкой спросила она.
– Нет, не долго. Возможно, мне придется на какое-то время уехать. Оставлять вас здесь одних я не хочу. И не могу.
– По-моему, ты начинаешь сходить с ума, – уже понимая, что это никакая не шутка, что это серьезно, испуганно сказала она. – Это ж надо придумать: послезавтра.
– Другой возможности не будет. Документы я выправил, – и он положил перед нею «нансеновский паспорт». – Там вкладыш на Маруську.
– Опомнись, Яша! Что ты придумал! Куда я поеду?
– В Анкону, до родни.
– Да кто ж нас там примет? У них у самих девять душ, да еще нас двое.
– Примут. Скажешь, скоро я приеду. Недели через две.
– Что ты творишь! Я не хочу от тебя уезжать! Не могу-у! – залилась слезами Нина. – Вместе будем! Я работаю, не пропадем!
– Не в этом дело.
– А в чем? В чем?
Слащев пересел поближе к Нине, положил свою руку ей на плечо:
– Юнкер Нечволодов! Ты всегда была послушной. Ты всегда выполняла все мои приказы. Прошу тебя, выполни и этот, может быть, последний.
– Яша! Не говори так! Мне страшно!
– Понимаешь, я понял: так жить, как мы живем, сегодня нельзя. Это не жизнь, а существование. Хочу что-то изменить, но не могу. За тебя боюсь, за Маруську.
– Не надо, Яша! Я не хочу никаких перемен. Будем жить, как все люди.
– Нет, Нина! Ты меня знаешь: я так решил, – твердо сказал он. – И не плачь, пожалуйста. Не рви мне сердце! Если все хорошо получится, приеду за вами. А нет, хуже, чем сейчас, вы нигде жить не будете. И верьте, я приеду! Я обязательно за вами приеду!
Нина хорошо знала своего мужа: если он что-то решил, его трудно было переубедить. Он с трудом принимал чужие доводы и упрямо отстаивал свои.
Первый раз в их совместной жизни она взбунтовалась, но по его тону поняла, что он принял окончательное решение, и уже ни споры, ни плач, ни мольба не смогут на него повлиять.
Весь следующий день прошел в хлопотных домашних сборах. Заплаканная Нина обреченно перебирала свои вещи, ненужные отбрасывала в угол комнаты.
Долго рассматривала свои кавалерийские галифе с кожаными вставками и тоже отбросила. Туда же полетели хромовые сапоги со шпорами, гимнастерка с необычными «юнкерскими» погонами. Их придумал когда-то давно сам Слащев, и они даже были утверждены Врангелем. Таких погон больше ни у кого не было. Впрочем, и таких юнкеров тоже.
Слащев вошел в комнату, посмотрел на печально сидящую возле полупустого раскрытого чемодана Нину, обратил внимание на небрежно сваленную в угол кучу ее армейской одежды.
– Ну что? Собралась?
– Да.
– А почему чемодан пустой?
Нина молча наклонилась и извлекла из кучи армейскую гимнастерку, показала мужу и снова зашвырнула ее в угол. Потом так же подняла галифе, сапоги со шпорами, и все это, показав Слащеву, тоже послала в угол. После всего этого спросила:
– Ты думаешь, мне еще когда-нибудь придется воевать?
Он не ответил.
Жены Мустафы, которых до сих пор никто из них ни разу не видел, тоже стали дружно собирать Нину в дорогу. Одной еды и сладостей наложили большую коробку и затем принялись за одежду.
Когда утром следующего дня они выставили во двор все подарки, собранные ими для Нины и Маруси, коробок и узлов набралось порядочно. Главным образом здесь было все для Маруси: пеленки и распашонки, кофточки, пинетки, одеяльца, бутылки, горшочки, подушечки и даже целая гора игрушек – целых два больших саквояжа. И еще подарили красивую самодельную колыбельку. И хотя Маруся из нее уже почти выросла, решили, что еще месяц-другой она может спать в ней, а там хороший мастер сделает из нее хорошую большую кроватку.
Оглядев все выставленное во двор имущество, Мустафа куда-то сходил и приехал ко двору на телеге, правил которой угрюмый турок в натянутой по самые глаза феске. С телеги он не сошел и, сидя на облучке, терпеливо ждал, когда установят в телегу все вещи.
В порт они пошли пешком, вслед за телегой.
В порту возчик тоже не сошел с телеги и за все время разгрузки не проронил ни слова. Так, молча, и уехал
Пантелей и Мустафа перенесли вещи на старый, облезлый и дурно пахнущий чем-то горелым пароход, словно в насмешку названный «Викторией». Слащев провожал Нину и нес на руках Марусю. Ей пароход явно понравился. Она с молчаливым восторженным удивлением рассматривала этот крикливый, суетливый и новый для нее мир. Иногда она показывала пальчиком на что-то, ее поразившее, и степень своего удивления выказывала одним коротким, но произнесенным с разными интонациями словом «О-о».
Лишь когда пароход издал не по чину низкий басовитый гудок, извещающий об отправлении и все стали прощаться, Мария подняла громкий и безутешный рев. И никакие уговоры и увещевания, никакие конфеты и пряники не могли ее успокоить. Она отказывалась идти на руки к Нине, и изо всей своей крохотной силы цеплялась за пиджак и руки отца. Уходя с парохода, уже на сходнях, Слащев украдкой грубо вытер кулаком лицо – не хотел, чтобы кто-то увидел его нечаянную слезу.
Домой они вернулись незадолго до полудня. Пантелей и Мустафа тут же разошлись по своим делам. А Слащев стал неторопливо обходить опустевшее жилище. Оно вдруг показалось ему пустынным и чужим, словно обворованным. Под ногами валялся забытый гуттаперчевый клоун с глупо размалеванным лицом. В другой комнате обнаружил Зизи. Она выбралась из-под кровати и, радостно виляя хвостом, бросилась к Слащеву.
– Что, дурочка, решила, что тебя забыли? – он подхватил ее на руки и пошел дальше. Подобрал с пола разбросанные и забытые Ниной чисто женские мелочи: гребешки, заколки, носовые платочки, разложил все это на подоконнике.
Снова вернулся в комнату Маруси. Нечаянно наступил на какую-то игрушку, она жалобно пискнула. Он поднял ее. Это была резиновая кошка, которую жевала Маруся: у нее рано начали резаться зубки.
Он присел на стул и долго сидел так, о чем-то размышляя. Его вывела из задумчивости Зизи. Она потянулась к нему и лизнула его в щеку.
– Сочувствуешь? – спросил Слащев и добавил: – Ничего. Переживем.
В глубине дома что-то шуршало, позвякивало. Это на кухне чем-то занимался Пантелей.
В доме поселилась печаль.
Слащев пошел на кухню, увидел Пантелея. Тот что-то толок в ступе.
– Никто ко мне не приходил? – спросил Слащев.
– Кого-сь ждете?
Слащев неопределенно ответил:
– Ну мало ли кто.
– Даже той, шо курей приносыв, тоже чого-сь перестав заходыть.
– Тот больше не зайдет.
– До большвыкив подався?
– В другое место. На постоянное место жительства.
– Никого не було. Та й кому мы з вамы нужни, Яков Лександрыч? Нину з Марусей, и тых отправылы.
– Ну и молчи, без тебя тошно! – и язвительно спросил: – Что толчешь? Воду в ступе?
– Пшеничку на крупу. Для каши. Забыл, шо Маруськи уже нема.
– Не толки. Не надо.
– Истолку. Каша буде. Мы не съедим, иждевенцы есть. Барон – той, звестно, до каши с малых лет приученный. Так это шо! Верите – нет, я даже Яшку до каши приохотыв.
– Филин – кашу? – удивился Слащев.
– А шо филин? Почти той же человек. Два дня мышей ему не давав, на третий зачал кашу жрать за милу душу, – продолжая толочь пшеницу, философствовал Пантелей.
– Оставь ступку! Потом истолчешь. Хочу тебе два слова сказать.
– Лаять будете? – уныло спросил Пантелей.
– За что?
– Тарелку вашую розбыв, пуговки до мундира не пришыв, – стал перечислять Пантелей.
– Стерплю.
– Так чего ж вы тогда так издаля подступаете? – решительно сказал Пантелей. – Уже кажить, шо не так.
– Понимаешь, мне придется уехать. Может, надолго.
– Ну, и езжайте. Не первый раз.
– Ты слышишь? Надолго. Может, очень надолго.
– Ну, и ничого страшного. Дождусь.
– Ты так легко говоришь: дождусь. У Яшки, к примеру, есть ты. Ты его если не мышами, так хоть кашей накормишь. А я уеду, ты один останешься. Как жить будешь?
– Эх, Яков Александрович! Это я по молодости боявся без краюхи хлеба остаться. А счас, в мои-то годы…
– Не хорохорься! И в твои годы сладко поесть хочется и на мягком поспать. Мустафа тебя кормить не станет. У него у самого целая орава – семь душ. И денег у тебя нет, чтоб за жилье платить.
– Так, може, и я з вами туда подамся. За компанию.
– Туда не берут компаниями.
– Ну – ничо. Хужее бувало. Продержусь.
– Так вот, слушай приказ. Собирай все свое богатство, и – на нашу индюшиную ферму. Мустафа вывезет тебя туда. Ты там, кажется, уже бывал?
– Один раз. С Ниной Николаевной. Токо эта ферма так для смеху называется. А шоб она стала фермой, до ее не токо руки, но и ум докладать надо.
– Ну, жить там есть где?
– Хатка! Низ ще ничого, каменный. А крышу всю перекрывать надоть.
– Индюков много?
– Пока ще есть. Но помаленько дохнуть. На одной траве токо те дурные гетерианци живуть. А птичке зернятко требуется. Яшка, и той понимае, шо каша лучшее, чем трава.
– Так вот! Живи там, хозяйнуй. Не вернусь, оставляю ее тебе в полное твое владение. Разбогатеешь, станешь миллионером, мою Маруську не забудь. А случится какая оказия домой в Россию вернуться, езжай без сомнений.
– А ферма?
– Да брось ты ее к чертям собачьим. Или продай, если найдешь какого дурака.
– А вы не до них? Не до Нины Николаевны?
– Пока – нет.
– Много вы туману напустили, Яков Лександрыч. Сидели б на месте, не шукали по свету счастья, – со вздохом сказал Пантелей. – Оно одинаково по всему свету раскидано. Только нагнись и сумей взять
– Так ты и мое заодно подними.
– Э-э нет. Господь в одни руки два счастья не дает. Каждому – свое. Шоб, значится, не перессорились.
– Дурацкая твоя теория, Пантелей! Люди сколь веков уничтожают друг дружку из-за этой пайки счастья. Нету ее. Выдумки все это.
– Как жа! Выдумки! – возразил Пантелей.
– А так! Разуй глаза, посмотри вокруг. На совести все держится. Есть совесть – человек одной пайкой довольствуется. А нет – все под себя гребет. Иной сидит одной своей задницей на целом государстве, и все ему мало. Еще и еще под себя подгребает.
– Гляжу, Яков Лександрыч, вы тоже по-другому рассуждать зачалы.
– Умнеем, Пантелей. Когда много крови насмотришься, умнеть начинаешь. С малолетства бы Господь этот ум людям раздавал, по-другому бы жили – без злобы и зависти.
Под вечер Пантелей тоже навсегда покинул этот уютный домик. Слащев остался совсем один. Впрочем, нет. С ним была еще одна живая душа – Зизи.
Глава седьмая
С раннего утра Слащев ходил по опустевшему двору. Время от времени заходил в дом, бродил по опустевшим комнатам. Снова и снова что-то перекладывал с места на место. Все в доме напоминало о совсем недавней благополучной и в меру счастливой жизни. Чего-то было в излишке, чего-то не хватало – все как у всех.
Словно привязанная, за ним ходила Зизи. Время от времени она покидала хозяина и бежала в комнату Маруси. Но вскоре возвращалась с немым тоскливым вопросом в глазах. Слащев тем временем прошел на кухню, нашел там остатки супа, который еще вчера варил Пантелей, насыпал ей в миску.
Зизи подошла к миске, постояла над нею, но к еде не притронулась. Отошла.
Тогда Слащев накинул на себя свой старый френч, спрятал ее под полой. Зизи немного поворочалась, удобнее устроилась у Слащева на груди. И высунула из-под полы френча свой любопытный коричневый нос.
Так он, с собакой за пазухой, и отправился в город.
На базаре он какое-то время потолкался в многолюдье, высматривая, не покажется ли где над толпой голова генерала Соболевского. Потом у кого-то он спросил, не видели ли его здесь? Ему ответили, что с утра он ходил по базару, потом ушел.
Несколько раз к Слащеву подходили:
– Не продаете?
На что Слащев отвечал:
– Мне всегда говорили, что собака – друг человека. Друзей не предают и не продают.
Слащев знал, в этот день собачьих боев не было. И он пошел к Соболевскому домой.
Едва открыв дверь, Соболевский увидел выглядывающую из-под полы френча мордашку Зизи.
– А это что у тебя?
– Собака.
– Я вижу, что не слон. Похожа на эту нашу… на Зизи?
– Я тоже так подумал. Купил. Решил сделать презент Глафире Никифоровне. Может, утешится после потери Зизи.
– Уже утешилась. Я ей тут недавно волкодава приволок. Эт-то, я тебе скажу, собаченция. За раз ведро каши съедает.
– Так что, не нужна эта?
– Ну, ведь все равно уже купил… – Соболевский обернулся, крикнул в глубину дома: – Глашка! Выйди, тут тебе презент принесли!
На порог выплыла дородная Глафира Никифоровна.
– Вот Яков Александрович хочет тебе презент сделать. Смотри, похожа на Зизи.
– Ну что ты, Саша! У Зизи была такая умная мордочка! И вся она была такая утонченная, аристократичная. А это – деревня!
– Ну, где ж я тебе, Глашка, королевских кровей собаку найду! У них, поди, таких и не было, в псарнях все больше волкодавов и борзых держали.
У Зизи, которая какое-то время сидела неподвижно и равнодушно смотрела на Глафиру Никифоровну, вдруг в памяти что-то сдвинулось. Она услышала легкий знакомый запах и стала вытягивать мордочку, внюхиваться. Затем резко заворочалась, стала настойчиво выбираться из-под френча и радостно, заливисто залаяла.
Слащев опустил собачку на землю. Она стала прыгать вокруг Глафиры Никифоровны на задних лапах и продолжала непрерывно радостно лаять.
– Зизи! – удивленно сказала Глафира Никифоровна. – Саша! Это действительно она, моя Зизи! – и она обернулась к Слащеву: – Скажите, Яков Александрович, только правду! Ведь это она, моя Зизи?
– Нисколько не сомневаюсь, Глафира Никифоровна.
– Боже! Но как же она у вас оказалась?
– Глаша! Прошу тебя, не заставляй Якова Александровича снова вспоминать эту потрясающе драматическую историю, – строго сказал жене Соболевский и украдкой подмигнул Слащеву. – Он мне только что рассказал, и я никак не могу успокоиться! У меня даже разболелось сердце. Не найдется у тебя ничего лечебного? По рюмочке бенедиктинчика? Представь себе, он выкрал ее из гарема эфиопского султана. Она была любимицей его четвертой жены.
– Седьмой! – подхватывая затеянную Соболевским игру, уточнил Слащев.
– Это не столь важно, – сказал Соболевский и снова перевел взгляд на жену. – Я тебе потом, ангел мой, все в подробностях расскажу. Яков Александрович чудом спасся, три евнуха с ятаганами…
– Четыре, – для правдоподобия вновь уточнил Слащев.
– Ну, ты только представь себе! Четыре евнуха. Ятаганы. Светильники от свалки погасли. Рубка в полной темноте. Яков Александрович чудом спасся.
– А жены? – спросила Глафира Никифоровна.
– Все тридцать – в обмороке!
– Боже, как это admirable!
– Глашенька! По такому случаю! – ласково заворковал Соболевский. – Нет бенедиктина, налей нам твоей божественной настоечки. Якову Александровичу это просто крайне необходимо. Риск! Нервы! Буквально вырвался из лап смерти. Ну, и я его слегка поддержу!
– Ну, что же! Входите! – вздохнула Глафира Никифоровна и подхватила на руки Зизи. И она, все еще возбужденная от встречи с хозяйкой, норовила ее лизнуть и время от времени заходилась в радостном лае.
Слащев в дом не пошел.
– Извини, Александр Степаныч, не могу. Нет настроения.
– Это что-то новое в твоем репертуаре, Яков! Я тебя просто не узнаю. Сейчас перехватим по паре лафитничков, и жизнь покажется пуховой периной.
– Нет. Извини. Пойду.
И уже когда они дошли до калитки, провожающий Слащева Соболевский спросил:
– Слушай, Яков, а это действительно Зизи?
– Да.
– Но как она у тебя оказалась?
– Ну, помнишь, тогда она затерялась на «Твери». Ее через трое суток в машинном отделении нашли. Сама вышла. Вся в мазуте. Страшнее черной ночи. Кое-как отмыли. Так она и оставалась на «Твери», плавала в Бизерту и на Лемнос. А потом как-то знакомый механик занес ее ко мне. Вот и вся история.
– Все-таки ты, Яков, дурак! Сказал бы Глашке, что выкупил ее у янычар за… ну, хоть за пятьсот франков. Она бы заплатила.
– Это ж ты начал про мои подвиги, – улыбнулся Слащев.
– И я дурак, не сразу до этого додумался. Н-да! Опростоволосились. Она – баба жмотистая, все мои деньги в своих закромах держит. Веришь – нет, сам иной раз в ногах у нее валяюсь, выпрашиваю. Слушай, давай вернемся! Я ей по-новому, еще жалостливее все представлю. Она, дура, всему верит. Скажу, ее везли на живодерню. А ты узнал, выкупил. Барыш – пополам.
– Нет. Ты со своей бабой сам справляйся. Без помощников.
– Но деньги, чудак-человек! Они что, больше тебе не нужны?
– Угадал. Не нужны.
– Ты чего? – даже застыл от удивления Соболевский. – Что, разбогател? Фунты наконец получил?
– Не получил. И не получу, – сказал Слащев.
– Почему? Что-то с родней случилось?
– Да нет у меня никакой родни. Ни в Англии, ни в Гондурасе, ни в Хацапетовке. Извини, брат! Надоело мне врать, Ваньку валять из-за копейки. Прогибаться. И нищенствовать тоже.
– Это кто ж тебе такую крамолу в голову вложил? Ты хоть одного человека видел, который бы не врал? Мелкий, он и врет по-мелкому, за копейки. А я та-а-ких тузов видел! Мелочь мелочью, а врут на миллионы. И им несут! Миллионы несут! Иной уже столько наврал, что к нему не подступишься!
– Посадят, – убежденно сказал Слащев.
– Таких, Яша, не сажают. Я тебе по большому секрету скажу: они нужны-с! Без них нельзя! Да ты их и не узнаешь на улице! Нет, что я? Не увидишь! Они в дорогих каретах, в автомобилях… Это, Яша, и есть жизнь.
– Я не хочу такой жизни.
– А другой не бывает. Ты только после армии еще до нее не приспособился. Или до конца ее не понял. Да и в армии почти так же.
– Не знаю, может быть. Извини, Саша, я пойду.
Соболевский торопливо сунул руку в карман, вынул кошелек и, извлекая купюры, продолжал:
– Ты заболел, Яша. Есть такая болезнь: безденежье. Возьми, лечись!
– В долг больше не беру. Знаю, не сумею отдать.
– А разве я сказал тебе «в долг»?.. Бери!
– Нет.
Соболевский почти насильно сунул Слащеву в карман несколько крупных турецких купюр.
– Надеюсь, завтра видеть тебя совершенно в другом настроении.
Слащев все же хотел вернуть деньги, но не стал сопротивляться и с каким-то ленивым безразличием подумал: «А, плевать!»
На пороге дома вновь возникла Глафира Никифоровна с Зизи на руках:
– Ну, где же вы, Саша! Я стол накрыла!
Но Слащев был уже далеко.
Дома Слащев лишь на минуту зашел к себе. В спальне, в заветном шкафчике, под стопкой аккуратно сложенного, оставленного ему белья он нащупал револьвер, вытащил его. Что-то упало к его ногам. Крохотный аккуратненький беленький пакетик лежал на полу. Когда-то, не так давно, он тщательно искал его. Он перерыл тогда все белье, перетряхнул каждую рубашку, каждую простынь. Как он был нужен ему тогда!
Он торопливо поднял пакетик, сунул его в карман, туда же положил револьвер и вышел во двор. Прошел к беседке, уселся на скамейку и стал задумчиво наблюдать за кораблями в заливе. Их было много. Одни покидали его, иные только входили. Разноголосо перекликались друг с другом.
Чужая жизнь, чужие заботы. Что ему до них.
Вспомнил на минуту Кольцова. Обещал зайти. Ушел и забыл. Ну, что ж! Так тому и быть!
«Все врут, подстраиваются под обстоятельства», – вспомнил он слова Соболевского. Неужели и этот соврал. Нет, не мог соврать, другой породы. Должно быть, все так сложилось, что вынужден был бежать. А то и погиб.
А он впервые поверил в это свое предположение. Ничего иного в голову не приходило. То, на что он, после долгих душевных терзаний, решился, исчезло, растаяло, как мираж. Дальше пустота, неизвестность.
Он вынул из кармана крохотный пакетик, бережно открыл его, положил перед собой. Мелкая белая пыль притягательно искрилась на белоснежном листе бумаги. Еще несколько минут, и мир для него станет добрым, уютным, привлекательным. Уймется саднящая сердечная боль. Забудутся одиночество, неустроенность, нищета.
Ну, а потом? Завтра? Чтобы продлить эту безмятежную и бездумную жизнь, надо будет снова доставать этот эликсир счастья – кокаин. Кому-то надо будет врать, у кого-то выпрашивать деньги. В конце концов достанет. И еще зарядится на день, может, на неделю. Но когда-то, и очень скоро, все это кончится. И он снова будет сидеть здесь, решая все тот же вопрос: как жить дальше? Не лучше ли уж сразу отказаться от этого призрачного счастья?
Он взял в руки пакетик, подержал его на ладони, с отчаянным сожалением последний раз посмотрел на эту, обещающую несколько часов внутренней гармонии и тихого радостного покоя искрящуюся пыль и подбросил пакетик вверх. Слабый ток воздуха подхватил тонкий бумажный листочек, и с него просыпалось белое облачко. Истаивая, оно плыло по воздуху и вскоре исчезло, не оставив после себя ни малейшего следа.
И снова Слащев какое-то время сидел, вперив глаза в одну точку. Вспомнил себя, молоденького подпоручика. Он только что с золотой медалью окончил Императорскую Николаевскую военную академию. Один из немногих, он был прикомандирован тогда к пажескому корпусу в должности младшего офицера. Несколько лет – и летом, и зимой – вся его жизнь была занята муштрой. Он хотел стать хорошим офицером – и стал им. Легко шагал по служебной лестнице, дослужился до полковника. И все ждал: вот она наступит, настоящая жизнь, феерическая, красочная, праздничная, заполненная бравурными и радостными маршами духовых оркестров. Ведь еще совсем недавно была такая: гусары, кивера, ментики, тайные любови, дуэли! Куда все это ушло? Куда делось?
Впрочем, довольно скоро она наступила. Но совершенно иная. Вместо праздников – тяжелые походы, дожди, слякоть, холода, кровавые схватки с противником, вместо бравурных маршей духовых оркестров – госпитали, снова бои и снова изнуряющие походы.
И вот свечным огарком дотлевает жизнь. Чужбина. Одиночество. И ничего впереди.
Басовитый гудок прервал его воспоминания. Лоцманский катерок надрывно втаскивал в залив большой океанский корабль. На его корме развевался невиданный прежде красный флаг с белой звездой. Вспомнил: видел такой на антибольшевистских листовках. Это был флаг новой Советской России.
«Последний привет с Родины!» – с некоторой тоской подумал он и стал наблюдать за кораблем. По нижней палубе носились матросы, легкий ветерок донес до него отдельные русские слова и звуки боцманской дудки. На корме русскими и латинскими буквами выведено: «Темрюкъ» и чуть ниже порт приписки: «Одесса».
За спиной Слащева послышался звук шагов. Он обернулся.
– Господин генерал! – окликнул его Мустафа. – Тут вас спрашивают.
– Что им надо?
– Не знаю. Говорят, очень нужно.
– Скажи, генерал занят! – сердито сказал Слащев. – Скажи, генерал сегодня не принимает.
И когда Мустафа удалился, Слащев извлек из кармана револьвер. Покрутил барабан. Все семь патронов были на месте. Семь смертей тускло отсвечивали холодным латунным блеском.
Он повернул револьвер стволом к себе и приставил его к груди. Подержал так. Подумал, как, в сущности, все просто: легкое нажатие на курок – и кончились все заботы и переживания. Тебя нет. Осталась бесчувственная оболочка, а тебя нет. И никогда не будет.
Ему показалось вдруг, что заболело сердце. Что, не хочется умирать?
Ну, а если так? И он медленно поднял ствол и остановил его у виска. Ну, что?
Нет-нет, не сейчас. Потом!
Ах, какой дурак, пустил по ветру кокаин. Один раз нюхнул, и все сделалось бы само собой, легко и просто.
Память подсунула ему давнее воспоминание. Это было в академии. Такой же, как и он, курсант, граф Безродный принес в казарму отцовский револьвер. Однажды, напившись пунша, они затеяли игру в «русскую рулетку». Какой упоительный страх испытывал он тогда. Судьба пощадила всех. Но слух об этой игре докатился до начальства. И их едва не отчислили из академии.
А может, еще раз сыграть в судьбу с «русской рулеткой» и снова испытать тот давний божественный страх. Всего один раз! Шесть шансов на жизнь, и лишь один…
Он стал сосредоточенно и хладнокровно, один за другим, выщелкивать из камер патроны. Один, второй… пятый…шестой. Все! Лишь один остался в стволе. Крутанул барабан, поднял револьвер…
«Ну и к чему эта глупая игра? Кому и что ты докажешь? – остановил его внутренний голос. – Тебя миновали сто смертей. Зачем ищешь сто первую?».
Он поднял голову, удивленно посмотрел вокруг. На закатном солнце в заливе толпились суда. Постепенно к нему стали возвращаться звуки: сердито ругались между собой чайки, перекликались, здороваясь и прощаясь, корабли. Он словно приходил в себя после тяжелой болезни.
С удивлением обнаружил в своей руке револьвер. Вспомнил: в барабане всего один патрон. «Русская рулетка». Нет-нет, негоже так российскому офицеру. В бою – понятно. А так, без всякого смысла…
И он опустил ствол вниз, к земле.
«А интересно все же, как бы на этот раз распорядилась со мной судьба?» – подумал он и нажал курок.
Раздался оглушительный выстрел. Руку с силой отбросило вверх. Он стер со лба холодный пот и… представил себя мертвым.
Возле него возник взволнованный Мустафа.
– Что тут? Кто стрелял?
– Я, – спокойно ответил Слащев. – Проверял револьвер. Показалось, сбит боек.
– А тот… он вас все еще ждет.
– Кто?
– Я ж вам говорил. Пришел, спрашивает вас. Говорю ему: генерал занятой. Я его когда-то у вас видел. Упрямый. Все еще сидит возле калитки.
– Пригласи.
Мустафа торопливо пошел к калитке. Слащев пошел следом. Уселся на скамейке возле дома и обнаружил, что все еще продолжает держать в руке револьвер. Выщелкнул стреляную гильзу и, вынув из кармана жменю патронов, на всякий случай дозарядил револьвер. Обернувшись на шум шагов, он увидел…Кольцова.
Глава восьмая
Котляревский и Уваров еще были в Париже, когда в Галлиполи, в корпусе Кутепова, начались серьезные брожения. Причина была в следующем. Французы, выполняя указания премьер-министра Бриана, поначалу уполовинили продовольственную норму для всей Русской армии, размещенной на Галлиполи, острове Лемнос и в Чаталдже, а затем и еще уменьшили ее вдвое.
Солдаты и офицеры жили впроголодь. Хлеба хватало только до обеда. Суп из бобов был похож на мыльный настой. К этому еще выдавалось немного консервов и полторы ложки сахару. Это был весь дневной рацион.
С каждым днем солдаты и офицеры все больше ощущали чувство голода. Уже давно было продано все, что можно было продать и променять на продукты. Ни у кого ничего не осталось. К тому же несколько месяцев никто не получал денежного довольствия. Кончился табак, и курили какую-то высушенную траву.
У многих офицеров здесь же, в городе, ютились их семьи. Если бы не помощь Американского Красного Креста и Земского Союза, они бы вымерли с голода. А так, они даже ухитрялись понемногу подкармливать своих мужей.
Все это свалилось на Русскую армию почти внезапно. И советские листовки об амнистии, когда-то доставленные в места пребывания армии, снова приобрели свою цену. В них стали заново внимательно вчитываться и относились к каждому слову уже по-другому: без скепсиса и с надеждой.
Особенно всколыхнули Галлиполийский лагерь четверо бывших солдат, побывавших на заработках в Греции и бежавших оттуда. Один из них, Григорий Найда, при большом количестве собравшихся солдат рассказал, как они там жили.
– Работа у греков есть, но встрели нас без музыки. Крепких мужиков принимали, мелочь отсеивали. Жили в бараках, як той скот: на сене вповалку. Работали от темна и до темна. Ни праздника, ни выходного. Курорт, а не жизня. Мне даже в тюрьму захотелось. Там, може и впроголодь, зато хоть выспаться вдоволь можешь. А у греков: только ляжешь спать, уже кричать: «Вставай! На работу!» – и, заканчивая свою печальную историю, Григорий сделал вывод: – Не, браты, чужа земля – мачеха, а своя – родна мамка. Я так думаю, надо до дому возвертаться. Оно, конечно, страмнувато. Стрелялы в своих братов, воювалы з нымы. А тепер до них же прийдем: простить, мол, обозналысь, не в ту сторону стрелялы. Но это дело такое: перелупаем. А пройдет время, все забудеться. Таки мои размышления.
Ночью Григория и трех его товарищей арестовали и пригрозили, что их будет судить Военный трибунал за агитацию в пользу большевиков и за нарушение присяги.
А утром, едва только разнеслась эта весть, всколыхнулся весь лагерь. Пошли к проходной, столпились там, свалили шлагбаум. Командиры полков протискивались между толпящимися солдатами, пытались успокоить и развести их по своим палаткам. Но командиров никто не слушал, даже пригрозили утопить их в Проливе.
Помитинговали возле лагеря. Тем временем собрались все те, кто уже принял решение возвращаться домой, в Советскую Россию. Затем огромной толпой все они отправились в город, к штабу корпуса. По пути остановились возле гауптвахты.
– Выпускайте вчерашних! – приказали охране.
– Не можем!
Двинулись на часовых. Те несколько раз пальнули в воздух и испугались огромной толпы. Отступили.
Бунтари вышибли двери гауптвахты и выпустили всех арестованных. После чего толпа двинулась дальше, к штабу. Сгрудились у крыльца, обступили ступени, ведущие к входу в штаб. Григорий Найда, как один из пострадавших, крикнул штабному часовому:
– Вызывай генерала!
Но часовому не пришлось вызывать Кутепова. Услышав шум под окнами, он вышел сам и, стоя на крыльце, строго оглядел пришедших. Оценил: они пока еще не были сильно возбуждены. Глядя на Кутепова, никакой брани не выкрикивали, стояли молча, ждали, что скажет он. Но лица были гневные, в глазах светилась решимость. Достаточно ему сказать одно слово не в масть толпе, и кто знает, как она себя поведет.
– Что случилось, братцы? – миролюбиво спросил Кутепов. – В чем дело?
– Надоело!
– Кончилось терпение!
– Отпустите домой, в Россию!
Кутепов рассматривал толпу. Некоторых узнавал, были хорошими солдатами. Но понял: томительное ожидание нового похода и длительное безделье сделали свое дело. Армия начала разлагаться. Никакие увещевания здесь уже не помогут, никаким общаниям они не поверят.
– Вы хоть знаете, что вы затеваете? – попытался он вступить в разговор. – «Домой! В Россию!». Не доедете вы до дома, вас еще в Севастополе, на Графской пристани, постреляют.
– Хоть поховают в родной земле!
– А тут с голоду вымрем!
– Забыли про Крым? – напомнил им Кутепов.
– Амнистия объявлена. Письма пришли: никого не постреляли.
– Это они так для начала. Чтоб заманить, – сказал Кутепов, а сам подумал, что с этой, пока еще не буйной, но уже достаточно возбужденной толпой он уже не справится. Пришли те, кто давно о возвращении думает. Они все равно уедут, что бы он им ни говорил. Сколько их тут? Ну, две-три тысячи. Для того чтобы сохранить армию, он вынужден пойти на тяжелое для него решение: отпустить их. Они, как бродильные дрожжи, своим присутствием, своими речами разложат остатки армии.
Вспомнил Врангеля. Как же ему захотелось, чтобы он здесь и сейчас оказался бы на его месте. Сумел бы он успокоить эту толпу? Какие бы слова нашел?
И все же Кутепов сделал еще одну попытку усмирить толпу:
– Я хорошо понимаю вас. Думаю, Главнокомандующий тоже понял бы. Не положено, но я открою вам одну тайну. В ближайшее время мы планируем покинуть Турцию и перебазироваться к нашим братьям-славянам: в Словению, Болгарию…
Несколько голосов прервали его речь:
– Домой!
– В Россию!
– Надоело воевать!
Кутепов подумал: разговор с этой взбунтовавшейся толпой, похоже, не получится. Кто задумал и выносил в своей душе мысль о возвращении, пусть уезжает. Остальные, верные присяге, останутся с ними, перебазируются в другие страны. Что будет дальше, он и сам теперь не знал. О новом походе на Советскую Россию, похоже, в последнее время перестал помышлять даже Врангель.
И Кутепов сказал:
– Пожалуйста! Всем слабым духом позволяю покинуть Галлиполи.
– Нет! Не так! – выкрикнул Найда.
– А как? – спросил Кутепов.
– Надо все, як положено. Не на словах, а приказом. Чтоб потом не раздумали!
– Не возражаю, – согласился Кутепов. – Оглашаю приказ: «Всем слабым духом, пожелавшим вернуться в Россию, разрешаю в течение трех дней покинуть ряды войск».
– А потом как же? Переловите всех нас и – под трибунал? – снова не согласился с формулировкой приказа Найда.
– Этого не будет, – пообещал Кутепов.
– Это слова! А надо, чтоб так и в приказе было!
– Хорошо! В приказе будет так: «…разрешаю безнаказанно покинуть ряды войск». Так не возражаете: «безнаказанно»? – спросил Кутепов.
Толпа удовлетворенно загудела. А Кутепов тут же скрылся за штабной дверью.
– Ну, увольнительну получилы. А як же дальше? – громко спросил кто-то.
– А очень просто, – ответил все тот же Найда. – Кто пеши, кто на пароходе – словом, кто як сумеет – в Константинополь, в комитет до Нансена. Он поможет. У него и комитет так называется: «Помощь Нансена».
В тот же день на проходящем мимо Галлиполи транспорте Кутепов отправился с докладом о случившемся в корпусе бунте и принятых им мерах. Подозревал, что Врангель вспылит, разгневается, скажет, что нельзя потакать толпе. На все это у Кутепова был один ответ: упустили момент наивысшей точки проявления патриотизма и своевременно, как обещали, не выступили в поход. Теперь пожинаем плоды своей нерешительности.
Так совпало, что в день прибытия Кутепова в Константинополь из Парижа вернулись Котляревский и Уваров. Они встретились в приемной главнокомандующего.
Врангеля в штабе не было, и они терпеливо его ждали. Он появился едва ли не в полдень. Увидев всех троих в приемной, он мрачно поздоровался и пригласил в кабинет.
Усаживаясь за стол, он коротко взглянул на Котляревского и Уварова.
– Я уже почти все знаю, что вы мне можете доложить. Больше двух часов я сегодня разговаривал с комиссаром Пеллё. Вчера тоже.
Все уселись, и Врангель продолжил:
– Он ознакомил меня с телеграммой Бриана. Довольно хамской. В тональности этой телеграммы ведет себя и Пеллё. Он решил, что может со мной разговаривать на повышенных тонах. С помощью крепких русских слов, которых доселе никогда не употреблял, я объяснил ему, что так вести при общении не позволяют себе даже извозчики. Это так, к слову, – он снова обратился к Котляревскому: – Может, у вас, Николай Михайлович, есть какие-то подробности?
– В сущности, Петр Николаевич, все то же, что и в телеграмме. Эмигрантские политические круги эта новость не застала врасплох. Продолжают осмысливать. Как и прежде, кто-то брызжет патриотической слюной, кто-то негодует. Милюков разразился большой статьей о предательстве французов. Это пока все. И еще, о генерале Науменко. Мы повидались с ним.
И Котляревский довольно подробно рассказал Врангелю о встрече с Науменко. После того как он закончил, Врангель, мрачно слушавший, так же мрачно сказал:
– Ничего хорошего от него ожидать не следует, – и обратил взгляд на Кутепова: – А у вас, Александр Павлович? Что, тоже неприятности? – и устало добавил: – Я больше никаких добрых вестей ни от кого не жду.
Кутепов изложил все происшедшее в Галлиполи, стараясь по возможности щадить Врангеля.
– Небольшая группа слабых духом солдат взбунтовалась. Выпустили из корпусной гауптвахты арестованных солдат, которых я намеревался в назидание всем предать суду военного трибунала. Чтобы дальше не разжигать страсти, я не стал проявлять свою власть. Люди и в самом деле голодают, во всем разуверились. Пришлось позволить им покинуть армию. Иного выхода не видел. Если бы силой оставил их в армии, они рассеяли свой бунтарский дух по всему корпусу. Их совсем немного, – он решил несколько уменьшить число бунтующих. – Может, тысяча, от силы полторы. Все верные присяге войска остались с нами.
Не сказал Кутепов Врангелю только о том, что и сам уже не до конца верит в верность ему своего корпуса.
Когда они остались только вдвоем, Врангель сказал:
– Я тоже заготовил для вашего сведения неприятную новость. Я уже говорил: мы в последние дни крупно рассорились с Пеллё. И он в гневе вдруг выкрикнул мне, что имеет полномочия в случае моего неповиновения арестовать меня. И, дескать, только его благородство не позволило ему сделать это до сих пор.
– Не посмеют! Я подниму корпус! – гневно сказал Кутепов.
– Не поднимете. Тогда, осенью, подняли бы. И Константинополь тогда, по дури, могли бы захватить, – не торопливо, без эмоций, сказал Врангель. – А сейчас… Черт их знает, французов, что они еще придумают. Они – хозяева положения: могут и арестовать.
– Ну и что вы думаете? Молча ждать ареста? Надо же что-то предпринимать!
Врангель открыл ящик письменного стола, извлек оттуда исписанный листок и молча положил его перед Кутеповым. Тот склонился над ним, прочитал:
«1. За отказ склонить армию к возвращению в Советскую Россию я арестован французскими властями. Будущая Россия достойно оценит этот шаг Франции, принявшей нас под свою защиту.
2. Своим заместителем назначаю генерала Кутепова.
3. Земно кланяюсь вам, старые соратники, и заповедаю крепко стоять за Русскую честь».
– Храните это у себя, – сказал Врангель. – Надеюсь, не пригодится, но все же… – и затем добавил: – А уж потом будете действовать по обстоятельствам.
– Судя по этому письму, вы, Ваше превосходительство, уже начинаете смиряться с происходящим, – с укором сказал Кутепов. – Теряете боевой дух!
– Вовсе нет! – не согласился Врангель и, после долгих раздумий, решительно сказал: – Да, проиграно сражение. Но не проиграна кампания. Надеюсь, будет и на нашей улице праздник.
…Впрочем, надежды Врангеля не сбылись. Праздник на его улице не состоялся.
Глава девятая
Не все просто оказалось с отплытием домой. Можно было найти какую-нибудь браконьерскую яхту, но это грозило большим риском: охрана советских границ все больше укреплялась. Пароходы из Константинополя в Россию ходили от случая к случаю и лишь после того, как набиралось достаточное количество пассажиров.
Помня о доброте представителя репатриационной комиссии Колена, Слащев отправился к нему. Но Колен на ближайшие дни ничего ему не пообещал. Поток желающих уехать в Россию не только не иссякал, но даже увеличивался. Возникли трудности с транспортом. Накануне ушли два турецких парохода с репатриантами и беженцами из Галлиполи. Следующий пароход турки обещают предоставить не раньше чем через неделю для отправки реэмигрантов из Чаталджи.
Слащев вспомнил, что видел в заливе большие торговые корабли с красными флагами. Колен пообещал все выяснить.
На следующий день он сообщал Слащеву: действительно, в порту бункеруется торговый пароход «Темрюкъ», который направляется в Советскую Россию. Но брать на борт пассажиров капитану строго-настрого запрещено советскими властями.
И тогда на переговоры с капитаном «Темрюка» отправился Кольцов. Через несколько часов капитан получил радиограмму: ему предлагалось принять на борт Кольцова и пассажиров, которых он возьмет с собой…
Ко времени отхода корабля из Константинополя на причале залива Золотой Рог собрались, помимо Кольцова, Красильникова и Слащева, еще три сослуживца генерала, такие же, как и он, отлученные от армии и не нашедшие себя в цивильной жизни на чужбине. Это были генерал Мильковский, полковники Мезерницкий и Гильбиз. Когда Слащев ночью заехал к Мезерницкому, тот, не задумываясь, сказал:
– Яша! Я согласен! – и, оправдываясь, добавил: – Нет-нет, я не изменник. Я хоть сегодня готов идти в бой за Россию. Но сражаться за Врангеля мне уже что-то расхотелось. По-моему, он уже и сам не верит в свое предприятие. Мне кажется, он сейчас думает только об одном: как сохранить свое лицо. Почему бы и мне не подумать о своем?
Почти сутки они отсыпались.
Тихо, ровно и убаюкивающе работали мощные корабельные двигатели. Пережив нестерпимую жару и крутые штормы Индийского океана, «Темрюкъ» теперь наслаждался легкой черноморской зыбью и прохладным ветерком. Где-то за кормой осталось веселое лето, а сюда, к Черному морю, незаметно подступала скучная осень.
На корабле, во всех его коридорах и в кубриках пахло терпким цейлонским чаем, к которому примешивался сладкий аромат турецкого табака. Этими товарами были забиты все трюмы. Часть чая успешно продали в Турции, а на вырученные деньги купили табак. Новая Россия училась выгодно торговать.
В пути капитан «Темрюка» получил еще одну радиограмму. Ему предлагали сменить курс и прежде зайти в Севастополь, чтобы оставить там пассажиров.
На следующий день все шестеро стояли возле капитанского мостика и напряженно всматривались вдаль.
Белая гряда возникла внезапно. Поначалу она казалась просто пенистым гребнем дальней волны. Но потом над этой белой кипенью возникли зубцы каких-то строений, высокие шпили церквей и соборов.
– Севастополь! – указал вдаль капитан.
И если раньше мысли о том, что ждет их там, на советском берегу, были тревожными, но расплывчатыми, неконкретными, то сейчас каждый из них почувствовал близкое наступление той минуты, когда надо будет отчитаться за все.
Кольцов, вглядываясь в даль, с беспокойством думал о том, будут ли его встречать, и если будут, то кто. Не ровен час, на берегу возникнет Розалия Землячка, и тогда все может произойти совсем не так, как он рассчитывал. Придется задерживать своих пассажиров в трюмах, а самому мчаться в Особый отдел ВЧК «Черно-Азовморей» к Беляеву, и просить у него помощи.
Мильковский, Мезерницкий и Гильбиз были относительно спокойны. Они поверили Слащеву и надеялись, что если уж ему ничего не угрожает, то им – тем более. Но определенный страх заползал и в их смятенные души.
Слащев тоже уговаривал себя быть спокойным. Он верил Кольцову. И все же, чем ближе был берег, тем чаще его посещало одно холодное предчувствие: советская пропаганда сделала много для того, чтобы он прослыл здесь убийцей, кровавым палачом и генералом-вешателем. Стоит крикнуть лишь кому-то одному: «Вот он, генерал-вешатель!», и в следующую минуту его будут бить, топтать, рвать, уничтожать. Такие картинки ему не однажды приходилось видеть прежде.
Корабль подходил все ближе к хорошо знакомой Слащеву Графской пристани. Уже стали различимы лица людей. Он вглядывался в них. Бедно одетые женщины, закутанные в толстые платки. Мужчины в картузах, шапках, папахах. Вон один, в лихо заломленной набок папахе, смотрит на корабль. Слащеву показалось, что они даже встретились взглядами.
«Не ты ли первым крикнешь: «Бей палача!» – подумал Слащев. Нет, взгляд его направлен куда-то выше. Куда он смотрит?
Слащев тоже поднял глаза. Над его головой трепетало на легком ветру красное полотнище. И он понял: встречали не их. Встречали корабль, пришедший в порт после долгих странствий. Так было всегда в портовых городах: все население сбегалось в порт, чтобы посмотреть на вернувшихся домой моряков. Кто знает, может быть, это был один из немногих первых советских кораблей, вернувшихся после долгой войны с мирным грузом в мирный порт?
Кольцов тоже выискивал среди встречающих знакомые лица. Вон суетится в окружении красноармейцев Беляев. Кто там еще? Кто-то высокий, в длинной шинели с кем-то разговаривает. Знакомое лицо! Не сразу поверил. Это был Дзержинский. Он стоял у самого трапа, по которому им предстояло сойти на берег.
Нервное беспокойство отпустило Кольцова. Дзержинский здесь. Землячки не видно. Ее и не должно здесь быть. Они не любят друг друга: Дзержинский и Землячка.
Едва только корабль кранцами притерся к пирсу, Дзержинский прошел к корабельному выходу.
Кольцов подошел к нему, они поздоровались.
– Здравствуйте, Павел Андреевич! С благополучным возвращением, – пожимая ему руку, сказал Дзержинский. – Забирайте свою команду – и во-он туда, – он указал на площадь, где особняком стояли несколько автомобилей.
Они тесной кучкой, все шестеро, во главе с Кольцовым, прошли сквозь расступившуюся толпу. Четверо шли в своей обычной белогвардейской форме, разве что только без погон. Люди с любопытством их рассматривали: ни злобы, ни угрожающих выкриков. Время лечило людей. Здесь уже начинали забывать о войне.
Их разместили в салон-вагоне Дзержинского: четверых – в одном просторном купе, Кольцова и Красильникова – в другом.
Едва поезд тронулся, Дзержинский пригласил гостей к себе. Кольцов сходил за своими спутниками. Они успели несколько привести себя в порядок.
В большом купе уже стояли приборы. Молоденький дежурный Дзержинского каждому указал его место.
Открылась дверь, Дзержинский прошел к своему месту и, стоя, выжидал, когда гости подхватятся. И лишь после этого сказал:
– Ну, здравствуйте, господа генералы!
– А может, все же уже «товарищи»? – спросил Мезерницкий.
– Ну, до «товарищей» еще надо дослужиться, – с легкой улыбкой ответил Дзержинский. – Прошу садиться. Будем знакомиться.
На Курском вокзале, куда пришел «Литерный», было малолюдно. Только встречающие этот поезд – и никого лишнего. Среди них Кольцов увидел помощника Дзержинского Герсона.
Едва поезд остановился, из вагона вышел Дзержинский. И его тут же увел Герсон.
Следом на перрон спустился Кольцов со своей командой. Они с любопытством оглядывались по сторонам. Тут же возле них появились молоденькие вышколенные чекисты и поодиночке разобрали всех четверых. Перрон пустел. Кольцов поискал кого-то глазами. Красильников перехватил его взгляд и, не без легкой издевки, сказал:
– Потеряли нас, Паша.
– Забыли. Как у Чехова Фирса, – весело согласился Кольцов. Но озабоченность не сошла с его лица.
И тут он увидел издали бегущего к ним Бушкина, следом торопился, но никак не поспевал Гольдман. И все же подбежали они почти одновременно.
Гольдман схватил Кольцова за руку:
– С возвращением. А мы, понимаешь, заранее выехали. Но, как известно, автомобиль – транспорт ненадежный. Обломались. Хотел уже извозчика нанимать. Извини! – Гольдман удивленно поглядел вокруг, поздоровался с Красильниковым, спросил: – А где же эти? Нам сообщили, вы генералов с собой везете.
– Генералов увезли. А мы с Семеном уже, пожалуй, никому не нужны.
И они пошли по перрону к выходу.
Слащев и его товарищи сидели в просторном автомобиле, молча и пристально вглядывались в проплывающие мимо обветшалые дома. Унылые городские окраины все еще хранили следы многолетней неустроенности.
Они долго плутали по малолюдным, похожим друг на друга переулкам. Шофер с беспокойством смотрел по сторонам, время от времени переговариваясь с сопровождающими гостей чекистами. Наконец шофер остановил автомобиль, высунулся из окошка, спросил у проходящего мимо пожилого путейца:
– Не подскажете, уважаемый, где тут Красноказарменная улица?
– Чуток проскочили. Вернетесь на квартал назад и за угол направо.
Вернулись. На Красноказарменной увидели два рядом стоящих автомобиля. Возле них остановились. Увидели среди группы стоящих командиров и самого Дзержинского.
– Слащев, выходите! – велел сопровождающий их чекист. – Остальные – дальше.
– Мы что же, не вместе? – обеспокоился Слащев, выбираясь из автомобиля.
– Вместе, вместе! Только они малость подальше будут проживать, – успокоил его чекист.
Дзержинский подошел к Слащеву, указал на приземистый трехэтажный дом.
– В этом доме будете жить. Идемте!
Они вошли в подъезд, поднялись на второй этаж. У открытой двери одной из квартир их ждал пожилой рабочий, вероятно, привратник. Он держал в руках связку ключей.
Дзержинский приостановился, пропуская Слащева в квартиру. Слащев вошел. Остановился в прихожей. Отметил несколько дверей.
– Смелее, смелее! – подбодрил его Дзержинский. – Осматривайтесь! Это ваша квартира. Вся. У вас, я слышал, где-то есть семья. Со временем заберете. Тесно не будет. Здесь же по соседству и курсы.
– Какие курсы? – с легким недоумением спросил Слащев. – Всему, что мог, я уже выучился.
– А теперь будете учить других. Красных командиров.
– Чему? – удивился Слащев.
– Как побеждать врага. У вас, насколько я помню, это иногда хорошо получалось.
– Издеваетесь? – нахмурился Слащев.
– Вовсе нет. Будете преподавать на курсах красных командиров.
– Все равно не понимаю. Среди них, наверное, найдутся и те, которых я… как бы это помягче… нечаянно обидел.
– Вполне возможно. Вот и расскажете им, где они допустили ошибки, в чем вы оказались умнее, дальновиднее.
– Ну, придумали! – ухмыльнулся Слащев. – Это, как в цирке. Я такое однажды видел: дрессировщик приглашал зрителей зайти в клетку с медведями. Они, говорит, смирные. Заходите, кто смелый. Смелых не нашлось.
– Ну, наши командиры действительно смирные. В бою, верно, бывают горячие. С вашим авторитетом, я уверен, вы найдете с ними общий язык.
– Постараюсь. Хотя учить других, как на коне скакать, чтоб он тебя не скинул, – не моя мечта.
– А какая же ваша?
– А никакой. Про что не подумаешь, и сразу же понимаешь – не дотянешься. Руками или умом.
Потом Слащев провожал Дзержинского. Прошли в прихожую.
– Нет, была у меня одна мечта, – сказал Слащев. – Даже не мечта – сон.
Дзержинский смотрел на Слащева, ждал. А он весь как-то сосредоточился, подтянулся, на скулах заиграли желваки.
– Был у меня конь: светло-рыжий, с черной гривой. Буланый. Змей, а не конь. Я его Буяном назвал. С полу-взгляда меня понимал. Я часто вижу его во сне. Будто мчусь я на Буяне по Тверской. А скорость такая… ветер не догонит! – Слащев тяжело вздохнул. – Под Каховкой погиб. Ранен был. Смертельно ранен был. Я вынужден был его застрелить. Целюсь в него, а он смотрит на меня. Из-за слез два раза промазал, мушку не видел… Часто о нем думаю. Ожил бы, думаю, и мы бы с ним – по Тверской… А другой мечты, пожалуй, что и нету, – закончил свой рассказ Слащев и украдкой стер тыльной стороной ладони со щеки слезу.
Во дворе они попрощались. Дзержинский указал на сопровождающего его молодого чекиста.
– А это ваш ординарец. Он будет решать все ваши вопросы. И бытовые тоже.
– Охрана? – ехидно спросил Слащев.
– Да, – согласился Дзержинский. – Ваша репутация у нас, большевиков, далеко не блестящая. Пока к вам не привыкнут, будем вас беречь.
Уже сидя в автомобиле, Кольцов почувствовал, как спадает с него днями, неделями накопившееся напряжение. Только сейчас, когда все заботы разом отпали, он вдруг почувствовал расслабляющую усталость. С ленивым интересом смотрел в окно на проплывающие мимо улицы. Покидал он Москву, когда по городу носился веселый тополиный пух, а сейчас уже тополиные листья жестко шелестели и, тихо опадая, засевали землю.
Красильникова высадили на Лубянке, сами поехали дальше. Минули Садовое кольцо, проехали по Арбату, свернули в уютный Староконюшенный. И наконец въехали в знакомый двор. Выйдя из автомобиля, Кольцов взглянул на растерявшие листву кусты сирены, бросил взгляд вверх, к третьему этажу. Увидел свой балкон. И удивился: на нем сушились какие-то вещи, пеленки, распашонки и еще невесть что. Решил, что ошибся. Нет, третий. Его.
– Слушай, Тимофей! – указывая на балкон, обратился Кольцов к Бушкину. – Объясни, пожалуйста, это мой балкон или не мой? Я же тебя в квартире оставил! Что ты там сушишь?
Стоящий рядом с Кольцовым Гольдман отвернулся и стал с преувеличенным вниманием рассматривать голые сиреневые кусты. Это не ускользнуло от взгляда Кольцова.
– Братцы, что происходит?
И вместо того, чтобы выслушивать ответы, он вскочил в подъезд и помчался наверх. Второй этаж. Третий. Его дверь. Позвонил один раз, второй. Не отвечали. Позвонил в третий раз, настойчиво. Наконец в квартире прозвучали чьи-то шаги, пискнул ребенок.
Щелкнул замок, дверь открылась, и он увидел…
Нет, этого не могло быть! При всей своей фантазии такое Кольцов не мог себе нафантазировать! В проеме двери с ребенком на руках стояла… Таня. Его Таня. Она, не шелохнувшись, смотрела на него, и по ее лицу медленно сползала слеза.
Гольдман и Бушкин отошли куда-то в угол коридора и даже не смотрели на них, боясь хоть чем-то нарушить эту святую тишину.
Потом Таня сделала шаг к нему и протянула ему ребенка. Сказала одно только слово: «Твоя».
Павел словно давно ждал этого, неумело принял этот махонький сверточек. И Таня, как будто от кого-то защищая, обхватила их обоих руками:
– Господи! Как долго мы к тебе шли! Как долго! – и, сдавленным от рыданий голосом добавила: – Все! Больше мы тебя никогда и никуда не отпустим!
От автора
Прежде всего мне хотелось бы повиниться перед читателями первого полного издания романа «Адъютант его превосходительства». Выпущенный издательством «Вече», он содержал семь книг, хотя изначально, по замыслу, должен быть в восьми. Работая над седьмой книгой, я начал терять зрение. По этой причине седьмая книга была написана второпях. Восьмую книгу я написать не успел. Многое из задуманного осталось только в памяти.
После того как семитомник был издан, я получил среди хороших отзывов и упреки в том, что многие сюжетные линии не завершены: потерялась сюжетная линия Юры Львова, невнятно закончена линия Кольцов – Таня. Спрашивали, каким образом Таня вдруг оказалась в Москве? Много у читателей возникло и других вопросов.
После того как врачи вернули мне зрение, я решил восстановить все прежде задуманное. Издательство меня поддержало. Таким образом, седьмая книга была мною заново переработана, некоторые события я перенес в восьмую книгу. В эти две книги я вернул все то, что прежде собирался написать.
Надеюсь, прочтя эти строки, читатели меня поймут.
Теперь о самом романе. Его предыстория.
Еще когда я учился в школе, пытался писать какие-то зарисовки, рассказы. Мне это нравилось. Печатался в местной районной газете, потом в областной, херсонской.
Здесь следует сказать, что в самом начале Отечественной войны я, двенадцатилетний мальчишка, остался без родителей: мать умерла, отец с первых дней ушел на фронт. Как я выживал и выжил – особая тема. За все военные годы я встретил много добрых, сердечных людей, которые помогли мне. Даже тогда, в самые суровые дни войны, люди не очерствели. Порой отдавали последнее, помогали увечным, больным, голодным. Куда все эти качества делись сегодня? Какие злые ветры выдули их из наших сердец? В 1946 году вернувшийся с войны раненый отец отыскал меня в Днепропетровской спецшколе ВВС и забрал оттуда.
Сказал:
– Все, сын, поехали домой. Я отвоевал за тебя и за себя.
Так я не стал летчиком.
Мы жили в селе Великая Лепетиха, на Херсонщине. Отец работал по своей довоенной профессии агрономом. Был он человек грамотный, любознательный, любил историю, особенно археологию. Я учился в школе. Жили вдвоем, отец после смерти матери больше не женился.
Наш дом стоял на высоком берегу, откуда с одной стороны на многие километры был хорошо виден Днепр, плавни, с другой стороны – широкие таврические степи, где еще я застал стоящих на насыпных высоких скифских могильных курганах угрюмых каменных баб. Их сегодня там уже не увидишь, они все переселились в музеи.
Вдоль стены нашего дома лежало длинное толстое бревно, на котором вечерами усаживались крестьяне-соседи и вели неспешные разговоры о недавнем прошлом. Тогда я и узнал, что кто-то из них служил у батьки Махно и много, с упоением, вспоминал о самом Несторе Ивановиче и их военных походах и сражениях. Другой сосед воевал у белых, в конной дивизии самого генерала Барбовича. Кто-то с восторгом вспоминал генерала Слащева, главным образом о том, как генерал под музыку духового оркестра и «Марш Славянки» ходил впереди всей дивизии в атаку. Двое служили в Красной армии, один потерял ногу на излете войны, под Каховкой.
Не ругались, иногда добродушно спорили. Тогда я запомнил одну всех объединяющую мысль:
– Каждый вроде бы за свою правду воевал, а кровь одну проливали, нашу, российскую. Сколько мужиков повыбили! Мильоны! И чем кончилось? Голодом двадцать первого и еще более страшным голодом тридцать третьего.
Да, именно так и говорили: «нашу, российскую», потому что украинцы не отделяли тогда себя от России. Была одна страна, и все сообща поднимали ее из военных руин.
Эта нехитрая мысль «об одной крови» запала тогда мне в душу, а много позже она и стала проводной мыслью будущего романа «Адъютант его превосходительства».
Я много тогда услышал и узнал о Гражданской войне. И рассказы эти были до какой-то степени наглядные: «Тут у бабы Рындычкы Махно ночевал. Сам неподступный был, все больше молчал. А жинка его Галя всегда весела была, с жалобами, спорами до нее шли»… «В соседнем селе, теперь оно Первомаевкой называется, штаб махновского атамана Володина стоял. Его красные так накрыли, что он чуть ли не без штанов со своим войском бежал. Даже свою «скарбницу» забыл прихватить».
Я со своим товарищем отыскали остатки этой самой «скарбницы»: печать и штамп «повстанческого отряда Володина имени батьки Махно». В круге в центре печати, насколько помню, под черепом с костями была надпись «Воля чи смерть». Эти махновские реликвии мы передали в Херсонский краеведческий музей, их и сегодня можно там увидеть. Но при этом сохранили для себя на память их оттиски на тетрадных страницах и иногда в шутку выдавали своим друзьям справки о том, что они никогда не служили в повстанческих войсках батьки Махно.
Через наше село, рассказывали, проезжал Фрунзе, и несколько сельских парней пошли с ним воевать в Каховку, которая находится от нас в шестидесяти километрах. Домой они больше не вернулись, там, на Каховском плацдарме, и сложили свои головы.
Для меня, школьника, это были самые удивительные, овеянные романтикой уроки истории. Вот тогда мне и захотелось написать что-то об этом времени. Точнее даже, записать эти воспоминания, чтобы они не исчезли навсегда после того, как не станет моих уже пожилых соседей.
Уже нет их на свете, но многие из них остались в моей памяти, и теперь их характеры, их мысли живут в романе.
Так вот, еще о предыстории.
Насколько помню, в 1967 году на киностудии Мосфильм появился Георгий Леонидович Северский, полковник, чекист, бывший командующий партизанским движением Крыма в годы Отечественной войны. Точнее, заместитель командующего, так как командующим был назначен герой Гражданской войны Мокроусов, но его, едва гитлеровцы оккупировали Крым, из-за болезни вывезли на Большую землю, и обратно он так уже и не вернулся. Северский остался вместо него, и в сумятице войны переназначить его в командующие забыли. Так до конца войны он, командуя партизанским движением, оставался заместителем.
Северский приехал на Мосфильм с предложением создать большой телевизионный фильм о первых чекистах и разведчиках в годы Гражданской войны. Для этого прежде всего нужен был киносценарий – своеобразная пьеса, по которой кинорежиссер и большая группа его помощников снимают фильм. Я к этому времени уже окончил сценарный факультет ВГИКа и сотрудничал с Мосфильмом. Редакторы телевизионного кинообъединения познакомили меня с Северским. Я прочитал все, что привез он, и, откровенно говоря, мне это не легло на душу. Ничего живого, холодная публицистика. О чем я честно и сказал Северскому.
Северский оказался человеком настойчивым, стал часто приходить ко мне, пытался уговорить. Но я «не видел» будущего сценария и, соответственно, фильма. Казалось, все нами прочитанное в той или иной мере уже использовано в кино. Ничего свежего.
Постепенно мы с Северским сдружились. И как-то однажды он рассказал мне свою детскую, точнее ранне-юношескую, биографию: мальчишкой он остался сиротой, мать умерла, отец, белый офицер, погиб на войне. По воле судьбы его пригрели у себя чекисты, а со временем он и сам стал чекистом.
И тут меня что-то «зацепило», возможно, некая схожесть с моей юношеской судьбой. Начали фантазировать, возникали какие-то эпизоды. Стало понятно, в этом есть что-то свежее, интересное.
Я до сих пор не знаю, выдумал ли Северский мальчика Юру Львова или это на самом деле было с ним? Но в этом я увидел некие драматургические возможности, которые были мне интересны. Ненавидящий красных дворянский мальчик-сирота оказывается в стане красных. Постепенно, пройдя через целый ряд различных событий, он начинает понимать, что по-своему права и та, и другая сторона. Больше того, он случайно выясняет, что человек, который спас его в этой военной жестокой круговерти и сделал для него много добра, на самом деле вражеский разведчик, но не выдает его.
Примерно с этого началась наша с Северским работа над сценарием фильма «Адъютант его превосходительства». Все остальное пришло в процессе работы. Кстати, и название фильма тоже.
Фильм вышел на телеэкраны в 1970 году и имел у телезрителей оглушительный успех. Хочу в этой связи добрым словом упомянуть и режиссера-постановщика фильма Евгения Ташкова, с которым мы разделили успех фильма и были отмечены Государственной премией России. Тогда же на Мосфильм, на телевидение и авторам пришло много писем с просьбой, даже с требованием продолжения. Но в каких-то высоких инстанциях от этой идеи отказались.
Но к тому времени, когда нам отказали от работы над продолжением, у нас накопилось много интересного материала. И мы решили писать большой роман. В первый том вместились все события нашего пятисерийного фильма. Следом написали второй, о том, как с помощью чекистов Кольцов, приговоренный военным трибуналом к смерти, был освобожден из Севастопольской крепости. Северский много помогал мне, и поэтому я искренне считаю его своим равноправным соавтором. К сожалению, мое сотрудничество с Северским прервалось, он умер.
При написании третьего и четвертого томов у меня случайно появился соавтор, но уже после четвертого тома я с ним, совершенно не случайно, расстался.
Остальные четыре тома я писал один, и еще раз убедился, что писать в соавторстве и не быть единомышленниками – дело бессмысленное и нервозатратное. Работая над последними четырьмя томами, я был счастлив, потому что написал о том, что в той или иной степени сам пережил, перечувствовал и продумал. Если и спорил, то сам с собой, если и ошибался, то это только мои ошибки.
Теперь, наверное, о самом главном, о чем я неоднократно писал в газетах, говорил с телеэкрана, но по какой-то непонятной для меня причине меня не слышали. Речь пойдет о Макарове, является ли он прототипом нашего героя Кольцова.
Да, жил в Крыму человек по фамилии Макаров. И был он адъютантом известного генерала, командующего Добровольческой армией Май-Маевского. После выхода телефильма Макаров стал повсюду выступать и говорить, что он является прототипом Кольцова, что это он был чекистом, внедренным в стан белых, и работал на красных.
Я стал расспрашивать Северского, кто такой Макаров? Северский его хорошо знал. В годы Отечественной войны он был у Северского партизаном, но в серьезных операциях не участвовал. Ничем себя не проявил, кроме как пьянством.
Северский сказал мне, что еще задолго до нашей работы Макаров пытался добиться признания его чекистом и участником Гражданской войны. При этом он ссылался на свою книгу «Адъютант генерала Май-Маевского». Действительно, в 1926 году издательство «Прибой» выпустило написанную каким-то журналистом книгу, где со слов Макарова излагались его «подвиги» во вражеском тылу. «На самом деле книжка является плохонькой беллетристикой, пронизанная духом индивидуализма и пинкертоновщины и рассчитана на мелкобуржуазные слои» (газета «Красный Крым», 11 июня 1929 года).
В том же 1929 году Крымское землячество участников Гражданской войны отмежевалось и от Макарова, и от его книжки. Вот выдержки из решения землячества: «Просить комсомольские организации изъять вышеуказанную книжку из библиотек»… «Макаров действительно являлся адъютантом генерала Май-Маевского, служившим верой и правдой белогвардейским душителям»… «Почти с первых дней советской власти в Крыму был отдан приказ, по которому Макаров должен быть расстрелян. Макаров долгое время скрывался, а затем попал под амнистию».
Это строки из решения Крымского землячества, которое подписали комиссар повстанческой армии, член подпольного обкома РКП(б) В.С. Васильев, начальник штаба партизанской армии И.Д. Папанин (да-да, тот самый, позже полярный исследователь, дважды Герой Советского Союза), командующий партизанской армией, секретарь подпольного обкома РКП(б) С.Я. Бабаханян и другие.
Отвлекаясь от качества книги Макарова, сразу скажу: в ней нет ничего, что могло бы лечь хоть каким-то одним эпизодом в наш фильм.
Но некоторые журналисты продолжали писать о том, что Макаров является прототипом Кольцова. Появились и еще два претендента на роль быть прототипом нашего героя. И тогда в декабре 1970 года мы с режиссером телефильма Евгением Ташковым были вынуждены выступить в газете «Советская культура». Приведу лишь несколько строк из нашего опубликованного «Письма в редакцию»:
«В последнее время в печати появились рецензии на наш фильм «Адъютант его превосходительства», в которых авторы пытаются отождествить героя фильма Кольцова с ныне живущим в Симферополе П.В. Макаровым… В связи с этим нам бы хотелось ответить телезрителям и читателям газет. Образ Кольцова не имеет прототипа, он собирательный. Наш герой наделен какими-то чертами, гранями характеров, какими-то поступками многих чекистов тех лет… Поэтому вызывает недоумение позиция некоторых авторов, которые категорически и безапелляционно настаивают на том, чтобы П.В. Макаров был признан прототипом Кольцова».
Дошло до того, что этой историей заинтересовался Председатель Комиссии партийного контроля ЦК КПСС А.Я. Пельше и попросил Комитет госбезопасности разобраться в этом деле. Занимался расследованием консультант нашего фильма полковник А. Коваленко. Он поднял архивы, подробно во всем разобрался. Его ответ: П.В. Макаров никогда не был чекистом, не помогал ЧК, но зато был добросовестным адъютантом генерала Май-Маевского. Известно, что в последние годы Май-Маевский страдал алкоголизмом, и Макаров постоянно участвовал в его пьяных кутежах. По этой причине мы поменяли фамилию Май-Маевского на Ковалевского. Очень уж не хотелось показывать еще одного белого генерала-алкоголика, кочевавших тогда из одного фильма в другой.
Кстати, копия отчета Коваленко Арвиду Пельше о проделанной им работе наверняка есть на Мосфильме в архивах нашего телефильма. Кто хотел знать правду, при желании мог бы с этим отчетом ознакомиться. В первую очередь я имею в виду телеканал «Россия», который уже сейчас, спустя сорок лет после выхода на экраны нашего телефильма, продолжает обвинять меня во всех смертных грехах.
Последние два года телеканал «Россия» выпустил «документальный» фильм «Адъютант его превосходительства. Личное дело» и регулярно два раза в год его показывает. Надо понимать, имеется в виду мое личное дело. В этом рукоделии ни одного слова правды. Удивительно лишь то, что в этой травле принял участие даже режиссер Ташков, который в свое время вместе со мной в прессе недвусмысленно высказался, что Макаров не имеет никакого отношения ни к Кольцову, ни к нашему фильму. Но на это у него, вероятно, были свои причины, не имеющие отношения ни к фильму, ни к Макарову.
Я написал обстоятельное письмо директору телеканала «Россия» А. Златопольскому о том, что фильм «Адъютант его превосходительства. Личное дело» весь построен на лжи. И получил ответ следующего содержания. Объяснения пространные, приведу (сохраняя стилистику) только некоторые пассажи:
«При работе над фильмом «Адъютант его превосходительства. Личное дело» авторами была проделана большая работа по сбору фактологического материала о жизни Павла Васильевича Макарова, факты биографии которого, изложенные в его автобиографической книге «Адъютант генерала Май-Маевского», были использованы при создании литературно-кинематографического образа разведчика Павла Кольцова».
Это вранье: ни один факт из придуманной Макаровым биографии не был использован в нашем фильме.
«Авторы встретились и записали интервью с режиссером фильма Евгением Ташковым…». Далее перечисляются, у кого еще авторы взяли интервью: у актеров Юрия Соломина, Александра Милокостова, Татьяны Иваницкой, журналиста И. Россоховатского, историка А. Немировского, друга Макарова Николая Дементьева, Владимира Гурковича, Михаила Михайлова… Но ни актеры, игравшие героев и героинь фильма, ни позднейшие «свидетели» в пользу П.В. Макарова, не знали, как и на каких материалах рождался сценарий и как собирались воедино образы действующих лиц. Прямых прототипов не было ни у кого, все герои суть образы собирательные. Всё это и было напечатано в декабре 1970 г. в нашем письме с Евг. Ташковым.
У И.Черновой все интервьюеры говорили то, что подтверждало ее собственную, уже бывавшую в употреблении, но отвергнутую фактами версию. Зато ни с одним человеком с противоположной точкой зрения на Макарова И.Чернова не встретилась. Случайно ли? Но в Крыму их много, тех, кто знает правду о П. Макарове.
Я помню интервью, которое брали у меня. Меня, действительно, в фильме показали, но то, что говорил им я, в фильм почему-то не вошло. Остальные, как я понимаю, говорили о том, что нужно было автору сценария Ирине Черновой, которая, как сообщается в письме: «…уже двадцать лет специализируется на журналистских расследованиях, в том числе в ведущих газетах страны, она готовила обучающие семинары по технике юридической безопасности журналистов. Так что в своих расследованиях она каждое слово подкрепляет документами и показаниями свидетелей».
Но вот ведь что странно: И. Чернова не сделала запрос о чекисте Макарове в архивы Федеральной службы безопасности и Службы внешней разведки. А это элементарно для человека, который «двадцать лет готовила обучающие семинары по технике юридической безопасности журналистов». Что ж тут забыла о своей юридической безопасности? Ведь еще в самом начале этой бессмысленной и неблагодарной работы она узнала бы, что чекиста или разведчика с фамилией Макаров в списках этих организаций не было и нет.
Существует довольно подробная книга Н. Швырева «Разведчики и нелегалы СССР и России», в ней тоже нет упоминания о «подвигах» Макарова. Наконец, издана «Энциклопедия ВЧК. 1917–1922 гг.». Но и в этой книге, вместившей тысячи фамилий, упоминания о Макарове нет. Добросовестного журналиста это должно было навести на сомнения (хотя бы на сомнения!).
Зато существуют свидетельства И.Д. Папанина и других участников Гражданской войны, которые лично знали Макарова и оставили о нем свои свидетельства. Но И.Чернова, которая двадцать лет специализируется на журналистских расследованиях, этих свидетельств почему-то не обнаружила.
Не нашла она и письмо заместителя главного редактора республиканского книжного издательства «Крым» В.Г. Алексеева секретарю ЦК ЛКСМУ Т.В. Главак о личности Россоховатского. А у меня есть копия письма. И копия решения собрания Крымского землячества участников Гражданской войны, которое проводилось в Москве, в ЦДКА 18 марта 1929 года, у меня тоже есть. На этом собрании разбиралось личное дело П. Макарова. На нем, кстати, присутствовали и Папанин, и Васильев, и Бабаханян, и Серовой, и Егерев (не самые плохие свидетели!).
Вероятно, И. Чернова так и не выяснила, за что был Макаров приговорен к расстрелу и долго прятался в горах, а спустился с гор только после объявления амнистии белогвардейцам. Я попытался во время своего интервью обо всем этом рассказать И. Черновой. Но, едва я начинал рассказывать что-то, не соответствующее сценарным планам И.Черновой и киногруппы, камера переставала работать. Не скажете почему?
И еще два «почему»? Почему И.Чернова не ознакомилась с отчетом полковника А. Коваленко председателю КПК при ЦК КПСС Арвиду Пельше по поводу Макарова? Ташков об этом отчете хорошо знал, предполагаю, что у него была его копия. В архиве-то Мосфильма она имеется.
Как говорил Жванецкий, тщательнее надо работать. Вы, журналисты, знаете (а уж тем более И. Чернова, «которая двадцать лет специализируется на журналистских расследованиях»), что в жизни, как правило, далеко не все бывает однозначным. Добросовестный журналист при работе над материалом старается выяснить различные точки зрения, узнает все, что только возможно, о своем герое.
Авторы «Личного дела», и прежде всего И. Чернова, удовлетворились одной точкой зрения на прошлое Макарова. Вторую не захотели узнать и ввели в заблуждение огромное количество наших зрителей и наших читателей. И. Чернова крупно подвела своего руководителя канала А.А. Златопольского. И Юрия Полякова – председателя жюри Ялтинского фестиваля. Иначе говоря, обманула всех. Такое вот «Личное дело»…
Прочитав отписку А. Златопольского, я понял: жаловаться некому. И.Черновой и ей подобным безоговорочно верят, их добросовестность никто не контролирует. А они имеют доступ к трибуне, то есть к телеканалу, которой обращается к миллионам телезрителей. И скоро благодаря этой лжи Макаров станет для миллионов телезрителей героем Гражданской войны: как же, прототип Кольцова!
Заканчивая работу над последним, восьмым томом романа, я вдруг подумал, что у меня ведь тоже есть трибуна, с которой я хотя бы вкратце могу изложить свою правду, добытую не второпях, а по крупицам, на протяжении многих лет. Пусть она, моя трибуна, не столь многочисленная, как телеканал, но все равно это уже не одинокий голос в пустыне.
Я не оправдываюсь, я должен в пределах своих возможностей защитить своих читателей и зрителей от лжи! Льщу себя надеждой, что хоть какая-то их часть прочтет эти строки и будет знать, что никаким документальным фильмам, какими бы призами, медалями и грамотами они ни были бы освящены, не следует доверять, если они не подтверждены добросовестно добытыми фактами.
К чему я все это написал? Я понимаю: журналисты ищут в нашей жизни героев. Они нужны всем нам как некая моральная опора, они нужны для воспитания нынешнего и будущего поколений нашей молодежи. Не нужно только лгать ради того, чтобы возвеличивать и прославлять людей, которые этого не заслуживают. Правда стоит намного дороже.


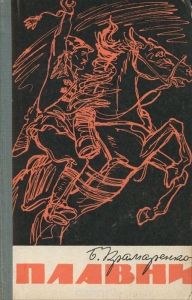

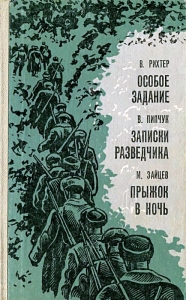




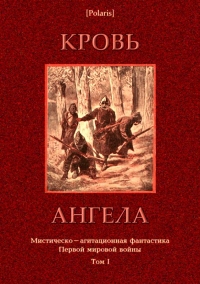
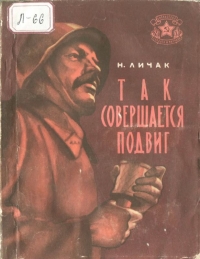
Комментарии к книге «Мертвые сраму не имут», Игорь Яковлевич Болгарин
Всего 0 комментариев