Виктор Некрасов Новичок
Самой интересной из всех принесенных замполитом новостей была та, что в наш полк должен приехать писатель. Когда и какой именно, Чувыкин не знал — сказали в политотделе, что приедет, и все, и чтоб хорошо встретили и показали, что надо.
Новость распространилась в полку моментально.
Шел пятый месяц обороны — срок вполне достаточный, чтобы привыкнуть и даже надоесть друг другу. Каждый день одни и те же лица, один и тот же пейзаж: сзади — Волга, опереди — курган; одни и те же тропинки на передовую, одни и те же разговоры, мечты и желания: «Вот как прогоним фрица, тогда…» На передовой затишье. Приводим себя в порядок, совершенствуем, как пишем в донесениях, оборону. Немцы, очевидно, тоже. В общем, тишина и скука. Любому новому человеку обрадуешься, лишь бы только извне откуда-нибудь появился, а тут вдруг писатель, настоящий писатель.
Живого писателя у нас никто не видел, в моем саперном взводе, во всяком случае, да и в других подразделениях, вероятно, тоже, но книжки почитать любили.
На первый взгляд это может показаться даже неправдоподобным: Сталинград, война, бомбежки, чертова гибель тяжелой работы, особенно у саперов, а вот читали. Связисты, те вообще больше других читают. Я знал одного, который всю «Войну и мир» прочитал на передовой в КП батальона, в каких-нибудь двухстах метрах от противника: сидит себе с подвешенной к уху трубкой, кричит в нее свои «граниты» и «мраморы», а глаза в книжку. Но читающие саперы — явление довольно редкое. И все-таки читали. Урывками, в минуты отдыха, но плавным образом, конечно, легкораненые, на день-два выпадавшие из строя.
Библиотеки в полку у нас не было, но кое-какие книжонки все-таки водились. Найдены они были в разрушенных домах, и похвастаться подбором, окажем прямо, было трудно. Моя библиотечка состояла, например, из двух номеров роскошного журнала «Золотое руно» за 1908 год, невероятно растрепанной, без половины страниц книжки Луи Жаколио «В трущобах Индии», старенького томика Пушкина, однотомника Чехова и книжки Мгеброва об Орленеве и Комиссаржевской. У химиков была, если не ошибаюсь, вторая часть «Анны Карениной», а у разведчиков почему-то «Божественная комедия» Данте в прекрасном издании с иллюстрациями Дорэ.
И бойцы все это читали. Кстати, Луи Жаколио с его сногсшибательными приключениями, тайнами и браминами не производил на бойцов никакого впечатления — «все это неправда, в жизни такого не бывает», — а самыми популярными, по нескольку раз перечитываемыми вещами были «Домик в Коломне», «Сказка про Балду» и чеховский «Ванька Жуков». Особенно огорчало солдат то, что письмо так и не дойдет до дедушки. Сагайдак, наиболее близко принимавший к сердцу все прочитанное, возвращая мне книжку, сказал даже:
— И хоть бы обратный адрес догадался написать. А то что ж это — и ни туда, и ни сюда. Обидно же…
Сагайдак вообще, относился ко всему прочитанному, как к чему-то действительно происшедшему, и очень сокрушался, если понравившийся ему герой вдруг умирал или если с ним случалось что-нибудь плохое. Интересовало его и то, как это вот писатель пишет и как это он может сразу за нескольких людей думать и разговаривать. Особенно поразила его чеховская «Каштанка».
— Подумать только, как будто сам в собачьей шкуре побывал. А? И чего она думает, и чего делает — все знает, тютелька в тютельку…
И вот, оказывается, должен приехать настоящий писатель.
— А что же он будет у нас делать? — опрашивали бойцы.
— Посмотрит, как мы живем, воюем, — отвечал я, — а потом напишет.
— Про нас?
— Про вас.
— И про вас?
— Может, и про меня, если найдет интересным.
— И куда же, в газету?
— В газету, в журнал, а может, и отдельной книжкой.
— Вот так вот про Сагайдака, про Казаковцева, про Шушурина — и прямо в книгу?
— Прямо в книгу.
— Интересно!
Сагайдак долго сидел молча, наморщив свой не привычный еще к морщинам лоб, потом спросил:
— А вот скажите, товарищ старший лейтенант, как же это он… Ну, вот обо мне захочет, например, написать. Про что же он может написать?
— Ну, о том, как ты, например, позавчера вместе с Шушуриным мины в овражке ставил.
— А он откуда знает?
— Ты ему расскажешь.
— Так я ж наврать могу.
Все рассмеялись.
— Чего вы смеетесь? — Сагайдак даже обиделся. — Ну, не позавчера, а первый, скажем, раз, когда я мины ставил… Так я ж чуть… Да что говорить — дрейфил дай бог как. А расскажу я ему об этом? Нет. И ты не расскажешь. И никто не расскажет. Вот. А вы смеетесь…
— А он и сам догадается, — вставил Шушурин. — Если писатель хороший, так сам догадается. Правда ведь, товарищ инженер?
Шушурин был наиболее развитым из всех бойцов. Он окончил семилетку, работал долгое время слесарем на одном из крупных заводов, довольно много читал, в моем взводе исполнял обязанности замполита. Сагайдак — совсем молодой деревенский парень — был его «корешком», воспитанником, так оказать. Оба были комсомольцами и на все задания ходили вместе — так уж было заведено. Для Сагайдака Шушурин был авторитетом, но даже его суждения он никогда не принимал на веру, все ему надо было доказывать. Так и сейчас.
— Догадается… А как он догадается, если на собственной шкуре не испытал? Он ведь и мины живой не видал. Писатель, может, и хороший, а сапер — никакой.
Сагайдак торжествующе оглядел всех нас. Шушурин не сдавался:
— Лев Толстой вот с Наполеоном не воевал, а как про ту войну написал, а?
— Так то ж Лев Толстой!..
— А может, и к нам Лев Толстой приедет? Новый какой-нибудь. Почем ты знаешь?
Сагайдак не нашелся что ответить, но по выражению его лица было видно, что он остался при своем мнении. На этом спор кончился — надо было идти на задание.
На следующий день я не без удивления обнаружил у бойцов подворотнички, а в землянке был наведен такой порядок, что даже глазам не верилось. Лопаты все смазаны, винтовки в пирамиде, котелки вычищены и развешаны по гвоздикам, а на стенке, кроме плаката «Бей насмерть!» с изображением стреляющего пулеметчика, появилось несколько открыток с видами Москвы и почему-то Ласточкиного гнезда в Крыму.
Но писатель так и не приехал. В полку поговорили-поговорили о нем и перестали. Затишье кончилось. Началось наступление. Это после того, как немцы отвергли наш ультиматум.
Командир полка вызвал всех командиров к себе и давал задание. Командиры слушали и молчали. Людей в полку не хватало, а задание было серьезное. Каждому казалось, что его задание особенно сложно, сложнее, чем у других. Мне тоже так казалось. Во взводе семь человек, а нужно в каждый батальон дать по два бойца и отрыть к тому же заваленный ход сообщения к застрявшему танку. Танк этот — подбитая «тридцатьчетверка» — стоял как раз посредине нейтральной зоны, и вот уже сколько времени из-за него шла война. Сейчас он был у немцев. Приказано отбить. От нас к танку тянулся ход сообщения, довольно глубокий, но основательно разбитый. В двух-трех местах его завалило, земля промерзла, лопатой ничего не сделаешь. Лучше всего было бы эти места подорвать, но это выдало бы нас и могло сорвать наступление. Предстояло вею ночь кайлить киркой под самым носом у немцев. А кому?
Ко мне подошел капитан Барщ, помощник начальника штаба, — мы с ним прибыли в полк в один и тот же день, и поэтому, возможно, он благоволил ко мне.
— Пришло двенадцать человек пополнения, — шепнул он мне. — Иди скорей в штаб, возьми себе троих, пока не расхватали комбаты.
Я помчался в штаб. Дежурный куда-то вышел. В тесной, невероятно натопленной землянке, заполнив ее до предела, стояли и сидели бойцы. Их еще не переодели, и вид у них — в Основном это была молодежь двадцать четвертого, двадцать пятого годов рождения — был разношерстный и далеко не воинственный. Я отобрал троих постарше, отвел их в распоряжение саперов, а сам вернулся к командиру полка.
После совещания зашел в нашу землянку. Бойцы уже были готовы, новички переодевались — пополнению давалось все новое, от нательной рубахи до тулупа и валенок. Стоя у печки и прыгая на одной ноге, влезали в подштанники.
Земляные работы требуют большой физической силы и выносливости, поэтому я с чисто профессиональной стороны рассматривал новичков. Двое были ничего, достаточно мускулистые и, очевидно, привыкшие к физической работе, третий же — тонкорукий и узкогрудый, с выдающимися лопатками — меня мало обрадовал: такой после десятой лопаты скиснет. Я решил оставить его стеречь землянку — все до единого уходили на передовую, — но в последнюю минуту оказалось, что один из моих бойцов, Филиппов, вывихнул руку, и я вынужден был оставить его, а не новичка.
Я отозвал Сагайдака и Шушурина.
— Придется мне сегодня вас разлучить. Новичков в батальоны не пошлешь, кому-то из вас надо с ними идти на ход сообщения.
— Что ж поделаешь, — вздохнул Шушурин. — Кому ж куда?
Сагайдак был рекордсменом земляных работ, поэтому я направил его на ход сообщения.
— Закругляйся там, хлопцы! — крикнул он все еще возившимся у печки новичкам. — Слышь? А то копаются, точно на свадьбу.
Голос у него был недовольный, видно было, что компания его мало устраивала.
Я пошел к дивизионному инженеру уточнять задание по разминированию, а когда вернулся, в землянке никого уже не было — один только помкомвзвода Казаковцев сидел за столом и, слюнявя карандаш — от этого усы у него всегда были с лиловым оттенком, — переписывал начисто сведения о пополнении.
— Теперь нас никто уже не обманет, товарищ инженер. Собственного бухгалтера заимели.
— Какого бухгалтера?
— А вот этот, из новеньких, в плащ-палатке пришел, бухгалтер, оказывается. Вот, смотрите, — он указал на листок: «Масляев Николай Иванович, 1911 года рождения, русский, уроженец города Москвы, образование — высшее, незаконченное — три курса финансово-экономического института». — Видали?
— М-да… Он там накопает…
Я не был поклонником бойцов с высшим образованием, даже с незаконченным. Был у меня один такой — тоже что-то вроде экономиста. Попал ко мне во взвод и сразу же попросился на должность писаря, хотя у меня такой сроду не было.
— Так сделайте! — Он даже удивился. — Я вам всю отчетность на такую высоту поставлю, что вы только ахнете.
Попросив разрешения закурить, он стал сетовать на тех командиров, которые по неразумению своему используют специалистов на черной работе, и тут же признался, что очень обрадован встрече со мной, человеком интеллигентным, который, конечно же… Я перебил его и в самых вежливых выражениях дал понять, что писарь мне абсолютно не нужен, а всю отчетность на необходимую высоту подымает помкомвзвода. На этом разговор кончился.
Пробыл у меня этот «экономист» около двух недель, из них дней десять проболел ангиной, потерял лопату, раз пять приходил ко мне жаловаться на бойцов, которые съели привезенное им с собой сало и обложили еще его матом, — одним словом, так надоел мне, что я отправил его на левый берег с запиской помощнику командира полка по хозчасти — пусть делает с ним что хочет. Там его тоже кто-то обидел, и, кажется, довольно основательно, так как он попал в медсанбат. Что дальше с ним случилось, не знаю, но так или иначе открытие Казаковцева не очень меня обрадовало.
Только на следующий день вечером увидал я своих саперов. Усталые, но довольные — танк удалось захватить, и сейчас под ним стоял уже наш пулемет — они сидели в своем блиндаже и, балагуря и весело переругиваясь, чистили оружие. Потерь во взводе не было, только слегка царапнуло пулей Шушурина, и настроение у всех было приподнятое, как и всегда после удачно проведенной операции. Когда я вошел, Сагайдак с азартом и замашками настоящего командира отделения, которым он еще не был, но мечтал стать, объяснял Масляеву и другому, круглолицему, все время смотревшему ему в рот новичку, как надо разбирать винтовку. С часами в руках он стоял над ними, а те, торопясь и путая части, пытались ее собрать.
— Новичков вот обучаю, товарищ инженер. Военной справе, так оказать.
— Ну и как?
— Да ничего.
— Автоматизма вот, говорит, у нас нет, — вздохнул Масляев.
Он держал в руках затвор и, как все новички, свернув его, никак не мог повернуть обратно. Обе руки у него были обмотаны бинтами.
— Что это у вас? — спросил я.
— А это от кирки, — улыбнулся Масляев. — С непривычки.
— Мозоли натер, — пояснил Сагайдак. — Ручки-то городские. А вообще, — он наклонился ко мне, — могу доложить, работали хлопцы справно, жаловаться нельзя.
Масляев опять улыбнулся. У него была приятная улыбка, от которой его худое, со впалыми щеками, небритое сейчас лицо сразу как-то засветилось. Лицо его нельзя было назвать красивым — в нем была какая-то неправильность, которую трудно сначала было уловить: то ли слишком короткая верхняя губа, обнажавшая зубы, то ли несимметричные брови — и в то же время оно чем-то привлекало, вероятнее всего, глазами: серьезными, чуть-чуть ироническими, отчего, когда он говорил, казалось, что он над вами подсмеивается. На вид ему было лет тридцать (вчера он мне показался почему-то значительно старше), и ничего бухгалтерского в нем не было.
— Вы впервые на фронте? — спросил я.
— Вроде как впервые.
— Как это понимать — вроде?
— Так близко от немцев, во всяком случае, впервые.
— Ну и как?
— Т-так себе… — неопределенно оказал он, и все рассмеялись. Масляев тоже.
Я посидел, покурил, выслушал рассказ Сагайдака — он вообще не прочь был поговорить — о какой-то стычке с артиллерийскими разведчиками на передовой из-за блиндажа и, уходя, попросил кого-нибудь из солдат пройти со мной — от разорвавшейся мины перекосило дверь землянки и в щель страшно дуло, надо было исправить. Солдаты уже разулись, один только Масляев возился еще с чем-то в углу.
— Ну, как вам Сталинград? — спросил я его, когда мы вышли.
— Да как вам оказать. Не таким я его себе представлял.
— А каким же?
— Каким? — Он на минуту задумался. — А бог его знает. Не могу сейчас объяснить. С мыслями еще не собрался.
— А все-таки?
— Не выйдет сейчас, товарищ инженер. Слишком все это свежо, что ли, не знаю…
Мы довольно быстро поправили дверь. По окончании работы я предложил ему стакан чаю. Он отказался: спать, мол, хочется. Уходя, он посмотрел на стоявший в углу самовар и спросил:
— Сколько отсюда до передовой?
— Метров четыреста-пятьсот.
— Забавно.
Под койкой у меня лежали книги, видны были только корешки. Он указал на них.
— И читать успеваете?
— Не очень. Библиотечка для раненых главным образом.
Он попрощался и ушел.
На третий день Масляев уже почти ничем не отличался от других бойцов. С поразительной быстротой вошел он в нашу жизнь. Ему было трудно — натертые руки очень долго не заживали, а работать приходилось много и тяжело, — но он и виду не подавал. Не только не отлынивал от работы и не просился в писари или вообще на «чистую» работу, которая у меня время от времени появлялась — разные схемы и планы, — наоборот, в каких-нибудь два-три часа ознакомившись с устройством наших и немецких мин, научился заряжать и разряжать их скорее, чем кто-либо во взводе, и уже на четвертый или пятый день, когда я посылал на передовую группу минеров, попросил послать и его.
— Успеете, куда вам торопиться, — сказал я, считая, что это он просто так, чтобы не думали, что он боится. — Пообвыкнете, пооботретесь, тогда уж и за мины. Дело все-таки ответственное и довольно опасное.
Он пожал плечами и как будто даже удивился.
— Через неделю оно не станет менее опасным, а начинать когда-то же надо. Ведь правда?
Я отправил его вместе с Казаковцевым и Сырцовым — лучшими минерами, на которых всегда можно было положиться. Вернулись они довольно скоро, замерзшие, но веселые.
— Ничего, толк будет, — подмигнул мне Казаковцев. — Малость мандражировал, но… В общем, порядок.
Сам же Масляев, заметно осунувшийся за эти несколько часов, признался, что дрожал, как осиновый лист.
— Честное слово. Никогда даже не думал. Вставляю взрыватель, а пальцы не слушаются. Все мимо дырки попадаю. Черт знает что… — и покраснел.
Кругом стояли бойцы, но никто из них не улыбался. Очевидно, то, что он не побоялся при всех сознаться в своем страхе, понравилось им. На фронте вообще не прощается малейшее проявление трусости — в этом отношении солдаты народ жестокий, высмеять умеют, — но тут все поняли, что это не трусость, так же как и просьба отправить его на задание не фанфаронство, не бравада.
Вообще бойцы сразу полюбили Масляева. И полюбили какой-то очень трогательной любовью, сочетавшей в себе уважение к нему как к старшему и более образованному с очень милой и иногда забавной заботой о нем как о человеке, который многого самого простого не знает, не умеет и на фронте из-за этого может попасть в беду. Достаточно было посмотреть на Сагайдака, когда он обучал Масляева тесать бревна, чтобы сразу же понять их отношения. Масляев, весь красный, обливаясь потом, мелкими, неуверенными движениями тесал бревно, а здоровенный, косая сажень в плечах, Сагайдак, умевший делать все на свете, стоял над ним и поучал:
— Да ты не бойся, не бойся. Смелей. Ноги не отрубишь. — И тут же перехватывал топор и быстрыми, точными ударами заканчивал бревно. — Видал? Теперь давай то. Да не держи ты топор, как свечку на свадьбе. Мах нужен, мах…
Или вечером в землянке, глядя, как Масляев, присев на корточки у печки, ковыряется с брюками, скажет:
— Ну, кто так шьет, голова? Нитка в три аршина, заплата гнилая. Дай-ка сюда. — И в полминуты ставил прекрасную, аккуратную заплату.
Однажды, когда Сагайдак с Масляевым пошли на склад получать лопаты, кто-то там придрался к Масляеву — то ли он толкнул случайно, то ли лопатой задел — и обругал. Сагайдак молча подошел к обидчику, снял с него ушанку и забросил в Волгу.
— Заберешь свой мат обратно — принесу, не заберешь — плыви сам.
Пострадавший, смерив Сагайдака взглядом, молча полез за своей ушанкой.
А вечером, когда я отчитывал Сагайдака, он смотрел в землю и бурчал:
— Сопляк еще… Жалко, что вместе с ушанкой не выкупал. Что он против Масляева? Так, пшик какой-то, а туда же — матом…
Масляев тоже полюбил Сагайдака, иногда, правда, подсмеивался над ним, над его любовью похвастаться своей силой или умением и в шутку называл «бычком». Сагайдак никогда не обижался, хотя парень был вспыльчивый и во взводе его даже немного побаивались. Шушурин, я заметил, даже слегка ревновал своего «корешка» к Масляеву, но общих отношений это не портило.
Масляев был неразговорчив, любил больше слушать, чем говорить, но если начинал что-нибудь рассказывать, бойцов нельзя было от него оторвать. Говорил он негромким, слегка хрипловатым голосом, без каких-либо внешних эффектов и красивых фраз. Видно было, что он много читал, много видал. Как-то само собой получилось, что он стал вести политзанятия. Я предложил ему «пост» замполита. Он наотрез отказался.
— Дело не в образовании, товарищ инженер. Дело в авторитете. Шушурин опытный боец, а я как солдат молокосос еще. У него больший авторитет, хотя он и комсомолец, а я партиец. Всему свое время. Ограничимся пока тем, что есть.
Я согласился и замполитом его не назначил, но политзанятия Масляев продолжал вести. И если раньше, когда их проводил Шушурин, бойцы больше спали, чем слушали, то сейчас даже после тяжелого дня или ночи, когда не привыкший к физической работе Масляев буквально валился с ног, бойцы не давали ему покоя.
— Да брось ты укладываться. Успеешь еще поспать. Объясни-ка лучше.
Масляев объяснял. И про объявление войны Ираком Германии — («Где же это они воевать будут, когда Ирак где-то там, у черта на куличках?»), и про Указ Верховного Совета о введении погон («Когда же их наконец введут, и почему на новых солдатских гимнастерках не будет карманов?»).
Слава о сапере, который «рассказывает газеты», проникла в соседние подразделения — на занятиях стали появляться химики, огнеметчики, даже один раз пара разведчиков. Дошла она и до замполита полка Чувыкина.
— У тебя, я слышал, агитатор мировой появился? — сказал он мне как-то. — Пришли-ка его ко мне.
Но Масляев отнесся к этому предложению без особого энтузиазма. То на задание надо идти, то оружие почистить, то Чувыкина сейчас нет у себя — одним словом, явно отлынивал. Я не настаивал, боясь, что Чувыкин отберет его у меня, и на этом дело кончилось.
Был и еще один случай, который поставил меня в тупик. Мне нужно было срочно отправить в штаб армии карту оборонительных сооружений полка. Сам я не хотел туда идти, так как однажды взял там «Фортификации» Ушакова, обещал вернуть через день, а держал больше месяца и в конце концов потерял. Терентьев же, мой связной, был занят изготовлением холодца — где-то ему удалось добыть «потрошки», какие-то копыта и уши, — и мне не хотелось отрывать его от столь важного дела. Зашел к саперам. После ночной работы все спали, один только Масляев сидел у печки. Я попросил его отнести карту в штаб армии. Он как-то странно посмотрел на меня и сказал после небольшой паузы:
— А обязательно надо идти?
Я удивился — конечно, надо. Он замялся:
— Ногу я вывихнул, ходить трудно…
Я послал Терентьева, но случай этот меня удивил: не в привычках Масляева было — ссылаться на болезнь при получении приказания.
Вообще же Масляев был прекрасным, я бы сказал даже, образцовым, бойцом — немножко слабоватым для сапера физически, но смелым, исполнительным, и, главное, — это особенно бросалось в глаза и подкупало, — он никогда не хотел казаться лучшим, чем он есть. Это очень редко встречаемая черта. Он знал свои слабости и никогда их не скрывал, так же, как, зная свои сильные стороны, никогда их не подчеркивал.
Он, например, не переносил бомбежек. К минам, даже к разминированию вражеских полей — а это самое опасное дело, — привык очень скоро, никогда не кланялся пулям (я даже сначала подумал, что он немного бравирует этим, но потом увидел, что это не так), на передовую ходил самыми короткими, хотя и наиболее обстреливаемыми тропами — одним словом, был по-настоящему храбрым человеком, а вот бомбежек боялся, и боялся смертельно.
Достаточно было появиться какому-нибудь «мессеру» или даже «раме», как он сразу же бледнел, и чувствовалось, что для него больших усилий стоит не залезть в щель.
— Вот боюсь я их, и все, что поделаешь. Сразу как-то сердце обрывается, вроде как тошнит… Даже когда за пять километров от тебя бомбят — все равно.
И ни один боец ни разу не подшутил над ним, хотя, будь на месте Масляева кто-нибудь другой, могли бы довести до слез. Кстати, того, — предыдущего «экономиста», доводили-таки, и он не раз прибегал ко мне жаловаться. Но тот не только самолетов, тот всего боялся.
Так мы жили своей маленькой саперной семьей, никогда не превышавшей восьми-десяти человек, жили дружно, никогда не ссорясь и не обижаясь друг на друга. По ночам на передовой, днем всегда находилась какая-нибудь работа у себя в овраге или на берегу. А бывало, что и просто отдыхали — на фронте и такое случается.
Потом нас перекинули правее, и мы стали воевать за сопку Безымянную — северный отрог Мамаева кургана. Людей в полку было мало, каких-либо особо сложных операций проводить мы не могли и ограничивались главным образом артиллерийским и минометным обстрелом, а мы, саперы, все теми же бесконечными НП. Минировать, слава богу, было не нужно — немцы давно уже не атаковали, а только огрызались.
Январь был на исходе. Начали поговаривать о весне. И хотя до нее было довольно-таки далеко, говорить о ней было весело и приятно — никто не сомневался, что встречать ее мы будем уже не здесь, а где-нибудь там, под Харьковом, на Украине.
* * *
Двадцать шестого января — мы навсегда запомнили этот день — рано утром ворвался ко мне в землянку Казаковцев.
— Вставайте, товарищ инженер, вставайте! Фрицы драпанули!
— Что-о-о?
— Фрицы драпанули. Ушли за овраг Долгий. На Мамаевом никого нет. Вставайте скорей. Говорят, с Донским фронтом соединились.
Я вскочил. В овраге нашем никого уже не было — все ушли на Мамаев. Был ослепительно яркий, какой-то сказочный день. Все сияло: небо, Волга, начавший уже таять и потому чуть-чуть паривший снег, выкрашенные в белую краску и как-то весело постреливавшие среди развалин орудия, да и сами развалины стали как будто другими — не такими, как обычно, грустными и заброшенными. Мы не шли, мы бежали напрямик но местам, по которым раньше и ползти-то было опасно, — бежали веселые, расстегнутые, в ушанках на затылках. А навстречу нам мчались такие же расстегнутые, с сияющими лицами люди и что-то кричали и размахивали руками.
Мамаев нельзя было узнать. Голый, пустой, каким мы привыкли видеть его последние пять месяцев, сейчас он был заполнен людьми, по делу или без дела прибежавшими сюда, и хотя кое-где еще вспыхивали, редкие, правда, букетики минных разрывов — немцы огрызались еще из-за оврага Долгого, — на них никто не обращал внимания. На венчавших вершину кургана водонапорных баках — ненавистных нам и стоивших столько жизней баках — развевался красный флаг, связисты тянули уже к ним связь, а на самой верхушке маячила всем нам знакомая массивная фигура генерала Чуйкова.
Сейчас же, не теряя ни одной минуты, надо было приниматься за работу. Курган вдоль и поперек утыкан был минами — нашими, немецкими и самыми опасными — дикими, поставленными кем-то, когда-то и не имевшими документации. Дивизионные саперы уже ходили с миноискателями и щупами, ограждая опасные места колышками с табличками «мины». Говорили, что двое солдат соседнего полка уже подорвались невдалеке от баков.
Только к четырем часам нам кое-как удалось навести порядок на участке нашего полка. Ограждено было восемь минных нолей и обезврежено никак не меньше трех десятков одиночных мин. Казаковцев с Терентьевым приволокли в бидонах обед, и мы, усевшись на немецком блиндаже — внутрь залезать не хотелось, надоел земляночный мрак, — с аппетитом уничтожали гороховый суп, приправленный трофейным шпиком, любезно доставленным нам немецкими «юнкерсами». Был, конечно, и шнапс — грешно не отметить такой день.
Внизу под нами расстилался разбитый город. Левее, за железнодорожной выемкой, по которой мы обычно ходили на передовую, виднелись розовые от заходящего солнца развалины освобожденного уже «Красного Октября» с единственной уцелевшей трубой, а дальше на север в дыму разрывов белели корпуса Тракторного поселка, в котором еще сидели немцы. Над головой то и дело пролетали партии отбомбившихся «петляковых», и было непривычно, что вот летают над тобой самолеты, а ты только улыбаешься им и рукой помахиваешь, а они иногда в ответ крыльями.
Все понимали, что это уже конец или, вернее, начало конца. И потому было весело, и лица у всех как-то помолодели, и вообще все было хорошо.
Мы уже долизывали котелки, когда шагах в десяти от нас раздалось вдруг:
— Господи боже мой! Николай Иванович!
Начальник политотдела полковник Стрелков и еще несколько офицеров стояли возле нас, и у Стрелкова было такое лицо, будто перед ним был не мирно дожевывающий свой обед саперный взвод, а что-то очень смешное и удивительное.
— Николай Иванович, черт вас забери…
Он не докончил. Подошел к Масляеву и крепко его обнял.
— Сидит, негодяй, и шнапс с солдатами дует. Как вам это нравится? — Он повернул свое смеющееся, в редких рябинах лицо в сторону сопровождавших его офицеров.
Масляев стоял, машинально дожевывая мясо. Стрелков опять повернулся к нему:
— Гуляка проклятый. Хоть бы в штаб когда заглянул, а? И редактор наш на вас в обиде. Пошли, говорит, ему навстречу, разрешили в полк уйти, так хоть какую заметку догадался бы прислать. Нехорошо, нехорошо… Ну, а шнапс-то начальству все-таки оставили?
Стрелков с наигранной укоризной посмотрел на Масляева, на мокрые и грязные от снега колени его, на руки в ссадинах и царапинах, потом перевел взгляд на его воротник.
— Постойте, постойте, дорогой товарищ. А где ваши «шпалы»?
— В целости и сохранности, товарищ полковник.
— Видали? — Стрелков переглянулся с сопровождавшими его офицерами, потом посмотрел на меня. — Кто здесь командует, вы?
— Я, товарищ полковник.
— Из какого полка?
Я ответил.
— И это ваши солдаты?
— Мои.
— А этот товарищ что у вас делает? — он кивнул в сторону Масляева.
— Как — что? То же, что и все.
— Что и все? Великолепно! Ну и как, хороший солдат?
Я слегка замялся, как всегда, когда не знаешь, с какой целью тебя спрашивают.
— Хороший.
— Дисциплинированный, исполнительный?
— Дисциплинированный, исполнительный.
— Может, представим его к награде?
— Петр Петрович, дорогой, — взмолился Масляев, — пожалейте меня, прошу! Не ставьте в смешное положение.
— Ну ладно. — Стрелков махнул рукой. — Только с одним условием. — Он повернулся ко мне. — Придется мне этого товарища у вас отобрать. Ничего не поделаешь. Мне самому он сейчас нужен. Пошлите-ка кого-нибудь за вещами товарища Масляева, пусть в политотдел отнесут.
— Да какие у меня там вещи, Петр Петрович, — сказал Масляев. — Вещмешок, и все. Никого посылать не надо. Я вечерком к вам загляну.
— Заглянет! Вы слышите? Дудки. Знаем мы, как вы заглядываете. Пойдете сейчас со мной, и все. — Он взял Масляева за отворот шинели и провел ладонью по своему горлу. — Вот как вы мне сейчас нужны, понимаете? Не сегодня-завтра будем кончать всю эту петрушку. Вы такие вещи увидите, что… Да в конце концов, может, и я хочу увековечиться? А?.. В общем, — он повернул ко мне смеющееся лицо, — вещи доставите в политотдел. Ясно?
* * *
Только месяц спустя мы встретились с Масляевым. Встретились на станции Поворино, где наш эшелон, двигавшийся уже на запад, стоял дня два или три. У нас был отдельный вагон, и, хотя, кроме лас, восьми человек, в нем ехало еще две лошади и повозка, чувствовали мы себя в нем, по словам Сагайдака, как паны. Сделали нары, натаскали соломы, обзавелись собственным патефоном — в общем, не тужили.
Масляев появился неожиданно.
— Алло! Здесь саперы сорок седьмого?
— Здесь.
— Разрешите к вам в гости?
Он вскочил в вагон и весело всех оглядел.
— Чайком угостите?
На нем была красивая подогнанная шинель, серебристая ушанка, от прежнего Масляева остались только улыбка и смеющиеся глаза.
— Соскучился по вас, ей-богу! Ох, как соскучился. У нас там, — он сделал движение головой в сторону, где стоял, очевидно, их эшелон, — шкурок на пол не брось. — Он опять оглядел вагон. — А где Сырцов?
— Ранило. В последний день, за «Красным Октябрем», — сказал Шушурин.
— А Кузьмин?
— Тоже.
— А остальные, значит, все здоровы?
— Слава богу.
Помолчали. Масляев сел на нары, расстегнулся.
— А вы неплохо устроились. С музыкой, вижу, по всем правилам, — юн кивнул в сторону нашего старенького, видавшего виды патефона.
— Ага, — сказал кто-то, кажется, Казаковцев. — Пластинок вот только маловато, две штуки. — И помолчав, добавил — Может, у вас в штабе разжиться можно?
— У нас в штабе? — Масляев почесал затылок. — У нас в штабе, вероятно, есть. Наверное даже есть. В следующий раз обязательно принесу. — И после небольшой паузы: — Ну, так как же жизнь?
— Жизнь? Да понемножку. Загораем на зимнем солнышке.
— Правильно, так и надо… После Сталинграда можно и позагорать.
Кто-то вытащил кисет, и все по-деловому стали скручивать цигарки. Потом закурили. Казаковцев в углу возился с чайником.
— А я тут кое-что вам на память принес, — нарушил воцарившееся опять молчание Масляев. — От бывшего однополчанина, так сказать.
Он перекинул на колени планшетку, порылся в ней, вынул оттуда книжечку и протянул ее Шушурину. Тот осторожно, двумя пальцами, взял ее.
— Тут несколько довоенных рассказов, — сказал Масляев, — довольно слабеньких, но… В общем, почитаете — увидите.
Бойцы внимательно рассматривали книжечку, бережно передавая ее из рук в руки. Потом пили чай. Беседа не клеилась, чувствовалось, что солдаты стеснялись и не знали, как себя держать. Сагайдак, передавая Масляеву кружку с чаем, сказал:
— Не обожгитесь, товарищ подполковник, горячая.
— Какой я тебе подполковник, Сагайдак? — возмутился Масляев. — Давно ли ты меня винтовке учил?
Сагайдак смутился и ничего не ответил.
— Это все шинель виновата, — сказал Масляев. — Слишком она у меня красивая…
Все рассмеялись, как смеются шутке начальника, — ровно и сдержанно. Масляев скинул шинель, бросил ее на повозку. Потом посмотрел на часы, зачем-то надел и затянул ремень. Солдаты молча перелистывали книжку, передавая ее друг другу. В вагоне стало совсем тихо, только лошади топтались в углу.
Чтоб разрядить напряжение, я затеял разговор о том, что вот война кончится, многое забудется, сотрется в памяти и что надо было бы всем нам вести все-таки записки — кто его знает, может, еще из Шушурина или Сагайдака писатель получится, рассказать им, во всяком случае, есть о чем.
Сообразительный Казаковцев ловко подхватил эту тему и довольно забавно представил, как лет этак через десять придет он в роскошный кабинет к окруженному книгами Сагайдаку, и тот его не узнает, попросит позвонить через пару денечков, когда он освободится от спешной работы. Казаковцев когда-то занимался самодеятельностью и недурно копировал людей. Солдаты весело смеялись, не переходя, правда, границы, которую обычно охотно переходили.
Масляев сидел рядом со мной на нарах и тоже улыбался. Но по глазам его я видел, что он думает о чем-то другом.
— О чем задумались, Николай Иванович?
Он встрепенулся.
— Да так, просто… Смотрю вот на всех вас и… — Он не докончил, отвернулся и обнял за плечи сидевшего рядом с ним Сагайдака. — Расскажите-ка лучше, хлопцы, как вы там в Сталинграде без меня жили? Долго еще пришлось Мамаев чистить?
Весь последний месяц мы были заняты в основном разминированием, довольно скучной и кропотливой работой. Приходилось обшаривать буквально каждый метр усеянной металлом земли, и эта возникшая вдруг тема, связанная с воспоминаниями о том, как бойцы в озаренные ракетами ночи ковырялись в замерзшей земле, ставя мины, как будто разрядила напряженность и неловкость первых минут. Стали вспоминать всякие эпизоды, часто довольно забавные, — а недостатка в них не было, — происходившие во время выполнения заданий, вспомнили и первую масляевскую вылазку на разминирование, когда у него дрожали пальцы и он никак не мог вставить взрыватель.
— Паршивая все-таки работенка, ну ее… — вырвалось как-то неожиданно у Казаковцева, лучшего, кстати сказать, в полку, если не во всей дивизии, минера. — Бек бы их не видел…
— Работенка не из веселых, — согласился Масляев.
Сагайдак лукаво подмигнул:
— А вам что? Вон и на пальцах, гляди, уже чернила, бинтиков не надо…
— Да, превратился в канцелярскую крысу, — вздохнул Масляев. — Теперь ведь все дивизии свою историю пишут, а мне вот правь, редактируй…
— Такая уж специальность, — сказал Сагайдак. — Ничего не поделаешь.
— Ничего не поделаешь, — согласился Масляев.
— А жаль…
— Кому жаль?
— Да нам, конечно. Привыкли все-таки… Вот и газету рассказать некому. Шушурин, что ли?
Сагайдак махнул рукой и стал возиться с обмоткой. Масляев встал, прошелся по вагону, сказал «м-да…» и опять сел. Видно было, что ему хочется о чем-то рассказать или просто сказать, но он не знает, с чего начать. А может быть, и просто не уверен, нужно ли об этом говорить.
— А все-таки эти две недели недаром прошли, — сказал я, чтоб как-то подтолкнуть его. — И минировать теперь научились, и НП делать, и…
Я на секунду остановился, вспоминая, чем еще приходилось заниматься Масляеву.
— И?.. Доканчивайте.
— Ну, и вообще стали заправским сапером.
Он опять встал.
— Нет. Не то… Не сапером я стал… Больше… Значительно больше…
Прошелся по вагону, подошел к раскрытой двери, постоял там. В черном прямоугольнике было видно, как по небу, сужаясь и расширяясь, лениво ползали лучи прожекторов. Из соседнего вагона разведчиков доносился веселый хохот — там, видно, играли в «козла».
Солдаты сосредоточенно молчали. Очевидно, до них не совсем доходило то, о чем он хотел сказать.
— А может, это самое, к медикам, что ли, сходить? — неожиданно спросил Сагайдак, взглянув на Масляева, а затем на меня.
— Зачем? — не понял Масляев.
— Ну, горючего, что ли, раздобыть малость…
Масляев как-то очень серьезно посмотрел на Сагайдака, насупил брови, но почти сразу же лицо его изменилось, и он рассмеялся.
— А может, действительно сбегать?
Я воспротивился — хватит с меня прошлых неприятностей.
— А что, действительно неприятности были? — спросил Масляев.
— Еще какие. А что, если б с вами случилось что-нибудь? Кто в ответе? Я.
— Простите тогда, христа ради. Но кто знал, что так получится. Думал, приду в полк, разыщу дежурного, представлюсь командиру полка…
— А вместо этого — кирку в руки и пожалуйте бриться, — не выдержал и прыснул Сагайдак. — У нас дело просто. Без лишних разговоров.
— Какие там разговоры, никто тебя не слушает, кричат. Хотел я сказать — виноват, уважаемый товарищ, но я пришел, как у нас говорят, ознакомиться, а вовсе не атаки там отбивать или землю рыть. Так даже рта не дали открыть. Шагом марш, и все…
Все рассмеялись.
— Сами виноваты. Надо было на следующий день поговорить, — сказал я, чтоб как-то оправдать свое поведение. — После передовой, когда все успокоилось. Почему не пришли?
Масляев развел руками:
— А черт его знает… Постеснялся, что ли…
Где-то далеко на станции прогудел паровоз.
Масляев шагнул к фонарю и посмотрел на часы:
— Батюшки, заболтался!
Он стал искать шинель, потом крепко пожал всем руки и выскочил из вагона:
— Не поминайте лихом!
Держась за поручень, он посмотрел вверх, на нас:
— Так если опять появлюсь у вас, не прогоните?
— Каждому новому бойцу рады, сами знаете, — сказал я.
— Ну, смотрите же!
Масляев рассмеялся, махнул рукой и скрылся в темноте.
Укладываясь спать, Сагайдак долго возился, кряхтел, чиркал спичками, вздыхал, а когда я цыкнул на него, мрачно взглянул на меня и сказал:
— Напрасно вы меня не пустили, товарищ инженер.
— Куда?
— Да к медикам…
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg

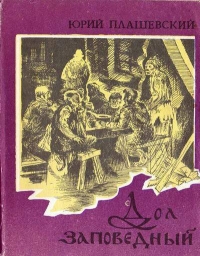


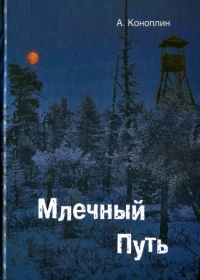
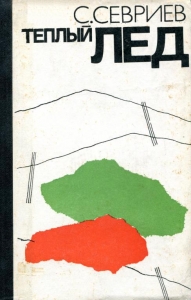

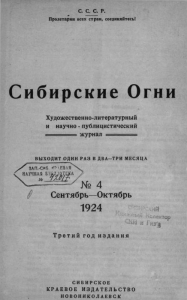

Комментарии к книге «Новичок», Виктор Платонович Некрасов
Всего 0 комментариев