Мастера. Герань. Вильма
МАСТЕРА
Majstri
Редактор Л. Новогрудская
ПЛОТНИКИ
1
Было их четверо: мастер и трое его сыновей.
Люди любили их и охотно толковали о них. И начинались эти разговоры обычно так: «Как-то раз, когда Гульданы стелили кровлю…» Или: «Как-то раз, когда мастер и его сыновья ставили амбар…» Всегда почему-то называли амбар, сарай, кровлю, хотя поставили они уйму хлевов, курятников, оград, ворот и калиток, а то и собачью конуру им доводилось сколачивать, да стоит ли о том поминать — ведь хлев либо конуру смастерить может каждый.
Так вот, как-то раз, когда кончили Гульданы работу — было чуть за полдень, день стоял голубой, хозяин, подрядивший плотников, с удовольствием оглядывал новый амбар и мял в кармане деньги, чтоб расплатиться, — у мастера осталось еще три толстых гвоздя; он показал их сыновьям, потом поощупал доски (все, однако, прочно держались) и под конец всадил гвозди в ту, что держалась прочнее других. И с громким смехом сказал: — Так! Посмотрим, кто теперь его разберет!
Много с того дня поставили они амбаров и сараев; некоторые стоят и поныне, можете прийти поглядеть на них, а при желании и доску отодрать. От одной доски никому убытка не будет.
Но с доски все начинается. Явится какой любитель по чужим амбарам лазить, отдерет доску, потом другую, и, глядишь, амбару каюк.
А в прежние времена амбар был в особом почете: ни один справный крестьянин без него не мог обойтись. Оттого люди и уважали Гульданов. Гульданы были знаменитые плотники.
Молва о них неслась повсюду; слово слово родит, из уст в уста само бежит, у иного в зубах застревает, никак он его не вытянет, потому и ковыряет в зубах, мозги напрягает, губы кривит, языком ворочает, разглагольствует, умничает; а кое-где, к примеру за спиной либо в сторонке, но всегда чуть поодаль, умничанье оборачивается зубоскальством, а то, пожалуй, и завистью; некоторые люди, известно, горазды зубоскалить да завидовать. Уж очень завидовали рвению Гульданов в работе, а вот ловкости — поменьше, ибо ловких людей на свете пруд пруди, и почти все они знают о себе, что ловкие, да вот только не хотят эту ловкость испробовать, делают все кое-как, шаляй-валяй, а потом злятся, что о них не говорят или говорят, да не так, как им хочется: все-то им кажется, что то да се, пятое-десятое нам следовало бы добавить о них, вдолбить в голову, но ведь, прежде чем вдолбить, пришлось бы кое-что из головы и выкинуть.
Да, так о чем это мы?
Тут в авторе заговорил кибиц[1]. Вы себе и представить не можете, сколько во мне этих подсказчиков, и у каждого из них за спиной по меньшей мере дюжина таких же шептунов; их во мне тьма, они теребят, подстрекают, донимают меня, без устали кричат: «Конкретнее, давай конкретнее!»
Ну скажите, друзья, чего там конкретнее? Разве мы плохо знаем друг друга? Коль известно, что на поле родится, — значит, ясно, что в каморе хранится.
Вот так — слово за слово, глядишь, и роман получится, потом, может, рецензия, а там и детишкам на молочишко…
Ну и копеечник! Это кто — я? Да ведь от этой конкретности человеку иной раз тошно делается.
Знаешь ли ты, дорогой читатель, что такое кукуруза? Это то, что можно есть, а можно и жрать.
Боже правый, вот мы уже и поле, и камору помянули! Тьфу ты, черт, ведь у нас еще и фундамента нет! Какого фундамента?! Да вы, пожалуйста, не прикидывайтесь простачками! Гопля! Вот и готово!
Песку!
Чего?
Ну песку! Ты что, балда, не знаешь, что такое песок?
А, ясно! Песок для дома можно накопать за деревней в карьере, а если надо поменьше — натаскать из ручья и — живо за дело, биксардские известкари![2]
Известки, известки, изве-ее-стки!
Известки, раствору, кирпичей и прочего.
А если нет ни денег, ни времени, ни мотыги, вспомним, у кого они есть, хотя у такого бывают в придачу еще и большие глаза, ведь и первое, и второе, и, конечно же, третье (поминая мотыгу, кибиц имел в виду песок, точнее — песок из ручья) можно украсть, лучше бы без свидетелей, а то и при них — одинаковые интересы или сходные взгляды на вещи сближают людей…
Эй, кровельщики, пошевеливайтесь!
2
Село, где жили Гульданы, прозывалось Околичное. Деревню с подобным названием можно бы найти и на карте, да стоит ли утруждаться! Ведь кроме названия, у этих двух деревень все равно нет ничего общего.
Мастер был по всем статьям мастер — мы же знаем, как настоящий мастер должен выглядеть. Ходил он чуть сгорбившись, но чему удивляться! Попробуйте-ка свяжите два топора: один, к примеру, обыкновенный плотничий, другой — тесло, перекиньте через плечо, потом свяжите еще два, перекиньте через другое — вот и увидите, что с вами станется! Прибавьте к тому и годочки! У старшего сына, Якуба, за плечами уже было три десятка. Средний, Ондрей, был четырьмя годами моложе. Да и младший, Имрих, уже отсолдатствовал. Словом, это были здоровенные лбы, или, если угодно, парни в самом соку. Они умели чертить и считать, довольно сносно разбирались в статике. Ондрей — чуточку меньше, но зато был сильнее братьев, лучше их умел наточить пилу или топор. Мастер хвалил его работу обычно такими словами: «Это дело терпения требует».
Пока мастер был молод и не женат, стало быть до того, как стал мастером, он немало побродил по свету и вдосталь всего нагляделся: сперва был учеником, потом подмастерьем, потом солдатом, а как из солдатчины домой воротился, встретил девку на выданье, и свет сразу же для него сузился, хотя ему-то казалось, что свет расширился и дальше будет еще шире и краше. Родился у него сын, потом другой, третий, и мастер каждый раз свою жену обнимал, целовал и на радостях напивался, смеялся, песни распевал, носился по дому и вокруг дома, а в теле ощущал силу и легкость необыкновенную, словно выросла у него уйма ног и он может разбежаться сразу во все стороны, словно со всех сторон к нему спешит счастье. Он выскакивал на улицу и кричал прохожим: «Мастер родился! Мастер родился!»
А когда четвертый сын собирался появиться на свет, жена вдруг занедужила и, помучившись недолго, умерла. И унесла с собой нерожденного сына.
Мастер был очень несчастен. Долго не мог опомниться — все бродил по дому, разговаривал сам с собой, заговаривал и с вещами, которыми жена пользовалась: разглядывал пяльца с недовышитой скатертью, поглаживал шаль… взял потом со стола календарь, дважды раскрыл его и закрыл, не зная, куда положить. Он с интересом брал в руки и другие вещи, до которых раньше ему не было дела, поди думал, что можно и без них обойтись: всякие тряпочки и лоскутки, портняжьи ножницы, магнит, облепленный булавками — какие с обыкновенными, какие с разноцветными головками, забавные подушечки с нашитыми пуговицами, всевозможные нитки, пеньковые и шелковые, клубки и моточки мулине, иголки, крючки, сантиметр… Тут он огляделся и очень удивился! Вокруг него ходили люди, он не заметил, когда они вошли, и ему показалось, что ведут они себя как-то чудно — опускают глаза, перешептываются, будто бы делятся чем-то таинственным, чего он не знает, но ужасно хотел бы узнать. То и дело кто-то к нему подходил, протягивал руку, что-то бормотал, но от этих слов мастеру было мало проку. Казалось ему, что все говорят только затем, чтобы его обмануть. Он вглядывался в лица, хотел по ним что-либо прочесть, но люди были так осторожны, еще ниже опускали глаза, словно чувствовали какую-то вину за собой. Он перестал слушать, даже замечать их. Глаза его блуждали, он искал сыновей, поняв, что только с ними у него получится разговор. Нашел их во дворе. Сыновья стояли рядом и молчали. Он подошел к ним, хотел что-то сказать, но слова никак не шли с уст. Он положил руку на плечо старшему и с трудом выдавил: «Кубко!» Потом поглядел на среднего: «Ондришко!» Нагнувшись к младшему, долго гладил его по голове. И дважды сказал: «Имришко!.. Имришко!..» А на большее сил не хватило. Он отложил разговор. Завел его лишь на следующий день; чтобы утешить сыновей — должно быть, и себя утешить хотел, — наобещал им с три короба, понастроил всяческих планов, один лучше другого, без устали толковал о них и расписывал радостное будущее.
А потом мастер запил. Каждый день являлся домой пьяным. Да, дела у них теперь пошатнулись. Еда никудышная, а то и вовсе никакой; сготовить некому, случалось, и не из чего. Смерть жены совсем выбила мастера из колен. Иной раз, правда, немного одумывался, приходил домой, стучал кулаком по столу и весело кричал:
— Ребятки, я клад нашел! Да вот не знаю, куда его спрятать. В кладовку, что ли? Или в горницу? Ондришко, Кубко, ну-ка, выройте яму. И уж пожалуйста, ребятки, выройте яму на совесть.
А потом, когда бывало есть нечего, когда в доме были одни пустые горшки — из щепы похлебки не сваришь, — сыновья переглядывались меж собой и поддевали отца:
— Тата, а где ж этот клад? Принес бы оттуда хоть малость. Либо скажи, где искать его.
— Я-то знаю, где он, — ухмылялся Ондрей. Хотя и тугодум был, ворочал мозгами всегда осторожно, потихоньку, но, когда заговаривали о кладе, тотчас находился: — В шинке. Тата отнес клад в шинок.
— Ну хватит! — злился мастер. — Не желаю больше и слышать о кладе!
Но о кладе еще долго говорили. Иной раз и ночью, даже чаще всего ночью, когда каждое слово можно было растягивать…
Мой клад золотой Зарыт далеко, То конь вороной Зарыл копытцем его Глубоко, глубоко… На край света пойду, Яму вырою, На край света пойду, Клад заветный найду, Домой ворочу, домой ворочу.Когда-никогда приходил навестить мастера жестянщик Карчимарчик. Старый холостяк и большой охотник поговорить. Но мастер любил его. Если в Околичном кто-нибудь слишком умничал и людям хотелось поднять его на смех, достаточно было сказать: «Умен, как Карчимарчик». Или: «Речист, как Карчимарчик». А хотели высмеять двух или трех говорунов, заявляли: «Мудруете, словно Гульдан с Карчимарчиком».
Некоторые пересмешники утверждали даже, что Гульдан с Карчимарчиком ведут разговор с продолжением, язвили, будто каждая их встреча начинается так: «Я вот еще что хотел сказать…» Или: «Ты вчера вот что сказал…» Или: «Напоследок ты сказал то-то, а мне бы надо тебе сказать то-то и то-то».
— Слышь, — упрекал мастера Карчимарчик. — Сдается мне, ты больно усердствуешь. Говорю тебе прямо. Горе твое прошло, пьянство тебя одолело.
— Что ты этим хочешь сказать?
— А то, что сказал.
— Ты чего меня оскорбляешь?
— Кто тебя оскорбляет? Сам ты себя оскорбляешь. Если не бросишь пить, ноги моей у тебя больше не будет. Твои сыновья и те на тебя злобятся.
— Не мели вздор!
— А не так, что ли?
— Нет. Я только с Якубом поругался. Лучше и не говори мне о нем!
— Ан буду говорить. Я держу его сторону.
— Знаешь, что он мне сказал?
— Правду сказал. Ума-то тебе не занимать стать, а волю ты всю растерял.
Оно так и было. Мастер на самом деле вздорил с Якубом. Чуть не каждый день они перебранивались. Но и это прошло. Ребята выросли, выучились ремеслу и скоро наладили знаменитую плотничью артель. Мастер ею очень гордился.
— Теперь бояться нам нечего, — говорил он, когда бывал в добром настроении. — Положитесь на меня, увидите, ежели так дело пойдет, работы у нас будет невпроворот, ей-богу, столько, что хоть разорвись. И когда-нибудь взойдем мы с Ондро на этакую высоченную стройку, семь-восемь лебедок возле нас будут поскрипывать. Бог ты мой, ох и перевязки мы там отгрохаем! А ну, Кубко, черти планы! Да смотри, путем их вычерти, чтобы кровля у нас не перекосилась. Ну, Имришко… сам увидишь, ангелы будут с распорки на распорку перепрыгивать, а ты станешь их шапкой по заду хлопать…
3
Мир (ну что такой жалкий писака, как я, может знать о мире, что он может миру подсказывать?) хмурился. Надвигалась война. Войны на свете были испокон веку и поныне бывают. Но тогда людей и впрямь охватило истинное безумие. Весь мир осатанел и взъярился.
— Худо, ребята! — сказал мастер. — Когда генералы начинают интересоваться архитектурой, людям всегда худо!
Время от времени заглядывал мастер в газеты, и впечатление от прочитанного жило в нем несколько дней. Когда сыновей не было дома, а на него нападала охота поговорить, он заходил к соседу или кричал ему через забор: — Сосед, поди сюда, потолкуем малость!
Обычно приходили двое соседей и вместе с мастером составляли триумвират, в котором никогда не было единства. Каждый отстаивал свою точку зрения и предпочитал играть первую скрипку. Оба гостя слыли людьми просвещенными. Один доказывал свою просвещенность тем, что постоянно ругал венгров; он до омерзения нудно твердил, как венгры тысячу лет нас притесняли. Человек со слабыми нервами, пожалуй, не выдержал бы. Но мастер к разговорам соседа привык. Только иногда и в нем просыпалась охота маленько попритеснять жалобщика.
Другой гость был мягкого нрава. На венгров не злился. Тысячелетие им простил. Однако слегка обижался на чехов. — Конечно, не на всех, — говаривал он. — Даже на чехов я не могу обижаться, я же социал-демократ. Пусть всем людям будет хорошо. Пусть во всем мире будет демократия. Только вот некоторые чехи, заядлые материалисты, думают лишь о мамоне. Они за социализм, но только для себя. — Под словом «материализм» сосед разумел имущество и деньги. Демократию и социализм тоже понимал на свой особый манер, отчего мастер — хотя и ненадолго — приходил в радостное удивление, а то и в восторг.
— Сосед, любо-дорого послушать тебя, — смеялся Гульдан и добродушно хлопал приятеля по плечу. — Жаль только, в твоих речах ни складу, ни ладу. Не смыслишь ты в этих делах, — вертел головой мастер. — Чепуху мелешь.
— Я мелю чепуху? — обижался гость. — Венгры тысячу лет шпыняли меня, чтоб не сказать хуже! Целых тысячу лет!
Мастер с улыбкой: — Да что ты? Тысячу лет мытарили?
— Конечно. И отца моего. Что тут смешного? Мой отец всю жизнь отдувался за свои взгляды.
— А мне Батя[3] задал жару, — роптал социал-демократ.
Первый же молол свое: — Прежде не было столько словаков. Нынче любой выдает себя за словака. Прежде была их только горстка. А остальные где были? Скажите!
Мастер, повернувшись к социал-демократу: — Сосед! Мы где были?
— Где были? В Вене. Там я учился на башмачника.
А как-то старословак заявил, что один субчик переписалвсех правоверных, допереворотных[4] словаков, и получилась отличная книжица…
Вот это ловко! Возьмите книжицу — и, пожалуйста, в ней целый народ. Можете народ засунуть в карман.
А нашлись и такие, что целый народ уместили на одной-двух книжных страницах.
Выходит — как в той шутке, — всего-навсего было двое словаков: «Токмо я да Флориш»[5].
4
Карчимарчик сказал мастеру: — Слышь, Гульдан, жениться бы твоим сыновьям.
— Вот и женись, и ты ведь холостой.
— Я не о том. Не обо мне речь. Им надо жениться, иначе упекут их на фронт.
— Пускай женятся. Я им не помеха.
Конечно, всем троим его сыновьям было в самую пору жениться. Мастер понимал это и сам не раз о том говорил. Одного лишь боялся: чтобы, женившись, не разбрелись они в разные стороны и не очутились далеко от дому — тогда конец их совместной работе. Он был убежден: распадись их плотничья артель и возьми он других подмастерьев, те вряд ли заменят ему сыновей.
Все открылось мастеру случайно. Однажды, когда они плотничали, Гульдану понадобилось укрепить на кровле какой-то столбик, а для этого нужна была стальная полоска. Он хотел было послать за ней кого-нибудь из ребят, но потом сам подошел к лестнице, спустился вниз и с минуту рылся среди всяких болтов, хомутиков, полосок и тяг. К лестнице подошел и Якуб, но не спустился с нее, а направился по мауэрлату к угловому выступу — там Ондро прибивал затяжки. Якуб огляделся и, нагнувшись к брату, что-то шепнул ему на ухо.
Дул слабый ветер, и мастеру вдруг почудилось, будто ветерок что-то донес до него. Ничего такого определенного, но мастер озадачился. О чем они могут шептаться? Он метнул на них взгляд и снова нагнулся к деревянному ящику, хотя оттуда достал уже все, что требовалось. Навострил слух. Ветерок все еще доносил что-то, но теперь уже совсем ничего нельзя было разобрать.
Чуть погодя мастер снова поднялся на кровлю, думал спросить сыновей, о чем это они толковали, но по тому, как Якуб отскочил от Ондро и как тот углубился в работу, понял, что правды ему не дознаться.
Случилось самое худшее. И кругом виноват был инженер Лацика. Однажды пришел он к мастеру и сказал: — Гульдан, у меня для тебя работа.
— А где? Близко?
— Близко. За Трнавой.
— Где за Трнавой? Может, в Нитре? В Нитру или во Фраштак я не пойду.
— Не бойся. Работа что надо. Школу будем строить.
Деревня — карту снова в сторону! — называлась Плавеч. Ехали туда сперва поездом, потом еще изрядно топали пешком.
Имро уже дорогой скис — Тата, — говорил он отцу, — зачем туда тащиться? Неужто дома работы мало?
— Ладно, Имришко. Коль подрядились, как-нибудь выдюжим.
5
Хорошее было село. Хорошие дворы и дома, в садах много цветов и зелени. Перед каждым домом — липа или орех. Других деревьев, пожалуй, и не было. От двора можно было сбегать в загуменье, где у каждого вдосталь водилось овощей и бобовых, особенно если учесть, что кое-кто захаживал и на соседское. В загуменье встречалась слива, там-сям абрикос или яблоня, но нам ли дело сейчас до деревьев?!
Посреди села корчма — чисто хоромина, такой, поди, ни в Братиславе, ни в Трнаве не устыдишься.
А школа, что и говорить, обхохочешься, держите меня, не то упаду! Детишки, правда, были понятливые, уж так рвались к знаниям, как только дети и могут к знаниям тянуться и рваться.
Да, о чем это я?! Так вот, как-то раз, думается незадолго до четырнадцатого марта[6], учитель разучивал в классе хоровую декламацию, и вдруг школу начало распирать. Черт возьми, что происходит? Откуда-то сюда дует! «Боже милостливый, — учитель в панике, — школа-то вот-вот рухнет! Дети, живо отсюда!»
Так ничего и не разучили. Четырнадцатое марта, пошло псу под хвост. Деревенские попрекали учителя. Учитель обозлился, ну совсем остервенел, и под конец поднял на ноги всю деревню. Жители пошептались да и послали в район депутацию с заявлением, что им-де нужна новая школа. В районе все завздыхали, заохали. Какое-то время — неделю, а то и месяц — звонили куда только можно, даже в министерство, но там телефон оказался неисправным. Кто-то сходил туда, устроил скандал. «Не валите на телефон! Вам что, для такого важного дела телефон требуется?! Такие дела улаживаются без телефона». Началась волокита. Тянулась долго. Наконец одна умная голова решила: «Дадим им денег, не то они с ума нас сведут. Пускай строят новую школу. По крайней мере будет спокойно!»
Начали строить. Работа шла как по маслу. Каменщиков и плотников только что на руках не носили. Якуб сказал братьям:
— Мне бы тут какую деваху найти.
И нашел. Целых двух. Одну уступил Ондрею. Девчата были стыдливые, а может, чуть притворялись.
Погуляли, погуляли, а смерилось, Якуб и спросил: — Девчата! Как вам нравится новая школа?
— Какая там новая? Ведь она еще не готова.
Ондро почти что обиделся:
— Ну и что? Разве мало там всего понастроено?
Якуб предложил: — Давайте сходим посмотрим, по крайней мере увидите, что там да как.
Направились к новой школе.
— Темно уже, — сказала та, что была постыдливей. — Зачем нам туда? Все равно ничего не увидим.
— Юлка, никак ты боишься? — спросила ее подружка, Марта.
— Чего ей бояться? Тут у меня спички. — Якуб загремел спичечным коробком и потянул свою девчонку дальше, объясняя: — Вот кирпичи, там песок, а это цемент, а вон там белое — известка. Осторожно, леса! — Он сжал ее локоть. — Ондро, спички есть?
— Угу.
Якуб не переставая молол: — Ну и вечер нынче, чуете, какой воздух? Ох и потеха была вчера: кто-то вылил раствор, наш Ондро поскользнулся да чуть было не свалился с лесов. Ондро, так оно?
— Угу.
— Только бы мне не упасть, — испугалась Юлка, хотя Ондро ее поддерживал.
— Скажи: не приведи, господи, нам упасть! — посоветовал Ондро. — И отчего это все женщины боятся лесов?
— Как здесь хорошо! — раздалось над ними.
— Марта, ты где? — В Юлке рос страх. — Зачем вы поднялись так высоко?
— Не кричи, Юлка! Чего боишься? Гляди, Кубко, вон там за Трнавой что-то блестит.
— Ага. Вижу. Ондро, ступай в учительскую! А мы пока в кабинет заглянем.
— Не приведи, господи, нам упасть! — раздалось внизу.
Якуб с Мартой вошли в помещение, заваленное досками и бревнами, может, там и правда предполагался в будущем географический или природоведческий кабинет, но пока над головами белели только балки недостроенной крыши. К запаху известки примешивался запах смолы. Якуб… Но лучше оставим их в покое! Они для того и пошли в кабинет, чтобы им никто не мешал.
Ондрею не повезло. Он завел Юлку в один из классов, потом и в директорский кабинет, где они споткнулись о какое-то ведро. Он то и дело пытался обнять ее, но всякий раз она вырывалась. В учительскую Юлка не хотела даже и заглянуть, хотя это было почти готовое помещение. Не помогло и мягкое «ль», которое Ондрею, привыкшему к очень твердому выговору, прилипло к небу.
— Учитель-ль-ская!
— Пойдем отсюда! Я что-то боюсь. Мне здесь не очень нравится, — протянула Юлка на своем твердом трнавском наречии. (Мягкость к «с» и «н» автор добавил из уважения к дорогому читателю.)
Они ушли со стройки. У Юлки улучшилось настроение. Каждую минуту она повторяла фразу, которую подхватила от Ондрея и которую обычно произносят жестянщики, плотники, кровельщики, а может, и другие ремесленники, когда им приходится восходить на какое-нибудь высокое здание: — Не приведи, господи, нам упасть!
6
Когда на другой день братья вышли из дощатой хибарки, где ночевали, на небе уже светило солнышко, и они улыбались друг другу, смеялись, зевали, обменивались впечатлениями. У Якуба они были чуть богаче.
Неподалеку оказался и Имрих. Он стоял у бочки с водой и умывался.
Якуб спросил его: — Как дела, бука? Как спалось? Ну, было что-нибудь, да?
Имро повернул к ним мокрое лицо и весело засмеялся: — А чего должно было быть? Было, конечно. Мы с татой маленько выпили.
Когда он потом прошел мимо братьев, пахнуло от него свежим холодком, и водяные капли заблестели в утреннем солнце. Он направился в дом обтереться.
Имро был знаком с одной девушкой. Старое было знакомство. Девушка жила в Околичном. Звали ее Вильма. Было ей всего восемнадцать. Имро, надо признать, до сих пор по отношению к ней не позволял себе ничего лишнего. Уж и тому был рад, что может с ней время от времени встретиться. Вильма была стройная, черноволосая, на лице веснушки, но веснушки так щедро усеивали его, что сливались в один сплошной слой, трудно отличимый от смуглой кожи, и, пожалуй, даже красили Вильму. Она и зимой казалась всем загорелой. Голос был звонкий, но мягкий, словно бы смуглость лица перешла и на голос и, чуть окрасив его, приглушила. Одним голосом она могла легко покорить человека, покорила и Имро, но слишком сблизиться с ним не хотела. Имро из-за этого немножко досадовал, но ни с кем о том не делился. Вильму любил — так зачем же говорить братьям? Тем более братьям она, может, и не понравилась бы. Он и словом ни разу о ней не обмолвился; ему доставляло радость, что он может молчать о том, о чем охотней всего кричал бы.
— Сдается мне, что он чересчур порядочный, — сказал о нем Якуб. — Надо бы нам его образумить маленько.
— А плевать на него, — сказал Ондро. — Больно на тату надеется. И вообще-то… Сегодня никуда не пойду. С вечера сразу и лягу.
Но вечером они снова вышли на улицу. Имро тоже с ними пошел, но предупредил их заранее, что хочет лишь немного пройтись. Знал, что братья должны встретиться с девушками, зачем же ему быть пятым колесом в телеге?
— Хочешь, — сказал Ондро, — я тебе эту свою малявку уступлю?
— Оставь ее себе! Я лучше пойду пива выпью.
Вскоре он от них откололся.
Якуб крикнул ему вдогонку: — Боишься в пекло угодить!
Девушки явились в хорошем настроении. Особенно Юлка была весела. Развеселила и угрюмого Ондрея. По любому поводу давились от смеха. Их, наверно, за версту было слышно. На другой день даже Имро сказал братьям: — Ну и гоготали вы там вчера.
А чтобы уж вволю насмеяться, иногда и Марта вставляла словечко, и это тоже было впопад.
Но прошло четверть часика, и Ондро показалось, что с разговорами пора закругляться. Если тратишь время на разговоры, так хоть имей что-нибудь с этого. А какой толк от такой бабы, как Юлка? Все хиханьки да хаханьки, а как до дела дойдет, сразу ни-ни, не дает до себя даже дотронуться. Право, такой товар не для подмастерья.
Марта была посмелее. Ондро казалось, что ей и ни к чему быть такой смелой. Она прямо вешалась на Якуба и лезла к нему после вчерашнего со всякими докуками. А Якуб — малый не промах! — будто не замечал ее, все внимание отдавал Юлке.
«Бери их обеих, — злобился Ондрей. — Бери их и проваливайте хоть к черту!»
Так или эдак, а Якуб и в самом деле выкинул такое, чего Ондрей не ожидал. Взял да и отошел с Юлкой в сторонку — будто что-то шепнуть, а увидев, что она послушно идет за ним, потянул ее дальше.
Что тут скажешь? Ну не бесстыдник ли этот Якуб? Да и Юлка тоже хороша. Неужто улизнуть хотят?
Ондро с Мартой глядели им вслед, потом обменялись взглядами-гримасами.
Завечерело. Небо затянулось тучами. Вдали время от времени слабо взблескивали молнии.
Ондро с Мартой прогуливались по деревне, оба были не в духе, даже разговор не клеился. Злились на Якуба.
— Слышь, Марта, — ворчал Ондро, — ну и околпачила нынче нас эта парочка! Мне-то ладно, а все равно не дело. Якубу этого я не прощу.
— Я знала, что так будет.
— Думаешь, я нет? Но твоя подружка тоже показала себя! Я еще вчера вечером по ней это видел. Еще вчера у обоих на лице все было написано.
Марта пыталась защитить подругу: — Ондро, это не Юлкины выдумки. Юлку я хорошо знаю. Это Якуб виноват, очень он легкомысленный. Только не говори ему.
— Думаешь, я Кубо не знаю? Но и подружка твоя хороша.
— Ондро! — сказала Марта чуть погодя. — Чего мы тут стоим?
— И впрямь, чего нам тут стоять? Можем еще немного пройтись. Если хочешь, провожу тебя домой.
Они сделали несколько шагов. Вдруг Ондро остановился. — Куда мы идем? Чего нам спешить? Тебе хочется домой?
Марта немного поразмыслила. — Да вроде не очень.
— И мне пока не хочется спать. Знаешь что? — Он коснулся плеча Марты, — Пойдем заглянем в ту учительскую!
Они подошли к новой школе. Под ногами у них заскрипели комки сухого раствора.
— Обожди, Ондро! — Марта остановилась. — Давай лучше вернемся! Я передумала.
— Чего передумала?
— Вернемся! Я что-то боюсь.
— Не дури, Марта! — Он тянул ее дальше. — Вчера вечером ты не боялась.
— И вчера боялась. Не сердись, Ондрей! Я знаю, что виновата. Не хотела бы, так… Сама не знаю, зачем сюда шла.
Ондро обнял ее, но она оттолкнула его, попытавшись высвободиться.
— Ондришко, прошу, отстань от меня!
— Марта, не дури! — Он тяжело дышал ей в ухо, потом в лицо, все поцеловать норовил.
— Ондро, нет! Опомнись, Ондро!
В нем все загудело. — Ну хватит! Разозлюсь, тогда узнаешь. Зачем сюда лезла?
— Ондришко, отстань от меня! Прошу тебя, не сердись! Ондришко, ведь я вчера… с Якубом…
Он стал грубо ее раздевать.
— Отстань от меня! Уйди! — Она оттолкнула его, но и это не помогло. — Закричу, вот увидишь.
— Ты и так кричишь! Не зли меня! — Он срывал с нее одежду. — Не дури! А чтоб тебя!.. — Он вдруг влепил ей затрещину.
Она грохнулась наземь. Ондро с минуту постоял над ней, а когда она шевельнулась, пнул ее в бедро, нагнулся к ней. — Все равно заполучу тебя!
И тогда Марта отчаянно закричала: — Убей меня, гад! Убей меня! Пусть подохну, мне все равно!.. Курва я, а насильничать над собой не дам… Скотина!.. Скотина!.. Пусть подохну, мне все равно!..
А мимо как раз шел один, остановился, прислушался.
— Опять кто-то подыхает! — засмеялся он злорадно и, повеселев, побрел дальше.
7
Новую школу они ставили почти всю весну и половину лета. В июльские сумерки, когда везде кипела жатва, возвращались домой; до Церовой доехали поездом, а оттуда до Околичного шли пешком. Все четверо были под хмельком и еще тянули из бутылки, смеясь и покрикивая друг на дружку.
— Ладно гоготать вам, молодцы, не шумите, — Мастер шутливо одергивал сыновей. — В мире война, люди гибнут, а вы гогочете как полоумные! Могут и осерчать.
— Брр! — передернулся Имро. — Видел ли кто когда, чтобы в такую жарищу хлестать сливовицу?!
— Дай сюда! — Ондро выхватил бутылку. — Я выпью.
— Еще бы не выпить! — Имро отобрал бутылку и отдал ее Якубу.
Якуб отхлебнул, протянул отцу, и тот прикончил ее.
Еще минуту-другую они дурачились, потом Якуб сказал отцу, что надумал жениться.
Мастер решил обратить все в шутку.
— А мне-то что? — сказал он. — Женись, Кубко, ведь ты уже много раз женился! — Потом нарочно повысил голос и закричал громче, чем надо было: — Эй, подмастерья, сюда! Свадьба!
Дорогу перебежали куропатки. Имро бросился к ним, но куропатки взнеслись и большим полукругом отлетели к сосновому бору.
— Тата, я не шучу, я ведь и впрямь хочу жениться. Есть такая девушка Юлка. Я недавно с ней познакомился.
— Как знаешь, Кубко. Ты, чай, не маленький, разума тебе не занимать. Охота — женись, по крайней мере в доме будет сноха.
Но Якуб поправил отца, сказал, что не собирается привозить невесту домой, в Околичное, а что после свадьбы он Якуб, решил из дому уйти.
Мастера даже подбросило. — Да ты что, Кубко, спятил? Будь это правда, я бы и на свадьбу к тебе не пришел.
— Тата, я бы очень расстроился, кабы ты на свадьбу мою не пришел. И все же заверяю тебя, я серьезно. Так мы с Юлкой договорились…
— Ну и дела. — Мастер махнул рукой. — С Юлкой договорился, а мне и слова не сказал. Только сейчас взял да брякнул, ошарашить решил. Я эту Юлку не знаю, но думаю, девка молодая, само собой, замуж охота. Все в порядке вещей. А отчего бы ей не приехать сюда? Коли замуж приспичило, пускай переезжает к тебе. Пускай перебирается к Околичное.
— Да не захочет она.
— Отчего же? А ты спрашивал? Не болтай, Кубо, не болтай пустое! Поглядел бы я, как бы мне жена еще до свадьбы стала приказывать. Ты уже старый осел, а разума ни на грош. Ну женишься, а потом что? Скажи, потом-то что будешь делать? Мне что так, что эдак — все одно, уезжай хоть сегодня, как-нибудь без тебя обойдемся.
— Зачем же тогда серчать? Ничего ты не понял. Я не хотел тебя злить. Ей-богу, чудной ты. Ты меня все мальцом считаешь, а я уже не малец. Знаю, что делаю.
— Дурнем тебя считаю, а не мальцом. И слышать не желаю о той деревне. Плевать мне на ту деревню. Дома живи. Да с женой. Одумайся, Кубо, иначе мы с тобой не столкуемся!
Но Якуб не одумался. А скоро открылся и Ондрей. Объявил отцу, что и он хочет жениться и после свадьбы намерен уехать из Околичного.
Мастер опешил. Против него оказались двое, а ну как и третьего перетянут на свою сторону?
Ондро решил жениться на Марте. Любезного читателя, конечно, это удивит. И Марту удивило. — Не утруждай себя, Ондро, — говорила она ему. — Знаешь небось, что ты у меня во где сидишь. Как бы ты меня не морочил, все равно уже не поверю тебе.
— Ясно, Марта, сердишься на меня, — каялся Ондро. — Сердишься, да оно и понятно. Конечно, знаешь меня только с дурной стороны. Верно, думаешь, что я хам, я и есть хам, да не всегда! Во мне есть и хорошее. Может, я и не такой плохой, как ты думаешь. Что было, то было, бог с ним. Если пойдешь за меня — поверь мне, Марта, правда, поверь, — не пожалеешь! Вот увидишь!
— Да ты что! Как только в голову тебе пришла такая блажь? Ондро, я даже слышать о тебе не могу.
— Думаешь, я удивляюсь? Ей-богу, Марта, я ни чуточки не удивляюсь. Но все же поверь мне. Иной раз я грубый, а так редко кого обижу. Не знаю, что тогда на меня накатило. Лучше бы по морде сам себе съездил. До смерти буду мучиться, что так плохо с тобой обошелся. Не серчай, Марта! Одно скажу тебе: не пойдешь за меня, промашка получится! Еще жалеть станешь, а я из-за этого буду казниться. Ужас как буду казниться! Ты, может, не согласна со мной, но думаю, мы очень подходим друг другу. Ей-богу, Марта, очень подходим! Что до работы, то работать я умею. А жена мне такая нужна, которая не сробеет передо мной. Я подумал и решил, что это ты и есть. Тогда и то не сробела передо мной, так ведь?
Он раздражал Марту. Но при этом она дивилась его настырности. Долго не могла решиться: «Что с ним делать? Если не пойду за него, он так и будет все время таскаться за мной и докучать мне».
А немного погодя она рассуждала уже по-другому: «Вроде он и впрямь неплохой. Да я тоже не без греха. Может, не так он и провинился передо мной, а если и провинился, то это и моя вина. Почему бы не простить ему? Пожалуй, я не очень-то и сержусь на него».
Ондрей приходил к ней каждую неделю, и Марта привыкла к нему. Чудные эти женщины! Чего только не простят нам, не спустят. Иной раз и признать не хотят, что мы их обидели. Чего только не доводится им от нас вынести, а они немного всплакнут, и опять все в порядке; с плачем своим, особо не носятся, так как надеются на будущее: вдруг и им выпадет какая-нибудь радость, и они утешатся ею, потому как умеют и маленькой радостью утешаться. А и рассердятся, то ненадолго, часто собственные слезы их лишь и сердят. Даже в горе они находят смешное, бывает, что и посмеются над своими слезами. Только дурни и хамы не способны им эти слезы простить. Только дурни и хамы мало знают об этих слезах, редко их когда замечают: ведь у них, у женщин, своя гордость, и свою печаль они никому не навязывают, лишь приткнутся где-нибудь в закутке и украдкой оплакивают свои «победы».
Вот так-то! И Марта такая. В один прекрасный день она говорит Ондро: — Ладно, Ондришко, пойду за тебя. Только из дому не уйду. Знаешь, если бы я из дому ушла, я бы тебя, наверно, и забоялась.
— А чего тебе из дому уходить? Я дал промашку, я ее и исправлю. Теперь тебя буду слушаться, Марта, одну тебя. Я тут с Якубом толковал, он тоже хочет из дому уйти, вот и уйдем вдвоем…
Мастеру от этого мало радости. С виду все вроде по-старому. Хаживают вместе каждый день на работу, а случится речь о женитьбе, мастер старается сыновей урезонить, да где там! Разговоры раз от разу чуднее, даже как бы язвительней.
— Как думаешь, Имришко, — выпытывает мастер у младшего, — это они серьезно говорят? Или хотят только позлить меня?
— Не знаю, тата, но скорей всего — серьезно.
— Коли так, Имришко, то оно гораздо серьезней, чем ты думаешь. Послушай, а куда они, собственно, ходят?
— Тата, они же тебе об этом сказали.
— Не шути, Имро! Ведь это в самом деле серьезно, это же разрыв, развал, разлад! Ей-богу, я и не знаю, что на это сказать! Догадал же нас черт связаться с этой школой, Имришко!
8
Как-то раз они снова ставили амбар; на нем уже высилась крыша, связанная лежнем, стойками и подкосами и оседланная длинными стропилами; Имрих сидел на прогоне, стало быть на гребне крыши, которую надо было обрешетить, обшить досками и покрыть черепицей, и невзначай заметил, что между отцом и Якубом закипает ссора. Он знал: чем дольше она разгорается, тем злее будет.
День стоял жаркий, но с приближением вечера похолодало. Голубое небо еще не померкло. Только с запада занялось желтым, а потом и розовым светом. Над садами, богатыми урожаем дозревающих слив и яблок, сновали ласточки; поминутно какая-нибудь прошныривала между стропилами недостроенного амбара, где под водостоком уже ближайшей весной найдется место для глиняного гнезда, выстланного травинками и мягким пушком.
Мастер, весь в поту, тревожно озирался, приготовившись к наскокам Якуба. Их, конечно, и отвести было бы можно — все равно в такое время обычно кончали работу, но нынче, когда Якуб уже битый час бездельничал, это могло бы показаться уступкой. Мастер решил, что они не уйдут, покуда не объяснятся. Уставившись на старшего сына, он пробуравил его глазами и сказал: — Якуб! Тут только один из нас должен распоряжаться!
Якуб чуть было не взорвался, но под взглядом отца совладал с собой.
— Вот ты и распоряжаешься.
Ондрей, словно лишь сейчас поняв, что происходит, прекратил работу.
— Взялись бы как следует, — сказал мастер, — могли бы и сегодня управиться.
Якуб понурил голову, потом поглядел на среднего брата — у того почему-то никак не прикуривалось.
Имро улыбнулся: — На, держи! — и бросил Ондро спички.
Ондро поблагодарил его взглядом. Вытащил из кармана пачку сигарет, закурил новую.
— Завтра докончим, — сказал Якуб, и прозвучало это так неприязненно, что мастер осмотрелся — нет ли кого случайно поблизости, не слышит ли кто. Хорошего мало, если люди прознают, что между мастером и его подмастерьями нету согласия — каждый самоуправничает, как ему вздумается.
— Якуб, не о том речь. — Лицо мастера немного нахмурилось. Разговор был для него крайне важен, он хотел обдумать его, а тут вдруг почувствовал небывалую усталость. — Ты старший, должен понять. Ума не приложу, почему именно ты ополчился против меня. Все время наскакиваешь. Не потому говорю, что боюсь тебя. Будь вы все трое против меня, я и то не оробел бы. Кому-то надо мозгами шевелить. Раз согласного ума нет…
— Ты чего нас и в грош не ставишь? Все считаешь нас маленькими, а мы уже давно выросли. Сам без нас как без рук, хочешь, чтобы мы горбатили с тобой, а вечно нас оскорбляешь. Четверо нас — стало быть, и четыре ума. А ты требуешь послушания даже в таких делах, в которых тебя бы никто не послушался. Пора тебе знать, что можно спрашивать с нас, а чего — нет. Требуешь уважения, а сам никого не уважаешь. Твердишь об обязанностях, а для самого ни законов нет, ни обязанностей. Или ты думаешь, что отец либо мастер только затем, чтобы помыкать всеми? То, что тебе кажется главным, нам может казаться неважным, но ты и этого не понимаешь, потому что всех нас троих считаешь дураками.
Мастер сглотнул слюну. Минуту удивленно смотрел на Якуба. Потом перевел взгляд на Ондро и Имриха и спросил:
— А что может быть важнее работы?
Ондро подумал, что вопрос относится к нему. Но ответить побоялся. Только затянулся сигаретой и выдохнул дым.
— Если какой хозяин решает поставить амбар или дом, — сказал мастер, — так загодя готовится к этому. А как все подготовит, стребует скорой работы. Пока нас четверо, нам, работы хватает и мы с ней быстрей управляемся, чем любая иная четверка, в которой один другому чужой. Чужак с чужаком редко столкуются, из-за всякой безделицы норовят друг другу вцепиться в волосы, а потом никак не поладят…
— Ты это к чему? Зачем всегда все осложняешь? Мы ведь говорили о самых простых вещах. Ты никогда не скажешь прямо, все вокруг да около. Любишь разводить антимонии, сам себя смущаешь словами, но я-то знаю, что делаешь это нарочно, хочешь благими речами и нас задурить. Да я уже не мальчишка. Знаю, что мне надо. И Ондро знает. Дойдет до дела — без тебя обойдемся. Красивые речи отложи на воскресенье! Не то уедем отсюда раньше, чем думаешь.
Ондро удобно привалился к одной из стоек. Имро, ухватившись за угловое стропило, спустился к нему.
— Что это значит, Якуб? — спросил мастер. Вытащив из кармана брюк платок, он нервно утирал лицо, хотя пот уже высох. — Ну ясно, хочешь жениться. А почему ты со мной разговариваешь так резко и грубо? Я не потерплю этого.
— Потерпишь. Ведь сам же говоришь, что нас четверо, все время твердишь это, стало быть, и твои уши иной раз могут послушать.
Мастер затрясся от злобы. — Один из нас — мастер, запомни это! Шуметь тут никому не позволю.
— Сам шумишь громче всех, — вмешался средний.
— На то я и мастер, — отрезал отец.
«Ага, пошло-поехало!» — подумал Имрих.
— Коли тебе важно одно — до самой смерти оставаться мастером, найди себе других подмастерьев! — сказал Якуб. — Кому-нибудь другому дури голову, ежели, конечно, он от тебя это стерпит. А я больше не позволю над собой потешаться. Мне и на работу плевать, на все уже плевать. Ведь один черт: что заработаем, то и пропьем.
— Чего же пьешь столько? — злобно процедил отец.
— Ты еще больше, — не сдавался Якуб. — Всегда лакал — аж за ушами трещало. Только вспомни, каким ты был мастером лет десять-пятнадцать назад! Небось и вспоминать неохота! А приказывать ты горазд! Откуда у тебя взялось это право — так глупо помыкать нами? Скажу напрямик: меня это уже не забавляет. А разобраться, так у тебя даже и права такого нет. Не стоять же тебе век у нас поперек дороги. Уж раз это отцовское право, то оно кое к чему и обязывает. И тебе хватит ума понять это. Или, может, ты воображаешь, что мы без тебя ни черта не стоим? Но и тут половина правды. Не только ты нас, но и мы тебя поставили на ноги. А что сейчас боишься, так это страх не за нас, ты за себя боишься. Уйдем, и ты опять будешь такой же слабак, как и прежде.
Мастер не выдержал. Подошел к Якубу и влепил ему затрещину.
Якуб вымученно улыбнулся: — Оплеух твоих никогда не считал. Даже в детстве. Тогда терпел и нынче стерплю. Эта оплеуха последняя. Если хочешь, — он дерзко поглядел отцу в глаза, — приму ее как благословение. С нынешнего дня остаетесь втроем, — сказал он и соскочил с трехметровой высоты.
Перепуганный мастер затряс руками. Хотел что-то крикнуть, да только рот успел открыть.
— Вдвоем остаетесь, — крикнул Ондрей и съехал вниз по бревну.
— Якуб, обожди! Ондро, воротись! — закричал мастер вдогонку, когда они были уже на значительном расстоянии. Потом огляделся, заприметил топор, схватил его и, не зная, что с ним делать, злобно замахнулся и изо всей мочи швырнул. Топор проблестел среди порхающих ласточек и упал в траву.
У младшего засверкали глаза. Он уж было прикинул, как побыстрей улизнуть, но тут мастер повернулся к нему: — Ступай и ты!
Имрих смутился. В глазах мастера он прочел злость, но это была особая злость, которую младшие сыновья воспринимают чуточку иначе, чем их старшие братья. Младшим не приходится объяснять себе многие вещи, они повинуются всему без объяснений. Младший не очень-то вдумывается, он скорее угадывает необходимое, а если и не угадает, то его не привлекут за это к ответственности, по крайней мере до тех пор, покуда он младший. Тут есть своя выгода и невыгода, ведь на самом-то деле младшему все равно не уйти от ответственности, он тоже подвластен всем правдам и неправдам и в той же мере зависит от старших, как и они от него. Но одно несомненно: кто-то должен уступить. Если старшим надоело подчиняться отцу, младшему приходится отдуваться вдвойне; так и в природе: все, что моложе, что только всходит, растет, развивается, легче приноравливается, гибче увертывается, однако, и увертываясь и отступая, все равно продирается вперед; вот потому-то и не надо это молодое или младшее (а стало быть, и младшего) недооценивать, не надо обманывать, ибо со временем он поумнеет и начнет размышлять, когда, кому и в чем уступал. Рано или поздно, даже и не стремясь к этому, он созреет для собственной правды, и она будет мудрее, лучше и прекрасней других или по крайней мере такой же мудрой и прекрасной, как те, что становились у него на пути. А между тем родится еще у кого-нибудь сын — не важно, кто будет его отец и что он начнет вдалбливать ему в голову, но однажды и ему откроется правда, и она будет еще прекрасней, еще мудрее и справедливей.
Но вернемся к тем, кто остался на крыше. Они уже успели спуститься вниз, мастер нашел в траве топор и, хотя чувствовал себя непривычно усталым, высоко взмахивал им и грозился: — Это вам боком выйдет! Погодите, ужо допрыгаетесь! Вот посмотришь, Имришко, как они за это поплатятся!
Небо на западе стало еще розовее. Ласточки скликались в гнезда ко сну. С дальних болот доносились крики чирков.
Они собрали инструмент, побросали его в амбар и наладились было пойти попрощаться с хозяином, да раздумали, хотя, кто знает, может, он и поднес бы им по шкалику горячительного.
По дороге мастер разговорился. Злость его поостыла, но к той, что осталась, примешивалась горечь; мастеру было до того лихо, что он поминутно останавливался, тяжело вздыхал, бранился и сокрушался над сыновним непослушанием и неблагодарностью.
— Ты слышал, Имришко! Теперь они умные! Я к ним с советом, а они накинулись на меня, грехами стали попрекать. Вот уж грехи. Скажи, Имришко, ну какие такие грехи? Глупости, слабинки, что и грехами не назовешь, потому как они у каждого есть. И силой еще похваляются. Хотят меня подрубить, свалить. Меня свалить, ну скажи, Имришко! И за что? За то, что я их вышколил, доброе имя дал? И от армии избавил. Ведь были бы там, на фронте! Скольких парней призвали, погнали на Украину, в Россию, те-то в окопах крючатся, а эти дома в постелях вылеживаются, потому как я вам всем троим у писаря освобождение выхлопотал. Хожу к нему подмазываюсь, выслуживаюсь, лакаю с ним. А они накинулись на меня, бучу затеяли, и все потому, что не позволяю им удрать, не даю дурью мучиться. А хотят подальше от дому, пусть бы и отправлялись со всеми другими, там бы и показали, на что годятся, а то ишь, передо мной выхваляются. Торчали бы теперь на Украине, мосты бы строили. Хотел бы я на эти мосты поглядеть, ох и хотел бы! Мне-то ладно, Имришко! Делайте, что хотите, я выдюжу. Мы с тобой, Имришко, выдюжим, вдвоем-то выдюжим… Скажу тебе правду, Имришко, от Якуба я такого не ожидал. Всякого ждал, но такого… Ладно!.. Все в порядке, Якуб!.. Ондришко… Они говорят, мол, боюсь я. Ясное дело, боюсь! За вас боюсь, Имришко… Я ведь за них боюсь. Они, поди, думают, что за Трнавой или в каком ином пекле по-другому? Чего они там не видели? Ну женятся, ладно, женятся, а потом что? Догадал же нас черт связаться с этой школой! Хреновая школа, хреновая деревня, только и годна для дураков, что там народились! Но пускай идут, пускай туда отправляются, еще увидят, убедятся, будет время одуматься, за жизнь свою успеют понять, что чужой — он и есть чужой, а среди чужих людей, чужих дуроломов трудно найти себе место, трудно правду сыскать, до сути дойти, чтоб зря-то не суетиться, не надсаживаться, да чтоб и работу не клянчить, не искать всю жизнь дом на чужой стороне. Легко ли найти или создать новый дом там, где ты не родился! Сколько на своем веку я побродяжил! Покуда был молод, всю Венгрию исшагал, потому как и Словакия тогда была Венгрией, знаешь небось, я и вниз, до нижних земель, доходил, хотел узнать разных людей да на море взглянуть. В Будапеште я был, почесть, как дома, в Вене знаю каждую улицу, в Румынии договаривался по-мадьярски, был в Триесте, в Гориции, да, побродяжил я вволю. И в Трнаве жил, два года там жил. Город. Для нас это город. Школ — не перечесть, и календарь и газеты выходят, но дурость и в таком распрекрасном и богобоязненном городе процветает. Дурня на каждом шагу встретишь. Куда ни глянешь — болван! А Ондрей-то с Якубом думают… Имришко, да за Трнавой и куска дерева не сыщешь! За деревом топают оттуда в Карпаты либо в другую сторону, а то и до Нитры доходят, где святой Сворад, будь живой, наверняка плюнул бы на них, на дураков. Ты младший, а ума-то у тебя побольше, понимаешь, почему вас всех дома хочу удержать, дом он и есть дом, девки тут такие же, как везде, и все же другие — с ними легче столкуешься. Легче столкуешься с девкой из Околичного либо из Церовой, нежели с какой-нибудь дурехой — вышивальщицей из-под Трнавы. Да что там говорить! А эти-то двое… бог с ними! Свадьбы сыграют без нас с тобой!
Розовый свет закатного солнца залил весь небосвод. С другого, дальнего, склона уже начало лиловеть. На болотах еще пронзительнее кричали чирки.
Имро повернул голову, поглядел на отца. Вблизи лицо его казалось отлитым из латуни.
9
Мастер провел скверную ночь. Он долго не мог уснуть, а как уснул, привиделся ему черт. Сначала это вроде был Якуб, он пялился на отца и закатывал глаза, точно пьяный. Мастер, и во сне сердитый на сына, хотел было его жахнуть как следует, да почувствовал небывалую слабость; руки повисли, колени задрожали, потому как у Якуба — если можно его и дальше так называть — выросли вдруг рога, он бодался, топал ногами, того и гляди, накинется на отца.
— Если ты — Якуб, — мастер попытался вступить в переговоры, — так умерь свой норов! Лучше давай договоримся — это будет и в твоем и в моем интересе.
Черт злобно заворчал. И наговорил мастеру такого, что, пожалуй, я и не решусь передать. Но что ждать от сатаны и бесстыдника!
Знай он, что я буду об этом писать, наверняка поосторожничал бы — ведь черт писаного слова боится, чересчур к нему чувствителен. Черт он и есть черт! К каждому у него свой подход. Любит являться женщинам, особливо учительницам, с ними он и впрямь весьма изворотлив; вот оттого-то многие учительницы и путают ангела с чертом, а черта с ангелом. Но сейчас, дамы, не дремлите, это действительно черт!
— Te öreg szivar[7], — завопил черт по-венгерски, хотя Якуб венгерского не знал. — A te megegyezésedre fütyülök. Úgy még rúglak, hogy a fal is fölröhög[8].
— Якуб! Разве так с отцом разговаривают?
Черт схватил со стола луковицу и запустил в мастера, тот еле успел увернуться.
— Ну-ну, Якуб! Не дури, богом прошу!
— Öreg töpörtyű! Fallak szőröstül szaröstül[9].
Тут он хотел и в самом деле кинуться на мастера, но мастер пнул его в живот.
И вмиг проснулся. Поощупал пальцы на правой ноге, завздыхал.
Вздохи отца разбудили и Имриха, спавшего в этой же комнате: — Что с тобой, тата? Чего не спишь?
— Почем я знаю, Имришко! Только прилег, сразу же жуткая тяжесть меня придавила! Якуб донимает меня.
Он прокашлялся, пошуршал периной и загромыхал стулом, куда еще с вечера положил сигареты.
Закурил. Имро глядел на его лицо, освещенное огоньком спички. Надо же, ну никак не придумать ему, чем бы утешить отца.
— Не принимай близко к сердцу! Главное, тебе как следует выспаться. Завтра потолкуешь с Ондро и Якубом, все и образуется.
Мастер вновь завздыхал.
— И чего ты меня от этой школы не отговорил! Слыхал небось, что Якуб мне вчера выдавал? Ужас грубил как. Я разве против женитьбы? Смешно ведь и глупо стоять у них поперек дороги только потому, что я отец им и хочу свое навязать. Ондрей с неба звезд не хватает — дело известное. Не сказать, чтоб плох был, да голова у него чисто колода дубовая, а на Якуба я дивлюсь, Имришко, сильно даже дивлюсь. — Он затянулся сигаретой и захмыкал. — Спишь, Имришко?
— Не сплю. Думаю.
— Что делать, Имришко, скажи?! Я уж и правда не знаю. Совсем отупел. Или это кара за грех? Только скажи за какой? Я же добра вам всем желал, думал, чем дальше, тем лучше будет. Были у меня свои планы, а сейчас все вдруг наперекос пошло. Я бы и рад с ними поладить, да уж очень по-разному мы смотрим на вещи, каждый разговор кончается ссорой, даже когда я готов пойти на уступку. Я бы уступил им, Имришко, да ведь знаешь, какой у них нрав: в конце концов я же и виноват буду в этой уступке, меня же и проклянут, как увидят, что от моей уступки никакого им проку.
— Ты в самом деле все усложняешь, — перебил его Имрих. — Они уже в возрасте, им жениться пора. Да и потом, Якуб тринадцать лет в подмастерьях, ему тоже, поди, надоело. Хочет самостоятельность проявить, доказать, что и он может быть мастером.
— Выходит, прав я. — Мастер снова нашаривал сигареты. — Выходит, дело не только в женитьбе, а и в том, что они на меня ополчились. Могли бы и жен сюда привести, так нет же — им бы подальше от родного дома, тут, видишь ли, я им помеха. Вся жизнь колесом пошла. Давно уже так. Было нас четверо, работа ладилась, мне-то все одно, кто из нас мастером — все четверо умели взяться за дело. Я был мастером, но особенно об этом не думал. Должно быть, вся-то и разница была в том, что я выпивал больше вас. В работе никогда не помыкал вами. Да и зачем? Каждый знал, к чему руки приложить. А нынче, видать, и говорить о четверых глупо, раз каждый в свою сторону тянет, и вас даже коробит, если я себя к вам причисляю. По воскресеньям, когда не работали, я варил вам обед и делил мясо так, чтобы Якубу достался самый лучший кусок — он всегда охоч был поесть. Себе оставлял самый маленький и усаживался эдак бочком, чтобы вы того не заметили. Вы с Ондро ходили в школу, а я переживал, что не могу вам дать добавку и что еда не так вкусна, как при матери — она-то стряпать была мастерица. Бывало, забудусь, выпью больше, чем полагается, а потом сам на себя злобствую, объяснять тошно, отчего у нас воскресенье такое убогое. На одно жалованье трудно прожить. Якуб выучился и скоро ушел в солдатчину. Как-то надумал я послать ему посылку — полцентнера яблок, — купил их, а дома нам вдруг показалось, что их слишком много для Якуба, навалились мы на них, и вскорости яблок как не бывало. А он-то думал — отец забывает о нем. Ты же знаешь, Имришко, что эти яблоки я купил. Каждый день мы Якуба поминали, а он и знать об этом не знал. Однажды прислал нам свое денежное довольствие, вы обрадовались, ну а я огорчился, чуял, что эхо значит. Он хотел посрамить меня, дать понять, что он лучше меня и что без моей помощи обойдется. Да и чтоб вы намотали на ус: отец, мол, забулдыга, незаботливый, зряшный человек. А, сколько уж раз мы толковали об этом, я и про эти яблоки вспоминал. Полцентнера их было. Ну допустим, Имришко, съел я два-три, а хоть бы и десять, что с того?! Не знаю, сколько в нас тогда влезло. Сели мы вокруг мешка и давай животы набивать. Я-то думал: поедим вволю, остальное Якубу отошлем. Да на другой день Ондро опять глаза выпучил: «Ага, все только для любимчика!» Я вновь приволок мешок на середину горницы. Ну что было делать, Имришко, скажи?! Любимчик за горами за долами грыз свою армейскую пайку, хлебал вонючий кофе, а мы дома трескали его яблоки. Когда мешок уже почти совсем отощал, я стал впопыхах искать коробку, а коробку нашел — не оказалось шпагата. У бедных людей и шпагат не вдруг сыщется. Достали шпагат, глянули, а яблок всего ничего. Давай считать их втроем, считали и укладывали в коробку, а в ней еще до черта свободного места — ну чем его заполнишь? А тебе-то казалось, что яблок по-прежнему много, ты завидовал Якубу, даже не просто завидовал, а расплакался, ты же совсем маленький был: «Тата! Ведь я тоже когда-нибудь пойду в армию». Я взял да и отдал тебе эти яблоки. Был бы любимчик дома, он по крайней мере одно бы яблочко у тебя выпросил, как выпросил Ондро, только любимчик был далеко. Сел я писать ему письмо, но от слова к слову оно становилось горше, вот и не отослал я его. Целую неделю мне свет был не мил, а потом заработал я кронку-другую и тут же потопал в корчму — выпить приспичило. Заместо меня Якубу отписал Ондро, не забыв доложить, что я снова напился. Через несколько дней получаем денежное довольствие: любимчик в пользу вас и прохвоста отца отказался и от той малости, с какой справился бы и самый горемычный солдатишка. Ну что ж, он героем заделался, братьев спас, а родного отца одолел и посрамил. Уважаю, а сердце держу на него. Зла ему не желаю, видит бог, Имришко, всем вам только добра желаю, хотите верьте, хотите нет. После материн похорон дошло до меня: четверо нас, а четырем мужикам многое под силу! Якубу еще и шестнадцати не было, а я вас всех уже считал за мужчин. Бывало, и повздорим, да разве это раздоры! С голодухи человек дуреет, вот и нападает на него охота ругаться. Нынче нам бы только и ладить, а, как видишь, не ладим, каждый настороже, нет между нами ни согласия, ни понимания. Я советую, растолковываю, а никто и слушать не хочет. Эти двое вздумали податься из дома, все начать сызнова, хотя и они понимают, как трудно одному либо двоим все сызнова начинать. Знаю их, Имришко, плохого о них не скажу, но другой раз в них что-то вскипает, и рубят они с плеча, безоглядно. Я и за них и за себя боюсь. И за работу боюсь. Ума не приложу, Имришко, как тут быть. Пророчить вперед не могу. Пойдем с тобой потихоньку да помаленьку, тише прежнего. У двоих работа не может, как у четверых, спориться, особливо если один уже в годах и ему нет-нет да и отдохнуть охота.
10
Утро было прекрасное. Небо — ярко-голубого цвета. Мастер и Имро отправились закончить, обшить тесом амбар, у которого вчера заварилась ссора. Оба были невыспавшиеся, угрюмые, но делали вид, будто ничего не случилось. Мастера разбирала зевота — зевая, он всякий раз взглядывал на Имро и улыбался. И Имро изображал веселость. Болтал о разном, только о братьях и словом не обмолвился, хотя оно-то все время вертелось на языке. Думал — Ондро с Якубом давно за работой, и ссора между отцом и ими скоро уладится. Уж он-то приложит все силы, чтобы уладилась, да и хорошо бы без свары или по крайней мере без злобы и ненависти.
Подошли они к месту, а братьев и в помине нет. Лишь один хозяин у амбара околачивается. Мастер перепугался: «Никак пожаловал за нами приглядывать. Верно, думает, что мы с его амбаром слишком канителимся».
Но хозяин и не думал их торопить. Просто хотел поглядеть на амбар. Ведь амбар, пусть еще и не достроенный, — дело серьезное, и настоящий хозяин всегда рад в амбар заглянуть. Только плотники уберутся, он тут же подрядит черепичника, а после, примерно через недельку, привезет сюда воз пахучего клевера и тут же испробует, каково спится в новом строении. Он и с мастером хотел поделиться своими мыслями, да потом решил, что лучше их держать при себе. Настоящему хозяину положено быть рассудительным. Иной раз и можно с кем покалякать, но во всем открываться не след — известно, какие злыдни бывают, каждого высмеять норовят, не понимая, что подчас и серьезный человек пустяковине радуется.
Но как бы то ни было, он-то уж славно тут выспится. Приведет сюда женку, вместе и надышатся пахучим клевером.
— Вы что, вдвоем? — спросил он. — Вдвоем работать будете?
Вопрос мастер расслышал, а вот обходительности в словах не приметил. Он взглянул на Имро, но на лице сына ничего не прочел, и потому коротко ответил: — Сегодня нас двое.
Хозяин, тот и не почуял, с каким трудом мастер это выговорил. Он, должно быть, и не очень-то слушал его. Глаза шныряли по доскам и балкам. Дело ясное — амбар почти готов, одному мужику и то под силу управиться к вечеру. Уплатит он мастеру, сколько положено, а будут ли двое меж собой делить деньги или четверо — это уж не его забота.
«Сердится! — говорил в мастере внутренний голос. — Наверняка сердится. Должно быть, видел, как вчера эти двое озлились и ушли. Сейчас злоба и на него перекинулась. Напоследок еще и меня начнет распекать, что мы его амбар сработали кое-как!»
А хозяин радовался: «И женка будет довольна! Затащу ее сюда и уж всласть с ней в клевере поваляюсь. Какое же, к лешему, супружество, когда у тебя нету амбара! Изволь лежать с женой только в постели».
— Стало быть, сегодня закончим? — спросил он с добродушной улыбкой.
Мастер заверил: — Помаленьку закончил!. Нас, конечно, всего двое, — добавил он чуть погодя, — но никакую другую пару с нами не равняй. Что ж, Имришко, — он метнул взгляд на сына, — за дело!
Крестьянин: заглянул в ворота амбара, облизнулся довольно и ушел.
Мастер поднялся по лестнице на крышу. Повернулся вдруг к сыну и сказал:
— Имро, а мне так лучше бы под поезд где кинуться.
11
Они поднажали и пополудни работу закончили. Подобрали инструмент и собрались было уйти. К ним опять подошел хозяин и, весело насвистывая, стал осматривать амбар. Имро подсвистел ему, вторя в лад, — хозяин еще больше развеселился. Потерев руки, заметил: — Теперь, выходит, дело за черепичником!
Мастер поднял с земли рюкзак с плотничьим инструментом и сказал: — Добро! Еще одна знатная работа за нами!
Хозяин вытащил кошелек: — Теперь можно и рассчитаться.
— Это дело простое, — сказал мастер, а сам подумал: «Чего о том толковать? Сам небось знаешь, сколько положено. Договорились неделю назад. Выкладывай деньги, мы и пойдем с богом!» — а вслух произнес: — Коли охота, можно и набавить.
Хозяин, кивнув головой, лукаво улыбнулся. «Отчего ж не набавить? А убавь я, что бы ты тогда сказал? Ведь и в моем кошельке деньгам не тесно».
И начал отсчитывать. Последнюю сотню держал в руке подольше, словно не мог с нею расстаться. А потом накинул еще одну, — Была не была! По крайности не станете меня оговаривать. — Он весело втянул в себя воздух, пропахший соломой, и тут вдруг почувствовал, что ему стало жалко той сотни, что надбавил мастеру.
Мастер взял деньги и, не считая, сунул в карман.
«Хамло! Хоть сосчитал бы!» — досадовал хозяин, но мастер гнева его не приметил.
— Пошли! — сказал хозяин. — Жена на стол собрала. «Еще и нажрутся вдобавок!»
Он провел их в переднюю горницу, а это уж кое-что значит, когда хозяин в будни ведет гостей в переднюю горницу. Должно быть, похвалиться хотел — да и было чем: стол прямо-таки ломился от кушаний, а хозяйка все подносила и подносила, весело тараторя, что, мол, в ее доме и на хворого, и на сытого найдет аппетит. Мастер только теперь увидел, что работали они действительно у справного, крепкого хозяина, которому есть чем потешить себя, да он, должно быть, и тешит, хотя сейчас не очень-то к столу и тянется. Наверняка привык к первейшим вещам. А что не суетится и не хватается за работу, тоже недурной знак — работа не убежит; настоящий хозяин знает: раз-два в году, а то и чаще надобно найти время для гостя.
— Мы думали, вас четверо будет, — говорила хозяйка. — На четверых и приготовили.
Мастер слегка оробел. Как бы не пришлось объяснять, почему не пришли Ондро с Якубом.
— Ну, Янко, угощай! — подбадривала хозяйка мужа, а сама нет-нет да и взглядывала на него: «И что ты, олух, так наливаешься?»
— Видать, хорошо живете, хозяйка, всего у вас вдосталь. — Мастер указал рукой на стол. — Собрали на четверых, а хватило бы и на десятерых.
— Не жалуемся, — откликнулся хозяин. Он ждал, что похвалы его хозяйству так и посыплются, а заранее тому радовался.
— Да и мы живем не хуже других, — сказал мастер. — Ежели в охоту — так и работа спорится. Вот Имро — мой младший, а в деле знает толк лучше меня.
«Чего это он?» — удивился Имро, хотя похвала и польстила ему.
А хозяин сказал: — Золотые слова! За них стоит выпить! — И, только подняв рюмку, смекнул, что слова мастера относятся совсем не к нему. «Ну и мастер! Прыгает с пятого на десятое, а потом обратно!» — Ну, за ваше здоровье! — Горделивая улыбка хозяина обратилась в улыбку для Имриха.
— Угощайтесь, пожалуйста, — улыбалась и хозяйка. — А я схожу посмотрю на амбар, ведь я толком его еще не видала.
Хозяин, казалось, хотел податься за ней: — Ступай, Милка! — Он провожал ее взглядом, а под столом даже сделал шажок вперед и назад. — После и я приду.
В дверях она обернулась, и вновь что-то незаметно дрогнуло в уголках ее глаз: «Не вздумай надраться!»
А он и бровью не повел. Когда она была уже на дворе, разлил по новой.
— Ну как, мастер? Хоть и живем-поживаем и с работой управились, а поднять настроение требуется, без хорошего настроения человеку и жизнь не в жизнь. Я так с удовольствием выпью. — И выпил.
Мастер отнесся к этому с пониманием, но к рюмке своей не притронулся. Снова нашло на него беспокойство. Где они? Где Ондро и Якуб? Ну не лучше ли было бы, сиди они тут вчетвером? Сколько раз сидели вот так, а нынче им на все наплевать, все-то побоку, лишь бы от родного дома подальше, лишь бы жить без указки.
У хозяина развязался язык, но мастер уже не слушал его. Только кивал. Кивал и тогда, когда не было надобности. Имрих это приметил. Намекнул отцу, что, мол, пора и честь знать.
— И настроение поднять надо, и отдохнуть не лишне, — рассуждал хозяин. — Словом, я вот к чему веду: больше трудись да меньше раздумывай.
«Неужто на что намекает? Человек-то, он все время раздумывает. И когда трудится, а бывает, и когда спит. Да что может знать такой дурень?
— Умная, мысль подчас и дурака осеняет, — продолжал хозяин, не предполагая, что мастер и его обозвал дураком. — Да вот для чего она, эта мысль? Тут важно знать, когда и как ею пользоваться. Мне так достаточно знать, когда нужно вспахать да посеять, а все прочее — дело десятое: от лишних мыслей один вред. Как есть говорю. Можете мне поверить.
— Так, так. Продолжайте!
— Посеял я тут ранний ячмень, а он выдался редкий, плохо взялся, я и поторопился с косьбой, чтоб жнивье успеть засеять клевером. Трижды дождик покропил, и теперь клевер чисто шелковый. На будущей неделе свезу его.
«Ну и пентюх. В клевере только и смыслит. Да и то ладно. Хоть доволен собой». — Сколько вам лет? — спросил мастер.
— Через четыре года пятьдесят стукнет. Да не обычные пятьдесят, а серебряные. К пяти десяткам у меня аккурат серебряная свадьба выходит.
«Пентюх и есть! Всем выхваляется. Толкует, что думать не надобно, а сам уж двадцать пять лет назад, поди, о пятидесятилетии думал. Может, и женился затем, чтобы пять десятков посеребрить. Думает больше, чем надо, только одной, от силы двумя извилинами. Да стоит ли серчать на него? Пускай себе радуется, пускай благоденствует». — Прекрасно. Толково вы все это устроили. — Мастер огляделся вокруг: — Теперь-то и сказать можно: красивая да ловкая жена у вас. Не жена, а загляденье. — «Блаженствуй, идиот!» — Глаз не оторвешь.
— Ой, не перехвалите! — улыбался хозяин. — Жену вслух хвалить — только портить.
«Сдалась мне твоя жена! Будто у меня своих забот нету! Господи, ребятки мои! Паршивцы негодные! Где-то вы теперь, ребятки, шатаетесь?»
«Обязательно скажу ей, — размышлял хозяин. — Как уйдут, тут же пойду доложу ей, что мастер сказал. Жена доброму слову порадуется. А потом и того… Поваляемся с ней нынче в новом амбаре».
Облизнувшись, он поднял рюмку: — За ваше здоровье, ребята!
12
Домой опять шли пешком, хотя могли бы доехать до имения и сократить путь. От имения до Околичного ведь рукой подать. Батраки из имения привезли зерно на железнодорожную станцию в Церовую и вот-вот должны были отправиться с дрезиной назад, да мастеру с Имрихом не хотелось их дожидаться.
Оба были слегка под хмельком. Имро охотно развеселил бы отца, да только не знал как. Словами тут разве поможешь? Имро был человеком сговорчивым. Ладил с отцом, но и братьев сердить не хотел. В семье он был младшим, а в правде младшего сталкиваются правды старших; младший со всеми правдами с готовностью соглашается, а уж если приходится от какой-нибудь из них отказаться, младший, поскольку он младший, должен с этим смириться, справиться, постараться взглянуть правде и неправде в глаза и потерю восполнить собственным поиском. Сговорчивость его чисто внешняя. На самом же деле младший — самый ранимый, и на его долю выпадают наибольшие сложности. Никто не поможет ему разрешить их. Поэтому и от младшего не приходится ждать, что он разрешит сложности старших. Может, и разрешит, но этого нельзя требовать. Пожалуй, было бы даже несправедливо. Казалось бы, что может быть хуже, чем вражда между молодостью и старостью, однако куда сильнее старость ненавидит старость, а молодость — молодость. Спор между родителями и детьми — это чаще всего и не спор вовсе, а просто беда или боль, похожая на зубную. Чем души чувствительней, тем боль нестерпимей. А перестанешь ощущать боль, значит, жизни конец. А если и живешь, то как губительная опухоль. Здоровый организм противится недугу, выбрасывая из себя все ненужное, вредное. И старость — ведь и у старости есть что выбрасывать из себя, и, делая это, она, пожалуй, иной раз и вредит, — однако здоровая, мудрая старость часто мусорит лишь затем, чтобы отделить плевела от пшеницы и, очистив зерно, показать и другим, какое оно, каким должно быть, иными словами, чтобы и самой раздавать из своего чистого или даже чуть засоренного сорняком урожая; и она раздает — а то зачем, зачем бы ей было столько зерна? Жизнь взвалила на нее целый воз, и жизни нужно это вернуть: на, храни его, жизнь, и раздавай дальше!
Думал ли Имро об этом? Вряд ли. А может, и думал, только чуть по-другому, не обязательно же ему рассуждать, как автору этой книги. Да и почему он должен думать, как я. У автора хватает духу признаться любезному читателю, что он питает некоторую слабость к Имро и нашептывает ему всякую всячину, а то и просто навязывает свое и, возможно, будет заниматься этим и впредь, а там, глядишь, шепнет кое-что на ушко и другим героям и шалопаям, с которыми мы уже в этой книге встречались и еще не раз встретимся. Может, надо об этом молчать, может, это и в самом деле дерзкая затея, дерзкая прежде всего по отношению к нашим героям? Впрочем, что тут особенного? Разве автору не доводится выслушивать всякую дребедень и помалкивать, хотя это ему вовсе не по нутру? Но в книге-то автор волен поступать так, как ему вздумается, волен даже приказывать, да-да, иногда даже приказывать, хотя, конечно, это только игра: тут можно и посмеяться, а захочется — и обозвать друг друга дураками, можно в эту занятную игру — с великим удовольствием! — втянуть и любезного читателя: «Сделай милость, дружище! Поди сюда!» Он либо придет, либо пошлет нас подальше с нашей игрой.
До вечера оставалась уйма времени, и Имро, конечно, нашел бы ему применение. Мог наведаться к Вильме, и он бы охотно наведался, да отец был хмельной и до вечера, это уж точно, не протрезвеет. Как дойдут они до деревни, мастер тут же поплетется в корчму, а не поплетется, так наверняка дома добавит, и Имро волей-неволей останется с ним и будет в какой уж раз выслушивать его опасения и жалобы. Верней всего, сегодня не видать ему Вильмы. Хотя отцу-то какой прок от него? Разве может он, Имро, приказать что-нибудь Якубу или Ондро? Кому тут посоветуешь, кого послушаешь? Ясное дело, отец на то и отец, чтобы опекать детей, держать их при себе, думать об их судьбе. А ну как детям разонравится дома? Разве их к дому привяжешь? Что толку, что они дома, коль им тут не по себе? Да и какой это дом, когда чувствуешь себя в нем будто взаперти? Что тут скажешь отцу? Что скажешь братьям? Родной дом их уже не греет, а он, младший, что он может им предложить? Девушек? Они и без него о них знают, дурачились с ними, и вдруг нате вам — наш дом в чужой стороне! Что им Имрих может сказать? Каждый решает сам за себя, так уж заведено. Пусть тот, кому охота, ищет новых дорог, а найдет, пусть укажет другим, коли те, другие, захотят за ним следовать. Не заставлять же их? Зачем заставлять? Пусть идут, если хочется, пусть сами узнают, хороша ли, дурна ли их дорога. А поймут, что ошиблись, будут вправе сказать: плохо! И двинуться по иному пути.
— Имришко, где же они? — спросил мастер.
— Не знаю. Может, где надираются. — Но тут же осекся. Сообразил, что и он с отцом в сильном подпитии. — Кто знает, где они.
И опять разговор застопорился. О чем толковать? Почему братья свалили все на самого младшего? В конце-то концов, и он мог бы в один прекрасный день взбунтоваться, тоже мог бы повздорить с отцом или братьями. Но чего ради? Какой толк? В иных семьях все по-иному, все живут в полном согласии, держатся друг за дружку. Придет кому охота жениться — женятся и не выкидывают таких номеров. Но тут и отец чудной, и братья с заскоками! А как бы могло все быть славно, как бы могло все ладиться! В иных семьях так и бывает. Все помогают друг другу, всем весело, старший — это старший, второй, помоложе, спешит с ним сравняться, потому как и третий и четвертый начинают уже хорохориться, а там, глядишь, и следующие быстро осваиваются в жизни. Старший женится, младший еще ползунок, и уже опять новый отпрыск на очереди, своя кровинушка, сынок, внучек, сыночек старшего сына, сынишка старшего брата, он кричит, ерепенится, потому как и он родня, стало быть, и он должен злить и радовать отца, деда и всех своих дядек, словно бы уже с колыбели знает, что у него есть на то право — он дома и пришел кому-то на смену. И он торопится, о господи, как он торопится, словно сам себя спешит обогнать или боится, что вдруг где-то что-то застопорится и он на всю жизнь останется младшим…
13
Они пришли в деревню, и мастер тут же подался к корчме.
Имрих молча шел следом. У самого входа он невольно подумал, что в корчме могут быть и братья. И прежде, чем он успел над этим поразмыслить, они столкнулись нос к носу. В самом деле! И перепугались. Перепугались все четверо. Двое испугались двух других. Мастер перемог страх, сказал себе: «А мне-то чего бояться?» Та же мысль осенила и остальных. И все четверо улыбнулись друг другу.
Мастер спросил: — Ну что, Якуб? Будем драться?
— Зачем, же драться? — ухмыльнулся Якуб.
Ондрею сказать было нечего, он благодарно поглядел на брата, скрестил на груди руки и чуть ссутулился. Может, слегка и засовестился. Да только ни один из Гульданов не умел долго совеститься. Мастер знал это. Знал и то, что ему надобно что-то сказать, да вот с чего начать?
Имро, желая помочь отцу, предложил: — Хорошо бы нам чего-нибудь выпить.
Братья согласились, а отец возразил: — Хватит пить. А хотите, так без меня! Я свое уже выпил сегодня, в голове ералаш.
Он еще толком не знал, надо ли выложить все начистоту или до поры обождать, может, лучше поговорить с сыновьями дома — без посторонних глаз и ушей. Он оглядел мужиков, что сидели за длинными зелеными столами, сглотнул слюну и продолжал: — Что-то мне не по себе. Не выспался, должно быть, как следует. Да и потом, с Имришко мы уже тяпнули нынче. Теперь нас уже не четверо. Договориться-то можно, но это будет уговор двоих с двумя. Нынешний магарыч мы уже и за вас выпили. — Он скорчил гримасу, будто хотел подавить зевок, но похоже было — мутило его. Он перемог себя. Перемог зевок. Поскреб подбородок, пальцами отер губы, потом влез пятерней в волосы и чуть выпрямился: — Так что выпили мы. Дело сделано. Выпил-то я меньше обычного, а туману в голове больше. Устал, верно. Чему удивляться?! Вы, Якуб и Ондро, хотели меня обскакать, вот и обскакали. Должно быть, вы еще раньше подметили, что устал я, я знали, что со временем еще больше устану. Верно, так и подумали. Мне толковали о свадьбе, дескать, хотите жениться, а суть-то в другом — я ведь тоже не такой дурак, чтобы не смекнуть, что к чему. Обскакали меня. Что ж, сдаюсь. Нас теперь по двое, с этим надо смириться. Сразу станет все по-другому, вы вздохнете, вздохну и я. Все вздохнем. Да каждый по-своему. Один нынче, другой, может, еще и завтра, так оно, чего зря толковать. А впрочем, и потолковать можно — я же сдался, с завтрашнего дня все пойдет по-новому, свое решение менять не стану. А может, и стану, кто знает, может, мне захочется вздохнуть и послезавтра, один-то вздох не поможет, но вас это пусть не заботит. Ежели мне и будет обидно, так ведь это моя обида.
Он опять огляделся, то ли подыскивал слова, то ли взвешивал их, а может, нашел их и взвесил, да решил, что не скажет. Такие слова можно и дома сказать.
И это было разумно. Он и так сказал предостаточно. Сидевшие за столами стали оглядываться, с интересом прислушиваясь, о чем это Гульданы толкуют, о чем так долго перешептываются.
— Надо бы выпить! — предложил Имрих, на сей раз настойчивее. Легким кивком головы и глазами указал на ротозеев. — А то они подумают, что нам не за что.
Мастер снова запротестовал: — Ни к чему это. Или как хотите… Что до меня, я решил.
Но Якуб уже двинулся к стойке и мигом принес четыре рюмки.
Выпили не сразу. Чуть погодя и мастер поднял рюмку и, глянув на сыновей, что были и его подмастерьями, сказал: — Будем здоровы!
Все четверо выпили и ушли.
14
Дома разговор продолжался. Собственно, и не разговор новее, поскольку все время говорил один мастер. Порой и противоречил себе. Лови его сыновья на слове, опять могло бы дойти до свары. Но они были рады-радехоньки, что отец уступает, — можно, стало быть, кое-что и проглотить. Как-никак мастеру нелегко сдаваться. Сперва ему нужно изрядно оскорбить подмастерьев. Отец, похоже, и оскорблял их: Якуб с большим трудом себя сдерживал. Временами громко вздыхал, раза два сказал: — Ну ладно! Продолжай!
Ондрей старался следовать примеру Якуба. Сидел на стуле спокойно, будто и не дышал.
А мастер, право слово, не щадил его. Нарочно утишал голос, чтобы ясно было, что он говорит не со зла, а от сердца.
— Тебя, Ондрей, я и вовсе понять не могу. Не то чтобы ты казался больно мудреным. Голова у тебя, верно, большая, самая большая, да что толку? Есть там ворох всего, а из вороха трудно что выбрать. Приспичило жениться — женись! Я и не думаю тебя отговаривать. Но уйти из дому только затем, чтобы очутиться в чужой деревне да в чужом дому под каблуком, — по мне, так это смешно! Из тебя-то мастер никогда не получится. Тебе только и держаться за Якуба и, ежели не повздорите, до смерти быть у него в подмастерьях.
Ондрей заерзал на стуле, даже слегка приподнялся, вроде как собирался уйти. Да остался на месте. Только глубоко вобрал в себя воздух и через секунду-другую резко выдохнул его — даже в носу затрещало.
— Вот видишь! Это все, что ты умеешь. Работник из тебя отменный, силы хоть отбавляй, но и за работой только пыхтишь да отфыркиваешься. И с женой будешь лишку пыхтеть. Она-то, поди, и стерпит да и другие твои слабинки простит: дома и стены помогают. А вот на мастера тебе не вытянуть. Как ни верти, а признать это должен.
Имриху речь отца не понравилась. Особенно тон. Он хотел было что-то сказать, но Гульдан заметил, поднял палец: — Я покамест еще мастер! И для них тоже. — Он ткнул пальцем в сторону старших. Потом вытянул руку и прочертил в воздухе горизонтальную линию. — С завтрашнего дня пусть делают все, что им вздумается. Я сказал им, что требовалось. Теперь о себе скажу. Запомните: коль строг к другим, так и себе спуску не давай. А я не всегда бывал строг к себе. Уж такие мы, Гульданы, с норовом, таким был и отец мой, такие и вы. Вот и строгость моя такая: по пустякам лютую, а в серьезном деле порой одно верхоглядство. Рано ли, поздно замечу промашку, а то, бывает, и сначала знаю о ней — да в том-то и дело, что ты мастер, а мастер только в душе строг к себе: он боится других мастеров и не мастеров — ведь каждый в мастера лезет. У одного руки умелые, у другого котелок варит, но истинному мастеру положено равно шевелить и руками и мозгами. И он должен верить, что все, что делает, — здорово и что подмастерья с ним заодно. У упрямца и вера упряма. А для нас что вера, что работа — дело десятое, нам бы только сразу всем в мастера? А свадьба эта — только предлог. Позволь я стать Якубу мастером, уступи ему раньше — он бы и жену в дом привел, и никакого раздора между нами не вышло бы. Жену найти просто — где хочешь, когда хочешь, а мастером в два счета не сделаешься. Что ж это за мастер без подмастерьев? А умный подмастерье хорошенько еще и прикинет, какого мастера ему слушаться. Я-то думал — обойдемся без свар: не хотите мастера слушать, так отца родного послушаете — оно не так унизительно. Да вот одного я не учел — что мастер с подручными, что родитель с детьми — отношения у них одинаковые. Сын уважает отца, но приходит день, и он решает переплюнуть его или хотя бы стать ему ровней — это в порядке вещей. Вот мы и пришли к тому, с чего начали. Я хоть и знал это, а пальцем не двинул: редкий мастер стерпит, чтобы подмастерье стал ему ровней, а то и переплюнул его. И уступил я только тогда, когда вы меня приневолили. Это, конечно, урок, да что в нем проку! Вы подрядились на стороне, — он указал на Ондро и Якуба, — а я уже стар сколачивать другую артель. Но это урок и для вас, он и вам пригодится, если не в ремесле — тут вы еще недоучки, — так в семье, когда дети появятся. Прямо скажу — нелегкая дорожка у вас впереди. Со мной не столковались, а с чужими и подавно не столкуетесь, особенно если этот урок вам не впрок. А урок вот в чем: неважно, мастер ли ты или нет, указываешь или повинуешься, важно, кому или чему служишь, важен смысл вещей. Где нет смысла, там нет глубины, нет серьезности и дело мастера — одна суета. А мне до того понравилось в мастерах, что я и дорогу видеть впереди перестал и тем лишь держался, что все время приказывал: «Конечная остановка, ан не выходить!» Диво ли, что вы стали считать меня пентюхом, каким почитают не одного мастера, а те, зная о том, тешат себя мыслью, что меткое и сочное это словцо совсем не про них. Мастер, ясное дело, любит свою артель, а почему бы ее не любить? И уверен притом, что и артель его любит, коли он в меру добр к подмастерьям, терпим к ученикам, а иной раз обронит ласковое слово и среди сподручных и летунов. Но не потому он мастер, что любит свою братию, свою отару — пускай себе любит! — он должен еще и вести ее, и кой-чему научить. В любви объясняться можно на скамейке в саду или за кружкой пива в корчме. А ты докажи любовь делом, особенно когда своей шкурой нужно пожертвовать, тогда и отара сумеет показать, любит ли она своего пастыря или нет. Мастер всегда должен знать, чего хочет он и чего хотят его овечки. А ежели они не хотят ничего, так на то он и мастер, чтобы они захотели, чтобы найти для них что-нибудь или придумать. Он должен смотреть вперед и понимать, что не сегодня-завтра другой обгонит его: таков человек, с каждым поколением он становится лучше, мудрее. Кто дольше живет, больше знает — если жиром не заплыли мозги, если он умеет смотреть вперед и помнить о тех, кто наступает ему на пятки. Беги, покуда силы есть и остер твой глаз. А иссякли силы, притупилось зрение — уступай дорогу. Только слепой может долго кричать: «Конечная!» Для зрячего конечной остановки нет. А иной видит и слышит, во всяком случае, захоти он, так увидел бы и услышал, да вот не хочет; спокойно стоит или только переваливается с боку на бок и знай кричит-покрикивает, или бубнит, или тянет, что он-де всюду дома, и как ему славно, и до чего мила дорога, по которой он так тихо-мирно плетется, там-сям постоит, а если очень огрузнет, то и присесть может и сидеть, сколько влезет. Вот его-то и нужно потеснить, а при надобности и шугануть: «Ну-ка, посторонись, братец! Силушки твои на исходе, ты свое сделал, спасибо!» Не может посторониться, надо помочь. Не хочет, можно и турнуть. И твердолобый должен когда-нибудь поумнеть, поумнеть хотя бы настолько, чтобы понять: лишь скотинка не умеет да и не должна уметь уступать людям дорогу.
Вот, пожалуй, и все, что сказал тогда мастер. Кое-что, возможно, у него получилось короче, кое-что подлинней. А кое-что ему пришлось и самому себе объяснить и высказать вслух — ведь сказанное слово весомей, на него и другие потом могут сослаться, а при случае чуть изменить, подправить. Так оно и случилось, только, наверное, поздней: прошли годы, прежде чем Имрих, младший из Гульдановых сыновей, вновь собрал речи отца воедино, не заметив, однако, что немного их переврал и переплел собственными мыслями. Но что тут такого, в конце-то концов? Почему бы ему и не приспособить отцовские мысли, коли у него была в том нужда? Почему бы не переиначить их, не заменить? Да в так ли уж важно, кто первый выскажет мысль? Куда важнее, кто усвоит ее и как применит. Коли мысль не выражает действительности, надо изменить мысль или хотя бы ее уточнить. Или изменить действительность. На то и человек, чтобы знать, что нужно делать. Ибо мысли можно служить лишь до тех пор, пока она служит человеку.
ДВОЕ
1
Однажды, примерно через год, месяцем больше или меньше, мастер и Имрих — они уже были вдвоем — опять ладили кровлю, а может, как раз отдыхали, мастер на мауэрлате, Имро на одной из горизонтальных распорок. Или было наоборот? Ах да, они уже спускались вниз, хотя вполне возможно, только собирались взобраться на кровлю, ага, вспомнил, они перепрыгивали через нее, вот видите, я почти об этом забыл. Ну конечно, перепрыгивали, поскольку она была на земле, они еще не успели ее ни связать, ни сложить. Мастер какое-то время перешагивал через брусья, потом остановился, поскреб подбородок, загляделся на что-то и ненадолго задумался; и вдруг перед его глазами балка стала подскакивать к балке, и было б даже нелепо говорить сейчас о каждом брусе в отдельности — все задвигалось, замелькало, перекладина к перекладине, подкос к подкосу, оба мигом к стойке, а та своим чередом к распорке и тут же связывалась с ней — ну диво дивное; в одно мгновенье, можно сказать, родилась готовая схема, конструкция в форме виселиц, правда виселиц без повешенных, поскольку мастер на них никого не повесил, но черт знает когда, кому и зачем такие виселицы могут понадобиться? Мастер их основательно укрепил; каждую стойку с обеих сторон подпирали подкосы, образуя разнобедренные треугольники, каждая пара треугольников составляла больший треугольник, на сей раз равнобедренный, напоминающий щипец избы или собачьей конуры; в целом — а мастер любил смотреть на вещи в целом, потому и сейчас отступил на шаг, верней, на шажок и вытянул шею — перед ним была точно вымеренная, геометрически построенная собачья деревня, где над каждой парой избушек или конур торчала крепко связанная виселица. Мастер нахмурился. Хотя, возможно, только автору он таким видится, да, я таким его вижу, мне хотелось бы, чтобы он нахмурился. Но в действительности на лице мастера никакой хмары не было. Право, не было, да и я ее уже там не вижу. Автор уже не видит ее. Мастер только пристальней вперился в дело рук своих и подумал: «А, чего тут канителиться? В момент оседлаю, и баста». Рраз, рраз, вот уже там и стропила. Скоро закраснела и кровля, на коньке засверкало железо, и над красной железной кровлей засинело небо. Мастер в удивлении завертел головой и воскликнул: — Ну и славный нынче денек!
А Имро? В самом деле, что в это время поделывал Имро? Надо бы и для него придумать занятие. Ага, вспомнил. Он сидел на оструганной балке и размышлял о Вильме. Он уже сблизился с ней. И с семьей ее сблизился. Решил стать ее заступником, постараться заменить ей отца. Вильмин отец много лет назад махнул на поиски работы в Америку. Сперва заботился о семье, посылал деньги, а потом перестал посылать, перестал и писать. Имро на него малость злобится, и если вдуматься, пожалуй, это справедливая злоба. Ведь на то и отец, чтобы заботиться о семье. Так вот, стало быть, Имро решил помочь Вильме: подправить то, что еще можно было подправить, порадовать ее да и — почему б не признать этого? — самому порадоваться. Кое-что он уже успел сделать, правда немного, да и времени прошло немного — починил клетку для кроликов и садовую калитку. Но если вдуматься, так и это не плохо. Вильма это ценила. Мать же приняла все как должное. А могла бы, конечно, оценить Имрову работу и больше. Но не оценила. Ну и что из этого? Главное, Имро теперь может захаживать к ним, когда ему вздумается. И Вильму может из дому вытащить, даже на гулянье позвать! И она не ломается. Он очень с ней сблизился, просто очень. Не совсем, конечно, «совсем» еще не было, но куда только он ее не водил, какие только углы-закоулки не показывал — она везде все похвалит, даст всю затискать, зацеловать, но чтоб раздеть — ни за что. Надо же, обида какая! Имро казалось, что она еще малость ребячлива. Но и это ему по душе, по крайней мере он знает, с кем ходит. И все же нечего ей так упираться. Имро не раз уже злился и давал ей это понять, хотя на самом-то деле он скорей напускал на себя гневный вид. Вильма особо близко к сердцу гнева его не принимала, и случалось, сама гневалась — гнев-то ведь иной раз будто маслом по сердцу. Иногда он до того сладостен, что нам его все мало и мы нарочно раздуваем огонь, чтобы в нас запылало как следует — огонь так огонь! Но если в самом деле он разгорится вовсю, тут мы сразу несчастные, сразу в слезы, господи боже, зачем мне все это нужно было? И с Вильмой так. Сперва захочется ей Имриха переупрямить, а потом, как он набычится, она только и спрашивает: — Ты что, Имришко, еще сердишься?
— Отстань. Сержусь.
— Имро. Ну пойми меня!
А Имро вроде понимает и не понимает. Малость посердятся вместе. Тут Вильма решает, что посерчали и хватит, и говорит: — Имришко, не перестанешь сердиться — уйду домой.
— Ну и иди. Кто тебя держит.
Вильма встает, идет медленно, очень медленно, так как уверена, что Имро окликнет ее — тогда придется издалека возвращаться. Да только Имро упорствует и не окликает ее! И она идет дальше, красивая, стройная, боже ты мой, как она далеко отошла (сделала уже тридцать шагов)! Ну и пусть! Имро как-нибудь выдержит! Пусть идет! Гульдан есть Гульдан, он выдержит и не такое (еще тридцать шагов). Нет, это уж слишком! Имро впадает в отчаяние, начинает дергаться, задыхаться. Он медленно подымается, надо бы еще отдышаться, но что-то воздуха не хватает. Он идет за ней, ускоряет шаги, еще как ускоряет, вот-вот с ней поравняется, интересно, сердится, нет ли? Он проходит мимо нее, обгоняет ее, боже, и как обгоняет! И без единого взгляда, без единого слова. И как он торопится! Тут и Вильма ускоряет шаги, но ей все равно за ним не поспеть. Да хоть и поспеет, проку не будет, он прогонит ее, конечно, прогонит. Ноги отказывают ей, она вся дрожит, она не может и руки протянуть, и голос ей уже не повинуется. Она уже не живет. Все в ней увядает и никнет. Но тут Имро вдруг замечает, что у него развязался шнурок. Он сходит на обочину и невообразимо долго завязывает его; у Вильмы меж тем крепнет шаг, жизнь наполовину возвращается к ней, а когда она видит, что Имро возится и со вторым ботинком, бросается к нему — тут уж жизнь возвращается к ней целиком, даже бьет через край! Они смотрят друг на дружку, смеются, и опять все в порядке. Имро сказал, что возьмет ее в жены. Она не ломалась, не отговаривалась, да и к чему отговариваться? Плохо ей с Имро не будет. Но вот как он об этом мастеру скажет? Может, сейчас-то и сказать?
У мастера перед глазами все еще была собачья деревня, а может, и город, собачий город, местечко с победно торчащими виселицами. А из таких вот деревень и местечек складывается мир, и мастер знал его, умел строить, ведь достаточно было бы покрыть этот мир крышей, потом добавить к ней еще одну и еще, и, когда было бы уже много крыш, сразу бы получилась всамделишная деревня, всамделишный мир, в котором живут люди, а над их жилищами кружат птахи небесные, кружат и поют, не скупясь на помет, и он падает на траву, на дорогу, на тротуар, на двор и на кровлю, да, да — и на кровлю, чтобы она могла собрать пыль и потом, окропленная дождями и прогретая солнцем, утучниться, зазеленеть мшистыми подушечками, расцвесть диатомеями, ожить микробами и насекомыми, а человек мог бы смотреть на нее, и улыбаться, и ругаться, и тревожиться, что вот ему уж сызнова придется рубить амбар, сарай, дом, еще какой-нибудь дом, новый, прочный, добротно связанный, добротно поставленный, с более толстыми стенами, покрытый широкой вальмовой кровлей о четырех водостоках.
Мастер опять заудивлялся и даже улыбнулся: — Н-да, денек-то славный какой!
Тут Имро ему и сказал. Старый схватился за голову: — Иисусе Христе, и ты вздумал жениться? Столько свадеб зараз! Да видано ли такое? Будто меня оглоушили. В голове гудит. Денно и нощно я на венчанье. Кошмар какой-то, просто кошмар! Так и гудит во мне. Тяну пилу, а сам думаю о контрабасисте, что на Якубовой и Ондровой свадьбе два дня кряду наяривал. До сих пор слышу его. Свадьба, свадьба, свадьба! Да я от них захвораю, ей-ей! Хотя бы озлиться на кого-нибудь! Оттого я на цыгана и злюсь, контрабасист из головы не выходит. Ежели встречу — перережу все струны. А вообще-то, сынок, чудной он мужик был… Говорил, что с Трнавы, и смеялся, смеялся, придурок, будто знал, что стану ему подражать. Ей-же-ей, чудной мужик, все преследует меня. Возьму пилу, а он тут как тут. Пилю, пилю, даже в поту весь, точно нанятый. Вытащу метр, возьму эккер, да и хожу, хожу, обмериваю… А контрабасист в сторонке стоит. Вот как смажу тебя по роже! Только его уж и след простыл! Спрячу метр, примусь за работу, а он, искуситель, опять тут как тут. Дьявол меня возьми! Все играю да играю. Унеси леший бревно и работу такую, да и грохни этого придурка блажного стропилом по черепу!
— Тата, будь добр, не шуткуй! — Имро настороженно глядел на отца. — Разговаривай серьезно! Мне с тобой о деле надо потолковать.
Мастер посерьезнел. Хотя и раньше, казалось, не шутил, а тут и впрямь посерьезнел и даже вроде чуть насупился.
— Все только серьезно да серьезно! Все вы серьезные, а обо мне всякий час думаете, что говорю в шутку. Может, я и смешон, ладно. С тобой, Имро, у меня трудностей нет. Женишься, ну будешь женатый. Может, и вправду у меня трудности только с самим собой. Я уж не молод, потихоньку старею. Только с летошнего года я как-то иначе старею, вроде быстрее, подчас даже кажется, что я вроде чего-то боюсь, вроде сам от себя отступаю. Сам себя боюсь. Смирюсь с чем-нибудь, а неделю, месяц спустя гляжу, нет, мол, опять не смирился, да и, поди, не смирюсь. Должно быть, с этой хвори и начинается старость. Должно, это уже и есть старость. После, может, одолеет человека и равнодушие, ничто его не смутит, ничто не напугает, даже смерти он не напугается, не сойдет перед ней со своей колеи. А вот пока можно, он увертывается, старается увернуться, петляет туда-сюда, хотя от себя-то самого как увернешься? Даром корчишь из себя умного, даром прикидываешься дураком, от самого себя не очень-то увернешься. Нынче слегка увильнул, завтра опять увильнешь, думаешь, может, что и других обхитрил, так и идешь дальше, снова и снова петляешь и увертываешься, да вот однажды заметишь, что оно уже перед тобой и что от него-то не увернешься, нашел свое, непременно найдешь однажды свое, каждый когда-нибудь придет к тому, что его ждет… И уж тогда не умничай, не болтай! Эх, было бы кому меня послушать! Да, Имришко, прости, стало быть, свадьба! Что скажешь, позовем того контрабасиста?
— А мне что? Можно и позвать.
— Ну и ловкий был малый. Даже слишком, поди. Я глаз с него не спускал и все-все углядел. И сказал ему об этом. Сказал, да так, чтоб, кроме нас, никто не слыхал. Шельмец ты, мол, эдакий, свадьба, оно конечно, чтоб только людей заморочить, а потом и с глаз долой! Мастер-то все же должен помнить, что поутру придется ему из бревна из соснового, а лучше бы из елового тесать верхний венец. Сперва-то он ничего не мог понять. Знай пиликал да пиликал, так и гудело у него в контрабасе; Пришлось все ему высказать. И денежку ему дал, а он — подавай, мол, больше. Добавил еще пятикронную, этим его и купил — запиликал он на контрабасе, в мою честь песню сыграл, не долго думая продал бы мне теперь и самого капельмейстера. Хочешь, говорит, этим контрабасом я капельмейстера трахну? Вот тебе и дурак! А контрабас знай себе ухает. Вот уж целый год, как мы вместе играем. Цыган-то, правда, не играет. Я один. Я и моя пятикронная. А когда денег нету, он тает как дым. А я играю и играю, будто что-то меня приневоливает. Ведь это всего-навсего шутка была, сам знаю. А вот моя ли шутка или его? Мастер должен уметь шутить. Капельмейстер, думается, с мастером схож, а контрабасист — с подмастерьем, что все под себя гребет. Ковырну дерево и снова это слышу. Может, оно в самом дереве? Ей-богу, не знаю. Раньше-то я такого не слышал… Кто ж он был, этот блажной? Мне даже жалко его. Нагнусь к бревну, и вроде голос его слышу: «У нас поют только за деньги!»
Минуту сидели молча. Потом Имро сказал: — Понимаю.
— Я знал, что ты поймешь, — улыбнулся мастер. — А на свадьбу твою, Имришко, позовем и блажного этого. Что-то в нем есть. Из него, верно, и мастер бы вышел. Надо потолковать с ним, приглядеться к нему. Раз свадьбе быть, пускай будет, пускай контрабасист покажет, что за контрабас у него, пусть все вокруг зазвенит, загремит, завизжит и разлетится во все стороны…
2
Еще тем же днем заглянул Имро к Вильме и объявил, что разговаривал с отцом и все утряслось. Вильма обрадовалась, правда не так, как ожидал Имро. Сказала, что до весны свадьбе не быть, потому что в этом году у нее умер дедушка и хотя бы год надо по нему соблюсти траур — неважно, что дедка был по отцу и что они никогда с ним особо не ладили.
Имро слегка огорчился. Он охотно женился бы тотчас, да Вильмин дедушка все испортил. Чудной был старикан. Вечно семье ставил палки в колеса. Да и нынче похоже было на то, будто он вздумал осложнить Вильме жизнь лишь потому, что не придется плясать на ее свадьбе. Что ж, ничего не поделаешь. Свадьбу сыграют только весной. По крайней мере у Вильмы будет красивый букет. И дедушка, бедняга дедка, не будет больше уже ни злобствовать, ни ворчать, ни свадебного пирога не отведает, ни Вильмину фату не похвалит, не похулит, даже не отчитает ее за то, что так рано выходит замуж. Ты что, дедка! Вовсе не рано — Вильме-то скоро девятнадцать стукнет.
Бедняга дедка! Может, и не был он таким злюкой. Завтра же Вильма сходит к нему, навестит. Подровняет бугорчатую его могилку, нанесет на нее рыхлой земли, повтыкает в нее несколько клубней и луковиц, чтобы было чему расцвесть по весне. Разве Вильма забудет про деда? Скоро праздник — душеньки[10], вот уж правда, замечательные душеньки. Вильма дедкину могилку разуберет, нарядит — а иначе-то он бы плакался, может, даже на том свете не выдержал бы, хмурился бы на каждую душеньку, роптал бы и на господа бога: ну мне и воздали, ну и отплатили! Нет, с дедом лучше не связываться. В саду всегда чего хочешь найдешь. А покажется дедушке мало, Вильма еще и по погосту пройдется и кой-чего отщипнет — не в каждой же могилке прячется злыдень, душеньки ей простят, а может, и вовсе не заметят. Потом затеплит она дедке свечку или лампадку. У деда много будет лампадок. А весной — известно же, как бывает весной, — цветок за цветком из земли пробивается, а из дедовой могилки, из дедова холмика уж точно будет чему пробиваться. В головах у него привился корешок мирта, хотя там и липе было б способно. И анютины глазки взовьются из земли, словно бабочки. Любой позавидует деду, что у него столько бабочек. В мае выпорхнет из земли буйный ирис, лепестки чашечки обвиснут книзу. Чистый индюк! Но Вильме больше по сердцу незабудки, летом все будет голубеть незабудками. Придут и дети, дети любят ходить на погост — ведь у ограды не только липа и каштан, там и груша ненароком выросла, а мертвые, дело известное, мертвые жадными не бывают. А хотя бы и были, что они сделают? Неужто за детьми побегут? Дети днем не боятся, а ночью — ночью им лучше всего под периной. Только бы у дедки свечку не утянули — дети любят красть свечки; особенно если некому их одернуть, пожурить. Промелькнет год за годом, придут на погост и Вильмины дети, заглядятся на голубой холмик, но деду и в голову не придет, что на него глядят его правнуки и правнучки. Годы спустя отзовется отец, хоть Америка отсюда на краю света, спросит о дальних внуках, через моря и горы пошлет им привет. От привета перепадет и Вильме, и Вильма, верно, не вынесет этого, от радости возьмет да расплачется. Выбежит из дому и станет махать Америке — но что толку, если из Америки никто ее не увидит? Когда-нибудь, может, оттуда придет и посылка, может, отец захочет внуков и дочку порадовать, да зачем Вильме посылка? А однажды — ведь не оставаться ему там навек — нагрянет и сам отец и по-чужому, по-американски, будет озираться вокруг, но дочку и этим не смутишь — отец есть отец, наглядись он хоть на тысячу всяких Америк. Внуки спросят, что дед привез, и он даст им по медяку, по американскому медяку, дети-то — они глупые, и конфетами даже утешатся. Разве кто знает, что у настоящего американца в карманах! Будут в них и блошки, у каждого, кто из Америки приезжает, есть свои блошки, свои вошки-чудинки, наверняка и отец их наловил. Да только сейчас тишина, Америка молчит, отец не пишет. Возможно, после войны, может, даже сразу после нее, опять повсюду будет полно американцев, столько, что и океан их, пожалуй, не выдержит. Приедет отец и долго будет хмыкать — все, кто приезжает из Америки, хмыкают. Иные просят встретить их хлебом-солью, хотя порой бывает просто смешно, что и прохвосты, продавшие родину, держатся за обычай, просят его соблюсти. Но Вильма обычая не нарушит, пусть знает отец, да-да, пусть знает, что дочь его умеет испечь хорошего хлеба, да и соль — наша, конечно, соль, — соль тоже дома найдется. Отец, может, и застыдится, может, и слезу пустит: простите, мол, я такой уже старый и у меня такой чудной голос! Вильма запричитает: господи, да что же это он говорит?! Внуки подивятся, животы выставят: что за полоумный такой? Три дня пекли для него пироги, а ему подавай все хлеба да хлеба, хотя сам даже воды испить не умеет! Под окном шум, гвалт! Стайка сорванцов: шилды-булды, пачики-чикалды! Тут и колокола затрезвонят: добро пожаловать! Ну хватит! Не спятим же мы из-за одного американца! Все-то дело в том, что он не приедет. Кабы хотел, так давно прикатил бы. Отец, забывший о дочери, да и о второй дочери — у Вильмы еще сестра есть, — навряд ли заинтересуется внуками. Навряд ли спросит о зяте. Ну и бог с ним, пусть себе там, в Америке, живет не тужит! А попадет в беду — пусть напишет, да, господин тесть, напишите, пожалуйста! Если вы и впрямь попадете в беду или Америка в беду, попадет, достаточно вам написать! А лучше возвращайтесь, возвращайтесь домой, отец, приезжайте на свою дочь поглядеть или хотя бы спросить об отце, о вашем отце, жив ли он еще или помер, а если и помер, то, думается, не мешало бы вам по крайней мере узнать, есть ли кому на его могиле хоть помочиться.
У нее, у этой Америки, очень подчас чудной нрав! Или это просто дурные манеры? Человек может ей как безумный махать, а из Америки ему в ответ помахать некому.
3
В ту пору в Околичном жил-поживал один мальчишка — зубатый такой и ужасно на меня похожий. Можно даже сказать, что это был я. Мальчишка вечно смеялся, смеялся даже тогда, когда ему не хотелось. И иные люди на него злобились. Вы себе и представить не можете, как некоторым смех бывает ненавистен. Мальчишка это скоро заметил, да что тут поделаешь? Случалось, он и сам своего смеха немного стыдился. И вот однажды сказал себе: «Господь бог, наверно, забылся и наградил меня такими большими зубами — хочешь не хочешь, а смейся». И чтобы смехом никого не обидеть, он обычно прикрывал рот рукой и так ходил, похаживал по деревне, по улице, заглядывал во дворы, в двери и окна, все-то видеть хотел, но следил постоянно за тем, чтобы люди смеха его не приметили. Только люди — сами знаете, какие они, — иной раз шлепали его по руке: «Зачем рот пятерней прикрываешь?» И тогда они замечали, что он скалит зубы, и еще пуще сердились. «Гляньте-ка, он ведь смеется!» А когда выросла у него под стать зубам и голова и разума в ней поприбавилось, мальчишка уже стал кое-как с этим смехом справляться: вытянет губы, округлит их, а заметит, что на него смотрят, тут же начинает насвистывать! Был он, выходит, смышленым мальчишкой, даже веселым, но умел владеть собой, старался эту свою веселость удерживать в горле — выпустишь ее, так и зубы сразу увидят. Веселый был мальчишка.
У детей в ту пору жизнь была довольно суровая; если взрослые не заставляли их работать — в осенние дожди, например, и туманы, когда и делать особенно было нечего, — то дети слонялись по дворам, разносили из дома в дом грязь на подошвах. Родители сердились на детей. Утром их отсылали в школу, а после уроков опять была с ними сплошная морока, поэтому их выгоняли из дому:
— Ступайте играть к соседям! И не вздумайте сюда дружков приводить! Не то достанется! Ни минуты от вас покоя!
Но и у соседей были дети. И те тоже их гнали: — Ступайте! Проваливайте отсюда! Проваливайте, черт подери, а то еще чужие выродки сюда завалятся! А ежели кого приведете — получите ремня, ей-ей, уши оторвем!
Вот оттого дети из дому в дом и ходили и повсюду дергали и бухали дверями. А чтобы не дергать и не бухать втуне, всюду про кого-нибудь или что-нибудь спрашивали, а уж тому, кто не умел спрашивать, негде было и обогреться.
— Яно дома?
— Нету.
— А Мариша?
— И Мариши нету.
— А наша Анча не заходила?
— Не заходила. Мы ее и в глаза не видели.
— Чуток обогреюсь и пойду.
Чуток всего лишь чуток. Взрослые-то хорошо знают, что такое чуток. Знают и то, что, если кому из детей позволят в избе побыть дольше, за ним скоро притащатся и другие. Поэтому с детьми особо не цацкаются: — Ну, ты уже обогрелся, и будет. Топай давай!
Вот и наш мальчишка ходил по домам — выгонят из одного, шел пытать счастья в другой. Иной раз — сказано ведь, что это был толковый мальчишка, — иной раз очень уж ему не хотелось, чтобы его выгоняли. Он входил в дом, улыбался, поблескивая глазами, улыбался, будто его всюду только и ждали. — Дома ваш Мишо? — спрашивал.
— Зачем тебе Мишо? Он еще на работе.
— А тетушка Цила?
— Цила только что ушла.
— А Яно? Яно не был у вас?
— Какой Яно? Что ему тут делать?
— А дядю Имро вы не видели?
— Дома, должно быть. Не заходил. Кому охота шататься по такой непогоде?
— Схожу к нему. Послушайте, тетушка, ваша серая еще не обгулялась?
— Обгулялась. Когда у нее будут щенята, приходи-ка на них посмотреть. Позову тебя. А теперь ступай! Иди, тебя, верно, уже дожидаются.
— Не-е. Не-е. А то, если хотите, тетушка, у меня есть такой черный кобель, ваш Йожко мне его подарил, когда отправлялся в Россию.
— Ладно-ладно. Потом приведешь.
— Йожко еще не писал?
— Писал, но давно. Все-то тебе знать надо.
— И наш Би́денко уже отписал. Сказывают, его повысили. Тетушка, это правда, что возле вашего Йожко как бабахнуло, а потом как он начал стрелять, все русские из такого большого дома будто бы и убежали?
— Ты где слышал?
— Мужики говорили. До чего мне хочется этакое увидеть! Влез бы я там на бугорок…
— Дурья башка! Оставь меня в покое. Ступай себе!
— Тетушка, я хотел сказать еще одну вещь…
— Как-нибудь в другой раз. Сейчас времени нету. Тороплюсь. Надо корове постлать.
На улице мальчишку поджидают дружки — хотят прибиться к нему. Только прямо не говорят, а начинают исподволь: — Хочешь с нами?
— Хочу. А куда?
— Куда? К вам.
— Нет уж. Я лучше погуляю еще немножко на улице.
— Боишься, да?
— Чего мне бояться? Захочу, так пойду.
У них ушки на макушке. Кто шмыгает носом. А кто и рукавом смело проходится под ним, хотя учителю — слава те господи, его сейчас нету! — такой естественный жест не по нутру. А рукава-то как хороши!
— Чего зря тут торчать! Пошли! Сегодня мы идем к вам.
— Почему к нам? Ведь и к вам можно.
И другим рукавом, прямо под носом — рраз, а потом — шмыг!
— Пошли куда-нибудь. Мне все равно.
— А все равно, так пойдем к вам! У вас мы еще никогда не были.
— Всыплют мне!
— Всыплют мне, всыплют мне! А к другим можешь грязь таскать?! А как мне тата въедет, думаешь, не больно?
— Ладно. Помалкивай.
— Меня метла дожидается. И вчера меня отхлестали.
А бывает, заглядывают в лавку. Сперва один туда сунется, за ним потащатся и остальные. Спрашивают у лавочника, можно ли купить сладких рожков и будут ли к рождеству апельсины. Можно бы спросить еще и почем пятьдесят граммов халвы. Да это им известно. Лавочник не любит, когда его о чем-нибудь по нескольку раз спрашивают. А иные пробуют говорить с лавочником серьезно: — Наш тата интересуется, есть ли у вас в такой махонькой коробочке колесная мазь.
— Есть, — говорит лавочник.
— Скажу ему.
— Дяденька, а нету у вас цепи для велосипеда? — спрашивает другой.
— Как не быть? И цепь есть.
— И широкая? С таким маленьким крючочком?
— И такая есть.
— И весной будет?
— Конечно. Цепи у нас всегда есть.
— Хорошо, теперь знать буду. Как будет у меня велосипед, куплю и цепь.
— А ну-ка, марш по домам! — выдворяет их лавочник. — Раз не покупаете — убирайтесь отсюда.
Так проходит день за днем. В деревне вспыхивает грипп, но деревенские грипп не принимают всерьез, многие его и за болезнь-то не считают. «От гриппа еще никто не умирал, — рассуждают они. — От легких — дело другое. А чтоб от гриппа? Не смешите!» Вечером во всех домах пахнет липовым чаем. Дети клюют носом у печки или, стукаясь головой об стол, дремлют над хрестоматией: «Вот тебе, хрипун, вылакай!» И они чуть улыбаются, потому что уже видят сон. «Ежели опять будешь кашлять либо ночью обсикаешься, отдеру как сидорову козу». А поутру дети вдруг снова спрашивают о вчерашнем чае, не ведая даже, что вечером его уже выпили.
Зато некоторые ребятишки любят отговариваться гриппом, особенно в школе, когда им не хочется петь: — Пан учитель, я не могу петь, потому что у меня грипп.
Учитель, случается, такую отговорку и признает, но, если он в дурном настроении, разорется на весь класс или заиграет на скрипке до того яростно, что ученики и дохнуть боятся.
Правда, дышать можно осторожно, чтобы учитель даже и не заметил, что ученики дышат, а вот куда хуже, если им хочется кашлять — кашля учитель просто не выносит, из-за кашля приходит в невообразимую ярость. Тут же прекращает играть, вперяется в одного, второго, третьего, грозится смычком. — Только попробуй кто из вас кашлянуть, я такую ему музыку устрою, сроду такой не слыхивали. Хотя зачем зря смычок портить? Возьму-ка лучше суковатую палку, что в прошлом году срубил на прогулке, да и такую картинку нарисую на ж… простите, на попе, — учитель мигом поправляет себя, — что вы ахнете — не ягодицы станут, а сплошь ягодки.
Самый умный — хотя учитель и считает его самым глупым — ученик в классе, видя, что дело принимает дурной оборот, подымает руку: уж лучше отпроситься в уборную.
— Ступай! Проваливай! Проваливай, пока я не разозлился, и до перемены сюда не являйся, глаза б мои на тебя не смотрели!
Ученик уходит, понурив голову. Во дворе, довольный, откашливается, потом шмыг в сарай — там и закурить можно.
Остальные сидят на партах недвижно, но мы-то знаем, что это за недвижность и как долго она может длиться; вдруг и те, что до сих пор не кашляли, начинают чувствовать, как что-то в них подымается, подступает к горлу, господи, хоть бы не выскочило, надо постараться затолкать это обратно в легкие, к диафрагме или в желудок. Легко сказать, но дети-то ведь о диафрагме и ведать не ведают, знают только, что надо как-то спасаться, а стоит это немалых усилий — вот-вот кашель подступит к горлу; они таращат глаза и изо всей мочи тужатся. Да ведь откуда-то оно должно выскочить! Вдруг под одним учеником — тррр! Точно сиденье под ним подпрыгнуло. Остальные оглядываются — кого это так прорвало?
Учитель, начавший было играть, подымает голову, глаза его мечут молнии: — Кто воздух испортил? — Будь у него глаза включенными в электросеть, наверняка бы вышибло пробки.
Раздается плач: — Пан учитель, да ведь не пахнет.
— Я те дам, не пахнет! — фыркает учитель. Остальные ученики теперь могут преспокойно откашляться.
Грипп, конечно, чепуха, но, если напустится на человека, неизвестно еще, чем кончится, особенно когда его не принимают всерьез. Кой-кому — все трын-трава. Обмолвишься иной раз о какой-нибудь болезни, и тут же тебя начнут упрекать, что говоришь, мол, о ней несерьезно, нехорошо. А что может быть в болезнях хорошего, скажите на милость? Назовите мне какую-нибудь хорошую болезнь, тогда и я напишу о ней хорошо! Писать надо правду! Только какую правду? Кабы о правде можно было писать, как о кукурузе, какую бы прекрасную книжку я написал! Оно, конечно, писать можно и правду, только не каждый умеет. Дружки мои, временем поистрепанные, как же быстро растеряли вы свои годы, и я напрасно пытаюсь вам их вернуть. Дайте кину два коротеньких взгляда на наших отцов-матерей, а потом опять вас позову.
Мужики — ага, слышите, дедка, речь зашла и о них. Мужики считают, что при гриппе перво-наперво надо как следует выпить. И вот под вечер кто-то плетется по улице и бормочет в густеющие сумерки: «Ну и знобит меня, аж бросает всего!» У корчмаря работы невпроворот, только поспевай наливать да время от времени дров подкидывать в печь, чтобы мужикам должным образом пропотеть. А вот женкам такое лечение не по нутру. «Грипп? — морщатся они. — Это нешто болезнь? Куда хуже немочь. Вот ежели когда немочь, тогда человек и ходить ее может. Голова кружится, насморк, все время мутит. Немочь — хуже хвори и не придумаешь, а от нее самолучшее лечение — можжевеловка».
Дети — ну вот я и опять среди вас, зря вы, ребята, отгоняли меня в те давние годы; коль захочу, поведу вас теперь по дорожкам-по бездорожью и покажу те места, что вы пытались от меня утаить; я ловко тогда за вами следил и уже тогда учился держать язык за зубами — ну так как?! А не хотите, можем и распрощаться. Ведь о детях почти все уже сказано: они умирают только от легких, а от легких уже никто давно не умирал! Или, может, желаете еще поиграть со мной в Микулаша?[11]
Допустим, что сегодня Микулаш. Ходит святой с чертом из дома в дом. У Микулаша одни орехи, либо даже и тех нет, а у черта, и это главное, у черта при себе всегда увесистая дубинка. «Будешь молиться?» Черта особенно занимала молитва. Кто не умел молиться, получал уйму таких гостинцев. «Ну, погоди, черт, ужо с тобой расквитаюсь!»
С детства не верю я в чертей и Микулашей. От сказок о чертях мне только и осталась что присказка: с чертом лишь черт расквитается!
4
А Вильма любит детей. Вечно с ними возится. Детишки со всей деревни таскаются к ней. Бывает, даже злятся, если она занята важным делом, но и тогда не дают ей покоя. Ох дети! Что с них возьмешь? Пожалеешь их, а потом тебе ж оно и боком выйдет. Вильме уже не раз эта жалость боком выходила. Иные дети и впрямь невыносимы, слишком много себе позволяют. Вильма, случается, и накричит на них, да разве это крик! Дети крика ее не боятся, понимают, что у себя дома она и не так могла бы закричать. Летом, правда, еще куда ни шло, можно выдержать, стоит только придумать для детей какое занятие — ну хотя бы вытащить их куда-нибудь на травку, на лужок, да там и оставить. Или, к примеру, спросить: «Кто знает, не поспела ли черешня?» И дети потихоньку рассеются, пойдут поглядеть, как обстоит дело с черешней. Если им будет удача, придут и расскажут об этом Вильме. То же самое можно испробовать и на абрикосах. А вот наступит осень, оголятся деревья, затуманятся и отсыреют просторы, зарядят обложные дожди, тогда Вильмины старания уже ни к чему. Дети говорят себе, а то и говорить ничего не приходится, они попросту знают: Вильма — мастерица на выдумки, только нам и здесь хорошо, нам и в Вильминой горнице нравится. А ударят морозы — айда на лед! Выпадет снег — давай на горку! Прискучат лед и снег — дети снова вспоминают про Вильму! Какое им дело до того, что она призналась: в мае, мол, свадьба и забот теперь у нее — непочатый край! Дети отнеслись к этому с пониманием, более того — даже с восторгом. Догадавшись, что Вильмины заботы связаны со свадьбой, они стали еще усердней ее навещать. Девчонкам непременно хотелось знать, какое будет свадебное платье, какой букетик, венок. Мальчишки же смотрели на вещи несколько критично: ведь свадьбу могли бы сыграть и раньше или хотя бы поскорей начать приготовления к ней. Злились, что Вильма тянет с этим — так, глядишь, все навалится разом, подымется хлопотня, начнут печь, замарают все миски — разве успеешь их как следует вылизать! Однако Вильме, верно, хотелось показать, что дела со свадьбой продвигаются: нет-нет да и поднесет она детям по два, по три ореха. Иногда тайком от матери насыплет каждому в горсть немножко сахару. Потом отошлет детей прочь и радуется, что наконец-то от них избавилась. А ребятишки выберутся на улицу, минуту-другую довольны, а съедят сахар, глянут на ладошку, увидят, как они языком ее повылизали и как она похорошела, сразу станут ворчать, что Вильме, мол, нечего скупиться, можно бы и в обе ладошки насыпать и тогда бы они обе были хорошенькие. Побегают друг за дружкой, в снегу изваляются, иные, правда, так только, для видимости. А потом вдруг кого-то из них осенит: были орехи, был сахар, может, еще что перепадет?! И бегом! Опять к Вильме!
— Боже праведный, мама, — причитает Вильма, — они опять лезут!
— Шугани их! — советует мать. — Чего боишься? Возьми метлу да и всыпь им как следует.
— Ну уж и всыпать! Боже милостивый, что же делать?
А они тут как тут, вот уже хлопнула и калитка и за последним — правда, последнего не было, поскольку как раз в калитке он обогнал предпоследнего, — сама затворилась. Хоть бы отряхнулись во дворе хорошенько! Дудки! Уж они отряхнутся! Лезут прямо в горницу: гляньте, как мы вывалялись в снегу и как мы ловко топаем! В кухне какой-нибудь недотепа ногой задевает ведро, в котором, почитай, с литр воды, но, когда она выливается, ее становится больше. Виноватый, чтоб отвести от себя подозрение, начинает тузить дружка: — Дурья башка, видишь? Глянь, какую реку ты устроил, чисто Ваг!
Вильмина мать хватает метлу. Подымается суматоха, давка. Дети поспешно кидаются наутек.
Дня два-три — тишь да гладь. Вильма с матерью спроворили уйму дел, и теперь им начинает казаться, что можно было бы и не так торопиться.
— Жалко, что все уже постирали! — говорит мать. — Гляди, как распогодилось! Сохло бы у нас любо-мило.
— Зачем же так торопилась? Теперь уже умничать нечего!
Они утешаются тем, что предстоит еще гладить. Но вот пощупали — белье вроде бы волглое. — Пусть малость подышит, — предлагает Вильма.
На том и сошлись. А дальше что? Мать умом пораскинет и, вернувшись в горницу, начинает мыть пол. Вильму смех разбирает: — Мы же вчера мыли его, мама!
— Вчера? — Мать глядит на нее. — Постой, вчера разве? Я-то думала, позавчера. Ладно уж. Начала, так копчу.
Вильма стоит над ней, качает головой, а потом сама хвать тряпку и давай матери помогать.
Настирают они, нагладят, все переделают. И опять Вильме скучно, нечем заняться. В кухне натыкается она на мешочек сушеных груш, а куда девать их — не знает. Может, сварить? Вот были бы дети — смололи бы их и сырыми. — Мама, куда девать эти груши?
— Куда? Да выбрось! Летось съела одну, так она до сих пор в зубах у меня.
Но Вильма груши откладывает. Кто знает, глядишь, еще и сгодятся, наверняка кому-нибудь придутся по вкусу. Она все больше скучает по детям.
— Мама, пусто что-то у нас. Дома мне вроде не по себе.
— Как это пусто? Чего тебе не хватает? Тепленько тут. А вообще-то я тебе еще намедни хотела сказать, мне тоже вроде так почудилось. Знаешь что? Герань-то с окон перед рождеством перенесли мы в подвал, уж оттого, верно. Я целый месяц в толк не возьму, чего мне тут не хватает, чего не хватает, хотя герань я сама отнесла, а потом заткнула окна подушками, чтобы не дуло. А может, и то нас малость смутило, что от окна мы отодвинули лавку и теперь там не рассиживаемся. Тут, у печи, на лавке оно получше. Как выйдешь замуж, как этот шалопут женится на тебе, переставлю лавку в заднюю горницу, в задней-то горнице на лавке мне опять будет куда как хорошо.
— И что это ты, мама, всегда на него напускаешься? Всегда тебе его пошпынять охота.
— Чего мне его шпынять? Шалопут он и есть шалопут. Хоть и скажу так, от этого его не убудет. Хорошо, что и от тебя отделаюсь. А ежели потом у вас маленький народится, и покачать могу. Что-что, а качать я умела. Однажды проезжал из Цифера один пан в коляске, остановился у нашего дома и спрашивает, кто это так красиво поет? Отец твой как раз шел по улице, возвращался с работы, подошел к окну, отогнул занавеску и своим ушам не поверил, что это я пою, — улыбнулся мне, потом улыбнулся и тому пану. А я оттого так пела, что у меня народилась Агнешка. Вот я сидела у ее люльки, качала и пела. Знаешь, Вильма, я бы и вышивать могла. Крохе ведь нужны всякие чепчики, а на каждом чепчике можно бы монограмму вышить. На платьицах хорошо бы и маргаритки. Смотря по тому, кто народится, я бы цветики и вышивала.
— Думаешь, я не умею вышивать?
— Чего ж тебе не уметь? Только у тебя времени не будет. Знаешь, какая с детьми морока? Я-то уж привычная. Разве я с вами мало намыкалась? Вильма, а Гульдан-то что сказал? У нас хочет жить? Или чтоб ты к ним переехала?
— Не знаю. А мне все равно. Мы еще об этом не говорили.
— Ох же ты и глупая! Самая пора о таких вещах говорить. Сдается мне, тебя туда будут тянуть, их двое, двое этаких остолопов, кому-то ж надо им стряпать. Коли станут тянуть, ступай. А я позову сюда Агнешку и Штефана. Увидишь, как мы тут заживем. Только и будешь к нам бегать да Агнешке завидовать.
— Это вы будете мне завидовать. А я с радостью из дома уйду.
— Ну-ну, не прыгай, рано радоваться-то! Еще не перепрыгнула!
5
И Имро готовился к свадьбе. Купил себе черную шерстяную тройку с красивым блестящим жилетом и с красивыми гранеными пуговицами, что переливались на свету и отражались на блестящих предметах. Купил он и галстук, и новые ботинки — те тоже не лишены были блеску; изредка обувал их, чтобы разносить до свадьбы, но расхаживал в них только по дому — боялся запачкать.
Мастер готовился к свадьбе все больше речами — их и впрямь хватало, и все они обычно кончались призывом: «А свадьбу, Имришко, надо отгрохать на славу!»
Итак, свадьба была назначена на начало мая, хотя могла быть и пораньше, ведь Вильмин дедушка умер в начале апреля, а все же вышло б неловко, да и люди стали бы судачить, если бы Гульдан с Вильмой отмерили траур тютелька в тютельку, словно никак не могли дождаться венчания. А так по крайней мере Имро с Вильмой успеют обо всем позаботиться, и оба семейства подготовятся к свадьбе по всей форме. Мастер купит новую шляпу — та, что была у него на Якубовой и Ондровой свадьбе, уже поистрепалась, залоснилась. И сапоги будут новые, хотя и выходные его пока вполне ничего — их бы только смазать хорошенько да надраить, но, раз такое дело, мастер жаться не станет. Свадьба так свадьба, к ней должны быть новые сапоги! И будут! Сапожник Кулих сошьет их. Уже толковали об этом. Кулих знатно шьет сапоги.
Но однажды вечером явился мастер с новостью: — Имришко, планы изменились! Свадьбу придется отложить!
Имро уже лежал в постели и подумал было — отец шутит.
— А что изменилось? Ничего не изменилось, — сказал он раздраженно и сел. Шутка показалась ему довольно плоской. — Ничего не могло измениться. Мы договорились. Свадьба назначена.
— Ты же ничего не знаешь, — мастера даже задергало, — в Церовой будут строить новый костел. То есть его уже давно строят, а теперь решили с этим делом поторопиться. Зовут поработать по плотницкой части, негоже нам ударить лицом в грязь…
— Тата, а при чем тут свадьба?
— Иисусе Христе, ты что, не соображаешь? Свадеб миллион, каждую минуту играют в округе где-нибудь свадьбу, а костел каждую минуту не строится. Подумай, Имро! Костел, колокольня…
— Нет, тата, ты меня на эту удочку не поймаешь. На работу подрядиться можно, а к свадьбе это касательства не имеет…
— Не дури, Имро! Выслушай меня! Село богатое, много крепких хозяев. В Церовой нам всегда везло больше, чем в другом месте, не можем же мы теперь церовчан подкузьмить. Свадьбу же мы не отменяем, а только откладываем. Женатый-то человек, он словно оглушенный, у него одна жена на уме, особенно ежели к ней еще не привык. Ходит сам не свой, все-то у него из рук валится. Не-е, женитьба усложнила бы дело. Костел — вещь серьезная, тут пораскинуть мозгами надо.
— Нет, не выйдет. Зря уговариваешь. Люди меня обсмеют. Вильме и то не объяснишь.
— А чего ей объяснять? Нешто не знает, что такое костел? Должна понять нас. Позовем на подмогу Якуба и Ондро, у нас у двоих на это пороху не хватит. Дело-то нешуточное! Придется помощниками обзаводиться. В Церовой людей — прорва, помощники сыщутся.
— При чем тут помощники? Да меня это не занимает.
— Такое дело, Имро, тебя не занимает? Я же тебе ясным языком сказал: в Церовой с нами будут и Якуб и Ондро, придется им оставить жен, и те поймут все, уж я о том позабочусь. Не валяй дурака, Имро! Женитьба не убежит. Неужто отложить на месяц не можешь? Где это писано, что май — самый подходящий месяц? И июнь недурен, да и июль и август тоже годятся. Кабы мне жениться, я бы грохнул свадьбу аж в сентябре. Надо больно уже летом с женой маяться. Думаешь, ее у тебя кто выхватит? А выхватит, так и ладно, не жалко. Имро, речь-то о костеле! Раз, от силы два, в жизни выпадает такая удача, а тут, когда она прямо валится в руки, отказаться от нее, не подналечь? Свадьба! Ну что такое свадьба, скажи? Надувательство, суетня! Полгода готовишься, а потом за одну ночь все сожрут, вылакают, свадебники обмочат забор, кто в дымину пьяный в грязи изваляется, а кто, желая душу облегчить, только и горланит: жизнь — море-е-е, море-е-е бурное, и вы на утлой лодочке… Потом опять поест, хлебнет, рыгнет, а напоследок прикарманит какую вещицу и прощевай, плевал я на вашу хреновую лодочку! Остальные, подметя все со стола, уберутся восвояси аж среди бела дня. И какой-нибудь старый долдон, олух вроде меня, едва доплетется домой. Голова трещит, в пояснице ломит, потом неделями, а то и месяцами будет отфыркивать пыль и озираться вокруг: ага, стало быть, я уже дома, еще одну свадьбу отмучил. Имро, да ведь мы только и говорим что о свадьбах! Из работы и то свадьбу устроили. Я все время в дороге. Со свадьбы лечу на свадьбу, с крестин на крестины. Жизнь! Вот это жизнь! Якубов сын уже голосит, говорить-то еще не умеет, а про меня уже спрашивает. Ондров пока не спрашивает, только осматривается и все смеется и глазами, говорят, деда ищет. Как же туда не бежать? Бегу. Бегаю, отдыха не ведая. На работу только заглядываю. А все больше ворчу, потому как и ворчать — моя обязанность. На то и мастер, чтобы ворчать. Тяжко жить таким ворчуном! Когда-нибудь и ты, Имро, станешь таким, ты ведь во многом на меня похож, и потом, потом, может, кой-чего мне и простишь, где и признаешь мою правоту! О тех двоих лучше не говорить. Неплохие они, толк в деле знают, да норов у них лошадиный, таким норовом управлять надо. Никогда ведь не знаешь, что у лошади на уме. Якуб, тот поумнее, он еще раньше противился мне, а Ондро, чисто баран, супротивничал только затем, чтобы супротивничать. Правда, и мне бы быть поумнее. Да что с того, что был я и не такой умный? Что я и наперед хотел держать их на привязи? Отчего они не пожелали жен сюда привезти? Не оттого ли, что моего пригляда боялись? Дело знают, за это я не тревожусь. В них немало хорошего, при женах они изменились, со временем изменятся еще больше, и думаю — к лучшему. Но есть в них и такое, что часом взрывается, и уж тогда они теряют рассудок, им все нипочем — что семья, что дети. Вот этого я и боюсь. Коли забудутся или в чем оплошают, ей-ей, Имро, разворотят все что попало… Все бы простил им, только вот одно… Ну скажи, Имро, разве не могли они дома жениться? Не могли жен сюда привезти? Сделали бы мастера подмастерьем, да хоть и побегушкой, мне-то все одно, что побегушка, что нет, я-то уж кой-чему научился. Побегушка не побегушка, лишь бы работа была! После войны каждый что-нибудь станет наверстывать, подправлять, найдется и для побегушки занятие. Не все ли равно, как меня назовут? Главное, я дома, и у меня есть работа, тут и другие при деле, никто прочь не бежит, и я не бегу. Здесь мой дом, здесь я родился, куда же бежать? У женатого дом там, где жена и дети, оно так, я думал об этом. Дома можно быть не только у себя, но и у соседей, в Вене и в Париже, в Америке, где угодно, на какой угодно земле. И все-таки настоящий, самолучший дом только тот, где ты родился, где твоя родина. В ком нет уважения к родине и к тем, кто его воспитал, кто еще в детстве разговаривал с ним и журил, в том нет уважения и к собственным детям, в них растет равнодушие, и, равнодушные, они однажды тоже отправятся в поиски, но ничего не отыщут, если не будут знать, что дорога ведет не только вперед, но и назад. Зачем мы строим дома? Неужто затем, чтобы покинуть их? Или затем, чтобы потом разрушить или продать? Дом можно разрушить, можно продать, дом — это всего лишь дом, и поступай с ним как знаешь: вместо старого можешь выстроить новый, сто, тысячу новых домов, но родной дом — не просто дом, это родина, да, настоящая родина, родной дом только там, где наше начало, где мы сдирали и расшибали коленки, пока учились ходить, где мы отбивали края у ночного горшка — тяжелый, он был нам не под силу; родина там, где ты кружил вокруг дома и, войдя в него, знал, что ты дома, действительно дома, и даже выйдя оттуда и удалившись, все равно был бы близ дома, близ родины, потому что родина может быть и вдали, родина там, где все ею дышит, где столько о ней ты узнал, а со временем заново это нашел и находишь, убеждаясь, что знаешь ее; родина убегает вдаль и вширь, родина — это расходящийся круг, у которого есть своя сердцевина, а сердцевина всего лишь клочок (в школе мы это учили), клочок обыкновенной, пропитанной потом земли, утоптанной твоими ребячьими ножками, оглаженной твоими коленками, овеянной твоим дыханием; у родины высота, да, и высота есть у нее, и, ежели кто из дому бежит, я всегда спрашиваю: куда ты, дружище, бежишь, почему убегаешь из дому? Может, высоты испугался? Иль глубины? Пожалуй, ты боялся бы меньше, если бы понял ее, а поняв, ты понял бы и сердцевину и тогда бы уже не бежал, не предал бы своей родины и не надругался бы над чужой; у кого есть родной дом, тот повсюду дома, любая родина его привечает, а тот, кто без родины, он словно блуждающий в чужой земле камень, что путается у всех под ногами, а другие камни на него еще и покрикивают: ты здесь чужой, братец, ты здесь не дома! Ибо родина с родиной всегда заодно, и человек должен знать, где его корни…
— Ну и умеешь же ты голову заморочить! — сказал Имро серьезно, даже с восхищением, но и не без легкой улыбки. — Ловок языком плести, черта и то заговорил бы, забаламутил. А моя забота о свадьбе.
— И я жду ее не дождусь. Ей-богу, Имро, не могу дождаться. Но ведь костел тоже…
— При чем тут костел! Свадьба свадьбой, нечего все в кучу валить!
— Имро, да ведь одно с другим связано! А коли думаешь, что не связано, то, пожалуйста, можем свадьбу отложить, месяц-другой и толковать не будем о ней.
— И то дело! Согласен! Скоро март, так и выйдет.
— Постой-постой! Я не то думал. Не с марта хотел отсчитывать. Можем начать с июня либо с июля.
— Нет, так дело не пойдет.
— А раз не пойдет, то мы с тобой не столкуемся. Только повздорим.
— Не сердись, отец, но иной раз уж больно чудной ты!
— Я чудной! Будь разума у тебя побольше, не пришлось бы мне чудным быть.
— Сыграем свадьбу немедля!
— Как это? Когда немедля?
— Немедля.
— Что у тебя так загорелось? В пост? Да священник и не обвенчает вас.
— Ну после поста.
— После поста уже начнется работа. Знаешь, Имро, давай не мудрить! Материал заготовлен. Вскорости снег стает, да он и так помаленьку тает, нам и ждать нечего. С будущей недели кликнем Якуба и Ондро…
— Нет, я так не могу. Ты пойдешь объясняться с Вильмой?
— Пойду. Отчего ж не сходить! Ты бы, Имро, на планы взглянул! Я-то их видел, архитектор показывал. Ей-богу, Имришко, отличные планы, мировой архитектор! Ловкий архитектор, толковый мужик, шикула[12], поистине шикула! Нынче у нас февраль, через пару деньков март, в марте и приступим, нажмем на всю железку.
— Только к Вильме я не пойду, наперед тебя предупреждаю. Разве после того, как ты ей все объяснишь.
— Объясню, Имришко, все объясню. Только бы нам этот шикула мозги не замутил! Ничего, и его обскочим, и его свяжем, приладим, подопрем, скрепим болтами и поясками. Гляди, шикула, на свою башню-колокольню, взойди на нее, высоты не пугайся, а ежели напугаешься, грош цена твоим планам. У кого мусор в голове, кто не знает, что такое родной дом, кто не любит его, тому все равно, что делается в нем и возле него, тому лишь бы все с рук спихнуть; напрасно отваживается он на колокольню, разгильдяю не место на высоте, нечего ему с высоты сердцевину показывать, пускай внизу копается, по крайней мере колокольню не загубит…
КОЛОКОЛЬНЯ
1
Итак, за дело! Хотя сперва придется рассказать кое-что о церовчанах. Они-то уж давно подумывали о новом костеле. Старый стал слишком тесен — по большим праздникам они в него уже не вмещались и должны были толкаться снаружи. И случалось, толкались так рьяно, что причетник выходил наводить порядок: «Добрые прихожане, образумьтесь! — урезонивал он их. — Тут ведь не шинок. А кто не может образумиться, прийти в себя, пусть в шинок отправляется!» В себя-то они приходили, а вот в старый костел все равно войти не могли. Поэтому совершенно естественно, что мысль о новом костеле приветствовали прежде всего те, что обычно стояли снаружи. Как скоро они прознали об этом, взялись кое-что откладывать, сберегать, а как сберегали, начинал терзать их соблазн. Самое время в шинок заглянуть! Ан нет, не заглядывали. А если и случалось, то все с черного хода, чтобы жены не видели. Чего только о женах не понаписано! И о церовчанках можно бы не меньше написать, да, верно, уже и написано. Я даже сам, ей-ей, о них где-то читал! У этих церовчанок дурная привычка (а может, и хорошая) — приходят в шинок, когда им вздумается, отворяют двери, любопытничая, нет ли там отца, мужа, сына, брата и случайно не пьет ли он. А у мужчин привычка хорошая (а может, и дурная) — заглядывают в корчму с черного хода, о котором жены не знают, а если и знают, то все равно не уследят за корчмарем, а если уследят, то не станут же ему выговаривать, что он, мол, слишком часто шмыгает в свои боковые двери. Итак, в Церовой царит порядок, а в те времена еще больше было порядка, поскольку мысль о костеле объединила всех. Церовчане откладывали деньгу и кое-что — кто больше, кто меньше — относили по воскресеньям в приход. Иной раз подбрасывали и в будни или же являлись в приход извиняться, что вот, мол, ничего не удалось отложить. Были и такие, что могли бы отдать деньги сразу, да не торопились: поговорить со священником было одно удовольствие. Так с какой же стати говорить с ним всего только раз? В кругу семьи деньгам велся счет, и младший, потому как он лучше всех знал толк в арифметике, выписывал на бумаге цифру и старательно делил ее, рассчитывая, сколько придется на месяц, чтобы потом хватило на все месяцы, на все первые воскресенья в месяце, когда бывает литургия с вынесением святых даров, чтобы после такой литургии глава семьи, то есть женщина, могла войти в ризницу и сказать: «Вот я и снова тут!» И священник, бывало, всякий раз тепло привечает ее. А причетник, в общем-то, отвратный и злой мужичишка, тоже не скупится на похвалу и улыбку: «Кабы каждый так жертвовал, костел бы нам уже светил! И я внес, — не преминет он похвастаться. — Костел много денег проглотит. Пан священник, ведь правда?» — «Да, и пан причетник пожертвовал, — подтверждает священник. — Пойдемте в приход, соседка! Пойдемте запишем!»
И записывать было что. Правда, самые щедрые, те заставили себя ждать. Пожаловали только на Новый год, заляпали новогодним снегом пестрый ковер, а потом завалили стол бумажными деньгами — теперь ведь настал черед брюханов, маленьких и больших, тонких и толстых; брюхо, конечно, у каждого могло быть солидное — было чем его набивать, — вот и ковыляли они как обрубыши; правда, кое-кто попробовал и топнуть — пусть священник не думает, что они боятся ступить на ковер. Он стал потчевать их церковным вином, а те так безбожно лакали его, что причетник, который случайно там оказался и уж было обрадовался вороху денег (к ним прибавилось еще из новогоднего пожертвования и церковного сбора), вознегодовал при виде их рож: «Лакают, будто из ручья набрано!» Он тоже взял стакан, вернее, стаканчик, ибо из стаканов церковное вино мигом бы убыло. Причетник, хотя иные церовчане и думают, что, наполняя в ризнице кувшинчики, он нет-нет да и пригубит (вот уж напраслина!), умеет блюсти себя и в костеле и в приходе. Глотнет, коль его об этом попросят, однако виду никогда не подаст, что охоч до выпивки. Оттого, верно, и священник, когда заходила речь о кувшинчиках, не раз за него заступался: «Пан причетник почти совсем не пьет». Да мы же знаем: те, что горазды других оговаривать, сами охальники, ведут себя в приходе, точно у какого цыгана, хотя и у цыгана не смогли бы все вылакать. Ну и люди! Причетник их бы и в дом не впустил. Некоторые выдули по два, по три стакана, и не устыдились бы снова стакан протянуть. А почему бы и нет? Позакололи тучных, отъевшихся на кукурузе хряков, а теперь, когда дома мяса в достатке, и выпить охота, хоть винный погреб им подавай. И это народ называется?! Будто дохлятины нажрались! Ну и богачи, да! Налопаются дома зельца и идут в приход воздух портить! А денег прибыло, накидали их, целый ворох накидали. А чего ж не накидать? Свекла сочная, зерно так и сыплется, кукурузные початки с локоть. Да еще люцерна, просо и овсяница с перепаханного поля! Тут уж, ясное дело, можно позволить себе не смердеть фасолью, когда начнет пучить. И чего только они нажрались? Хлещут, хлещут да языком молотят, балаболят, словно цыгане. Заткнитесь уж наконец! Ну надо ли пускать таких мужланов в приход? Да еще заносятся! Кой-кому, конечно, есть с чего заноситься, а вот тому, кто цельный год ходит только в загуменье, ему-то чем брюхо набить? И все ж таки он жертвует, хотя и на одной фасоли сидит. Съест фасоли поменьше, от картошки откажется, на неделе раз-другой отберет у детей нож из-под носа, чтоб хлеба не убыло. Ну с чего тут насмердишь? Ба, никак кого прорвало?! Точно. Ох и скотина! А делают вид будто ничего не случилось. Неужто священник не чувствует? А еще, мол, мужики! Не могут и крохотку смраду в себе удержать! Такой уж, стало быть, выдох! А священник им еще подливает. За что? За эти деньги? Одно слово, скоты! Порядочный человек такого и дома-то себе не позволит, жена враз его вытурит, а тут… ну свинья! Такой-то смрад вгонит и безвинного в краску, а эти знай лялякают как ни в чем не бывало. А денег и впрямь куча! Да и в новогоднее пожертвование, и в костельную кружку собрали одними бумажками. Дело спорится! Медяка среди них почти и не сыщешь, ибо те, что живут на медные деньги, смотались еще до пожертвования. А вина сколько, сколько благодати-то выхлебали! Иной бесстыдник не достоин его и понюхать — ведь столько смраду тут со своими деньгами напустил, что, должно, и священника тем одурманил. Эко, еще и натурой сулят! А отчего бы и нет? Ее ведь обменивать можно. Как же это так получается? Одному наливают, а другому — пшик! Вот и извольте! А потом удивляются, что человека так и тянет отпить из кувшинчика. Ведь он, то бишь кувшинчик, вводит в соблазн, потому как имеет ушко. А из того, что можно ухватить за ушко, хорошо льется. Бывает, кувшинчик полнехонек и тому, кто его наполнял, приходится немножко отлить. Только как и куда? Пальцы кладутся на ушко, кувшинчик осторожно подымается, эдак сантиметров на пять выше губ, и чуть наклоняется — так, чтобы струйка текла из него ровно, как из соломинки. Вино тогда в три раза слаще. Каждый настоящий причетник должен в том убедиться. Священник не может его за это корить, да и не корит, ибо знает: причетник лишь тогда станет настоящим причетником, когда поймет, что ни стакан и ни иная какая посудина или посудинка с ушастым кувшинчиком не сравнится.
Поехали дальше! Не можем мы век канителиться с этими кувшинчиками! Итак, откладывали, долго откладывали. А потом накупили много материалу и заложили фундамент. И вдруг вмешалась война. Радости как не бывало, да если бы только радости! Человек десять церовчан забрали на фронт. Иной скажет, что десять на такую большую деревню вовсе не много. Оно бы и не было много, кабы позвали их на храмовый праздник. А их призвали на войну. На войну и одного жалко. Жалко и друга и недруга, жалко до тех пор, пока не начнут биться, а как погибнут, их еще жальче. Некоторым этого не понять, забыли они, что други и недруги бывают и на этой и на той стороне: кто хочет найти недруга, найдет его, кто ищет друга, обретет друга. Правда, с дружбой дело сложнее. Свинью, пожалуй, другом не назовешь, хотя, случается, и ей нужен друг. Это сразу по ней видать, конечно если тут нет ошибки и это в самом деле свинья. Свинье всюду мерещатся одни враги. Она может, к примеру, взъяриться и на такого ни в чем не повинного, покладистого человека, как автор этой книги, хотя он никого не собирается обижать, вполне терпимо и беспристрастно судит даже о свиньях. Для ясности скажем: кто хочет знаться со свиньями, пусть запасается крепким желудком. Приличный человек шарахается от них, особенно если дело касается кабанов — от них спасаться надо на дереве, в конуре или же защищаться огнем и железом. Но и тогда нужен крепкий желудок. Человека воротит от этого, ибо он и сам может вдруг превратиться в свинью или хотя бы в поросенка. Впрочем, кое-кто может вымахнуть в изрядного борова. И тот, кто стоит около или посреди них, уже и сам не знает, кого больше бояться: нате, свиньи, жрите меня!
Итак, десяток церовских парией, не считая возницы и того, кто примостился на тормозную колоду, да и тех, что уже были в казармах, призвали в армию, хорошо обули-одели, обучили и обученных послали на фронт. Уходили они весело, во всяком случае почти весело, так как еще под Медзилаборцами[13] пели:
…погляди-ка на ремни, Перекрещены они, Ты, утеха моя…И чему они радовались? Одному богу известно.
Неужто в самом деле они весело пели? Или уже стали похрюкивать, хотя в Церовой никогда не хрюкали. Не хрюкали даже в корчме. Когда в корчме заваривалась драка, туда сразу являлся тата и устраивал крик: «Ух, так тебя и разэдак! Ну-ка, марш домой!» Вбегала туда и мать, отвешивала оплеух и сыну и тате, и драки как не бывало — туда ведь прибегало больше женщин, а уж они-то умели награждать мужиков оплеухами. Только вот под Медзилаборцами не было ни церовских тат, ни матерей, были одни сыновья, а те и знали и не знали, кто они и что они, зачем идут и куда идут, свиньи ли они или всего лишь поросята. Многие поумнели только под Липовцом:[14] «Ребята, да они прут на нас, точно мы стадо свиней!» Что ж, кто заварил кашу, тот и расхлебывай. Не один тогда вспомнил о доме. И сам себя спрашивал: «Зачем я тут? Кто меня сюда звал? Ведь дома мне было лучше. Дома я помогал бы строить новый костел».
Однако дело с новым костелом не очень-то подвигалось. Война попутала церовчан, сильно сбила с толку. Иные говорили: — Фундамент заложен, дальше торопиться не будем, чтобы после войны не жалеть!
Но причетник на это: — Как раз и поторопимся! Войны-то на свете бывают всегда. Одна война кончится, глядишь, тут же к другой начинают готовиться. Так уж повелось от Адама. Небось Адам войну-то и выдумал. От Адама везде и всюду так и идет.
В конце концов и священник решил: — Как стает снег, сразу же и за дело!
2
И закипела работа на славу. Вся деревня на ногах. Все носятся, все хотят помочь строить новый костел. Мы уж говорили, что церовчане — народ богатый; ясное дело, потому и богатый, что никогда не чурался работы. Найдутся, правда, и небогатые, и таких немало, но, когда речь идет о работе, все одинаково умеют вгрызться в нее зубами. Стоит начать, а там уж сразу все превращаются в кротов, роют, роют, роют, буравят, буравят, и все, что выбурят или выроют, откидывают назад, а то бегают с этим, бегают, второпях положат сюда, отнесут туда, господи боже, сколько же они всего наперетаскали, напереносили! Иной раз случалось им перенести и такую вещь, какая должна была оставаться на месте — вот теперь и дуй с нею обратно, вмиг оттащат ее назад и уже опять что-то схватят — вот так взад-вперед их и швыряло! Да, на это стоило посмотреть! А кто и домой забежит отдуваясь, но и там дух перевести не успеет, а лишь поснует по избе, кинет на зуб что попало и айда обратно к костелу. Пока примчится — чуть куском не подавится и уж снова кричит: «Посторонись, ребята, посторонись! Дайте-ка мотыгу, дайте лопату! Где известка? Посторонись, ребята, пропустите меня к известке!» Лопата сама прыгает ему в руки: знает лопатка, у кого какая хватка, она всегда своего хозяина сыщет. «Посторонись, ребята, посторонись!» Песок ближе известки, а лопата, что ж, она и песок ловка кидать. Все копошатся, задами дергают, покачивают, ногами топочут. Раствор словно начинка для пирога. Кирпичи шлепаются — шлеп, шлеп! Каждый кирпич проходит через десятки рук — чему только не научится, — и вот, веселого и обученного, шлепает его каменщик на стену, и кирпичу там способно.
Каменщиков тут тьма-тьмущая, один лучше другого, халтурщика среди них и не сыщешь. Халтурил один, да только в самом начале, при стольких-то мастаках и он понаторел, и к нему кое-что пристало. Но мало того, он еще и руководить порывался. Как-то раз строитель это подметил, отозвал «руководителя» в сторону и шепнул ему на ухо:
— Слышь, ты, скотина! Чего во все нос суешь? Пошто все время пасть отворяешь, чего каждого жучишь? Думаешь, мне тут десяток партайфюреров требуется?
— Простите, что вы сказали? Я вас не понимаю.
— Вот тресну тебя по башке, сразу поймешь! — Строитель потащил его дальше. И вдруг смекнул: «Чего мне от него надо? Куда я тащу его? Ведь в общем-то он дошлый малый. Может, он и впрямь старательный? Работать не умеет, зато руководить ловок, почему бы в таком случае мне его не использовать? Может, как раз такой парень мне и требуется». — Эй, послушай! — Строитель улыбнулся. — Не хочешь ли быть адлатусом?[15]
— Адлатусом? — «Руководитель» поднял брови, вытаращил глаза на строителя. — Это что? Такого не знаю.
— Ну как бы это тебе объяснить? Особая должность. Подчиняться будешь только архитектору и мне. Иной раз придется тебе присмотреть и за мастерами.
— Еще и за мастерами? Да смогу ли?
— Ты все сможешь. Каждое утро будешь являться ко мне, а в течение дня следить за работой, проверять каменщиков и плотников. У тебя везде должен быть глаз. Понятно?
Парень улыбнулся. Подняв руку, кончиками пальцев стал легонько поглаживать нос — Понятно, понятно. Да, кстати, сколько за это положено?
— Сразу же деньги у тебя на уме! Тебе мало, что будешь за мастерами приглядывать? Не бойся, получишь больше, чем мастер. Потому что адлатусу набавляет еще и инвестор.
— Какой такой инвестор? Никакого инвестора я не знаю.
— Скоро объявится. А не объявится, тебе бояться нечего, у меня с инвестором хорошие связи. Если где что застопорится, обращайся сразу ко мне. Смело можешь ко мне обращаться. Ты должен обо всем мне докладывать. Потому и говорю — у тебя везде должен быть глаз, чтобы обо всем мне докладывать. Каждый тебя уважать должен. Будешь мастеров и не мастеров подгонять, да и за материалом приглядывать.
Парень недоверчиво: — Вы вроде бы о десятнике говорите.
— Десятник десятником, ты его сюда не припутывай! Десятником может стать любой олух. А ты получишь диплом. Только не сразу, сперва подучись. Адлатус ты уже с нынешнего дня, а диплом получишь только в конце.
И с этой минуты «руководитель» превратился в адлатуса. Ловкий, понятливый был адлатус. Правда, и учитель был у него хороший. Строитель умел наставлять уму-разуму. Позже, когда церовский костел был готов, адлатус получил и диплом, да он и сам мог уже раздавать дипломы. И часто потом вспоминал: «Да, во времена оны ходил я в адлатусах». Однако он ни разу не открылся, когда, для кого и где ходил в адлатусах. Не открылся потому, чтобы случайно не обнаружилось, что люди когда-то считали его халтурщиком. Конечно, сам-то он никогда не считал себя таковым. А может, это все одни сплетни, люди-то злые, ни за что готовы утопить человека в ложке воды.
3
И Гульданы здесь. Опять все четверо вместе и успели уже как следует поработать. Само собой, вокруг них и помощников много. Пожалуй, столько и не требуется. По большей части это мальчишки, что недавно окончили школу, а те дивятся любой пустяковине, правда не слишком — подивятся немного, а там опять все представляется им само собой разумеющимся. Завидели дерево — и сразу всем захотелось в плотники.
— Ребята, не так ретиво! — Мастер вынужден был слегка их осаживать. — Для учеников у меня одно правило: принеси да отнеси, то подай, а то прими! Беги, да чтоб одна нога тут, другая там! А коли надо что подержать, так уж и не двигайся, и не дыши!
Кто понял, а кто и нет, не у всех же одинаковое понятие, нашлись и такие, что хотели разом стать подмастерьями, а двое-трое даже и мастерами. Гульдану пришлось их усердие охладить несколькими легкими затрещинами.
Кой на какие работы мальчишек подрядил Ондрей.
— Плотники, сюда! — кричал он. Радовался, что и у него подчиненные. — Леса для каменщиков подымать будем!
Да, на это надо было вам посмотреть! Ох и запарились все! В два счета леса выросли. Ондро аж взмок весь.
— Эй, каменщики! — кричал он. — Давайте поднатужьтесь как следует! Не отлынивайте! Пускай костел вдарит в самое небо!
Да, в самом деле! Это было подлинное горение. Все катило как по маслу, ну и не диво, что иной раз закатывали и оплеуху. Катило или ладилось? Что так, что эдак, кому закатят или заладят оплеуху, тому все равно, а мне так и подавно плевать. Мастером все же вдруг не заделаешься, это бы надо каждому знать. За день — за два не научишься даже порядком тесать.
Где уж там! И тесать умеет только мастер, знающий, что дерево сбегает, сужается кверху. Пока дерево живет, из года и год нарастает у него новое годичное кольцо, круг, что расширяет объем, раздает кору — она даже хиреет и лопается. Сразу под корой — луб и камбий, а в камбии животворный сок, и больше всего питается им самое молодое кольцо, ибо хочет стать настоящим годичным кольцом, чтобы крепко сжимать остальные кольца, обнимающие центр. В центре — сердцевина. От нее к коре бегут сердцевинные лучи. Сердцевина крепка, но жизни больше всего — говорим мы — не в сердцевине, а в той части, что только устремляется к жизни — больше всего жизни в самом молодом годичном кольце, оттого оно так и растягивается, расширяется и возносится; основную силу свою оно гонит вверх, чтобы встретиться с ядром и в нем найти центр, вокруг которого накручиваются все годичные кольца — самому младшему хочется все их удержать и самому стать центром. Мы говорим — годичное кольцо, хотя на самом деле речь идет о конусе, напоминающем огромную деревянную трубу или дудку, подобно тому, как труба или дудка напоминает дерево — ведь в дереве заключено столько звуков. Слышите? Вы слышите? Дерево раскрывается, разветвляется, и самое младшее годичное кольцо хочет разветвиться, раскинуться, затрубить, засвистать каждой веточкой, а потом ударить еще выше — пусть жизнь продвинется еще на ступень и пусть о том останется отметина, чтобы многие годы спустя, когда человек спилит дерево, он мог, склонившись над пнем, пересчитать его лета.
Плотник отесывает ствол дерева, как бы снимая с него наружные покровы. Коническая структура дерева не должна быть нарушена, ибо под большим давлением балка может сломаться, поэтому и готовая балка, если она сработана настоящими плотниками, бывает на одном конце толще, а на другом — тоньше. Разница должна быть уравнена только при вязке кровли, но и тогда, конечно, не следует нарушать природные свойства дерева. А важнейшее из них — прочность. Наибольшая прочность у дерева проявляется при растяжении и изгибе. В изгибе обычно находятся несущие потолочные балки, затем стропильные ноги, прогоны, обвязочные брусья; на растяжении, к примеру, — затяжки; на сжатии — опорные стойки кровли, в скольжении — переводины в стыке со вставленными на косых лапах распорками. Но мы, пожалуй, вдаемся в излишние подробности, они любезного читателя, наверное, мало занимают.
Кровля вяжется на земле. Плотники или же их сподручные натаскают широких досок, собьют из них просторную палубу. Мастер пройдется по ней, кой-кого подчас и окрикнет, а то и подтолкнет — ведь речь идет о деле серьезном и поначалу каждый ему помеха. Затем соберется с мыслями, внимательно изучит планы и под конец, вытащив карандаш, наклонится или станет на колени и начнет чертить на доске сечение будущей кровли с обозначением балок, стропил, стоек, подкосов, распорок, затяжек и полос. Пронумерует все стыки и связи. Кой-где добавит черточку, галочку или всего лишь выразительную точку, чтобы балбесы подмастерья не забыли важнейшие стыки укрепить, как положено, скобами, хомутиками, тягами, стальными поясами либо шипами, а то и деревянными накладками со стальными болтами.
Да, кровля еще только набросана на доске, а подмастерья, стоящие вокруг, уже мозгуют, шарят глазами по разным стыкам и пыжатся все упомнить, чтобы потом ежеминутно не прыгать, не глазеть на чертеж.
Ондро, как никто другой, подходит к делу обстоятельно: берет брус за брусом и вдумчиво укладывает все в голове — она потихоньку как бы раздается, да ведь так и должно быть — голова должна слегка раздаваться, если мы пытаемся в нее все уместить. Ондро запоминает номера стыков и связей, даже если речь идет о сложной кровле, в которой много связей и не меньше стыков. Иному это покажется, может, и лишним. «Зачем себе голову наперед забивать? — поговаривает Имро, а иногда и Якуб. — Ведь на доске и так все обозначено, пронумеровано, потребуется — можно и глянуть туда. В работе все равно надо каждую стойку, полоску, пластину или колышек пронумеровать. Каждый стык через мои руки проходит. Обозначу стропило, когда оно уже будет в руках». Но Ондро на такие речи не поймаешь. Цифры для него — ерунда. Правда, иной раз приходится поломать голову, а почему бы и нет, почему бы Ондро и не поломать головы, для чего же она тогда? Ондро и впрямь головы своей не пожалеет, пожалуй, целая кровля бы в ней уместилась. Да и по нему это видно, особенно при ходьбе. Эко, как у него кровля качается! Ну и пусть качается, Ондро за свою кровлю не тревожится. На что же тут распорки? Ондро и плечами двигает так, будто выпрямить хочет распорки, а на них нету лап или будто обе распорки елозят по балке и никак не найдут свое место. Вдруг — рраз! Обе лапы опустились в пазы. Ондро аж зубами это почувствовал. Ничего не попишешь, распорка — дело нешуточное. Отец ловко с распоркой орудует. Но и Ондрова голова все же есть голова, кровля из нее не выскочит а не вылетит, не вылетит даже тогда, когда распорки сядут в пазы и подкосы сменятся тягами, ей-богу, не вылетит, конечно, не вылетит, поскольку у человека и анкеры есть, и анкеры Ондровой кровли довольно глубоко, да-да, довольно глубоко вставлены и заклинены, может, даже в ногах — а иначе отчего бы Ондрей так медленно и враскачку ходил? Вы, друзья мои, не беспокойтесь за Ондро! Он не мастер и никогда им не станет, но в плотничьем деле знает толк. Чего зря языком плести? Ондро не любит умничать. Речи речами, а работа работой. Но уж если действительно понадобится чего объяснить, то можно и в двух словах сказать обо всем.
Спроси мы его: «Эй, Ондро, скажи-ка нам что-нибудь о годичных кольцах! Что такое годичное кольцо?» Ондрей коротко ответит: «Ну конус. Ясное дело».
А спроси мы еще: «Ондро, может, скажешь нам и побольше? Расскажи хотя бы о кровлях, как их надо вязать…» Ондро и договорить нам не даст. «Вот дурачье, дерево-то само вяжется! Дерево от ростка уже вяжется».
4
У Вильмы работы непочатый край, конечно, весна на носу, она не дает людям баклушничать. Иные, может, и отлынивают, а кого и лето не выгонит из норы, но к Вильме это не относится — ее и зимой в нору не загонишь, а теперь она не нарадуется, что дни прибывают, весны никак не может дождаться. Вильма любит работу, а войдет во вкус, так словно играет в нее. Она уже перекопала весь сад, поразбивала комья, размельчила комочки, несколько раз прочесала сад граблями и, наметив, где быть семенам, а где саженцам, тщательно вымерила палочкой грядки, проложила в них канавки, в канавки накидала семян, присыпала землей, а землю обеими ладонями старательно поприхлопывала.
Больше всего времени потратила она на клумбу, клумба была довольно большая — добрых три могло б из нее получиться, — из земли уже начали пробиваться тюльпаны, нарциссы, даже пионы и, уж конечно, ирисы — их у Вильмы было многое множество, по меньшей мере видов семнадцать-восемнадцать. И не поверишь, что на одной клумбе может уместиться такая пропасть цветов. Сколько клубней и луковиц выбрала Вильма из земли еще осенью, но сейчас ей казалось, что их все равно там лишку — скучились все, иному слабенькому цветику, что зацветает только летом, ей-богу, из земли и не выбиться, не помоги ему теперь. На барвинок она попросту рассердилась — ведь еще летом он чуть не задушил сон-траву, а нынче расталкивает анютины глазки, которых и без того поубавилось — дедушка на могилу себе много выпросил. Вильма выдернула барвинок без всякой жалости, лишь малый пучочек сунула в клумбу: вот озорничай тут! У, ненасытная утроба, поганец, запросто изничтожил бы ей и люпины: голубые, белые, розовые и желтые, сиреневые и даже коричневые — загляденье, а не люпины! Но Вильма больше любит незабудки. Когда она была совсем маленькая, когда отец был еще дома и совершенно ничего не знал об Америке, он всегда говаривал ей: «Девчушка ты моя, конопушка, поди сюда, погляди на меня своими глазками-незабудками!» Ты, Америка, верно, думаешь, что эти глазки уже другие?! Приезжай поглядеть, увидишь! А незабудок-то сколько! Эй, американец, видел бы ты! Честное слово, Америка, ты бы ахнула! На клумбе, правда, только горстка, зато у колодца целый окол. И дедке оттуда перепало. На погосте тоже будет окол. А что, если подсунуть дедке и пучок барвинка? Уж он бы кидался, уж он бы вертелся, еще, глядишь, от злости и из могилы бы выскочил! Заикнулась как-то Вильма об этом матери, обе посмеялись, а потом мать подколола ее: — Надо бы тебе и Имро украсить.
— Чем, барвинком?
— А чего ж! Барвинок ему к лицу, коль розмарина[16] боится. В самый раз.
— И до чего ты зловредная, мама!
— Зловредная? Как же, зловредная! Я сразу поняла, что с Гульданом каши не сваришь. Сперва торопил, все хотел уладить по-быстрому, а теперь раздумывает, сразу время нашлось.
— Ну и нашлось, ведь не горит. Свадьба намечалась в мае, а вышло иначе, ну и ладно, мама, ничего не случилось, ничего не стучится, если свадьба будет и осенью.
— Не будь дура! Хватит с нас и того, что есть. Хватит с нас. Он из тебя посмешище делает.
— Какое посмешище? Он же тебе все объяснил. И я тебе уже сто раз все объясняла.
— Чего он мне объяснил? Чего ты объясняла? Вам нечего мне объяснять. Думаешь, я не разбираюсь ни в чем? Вильма, ты про этот костел лучше и не говори никому! Люди подумают, что мы белены объелись.
— Что мне до людей?
— Подумаешь — что мне до людей! А до кого тебе? Или ты уж такая большая барыня? Тебе должно быть до людей. Гульдан чокнутый, у него в мозгах пуговица застряла, ему бы только взяться с Карчимарчиком за руки да ходить на пару — у того то ведь две пуговицы застряло, ты же знаешь.
— Ты чего сюда Карчимарчика припутала?
— Чтобы ты знала, с кем водишься, с кем нас люди равняют.
— Какое мне дело до людей!
— Есть ли, нету ли, псих всегда псих. Рядом с ним и умник дураком покажется. Псих из пророка и то психа сделает. Однажды пошли старый Гульдан с Карчимарчиком уж и не знаю куда, но куда-то они точно пошли. Дураки, они любят ходить, ну и эти двое туда же. Может, хотели поумничать, хотели потолковать, вот и решили ходить, чтоб разговор поддержать. Ходили недоумки, ходили, и вдруг видят — пришли они на край света, а дальше и нет ничего. Да и что может быть на краю света? Ничего, как есть ничего. Больше всего они досадовали, что разговор не успели закончить. На самой середке остановились. Да и то — не могли же они заранее знать, что край света так близок, а разговор получится такой долгий. Чокнутые-то любят языки чесать. Хотели было разговор докончить, да уж дальше идти некуда. Что делать? Как быть? Куда идти дальше? И посоветовать некому. Пришлось меж собой совет держать, а уж ему-то конца-краю не было; когда мужики меж собой советуются, конца не жди; иной раз даже друг другу по морде надают, чтобы потом все начать сызнова, чтобы опять о том же помудрствовать. А этим двум драться не хотелось. Они и сказали себе: «Что ж, обязательно драться, коли мы на краю света оказались? Трепать друг друга за волосы и оплеухи отвешивать? Да на что это похоже?» Разулись они, сели на краю света, ноги опустили в никуда, в пустоту — там ничегошеньки и не было, и в этом ничегошеньки, в этой пустоте, дрыгали ногами, прикидывая, что бы еще выдумать. «Знаешь что, Гульдан, — предложил Карчимарчик, — если хочешь, вздремни тут маленько, только гляди, чтоб во сне тебе в пустоту не сверзиться. А я вот что решил: обобью-ка край света жестью, обошью железом, пускай сверкает. Кто пойдет вслед за нами, по крайней мере увидит и скажет: «Стой, дружище, тут железяка, отсюда уже дальше не прыгнешь!» А Гульдан в ответ: «Коли ты так, то и я свое слово скажу. Ты что думаешь, я эти топоры, пилы и эккеры зря тащил? Дерево-то оно лучше. Огорожу край света, поставлю забор. Жесть только после понадобится. И люди уже не заплутаются, пустоты и то бояться не будут, запросто везде и всюду будут расхаживать, может, приснится им Америка. Иной где угодно найдет Америку, только дурень будет бегать по кругу, не останавливаясь до самого Судного дня». И каждый сделал свое дело: Гульдан поставил ограду, Карчимарчик обил ее жестью, и так шли они шаг за шагом и рассуждали о том, что если кто хочет добраться до края света, должен быть смелым и умным, да еще уметь на ограду взбираться…
— Ты все это придумала? — спрашивает Вильма.
— Да ведь об этом всякий знает, — отвечает мать. — Колумб открыл Америку, потому как у него в голове винтик такой был, и винтик этот в голове у него вертелся, а в Околичном в каждом-втором доме есть кто-нибудь с винтиком, в каждом втором доме какой-нибудь Колумб проживает. Вот выйдешь замуж, если, конечно, выйдешь, так и на твою долю достанется.
— Ты за меня не бойся! Понадобится, так я знаю, где Гульдан живет, я и сама о себе напомню.
— Гляди, как бы не удрал от тебя.
— Имро? А куда?
— Куда хочешь. Всяко бывает. Не забудь, что ты еще в девках! Твой отец мне ведь тоже не говорил, что убежит и Америку.
— Я и туда дорогу найду.
— И туда? Бог мой, ну и глупая! Кто ж тогда твои околы поливать будет?
— Об этом я меньше всего беспокоюсь. Америка-то больше Словакии, думаешь, там нельзя околы разводить?
— Ну и беги туда.
— Так и побежала! Охота была! Я ведь знаю, где Имришко живет. Гульданко! Хотел невесту, вот и получай! Будет окол и в Гульдановом дворе.
5
Стройка растет, церовский костел мало-помалу подымается, подымается — одно загляденье! И как же ему не подыматься! Все усердствуют. А больше всех — сами церовчане. Бегают, бе-е-е-гают, вот уж бе-е-е-гают! В других местах, думается, люди и не умеют так бегать. Тащат, перетаскивают, шныряют туда-сюда, шныряют, подавая что надо, а случается, и что не надо; хваткий народ, работящий, иной раз и утереться некогда. А то изредка кто-нибудь забудется, утрется, поглядит на погоду и подивится: — Хорошо-то как! Пожалуй, и окапывать можно!
Архитектору сюда ходить незачем, делать ему тут нечего, потому что он свое уже сделал, пришел поначалу, потолковал со священником, со строителем, с мастерами, за разговором выпили малость, а теперь все идет как по маслу.
Строитель заходит каждое утро после святой мессы в приход, желает священнику «доброго утра!», а после они совещаются — что да как. Пожалуй, оно бы и ни к чему так много совещаться. Священник не раз намекал строителю, давал понять самым деликатным образом, что утренние беседы могли бы быть покороче, а то и вовсе не быть. Важные дела все равно решаются в двух-трех словах, а потом разговор тянется вхолостую. Но строителю совещания представляются важными и полезными. Он только и говорит о них: «Вчера мы с вашим преподобием договорились. Завтра утром нам с вашим преподобием надо будет обсудить… Нынче утром на совещании мы с вашим преподобием говорили — тьфу, тьфу, постучать бы по дереву, — что до сих пор у нас никаких трудностей не было…»
Священник подобных речей не выносит, но сказать откровенно не решается, лучше все проглотить да не связываться. Он обычно молчит либо пытается перевести разговор: — Слава всевышнему, что дождей нет! Полил бы дождь, я и не знаю, что бы мы делали.
— Вы будто мысли мои читаете, святой отец, — говорит строитель. — Начни лить дождь, я бы ох до чего расстроился. Я бы, наверное, и аппетит потерял. Но пока жаловаться нечего, славные деньки господь бог нам посылает, а впрочем, и возводим-то мы его обитель. Да, не порадовал бы меня дождь, преподобный отец. Вы бы, наверное, и не поверили, сколько раз я говорил людям: молитесь, чтобы погода держалась. Стоило это нескольких «отченаших» и «богородиц», но зато человек хоть понимает и видит, что не зря молился. Право же, на сей раз молитва не пропала втуне.
Священник и не знает, что на такое ответить. Ему не хочется обидеть строителя, он никак не может себе такого позволить и, видимо, даже немного боится строителя; не нравятся ему эти речи, звучат они не от сердца, поэтому священник только кивает головой или с тоской улыбается и невольно вздыхает. Конечно, строитель все замечает и туг же, желая уверить священника, что понимает эти вздохи и улыбку, в свою очередь кивает головой, громко вздыхает и сыплет словами: — Истинная правда, пан священник! Иной раз до того умотаешься, столько забот на уме, что и сосредоточиться невозможно на длинной молитве. Иной раз от усталости и сон не берет, давят заботы, вплетаются и в «отченаш». А случается и так, святой отец, вы и не поверите, но в самом деле такое случалось: передо мной конкретная работа, раздумываю над ней, сами знаете, строителю умственной работы хватает, постоянно есть о чем поразмыслить, и именно тогда в светские мысли вкрадываются такие слова, что, набросай я их на бумаге, вы бы сразу признали в них молитву. Не потому говорю это, что я в приходе, сижу тут и прикидываюсь богомольным — да я бы в собственных глазах себя уронил, — но, бывает, на человека просто накатывает, снисходит молитва, и он вдруг весь в благочестивых словах. Да вам-то это лучше известно, чем мне, и знаете, святой отец, что я предпочитаю? Короткие молитвы. Не знаю, как у евангеликов, но у нас, у католиков, что там ни говори, а это явное преимущество. И особенно человек, обремененный работой, может по достоинству оценить короткие молитвы. Поминай себе господа на дню сколько угодно, да так, чтоб слова как пули вылетали, вот за целый-то день и наберется таких предостаточно.
«Знаю я твои молитвы, — злится священник, — знаю я твои пули!»
— Так, значит, за костел, да благословит нас господь! За наше здоровье, пан священник, господи, благослови нас. И еще раз за наше здоровье, за божье солнышко, за свет божий. За здоровье, пан священник, за здоровье, за здоровьишко, за нашу с вами младость и радость!
«Знаю эти твои короткие молитвы!»
6
Адлатус стоит на лесах. Пардон! Надо бы нам иной раз адлатуса величать по-другому, ибо когда строитель отсутствует, адлатус перестает быть адлатусом.
Каменщики перемигиваются: — У нас новый строитель!
Адлатус-строитель стоит на лесах, держит в руках ватерпас и смотрит — куда же это он так задумчиво смотрит?
— Посторонись! — раздается рядом. — Положь ватерпас и не путайся под ногами!
Адлатус не слышит. Да и как ему слышать?! У него же теперь две должности, он еще и строитель, даже если б адлатус и слышал, строитель может прикинуться чуть глуховатым. Адлатус-строитель и в самом деле слышать не хочет, напротив, берет еще и отвес и опускает его вдоль стены, с минуту адлатус глядит вниз, потом глядит вниз и строитель, один смотрит одним глазом, другой — другим, затем глаза меняются, правый на левый, левый на правый, а под конец все так перепутывается, что и не разберешь — и сейчас, как раз когда мне нужно об этом писать, я сам не знаю, какой глаз чей.
— Ясно сказано! Не мешай, проваливай! — грозится каменщик-подмастерье. — Дождешься — плеснем тебе на нос!
Адлатус-строитель переминается с ноги на ногу. А хотите, могу сказать и точнее: двое переступают с одной ноги на другую. Или двое переступают с двух ног, каждый, однако, со своей одной ноги на свою другую ногу… Хотя ну ее, эту точность! Адлатус-строитель кладет ватерпас и отвес и отходит в сторонку, этак на метр. Смотрит вниз, а там есть на что посмотреть. Люди, будто почувствовав на себе глаз адлатуса и, более того, глаз строителя — теперь-то ясно, что глазами адлатуса смотрит и строитель, — начинают суетиться еще пуще. Того и гляди, надорвутся на работе.
Два крестьянина оборачиваются одновременно и нечаянно стукаются головами. Смеются, трут себя по лбу и хлопают друг друга по плечу.
На лесах происходит нечто подобное: адлатус улыбается строителю, а тот адлатусу, поглаживают себе лбы, потом пытаются друг у друга пощупать плечи; одновременно улыбаются и тем двум крестьянам, что уже взялись за работу. Тут адлатус сует руку в карман и нащупывает… Что же он в кармане нащупывает? Правая ладонь жмет правую ладонь — адлатус жмет руку строителю и хмыкает на два голоса. То же делает и строитель. «Схожу-ка погляжу на плотников», — говорит потихоньку адлатус. И тут же в нем отзывается строитель: «Схожу-ка — хоть одним глазком на них погляжу».
Будет диплом, будет!
7
А мы тем временем можем заглянуть еще кой-куда. Церовские мужики стоят длинной цепочкой, об этой цепочке мы уже говорили, да что из того? Передают из рук и руки кирпичи, толкуют, размышляют, судачат. Что ж, и мы послушаем, навострим ухо.
— Дело движется, — говорит тот, что берет кирпичи из кучи.
— Нынче мы изрядно подняли стены!
— Опять по сторонам зыркаешь? — говорит сосед. — Живей! Подавай-ка! Ясное дело, движется!
Кирпич прыгает из рук в руки. Вот уже допрыгал до пятого. — А я слыхал, братушки-ребятушки, — говорит пятый, — что на освященье пожалует и сам пан епископ.
Третий решил, что была его очередь говорить, но в руках у него уже следующий кирпич. — А как же без епископа? — обращается он к четвертому. — Я и то не пошел бы тогда на освященье.
— Будет епископ, — говорит четвертый. Он взял кирпич, передал его и уже дожидается другого.
Пятый.
Шестой.
Седьмой.
Восьмой хватает кирпич за кирпичом. Этим заняты и остальные. Поток не останавливается.
Семнадцатый: — О чем это вы там?
— Не задерживайся! Бери! — огрызается на него шестнадцатый.
— На такое дело, — говорит седьмой, — могут и двое приехать.
— Не помешало бы, — говорит одиннадцатый.
— Ну дубина! — Ага, и восьмой отозвался. — Какой же епископ помешает?
— Я слыхал об одном, — говорит пятый шестому. — Но двое… Могли бы приехать и двое…
Шестой молчит, за словом не гонится.
Седьмой.
Восьмой.
— Знаете, что я слышала? — Ну наконец! Отозвался и девятый, случайно оказалось, что это женщина, но она из себя изображает мужчину и смело может у нас сойти за девятого. — Говорят, будут ходить по домам.
— И я это слышал, — раздается голос первого.
Пятый торопится: — Я дал молодого бычка. Эти кирпичи аккурат на него куплены. Когда будут ходить по домам, священник беспременно укажет на меня: теленок из этого двора был.
Третий: — Да и меня не обойдут.
Четвертый: — Ведь и я пожертвовал.
— А кто не пожертвовал?! — улыбается двенадцатый.
Поток кирпичей не останавливается.
Семнадцатый: — О чем это балаболят?
— О вислоухом, — опять огрызается шестнадцатый. — Коли туг на ухо, то помалкивай!
Одиннадцатый: — Каждый что-нибудь да внес. Должно быть, только цыганка…
Седьмой хватает кирпич и подает восьмому: — Она что, не дала бы?
И восьмой сразу: — Только брать умеет.
Одиннадцатый: — Я же говорю, каждый понемногу, от каждого что-нибудь.
— Встретила я ее, — слово опять берет девятый, точнее, женщина, которая прикидывается мужчиной, а впрочем, и выглядит так, но какая разница — мужчина или женщина, главное, что трудится, — встретила я ее. Петуха несла. Я как раз шла из прихода.
Пятый дергается: — Петуха, говорите? У меня пропал петух.
— Да что ты?! Петух? — улыбается двенадцатый. — Придется тебе колокольни дожидаться, авось он на ней закукарекает.
— Я серьезно, — не сдается пятый. — Мировой был петух. Здоровенный такой петушище.
— Ты ведь и тельца дал, — не перестает улыбаться двенадцатый. — Вот будут ходить по деревне, будут теленка поминать, а ты высунешь из окна голову — кука-реку-у-у! Сразу же епископам и закукарекаешь…
8
Что происходит? Каменщики сразу как-то выдохлись. Один-другой еще что-то ладят на боковой стене, остальные лениво слоняются по лесам. Ученики-начинашки вхолостую дергают вверх-вниз лебедку.
Раствор не убывает. Бетонщицы время от времени притрагиваются к нему, да только затем, чтобы не лодырничать. Подключается к ним и маленький конопатый мужичишка, берет грабельки и так рьяно гребет, будто хочет наверстать упущенное в поле.
Вниз спускается подручный-каменщик и объявляет: — А теперь, люди, внимание! Слушайте во все уши! Нужно новое, хорошо набухшее корыто, потому как мы уже укрепили анкерами кровлю в стенах и скоро плотники покажут вам, какие они мастера. Но укрепили мы кровлю пока только так, на скорую руку, — ни один плотник на нее не взберется. А кровлю положено как следует укрепить. Поэтому наш мастер и послал меня объявить вам, что сперва надо сделать подходящую колоду, чтобы все эти анкера, а особенно главные, как следует вошли в пяту, то есть в ту пяту, в те анкера, в стены и в колоду, которая через все главные анкера насаживается на все пяты, а стало быть, и на главную, а потом уж сядет как следует и будет прочно держать, вот для этого — для э-э-этого! — нам и требуется набухшее корыто. Новое, как есть новое и изрядно набухшее — другое корыто для каменщиков гроша ломаного не стоит. Где его взять и где дать ему набухнуть — поразмыслите сами! А мы до тех пор подождем. Пока не будет корыта, ни один каменщик пальцем не двинет и плотники не смогут работать. Люди, я должен был вам это сказать, а теперь бегу, не то мастер мне всыплет.
Что ж это такое? Адлатус в растерянности. Оглядывается, нет ли тут поблизости строителя, хорошо бы с ним посоветоваться, но строитель, будто нарочно, за минуту до этого куда-то исчез. В приходе быть он не может, поскольку священник здесь. Адлатус подбегает к нему. — Пан священник, каменщики прекратили работу. Им нужно корыто! Собираются делать колоду!
— Слышу, слышу, — кивает священник, а в голове у него сверлит: на что сдалось каменщикам корыто? Что за колода такая?! И в голове адлатуса мелькают те же мысли. С минуту они друг на друга растерянно смотрят, потом священник начинает поторапливать прихожан: — Люди добрые, отыщите это корыто, побыстрей отыщите, не то у нас каменщики будут до вечера болтаться без дела!
В Церовой корытам счету нет, да только не новым. Были бы хоть в деревне корытники, была бы хоть поблизости ярмарка!
— Люди, пораскиньте умом! Найдите корыто! Смотрите! Каменщики на лесах лоботрясничают! Неужто глядеть на них будем? Не для того же мы их сюда звали. Вот ведь мы уже дошли до колоды, а теперь, что ж, бросить все недоделанным? Главные анкера уже в пятах, но такая стройка спустя годы осядет, а потому уже сейчас все надо предусмотреть; может, эта колода и должна быть как раз сверху насажена. А иначе-то как объяснить? Корыто сюда! Корыто! Церовчане, корыто! Где корыто? Гопля, церовчане, корыто, подайте корыто, корыто!
Вдруг кого-то осеняет, что, в сущности, полугодовое корыто тоже новое и что новое может быть новым до той поры, покуда не куплено еще более новое, а у него дома как раз и есть полугодовое корыто, да к тому же еще и набухшее — жена в нем вчера купалась. — Пан священник, есть корыто! — Мужик хлопает себя в грудь. — У меня корыто! Пан священник, потерпите чуток, и у нас будет корыто, для колоды!
И бежать!
А тот маленький, конопат конопатый, все еще шурует граблями в растворе, но вдруг оглядывается и видит — сосед его куда-то бежит, тут и он ускоряет темп, и, чем быстрее сосед перебирает ногами, тем проворней конопат конопатый орудует мотыгой, ибо грабли у него и вправду сменились мотыгой, и он окапывает, окапывает, вот уже и вторую гряду окопал, и, ежели так дело пойдет, он минут через десять со всем полом управится.
Священник — своим прихожанам: — Видите? Стоит человеку захотеть — все ему по плечу. Вот мы поднажали и сразу отыскали колоду. Где-то люди гибнут, воюют друг против друга, а мы тут, в Церовой, преспокойненько костел строим. Колоду собираемся делать. Спаситель к нам милостив! Возблагодарим же господа за милость его!
— Ох вы ж и проказник, преподобный отец! — улыбается синдик. — Вы и над самим господом нашим подтруниваете. Еще и отца небесного подстрекаете. Это мне по душе. В кои-то веки и всевышний, может, развеселится.
— А вы думаете, господь бог шуток не любит? — ухмыляется причетник. — Он ведь и Адама сотворил шутки ради.
— А вообще, как живете? — спрашивает синдик. — Что нового? Преподобный отец, что слышно? Конца войны еще не видать? Уж вам-то непременно должно быть известно.
— Не знаю, право, не знаю, — вертит головой священник. — Я и то ничего не знаю. Мой отец всегда, бывало, говорил: беда в дом — малые дети под стол! Иной раз мне кажется, что оно так и есть — будто сидим мы под столом и пикнуть боимся. Сперва-то мы вообразили себе, что другим стало хуже, а нам — лучше, кое в чем оно и впрямь стало лучше, но, стоит высунуться, либо вас сразу по носу щелкнут, либо сзади кто-то наступит на пятки. Боюсь, еще придется нам всяко вывертываться.
— Я тоже так думаю, — соглашается синдик. — Такой уж мы народ. Только и знаем, что вывертываемся. Когда господь нам нашу землю пожаловал, верно, на карту забыл поглядеть.
— Нет, я с этим не согласен, — возражает причетник. — Разве позор какой лежит на нашей земле? Не надо было ему телят сотворять.
Крестьянин, что пожертвовал молодого бычка на костел, весь передернулся:
— Ишь как! Ты поосторожней! А то еще случаем на меня кто вину свалит!
— Ну, ну, ну! — успокаивает их священник. — Однако не будем тут ссориться. Как станет совсем плохо, спрячемся в костеле, может, стороной все и пронесет!
Кто-то замечает: — А вон и корыто! Смотрите!
Люди, столпившись вокруг священника, указывают на мужика с корытом: — Пан священник, корыто!
— Ну и бежит! Ого, как бежит! Корыто, корыто, святой отец, корыто! Глядите, глядите, вот и корыто!
— Вижу, вижу, вижу!
— Ну и бежит!
— Вот это чешет!
— Ну и дует!
— Вот это ловко!
— Корыто что надо!
— Ну и чешет!
— А вы думали, он бегать не умеет! Он во как чешет!
— А почему бы ему не уметь?
— Еще как бегает!
— Еще как бегает. Скорый на ногу.
— Скорый на ногу, оттого так и бежит.
— Сколько раз уж так бегал. Сколько раз! Мы вместе бегали!
— Они вместе бегали!
— Здорово ты сегодня бежал! Ого, как бежал! Ну ты и разбежался, несся как угорелый!
— Молодец!
— Молодец!
— Стоящее корыто!
— Прыткий малый!
— Ей-ей, у тебя и впрямь корыто что надо! Нынче ты здорово бежал, так бежал, что аж вспотел весь, ох и пришлось же тебе попотеть, а молодец, молодец! Корыто раздобыл, да и подналег здорово — сегодня ты молодец.
Мужик с корытом взбирается на леса. Вскоре он среди каменщиков, потный, запыхавшийся, едва не давится словами: — Вот оно… корыто! Можете… начинать!
Каменщики не двигаются. Мастер говорит: — Не можем мы начать.
Крестьянин таращит на них глаза: — Н-новое!.. — Он показывает на корыто. — Вчера вечером у жены… оно на-на-на-набухло… Оно набухшее!
Каменщики гогочут: — Что нам до того, что было вчера? Нам полное корыто подавай. Нам надо знать, набухло ли оно как положено.
— Вам в-воды? — спрашивает мужик. Пот катится с него, он утирается обеими руками. — Сейчас принесу воды и… и… оно набухнет!
— К чему нам воды? Какая при воде работа? Надо, чтоб корыто и колода честь по чести набухли! — Мастер-каменщик встает. — Ребята, айда. Придется ставить костел без колоды!
Крестьянин пугается. Переводит взгляд с одного на другого. Вдруг его осеняет: — А-а, понятно! — смеется он. — Вот когда дело пойдет! Набухнет оно, набухнет, стоит только сказать! Раз колода, то надо… смочить ее!
Десять минут спустя на лесах стоит корыто, полное вина, есть и закусить чем… Каменщики едят, пьют, поют, никто их потревожить не смеет. По очереди наклоняясь к корыту, они вволю отхлебывают.
К обеду все в стельку, лежат словно колоды. Мастер с великим трудом подымается, пытается еще глотнуть из корыта, но только обливает себя. Бормоча что-то под нос, он изо всех сил толкает корыто и сбрасывает его вниз. Потом приваливается к остальным и вскоре начинает храпеть.
К пяти часам они просыпаются. — Вставайте, братцы! С колодой мы управились, теперь что упустили, должны наверстать!
Священник выглядывает из окна прихода: — Так вот, значит, что за колода! Нечестивцы! Устроили себе тут колоду!
9
Работа продвигается. Церовчане глаз почти не смыкают. То бегут в поле, то копошатся в саду, а между тем нет-нет да и завернут к костелу — там все еще нужна помощь.
Плотники уже подняли кровлю, теперь другая на очереди — полувальма над ризницей или, скорей, полувальмочка, ибо ризница — всего лишь низенькая пристройка к стене возле алтарной части. Кровли друг друга не касаются: гребень полувальмы подходит как раз под сток главной двускатной кровли. Была бы ризница больше да стены повыше, допустим достигали бы высоты стен нефа, то можно было бы говорить об угловой кровле, о кровле на два ската, в которой обе кровли прилегают друг к другу; стыкуются они в так называемом разжелобке, или ендове, и создают одно целое. Такое решение было б, конечно, занятным, Гульданы могли бы в разжелобке немного повозиться. Само собой, двускатных крыш у них за спиной не перечесть, но прежде дело касалось построек поменьше со средними подпорками, ну скажем деревенских домушек, которые, известно, разделены внутренними перегородками, ибо каждому хозяину хочется заглянуть и в горницу, и в кухню, даже в кладовую, в которой всегда найдется чем полакомиться (это ведомо и мышам, а потому не лишне поставить мышеловку). Иногда в доме появляются орехи — «сольбар» или «лайштайн», их надо упрятать в чулан, чтобы дети не съели. Имущий человек хочет, чтобы была и парадная, воскресная горница, в которой стоит самая красивая мебель; хозяин, коли в воскресенье гость не наведается, может тут и кое-что почитать: «Посланца божьего сердца Иисусова», «Словака», «Святое семейство», «Друга деток», «Католическую газету», «Сердце золотых часов», «Семь ступенек до неба», Нонни и Манни», «Школяра Кайя Маржика», «Ичко Шибальского», «Когда оживут руины» или о той графине, что влюбилась в графа, а потом, когда они поженились, то не смогли народить детей; здесь есть также «Сигнал», «Красоты Словакии», «Жертва тайны исповеди», «Александр и Александра», «Сердце Данко», «Кровь и песок», сказки «Тысяча и одна ночь», «Будкачик и Дубкачик», или та самая книжка, где написано: «море женкой моряку, корабль ему домом, далеко Ямайка, пойдем, будем знакомы!» Есть там и книжка, как Иисус Христос ходил со святым Петром по земле и святой Петр хотел Иисуса Христа околпачить, но у него ничего не вышло. Можно и стихи почитать. Например, вот Рильке. Уже само имя толкает к рифме: на шпильке! Проза есть проза, так и прет на человека. Читаете что-нибудь о той самой графине, и вдруг вам примстится, что вы схватили ее за ляжку. Тогда лучше бросить читать или несколько страниц проскочить. Если наткнетесь на какое-нибудь сражение, тогда все возместится. Убиение, это уже не так опасно. Четыре раза кряду можете прочитать, как кому-то вспороли живот, и никто этим не возмутится, напротив, такое вспарывание живота можно даже объявить геройским поступком. Но хватать кого-то за ляжку, упаси бог! Запретить, и баста! Лучше писать о подвигах. Но мы-то хорошо знаем, какие мы писатели. О подвигах мы почти что не поминаем: болтаем, несем всякий вздор, и вдруг нате вам — подвиг! А разделаемся с ним, снова болтаем, будто только и помышляем о том, как бы подвиг свести на нет. К дьяволу такое! Уж если я о чем напишу, то напишу как положено: обнажу штык (он должен быть наточен, не упомянуть об этом нельзя), изо всех сил размахнусь, и вот тебе, получай, пес вонючий, мерзопакостный, я тебе этот штык еще и в сердце вверну, чтоб ты сдох, чтоб кровь из тебя ручьем лила, свинья паршивая, надутая и захмелевшая от вражьей отравы, которая как дерьмо (выразить образно, но понятно) из тебя хлещет, я мать твою подлую (здесь надо точно указать национальность согласно тому, о каком враге идет речь), отца скурвившегося (опять же образно, но так, чтобы каждому было ясно, что отец врага во стократ более скурвившийся, чем наша, собственная, словацкая, самая раскурвиная курва), вот тебе, еще и еще, дьявол, сатана, вздумал деда моего и прадеда растоптать, ан теперь не растопчешь, нет, мой штык два раза durch und durch[17] тебя продырявил, так что на одного врага стало меньше; а как завидим следующего убийцу, мигом за ним! Зарядить! Выстрелить! Снова зарядить, снова выстрелить. Иной раз неплохо и крикнуть, как тот герой в книжке «Гайдуки и беглецы»: «Давай беги, осман-ага[18], а придешь домой, похвастай, каково получил!» Во многих местах надо убедительно показать, что все вражеские солдаты — убийцы и трусы; если среди них и нашлись бы какие не трусы, то они должны вовремя перейти к нам на службу, это нужно в какой-нибудь главке очень хорошо развернуть. А если изменит кто с нашей стороны, то следует подчеркнуть, что речь идет о продажной шкуре, хотя бывают и исключения — автор исторических романов, быстро смени пластинку! Под конец надо поторопиться домой и как следует там растормошить, развеселить землицу, которая каждый год по весне оттаивает и прорастает травой для гусят, плешивый татко, прокладывая борозду, плетется за воловьей упряжкой, овечки что ни утро копытцами сбивают с росной травы сверкающую росинку, бача[19] бормочет, пастух играет на фуяре[20]. О пахаре, баче и пастухе должно высказываться очень похвально. Но нужна осторожность! В любом случае надо проверить, является ли пахарь настоящим пахарем, бача — бачой, пастух — пастухом. Если мы обнаружим, что это охальники, что они только позорят народ — вырвем у пастуха фуяру и бац-бац одному, второму и третьему. Фуяру надо сдать в музей, а потом ее показывать детям: «Вот видите? Фуяра! Герой сын хватил ею по голове родного отца, потому она и поломана. Вы осознаете этот поступок? Вашему отцу пришлось дедку так долго колошматить по голове, что фуяра совсем разломалась». Конечно, все, о чем мы тут говорим, ни к какой конкретной битве не относится. Речь идет только об инструкции, как писать хорошие воспитательные романы. Герой всегда должен знать, кого надо колошматить, и уметь делать это обстоятельно. А лучше прихватить еще кой-какие головы, доколошматить все, чтобы детям, если таковые останутся, было что учить в школе, а наша замечательная, резная и чеканная фуяра была очищена от позора. Некоторые ловки писать. Сразу же становится ясно, что речь идет о нашем человеке, о нашем прекрасном чистейшем характере. Герой не совершит ни единой оплошки, а если и совершит, то самую что ни есть ма-а-а-хонькую, да и то она его всю жизнь мучит! Вот видите! А какого-то графа мучит, что он не может схватить графиню за ляжку. Свинство! Лучше читать что-нибудь о турках или о разбойниках, например, о том самом Баборе. Неужто вы о Баборе уже позабыли? Под картинкой было написано: «Страшный был, на Люцифера похож». Под другой картинкой: «Стой! Тысячу чертей! Богу душу, а ребятам дукаты!» А под третьей: «Тысячу чертей! В воздухе грохнуло, а над дорогой заблестела валашка Грайноги»[21]. В одной книжке какая-то старушка сломала ногу, в другой все время падал снег. Конечно, много такого не прочтешь. И дети мешают, и работа гнетет, да и потом, мы-то знаем, кой у кого только и есть что один календарь. Откроет календарь и запишет: «Отелилась у нас та серединная корова». Или: «Биденко погиб под Липовцом». Или: «Одолжил я мотыгу, а не знаю кому».
Какого черта! Ну мы и разболтались! Счастье еще, что нас не занимает исторический роман. Наша задача — познакомить читателя немного с плотничеством, а по возможности и с другими ремеслами. Впрочем, и писательство может быть кой для кого ремеслом. Болтали же мы о разных ремеслах и профессиях, почему бы нам теперь не потолковать и о писателях? Военное ремесло тоже иным по душе, а потому вспомянем и солдат. Конечно, вокруг каждой профессии вертится немало самоучек, подсобных рабочих, энтузиастов; однако мы воздаем должное профессионалам. Правда, высказываться о писателях или солдатах по призванию как о ремесленниках — это несколько вульгарно, неуважительно. Оттого для этих и тому подобных профессий мы пользуемся термином: искусство. Это выражение очень расхожее. Каждый день мы слышим о военном, литературном, музыкальном, спортивном, художественном, актерском, парикмахерском и бог знает еще о каком искусстве. Парикмахер есть брадобрей — иными словами, ремесленник, который ловок нас остричь, обрить, умыть и забрать последнее. Некоторые предпочитают даже говорить «обрить» вместо «обобрать догола». Тупейный художник — это художественно чувствующий брадобрей, который может на любой дурной голове сотворить чудо, художественное произведение, нам это хорошо знакомо. Охотник… ну кем же может быть охотник? У нас охотников-профессионалов наперечет, но зато энтузиастов, самоучек — ого-го! А вот браконьер — это что? Самоучка? Энтузиаст — не энтузиаст, ученый — не ученый, оруженосец, опасный турист? Нет, охотника и браконьера впутывать сюда не станем! Что, если они бациллоносители? Неужто нам и без того мало замечательных ремесел и профессий? Например, портной, жандарм, ветеринар, кожевенник, часовщик, дорожный мастер и прочие. Вспомним и научную стезю! Превосходно! Конечно, мы имеем, в виду какое-нибудь обществоведение или искусствоведение, что-то такое неточное или не совсем точное; нас занимает некая яркая, пестрая наука; возьмем взаймы у естественных наук краски, и — раз-два — мы уже знаем толк в науках общественных и художественных: кое-что закрасим, кое-что приукрасим, перекрасим или разукрасим.
А главное в искусствоведении — это «ведение» о том, как при необходимости из пестрой науки сделать науку строгую, конкретную, основательную, стало быть точную и, что еще важнее, понятную и «веду» и «неведу». Но мы-то знаем, что ведение — это то же, что весть, а где весть, там и повесть, и вот мы уже в искусстве. Повесть — это как бы некая побочная весть, своего рода приблудок! Трудно даже поверить, как искусство с наукой связано. Но мы же сказали: все взаимосвязано! О повести можно было бы говорить и говорить. Очень известна, например, повесть горизонтальная, называемая в народе заповедкой. Затем — вертикальная, или погруженная вглубь, в просторечии именуемая исповедкой. Не менее известна повесть solidus[22], то есть позолоченная. Собственно, речь здесь идет о вертикальной повести хвалебного жанра, идейно бедной, но зато очень желанной. И составители хрестоматий очень любят solidus. Учителя предпочитают soldo[23]. Вместо выражения soldo некоторые теоретики используют термин «микроповесть».
Теперь надо бы поговорить и о романе. Кое-кто утверждает, что роман — всего лишь расширенная повесть или же весть, иными словами, трансвесть, какой-то расшалившийся приблудок. Конечно, об этом можно и по-другому сказать. Один француз, ученый и философ, говорил, что искусство есть квасок, в котором собираются новые, пробуждающиеся правды прежде, чем какое-либо «ведение» сумеет ассимилировать их и точнее выразить. В этом что-то есть. Только как же прочие ученые смотрят на это? Эге, говорят они, уже и искусство — закваска! Закваска — это мы, это можно научно доказать. Знаете, лучше не доказывайте, возьмите себе закваску и этого приблудка. Ведь закваски тоже разные. Бывает, прислушаетесь, и ни черта не бродит! Там-сям малость прихватит, лезет точно из волшебного горшка, а попробуете — каша! Настоящее искусство — это сопка, вулкан, раскаленная лава, взрыв энергии: тут даже не успеваешь ставить и отставлять формочки. Однако наибольшего почтения заслуживает Kriegskunst[24], искусство малых и немалых, крупных и самых крупных форм, норм, униформ, искусство искусств, которое, если вздумает, проглотит и весть и повесть. Вот это закваска! Ведение о военно-художественных формах, то бишь операциях, называется стратегией. Под словом «операция» мы понимаем полимузыкально-театральное действо. Как правило, речь идет об инструментированной цикличной композиции на более или менее обширной местности, куда сгоняются и художники и нехудожники. Очень красивые звуковые и изобразительно-кинетические эффекты способна создавать авиация. Если создатели, а также дирижер или дирижеры используют при реализации композиции все, чем они располагают, мы говорим, что налицо Totaleinsatz[25]. В партитуре, однако, чаще пишется итальянский термин: tutti[26]. Канонада — это музыкальная композиция для одной, но чаще для нескольких артиллерийских батарей; она может зазвучать как в начале, так и в середине операции или же звучит непрерывно. Если ее сопровождает пение, крик или плач, мы говорим, что это кантата. Мины, падающие среди обезумевших солдат или среди гражданского населения, называются кукушки. Если какая-нибудь упадет на шоссе, то это сизоворонка. Если в садик — то агавы. Generalpauza: подготовка к следующему удару. Allegro barbaro: быстрое взятие города или местечка. Сватовство: вступление танков в город. Capriccio: веселая пальба из пехотных орудий. Responsoria:[27] короткие пулеметные очереди. Мирабель: проливной стальной дождь. Солдатеска: веселый военный танец. Андулка: Аничка. Солдатеска с Андулкой: веселый военный танец с Аничкой. Буффонада: переход через минное поле. Маршалпаста: штыковой бой одни на один на болотной топи.
Пожалуй, этого хватит. О солдатах мы знаем уже достаточно. Черт подери, и как мы до них добрались? Начали говорить о Гульданах, и вдруг вон аж где. Теперь вы хотя бы видите, что получается, когда у писателя никудышная закваска. Она только лепится, тянется; от нее только все пальцы замараны. А я уж было испугался, что от маршалпасты или от гусаржира. Знаете, что такое гусаржир?! Да?! Ну вот, именно это я и имел в виду. А я-то испугался, что мне придется объяснять, что такое гусаржирный бурлеск. Ведь его, этого самого бурлеска, иной раз во как человеку недостает. Бывает, вы раздумываете: что это со мной?! И вдруг осеняет: бог мой, да ведь мне бурлеска недостает. Идете в театр, а в антракте актер подходит к занавесу, чуточку его отодвигает, выглядывает в зрительный зал и хохочет, хохочет, того и гляди за живот схватится: оказывается, настоящий-то бурлеск сидит в зрительном зале. Досадуя, вы идете домой. На следующий день вы еще больше не в духе. И актер не в духе, но, как только выходит из дому, снова хохочет: опять, мол, встретил бурлеск! Весь день хохочет. А вечером говорит себе: всюду весело, только у нас в театре с этим бурлеском что-то не ладится. И вы дома скажете: чихал я на все! И на бурлеск. Ведь мне и без него хорошо.
Только как быть, если в горле что-то застряло? То подымается, то опускается, а то ни туда ни сюда, ни взад ни вперед, знай себе перекатывается. Пробую откашляться — не помогает. Пробую еще раз — опять не помогает. А пробую в десятый раз — даже смешно делается. Рассмеюсь — и вдруг как выскочит! Так это и впрямь смех? Я смеюсь, ругаюсь, чертыхаюсь, кашляю, а у меня все еще полно горло. Что делать? Как быть? Если что-то долго-предолго торчит в горле, начинаешь злиться. Позлишься, позлишься, а потом скажешь себе: ну чего злиться? У меня оно в горле, а может, и в легких и в желудке. Скребет, ну и пусть скребет. Надо выдержать. Стою у окна, смотрю на дорогу, по которой ходят люди, иной раз улыбаюсь, но осторожно, чтобы горло попусту не раздражать. Потом опять сажусь: пишу, пишу, пишу и осторожно улыбаюсь.
10
А вот и колокольня! Видите ее? Правда, она еще не готова, но при желании можно увидеть ее. Вон на ней уже и кровля высится, ее еще ставят, но она уже видна. Видна издали, издали видны и Гульданы.
Ловкие ребята! Смелый народ!
Вся конструкция кровли прочно крепится в кладке башни, крепится на достаточную глубину, поскольку башня, известно, открыта ветрам, бурям, ураганам и грозам, но всегда должна стоять крепко-накрепко: чтоб ни износу, ни перекосу. Полицы лежат на пяте башни на системе обвязочных, соединительных и поперечных балок, все стропильные ноги оседланы мауэрлатом, он своим чередом крепится переводинами, положенными по диагонали. Вверху стропила упираются в шпиль, который поддерживает четверка распорок, а распорки пазами входят в обвязочные брусы. Шпиль проходит через два верхних яруса, а к нему прикреплен стальной трос, разветвляющийся внизу, и каждое его плечо привинчено сверху к угольному стропилу; концы стальных плеч продолжены и выгнуты крюками, которые при ремонте могут служить для навешивания лестниц и веревок. Внутреннее пространство башни должно быть свободным и открытым для доступа по лестницам снизу вверх, так как иной раз требуется заглянуть и наверх; кто не боится сквозняка, несомненно, когда-нибудь сюда и поднимется, если не для чего-то особенного, то хотя бы из любопытства. О, мне-то известно, люди боятся не колокольни, а сквозняка, боятся смотрового окна. Ау! Вы меня видите? А я вас вижу. Ведь смотровое окно для того и сделано, чтобы в колокольне было достаточно светло и сквозило — сквозняк ослабляет напор ветра. Ау, дурачок! Ну, чего ты так боишься смотрового окна?
Но глядите, глядите! Опять что-то происходит. Плотники прекратили работу, решили посоветоваться — пришло время навесить самый большой колокол, а с ним всегда бывают затруднения. Первое возникло еще два года назад, когда кто-то в приходе обронил: — Пан священник, а мне кажется, что большой колокол у нас маловат.
Причетника даже подбросило: — Как так маловат? Это же самый большой.
— Самый большой! Для кого самый большой, а по мне, так маленький. Хотите не хотите, а это не самый большой колокол.
— Пан священник, — вмешался в разговор синдик, — думается, наш большой колокол и не велик и не мал. В самом деле, это не самый большой, а всего лишь средний. А вы что на это скажете?
Священник подумал и решил, что синдик прав. Он вкрадчиво посмотрел на причетника и сказал: — Пан причетник, а ведь это правда. Наш большой колокол должен быть чуть больше.
Новость сразу же расползлась по деревне. Все только и говорили о том, что в Церовой нет самого большого колокола, что у них только маленький — погребальный — колоколец и два средних: один побольше, другой поменьше. И как же так вышло, что до сих пор никто не замечал этого? В ближайшее же пожертвование на серебряный поднос падали одни пятикронные — лишь бы колоколило как положено! А однажды священник, причетник и синдик, прослышав, что в Тренчине живет знатный, прославленный колокольник, отправились туда и нашли его: звали его, кажется, Ранко, и хоть, может, это и не очень звонкое имя, но он умел придать ему звук, и звон, и тон, и даже величавость, потому что был мастер — все вокруг него звенело, гремело и под ним, а над головой словно ангелы ему пели, — так вот этот самый Ранко, всем мастерам мастер, отлил, изготовил им колокол, точнее, колоколище — превосходный по виду и звуку, какому широко окрест равного не было.
— А как же они его поднимут? — беспокоились церовчане.
— Это их дело. На то и мастера, чтобы знать свое дело.
— Скоро уже! Наверняка готовят полиспаст.
— Полиспаст? Вот оно что! А я-то думал, применят лебедку.
— И лебедкой можно. Но машина есть машина. Гульдан сказал, что заместо лебедки используют полиспаст.
— Чего тут удивляться. Это же колокол!
— Ну скажу я вам, ребята, такой большой колокол и скотину разбудит.
— Уж тебя-то точно разбудит. А что, разве это не дело? Для того-то и купили колокол, чтобы тебя разбудить.
— Хоть бы его повесили!
И вправду применили машину, полиспаст, и даже не один, среди них, возможно, была и какая-нибудь лебедка — умникам на удивление! Вся деревня тянула, тянула, пожалуй, так тянуть и не требовалось, а когда колокол подняли, мастер Гульдан — ибо он тут всем заправлял и все проверял — махнул рукой и сказал: — Стоп! С этим колоколом не надо спешить! Имро, Якуб, Ондро, поживей что-нибудь под него подложите! — А как подложили, мастер поднес руку ко рту и закричал вниз, где загорелые и небритые крестьяне держали канаты полиспастов: — Стоп! Хватит! Ослабить! Можете малость ослабить! Ослабить, ребята! Можете чуть ослабить! Еще! Еще! Еще сантиметр! Готово!
— Как готово? — удивились ребята. — Что это они опять выдумали? Почему сразу не повесили?
Мастер снова приложил к губам руку и закричал: — Помощники наверх!
— Помощники наверх! Помощники наверх! — передавался приказ вниз.
Все помощники плотников взбежали на колокольню.
Мастер двинулся им навстречу: — Слушайте, ребята! Мне нужен шикула.
Вызвались все. Мастер пересчитал. Их было двенадцать. — Неужто вас и вправду двенадцать? Вы, ребята, не серчайте, но я не такой уж дурак, каким кажусь. Я знаю отлично, что истинный шикула на дороге не валяется. Попробуем еще раз! Я сосчитаю до двух, а вы подымете руку, но вызваться может лишь тот, у кого котелок и впрямь варит — на этот раз все будет в силе, хочу шикулу за сметку наградить! Внимание! Минуту! Раз, два!
Руки опять поднялись, на этот раз было их меньше. Двое не вызвались. Один из них был неулыбчивый, пожалуй даже слишком, глаза запавшие, а когда мастер посмотрел на него, он и вовсе их опустил. У другого глаза были такие же, но глядел он Люцифером и к тому же скалил большие кривые зубы.
— Почему вы не подняли руку? — спросил их мастер.
— Я хотел только помочь, — ответил первый.
— Я тоже хотел помочь, — ответил второй, — но думал, что будет веселей. Я люблю веселую работу. На оброк мне плевать.
Мастер улыбнулся одному и другому, ему казалось, что оба удивительно походят друг на друга, даже могли бы сойти за одного. «Ей-ей, возьму-ка их обоих, по крайней мере будет у меня и посол и осел, может, людям дурак-то как раз и понравится!» — Возьму вас обоих, вместе и составите одного. Шикула — вольно! Остальным — разойдись!
Это означало, что, кроме посла и осла, все могут уйти.
Через несколько минут с колокольни спускаются и посол и осел. — Надо поднять на колокольню восемь литров вина, — объявляют они. — Ровно в двенадцать увидите повешенного.
Церовчане гадают: — Какого повешенного? Зачем ему вино? Что они еще придумали?
— Опять какое-нибудь богохульство? — сердится священник. — Никакого повешенного не будет!
Но посол обучен как надо. Он растолковывает священнику, что это стародавний обычай, а обычаи надо уважать. Мастер сказал, что, чем больше у народа обычаев, тем больше он чувствует себя народом, обычай сплачивает, сближает людей.
— Как же! Уже и повешенные народу понадобились! Повешенный людей будет сплачивать!
— Пан священник, — не уступает посол, — ведь это всего лишь обычай!
— Дурной обычай! Довольно! Ух ты, паршивец! Еще поучать меня вздумал! Ни слова больше.
Осел агитирует деревенских: — Послушайте, люди добрые, обычай не обычай, а вино гоните, во всяком случае, потеха будет. Ребятам выпить охота. Восемь литров. Разве это много? На худой конец кто-нибудь из ребят наложит в штаны. Ну и что из этого? Разве такого еще ни с кем не случалось? Случится такое, так взойдем на колокольню и разом все вычистим. Думаете, я не знаю, о чем вы горюете? Обидно небось — отдать выпивку, а настоящего повешенного не увидеть. По вашим глазам вижу, что вы бы с радостью кого-нибудь повесили. Тащите вино, устроим представление. Повесьте хоть меня!
— Перехватил малость! — возмущались деревенские.
— Перехватил, не без того! — подтвердил блаженненький.
— Скиньте его!
— Скиньте меня! — Он сам предлагал себя и улыбался. — А откуда? Откуда хотите меня скинуть? Ведь я среди вас, по земле хожу.
— А не рехнулся он?
— Я точно рехнулся.
Священник незаметно исчез. Остальные качали головами. Некоторые явно возмущались, но нашлись и такие, которым речи блаженного нравились. Вспыхнула ссора, в нее примиряюще вмешался синдик: — Братья прихожане, к чему ссоры! Раз действительно это всего лишь обычай, можно его и соблюсти, даже если от него и проку не будет. Разве кто из нас тут, у костела, прок ищет? Паренек еще глупый, возможно, и сказал лишнее, но нам, ежели мы не глупцы, бояться нечего, кто знает, может, мы и из обычая какой-нибудь прок извлечем. Возможно, обычай развеселит нас! Это наше право. Или кто думает, что у нас нет этого права? Кто так думает? Покажите мне его! А и не посмеемся — тоже ничего не случится. Годы спустя вспомним мы свой смех, может, всего лишь свою глупость, покажем детям: мы только и знали, что гнули спину. С киркой, мотыгой изрядно мы на своем веку наработались. Когда надо было строить церковь — строили, а когда надо было в чужом краю их разрушать — неслись туда с винтовками, точно безмозглое стадо. Мы были готовы на все и всегда выполняли волю того, кто умел лучше приказывать, мы и обычай его уважали, а от своих нос воротили, не отличая хорошего от дурного. Кто ничего не создал, не поймет и обычаев, легко обойдется без них, наплюет и на то, что сотворили другие. Мы изведали всякий труд, всякую надсаду, оттого и незачем делать вид, что у нас нет собственных, хотя и дурных, обычаев. Свои обычаи надо понять, признать их, извлечь урок из них, не стыдиться их, найти в них смирение, но не унижение, смирение, но и гордость, уважение к себе и другим, не то мы будем только безумцами, вечными холуями, вечными дураками…
Без четверти двенадцать взошли посол с ослом на колокольню. Мастер сосчитал бутылки, было их девять. — Я говорил — нам надо восемь. Зачем просили больше?
Осел улыбнулся: — Одну я попросил для себя.
Мастер сперва нахмурился, а потом весело тряхнул головой, подмигнул сподручному и сказал: — Ну ладно. Ты заслужил. Угости и товарища! Ступайте.
Остальные бутылки мастер разделил так: Имро досталась одна, Якубу и Ондро по две, а мастеру — три.
И на глазах у всей деревни они их выпили. Порожние бутылки бросали вниз, а церовчане их считали. Из последней мастер тянул очень медленно. Имро сказал ему: — Отец, уже скоро двенадцать.
— Сам знаю, Имришко. Берегу винцо, чтобы до двенадцати хватило.
Упала и восьмая бутылка. Кто-то внизу сказал: — Будет еще одна.
— Откуда ты взял? Их было восемь. Ведь только о восьми шла речь.
— Как это о восьми? Я дал девятую.
— Девятая вот! — засмеялся парень, что держал девятую бутылку, он чуть хлебнул из нее и изо всей силы грохнул оземь.
А наверху, на колокольне, мастер обернулся к сыновьям и сказал: — Ребята, много говорить не буду, но мне, ей-ей, здорово ударило в голову. Придется вам меня подсадить. Подсадите меня, ведь я уже старый, высоко не подпрыгну! Вон там, внизу, уже ждут, и все они знают, что тот, кто слишком высоко подымется, должен потом и упасть. Но сперва его надо повыше поднять или подтянуть, чтобы там внизу знали и видели, что это настоящая высота, а после наступит полет и наконец падение — оно, бывает, и слышно. Вот это высота! Люди так представляют себе высоту! Подымите меня, ребятки, чтобы люди были довольны, да и чтоб вам, кто почитает меня за мастера, не пришлось за меня перед ними краснеть!
И они подскочили, обхватили отца и в два-три коротких прыжка были с ним там, где требовалось, высоко подняли его и подвесили на то место, где должен был висеть самый большой колокол. Мастер ухватился руками за балку, а сыновья раскачали его. Потом подпрыгнул Якуб, он уцепился за ближнюю балку и стал тоже раскачиваться. То же самое проделал и Ондрей.
Имро тоже приноровился подпрыгнуть, да вдруг подумал, что это глупо, и хотел даже крикнуть отцу и братьям, чтобы не изображали из себя блаженных и дураков.
— Прыгай! — заорал Якуб. Крикнул и Ондрей, только еще злее и чуть было не двинул младшего в зубы.
Имро подпрыгнул. Обеими руками уцепился за балку, стал раскачиваться, вернее, только биться, дергаться и метаться, так как Имро был младшим, и младшему пришлось подменять собой погребальный колокол. А этот колокол не настоящий, это всего лишь колоколец, он никогда хорошо не раскачивается, он всегда только бьется, по нему всегда кто-то бьет.
Мастер с хрипом упал на деревянный помост.
Вскоре упал и Якуб, за ним Ондрей.
Но Имро, коль он уж решился, не мог теперь сдаться так быстро, он знал, что он младший, а младшему многое положено выдержать — вот потому, сжав зубы, он еще долго-долго, невообразимо долго, бился, дергался и метался…
11
А у строителя — мы-то его уже знаем, знаем, что он за человек, — на уме одни совещания. Каждый божий день поутру закатывается он в приход, приветствует священника по всем правилам и тут же начинает: короткие молитвы так и вылетают из него одна за другой.
Священник подчас, того и гляди, лопнет от злости. Как завидит строителя, сразу у него настроение портится. Как-то пожаловался он причетнику, а тот ему и посоветовал: — А что тут такого? Гоните его в три шеи.
— Да я ему уже намекал. Представить себе не можете, пан причетник, сколько раз я ему намекал, что нет ни времени у меня, ни терпения, но ему хоть бы хны, ничего его не берет, добрым словом и то его не проймешь.
— А я, святой отец, ей-богу, не стал бы ему намекать! Пнул бы его коленом под зад: ступай подобру-поздорову!
— Пан причетник, да ведь и так негоже, драться-то я с ним не стану. Говорить с ним и то тяжко. Ужасный человек! Непонятно, как можно только быть таким бесцеремонным и навязчивым.
— Это вам за доброту вашу, святой отец, за доброту вашу, за ласковое слово. Сами видите, как ценят люди ласковое слово. Я бы пнул его, ей-ей пнул бы, да так, чтоб он зашатался. Строитель не строитель, а в приходе не смерди, отваливай, знай свое место.
Да что там! Пустое дело — советовать! Некоторым даром советы давать! Сколько раз советовал причетник его преподобию, и почти всегда понапрасну. У преподобного отца нрав мягкий, он готов каждого выслушать, а чей совет слушать — не знает, обычно на поводу у того, кто наседает на него самым что ни есть грубым и настырным образом. Любой прохвост лезет в приход, каждому хочется быть накоротке со священником, дружбу водить с ним. Иные и в костел-то не ходят либо ходят для видимости, а в приходе любят куражиться. Губами причмокивают, лишь бы им святого вина налакаться. И впрямь не худо бы пнуть их кое-куда! Глаза бы его на таких людей не глядели. Когда нет надобности, он и не глядит. Во время мессы усядется где-нибудь в ризнице или в исповедальне и молится потихоньку, иногда, правда, молитва эта колючая, шпильки да иголки, а бывает, и одни покаяния. В самом деле! И причетнику приходится иногда объяснять господу, почему он не может творить пристойную, благочестивую и покаянную молитву. Господь бог его понимает. Если бы и пан священник причетника понял, наверняка повысил бы ему жалованье. Нынче для этого и случай удобный представился — с новым-то костелом не оберешься забот! Причетник пробовал намекнуть его преподобию, да что толку. Пан священник отмолчался, и все. Так зачем же советовать? Преподобный отец и сам должен бы знать, что у причетника служба вовсе не мед. У органиста жалованье в три раза больше, да еще люди тащат ему всякой всячины, хотя он вовсе в том не нуждается. По утрам чуть потренькает, да и дело с концом. То со свадьбы перепадет ему, то с похорон; а наступит завидный месяц, ноябрь или март, люди как мухи мрут! Органист сочинит прощальный плач, да хоть бы рифма была в нем как рифма! А простофили, наплакавшись вдоволь, не скупятся, раскошеливаются, денежки так и льются рекой, так и сыплются, а органист потихоньку посмеивается. Правда, причетник и не думает с органистом равняться, боже избавь, всякому свое, но разумному человеку надо бы и понятие иметь, людям не мешало бы знать, что положено, а что нет, иногда они могли бы и детям подсунуть чего-нибудь за министрацию[28] да за то, что органисту мехи раздувают. И он, право слово, да и ты, олух, мог бы раз в кои веки человеком стать! Ясное дело, орган есть орган, играть на таком инструменте — искусство, но разве это все? В конце-то концов, какое это искусство? К чему оно? Великий боже, ты и впрямь был бы порядочным вахлаком, если бы тебе нравилось такое искусство! Легко тренькать, когда чужая ребятня, малолетки, одни косточки, ножонки, ручонки да шейки, эти озябшие заморыши с выпученными глазенками, чуть свет каждое утро из последних сил вгоняют воздух в ноющие органные трубы, а какой-то дьявол, сатана, что к господу богу только подмазывается, то и дело нарочно нажимает педаль и выпускает весь воздух самой толстой трубой: вот тебе, боже, такой уж я рыцарь, такой я артист, вот какой звук у меня! Дикарь эдакий, чего тебе не хватает? Каждое утро говорят детям: вставайте, дети, младенец Иисус уже дожидается! А проснутся бедняги, сразу видать, какие они еще глупые и как им хочется, чтобы младенец Иисус вовсе не ждал их. Зимой ни одной заутрени не пропустили. Министрацию умеют оттарабанить лучше, чем таблицу умножения, а у органа — если органисту не ударит в башку и не захочется выдать господу богу все с одного маху, — жмут с чувством, не то что какой-нибудь богатый хозяин, охочий по воскресеньям либо по праздникам, когда в костеле полно народу, всем показать, что у него куда больше сил, чем у четверки сонных заморышей, а войдет в раж, так у него не токмо органчик зазвучит — целая шахта задышит. Небось думает — коли пожертвовал бычка, так это уже все, может ходить теперь гоголем, все перед ним должны падать ниц, а то и небо перед ним на задницу плюхнется. Будет ужо тебе небо, не минешь божьего гнева! И как только пан священник с эдакими оболтусами может дружбу водить?! Почитай, иные и подносят ему кое-что… А ты поднеси мне, причетнику, малышам поднеси! Углядят сопельку у министранта — какой грех, все возмущаются, а то, что он всю зиму ходил без пальтишка, никто не заметил. Даже пан священник не обратил на это внимания, хотя зимой, на сретенье, стужа пробирает и взрослого. Да и ему, причетнику, часто приходится хлюпать носом. Сколько было говорено о маленькой причетничьей шапочке, сколько было наобещано: будет, пан причетник, будет! А потом точно про все посулы забыто. Одни ризы, плувиалы, епитрахили и береты покупаются, а жалкую шапочку купить не на что. Два года назад кто-то купил новый катаур, священник им раза два-три подпоясался, а теперь он висит среди остальных — им никто и не пользуется. Кому есть нечего, кто каждый божий день только липовым чаем надувается, а иной чурбан, что хочет подольститься к священнику, швыряет деньгами — то один катаур, то другой, дело большое! Конечно, виноват и священник. Скажи он: так, мол, и так, катаур у нас уже есть, и в новом мы не нуждаемся, может, кто и пожертвовал бы для бедных на хлеб святого Антона, а под сурдинку на эти деньги купили бы шапочку. По-всякому дело можно уладить. Купить бы какую шляпу поприличнее, поля от нее отрезать да выбросить, вот тебе и шапочка. Разве не может приход расщедриться на одну шляпу для причетника? Да что там! В других местах о таких малостях и говорить причетник не должен. Является он утром в ризницу, берет свою шапочку, надевает на голову, и все в полном порядке, можно идти, он сразу настоящий причетник, степенно и с полным достоинством выходит он к благочестивой и мирной пастве, среди которой — не взыщи, господи, но это же правда! — найдется и немало ослов.
Да чего там, чего зря говорить! Ясное дело, у каждого свои заботы, у каждого свои печали. А ежели у кого печали, так пусть и печалится о своей печали и уж понапрасну не задается! По воскресеньям костюм, шик да блеск, а будни как есть будни. И впрямь иные дни очень будничные. А откуда взять на воскресенье? Где взять на праздник? Война войной, а конопля все же растет, но чья? Чья она, конопля-то? Достать бы белого тончайшего полотна, достать бы люстрина на фартук и мягких ниток для вышивки. Церовчанки ловки вышивать: крестиком по канве и цепочкой, одностежкой, тамбуром, гладью, мережкой. Иные могли бы вышить на скатерти и пряничный домик, была б только скатерть! Причетник одну такую женщину знает, принесите полотна и увидите! Да и конопля бы сгодилась, конечно сгодилась; было б ее только побольше, что угодно можно бы сделать! А там чего и продать… А вот со стороны святого отца и впрямь негоже, что он так жмется с этим жалованьем; человек ученый, а не понимает, что причетнику тоже есть хочется, да и министранты зубами щелкают. Что ни поставь перед ними, все разом сметут! Семь малышей на четыре ложки! А если восьмой народится — ну беда! Уж лучше поосторожничать, чтоб не пришлось искать ложку! М-да! Ложки-то найдутся, и двух бы хватило, ты лучше поставь миску, а там узнаешь, на что министранты горазды! Самым разумным было бы уступить причетничество кому-нибудь другому, хотя что толку? Станут башенные часы — кто их починит? Кого тогда позовут? От должности откажись, а часы чини! Мы это знаем, еще как знаем. Нет, негоже, святой отец, право, очень даже негоже с вашей стороны, только неохота говорить с вами начистоту!.. Хоть бы кто помер! Как бы чудесно зазвонил колоколец по новопреставленному! Сразу бы перепало на краюшку хлеба. Органист, конечно, получил бы на пять, а то и на десять хлебов — разве есть справедливость? Выжмет из себя пару жалких стишков, а деньги рекой льются. И на что они ему, спрашивается? На выпивку да на выпивку, конечно, на что же еще? К дьяволу такой стих, когда в нем ни складу ни ладу. Зачем такой стих? Что этот упившийся остолоп знает о жизни? Или он думает, что стих, годный для сытого брюха, и голодному по душе? Было бы хоть кому тебя слушать! На похоронах лучше ватой уши заткнуть — вот какой ты артист! А он знай себе задается, только и делает, что задается: святой отец, я родом из Детвы[29]. Мой отец еще нашивал косы. Вот дурень! Нашел чем похваляться. Грязными-то косами? Думаешь, господь бог отмеривал мозги в Детве еще и пасторским посохом? Хорош пастырь! Уж не хочешь ли сказать, что в Трнаве, Братиславе, в Будапеште или Вене либо тут где внизу, да хоть бы в Загорье, Пернеке, в Лакшарах или Бурах, люди были глупее, чем в Детве? Детва — это что? Где она, твоя Детва? Скажи, когда и где ты первый раз взял в руки букварь?.. Хоть бы кто-нибудь… Ох-ох-о, ох-ох-о! Неужто никто не преставится? Как бы зазвонил тогда колоколец! Беда, и только! Носишься, носишься, мечешься от одного костела к другому, а проку никакого, работы по горло, да сыт ею не будешь. У нового костела есть хоть иногда чем поживиться: то мотыга, то ведерко известки… А раз зубило, бурав с коловоротом нашелся… Ну, Гульдан, ищи теперь свищи…
12
К костелу, опираясь на тонкую палочку, бредет сгорбленная старушка. Издали походит она на утку: вытягивает шею, озирается пытливо по сторонам — хочет всех разглядеть.
Бетонщицы ее уже заприметили: — Эгей, Юльча! Смотри, вот и Юльча пришла помогать!
Старушка услышала, уставилась, куда ей надо было, улыбнулась и заверещала, будто в горле у нее рвался пергамент: — И Юльча пришла! И Юльча тут! — В самом деле, она точно утка. Утка, пожалуй, тоже могла бы так верещать. — Сами управляйтесь! Юльча пришла пропавшего цыпленка съесть!
Она доплелась к женщинам, оглядела их, потом окунула кончик палки в раствор и сказала: — Помешаю хоть малость! — Снова в горле разорвался кусок пергамента, отозвалось и несколько нестройных, однако нежнейших дудочек сиринги[30]. — Так. А теперь берегитесь, хочу пропавшего цыпленка съесть.
— Вот и помогла! Гляньте-ка! — Женщины хвалят ее. — Помогла как-никак!
— Юльча, осторожней! Тут всюду известка. Как бы тебе не оступиться, не упасть.
— Как, как? — трещит пергамент.
— Осторожней, не упади.
— А и упаду, так подымете, — смеется она беззубым ртом, но пергамента в нем не видать, должно быть, он в самом горле, там и сиринга, может, и расшатанная прялка и еще что-то: маленькая горошина, которая весело пляшет. — А то и отнесете меня. Старые бабки любят, когда их носят.
— Ох и хитра! — смеются женщины. Одна подходит к Юльче и отводит ее к груде теса. — Иди сюда! А то еще толкнут тебя, чего доброго. Тут можно и прислониться и присесть можно. А то расскажи нам что-нибудь или спой, по крайней мере время быстрее пройдет.
— Время, оно и так пройдет, — улыбается Юльча. — Мое уж прошло. Даже петь не пришлось. Оно, может, и обогнало меня.
— И впрямь! А сколько тебе годков?
— Шесть, — отвечает она не задумываясь.
— Шесть? Слышите? Шесть, говорит! Как это шесть? Может, сто шесть?
Юльча качает головой:
— Нет-нет! Столько мне уже было. Годами я протаптываю дорожку назад. Помаленьку начинаю молодеть. Иначе меня не пустят на небо. Кому я там, старушенция, нужна буду?
— Ты что говоришь? Ведь на небе будем все одинаковы.
— Одинаковы? — Прялка стала слегка пошаливать; горошина где-то застряла или увязла. — Утешайтесь! Думаете, господь бог раздаст нам всем одинаковые чулки? Мать родная там меня не признает. Даже не подойдет ко мне — застыдится, что дочка старше и безобразней ее.
— Надо же! Ничего не боится!
— А чего бояться иль кого? Лишь бы пустили на небо! Там мне все подивятся. Вот и я, небесный отец! Сделал ты меня старушенцией, вот и получай такую! Увидите, как я буду перед ним вертеться. К самому трону протиснусь и усядусь промеж самых молоденьких.
— Не болтай! Господь тебя покарает.
— Как же! Меня-то покарает? А за что? За эти годочки? Так он сам раздавал их. Захоти он меня молодую, так и оставил бы меня молодой. Молодой-то и на земле мог оставить, молодой и на земле хорошо. — Прялка уже снова покойно поскрипывает, дудочки нежно наигрывают, пергамент похрустывает и потрескивает, а горошина весело прыгает, трык-так, в такт с пергаментом, трык-так словно по паркету, цук, цук, вы же слышите, тра-та-та, и еще похныкивает: трень-брень, горошина, трень-брень, тренькает она, тра-ра-ра… — Думаете, я неба испугаюсь? Эхе! Кабы вы знали, бабоньки, кабы знали! Юльча уж давно небо оглядела!
Но кой-кому из женщин такие речи не по нутру.
— Не болтай вздор! — осаживают они ее. — Всякий вздор из тебя прет! Господь и без того порядком тебя наказал!
Иные и заступаются: — Не трожьте ее! У нее ведь ума что у ребенка! Юльча, спой что-нибудь. Лучше-ка спой нам.
Юльчу не надо долго упрашивать. Она прикрывает глаза, похоже, будто даже задремывает, но вскоре их опять открывает и начинает медленно покачивать головой. И вдруг у нее в горле отзывается блеющая козочка, голоску которой какой-нибудь благодушный и тоже, поди, беззубый гобоист, что мастерит для своего инструмента мягонькие трости, придал особо нежный тон:
Я не первая, не последняя на земле, Горько плачет солнышко, что темно во мне. Выглянь, выглянь, солнышко, и не плачь так горько, Ох бы поскорее народилась зорька!И вот из прялки уже сделался органчик, пожалуй, чуть расстроенный, но все равно органчик; пергамент и горошина теперь тихохонько дребезжат, издавая тремоло, а сиринга скликает певчих птиц, главное — колибри.
Пчелки в улье для тебя изготовили медку, Из гусяток стали гуси, пусть пасутся на лужку. Выглянь, выглянь, солнышко, и не плачь так горько, Ох бы поскорее народилась зорька! Спою тебе песенку, поразвею горюшко, Серебряны дудочки в моем звонком горлышке. Отрастишь ты зубки и попросишь кушать, А я дома дудочки буду тихо слушать. Выглянь, выглянь, солнышко, и не плачь так горько…Вдруг Юльча умолкает. С минуту вглядывается, потом спрашивает: — А этот масляник что тут делает?
— Какой масляник?
— Вон тот. — Она тычет палочкой в адлатуса, что стоит, расставив ноги и прикрыв ладонью глаза, и смотрит на колокольню. — Право слово, это он! Масляник! Он хаживал сюда в Церовую масло продавать.
— Не болтай, Юльча… Это ведь… Как его? Адлатус. Адлатус он.
— Адлатус? Вот задам тебе, адлатус! — Она грозит ему палкой. — Он задолжал мне полкрейцера. Масляник! Поди сюда! Так как же с тем крейцером? Я те задам адлатуса! Как с тем, полукрейцером?
— Не кричи, Юльча! Ты же не знаешь его. Крейцеры-то когда были? Ведь крейцеры давно не в ходу.
— Ну и что? Ему-то я скажу, небось знаю его! В свое время крейцеры были. Мне было лет семнадцать, а ему, поди, столько, сколько теперь, он пришел, общупал меня всю, потом выхватил крейцер и бежать.
На удивление быстро она заковыляла к адлатусу, а приблизившись, подняла палку и стала колотить его по голове.
— Масляник! Масла! — крякала она, словно утка. — Масла, масла, масла! Отдай мой полукрейцер и крейцер либо подлей еще масла! Масла, масла! — Она все злее колошматила его. Людям пришлось подбежать и адлатуса выручить.
13
Ондро сказал брату: — Слышь, Имро, сдается мне, эта девка уж больно заглядывается на тебя.
— Которая? А-а, вон та?! Чернявая? Так это же Штефка! Ондро, тебе только кажется.
— Нет, братец, не кажется. Все время пялится на тебя. Не хочу тебя сбивать с панталыку, но тут что-то кроется.
— Ничего не кроется. Она давно обручена. Да и мне осенью жениться.
— Честь тебе и слава, братец, честь и слава, но девка, согласись, хороша! Гляди-ка, опять на тебя уставилась!
— Ондро, тебе только кажется, только кажется. Ведь она обручена! Верно говорю, обручена.
— А с кем?
— С Кириновичем.
— Неужто, братец, неужто? Имро, да ты, ей-богу, балда! Такую пригожую девку Кириновичу отдавать!
Штефка ходила к костелу почти каждый день. Иногда приходила совсем рано, иногда, если дома были дела, — пополудни, а то прибегала под самый вечер — должно быть, даже не ради работы, а просто так, поглазеть. Имро замечал ее и вечером, когда после работы уходил с отцом и братьями домой в Околичное. Она прохаживалась с Кириновичем, управляющим имением. Чудно, право! Неужто он и впрямь с ней гуляет? Конечно, человек он неженатый, и на приличную должность вышел, и живет честь по чести — одним словом, управитель. А все равно старый козел! Наверняка за плечами добрых три десятка, да и за сорокалетнего смело сошел бы. Чудно, право! Но, с другой стороны, всяк сам себе голова, не суй нос в чужие дела.
Как-то раз — опять же случайно, — когда Гульданы возвращались с работы, на улицу вышел Штефкин отец и, увидев их, тут же замедлил шаг.
— Гульдан! — закричал он веселым голосом и сразу же повернул назад. — Загляни-ка! Я вот думал забежать на кружку пива, но, коль ты уж попался мне на дороге, зайдем ко мне на минуту! Пошли, Гульданко! Пошли, ребятки! Уважаю мастеровой народ!
Конечно, он позвал их на рюмочку. Выпили, упрашивать их не понадобилось, а была бы охота, и закусить было б можно, да не стоило живот набивать, уж лучше опрокинуть лишнюю рюмочку.
Штефка была дома. Дома была и Штефкина мать. Был там и какой-то мальчонка, не очень удачный: он все время шмыгал носом, хотя и стояло лето. А не тяни он носом, его, может, никто бы и не заметил. Что ж, не каждому же ребенку быть удачным. Но это так — к слову пришлось.
Вечер был из приятных. Гульданы засиделись, пожалуй, дольше, чем следовало бы. Штефкина мать уже стала подремывать и в конце концов отправилась на боковую. Мастера это слегка покоробило, он потихоньку поднялся. — Бедняжка! Уморили мы ее разговорами, — сказал он смущенно. — Ребята, пора и честь знать!
— Сидите на здоровье! — Штефкин отец опять их поусаживал. — Не беспокойтесь зазря. У нас с женой полное взаимопонимание.
И Гульданы остались. Им было приятно. Штефка просидела с ними до конца, хотя порой не знала, кого и слушать. Мастер и ее отец старались вести степенный разговор, да и подмастерья не уступали им — вы-то знаете, что за народ эти подмастерья, особенно когда рядом женщина, — они тоже говорили степенно, но лишь затем, чтобы произвести впечатление, а вообще-то им все трын-трава, обычно несут всякую околесицу, слово для них — тьфу, ведь у подмастерьев слов всегда полон рот. Ох и впрямь озоруны эти Гульданы! То и дело обрывали отцов, что своего, что чужого, а Штефку меж тем нет-нет да и поддевали. Она едва успевала отбиваться.
Мастеру пришлось одернуть сыновей: — Негодники, оставьте девку в покое!
А уходя, мастер сказал отцу Штефки: — Мишо, сам небось видел, как мои молодцы дочку твою хотели забаламутить?
— Конечно, видел. Дочка у меня хороша.
— Мишо, да у меня и в мыслях не было хаять ее. Я именно это и хотел сказать. Не знал, что у тебя такая пригожая дочка.
— Гульданко, обе дочки у меня хороши. Одну я уже выдал, и эта замуж собирается. Жених, — тут Штефкин отец наклонился к мастеру, — не по душе мне этот жених. Тсс, Гульданко! Не по душе он мне!
— Так-так! Понятно.
Имро услышал. Невольно опять припомнил Кириновича. Неужто и в самом деле все так?
Мастер огляделся. — А где она? Где девка-то? Эвон! Ну пошли, поторапливайтесь! — Мастер обождал, пока Ондрей и Якуб со Штефкой выйдут на улицу, потом сказал: — Ну как, ребята? Возьмем девку на колокольню?
Сыновья один за другим весело поддакнули.
— Решено! Слышь, Штефка, когда мы будем ставить крест на церовский храм, ты наверху мне вина и поднесешь. А до той поры не смей замуж идти, обычай не позволяет. О, старый же я дурак! Ну, благодарствую, Мишко! Благодарствую, и всего тебе хорошего! Доброй ночи! Доброй ночи, Штефка! С богом! Всего хорошего!
Имро часто вспоминал ее. А иной раз и подумывал: «А что, если мне встретиться с ней. Я еще неженатый, могу встретиться, с кем хочу. Пришла бы она на свидание? Ну а потом что? Если Вильма про то узнает? А и не узнает, что с того? Кого бы я обманул? Нет, Имришко, нет, лучше не мудри, не раздумывай, ни с кем, лучше не связывайся! Разве Вильма не так хороша? Не отступайся от нее, Имро!»
14
А строитель — как, опять он? — и впрямь не забывает добрых славных обычаев! Чуть свет пожаловал в приход и объявил:
— Святой отец, а крест-то уже наверху! Осталось его укрепить! — Потом сокрушенно поднял взгляд, правда одновременно с рюмкой, и сказал: — Так за этот крест, святой отец!
«У-ух, сатана! Молчи! Лакай и помалкивай! Хоть речами не искушай!»
— Хороша палинка! — похваливал строитель водку. — Знаю, святой отец, вы человек непьющий, но нынче — нынче редкостный день, думаю, вы могли со мной чокнуться.
— Упаси боже! В самом деле не могу. Я вам уже не раз о том говорил.
— Знаю, святой отец, знаю! А жаль! В самом деле жаль! Сегодня мне даже малость взгрустнулось. Хотелось с вами за крест чокнуться.
— Не могу. Стоит выпить, сразу живот схватывает.
— Нервы! Все нервы! Будьте осмотрительны, очень осмотрительны. Как бы язву не заработать!
— Что вы, что вы! Желудок у меня в порядке, да и нервы не шалят. А пить не пью, не выношу спиртного!
— Думаете, не знаю? Я же знаю, ведь я у вас, почитай, каждый день. И все же будьте осмотрительны! С нервами не шутят. К нервам в самом деле нужно относиться со всем вниманием. Знаете, как иногда у меня нервы шалят? Счастье еще, что не очень-то в рюмочку и заглядываю. Разве я пью? Вся же моя выпивка здесь, и я постоянно у вас, а много ли выпью? Для умного человека главное — разговор, всегда главное — разговор, беседа, хорошее настроение, а рюмка — дело десятое. Иной раз налью себе рюмочку: вы-то мне никогда не нальете, поставите бутылку — и изволь сам! Вот я и наливаю себе, и мы беседуем по душам.
«Лучше не беседуй! Охальник! Сатана! Язык бы тебе прикусить!»
— Святой отец, стало быть, не нальете себе? Можно, я вам налью самую малость?
— Боже избавь. Видеть спиртного и то не могу!
— Конечно, это же сущая пакость. Я не имею в виду вашу палинку, это питье превосходное, я вообще говорю. Спиртное есть спиртное. Хоть и для людей, а все равно пакость. Поддашься спиртному — и тут же ставь на себе крест. Но нынче вы в самом деле могли бы выпить! Если позволите, я еще каплю себе налью. Знаете же, коли он наверху, этот крест, так пусть там прочно стоит, пусть Гульдан укрепит его как положено! Ну стало быть, еще раз за крест!
«Охальник! Нечестивец! Чтоб тебя господь твоими же пулями-молитвами поразил, а черт рогами наградил! Чтоб тебя огнь не помиловал! Твоими устами Люцифер молвит! Чтоб тебя другой, еще более злющий Люцифер копытом вышколил да приличию обучил. Чтоб метлой адовой, огненной отхлестал твоих наставников, злобных и подлых, а заодно хватил сатанинским копытом по башке и того, кто из тебя сделал строителя! Изыди, сатана! Вылакай рюмку — и с глаз долой!»
15
Коротко ударил колокол. И Штефка в праздничном национальном платье — на правой руке у нее плетенка, в которой бутылка вина и десять стограммовых рюмок, — бодрым шагом, гордо подняв голову и не оглядываясь по сторонам, идет к костелу. Народ расступается перед ней.
— Ну и вырядилась! — Люди не в силах глаз от нее отвести. — Глядите, как вырядилась! Гульдан знал, кого выбрать!
— Еще бы, Штефка умеет принарядиться! Смотрите, смотрите! Вон Гульдан уже ждет ее, она несет свяченое вино к кресту. Оттого и вырядилась.
— Так-так!
— Чего так? Такой-то девки и я б не прочь дожидаться. Хоть у креста. И вино бы выпил, право слово выпил бы. Э-эх, ни земли, ни неба, ей-богу, не испугался бы. Ух! И мы на небе.
А Штефка подымается по деревянной лесенке. Слегка запыхалась, ну да ладно. Она уже у колоколов, там ее дожидается Имрих. Штефка наливает ему в рюмку вина, Имро пьет, а пустую рюмку, как положено по обычаю, разбивает о балку.
— Не боишься взойти еще выше? — спросил он ее.
— Не боюсь, — ответила она весело.
— Ну и не бойся. — Имро хотел подбодрить ее. — Потихоньку подымайся, чтоб сил хватило. Но наверху не оставайся. Буду ждать тебя.
Штефка пошла выше. Через минуту была возле Ондро. — Какая ты красивая! — улыбнулся он ей. — Гляди, как разгорячилась! Ей-богу, ты мне нравишься! — Он сам взял из корзинки рюмку. — Ну налей, налей подмастерью! — сказал весело. Потом выпил, а пустую рюмку разбил. — Дело сделано! — усмехнулся он. — А ты мне и впрямь по душе! Жаль, что я женатый.
А Штефка уже подымалась к Якубу, и взгляд ее был устремлен вверх. И снова все повторилось.
— Не боишься выше идти? — спросил ее Якуб.
Штефка сказала: нет, а сама невольно поглядела на узенькую лестничку, которая вела наверх, к мастеру; лестничка казалась ей достаточно крепкой, и было на ней не более десяти-двенадцати ступенек, и все же это была высота! Штефка еще никогда не подымалась так высоко.
— Видать, страх напал! Хочешь, — предложил ей Якуб, — я донесу.
Штефка глубоко вздохнула. — Ах ты господи, да я уже иду, иду. Высоко-то как! Сейчас я правда немного боюсь.
Она пошла дальше, и взгляд ее был устремлен вверх. Шла она сейчас медленнее, осторожнее. Боже, как высоко! Отчего так высоко?! Боже, и будто качается! И трещит даже! Господи, отчего так ужасно трещит?
— Ну давай! — Мастер подал ей руку. Она поднялась еще на одну ступеньку, потом еще на одну, и мастер сказал:
— Ну здравствуй! Не думал я, что ты сюда дойдешь.
— Боже милостивый, отчего так трещит? — Она силилась улыбнуться.
— Ничего не трещит, тебе кажется, — успокаивал ее мастер. — Не бойся! Эта колокольня крепко сработана! А ты смелая девушка. Ну что, нальешь?
— Налью. А почему колокольня так качается?
— Нет, не качается, вовсе не качается! — И мастер взял себе рюмку. — Успокойся.
У Штефки дрожали руки, но рюмку она налила. Мастер выпил и сказал: — За твое здоровье!
— За ваше здоровье! — сказала Штефка, голос ее тоже дрожал.
Мастер выпил рюмку и бросил вниз. Потом она налила ему вторую рюмку и третью — и так семь подряд! И каждый раз мастер смотрел на нее, а при последней рюмке задержал на ней взгляд чуть дольше: — Ты правда замечательная девушка, красивая и смелая. Уже не боишься?
— Не боюсь.
— Будем здоровы! — Мастер выпил и сказал: — Благодарствую! Ну ступай! Ты смелая девушка. Наверняка замуж выйдешь удачно! Желаю тебе рослого, умного и доброго жениха! Ступай и гляди в оба, чтоб не поскользнуться.
Она и не знала, как спустилась вниз к Якубу, который радостно ей улыбался.
— Ну вот видишь! Все уже позади!
Потом она осмелела. Возле Ондро она бы и постояла, да он вдруг ее обхватил, обнял, может, и поцеловал бы, не убеги она вовремя.
Застучали ступеньки, и вот она рядом с Имро: — Боже, Имришко, знаешь, как было страшно?
Имро обнял ее. — Ну ладно! Молчи! И чего, чего тут бояться? — Он обхватил ее обеими руками, даже целовать стал. Штефка подумала, что надо бы, пожалуй, вырваться из его объятий, но вместо этого улыбнулась и еще крепче прижалась к нему. Ну можно ли ее в этом винить? Она была сегодня на колокольне. Сегодня люди должны все ей простить.
— Что будешь вечером делать? — спросил ее Имро.
— А что?
— Просто так. Можно и встретиться.
— Встретиться? Господи, я не знаю. — Она поколебалась немного. Потом спросила: — А где?
— Почем я знаю? Где хочешь, — неуверенно ответил он. — Правда, что ты гуляешь с Кириновичем?
— Захаживает к нам. Ведь и ты, Имришко, собираешься жениться.
— Да? А ты откуда знаешь?
— Узнала.
— Надо же! Ну ладно. А хоть бы и так! Вечером буду ждать тебя.
Она согласилась: — А где?
— Где хочешь.
— Ну, жди у нашего дома. Но сразу же после работы, а то потом…
— Понятно, понятно…
Но Имро не сдержал слова. Позже вдруг подумал: «Зачем я обещал? Я же с Вильмой договорился. Какой я дурень! Зачем я обещал? Для чего голову ей морочу? А может, все-таки пойти?»
Работу они окончили раньше времени. Священник позвал их к обеду. Выпили, а потом побрели домой. И Имро вместе со всеми.
А вечером вышел на улицу и все еще раздумывал. «Куда же теперь? К Вильме? Или к Штефке? Вернуться в Церовую? Господи, какой я дурень! Зачем обещал? Зачем еще чего-то надумал? Зачем вечно все порчу, все усложняю?»
Решил пойти к Вильме, но и к ней не пошел.
Домой воротился не в духе. «Господи, какой же я дурень, — размышлял он, лежа в постели, — не знаю, чего и хочу! Может, Вильму уже не люблю? Еще чего, конечно люблю! Конечно! Поскорее надо жениться! Боже, какой же я дурень, надо жениться, поскорее надо жениться!»
А Якуб в тот день вырубал на колокольне церовского костела, вырубал и вытесывал на балке такую надпись: НАПЕРЕКОР ВОЙНЕ ПОСТАВЛЕН БЫЛ ЭТОТ ХРАМ, И ВСЕ ПЛОТНИЦКИЕ РАБОТЫ ВЫПОЛНИЛИ ТУТ в ГОДУ 1943 И КОЛОкоЛА ПОВЕСИЛИ И рукАМИ ОпытНОГО МАСтеРА НА МаковКУ КОЛОКОЛЬНИ жеЛЕЗНый креСТ ВоЗДвигли: ИМрих ГульдаН, МАСтер, И сыНоВЬЯ: Якуб, ОНдрей и ИМрих мл. БЛАГОСЛОВи, ГоспоДИ, житЕЛей села И умеЛЫЕ рукИ лОВких И прилежНыХ ПЛОтников!
БАЛАГАН
1
Каменщики уже ушли. Обещали, правда, прийти еще по весне — оштукатурить костел снаружи.
Разошлись и Гульданы. А случись в них какая нужда — к примеру, соорудить леса для каменщиков или что другое понадобилось бы, — мастер с Имрихом могли бы в Церовую в любой момент прибежать.
На прощанье Имро попросил братьев не забывать о его свадьбе.
Братья обещали, но при этом слегка ухмыльнулись, будто отнеслись к его словам не очень серьезно.
Имро уверял их, что свадьбу непременно сыграют в последнюю субботу октября.
— Эх, братец, еще наждешься ты свадьбы! — донимали они его. — Вот увидишь!
Поскольку погода держалась, священник решил этой же осенью костел расписать. Конечно, все сразу не делается, но что не успеют сейчас, докончат весной. Вот только не знал он, к кому обратиться. А тут как раз пожаловал в Церовую один незнакомец, заглянул и в приход, и надо же — священник сразу узнал в нем своего однокашника. Сперва болтали о том о сем — у однокашников-то всегда найдется о чем поболтать, — а потом вдруг священник хлоп приятеля по плечу и говорит: — Ты пришел как раз вовремя. Мне нужен какой-нибудь толковый живописец. Ты, верно, сможешь мне посоветовать.
Так и вышло. Однокашник посоветовал написать туда-то и такому-то, потому как такой-то — прекрасный и искусный живописец.
И в тот же день священник написал очень длинное и уважительное письмо одному очень известному, прославленному живописцу, о котором до сей поры, правда, ничего не слыхал.
А некоторое время спустя явился в приход человек средних лет, среднего роста, в темном костюме и такой же темной, слегка замасленной широкополой шляпе. Человек был приятный на вид, с лицом бледным, исхудалым, но в общем приветливым, временами его освещала улыбка, которая быстро таяла, но всякий раз не совсем — что-то оставалось в больших черных глазах.
Вместе с ним или следом за ним, ну конечно же следом за ним — ведь сразу все в дверь не вошли, — приплелись еще двое субъектов, второпях даже не знаю, что о них и сказать, хотя иным, а главное, самим себе, такие люди могут казаться и любопытными. Они остались стоять в дверях, наверное подумав: «Зачем нам лезть дальше? Ведь нас сюда никто не звал».
Священник пошел навстречу живописцу. Состоялось знакомство.
— Здравствуйте, здравствуйте! — пожимая руку живописцу, он ласковым, но цепким взглядом окинул и тех двоих. — Рад, что вы пожаловали. Как доехали? — И он еще острее поглядел на живописца: ну представь же их!
И те двое уже шагнули было вперед, но тут же, правда, несколько смешались, так как живописец и бровью не повел, сделав вид, будто эти двое не имеют к нему никакого касательства. Возникла какая-то натянутость, взгляды метались в разные стороны, сшибались, перекрещивались. По счастью, священник протянул руку, и те двое вмиг подскочили к нему, представились и сразу же отступили на шаг: слава те, господи, пронесло.
Священник услышал их имена, да тотчас забыл, что позже его немного расстроило; однако он заключил, что люди эти весьма образованные, верно тоже художники — кого же еще живописец станет таскать за собой? Он сделал руками несколько радостных, но при этом растерянных жестов, ибо очутиться среди трех художников сразу — дело нешуточное! Пожалуй, надо бы их чем-нибудь угостить, хотя для этого наверняка еще время найдется.
Заговорили о деле. Собственно, говорил только священник с живописцем. Те двое по большей части лишь кивали, хотя иной раз, при надобности, откликались и по-другому. По их глазам видно, что в деле они хорошо разбираются. Неужто они и вправду умельцы? Жаль, что священник забыл их имена!
Судили-рядили, и вдруг: — Да ведь тут рукой подать, — кажется, священник это сказал, — пойдемте туда и посмотрим!
И пошли. Сперва осмотрели храм снаружи, а войдя внутрь, долго хмыкали, мудрили, качали головами, иной раз и наверх поглядывали, все-то их занимало. Да вот только что из такого хмыканья выйдет?
Вдруг священнику, смотревшему вверх, попало что-то в глаз, он дернулся, опустил голову и стал тереть указательным пальцем. — Ерунда, — сказал он, — просто пылинка! Все в порядке! — Он улыбнулся, а минуту спустя уже глядел на живописца в оба глаза.
Но глаз его беспокоил. Ужасно резал, слезился, и священник, не желая живописцу в этом признаться, отошел от него и украдкой вновь потер глаз. Потом подошел к тем мужчинам: они ходили вдоль стены, рассматривали штукатурку, ощупывали, оглаживали ее и обнюхивали пальцы.
Священник подивился и спросил, чем же не нравится им штукатурка.
Оба усмехнувшись пожали плечами. Тогда он сам пощупал стену, но никакого изъяна в ней не обнаружил. Он назвал имя архитектора, предложившего проект, назвал и строителя и имена двух-трех каменщиков, что клали костел, но имена эти ничего не говорили им.
Священник слегка огорчился, пожалуй, даже рассердился. И в конце концов отошел от них, решив, что это самые обыкновенные олухи.
Живописец стоял близ алтарной части храма, щурил глаза и вытягивал шею так, что она покраснела. И лицо тоже. А когда подошел к нему священник, он ласково посмотрел на него и сказал с улыбкой:
— Преподобный отец, во время службы вы всегда будете любоваться голубым.
Священник обрадовался. «Что говорить, мастер есть мастер! Те-то недотепы только и знают, что дуются!» — Голубым! Отлично! А дальше что?
Оба поглядели на свод, но священник не смог туда долго смотреть — глаз опять стал слезиться. «А, бог с ним, зато есть уже голубой, голубой — да, видать, это замечательный мастер!» Священник невольно вспомнил, что кто-то из каменщиков, когда речь зашла о росписи стен, сказал: «Какая там роспись? Возьмите синьку да немного известки, в два счета все и распишете».
— Кое в чем вам откроюсь. — Живописец нагнулся к священнику, мигнув прежде в сторону двоих — это могло означать, что те не должны его слова слышать. — Когда в достатке у меня голубой, другие цвета мне уже ни к чему. Надеюсь, вы меня понимаете. В голубом могут быть такие богатые возможности, хотя, конечно, все зависит от живописца. Не скажу, что это легко. Человек должен владеть собой, не давать себе воли, но умение — главное. Подбавлю чуточку синего, и он уже светится. Смягчу потом белилами, и сразу он будто снег, потому как, если захочу, и снег может быть голубым. Попробуйте-ка припомните снег!
Священник попробовал. Но тут заметил, что мастер улыбается, и это несколько смутило его. Может, мастер просто шутит, может, не стоит к его словам и относиться всерьез!
— Конечно, — улыбнулся живописец, — обычный синий, что чернила. А белый — цинковые белила! Иной и посмеется, скажет — вот вымазали костел взбитыми сливками! А голубой, поглядите! — Он указал на алтарь, которого еще не было, но над ним уже корпели резчики, может, уже и золото на него наносили. Занятно, что в эту минуту они оба вспомнили о золоте, священник видел его внизу и наверху, живописец только внизу, но и там оно ему мешало. — Ничего не могу поделать, — сказал он, — вижу наверху один голубой. Никакой другой цвет там не годится. Как думаете, почему ваши селяне красят свои дома в голубой?
— Понимаю, что вы хотите сказать, но храм должен притягивать людей.
— Правильно, — согласился живописец.
— А вы же знаете, каковы люди. Думаете, они за одним голубым сюда прибегут?
— Святой отец, неужели они будут ходить сюда только ради цвета?
— Избави боже! Этого я не сказал. Однако прихожане хотят, чтобы их церквушка нарядно выглядела, чтобы она была красиво расписана. Но вы-то ее распишете хорошо, это сразу видно. Сперва я слегка опасался, что мне придется вас сдерживать, ведь знаете, художники бывают всякие, у иных чересчур буйная фантазия. Так о некоторых говорят. А вы, как мне кажется, человек тонкий, весьма чувствуете оттенки.
Живописец выпрямился, состроил смешную гримасу и сказал:
— Ага!
— Я тоже люблю тонкость, — продолжал священник. — Сказать по правде, голубой мне нравится. Может, даже больше, чем вы думаете. До сих пор я никому об этом не говорил, да и некому было, но вам-то от души признаюсь: голубой — мой любимый цвет.
— Вот видите, — улыбнулся живописец.
Священника это взбодрило, он дал ход своим мыслям; — Голубой, особенно если достаточно сочный, если он на самом деле голубой, а не синий, он выражает возвышенность. В нем целый космос. Мир, он ведь голубой.
— Прекрасно! В самом деле, это вы прекрасно заметили, — похвалил его живописец.
Священник покраснел. Потерев руки, он продолжал: — Конечно, я не хотел этим сказать, что остальные цвета мне не по вкусу. Может, я кажусь немного смешным. Я не художник. В цвете не разбираюсь. Простите! Продолжайте! Продолжайте! Голубой! А дальше что?
— Голубой.
— Понятно. А к нему что? Надеюсь, вы не хотите сказать, что остальные цвета вам не нравятся?!
— Зачем же! Я люблю все цвета, но время от времени выбираю один и уже этот люблю больше других. Мне кажется, это вполне естественно, не правда ли?
Чудак! Поистине чудак! Священник окинул его недоверчивым взглядом.
— Ясно, вы немного насмешничаете надо мной, — сказал он. Потом дружелюбно улыбнулся живописцу и как бы даже шутливо подмигнул ему. — Ну мазните там еще что-нибудь! — сказал он благодушно.
И живописец скорчил веселую физиономию, но тут же покачал головой, давая понять, что не мазнет.
«Неужто он хочет оставить меня в дураках, — размышлял священник, — может, я ему не понравился? Но почему? Что его во мне не устраивает? Ведь дурного слова не было сказано. Вот уж поистине чудак!» И вслух: — Конечно, в цвете вы знаете толк. Много слышал о вас похвального. Но теперь шутки в сторону! Поговорим серьезно! Добавьте-ка еще что-нибудь!
— С превеликим удовольствием. Охотно всегда добавляю. — Его улыбка сменилась почти громким смехом. — Но если добавлю, сразу же опять и убавлю. Хотите, добавлю чуть синего.
— Ну а потом? — спросил священник.
— Потом? — Живописец как бы с минуту раздумывал. — Если добавлю синего, придется и белого взять. Мне всюду один голубой видится.
«Господи, что за человек? Шутит? Не шутит? Вроде неглупый, да характер у него и вправду ужасно чудной! А те двое, ну и ну, те-то двое, ей-богу, тоже чудаки, почему бы им не подойти ближе? Почему бы не примкнуть к разговору?»
— Послушайте, мастер! — звучало это будто: «Эй ты, братец!» — Давайте поговорим серьезно! Я не то чтобы против шуток, иной раз и сам не прочь пошутить, но сейчас, хотя бы пока мы как-то не столкуемся, надо бы поговорить по существу. Для шуток время найдется. После, кто знает, может, нам еще и доведется пошутить. Почему бы и нет? Но сейчас — вы, конечно, со мной согласитесь, — сейчас шутки в сторону! Голубой! А дальше? Что к нему?
— К голубому? А зачем? Зачем нам портить его? Ведь в нем все есть. Святой отец, вы же и сами изволили это заметить.
— С вами, мастер, просто невозможно разговаривать. Вы меня нарочно выводите из себя. Все время твердите одно и то же. Голубой, голубой! Господи, да ведь его там хоть отбавляй. Думаете, я не вижу?
— Да вы не смо́трите поверх алтаря. Взгляните туда!
— Я и смотрю. Послушайте, а что там так сверкает?!
— Откуда мне знать? Может, вам примстилось. Ведь вам что-то попало в глаз. Бог знает, что вы сейчас видите! Может, вам кажется, там планета. Протрите глаза! Не станете же вы вдохновляться тем, что вам запорошило глаза.
Священник покачал головой. — Странный вы человек! Неужто ничто вас не вдохновляет?
— Я сам себя вдохновляю. И земля — звезда, только она не сверкает. Или, может, сверкает? Я вдохновляю себя и при этом чертыхаюсь, ведь на земле, на этой загаженной планете, все больше дыму, смраду и пыли, но нам уже одной земли мало, подавай нам еще и другие, чтобы и те заполонить, задымить, засмердить. Зачем вам звезда? Разве вы не знаете, какого цвета смрад? Если вам нужна мишура, наймите себе любого мазилу, он вам в два дня здесь все размалюет!
«Ага, вот что из него полезло! Уж не выставить ли его отсюда?!» — Мастер, отчего вы так разгневались? — «А те двое — кто же они такие?»
Двое о чем-то шептались под хорами.
— Не взыщите, святой отец! — Это извинялся живописец. — По крайней мере видите, каково мое вдохновение! Временами и голубой перестает меня волновать. — Он недолго оглядывал стены. Запрокинул голову, осмотрел свод нефа, потом описал рукой полукружье и сказал: — Вон там радугу нарисую.
— Радугу! Радуга появилась лишь после потопа.
— Поначалу огонь, огонь, — заметил живописец шутливо, — а теперь потоп, потоп. Я могу изобразить радугу и без потопа. Потоп можете сами домыслить. А в один прекрасный день и радуга пойдет к черту, потому что человек до того поумнел, что в основном тратит время на то, чтобы вновь поглупеть.
Он подошел к стене, огладил ее рукой. — Поглядите! Еще сыровата. Придется с радугой повременить.
Священник обрадовался: «Хвала господу! Наконец-то отделаюсь от тебя. Тебе бы сочинять лучше, а не малевать!» И тут же испугался: «Нет, пусть лучше не сочиняет. Зря людям голову задурит».
— Только бы потом с росписью поспеть. — Священник вдруг озаботился. — Если осень будет сырая, придется с росписью обождать. Осень иной раз очень дождливая.
— Вот видите! — Художник вновь весело улыбнулся. — А минуту назад вам хотелось, чтобы я потоп изобразил!
И священник заставил себя улыбнуться. «Кабы не знать, что имеешь дело с художником, можно было бы не на шутку рассердиться. А в общем, зря, ведь это живописец. Его преследует голубой. Меня тоже, но не так, как его. Болван! Зачем столько помышляешь об этом? Все равно пригласим другого».
Когда они выходили из храма, к ним присоединились… известно, кто присоединился. О тех двоих мы больше ничего не узнаем.
2
Мы все говорим, говорим, часто, пожалуй, и о пустяках, которые бы преспокойно могли опустить, а об иных, более важных вещах упоминаем лишь вскользь, глядишь, кое-кому покажется, что мы нарочно их избегаем. Ей-ей, мне тоже так кажется.
Силы небесные, да мы и о свадьбе почти забыли! Где календарь? Поглядим в календаре, какое нынче число! Где же он? Куда подевался? Тьфу ты, пропасть, именно сейчас, когда он нужен как никогда, не могу его отыскать! Придется в сад заглянуть, по деревьям пошарить, да и вы оглядитесь! Ну как, видать что-нибудь? Есть еще что на деревьях? Кое-где еще что-то краснеет. Неужто яблоко? Дьявольщина какая-то, столько яблок уродилось, а теперь хоть шаром покати. Любителю побродить на лоне природы эдак и рассердиться недолго. Зато в кладовых, погребах и, конечно же, в горницах — да-да, в наших горницах — порой какой чудесный дух стоит! Дорогой читатель, коли есть у тебя яблоко, ешь его на здоровье, а нету — но вешай носа! Или лови! Вон я тебе одно кинул, а поймал ли ты — право, не знаю. Коли поймал — ешь! Приятного тебе аппетита, дружище! И смотри, зря-то меня не оговаривай!
Сентябрь прошел, а в начале октября мастер говорит сыну: — Брось, Имришко, не до яблок теперь! Время у нас пока есть, хотя не так-то уж много — оттого и должно взяться за дело. К свадьбе мы, поди, совсем не готовы.
Слова отца польстили Имро. Славно-то как, что отец проявляет такую заботу! Правда, самому ему не казалось, что надо слишком уж мудрить со свадьбой. Зачем? Зачем создавать себе лишние хлопоты? Подвенечное платье у Вильмы есть, он тоже зимой справил себе костюм поприличнее, а еще что? Что еще надо? Бог весть как шиковать они не собираются. Угощение, выпивку и всякие мелочи можно в последнюю минуту достать, кое-что уже и достали. Голодным никто не останется, да и выпить найдется.
Но у мастера на уме другое:
— Мы, собственно, толком не знаем, кто на эту свадьбу пожалует. За наших людей я не тревожусь. Мужики выпьют, а есть станут только затем, чтобы лучше пилось. О стряпне соседка позаботится. Юлка и Марта либо их матери, одна сватья и другая, могут за этим приглядеть. Ведь кухня должна быть налажена. Мелочи тоже важны. Хорошая кухня вроде отлично настроенного инструмента. А вот как получится в Вильмином доме, какой народ туда заявится — одному богу известно. Когда не знаешь семьи, не знаешь и кого встретишь там, видишь вдруг — стоит рядом какой остолоп, которого раньше, может, ты где и встречал, но тогда он вроде остолопом не выглядел. И тут взбредет тебе в голову, что он тебе, пожалуй, малость мешает либо ты ему. Ты же знаешь, каков обычай: до венчанья и после венчанья ходят из одного дома в другой. По мне бы, лучше это дело в одном доме устроить. Давайте-ка либо у нас, либо у вас, и вся недолга! Тот злится на этого, этот на того, зверем глянут друг на друга, и вдруг: «А пойду-ка я лучше домой!» Ну и ступай, коли ты такой идиот! Народ-то уж больно пройдошливый! Говорить-то говорят, что после венчанья разделятся: наши, мол, с нами — в наш дом, а вы к своим, в свою семью, но в конце-то концов все по-иному выходит. Не могут ведь жених с невестой сразу на двух свадьбах гулять. Чуток побудем тут, говорят, а потом опять пойдем к вам. Но иному — не хочу сказать дурню, чтобы не повторяться, однако на свадьбе всегда найдется какой-нибудь дурень — вдруг этот чуток покажется слишком долгим, ему станет скучно, со злости начнет он пить и ворчать: «Где же невеста? Меня звали на свадьбу, на свадьбу меня звали, а где она, эта свадьба? Ни жениха, ни невесты, один цыган только трень-брень, шу-шу-шу, а что он мне тут за пять крон смычком в ухо нашептывает — неведомо». А кто-нибудь возьмет да и брякнет: «Айда туда! Мы ведь теперь не чужие, чего нам чураться друг друга?! К чему венчанье? Чтоб мы породнились. У жениха есть невеста, и нас, дураков, господь бог свел, так давайте и плясать вместе». Оглядываешь народ и вдруг замечаешь, что один не пляшет, верно думает, что он очень воспитанный, что ему плясать не к лицу, и он знай только дуется, каждого взглядом окидывает, все-то ему не так да не эдак, после свадьбы будет у него о чем языком почесать. А иной рад бы по буйности своей всю хату разворотить, разнести, разметать. Да это и никакого труда не составит. Ты только глянь, Имришко, на нашу хатенку! Хочешь не хочешь, а придется ее малость подправить.
— Подправить? Сейчас?
— А почему бы и нет? Подналяжем, и все дела. Вот, погляди, Имришко! Погляди, как тут у окна стена скособочилась. Ну может оно так оставаться? Имро, это же страх божий!
— Да, не сказать, чтобы все в наилучшем виде, — признал и Имро. — Но что поделаешь? Разве тут что подправишь? Что тут можно подправить? Побелим хотя бы, может, станет получше.
— Чего тут побелишь? Зачем станешь белить? Думаешь, известкой что прикроешь? Глянь-ка сюда! Кто-нибудь топнет как следует, и придется всем под открытым небом плясать.
Имро, улыбнувшись, наморщил лоб и чуть покривился, в носу засвербило — он потер его и сказал: — Убого. Убого здесь все. Но чего уж теперь? Может, потом как-нибудь. Не скажешь же, что хуже нашего дома и не бывает. Есть дома и похуже. Обвалиться он не обвалится. Эге! Да и в передней горнице нам не обязательно быть.
— А где будешь? Ну где будешь, скажи? Думаешь, гости в задней поместятся? Еще и неизвестно, сколько их наберется.
— Места хватит. Не бойся!
— Да я не боюсь, вовсе не боюсь. Но послушай меня, Имро, вот увидишь, люди станут нас оговаривать.
— Еще чего — оговаривать! А впрочем, можно бы тут кое-что и подправить. Жалко, что еще с весны не взялись…
— С весны? А когда? Ты же знаешь, чем мы занимались. Работа была. Но так тоже оставить нельзя. Надо что-нибудь придумать.
— А что тут придумаешь?
— Что-нибудь да придумаем. Заказал я немного кирпичей. На будущей неделе сосед привезет их.
— Кирпичи! А зачем? Кирпичи тут не помогут.
— Кирпичи не помогут! А что же поможет? Уж как-нибудь справимся.
— А как? Что будешь делать с кирпичами? Ведь октябрь уже. Завтра третье.
— Только третье? Ба! Так это же здорово. До свадьбы успеется.
— Не выдумывай, тата!
— Я что, для себя стараюсь, Имро? Я женюсь? Я, что ли, женюсь? Мне на это плевать. Я тут долго не наживу.
— Ты что собираешься делать?
— Поднять.
— Что поднять?
— Что поднять! Ну дом. Стены подправим, надстроим, кровлю подымем.
— Боже мой, тата, да ты понимаешь, сколько тут работы?
— Это ты меня спрашиваешь?
— Не успеть нам.
— Не болтай вздор, Имро, не болтай! Другие-то вещи успели. Будут кирпичи, так дело пойдет. И окна придется сменить. Наше окно, что на улицу, совсем никудышное, не окно вовсе, а оконце. Его и пирогом залепить можно. Вильма не на пуховых перинах выращена, но все же как-никак ее надо уважить, и других надо уважить. Чужих тоже. Не то люди станут в нас пальцем тыкать: вот, мол, были мужики как мужики, да и остались ими, с любой работой умели управиться, класс показать, а дом запустили, собственный дом и двор не могли в порядок привесть.
— Жаль, что мы сразу же по весне не взялись.
— Времени не было, Имро, не было у нас с тобой времени. Да и сейчас еще не поздно. Не поздно. На будущей неделе сосед привезет кирпичи, и мы сразу наляжем. Было б досадно, если бы Вильме после свадьбы — это когда она уже здесь будет жить — подумалось, что где-то неподалеку от нас стоит дом краше и там бы ей лучше жилось.
— А успеем? Ей-богу, боюсь я, тата, боюсь.
— Имро, ты ведь и сам знаешь, на что мы горазды. Ну чего ты боишься? Положись на меня, и все будет ладно! Слыхал я, что уже начинают расписывать церовский храм, если проявят умение да поднатужатся, венчанье может быть там. Обвенчаешься в новом костеле. Представляешь, каково было бы?
— Тата, не приплетай сюда и костел! Чего ради тащиться нам в Церовую!
— А почему бы и нет? Мы там славно поработали, так пусть священник там нас и обвенчает, как положено. Наймем себе каких-нибудь возчиков, или, знаешь, что? Что, если нам поговорить с Кириновичем?
— Это зачем? — Имро махнул рукой. И как бы сразу рассердился. Не любил он Кириновича, сам не знал почему. Неужто Штефку не может ему простить?
— Я же знаком с ним. — Мастер гнул свое. — Я знаком с управителем. Мы с ним даже на «ты». Займем у него дрезину, и жених с невестой…
— Ну уж! Так и покачу в Церовую на дрезине! Ей-богу, тата, иной раз ты такое напридумываешь!
— А не напридумаешь, кто ж тебя заметит? А так люди хоть подивятся. Люди-то глупые, временами их надо и огорошить. Хоть я человек серьезный, а бывает, и мне взбредет в голову что-нибудь не очень серьезное. Людям нужны зрелища. Так отчего бы им не потрафить? Иногда надо показать: вот, если желаете, я тоже могу кое-что выдумать, я тоже могу балаган устроить! А свадьба, Имро, разве не знаем мы, что такое свадьба? Свадьба — дело серьезное, конечно серьезное, но и веселое. Любую глупость на свадьбе отколоть можно, людям по душе веселые глупости, и потом о них еще долго судачат. Вот это свадьба так свадьба! Имро, стоит только сказать, и дрезина наша. Разуберем ее цветами — и в путь! Вот увидишь, священнику это тоже понравится.
— Дрезина? Ему дрезина понравится? Ей-ей, я бы очень этому удивился.
— Ты что думаешь, он такого не изведал, не видал? Небось всякого насмотрелся. А люди, те будут пальцем показывать: вон тот молодой плотник, что не щадя живота своего трудился над нашим костелом. А уж мы потом накричимся, всласть накричимся! Но это уж предоставь мне, это я возьму на себя, о крике я позабочусь.
— Ну ты ж скоморох, тата! Кто тебя не знает, не поверил бы даже, но, честное слово, тата, честное слово, такого скомороха я в жизни не видел.
А мастер как ни в чем не бывало весело продолжал: — Ясное дело, наймем возчиков и две, три, четыре телеги, смотря по тому, сколько потребуется, но для жениха и невесты — дрезину! Настоящий мастеровой достоин дрезины. И не говори ничего, ничего не говори! Не сподобишься ее ты, сподоблюсь я. Теперь ни о чем другом и думать не буду, только о дрезине! Эх, дрезина, дрезина!
— Дрезина, дрезина! Плевать я хотел на твою дрезину! Кончай, прошу, этот разговор! — Имро слыхал, что и Киринович должен жениться, говорят, якобы уже точно, говорят, и впрямь Штефку в жены берет. Надо же, такую девку! А Имро… Неужто на самом деле он Кириновича к Штефке ревнует? Но почему? Почему? Вдруг на него нашла невероятная злость; казалось, он злится на всех: и на отца, и на Кириновича, злился на Штефку и даже на Вильму. — Дрезина для батрака, для батрака хороша. Или для него, для управителя годится. Пусть он на ней и раскатывает!
— Это же обряд, Имро. Обряд как обряд, его хоть где совершить можно, он везде одинаковый. А нас переполох и молва занимает, хотим, чтоб молва из уст в уста шла. Глядите, люди добрые, это мастеровой женится!
— А к чему? К чему все? Чтобы людей потешать, да?
— Неужто не понимаешь? Чудно даже! Ты что, собственно, обо мне, да и о себе думаешь? Что, ну? Знаешь ли ты, что такое ремесло? Размышлял ли ты когда об этом? Думаешь, и впрямь ремесло — золотое дно? Ты в это веришь, Имро? Золотые руки у тебя могут быть, сын мой, золотые руки, но золотого дна ты не увидишь, не увидишь ни вблизи, ни издали. Я твои руки знаю и свои знаю, и рукам верю, своим рукам верю. — И мастер, раскрыв ладони, протянул обе руки Имро, чтобы и тот лучше их видел, взгляд мастера прояснел, стал острее, но длилось это мгновение. — Я за руки свои никогда не краснел, — сказал он, — они меня никогда не подводили! — Он сложил обе ладони, левую руку опустил, а правой, с вытянутым указательным пальцем, еще с минуту помахивал в воздухе. — Но в золотое дно я не верю, на золотое дно никогда не рассчитывал. Мастеровой, настоящий мастеровой, только надсаживается, и у этой надсады, Имришко, у этой надсады, право слово, никогда дна не бывает. Потому иной раз и приходится скоморошничать. А ежели какое золотое дно и бывает на свете, то знают о нем лишь халтурщики да мошенники, а вот мастеру за настоящую, добротную работу редко когда кто прилично заплатит, только ты себе за нее и платишь, только ты один и знаешь ей настоящую цену. Ремесло — золотое дно! Люди говорят о дне, а самим верхушки хватает. Скажешь им глупость — смеются! Скажешь что-нибудь умное — тоже смеются, ежели ты не предупредил их: погодите, это же не для потехи! И их серьезность потом такова. А молва — это дело, ежели добрая молва о тебе, без работы сидеть не будешь. Ты говоришь, я скоморох. Ты прав, но, ежели хочешь, тут можно кое-что и добавить: скоморох, но только по другой причине, чем думаешь. Мне молва совсем не нужна. А вот балаган — да, мы все играем; и самые трудные роли обычно достаются тому, кто вовсе не умеет играть. Я-то, Имришко, умею, и даже так ловко, что подчас переигрываю, а то и скоморошничаю. И знаешь, почему это делаю? Потому что я рыцарь. Всякий мастер, всякий настоящий ремесленник способен быть рыцарем, только так и распозна́ешь настоящего мастера. После него всегда остается работа, но люди редко когда оценят ее, хотя иной раз это могло бы человека и очень обрадовать; обычно люди просто заплатят, бывает и похвалят, очень похвалят, но именно тогда-то мастеру и хочется им сказать: вы могли бы дать меньше или вовсе не дать, могли бы меньше хвалить — не в похвалах дело, — а вот заметить бы вам безделицу, малую безделицу, за которую я не просил ни гроша, вы и не дали, а все же заметить могли бы — ведь эта безделица, пусть делал я ее для себя и задаром и даже наперед знал, что вы ее не заметите, была для меня самым главным, я корпел над ней больше всего и отдал ей столько времени, что было бы просто смешно что-нибудь просить за нее. Вот оттого-то вы ее и не заметили. Так где же это золотое дно? Портной сошьет отличный пиджак и радуется, что нашел наконец для него подходящую нитку, он искал ее долго, очень долго, и, уж казалось, исчерпал свое уменье до дна, а все-таки сшил, мастер всегда сошьет, ведь, если он чего не находит, он подлезет и под самое дно и скажет себе: пусть я сдохну, да-да, пусть сдохну, а подходящую нитку все же найду и пиджак сошью, и это будет отличный пиджак, какого ни один мастер-портной еще не носил, — ведь тот, кто ищет под дном, умеет только шить — не носить, он знает, каким пиджак должен быть, чтобы, надев его, любой прохвост показался почтенным человеком, перед которым и ему, лучшему портному, сшившему самый лучший пиджак, придется снять шляпу. Ну а без шляпы он зароется и под землю — не от стыда, нет, а потому, что он мастер, который надеется даже из-под земли еще что-то вытащить или выгрести, а потом мастерить еще шляпы, чтобы по воскресеньям на досуге видеть их на людях, как и те пиджаки, что он сшил, — один краше другого, один краше другого. Однако он — мастер и оттого даже не знает, пойдет ли и ему такой распрекрасный пиджак. Он шутит, даже паясничает, когда из рыцарства — ведь и рыцарям подчас хочется пошутить, — когда прикидывается дураком — кто же еще станет им прикидываться? — но чаще всего потому это делает, что мучится сам с собой: ему-то не нравятся сшитые им пиджаки, а сказать об этом он не решается, уж лучше выставить себя на посмешище и утешиться тем, что люди будут судачить не о его пиджаках, а о том, что он отмочил глупость. И они скажут: «Вчера здесь был один мастер и порол такую чушь, что мы прямо уснуть не могли, во сне и то гоготали». А мастер тогда спокойно уснет; ему даже приснится, что ремесло и впрямь золотое дно и что он, мастер, по меньшей мере сотню раз его уже видел, а захоти — имел бы давно кучу денег, не будь у него единственных штанов, а в тех штанах — дырявого кармана. И утром, когда он встанет, наденет штаны и ненароком сунет руку в карман, он вновь развеселится: черт подери, я-то думал вчера, что дурачу людей, а сейчас вижу, что я их вроде и не дурачил — ведь этот карман на самом деле дырявый, стало быть, во всем есть доля правды! Если сегодня придет кто, опять буду скоморошничать! Так-то, Имришко! Подправим дом, устроим свадьбу и на ней спляшем как следует. И стрельбу закатим, по крайности капсюлей достанем, а некому будет стрелять, так я и сам бабахну. Отправимся ли мы в костел пешком, на дрезине или на телегах — там видно будет. А пока за дело!
3
А в Церовую тем временем пригласили другого живописца. Он был несколько старше первого, приближался к шестидесяти, и, за что ни брался, все было для него нипочем.
Он обстоятельно оглядел костел, измерил шагами все, что можно было измерить шагами, потом улыбнулся священнику и сказал: — Отличная работа! Преподобный отец, во время воскресной мессы скажите прихожанам, что потребуется много молока, яиц и творогу. Пусть каждый принесет сколько сможет. Только незачем носить все сразу — это ни к чему. Главное, чтобы у нас всегда все под рукой было. Пока полностью распишем костел, много всего израсходуем, вы, пожалуй, и глазам своим не поверите. И вот еще что мне скажите, преподобный отец, кто вам делал этот алтарь?
— Оришек, — ответил священник.
Живописец обрадовался: — Оришек? Отлично! Оришек — лучший алтарный мастер.
Священник удивился, что живописцу известен мастер Оришек, и, возможно даже, немного обрадовался, но тут же вновь погрустнел. Мастер, заметив это, спросил: — В чем дело? Или вам не очень-то повезло с Оришеком?
— И повезло и не повезло.
— Не понимаю. Жалко, что вы со мной не посоветовались. Я бы даже мог сходить туда вместе с вами, алтарный мастер Оришек — моя правая рука, а я — его.
Немного потолковали об Оришеке. Перебрали всю его семью. Хвалили жену Оришека и дочку, что прошлой осенью вышла замуж за банковского чиновника, хвалили и сыновей, особенно младшего — тот был из всех самым толковым. Оришек-младший был большой искусник по части ангелов, но при надобности мог вырезать и Иуду и черта.
Священник грустно вздохнул и сказал: — Жалко, на фронт взяли.
— Кого? Оришека? — Живописец глаза вылупил. — Что я слышу? Не будь вы священником, я бы и не поверил такой вести. Это вы о младшем говорите?
— О младшем.
Живописец покачал головой: — Это ужасно! Первый раз слышу, чтобы такого мастера богомаза угнали на фронт! Какая глупость, какая бессмыслица! Честное слово, уму непостижимо. Что, не могли вместо него какого мерзавца и лоботряса взять? Ведь он совсем недавно выучился на резчика. Подумайте, им только его недоставало. Именно его им надо было погнать в самое пекло. Какого ангелочка он мне за один вечер вырезал — я ему десятку дал, хотя он был тогда совсем мальчонкой. Мальчонка, а уже на жизнь зарабатывал. Золотые у него были руки. Это у него дар божий. Был мастером еще раньше, чем выучился. Святой отец, я покажу вам этого ангелочка. Увидите, какая прелестная вещица. А до чего на этого мальчонку похож! Как две капли воды. Ну а дальше что? Что сказал Оришек? Не показал вам каких-нибудь уже готовых ангелов? Ангелов, думаю, у него целый воз, а то и два. Ведь этот парнишка буквально помешался на ангелах.
— Нет, те ангелы мне не поправились.
— Не понравились? Да возможно ли? Мой бы вам определенно понравился. Он сделал его за один-единый вечер. Я вам, пожалуй, нарисую такого же.
Священник весело улыбнулся: «Да, этот поречистее первого, кажется, и поглупее к тому же. В конце концов он мне тут все ангелами размалюет».
— Преподобный отец, — подмигнул живописец священнику, — кое в чем вам откроюсь: и мне не все нравится. В первую мировую попал я в Италию — сколько же там картин, какие знаменитые памятники! Раз пришли мы в один дворец — дело было в Северной Италии, а в Италии, сами знаете, за́мкам и дворцам счету нет, — осматриваем ценные картины, ковры, и вдруг командир нас спрашивает: «Ребята! А что бы вы дали за такую мозаику?» Мы все думаем, хмыкаем, но никто ничего не дает. Командир и говорит: «Миллион и то мало!» Итальянец, тамошний человек, стоит возле командира и головой кивает — миллион, он и для итальянца миллион. С миллионом на всех языках столкуешься. Да вот какой миллион? Картина есть картина, у нее своя стоимость, это знает любой ученик, хоть художника, хоть маляра — ведь как только взял кисть в руку, тут же получил от мастера пинок в зад. Но что такое мозаика? Она и на картину-то не похожа. А ну-ка, думаю, погляжу я на этот миллион. Ушли все, а когда были уже далеко, вытащил я штык да и колупнул миллион, и представляете, что это было? Обыкновенный камешек. Даже не знаю, куда его дел. — Он добродушно улыбнулся, а заметив, что и священник смеется, развеселился еще больше. Рад был, что у священника улучшилось настроение.
— Преподобный отец, — продолжал размышлять он, — нельзя поддаваться на удочку художников. Фантазия у человека может быть, но кто хочет сделать что-нибудь путное, кто хочет создать настоящее искусство, тому талант нужен — без таланта вообще пропадешь. Фантазировать может каждый. И убийца может фантазировать. А попробуйте-ка скажите кому-нибудь — пусть-ка нарисует вам какого убийцу или Иуду. А вот я могу все: и убийцу и Иуду, и пастуха и овец, и ангелов и Иисуса Христа, и траву и пруд, а возле пруда аиста, небо и путь, могу даже Млечный Путь нарисовать вам. А как-то раз изобразил я Гитлера, но лучше об этом никому не рассказывайте! Потому что картина эта называлась «Тайная вечеря». Если бы кто заметил Гитлера на тайной вечере, мог бы и возмутиться. Больше всего люблю рисовать рождество.
— Правда?
— Правда. Вы откуда, преподобный отец?
— Я из-под Лученца.
— Из-под Лученца? Там я еще не был. Еще не рисовал там. А вообще-то мне все равно. Суну ангела и на Оравщине и в Копанице, и в Трнаве и в Микулаше, ведь я рисую и для лютеран и для католиков. Преподобный отец, — он опять улыбнулся священнику и уж было хотел раскрыть чемоданчик, в котором находились краски и бумага, — а вас рисовать будем?
— Нет, лучше не надо. Может, потом как-нибудь.
Живописец тараторил без умолку. Священник, измученный вконец, думал: «Вот идиот! Явно — шевелит руками ловчее, нежели мозгами. Ум подменяет проворством. Самый настоящий придурок! Любопытно, что он еще выкинет. Пока, правда, он еще ничего себе не позволил. Но чем-то он мне нравится. В своей глупости человек не волен. А тот был слишком заумный. Знал больше, чем надо, но все толковал об одном и том же. Бубнил да бубнил. Или, может, я ошибаюсь? Что требовать от человека, который видит вокруг себя то, чего нет, вдали видит даль и боится, что найдет в ней только то, что уже нашел вблизи? Посмотрит на небо — дыра! Что с того, что она кажется голубой? Разве набьешь или замажешь ее чем-нибудь? Глиной или грязью? Тот меня совсем заморочил. Все голубой да голубой. Нехристь! А за голубым что? Этого он уже не знал». — Послушайте, а вы могли бы нарисовать радугу?
Живописец дернул плечом. — А что тут особенного? В два счета и радугу нарисую. Если хотите, добавлю и ангела. Будет похож на Оришека-младшего.
«Этот все может! Радуга и то ему нипочем. Глуп как баран, оттого такой смелый».
Живописец раскрыл чемоданчик, порылся в нем.
«Тот хотел радугой только надышаться, — продолжал размышлять священник, — но ему все время что-то мешало. Хотел убежать и не знал куда, и близким и далеким гнушался равно. Но почему он твердил про голубой? Может, я его раззадорил? Его неотступно преследовала земля, и он не мог, стоя на ней, сотворить ангела. Что, собственно, он хотел? Уйти? Остаться? Куда уйти, где остаться, если между близким и далеким не видел никакой разницы? Куда бы я ни пришел, я буду уже там, и вновь для меня что-то иное станет далеким, и вновь я спрошу себя: «Куда же теперь? Может, еще дальше?» Или спрашивать надо позже? А почему позже? Ведь я уже теперь не знаю, где я. Бежать от праха и вновь найти прах, то есть к праху вернуться? Откуда? Откуда и куда? Один или не один? Один. И не один. Куда, боже, куда же? И найду ли то, что ищу? И когда, господи?! Потом? Только потом? Почему только потом?
Далеко — это все дальше, но и вспять — это далеко. Только прах близок к праху, хотя он и дальше, и вспять, и далее дальнего, и далее, чем вспять, только прах спокон веку близок к праху, хотя прах от праха дальше всего…»
4
Возни с гульдановским домом оказалось куда больше, чем полагали сначала. Но мастер и Имро не испугались работы. Правда, Имро немного тревожился и все пересчитывал дни: сколько еще осталось до свадьбы? Успеем ли? Не успеем? А ну как не успеем?
Мастер его неустанно подбадривал: — Не бойся, Имришко! Скажи спасибо, что мы за дело взялись! А уж коли взялись, подправим все как положено, по крайней мере надолго успокоимся.
— Пусть так, тата. Только бы ничего не стряслось! Только бы ненароком где-нибудь не застопорило!
— Да что может стрястись? Не будь ребенком, Имро, прошу тебя! Все у нас ладится, кирпич есть, даже с избытком, столько, пожалуй, и не понадобится. И в работе толк знаем, так чего ты запугиваешь? А случись что, можем кликнуть на помощь Якуба с Ондро. Хочешь, можем им написать. Не то позвонить сегодня же вечером.
— Лучше не надо. — Имро опять возразил. — Не надо звать их. Знаешь ведь, каковы дела, как часто мы зовем их, а потом жены их сердятся: вечно мы, мол, теребим Ондро и Якуба.
— Как это теребим? Когда мы их теребили? Нешто я боюсь их? Ты мне такое даже не говори, Имро! Я что, не могу своим сыновьям позвонить?! А в общем, как знаешь. Ежели полагаешь, что не надо звать их, пусть будет по-твоему. Без них управимся.
Они разворотили дом, да так основательно, что сами испугались: свадьба-то уж на пороге, а у них работы — непочатый край. Ну и бегом звонить! Но они опоздали: у Ондрея с Якубом нашлось какое-то срочное дело, от которого никак нельзя было отвертеться.
— Черт побери! — вскипел Имро. — Ну и заварили мы кашу! В хорошую историю влипли!
— И то сказать. Надо было раньше звонить, Имришко, или обратиться к кому чужому. Можно было и кого другого кликнуть на помощь. А теперь нам уже никто не поможет — кладку-то мы и сами вытянули, да еще поднатужимся, а вот что сохнет паршиво — это хуже всего! Видишь же, как сохнет. Хоть и управились бы кое-как, сырые стены все равно не оштукатуришь, не выбелишь.
— А все ты, тата, выдумал! Я с самого начала знал, что так получится. Не послушай я тебя…
— А ты послушал, да? Как это послушал? В конце концов я еще и виноват буду?! Кто идти звонить не хотел?
— При чем тут — звонить? Зачем ты это затеял? Разве нельзя было подождать немного? Нельзя было покуролесить с домом уже после свадьбы?
— Что ж теперь, драться, а? Ну давай! Кто же знал, что Ондро с Якубом подкузьмят нас? Отложим свадьбу на неделю-другую…
— На какую неделю-другую? Ведь начнется рождественский пост.
— Чертовщина! Про пост-то я и забыл! Понимаешь, начисто забыл про него.
До полудня они переругивались. Но между тем нет-нет да и советовались: раздумывали, не устроить ли свадьбу только в невестином доме. — И это бы можно, — рассуждал мастер, — а все же было б не то. Ни шатко ни валко. И люди бы говорили: ну вот, сперва хорохорились, пофорсить вздумали, а теперь все на невесту спихнули, а может, оно и нарочно. Большие мастера-де, а с собственным домом управиться не смогли, вот и радей, невеста! Да, жалко, мы не позвонили тогда!
— Прошу тебя, тата, кончай с этим. Не то по-настоящему рассержусь!
— Хо-хо! «Рассержусь!» Сердись, ну сердись! Чего передо мной заносишься? Думаешь, я не умею сердиться?
Они сердились друг на друга какое-то время, молчали, а потом мастеру пришла в голову удачная мысль: — Слышь, Имро, что скажешь, кабы на рождество?
— Тата, разве это серьезный разговор? — Мысль эта не показалась Имро особо удачной: — Ведь Вильма меня обсмеет, а то и разговаривать со мной не захочет.
Мастер, усмехнувшись, сказал: — Она рада-радехонька, что ты берешь ее в жены. Или ты не Гульдан?
Но под конец они все же поладили. А что было делать? Сошлись на предложении мастера. — Только как теперь Вильме об этом сказать? — переживал Имро.
— Вильма — не вопрос, — успокаивал его мастер, — она все нам простит, все поймет, а вот к старой уж придется подмазаться, та не такая понятливая, а заговорит, жало у нее злей, чем у шершня. Но все ерунда! Не бойся, Имро! Осенние свадьбы все равно не стоят выеденного яйца. Как хлынет дождь, у невесты намокнет фата и болтается за спиной, чисто онуча. Еще и невеста у нас, глядишь, простынет! Подождем-ка лучше до рождества, до той поры, может, распишут и церовский храм…
— Ты опять, тата, заводишься с этим храмом?
— Виноват, Имро, виноват! Я ничего не сказал! Церовая ли, Околичное, мастерам на это дело начхать. Правда, и зима иной раз лютует, но свадебникам — море по колено. Дружка высунет нос, хоть он у него и сопливый, и знай визжит, визжит, а следом и остальные глотки надсаживают, галдят, гомонят наперебой с метелью. Старший свадебник протискивается вперед — спешит предупредить свадьбу, что перед костелом надобно вытереть нос…
5
Работа у живописца продвигалась медленно. Он делал все, что мог, и мог бы сделать еще больше, кабы священник ему не мешал. О каждой пустяковине они подолгу судили-рядили, а когда наконец что-то делалось, судили-рядили о том, как бы сделать это иначе. Живописец уже несколько раз порывался сказать в открытую: «Я пришел сюда не спорить с вами, а расписывать». Однако решил лучше помалкивать, не то наверняка дело дошло бы до ссоры и ему пришлось бы — волей-неволей — собирать пожитки. И все-таки раз, а может, два у него чуть было не вырвалось: «Честь имею, преподобный отец, расписывайте сами! Я без работы не останусь». Иная горячая голова так бы и поступила. Да и менее горячая поступает порой опрометчиво. По счастью, был там причетник и в острую минуту вмешался: — Взгляните-ка, сколько яиц мы тут понабили, пожалуй, столько и не понадобится.
Живописец решил сделать свод над алтарем желтым, но священник сказал, что желтый цвет вреден для глаз и потому лучше бы его заменить.
— Как заменить? — удивился живописец. — Ведь мы уже сошлись на нем. — И стал объяснять, что желтый, собственно, не останется желтым — на нем будет рождество.
Священник не согласился. — Почему рождеству быть именно на желтом?
«Ну куда-нибудь я же должен сунуть его!» — Начну с коричневого, — предложил живописец, — и подбавлю в него золото.
Священник на коричневый согласился, но о золоте и слышать не пожелал.
— Да я его много не дам, — обещал живописец, а в голове у него вертелось: «Какое же это будет рождество, если золота мало?» — Мазну его только Гашпару и немного ангелам на крылья. Но что потом делать с Иисусом?
Вопрос обронил живописец скорей для себя, но им задался и священник, с минуту подумав, он спросил: — Разве для Иисуса важно было золото?
Причетник стоял рядом, с любопытством прислушиваясь, чем же кончится разговор. Хотел было поторопить их, но вопрос священника его озадачил. Он ненадолго задумался. А потом вдруг обрадовался, что тоже может вставить словечко. — Пан священник, ведь и с ангелами не так-то просто. Иисус будет ежиться в яслях, а ангел над ним посверкивать крыльями — какой прок иззябшему Иисусу от этого?
Священник улыбнулся: «Ну-ну, и пан причетник пустился в размышления!»
Живописец поскреб в голове. — Сбили вы меня с толку.
Причетник, ободренный улыбкой священника, продолжал:
— Если Иисус и впрямь должен быть бедным Иисусом, зачем же к нему тянуть ангела? Разве только затем, чтоб он там выставлялся, а Иосиф с Марией видели, насколько ангел ярче блистает и краше поет, чем Иисус? Пастухи будто бы принесли ягненка… а мне сомнительно, принесли ли они его на самом деле! Может, кто-то поднес Марии черпак молока или незаметно сунул в руку Иосифу кусок творогу. Ничего путного, конечно, им не дарили — когда потом Иосиф с Марией и Иисусом убегали на осле в Египет, у них не было с собой никакого добра. По крайней мере, думается, не было. Да и что могли они на осле увезти? Бедному человеку достанет и воробья, ему весело — по крайности есть кому рядом чирикать! Начнут дети клянчить поесть, тут им и скажут: гляньте-ка, какой миленький воробушек! А вообще-то, между нами, пением сыт не будешь! Один жалкий пастух в Вифлееме значил больше, чем десять, а то и целое полчище ликующих ангелов. Бедный, уж коли нет иного выхода, всегда попросит у бедного! Вряд ли станет он просить у Гашпара! Ну да, Гашпар же держит золото! Кто гоняется за золотом, должен стоять навытяжку перед ним…
— А думаете, не стоят? — спросил священник. — О-хо-хо, сколько таких шатается нынче по Вифлеему.
— Хорош Вифлеем! — возмутился живописец.
— Пан священник, я уже знаю, — сказал причетник. — В яслях вместо Иисуса развалился Гашпар, а вокруг него прыгает тьма всяких Гашпариков и Гашпарчиков.
— Хороши ясли, хорош Иисус! — возмутился живописец.
А причетник изрек: — Поистине оно так!
— Мелихар сует ему под нос ладан, — продолжал священник.
— Хорош Мелихар! — возмутился живописец. А причетник изрек: — Поистине оно так!
— Балтазар выковыривает грязь у него между пальцами, — с отвращением сказал священник.
— Хорош Балтазар! — Живописец сплюнул на землю.
А причетник изрек: — Поистине оно так!
— Просто спятить можно! — вертел головой живописец. — О каком Вифлееме вы говорите?
— А разве мало Вифлеемов вы видели? — спросил священник.
— Видел, видел. Только ваш совершенно другой.
— Слышите? — повернулся священник к причетнику. — Другой, мол! А кто хотел размалевать золотом Вифлеем? — Тут он запнулся — ему вдруг показалось, что за него говорит чей-то чужой, не его голос. Неужто нашептывает ему тот, первый художник?
Слово взял причетник. Он сказал: — Я бы нарисовал Гашпара так, будто он подлизывается к Иисусу. Ведь не Иисусу нужен был Гашпар, а Гашпару Иисус, в нем он видел большего Гашпара, нежели сам, вот он и решил купить его золотом. — Причетник говорил, а священник время от времени подбадривал его словом.
— Если бы Гашпар хотел быть благодетелем, он золото мог бы дома раздать или еще где-нибудь — разве не встречал он дома или на богомолье полчища нищих, немощных, хромых, глухих, слепых, немых, прокаженных старцев, толпы голодных детей, своры обезумевших от голода воров, скопища смердящей, завшивленной голытьбы? А он спешил на край света за какой-то кометой, которую заметили и двое других мудрецов, они знали, что она сияет всем, а стало быть, и бродягам; и вот бродяг-то и надо было опередить — так живей, живей в Вифлеем: на, малыш, получай золото, ладан и миро! И смотри помни о нас!
Священник счел нужным уточнить, что дары трех волхвов надобно понимать лишь символически.
Но причетник уже оседлал своего конька: — Знаю, знаю, — сказал он. — Но где символ, там кроется и нечто другое. Уж будто я не понимаю! Напридумывают всяких знаков и значков, и люди сразу же начинают губить друг друга. Бедноте только символ и показывают. Но ведь за символом стоит и кое-что посущественнее. Нынешний человек не так глуп, чтобы не знать, ради чего люди гибнут. Толкуют о войне, либо о том, что, мол, то се есть свобода. Гони деньгу и не болтай, либо позволь и мне поболтать, а уж другой свободы мне и не требуется. Только не так оно. Мало того, что человек помалкивает, он еще и прохвостов должен выслушивать, и ремень на себе затягивать. Если плохо, то, выходит, оттого, что мы все были плохие, и всему виной наша общая промашка. Да ведь меня-то ты не спрашивал, до сих пор считал, что свобода и порядок — дело твоей только глотки, вот, стало быть, ты и защищай их, защищай или вновь завоюй! Знай, толкуют: люди, мол, себялюбы или как там еще?! Я-то всегда был себялюбом, мне и моим малышам всегда было лихо, а теперь, когда ты уже наболтался, может, и тебе похужело или потом похужеет — так как, по-твоему, мне не надо быть себялюбом? А ты предложи мне не какую-нибудь аризацию или то, что ты у кого-то из рук или из глотки выцарапал, ты дай из того, что ты собственным умом и усердием нажил, вот тогда мы и поговорим, кто какой себялюб…
Долго бы еще говорил причетник, да живописец прервал его.
— Послушайте, люди добрые, ведь я пришел сюда рисовать. Пан священник, какие небеса будем делать?
Священнику показалось, что причетник, прерванный на полуслове, немного обиделся. Поэтому он обратился к нему:
— Как вы посоветуете, пан причетник?
— А что я могу посоветовать? — сникнув, сказал причетник. — Стоит поволноваться, и сразу же теряешь дар речи. Мы вроде говорили, что там будут ясли.
— Добро, поместим их, стало быть, там.
— А что с этими лоботрясами? — спросил живописец.
— Нарисуем и их!
— Что ж, можно. А насчет золота не беспокойтесь, буду беречь его. Мазну только Гашпару. Пастухов тоже дать?
— А без них разве дело? — вмешался причетник. — Дайте там и овцу, и какого-нибудь козленка!
— Положитесь на меня! Я уже вижу там и овчара. А как насчет вола?
— Что? — спросил священник.
— К волу добавить осла, — сказал причетник. — А иначе-то как? Вифлеем так Вифлеем.
— И кузнеца дать?
— Что ж, он там вполне кстати.
— И я так думаю, — сказал причетник. — Пусть это будет какой-нибудь цыган — цыгане, известное дело, все кузнецы. Видел я однажды мальчонку — совсем маленького цыганенка, а он уже сидел у костра и держал в руке проволоку, небось учился ковать. А мать его на голой ляжке тесто месила и бросала в горшок с водой шулянчики — палочки такие, вроде галушек. Словом, нарисовать бы это где-нибудь сбоку, да так изобразить, будто все в сумерках происходит. Да чтоб дождь слегка моросил.
— Пан священник, это можно там нарисовать? — спросил живописец.
— Можно, только чуть в сторонке.
— Ну а вообще-то я на детей скупиться не буду, — сказал живописец. — Пусть они там копошатся. Вот увидите, пан причетник, вам тоже понравится.
Причетник: — То-то же!
— Да, на детей скупиться не надо! — согласился и священник.
— А с Иродом как быть? — спросил живописец.
— Мазните там и этого борова! — выпалил причетник.
А священник:
— Зачем уж так сплеча? Тут надо подумать.
Художник сказал: — Пожалуй, я не стану его там рисовать.
— Жалко! — посетовал причетник. — Тогда хоть солдат, — предложил он взамен.
И священник тут же: — Без них не обойтись!
— Очень я их люблю, — признался художник. — Воткну туда и Оришека-младшего, что ушел на фронт. Будет так это позвякивать. В одной руке ангелок, в другой граната.
— Сразу видать, вы художник, — похвалил его священник. — Вот и ангел у нас уже есть.
— И музыкантов нарисую, — торопился художник. — Хоть целую роту. По крайней мере весело будет.
— Живо их туда!
— А каких-нибудь девиц? Чтобы они там прыгали!
— Пусть прыгают!
— И голубей дам! Хотя бы парочку! Воробьев я бы тоже добавил.
— Горлицу и воркуна! — предложил причетник. И в горле у него от радости заурчало и заворковало.
— Нарисую и радугу. Может, кто по ней и полазает. А вы по крайней мере увидите, что я могу ее изобразить.
— Изобразите ее там! А мы по крайней мере увидим.
Вдруг у живописца расширились и засверкали глаза. — Знаете что, пан священник? Уж коли у нас все так разрослось, а глядишь, еще разрастется, распишем Вифлеем на весь храм!
— Как хотите. Но постойте! Сперва решим, какой будет грунт?!
— В самом деле! — согласился и причетник. — Грунт — дело серьезное. Мы что, впустую эти яйца разбивали?! Моя жена, ежели иной раз мажет стены на дворе или на улице, так всегда только в голубой…
— Коне-ечно! — подпел священник на тирольский манер — у него срывался голос. — Наконец-то у нас есть и грунт, и Вифлеем!
Художник не возражал: — Что ж, может быть, и голубой, может быть. По крайней мере Вифлеем будет ярче выделяться. А где поместим ясли?
Священник задумался. Вместо него ответил причетник.
— Мы же говорили, что они будут над алтарем.
— Хорошо. Там они у нас и были. Пан священник, а младенец? Младенец Иисус будет в сорочке или без?
— В яслях будет одна сорочка.
Причетник удивился: — Вы сказали — одна сорочка?
— А Иисус? — спросил художник.
— Иисус? — улыбнулся священник. — Думаете, люди не знают, где его искать надо? Люди отлично знают, для кого сорочка и как тяжело быть Иисусом…
6
Свадьбу сыграли на Штефана[31]. Венчались в Околичном. С церовским костелом дело не выгорело по многим причинам, и прежде всего по той, что живописец решил работу прервать — стало подмораживать, и роспись на стены плохо ложилась. И краски были никудышные — как только похолодало, куры перестали нестись, и краски не на чем было замешивать. Правда, церовчане готовились к зиме еще с лета, откладывая иной раз какое яичко, но живописец эти яйца все хулил да хулил, говорил даже, что среди них попадаются болтуны. В конце концов он все так и бросил, сказав, что с росписью придется подождать до весны.
Имро ни за что не хотел откладывать свадьбу. Да и чему удивляться? В самом деле, было бы просто смешно! Разве он недостаточно ее откладывал? Зато уж свадьба удалась на славу. Вся деревня была на ногах. Мастер нагнал музыкантов — целый полк. Мечтал затащить и того, что играл на Якубовой и Ондровой свадьбе, да только ищи ветра в поле! Цыгане ему не советовали даже и пробовать, дело, мол, пустое, контрабасист тот — военный музыкант, профессионал, играет на всех инструментах, и тогда только помогал им, а нынче на него и рассчитывать нечего — его отозвали куда-то.
— Чуете, какой талант был, — расхваливал своего соплеменника первый скрипач. — Такого парня и впрямь трудно сыскать. Мне самому он нравился. Держит в руках контрабас — так это контрабас, берет в руки альт — так уж это всем альтам альт! Спрашиваю раз его: «Слышь, братец, скажи хоть, где и когда ты так играть научился? Поделись хоть, кто на альте-то тебя выучил?» А как-то раз шел он с одним оркестриком, с эдакими прохвостами, все они, собаки, нос воротили от саксофона, ей-ей, все нос воротили. А потом?! Мать честная! Как заиграл этот парень на нем, слышите, как заиграл — да разве словами-то об этом расскажешь, разве расскажешь! Аромат кругом стоял, ей-богу, аромат стоял! Каждый звук благоухал! А людей собралось! Сколько волос у меня на голове. Да, большой человек, большой музыкант! И цыган к тому же, скажите пожалуйста! У меня слезы на глаза навернулись, ей-богу, слезы на глаза навернулись. Попробуйте-ка найдите среди ваших такого ловкого гада! Мне и самому-то досадно, что его отозвали, что такого стервеца уже нет среди нас. Но я знаю, что делать, знаю. Позовем Трчко, а это дьявол еще похлеще — он из самого Виштука, а вы, мил человек, должно быть, хорошо понимаете, что из такой-то дали первого встречного не позовешь. Да вот захочет ли он прийти, придет ли?
— Должен прийти, — хорохорился мастер. — Я заплачу, не беспокойтесь, хорошо заплачу.
— Знаю, что заплатите, ясно дело, заплатите, только кто ж такого человека заставит? Кто такого большого человека может заставить?
— Ну позовите его! — настаивал мастер. — Я и вправду хочу, чтоб он был. Либо тот, либо этот.
— Либо тот, либо этот?! Да они одинаковые. Один лучше другого, а другой еще лучше первого. А когда они вместе, то одинаковые.
— Если хотите, я сам к нему схожу.
— А зачем? Ну посудите, мил человек, зачем вам беспокоиться? Думаете, он вас послушает? Думаете, его деньги прельстят? Эх-ма, да вы, выходит, Трчко не знаете! Скажите, когда какого цыгана деньги прельщали? Вот есть они у меня, а вот и нету их. А за мои уши, за мои пальцы, ну скажите на милость, за мои-то цыганские уши и ловкие пальцы кто мне заплатит? Так-то вот! Но Трчко я для вас позову, ей-ей, позову! Вас не послушает, а меня послушает, захочу, придет сыграть мне и задаром — ведь сколько бы вы ему ни заплатили, даже если б и хорошо заплатили, все равно это будет всего лишь милостыня. Да, настоящий человек! Большой человек, а уж как играет, стервец, сами увидите!
И мастер увидел, Трчко был и впрямь музыкантом отличным, ловко вертелся у контрабаса, но мастеру все же казалось, что тот, игравший на Якубовой и Ондровой свадьбе, был чем-то лучше или по крайней мере занятней. Заметив, что Гульдан вроде бы не очень доволен, первый скрипач эдак около полуночи (может, ему шепнул кто?), подмигнув украдкой товарищам, подошел к мастеру и стал ему наяривать в самое ухо. Карчимарчик первым подхватил песню, вскоре его пенье привлекло и Якуба и Ондро, и даже жених, покинув невесту, потащил за собой Штефана, Агнешкиного мужа, одетого в жандармскую форму. Окружив мастера, они затянули его любимую:
В Новых Замках Трубы протрубили: Музыка играла — Молодца убили! Он совсем не думал, Молодой, пригожий, Что в сырую землю Кости свои сложит.Мастер сперва слушал, а потом и сам вступил. И тогда Ондро сказал остальным: — Пускай один отец поет!
Все стихли. А мастер запел:
Когда бы отгадать судьбу свою умел, Он под Трнавой дома бы сидел, А он на дом глядел издалека — Убили в Новых Замках паренька.Потом еще выпили; понемножку все время что-то тянули. А когда же, как не на свадьбе, мужчинам положено выпить? И Имро пропустил не одну рюмочку. И не то чтобы упился, а на радостях все прыгал, скакал — душа ликовала, глядя на него. Жених, правда, редко когда с невестой сравнится — это может подтвердить вам и автор этих строк, исходя из собственного опыта, да и сам ты, любезный читатель. Невеста действительно была хороша, до того хороша, что лучше, наверно, и не бывает. А ты помнишь, дорогая читательница? Ведь когда ты выходила замуж, все было точно так же.
А на рассвете гулянье было в самом разгаре. Эх, многое я бы мог рассказать! Но я решил: буду краток. Да и о том, о чем говорилось до сих пор, можно было бы сказать короче — пожалуй, двух-трех фраз бы хватило, а то еще подумают, что все, о чем я умолчал, было неинтересным. Как бы не так! Вильмину мать, к примеру, мы совсем не вспомнили. А жаль, честное слово, жаль! Можно бы и о Вильмином отце немного поговорить, посудачить, что он да где он, и тут же подпустить чего-нибудь душещипательного о Вильме — кой-кого, возможно, и проймет. Чувствительный читатель, наверно, отложил бы в сторону книгу и завздыхал бы: «Ну и пишет, ну и пишет — вот уж умеет взять за живое!» А потом, возможно, поумерит свой восторг и скажет: «Что ж, вполне терпимо, местами даже сойдет. Жаль только подчас недостает дыхания».
А литературный критик: «Какое дыхание! Никакого дыхания-то и не было! С самого начала одна стрекотня. Хотел роман написать, но чего-то там не хватает. Не хватает самого главного, ибо роман…
. . . . . . . . . . . .
Ну как, довольно?
Если тебе охота, читатель, можешь и сам писать на полях. Взгляни, сколько места я для тебя оставил. Эта сто пятьдесят четвертая страница и твоя будет. Пиши, дружище, пиши! Пиши о том, чего тебе не хватает, пиши обо всем, что у тебя на душе! Ведь о том у нас разговор! А я буду тем временем продолжать.
СОЛНЕЧНЫЕ ЧАСЫ
1
Вильма перебралась к Гульданам. Она быстро там освоилась и даже не почувствовала, что жизнь ее после свадьбы как-то значительно изменилась. Многие женщины воображают себе, что замужество сыграет в их жизни прямо-таки роковую роль, но Вильма не ждала такой перемены. Ей и прежняя ее жизнь казалась прекрасной и интересной, а с замужеством она и не думала ничем поступаться, напротив, считала даже, что все доброе и замечательное будет только умножаться. Примерно так ей все представлялось.
С Имро жили они душа в душу, да и мастер с ней ладил. Мать Вильмы осталась одна, но к ней обещала переехать Агнешка. По счастью, и Вильма обреталась неподалеку от матери и при желании всегда могла забежать к ней.
— Нешто дел мало у Гульданов? — высмеивала ее мать. — Или, верно, боишься старого Гульдана.
— Чего мне бояться! Сходи сама погляди, — поддразнивала ее Вильма. — Вот уж они заудивляются!
— Чего я там не видала? Не я же выходила замуж. Тебе у них привыкать.
— Я давно уж привыкла.
— А что ты стряпала?
— Отгадай!
— Больно надо! Сама скажешь.
— А я и не знаю. Вроде бы картофельную похлебку. Ох и наелись они!
— Гляди, а то начнут тебя оговаривать!
— А за что, скажи?! Я все перемыла, а теперь… пришла узнать, не нужно ли тебе случайно чего.
— А чего мне может быть нужно? С работой сама управляюсь. Я тоже вот прибралась, а теперь… Слышь! А детишки-то сюда все время таскаются. Дважды уж пришлось выпроваживать. Отослала их к тебе.
— А, так это ты их ко мне посылаешь? Ну видишь, какая ты, мама? А я-то никак не пойму, отчего их сразу столько набежало. Знаешь, как у меня голова нынче болела?
— Думаешь, у меня не болела? Как заявятся к тебе, ты их назад сюда отсылай! Замкну ворота, пускай бухают сколько влезет. И нынче хотела затворить, да вспомнила, что, может, почтальонша придет…
— В самом деле… а она не заходила? Я как раз собиралась спросить.
— Нынче не была. Но Агнешка уже отписала мне. Вот потеплеет, она тут же сюда и переберется. Там ей вроде не нравится. Покуда Главное жандармское управление было в Братиславе, еще куда ни шло, а теперь она все больше тревожится, никак к северянам не может привыкнуть. Штефан хочет писать прошение, чтобы его перевели сюда из Штубнианских Теплиц, а переедут, увидишь, еще позавидуешь. Перекопаем сад… Любо-мило они здесь заживут.
— Я знаю, ты Агнешку больше любишь.
— Конечно. А ты сама подумай, Вильма, какой у тебя звонкий голос. Хорошо, что я теперь не слышу его. Ей-богу. А они как? Не покрикивают на тебя?
— Кто? Гульданы? Пусть только попробуют! А я уже разок попробовала. Жалко, ты не слыхала! Как же я на них накричала!
— Ты что, спятила?
— Чего это спятила? Ты же не знаешь, что я им сказала. Курить запретила в горнице.
— Вот глупая! Такое-то дело запрещать? Да пускай дымят. Ты думаешь, отец не курил?
— Кому ж охота смрадом дышать? Да и не проветришь. Пускай дымят на дворе либо в кухне. Старый, думаю, меня даже побаивается. Я на него так цыкнула! Бедняга, потом мне его даже жалко стало!
— И мне их, право, жалко. О-ох, и раскусят они тебя! Поймут, кого в дом взяли!
2
О Штефке Имро напрочь забыл. Но судьбе было угодно, чтобы он снова с ней встретился. Как-то в середине мая — конечно, ничего б не случилось, скажи мы, что это было в самом конце, поскольку вполне вероятно, что это было даже в начале июня, — пожаловал к мастеру Киринович и уже с улицы закричал, что ему очень некогда.
Гульдан подумал: «Зачем же сюда прешь?» Потом натянул на лицо приветливую улыбку и сказал: — Ну не шуми, не шуми! Еще порога не переступил, а уж торопишься и кричишь.
Из кухонной двери выглянула, вернее, только собралась выглянуть Вильма, но, заслышав гостя, быстро юркнула назад.
Киринович с мастером поболтали немного о том о сем, а потом управитель выпалил, что ему в имении надобен новый сарай для мелкой хозяйственной утвари.
— Такой сарай в два счета сколотим, — заявил мастер. — У нас нынче не очень много работы. Народ боится, особо отстраиваться не хочет. Собери материалу, мы с Имришко придем и дня за два — за три сарай тебе и отгрохаем.
Управитель порадовался, что они так быстро столковались, но пожелал еще кое-что уточнить, обсудить: ему пришло в голову, что не худо бы и хлева подправить — некоторые и впрямь уже обветшали. Не заменят ли мастер с Имро бревна?
— Сарай сделаем, — сказал Гульдан, — а бревна сам заменяй, чихал я на них. Пускай батраки их сменяют. Я люблю чистую работу. С вонючими бревнами возиться не стану. Да и Имро на такую грязную работу не подобью.
— Да что ты! Я и не знал, что вы такие разборчивые. Говоришь, работы нету, а сам от бревен нос воротишь. От хлевов воняет, а свининки ты, наверно, поел бы! Свинина, по-твоему, не смердит, а?
— Мясо-то не смердит, — подтвердил мастер.
— Ну добро. — Управитель и не собирался с мастером пререкаться. — Поставим сарай, а бревна, глядишь, сменяем в другой раз. Когда же встретимся?
— В понедельник.
— В понедельник? Отлично! Отлично! Одно дело сделано — с плеч долой. — Управитель двумя пальцами погладил нос, потом вытер его и спросил: — Ну а вообще как?
— Вообще? — Мастер с любопытством поглядел на него и, немного подумав, нашел подходящий ответ? — А вообще-то никак.
— Имро дома? — спросил управитель.
— Нет. Только что куда-то подался.
Управитель огляделся, словно хотел отгадать, куда это Имро подался. И вдруг заметил: — Какой у вас замечательный двор!
Мастер окинул взглядом двор, а потом, одобрительно кивнув головой, сказал, что это все Вильмины старания. Ему хотелось сказать и больше, хотелось похвалить Вильму еще более добрыми, более лестными словами — ведь в самом деле невестка у него — одно удовольствие, работает, будто играет, все-то переделает, на все найдет время. Кто бы такое подумал о ней? Мало того, что нанесла во двор горшков с геранью и олеандрами и вскопала под окном клумбу, куда все время что-то подсаживает, она и стирает и стряпает отменно, любит чистоту и порядок, да и других достоинств у нее тьма. К тому же развеселая; любая безделица ее радует, например, чистый порог и то доставляет ей радость. С той поры как Вильма в доме, мастер с Имро боятся и ступить на порог, а она притопнет ногой по нему и все смеется, смеется, потому как уже наперед радуется, что снова надо будет его вытирать, если не сейчас, так вечером, чтобы и ночью было чистехонько — тогда в доме и сон лучше. В самом деле! С тех пор как Вильма тут, совсем по-другому спится у Гульданов.
Пока мастер взвешивал и выбирал слова, Киринович завел речь о кукурузе. Сказал, что в этом году велел засеять ее великое множество. Без малого в полтора раза больше, чем в прошлом или позапрошлом году. Киринович определял это в центнерах.
Мастер радостно кивал головой. И про себя думал: а как хорошо, что Вильма каждый вечер поливает и заметает двор, а то и на улицу выйдет — у ворот подметет. Потом быстро умоется, переоденется, а они с Имришко тем временем поспешают с работы, чтобы ей долго не ждать.
Покончив с кукурузой, управитель заговорил о кормовой репе и картофеле, затем, повысив голос, что-то толковал о пшенице, а там дошла очередь и до табака и раннего гороха, на который уже зарятся батраки, потому как все они мерзавцы и жулики и готовы все растаскать и продать, — А дерутся, — говорил он, — бог мой, как дерутся, что иной раз того и гляди до смерти зашибут друг друга! Вот и недавно, один налакался, а потом жену отдубасил, но той хоть поделом. А на другой день его лягнул жеребец. Ну я и ржал над ним.
— Над кем? Над жеребцом? — спросил мастер.
— Над тобой, — гоготнул Киринович. — Я бы их всех погнал на фронт.
Тут он подскочил к окну, прижался лицом к стеклу, но потом обнаружил, что окно лишь прикрыто. — Эй-ей! Эй-ей! — Он толкнул оконницу и просунулся в комнату по самый пояс — Выйди-ка! Выйди покажись! — Он завертел задом и в один миг был уже у дверей, загородив Вильме дорогу. — Хороша невестушка! — Похвалив Вильму, он ущипнул ее за щеку.
Мастер возмутился. — Ну-ну-ну! — заворчал он поднос, а когда и это не помогло, окликнул его уже громче: — Слышь, управитель! А материал на сарай-то имеется?
— Фу-фу-фу! — засопел Киринович и, повернувшись к мастеру, зареготал: — Кабы не было, я бы тебя и не звал. А молодуха хороша!
Смущенная Вильма предпочла бы вернуться в дом, да не осмелилась — еще подумают, что обиделась. Она вытащила из волос шпильку и, сунув ее в рот, поправила волосы. Попыталась улыбнуться. — Да у вас в доме тоже молодуха, — обронила она сквозь сжатые губы.
— А ты чего мне выкаешь? — спросил управитель и снова стиснул ей локоть.
Вильма взвизгнула.
— Чего визжишь? — осклабился управитель. Потом, довольный собой — вот, мол, н чужим женам знаю цену, — весело тряхнул головой, но тут же всплеснул руками: — Бог мой, да я же тороплюсь!
— Ну торопись, торопись! — обрадовался мастер. — Тебя никто здесь не держит.
— Так, значит, уговор?
— В понедельник утром в имении, — заверил его мастер.
3
В понедельник утром, часов в семь (для более придирчивых можно добавить еще и минуты), мастер с Имрихом отправились в имение.
Утро было свежее. Обремененная росой трава сверкала. Июньское солнце (допустим, это было все-таки в июне!) грело, отмеривая, если можно так выразиться, время. В действительности (ладно, пускай будет действительность) вращалась земля — тогда она и вправду превосходно вращалась, — и солнечные часы, которые пьяный батрак, обожающий точность, нарисовал на песке, обозначив на них ржаными зернами римские цифры, правильно показывали время; показывали бы, вероятно, и поныне, если бы давно не заросли травой, хотя могли зарасти и хлебом — да вот негодники воробьи склевали на часах циферблат. И куда только подевалось это время?
Воздух был перенасыщен незримыми парами. От сосняка, в котором встречались дубы, а там-сям белели березы, неслись густые запахи и птичий гомон. Иные птахи радостно и весело выпархивали из леса и долетали до самого имения, где и без того довольно было стрекотни и гомона, особенно у хлевов, вокруг которых шныряли ласточки. Прохладный смолистый запах мешался с запахом аммиака и парного молока. Пахло пшеничным кофе. В навозне посреди имения копошились, потакивая, утки. Под копытами лошадей и под колесами удалявшейся телеги скрипели камешки и шелестел песок. За телегой шагал опухший батрак с закровенелыми глазами, с кнутом в руке и переброшенной через плечо цепью: он в сердцах сплюнул, и следом гулко и протяжно, почти как из бочки, выкатилось из него: «Куда прешь, мать твою за ногу?!»
Прежде чем доложиться управителю, мастер с Имро остановились у груды теса, припасенного для сарая. Недолго покумекав, сложили там плотницкий инструмент и пошли к Кириновичу.
По пути они еще раз остановились, осмотрели сушильни для кукурузы: три — бегло, четвертую — повнимательней. — Вон ту, — мастер указал пальцем, — ставили мы с Якубом. Он еще учеником был.
Они обменялись короткими взглядами, будто намекая друг другу, что можно подступиться и ближе, можно и обойти сушильню и вблизи обстоятельно, как следует разглядеть Якуба-ученика.
Они так и сделали. Зашагали к сушильне, на которую мастер только что указывал пальцем и которая от остальных отличалась еще и тем, что в ней хранилось немного кукурузы — три другие были пустые; но сейчас дело было не в кукурузе, о ней они не думали, их занимал Якуб, что вырос из коротких штанишек и нынче, став мастером, уехал из дому, живет и работает где-то вдали от Околичного; и вот они, отец и младший брат, как бы видят Якуба здесь годы спустя, с улыбкой всматриваются в него, ухмыляются и удовлетворенно хмыкают, как уж умеют Гульданы хмыкать и ухмыляться, глядя на свою, да и на чужую справную работу.
Якуб-ученик им понравился. Они замедлили шаг, почти остановились: сперва один, потом другой. Кругом рос густой и высокий бурьян. Несло полынным духом, но угадывались и посторонние запахи; местами иной шибал в нос до того сильно, что было прямо-таки подозрительно. Тогда оба внимательно глядели под ноги, чтобы случайно не вляпаться во что-нибудь непотребное.
В бурьяне вдоль и поперек были протоптаны стежки; большинство из них вело в затененное пространство под сушильней. В конце одной такой стежки, в туннельчике, словно на конечной остановке, замаскированной молодыми, но уже буйно разросшимися лопухами, сидел на корточках пятилетний мальчонка с голубыми глазенками и облезлым носом. Доминко. Он справлял утреннюю нужду и слегка рассердился, что его потревожили. Он силился перемочь себя, сменить гнев на улыбку, и это отчасти ему удалось, но мастер с Имро прошли мимо, почти не обратив на него внимания. Тогда Доминко разозлился еще больше; он поднял голову, и его оскорбленный взгляд говорил: «Все равно знаю, вы меня видели».
Управителя дома не оказалось. Встретила их Штефка. Завидев их, она тотчас вскочила из-за стола, будто собралась бежать куда-то, спрятаться. — Вы уже пришли? — Впопыхах не знала, в какую сторону и податься. И оттого продолжала стоять, раскрасневшись пуще обычного и глядя на них большими черными глазами, в которых прыгала и посверкивала сперва испуганная или чуть стыдливая, а позже и плутовская улыбка. — Здравствуйте!
На ней была легкая летняя блузка и сборчатая юбка, она рассеянно и в то же время чуть озорно дергала ее за подол, словно пытаясь стащить с себя и отбросить. — Вот как я вырядилась! Ношу, чтоб доносить, — пояснила она, и в глазах у нее еще веселей запрыгали искорки; мастер с Имро не могли не только сердиться на нее, но даже упрекнуть в небережливости, хотя, пожалуй, это было б уместно: юбке было далеко до износу, особенно по нынешним военным временам, когда во многих семьях не хватало даже на хлеб, не то что на наряды. Не одна женщина в Церовой могла бы еще пощеголять в такой юбке. Да и Штефка в прошлом году в ней щеголяла. Ведь в Церовую довольно туго, медленно просачивалась мода. Церовчанки носили национальный костюм, до недавнего времени носила его и Штефка, но Киринович усмотрел в нем некоторую отсталость и потребовал, чтобы его жена одевалась по-городскому, поэтому мы с полным правом могли бы сказать, что в Штефкиной стыдливости проглядывало и его влияние.
— Уж вы только не осуждайте меня! — хихикала она.
— Зачем же! — Мастер улыбнулся и лихо, по-молодецки, тряхнул головой. — Да кто ж тебя, голубушка, осуждать станет? На тебя смотреть — одно удовольствие. Похорошела-то как. Замужество пошло тебе на пользу.
Штефка была польщена, оттого мастер и дальше стал рассыпаться в любезностях и даже божиться: — Право слово, похорошела! Ей-богу! Сразу видать. Ну-ка, Имришко, подтверди.
Имро был согласен с отцом, но второпях не нашел подходящего слова, поэтому ограничился улыбкой и сказал: — Хм-хм! — Прозвучало это как обычное хмыканье, но Имро заменил им по меньшей мере шесть, а то и семь слов. Мастер со Штефкой так это и восприняли, сделав вид, что все семь, а может, и восемь Имровых слов поняли.
Минуту-другую побалагурили, затем мастер спросил об управляющем: — А Йожко? Йожко где?
— Ушел.
— Ушел? — Мастер удивился. — А куда? Отчего нас не дождался? — Дважды хмыкнув, он стал сердиться, поминая управляющего отборными и неотборными словечками, к которым, кстати, Штефка отнеслась не очень серьезно; она не испугалась даже тогда, когда мастер, угрожающе подняв кулак, закричал: — Ну погоди! Погоди, паршивец ты эдакий! — И под конец заключил: — Начхать на него! Коли не захотел подождать нас, пускай катится со своим сараем подальше! Пошли, Имришко!
Они двинулись. И Штефка двинулась. Но у дверей мастер остановился. — Погоди-погоди! — Он вдруг сменил тон. — Думаешь, я так просто уйду? На сухое горло из дому, на сухое — домой? Не-ет, девонька моя. Так дело не пойдет! Зачем я тащился сюда? Какой дьявол меня сюда нес? На работу мне наплевать, на кой ляд мне его сарай сдался! Но, не промочив горла, отсюда не двинусь. Ни шагу, доченька, не сделаю!
— А, вот оно что! — смеялась Штефка. — Выпить, выходит, приспичило! Выпивка вам важней, чем работа! — И она побежала в соседнюю комнату, в контору управителя, оставив двери приоткрытыми. Имро следил за ней. Возвращаясь, она невольно заметила это, перехватила его взгляд — с виду равнодушный, а на самом деле любопытный и выжидательный — и вновь улыбнулась: улыбнулась, казалось, обоим, но Имро досталось от улыбки гораздо больше, чем мастеру.
Штефка принесла бутылку и рюмки. Налила. Мастер обратил внимание, что рюмок только две. Поинтересовался, где третья.
— Мне нельзя, — сказала она, — но, если хотите, выпейте за мое здоровье.
Оно так и вышло. Мастер взял со стола рюмку, подмигнул Штефке и сказал: — Я уже однажды пил за твое здоровье!
— Знаю, — улыбнулась она. Взгляд ее ненароком скакнул на Имро, и Имро заметил, что она почему-то очень покраснела.
Все трое подумали о колокольне церовского храма.
Мастер поставил на стол рюмку, — Так, Имро, а теперь пошли! Сработаем сарай, сараишко на славу. В воскресенье, глядишь, и удастся в нем поскоморошничать.
После двух часов усердной работы, когда солнце уже изрядно припекало, мастер слегка распрямился, поразмялся, потом скинул пиджак и положил его на землю рядом с плотницким инструментом. Взгляд его устремился к дверям квартиры управляющего. Он поскреб, потер потную шею, заросшую редкими серебристыми волосами, и, повернувшись к Имро, сказал:
— Эта пташка могла бы чего и поднести нам.
Имро прекратил работу; вколол топор в бревно, не спеша разогнулся, отер вспотевшее лицо и тыльной стороной руки осушил губы. Вскоре и его взгляд остановился на двери управляющего.
На землю опускалась предполуденная тишина. Утки подремывали на солнышке, и лишь порой какая-нибудь в полном изнеможении такала. Ласточки сновали почти бесшумно. Зато расчирикавшиеся воробьи неутомимо выводили свои коленца. Одни сердито, другие весело брали с бою амбар. На акации сорокопут-дождевик незадачливо подражал соловью. Лесные птахи, насытившись мухами, личинками и всякими козявками и букашками, слетались с набитыми зобиками в гнезда. Раздумчивый самец кликал свою возлюбленную. Усталая и озабоченная птаха-мать несла в сухом клюве муху. Молоденькие чижата возвращались из учебного полета с веселой песенкой: дидл-дидл, дидл-для.
Мастер с сыном вновь взялись за работу. Дерево пахло смолой. Когда они перекатывали ствол, смола налипала на пальцы. Из конюшен несся запах мягкой перегретой влаги, он ударял в нос и разжигал аппетит.
Наконец показалась Штефка. Она не сразу подошла к ним, а сперва направилась к лачугам батраков. Прошла вдоль облупившейся стены, с которой сыпалась штукатурка, задержалась у одного из зарешеченных окон и с кем-то перекинулась словом.
Повернулась. Двинулась к плотникам. Сделав несколько шагов, вдруг остановилась, испугавшись чего-то: позже она объяснила мастеру, что прямо у ее ног что-то закопошилось. — Может, ящерица или уж. Точно не знаю, от страху глаза застлало. В этих местах разросся дурман, в нем и зашевелилось что-то, зашуршало. Думаю, уж был, ужа я тут и летось видала.
Мастер взял у нее корзинку с провизией. Сел на балку, корзинку поставил рядом. — Может быть, — сказал он. — Такое пекло всякую нечисть из земли выманит. Садись, Имришко! Перекусим малость. — Он вытащил из кармана нож, достал из корзины хлеб и отрезал от него скибку: отхвати он посмелее, это был бы целый ломоть. Он протянул полбуханки Имро и затем отрезал шматок добротно просоленного и прокопченного сала.
— Из любых дыр и щелочек повылазят разные букашки… — продолжал он. — А за этими букашками тянутся ящерицы либо змеи.
— Меня даже всю затрясло, — сказала Штефка. Она достала из корзинки бутылку и две рюмки и тут же наполнила их. Отступив на два шага, она уселась так, чтобы хорошо видеть обоих.
Мастер тем временем торопливо прожевывал хлеб, чтобы чокнуться с Имро.
— Запаримся в такую жару, — заметил Имро и поглядел на отца, потом на Штефку, но Штефкин взгляд упал на землю, и с ее лица вмиг исчезла улыбка, будто размазалась по земле.
Выпили, потом мастер опять взялся за хлеб. — И мне змеи не по нутру, — продолжал размышлять он. — Змей — самая что ни на есть гнусная тварь. Всякий раз диву даюсь: как только мог господь бог такую мразь сотворить? Ему мышь либо лягушку сглотнуть — плевое дело. Особенно обожает болотную лягушку, иначе скакуху. Знаете, такую зелененькую квакушку — глаза навыкате, а под горлом зобик? Когда кругом тихо, в зобике потрескивает. А у змея, подлой твари, слух что надо. Потихонечку подползает к какому-нибудь неприметному местечку, к ручейку какому или болотцу, прогретому солнышком, да и заманивает лягушку своими магнитными глазами. Зобик враз опадает. Зелененькой квакушки как не было. А в остальном уж — безвредное животное.
Имро улыбнулся. Штефка сказала: — Брр! Даже слушать противно.
— Да, польза или вред — это как смотреть, — продолжал мастер. — О воробье, к примеру, говорят, птица вредная, но я-то воробья еще ни разу не напугался, даже не осерчал на него. За что на воробья мне серчать? За то, что украдет несколько зернышек или крошек? Иному скупердяю хозяину либо, скажем, учителю, что любит синицу или обожает канарейку, воробей, конечно, не по нутру, хотя воробей и учитель — господа одинаковые. Разве не известно, о чем такой учителишка чирикает? Все только хвалит-нахваливает змея, а потом направляй священник по катехизису его болтовню на праведный путь… Квакуша полезнее, но и на нее смотрят по-разному. И она ловит мух и всяких букашек, а то и маленьких мошек-поденок, хотя лично я за подобным делом ее ни разу не видел. А муха мне до ужаса противна. Змей сожрет и муху, и поденку, а лягушку — с особенным удовольствием. Зелененькой квакушкой полакомиться страсть любит. Так оно! Польза не польза, а как увижу змея, иной раз чуть со злости не лопаюсь, а малому дитяти с перепугу и захворать недолго. Какой прок от такой полезной твари? Имришко, налей-ка еще!
Они поели, малость выпили и опять взялись за работу.
После обеда заявился управитель. Прикатил домой на дрезине. Поздоровался с плотниками; похлопал по плечу одного, другого, потом сказал, что ему ужасно некогда и что они должны отнестись к сараю со всем вниманием. Затем влетел в комнату, проглотил шесть пирожков, четыре сунул в карман, обнял жену, обронив ей что-то про уборку и кукурузу, и уже снова бежал, снова смазывал пятки.
— Резвый малый! — заметил мастер.
А около трех притопал Доминко. Съел при них сметанную лепешку, потом недолго подремал на Гульдановом рюкзаке, а когда дрема прошла, украл четыре гвоздя и незаметно улизнул.
Через несколько минут, что могли бы, пожалуй, составить и четверть часа, подошла к ним Штефка.
Выпрямившись, мастер левой рукой оперся о топорище, правой пощупал пропотевшую рубаху. — Имришко! — затянул он шутливым тоном. — Контроль явился!
Имро заметил ее, но продолжал работать. Казалось даже — весь ушел в работу.
— До чего хорошо пахнет! — Штефка говорила о дереве. — Люблю такой запах. Ужасно люблю хвою.
Мастер тоже хотел что-то добавить, но потом, верно, сочтя это лишним, спросил об управителе:
— А Йожко? Куда он так торопился?
Штефка поморщилась, надула губы и слегка подернула плечами. — Он вечно торопится, — сказала она.
Мастер удовлетворился ответом. И опять взялся за работу.
— Люблю такой запах. Ужасно люблю смолу. Сосну люблю. Еще больше, чем ель. Иногда утром тут замечательно пахнет. Вон из того леса тянет. — Она указала на лес. — Там сосны. Кажется, там одни сосны. Если бы имение было ближе к лесу!
Имро наградил ее коротким взглядом, но от работы не оторвался.
— А вообще как дела? Как жизнь? — спросил мастер. — В Церовую ходишь? Ваши-то к Йожо привыкли?
— Немножко.
— Отчего же немножко? Разве он им не по душе?
Штефка пытливо оглядела мастера. — Ну и любопытный же вы! — сказала она с улыбкой. — Иногда они с отцом ссорятся. Да вам, должно быть, Йожо жаловался.
— Нет, что ты. А почему ссорятся-то?
— Так просто. Обмениваются взглядами. Да и другие обмениваются. И тут, в имении. Знаете, как бывает тут весело? Иной раз кто из батраков и подерется. Вот бы вы слышали!
— А по деревне скучаешь? — спросил мастер.
— Бывает. Особенно вечерами. Без подружек скучно. Но если захочется, могу туда сбегать. Иной раз и днем заскочу. Запру квартиру, и в два счета там.
А собравшись уходить, Штефка спросила у мастера: — Можно я наберу немного щепок?
— Отчего же нет? — улыбнулся мастер. — Хочешь, целое бревно тебе дам?
— На что оно мне? — И, обрадовавшись, нагнулась. — По крайней мере ужин быстрей разогрею. — Она подняла охапку щепок, но потом положила их снова на землю и сказала: — Холстину принесу.
Она воротилась с холстиной, а мастер с Имро помогли ей наполнить ее.
— Донесешь? — спросил Имро.
— Такую-то малость не донесу?! — Она завязала поклажу, и мастер взвалил ее ей на спину, но какой-то щепкой при этом зацепил подол Штефкиной юбки.
Штефка весело двинулась, и перед ними забелел ее голый задок.
— Ах, леший тебя унеси! — щелкнул мастер пальцами. — На это я, кажись, не рассчитывал.
Имро засмеялся. Но потом, по дороге домой, сам не зная почему, досадовал на отца.
4
Следующий день в общем-то походил на предыдущий. Управляющий опять был в бегах. Штефка дома стряпала, поминутно отворяя и затворяя двери и окна, поскольку в кухне была духота, а на дворе — невыносимое пекло.
Мастер и Имро обливались потом. Доминко пришел их проведать, привел подружку и четырех дружков; один пробовал пилу, другой точил топорик… Вот сорванцы, никак от них не отвяжешься!
На счастье, батраки, свозившие с полей клевер, только что прикатили с полным возом.
— Эй, ребятня, давай утаптывать, — раздалось из амбара.
Детям не хотелось утаптывать. Конопатый мальчонка с коростой на носу, ухмыльнулся: — Пускай сами утаптывают!
— Вы что, не слышите, негодники? — снова донеслось из сарая, на этот раз построже.
Дети разбежались.
Доминко бросился следом, хотя приказ меньше всего относился к нему — он был самым маленьким. Вдруг он споткнулся, а может, просто поскользнулся? Плюхнулся на землю — ой, да если бы только на землю! Скатился в вонючую навозную жижу. Бедняжка, чуть-чуть не утонул! Он бился там, махал руками и рвущим душу криком и плачем переполошил все имение.
Из-под сушильни высунулось несколько голов, из конюшни показались двое Иуд, они колотили друг друга кисетами; перед сараем выросло четверо гладиаторов с вилами; из амбара вышел с посохом в руке обросший Моисей; из маленькой кузни сторожко выполз рыжий скорпион, опоясанный кожаным фартуком, в руке он держал жгучее жало. К нему подбежали три перемаранные Марии и, кощунственно кланяясь, загоняли его обратно в ковальню.
Рябой петух жалостливо закукарекал.
Имро тем временем подскочил к навозне и вытащил Доминко. Вскорости прибежала Доминкова мать и влепила мальчишке затрещину.
— Паршивец эдакий, только тебя тут не хватало!
Она повела Доминко к дому и все тузила его и хлопала по щекам.
Отец мальчишки храпел в зарослях дурмана, но тут мигом проснулся. Протер глаза и, заметив сынишку, спросил горестно:
— За что же его так?
— Заткни пасть, поганый бездельник! — взорвалась мать Доминко. — Налакался, боров! Ты вот где у меня сидишь!
Доминков отец удивленно мотал головой. — Что с ней стряслось? — спросил он, но ответить было некому.
Петух вновь закукарекал.
Откуда ни возьмись — паренек, загорелый дотемна, на голове — серая потрепанная шляпенка, во рту — соломинка. Он улыбался черными ехидными глазами.
— Бултых булдыга! — заговорил он на непонятном языке. Губы его щелкнули, как клепец, соломинка выпала.
Доминков отец нахмурился. — Кто тебя разберет!
А паренек не переставал улыбаться. — Бултых булдыга. Ну ты и налакался!
— Подыми соломинку да отчаливай!
Паренек поднял соломинку, хотел было сунуть ее в рот, но вдруг заметил конопатого мальчонку. — Поди сюда! — окликнул он его. — И ты там был! Вы учились плавать в навозной жиже.
Мальчик показал ему язык и улепетнул.
И тогда петух запел в третий раз.
Ровно в двенадцать ударил самый большой колокол на новом, пока еще не освященном церовском храме. Мастер поднял руку, словно бы хотел снять шапку, но он снял ее еще утром — день был жаркий — и поэтому сейчас только огладил седую вспотевшую голову и не спеша перекрестился.
— Обед! — прозвучал Штефкин высокий голосок, — Милости просим обедать!
На обед была густая овощная похлебка, копченая грудинка с молодой картошкой и зеленый салат. За едой, да и после еды кое-что выпили, и на мастера навалилась усталость, у него стали слипаться глаза, и, не подымись он вовремя, кто знает, возможно, за столом и задремал бы.
— Что-то меня нынче сморило, — сказал он слабым голосом. — Верно, не надо так объедаться. Имришко, если хочешь, посиди тут еще малость, а я пойду немного вздремну. Приходи к сушильням. Я полежу там. Эдак через полчасика можешь меня разбудить.
Имро сделал вид, будто и ему недосуг, будто он тоже собирается, но на деле рад был, что останется со Штефкой наедине. Он не подстерегал этой минуты, но, уж коль так получилось, был очень доволен.
Однако, как только мастер ушел, Штефка, поднялась, принесла на стол лоханку с горячей водой, подлила туда холодной из белого эмалированного ведра и, поставив его на низкую деревянную скамеечку у дверей, стала мыть посуду.
Имро это слегка покоробило. Он был задет, обижен, может, даже сердился на Штефку. Ничего лучшего не могла придумать? Что это ей вдруг так приспичило? Неужто именно сейчас надо возиться с кастрюлями и тарелками? Разве не могут они хоть минутку спокойно потолковать?
Штефка поймала взгляд Имро и улыбнулась.
— Не гляди на меня так, не то покраснею.
— Ты и так покраснела.
— Я всегда краснею. А если кто на меня долго глядит, я ужасно краснею.
— А ты и сейчас очень покраснела.
— Покраснела, но только немножко. Если бы ты на меня смотрел дольше… Нет, лучше не смотри!
Имро отвернулся и подумал: Штефка строит из себя более робкую, чем есть на самом деле. Интересней хочет казаться, что ли?
А может, осторожничает? Боится, что иначе Имро позволит себе лишнее? Какие глупости! Ему такое и в голову не приходит. Штефка просто комедию разыгрывает. Да ведь порой это дорого обходится. Женщине нечего уж так выставлять свою робость — иного мужчину это может сбить с толку, он решит, что его подзадоривают, и захочет испытать эту робость.
В комнате сновала пчела. Возможно, влетела сюда через двери, когда уходил мастер, а теперь ужасно раздражала и докучала; пчела поминутно осаждала окно — оно было раскрыто, но затянуто сеткой от мух.
— Что ж ты молчишь? — отозвалась опять Штефка.
— А что говорить? Жара несусветная. Пойду-ка и я в холодок лягу, — ответил Имро, но продолжал сидеть.
Штефка сказала:
— Успеешь, времени хватит.
— А хочешь, помогу тебе, — сказал Имро и пододвинул тарелку, к которой она тянулась.
Вместо улыбки Штефка скорчила рожицу, она часто так делала, порой без причины, но обычно давала этим понять, что ни в какие разговоры пускаться не намерена; она сморщила нос и надула губы.
— Да тут всего ничего, — заговорила она чуть погодя, и лицо ее снова похорошело. — С тремя-то тарелками и ложками я и сама управлюсь.
Пчела все докучала им. Жужжанье ее становилось более зловещим.
Штефка подошла к окну, встала на цыпочки, правой рукой откинула крючок, прикреплявший сетку к оконной раме, оттянула сетку и посторонилась, чтобы пчела могла вылететь.
Тут поднялся и Имро; он засновал по комнате и, размахивая руками, пытался выгнать пчелу.
Штефка рассмеялась. — Оставь ее, она и сама вылетит.
Имро чуть смутился. Подошел к Штефке, а когда пчела вылетела, сказал: — Теперь можно закрыть! — и погладил ее локоть.
Штефка сделала вид, будто ничего не заметила. Она подступила к окну и, прижав сетку к оконной раме, укрепила ее стальным крючком.
Имро стоял рядом, ему подумалось, что он мог бы и посмелее погладить ее. Он опять невзначай протянул руку, положил ей на плечо, а другой обнял за талию.
Штефка удивленно оглянулась. — Ты что?! — Она вырывалась, но Имро не отставал от нее. — Ну тебя! Уходи! — Она отталкивала его, но Имро не сдавался, решив, что он просто не должен, не может ей уступить, и оттого делался все более напористым.
Кончилось все неловко. Штефка высвободилась, и казалось, что она сердится. Имро подумал было задним числом обратить все в шутку, но опоздал. Штефка разговаривала с ним сдержанно и гнала прочь. В конце концов и он понял, что пора уходить, но прежде, чем уйти, наболтал Штефке всякого вздору, пытаясь хотя бы словами, коли не мог иначе, изрядно обидеть ее.
Разумеется, потом его это мучило, но он силился сам себя убедить, что ничего особенного не случилось. Работал рассеянно и неспокойно. Упрекал себя, что был недостаточно осторожен и осмотрителен, не почувствовал даже, что может позволить себе, а что нет. Досадовал, что Штефка осталась к нему равнодушной, а ко всему еще и обиделась. Н-да, надо бы с ней как-нибудь расквитаться! Да вот как? Того и гляди больше осрамишься!
В прошлом году — мы-то уж знаем, мы-то помним, — в прошлом году сама, можно сказать, на шею ему вешалась! Правда, в прошлом году она была еще в девках, стало быть, прошлый год не в счет, но при надобности Имро и на прошлый год может сослаться и хоть отчасти оправдать себя.
Нет, это не дело! А ну как Штефка подумает, что он уже с прошлого года по ней сохнет?
Еще чего! Этого только не хватало! Конечно, она ему нравилась, но чтоб он испытывал к ней более серьезное и прочное чувство — боже избавь! Он просто подумал так: в прошлом-то году выходило, почему бы и нынче не попытаться?
Да вот не вышло. Просчитался. И поделом! Другой раз будет хоть осмотрительней. Надо поскорей все это выкинуть из головы! Чем скорее, тем лучше!
5
Дома, при Вильме, он о Штефке забыл, но на другой день, проснувшись, вспомнил, что нужно идти в имение, и у него опять испортилось настроение. Завтракать — аппетита не было. А Вильма не хотела без завтрака его отпускать — ради нее он слегка перекусил, но при этом очень досадовал, что даже в таких мелочах приходится ей уступать. Поел мало и потому, дойдя до имения, проголодался — настроение у него совсем упало, хотя он и не мог признаться себе, что это из-за еды. Вовсе нет! Его не покидало предчувствие чего-то тягостного.
Киринович, который вчера и позавчера об эту пору был весь в трудах, сегодня слонялся по дому, и оттого Имро еще больше встревожился. Не странно ли это? Уж не проболталась ли Штефка? Не пожаловалась ли мужу? Что, если управляющий все знает?
К счастью, Киринович не заставил себя долго ждать. Пришел поздороваться: оказалось, опасения Имро были напрасны.
— Ну что, мастера? — скалил он свои крупные зубы. — Поздно встаете, поздно молодуха вас будит. Не пойму, как можно так долго спать. Что нового? Как жизнь?
— По-всякому, — отвечал мастер, потом обратился к сыну: — Имришко, скажи, мы когда встали?
— А я почем знаю? В пять? Не то раньше?
— В пять? — загоготал управляющий. — Боже мой, и не стыдно такое говорить! Я сегодня успел уже всю деревню обежать.
Мастер на это: — Так то ты. Думаешь, мне охота мотаться по деревне? Нет, я не такой полоумный. Что ж, бегай, коли ноги скорые.
Управитель надулся, но минуту спустя — опять смешинка в глазах.
— Да разве в ногах дело? Сперва надо встать, а потом уж можно и бегать.
— Не мельтеши тут! — замахнулся на него мастер. — Прямо под руку лезешь. Знаю, что ты не сидел. Сидючи хило бы бегал. Может, разбежаться и то не сумел бы.
Управитель, поняв, что мастер подтрунивает над ним, схватил его за грудки.
— А ну пошли! Пошли! Увидим, кто быстрей бегает.
— Отвяжись! — Мастер вырвался, пригрозил управителю топором. — Дурья башка, хочешь, чтобы я промахнулся! Враз коленку тебе подшибу!
Управитель внезапно сделался серьезным. — Послушайте! А что скажете о тех двух мужиках?
— Каких это «тех»? — спросил Имрих.
— Да о тех солдатах.
— Каких солдатах? — заинтересовался и мастер.
— Да вы разве их не видали? — удивился Киринович, но тут же вспомнил: — Ах да, вас уже не было, вы не могли их видеть. Вчера вы только ушли, пожаловали двое. Солдаты.
— Солдаты? А что им понадобилось?
— Дезертиры.
— Неужто?! Дезертиры?! Ты что, говорил с ними? Откуда тебе известно, что дезертиры?
— Бежали они. Я говорил с ними. Бежали из трнавского гарнизона.
— Ну-ну! И что ж они хотели? Должно быть, поесть?
— Ага. Жена дала им. Это я велел им чего-нибудь завернуть.
— Ну!
— И представьте себе! — продолжал Киринович. — Только они ушли — тут сразу и обыск.
— Не говори! Обыск! Значит, шли по следу!
— По следу. Прямо по пятам шли. Я и с ними толковал.
— Ну и что? — поинтересовался мастер. — Те-то двое небось на фронт должны были идти?
— На фронт. Наверно, должны были на фронт идти.
— Ну-ну.
— Изловят их, — предсказал Имро.
Киринович покачал головой: — А мне показалось, что ловить их вовсе и не собираются. Так-то, люди добрые, и это называется армия! Клянусь богом, сроду такой армии не видал! Что там ни говори, насильно нельзя воевать!
— Только насильно и можно, — возразил мастер. — Война, она и есть насилие. И когда отбиваешься, и когда наступаешь… Ты ведь был солдатом, знаешь, что солдату и на плац вылезать неохота. Его туда гнать приходится. Кто ж добровольно пойдет воевать? Я? Да я был бы последним идиотом. Ты? Я бы первый наплевал на тебя!
— А все же такой армии я и впрямь не видел, — продолжал Киринович. — Свет не слыхивал о такой жалкой и непослушной армии. Каждый творит, что ему вздумается. Только и знают, что драпают, бегут в горы или домой. Беспрестанно бегут. Все бегут. И удивляться нечего, чему тут удивляться? Пускай бегут, пускай себе бегут. Ей-богу, и я бы удрал. Вот увидите, по двое, по трое все разбегутся, и армии крышка. Прячутся всюду, и тут и там, кто по домам, кто в горах, а на фронте перебегают на сторону противника. Просто смешно, люди добрые! А потом в правительстве кто-то вдруг схватится за голову. Где наши ребята, где наша армия? И какой-нибудь генерал, а может, сам министр, не будет знать, что и ответить. А то и сам драпанет в горы либо загогочет всем прямо в лицо. Да, кстати, что вы делаете в воскресенье? — спросил он вдруг.
— В воскресенье? Дома сидим. Ведь праздник. В воскресенье мы не работаем. А что, хочешь магарыч поставить?
— Не бойся, за магарычом дело не станет! Не провозитесь же вы с сараем до воскресенья? Сарай должен быть готов раньше, и магарыч поставим раньше, на воскресенье я кое-что другое наметил.
— Ишь ты! Что же именно?
— Дебаты.
— Гм-м! — Мастер тягуче захмыкал. — Дебаты? А о чем же ты хочешь дебаты вести? Не знал я, что ты охоч до дебатов.
— А разве поговорить не о чем? Вы разве не знаете, что творится?
— А что творится?
— Слушай, Гульдан, ты хоть не строй из себя дурака! Оба не стройте из себя дураков! Им и у нас уже достается, крепко достается!
— Кому? Мне еще ничего не досталось.
— Ну и дают им, ох и дают!
— А что, что дают? Кому?
— Немцам! — взревел Киринович. — Гульдан, да ты несусветный болван! Честное слово, несусветный болван!
— А что? Я ничего не знаю. Ей-ей, ничего!
— Не перебивай, тата! — Имро осадил отца. — Лучше помалкивай!
— Ох и достается им! — скалил зубы Киринович. — От нас тоже! Черт побери! Ну и дела, ну и дела! Такие дела творятся!
— И я слыхал, — вмешался Имро, — свояк у меня в жандармах. Служит в Главном управлении. Он и раньше говорил, что на востоке и в Центральной Словакии беспорядки.
— Это называется беспорядки? — взорвался Киринович. — Люди добрые, это же война!
— Какая еще война? — Мастер поморщился. — Ну да, война, известное дело!
— Да ведь это настоящая война, — не сдавался Киринович. — И северяне осмелели! Клянусь богом, и на востоке и на севере люди осмелели! Знаете, надо бы и нам что-нибудь делать.
Мастер в ответ: — А что тут можно делать? Ну что? Плохо тебе, что у нас мало немцев? Взгляни-ка на карту, только взгляни! Ты думаешь, я полезу в драку? Чтобы мне пинка дали? Лучше буду помалкивать. Не то и опомниться не успеем, ей-ей, и опомниться не успеем, рта открыть не успеем, как они навалятся на нас.
— И до каких пор ты молчать собираешься?
— До каких?! Иные знают, до каких. Или ты решил, что дело только во мне или в тебе?
— Ты их вроде бы возлюбил!
— Я о тебе могу то же сказать! Только не в нас с тобой дело, это тебе не какая-нибудь авантюра, за которой маячит шинок или табачная лавка.
— Послушай, зачем ты мне все это говоришь? — Киринович пытливо уставился на мастера. — Уж не думаешь ли, что…
— Я ничего не думаю, — мастер покачал головой, — вон, — он указал на оструганные балки, — о твоем сарае радею.
— О моем сарае? О нем радеть нечего. Его уже давно надо было закончить.
— Закончим. Видишь, перевязку начали. Готовь магарыч.
— Гульдан, а теперь шутки в сторону! Приходите в воскресенье после обеда в имение! Будет разговор! Надо обо всем потолковать!
Мастер с минуту раздумывал, потом сказал, что не придет, а Имро обещал.
6
В воскресенье пополудни в имение сошлось много народу. Собрание должно было быть тайным и происходить в канцелярии управляющего, но вышло иначе — народу собралось больше, чем полагали сначала. В канцелярии все просто бы не уместились.
На своих людей Киринович не рассчитывал. Ему и в голову не приходило, что на собрание явятся батраки. Из них он выбрал одного кузнеца Онофрея, а потом приглянулся ему еще и Ранинец. Ранинца он считал человеком надежным, степенным; в работе был совестлив, никогда не воровал, если в чем когда и нуждался, всегда договаривался с управителем и так, по-хорошему, достигал своего. И еще было у него одно ценное качество: умел держать язык за зубами, даже когда напивался. Онофрей — дело другое. Толковый мастеровой был, но больше, чем умелость, Киринович ценил в нем злость и вспыльчивость, так и бьющую из глаз. Киринович ладил с Онофреем, но желчных глаз его всегда побаивался. Понимал, что кузнец — бузотер, не ведающий в гневе границ. Время лихое, ненадежное, кто знает, что сулит завтрашний день? Киринович полагал разумным и выгодным привлечь такого негодяя и буяна на свою сторону — не то Онофрей мог бы оказаться и против него. Правда, на самом деле кузнец не был таким уж неистовым и опасным, каким казался. Бывало, рассвирепеет из-за сущей безделицы, но укротить его не стоило и труда. Достаточно было улыбнуться, ласковое слово сказать — и опять полный порядок. А батраки вообще его не боялись. Зато знали, что управитель его опасается, и были этим очень довольны.
Киринович собирался позвать и Габчо, отца Доминко, но вскоре мысль эту выкинул из головы. Решил — Габчо такой же негодяй и проходимец, как и Онофрей, а уж двоих негодяев вместе сводить не годится — глядишь, еще и сойдутся на какой-нибудь подлости и натворят ужасных неприятностей управителю. Где Вельзевул, к чему туда тащить и Люцифера? Останется Габчо в стороне — будет надежное равновесие. А вздумай он бузотерить, так именно Онофрей и найдет на него управу.
Но получилось не так, как замышлял Киринович. Он полагался прежде всего на людей наезжих, считал, что все они будут по крайней мере на должном уровне, с понятиями о конспирации, но, к сожалению, он ошибся.
Раньше всех заявился Штефкин отец, которого никто не звал. Это было первое разочарование, весьма неприятная и досадная неожиданность.
— Что тут затевается? — допытывался тесть, и по нему было видно, что он недоволен и как бы даже сердится, что ему пришлось сюда заявиться. — Слыхал я, здесь должно быть какое-то собрание и ты его организуешь.
— Какое собрание?! — Кириновичу хотелось тестя поскорее выдворить — он опасался, что нагрянут приглашенные и услышат разговор, который может уронить его в их глазах. — Я просто позвал кое-кого из друзей. Воскресный день, хочется поболтать, сыграть в марьяж.
— Так ты их ради марьяжа позвал! Уборка в разгаре, а у тебя есть время для марьяжа и болтовни!
— Ха! Уборка в разгаре! — надулся Киринович. — Она и у меня в разгаре. Вчера начали косить яровой ячмень, а на будущей неделе примемся за рожь.
— Послушайте, — вмешалась в разговор Штефка. — Да не ругайтесь же вы! Хоть в воскресенье, пожалуйста, не ругайтесь. Я собралась в Церовую, а вы тут ругаетесь. Коли ругаться сюда пришли, тата, так лучше уходите!
Конечно, Штефка все это сейчас придумала: она и сама поняла, что отец пришел не ко времени. Она вовсе не собиралась в Церовую. Знала, что в имение приедут гости, Йожко ее заранее об этом предупредил. Даже объяснил, зачем приедут и почему, но для нее это было не так уж и важно. Главное — приедут люди, и дом их хоть капельку оживится! Она обрадовалась и приходу отца — он давно не был у них, и Штефка поначалу надеялась, что он пришел помириться с Йожо и что посторонние будут этому только содействовать. Но сейчас она поняла, что это пустая затея, и потому старалась отца поскорее выпроводить.
Йожо догадался о ее добром умысле и был ей благодарен, но в голосе его особой благодарности не чувствовалось. — Хочешь, иди! — огрызнулся он. — Тебя никто тут не держит!
— Я с татой пойду. Подожду его.
— Кто сюда приедет? — настаивал отец. — Что за сборище затеяли?
— Приедет доктор Салус, — сказал Киринович.
— Какой такой Салус? Что еще за Салус? Почему ему в городе не сидится? Что это за доктор, если ему охота переть в такую даль ради марьяжа? Неужто в городе приятелей не стало? Хотел бы я знать, о чем этот Салус может толковать с крестьянином или батраком или, скажем, с таким управителем, как ты.
— Что еще за оскорбления?
— Тата, ты опять за свое? — налетела на отца и Штефка. — Только ругаться сюда приходишь.
— Я хотел бы знать, кто такой Салус, — повторял отец. — Хотел бы знать, что у него на уме. Да и с остальными я не прочь познакомиться.
Киринович раздраженно тряс головой. — Но почему я обязан тебе об этом докладывать? Кого хочу, того и зову. У меня свои дела, у тебя — свои, мы не обязаны друг с другом откровенничать.
— Ты уже запамятовал, как стал управителем. — Штефкин отец вновь за свое. — Когда-то именье принадлежало еврею, и ты еще год назад ненавидел евреев. Ты их честил, я защищал. Тогда я думал, что ты просто дурак, а нынче вижу, что нет. Вспомни, как год назад ты ругал евреев.
— Ну что тебе от меня нужно? Почему ты приплел и это сюда? Может, злишься, что я их уже не ругаю?
— Какое там злюсь! Просто знать хочу, насколько ты изменился. Хочу знать, что ты за человек!
— Почему ты меня всегда в чем-то подозреваешь? Клянусь честью, это меня начинает бесить! Почему я должен терпеть? Что я, маленький? У меня свои понятия, их я и держусь.
Штефкин отец перебил его: — Но у тебя и моя дочь. А у нее мои понятия и мой нрав. И если она забывает напомнить тебе, что для меня важно, приходится делать это самому. Я знаю твои мысли и планы. Знаю, что ты хитрец, но хитрец и такой и этакий, а я и таких и этаких терпеть не могу. Будь ты крестьянин, ты бы понял меня, но ты не крестьянин, а всего-навсего управитель, и хочешь им быть и сегодня, и завтра, и послезавтра. Нынче утром, как только проснулся, я о тебе подумал. И враз захотелось бежать сюда — сказать тебе, что только самый непутевый, распоследний мужик станет на собственном навозе наживаться.
— Тут уж я не понимаю тебя. Ты можешь толком мне объяснить?
— Нет, не могу. Я не управитель, а всего лишь крестьянин. Не понимаешь, так нечего тебе было и лезть в управители, надо было сперва побатрачить либо покрестьянствовать. Навоз есть навоз, а собственный, он и есть собственный. Кто начинает так или эдак торгашить навозом, наживаться на нем, тот нищеброд, мошенник и вор. Я не против собраний. Только уж ежели надо с кем-нибудь встретиться, я хочу знать, кто он такой, о чем с ним толковать буду и сможем ли мы договориться. Я люблю договариваться. Я с каждым охотно бы договорился. Со всеми людьми жил бы в полном ладу. И поучиться готов. Хоть я и твердолобый, а поучиться готов. И вот когда землю пашу, всегда гляжу под ноги да вперед, слежу за тем, чтобы плуг не подскакивал или чтоб я случайно не выпахал картошку, которую незадолго до того посадил. Но тебе этого не понять. Не понять этого, потому что ты никогда не был ни батраком, ни землеробом, а вышел только на свою должностишку и доволен — доволен ею, когда бегаешь по полям, доволен и собой, если видишь, что земля щедра к тебе. Ты убежден, что понимаешь землю, хотя она тебе никогда ничего не сказала, потому как и ты ей никогда ничего не сказал. Глухонемой может думать, что и остальные глухонемые, что весь мир глухонемой. Тебя волнуют только гектары, выручка, цифры. Ты все умеешь перевести в цифры и нанести на бумагу, да ты и сам только цифра, которой клочок бумаги помог раздобыть местечко, сделал из тебя управителя. Знал бы ты плуг от рождения, пришел бы от плуга к бумагам, ты иначе смотрел бы на эту бумагу, у тебя перед глазами была бы земля, и цифры бы тебе казались другими, скрип пера напомнил бы тебе, может, плуг, и ты бы вновь к нему воротился. За каждой цифрой, за каждой каракулей ты бы увидел или услышал землю. Но ты ко всему пришел с другого конца. Ты родился на свет, но еще в детстве забыл спросить, для чего ты родился. А возможно, тебе и сказали, да ты не взял в толк. Думаю, до известных, точнее, до самых главных вещей человек должен дойти сам. Ты умный, очень умный, наверно, ты и в детстве был себе на уме, вот оттого-то и стал так торопиться; ты сразу же занялся числами, особенно своим счастливым числом; ты искал его так же, как ноль ищет единицу или двойку, как двойка — тройку или иную двойку и единицу, тебе, должно быть, хотелось сразу перескочить на целую сотню или хотя бы на десятку. Ты нашел счастливое число, а может, и много счастливых чисел; мне подчас кажется, что ты и сам — счастливое число и оттого время от времени куролесишь: то ты делаешь из себя двойку, то тройку, потом из тройки восьмерку, а из восьмерки… Уж и не знаю чего. Ты такой и эдакий, я тебе уже сто раз говорил. Ты должен постоянно меняться, так как счастливое число тоже меняется, что ни минута — оно иное. Тебе приходится меняться ради местечка — ведь до тебя тут другой был, — а не изменишься вовремя, не перехитришь самого себя, чтобы и остальным замазать глаза, однажды откроешь, что кто-то и тебе пришел на смену, какое-то иное счастливое число: теперь уже он будет знать, сколько у него в имении батраков и плугов, но сам-то не сумеет путем взяться за плуг и проложить им не только восьмерку, но даже самую обыкновенную борозду, в конце которой другой счастливый глухонемой идиот, что никогда не ведал и не нюхал земли, занесет свое число в блокнот.
Киринович несколько раз порывался оборвать тестя, но удалось ему это только тогда, когда тот остановился на миг, чтобы отдышаться.
— Послушай, с кем ты сегодня пообщался? Говоришь, будто Карчимарчик. В самом деле, так рассуждать может один Карчимарчик!
Киринович сказал это наобум, просто хотел унизить и высмеять тестя. Он даже не думал, что в тот же день ему придется толковать и с самим Карчимарчиком.
Спор длился еще минуту-другую. Потом тесть сказал: — Ну, я пошел. Ухожу, чтобы ненароком не спутать ваших планов. — И, насупившись, двинулся в путь.
Штефка ушла вместе с ним.
7
Народ стал сходиться. Как было сказано, поначалу предполагалось, что соберутся одни гости, но вскоре выяснилось, что и без батраков дело не обойдется.
Не успел уйти Штефкин отец, как в имение заявился какой-то школяр и еще какие-то подростки из Церовой, и от них местные узнали, что в имении что-то затевается.
Все враз переполошились. Батраки один за другим вылезали из своих домов и спешили к канцелярии управителя. А иные побежали будить мужиков, что отсыпались в сараях и амбарах:
— Вставайте, сонные тетери!
— А что стряслось?
— Собрание будет!
— Собрание? Какое?
— А бес его знает. Там поглядим.
Ленивцы — не ленивцы, сони — не сони, все в два счета оделись. Каждому — почет и уважение! Уж коли в имении собрание, все должны в нем участвовать.
Киринович пытался растолковать им, что речь идет вовсе не о собрании. Он уговаривал их разойтись, но они ничтоже сумняшеся стояли на своем: «Уж раз мы тут, чего расходиться? Нынче воскресенье, дремота у нас прошла, торопиться некуда. Собранье не собранье, а коли народ сходится, значит, что-то есть, что-то наверняка затевается. Подождем, поглядим, что за дело такое, а то и послушаем, о чем разговор; а случись, разговора не будет, или скажут мало, или то, что нам не по нраву, так можно в разговор и вмешаться».
— Ребята, не валяйте дурака! — уговаривал их управитель. — Сами посмотрите! Как ни старайся, а в конторе все равно не уместимся. Всех позвать не могу. Разойдитесь спокойно! Право же, это дело вас не касается.
Люди не перечили, но и не расходились. «Да уж давайте постоим, подождем. Разве кто волнуется? Никто не волнуется, А кому неохота ждать, пусть уходит. Либо сядет на землю, и на земле посидеть можно. Было бы и впрямь глупо, кабы мы все лезли в контору управителя».
А некоторые рассуждали иначе. Те, что перестали доверять управителю. Они переглядывались, кривили губы, морщились и между тем или при том о чем-то шушукались. Только и было слышно: шу-шу-шу. А временами — может, кое-кто шептать не умел, или недослышивал, или, может, просто не знал ни стыда ни совести и хотел, чтобы и другие зря-то не совестились, не краснели, — какие-то слова звучали и громко: «Как же так? Онофрея касается, а нас нет? Ранинец может быть на собрании, а мы нет? Где ж справедливость?! Где порядок?! Ведь и Ранинец батрак, ведь и у него мозги обыкновенные, батрацкие. А мы заодно с нашим Ранинцем и Онофреем и отсюда — ни на шаг!»
Притащились и жены с детьми, и тут управитель, поняв, что ни добром, ни силком от них не отделаешься, решил: — Ладно уж! Быть по-вашему. Устроим собрание прямо на свежем воздухе, здесь всем места хватит. Кроме женщин и детей, разумеется. Женщинам и детям на собрании делать нечего, это уж вам придется признать. Начнут галдеть или еще что выкинут. Сами знаете, какие дети бывают мерзкими и противными. Позаботьтесь о женах и детях, и мы тут же приступим.
Конечно, это был другой разговор. Мужики с одного маху подскочили к женам. Каждый позаботился о своей: — Ступай отсюда! Проваливай, голова садовая! Ступай прочь! Чего тебе тут околачиваться, глаза пялить? Не поняла, что ли? Ступай прочь, не дури, потом можешь незаметно сюда и шмыгнуть.
Вишвадер позаботился о детях: — Катитесь отсюда, паршивцы вы эдакие! Вот сниму ремень, от вас мокрое место останется.
— Ладно, бог с ними! — распорядился Киринович. — Женщины и дети пусть останутся здесь, а мы переберемся в другое место! — И он указал, куда надо перебраться. В это время вернулась со станции дрезина, на которой обычно ездил Мичунек, но на сей раз на ней сидел Ранинец, а рядом с ним два крестьянина из Церовой. «Быдло, могли бы и пешком допереть! — Киринович немного сердился. — Говорил же я этому Ранинцу: на мужиков и сопляков насри! Возьми только тех, кто приедет на поезде». Сопляки пришли пешком, а мужики прикатили на дрезине. Сидели там еще портной Гриц и доктор медицины Йозеф Салус, студент Янко Микес, Лойзо Хрестек и Лойзо Мелезинек — торговцы среднего, а то и несколько меньшего калибра, но в глазах окрестного люда оптовики: один промышлял вином, другой спекулировал древесиной. Все они, разумеется, кроме церовских крестьян и Ранинца, «вечного путаника», были родом из ближнего городка, и это сразу было видать. («Опытный-то глаз в момент отличит горожанина от деревенщины — от батрака либо мужика».)
Ранинец откатил дрезину в холодок, и, пока отпрягал лошадей, подошли остальные: управляющий с батраками, потом Имро с мясником Фашунгом из Околичного. Уселись на дрезине или около. Вскоре объявилась и бутылочка, из которой, разумеется, досталось каждому.
У студента был при себе фотоаппарат, и ему сразу захотелось всех сфотографировать. Мужчины приготовились, приосанились, но кто-то из оптовиков — не важно, Хрестек то был или Мелезинек — закричал: — Минутку! — и, порывшись в кармане, вытащил пригоршню сигар: одну сунул в рот, остальные раздал. Пошумели недолго, а потом надулись еще больше прежнего.
Студент поднял палец: — Так, а теперь внимание! — и щелкнул.
Он отщелкал всю пленку. Впрочем, возможно, и пленки-то никакой не было, а может, это был такой аппарат, что фотографировал без пленки, в таком случае нам пришлось бы сказать, что аппарат испортился, похоже было на то; поначалу студент щелкал и щелкал, а потом два часа жаловался: — Все! Честное слово! Все на вас выщелкал.
А в тот момент, когда управляющий открывал собрание, прикатил на велосипеде и жестянщик Карчимарчик.
— Этого еще кто сюда звал? — спросил управляющий, встретив Карчимарчика неприветливым взглядом.
Мясник Фашунг, водивший с Карчимарчиком дружбу, предположил, что вопрос управителя относится к нему, и потому тихо возразил: — Я не знаю. Я его сюда не звал.
По счастью, Карчимарчик никакой неприветливости не заметил. Многие ему тепло улыбались. — Ты опоздал! — говорили они. — Мы уже сфотографировались.
Студент Микес печально подтвердил: — У меня была целая пленка, вся вышла.
Киринович подготовил длинную речь; трудился над ней несколько дней, но ситуация изменилась, и ему пришлось на ходу перестраиваться; поначалу сдавалось, что ему даже не о чем говорить, он еле-еле жевал слова, а потом вдруг в сердцах, но не без остроты, выдал ex abrupto, то есть без подготовки, приветственную речь, которую можно было бы назвать и основным докладом. Он оценил политическую и военную обстановку и, прежде чем кончить, предупредил, что к его словам не надо относиться чересчур серьезно.
— Мы тут все друзья и знакомые, — говорил он, — и речь идет, о свободной дискуссии и обмене мнениями. Так, пожалуйста, и отнеситесь к этому. Мы все знаем, что сейчас война и тянется она уже долго; но мы не знаем точно, когда и как она кончится, хотя некоторые вещи можно уже сегодня отгадать и предвидеть. Но как бы война ни кончилась — так либо эдак, — мы обязаны следить за тем, чтобы у нас дома все шло наилучшим образом.
— Да оно так и идет, — проворчал Габчо. — Разве что не ладится?
— Я не говорю, что не ладится. — Киринович в душе возмутился, но виду не подал. — Я говорю, что каждый из нас должен выполнять свой долг, чтобы нам не пришлось стыдиться друг за друга ни сегодня, ни в будущем.
Люди во все уши слушали.
Мясник Фашунг кивал головой.
— Так, так… А дальше? — Он вопрошающе поглядел на Кириновича.
— Что дальше? — Киринович внимательно изучал отдельные лица, пытался понять, что за ними скрывается, но минутами его одолевало желание заорать на кого-нибудь из батраков, а то и на всех: «Катитесь вы ко всем чертям! Чего так по-дурацки пялитесь?» Но он сдерживал себя. — Мне лично кажется, — говорил он, — что люди мало встречаются и сравнительно мало знают сами себя. А уж друг о друге мы вообще ничего не знаем и еще меньше знаем о том, что делается на свете. Круг замыкается! Всюду идет война. Круг замыкается, и мы в нем. Вы понимаете меня? Уясняете себе?
Мужики хмыкали. Один передернул плечами, другой, третий. Подал голос Мичунек: — Война есть война, война — дело известное. Хотелось бы что и поновее услышать.
Отозвался и Карчимарчик: — Можно мне сказать?
— Говори! — поддержали его церовские крестьяне. — Хоть весело будет.
Некоторые заулыбались, так уж было заведено: когда говорил Карчимарчик, обыкновенно люди улыбались; иной раз — как, например, сейчас — он и сам улыбался, будто подбадривал улыбкой других: ну что же вы, смейтесь надо мной!
— Управитель, Йожко, — он обратился сперва к Кириновичу, — говорит, что мы все хорошо знаем друг друга и могли бы еще лучше узнать, кабы чаще встречались. Я к вам не навязываюсь, хотя думаю, если бы и навязался, вы меня, наверно, не прогнали бы. Сегодня же меня не прогнали, еще и говорить позволили, хотя, пожалуй, похоже на то, что я малость и навязался. Пришел, хотя меня и не звали. Я случайно узнал, что вы соберетесь тут, а у меня было время, потому что оно у меня всегда есть, а если бы не было, я бы его все равно нашел. Решил сюда забежать, вот я и здесь, вот я и выслушал Йожко и могу сказать, что он говорил почти хорошо. Но мне кажется, что он мог бы говорить и лучше. Когда люди вот так встречаются — этим надо пользоваться.
Доктор медицины Йозеф Салус чуть привстал и вытянул шею.
— Вас как звать, скажите на милость? — спросил он учтиво.
— Карчимарчик. Жестянщик Карчимарчик.
Доктор Салус поблагодарил кивком головы. Карчимарчик ответил и на его невысказанный вопрос, который должен был звучать так: «Кто вы и чем занимаетесь?»
Мужики ухмыльнулись: может, им показалось, что Карчимарчику следовало бы сказать вместо «жестянщик» дротарь — звучало бы это тогда выразительней и более по-словацки.
— Спасибо! — На этот раз доктор поблагодарил его вслух. — Продолжайте, пожалуйста!
— Продолжай! — проткнул его Киринович взглядом. — Говори. Ведь и я сказал, что тут можно поговорить. Ты только повторил мои слова. Тут каждый может смело и свободно высказаться. Разве я о чем другом говорил?
Карчимарчик удивленно улыбнулся и тряхнул головой. Слова управляющего ему не понравились, и еще больше не понравился ему его взгляд. Поэтому он спросил: — Почему же так сердито, Йожко?! Ты вроде гневаешься на меня!
— Говори, говори! — торопил его Киринович и колол взглядом. — Договаривай! Не обо мне речь!
Карчимарчик хотел продолжать, в самом деле речь свою хотел кончить, но прежде попытался объяснить управителю, что вовсе не думал его оскорбить или как-то задеть, и, уж во всяком случае, не злым словом. Разговор застопорился: спорщики растолковывали друг другу, что они говорили или что собирались сказать. Киринович был взбешен и распалялся все пуще; невольно вспомнился ему тесть, который сегодня по своему обыкновению «усластил» ему жизнь и убрался восвояси, но управитель уже сыт по горло такими речами, переполнилась наконец чаша. Держись, дротарь, ты за это поплатишься!
Мелезинек вытащил из кармана сигару и, прежде чем закурить, мигнул в сторону сцепившихся, раскричавшихся петухов и шутя заметил: — Вот вам — пожалуйста! Говорят о войне, а она уже тут!
А эта война была и впрямь занятной. Карчимарчик, поскольку не охоч был до острых споров и свар, пытался пойти на мировую. Говорил примирительно и приветливо: — Ну, Йожко, давай поладим! Я не сержусь и ты не сердись! Коли обидел тебя, извини!
Но Киринович, словно бы вежливость дротаря только распаляла его, злился еще больше, фыркал, подскакивал и все резче, раздраженней размахивал руками и при этом — мы чуть было не упустили — колол и стрелял глазами, ведь вокруг было полно слушателей, свидетелей, ему хотелось привлечь их внимание, пробудить в них гнев и, главное — мы-то знаем, — убедить их, что нападающая сторона не он, а Карчимарчик, этот спесивец и растяпа, которого никто не звал, но который всюду, всюду втирается и навязывается. Прямо за пазуху к человеку влез бы, лишь бы надоедать ему, выводить из себя.
Но Карчимарчик не сердился; не рассердился он и тогда, когда Киринович стал совершенно явно его оскорблять. Он только огорченно улыбнулся и сказал: — Кажется, Йожко, мы не поймем друг друга. Мне не хочется ссориться. А коли думаешь, что тебе полегчает, выскажись начистоту! Я не рассержусь на тебя.
Доктор Салус возмущенно вертел головой и несколько раз громко вздохнул: — Ужасно, ужасно!
Никто так и не понял, к кому эти слова относились: к Карчимарчику? К Кириновичу? Пожалуй, к Карчимарчику.
Впрочем, гостей ссора уже перестала забавлять. Они стали делиться меж собой мнениями, причем каждый — с ближайшим соседом.
Один спросил: — Что вы думаете о Лондоне?
Мичунек, поморщившись, сказал: — Ничего. Мы же не лондонцы.
— Как? — Мелезинек удивился. — Вы не слушаете Лондон? Ведь в Лондоне новое правительство.
— Какое правительство?
— Чехословацкое.
— Чехословацкое? — Габчо громко захмыкал, потом махнул рукой. — Оно у нас уже было.
— У нас всякое было и еще будет, — пустился в рассуждения церовский крестьянин. — Мой тата имел плуг, я получил его по наследству, а от правительства получил фигу. Их у меня уже три.
— Плуга? — спросил Гриц.
— Еще чего, плуга! Три фиги! — Крестьянин оголил желтые зубы. — Я о фигах говорю. От каждого правительства я получил по одной. Глядишь, и четвертая достанется.
— А разве оно плохо? — опросил Вишвадер.
— Зачем же плохо! — сказал крестьянин. — Работы у меня хватает. А когда есть время, да и когда нету, считаю фиги. Иной раз захочется и фиги отведать.
— А сушеная дуля тебя не устроит? — осклабился другой крестьянин.
— Я фиги больше люблю. Фига — это все-таки фига. Если у человека есть плуг, он и фигу возьмет, а там уж пусть все целуют его в ж…
— Бог тебя поймет!
— Бог-то поймет.
— Зачем тогда фиги поминать?
— Зачем, зачем! Хвалю правительство, чтобы не вести антиправительственные разговоры.
— Ага!
— Ага!
Имро немного поразвлекся, потом все эти речи стали его раздражать. Жалко, Штефки нет! То, что произошло на неделе, она ему простила, стало быть, опять все в порядке. Встретиться бы с ней! Почему нет ее? Почему она ушла? Этот балаган уже становится нудным!
Студент размахивал фотоаппаратом: — Эх, обидно, что у меня нет еще одной пленки.
Онофрей, Ранинец и Мичунек галдели разом.
Юнцы, подростки, должно быть, уже перестали полагаться на старших: отойдя в сторону, они пытались придумать что-нибудь свое. Один из них окликнул студента: — Да брось ты свой аппарат! Все равно у тебя там ни шиша нет!
— Перекручу-ка пленку! Я всю ее уже выщелкал.
Один из церовских крестьян нагнулся к доктору и, понизив голос, сказал: — Пан доктор, иной раз, когда я вечером обряжаю скотину и лошадей, я сам от себя нос ворочу! И от жены жуть как воняет, даром что чистоплотная. Не знаю отчего бы! А что до правительства, то должен вам сказать, оно смердит больше всего, вот потому я до сих пор от любого правительства нос воротил и ворочу. Вам понятно? Я крестьянин и другим уже не буду, не изменюсь, пусть меня хоть повесят. А если бы меня и в самом деле стали вешать, знаете, что бы я сделал? Пан доктор, вам-то я скажу. Думайте обо мне, что хотите, но, коли стали бы меня вешать, я бы что есть силы зажал нос и крикнул напоследок: «Тут смердит! Смердело и смердит! Жуть до чего смердело!» Пан доктор, ведь я и от тех вещей нос ворочу, какие для иных хорошо пахнут…
8
Когда все, то есть «самое худшее», как говорил управитель, было уже позади, когда люди уже вволю выговорились и излили свою желчь, управитель собрание закрыл и распустил. А некоторых — конечно, тех, кто сподобился этого, — пригласил к себе в дом на легкую закуску.
«Так! Теперь все и начнется! — ликовал Киринович. Теперь самое время для настоящего разговора! До сих пор и потолковать-то серьезно было нельзя. Что тут поделаешь, батрак есть батрак, всю жизнь только и смотрит лошади в зад, откуда ему смыслить в конспирации?!»
На этот раз он решил быть осмотрительным. Каждый должен быть осмотрительным. И выбор с самого начала должен быть более точным!
Оно так и вышло. Ни Онофрей, ни Ранинец сквозь это решето теперь уже не просеялись.
Карчимарчик с Фашунгом собрались было домой вместе, но Фашунга Киринович задержал: — Подожди немного! Поговорить с тобой надо.
Потом оказал честь и Имро: — И с тобой, Имришко.
Карчимарчик остался снаружи, но то и дело заглядывал в окно. — Мишко, идешь? — окликал он Фашунга. — Подождать тебя?
— Сейчас! Сейчас приду! — унимал его Фашунг.
И Карчимарчик терпеливо ждал. Ему было немного не по себе: похоже было, будто он околачивается под окном только затем, чтобы управитель и его зазвал в дом. Ему было неловко, но он не уходил. Карчимарчик — человек терпеливый. Он и сговорчивым может быть, а надо, так и товарища может ждать долго. Он и сейчас подождал бы, но тут вышел Киринович, которого, кстати, Карчимарчик тоже почитал за приятеля.
— Матуш! — окрикнул Киринович жестянщика по имени. — Ну что ты пристал? Еще не наприставался? Чего тебе, собственно, надобно? Кто тебя сюда звал? Чего ждешь? Чего на нервах играешь?
Карчимарчик не знал, что и ответить, он робко улыбнулся, улыбнулся как несмышленый солдатишка, когда к нему обращается командир. Но потом все же отыскал несколько слов: — Ухожу-ухожу, Йожко, — сказал он. — Я думал, что и Фашунг… Не серчай, Йожко, я не хотел тебя нынче обидеть. — Он опять наклонился к окну и крикнул Фашунгу: — Мишко, ну я пошел! Слышь, Мишко! Мне не ждать тебя? Тогда я пошел! Мишко, я больше ждать не буду! — И одновременно успокаивал Кириновича: — Ухожу, Йожко, ухожу! Мишко, так, значит, не ждать? Счастливо, Мишко! Бывай, Рудо! Привет, Мишко! Привет, Имро! Ухожу, Мишко, ухожу! Счастливо оставаться! Йожко, бывай…
Он сел на велосипед и укатил.
9
Имро еще чуть задержался. Толковали о самом разном. Хмельное придавало разговору особый смак. Выпившие для куражу мужчины высказывались свободнее, легче: если у кого и заплетался язык, другой тотчас подхватывал мысль, уточнял ее, развивал. То и дело кто-то откалывал шутку, затем слышался смех, порой даже топот и причмокивания. После удачной шутки мужчины любят топать и причмокивать. Словом, было занятно, занятно хотя бы потому, что разговор, который то и дело возвращался к войне и политике — о войне и о политике ведь можно болтать всякое и сколько угодно, — был нацелен в будущее. Будущее! Бу-бу-бу-бу-ду-у-щее! Кого же оно не занимает? Каждому, конечно, хотелось что-то сказать, выразить свое мнение, поделиться раздумьями на этот счет, вместе все обсудить, выговориться, похвастаться, блеснуть, изложить свои взгляды на будущее и сравнить их с взглядами другого, сделать вывод или хотя бы утвердиться в том, что голова твоя работает справно и что, в общем, можно быть вполне довольным собой. Будущее! Ох! Как так «ох»? Почему же «ох»? Хо-хо-хо! Некоторые представляли себе будущее в радужном свете. Им казалось, что будущее уже совсем близко, можно сказать под самым носом: они видели его, слышали и, более того, чокаясь рюмками, были уверены, что именно его по капельке цедят, потягивают. Поэтому они так счастливо улыбались и чувствовали себя действительно превосходно.
Но Имро все это приелось. Разговоры наскучили — речей уже было достаточно. Из головы никак не выходила Штефка. Да он и явился сюда, в общем-то, ради нее. Он пытался убедить себя, что это не так, но с той минуты, как пришел в имение и увидел, что Штефки нет дома, испытывал досаду. Если б он знал! Если бы вовремя узнал, что не встретит ее в имении, он вряд ли бы притащился сюда! Вот черт, зря только воскресенье испортил! Лучше бы выспался дома! Или он пришел сюда и по другой причине? Но по какой? Неужто из любопытства? Нет, его, пожалуй, не занимали ни Киринович, ни эти умники, что сидят тут и состязаются в красноречии! Иные, опасаясь, как бы не забыли об их звании и чести, выражаются учено, уснащают и раздувают каждую фразу, она сверкает и парит, а другие, менее образованные — не скажу, что вовсе необразованные, они все же умеют читать, писать, а главное, считать, умеют и постоять за себя, как, например, сейчас, — когда не могут отыскать в памяти какое-нибудь чужое слово, дабы блеснуть и обогатить чужую мысль, пускают в ход шутку, свою или чужую, не все ли равно, чья она, шутка есть шутка, ее можно и присвоить, а потом всю жизнь повторять, потому что и затасканной шутке всегда кто-нибудь посмеется или сам остряк нагло загогочет вам в лицо. Но в доме управителя восседают, верней, восседали — Имро видел их там, а сейчас вижу их я, хотя меня-то там не было, я видел их за минуту до этого, когда о них говорил иначе, пожалуй чуть лучше: я-то их всегда вижу, только временами стараюсь смотреть глазами Имро, а бывает, навязываю и ему свой взгляд, — итак, там восседали и такие, что не были ни образованны, ни находчивы, ни воспитанны, ни даже остроумны, однако самонадеянно щурились, требуя к себе уважения, так как обладали толстой мошной и набитым бумажником, а то и двумя мошнами и двумя бумажниками. А может, деньжата их были вложены в банк или обращены в недвижимое имущество. Пожалуй, они не были так уж глупы, а только прикидывались. Вот именно! Это народ толковый. Не знаю, отчего мы — и особенно те из нас, что вечно без гроша в кармане, ибо не умеют ни оценить, ни удержать его, — привыкли состоятельных людей ставить ниже себя, считать дураками. А может, они поумнее нас с вами и о жизни знают все, что положено знать. Поэт (я не причисляю себя к таковым, боже сохрани!) витает в облаках, а расторопный человек (опять же это не про меня — я медлительный) и на земле неплохо себя чувствует. У него как бы иная, ну, что ли, земная, расторопность и сметка. Но не о том речь! Мы не разделяемся на умных и глупых! Просто вспомнился кошелек — да и как о нем забудешь, когда он так много может рассказать нам о людях! Отнимите у кого-нибудь кошелек, и вы, поди, даже не узнаете, что тем самым уничтожили, убили человека. А встретите другого, захотите его убить, а он тут же сам сунет руку в карман и скажет: вот тут кошелек и в нем все, что имею! А хотите, так я для вас еще и последние штаны сниму! Подаст он вам руку и по-дружески засмеется. Вопрос, стало быть, ставится так: чему больше доверять, что предпочтительнее — кошелек или мысль? Ну и святая простота! Хорошую, мудрую мысль может выдать любой, случается, она и сама лезет в голову, а то из книги ее выудишь или поймаешь на улице, а вот с кошельком или бумажником многие и во сне не расстаются, и на улице сжимают деньги до того крепко — аж рука немеет. Мыслью мало кто дорожит, даже толстосум иной раз швыряет вам мыслишку из своих духовных запасов, а вот в кошель или бумажник ни за что не даст заглянуть. Добрый совет, говорят, золотого стоит! Я б его и за пятак уступил, да кто польстится? Кто мне этот пятак даст? Дай мне кто дельный совет, я бы и кроны не пожалел, а то и двух, только, конечно, не сразу бы отдал — в последнее время я задолжал. И немало! Лучше даже не скажу сколько! Счастье еще, что добрые советы даются и за спасибо, люди изо дня в день одаривают друг друга добрыми советами! Сколько же я их наполучал! Случалось, конечно, и сердился, если какой озорник меня надувал, подсовывал негодный совет. А впрочем, возможно, он и сам давал маху. Черт знает как оно было на деле! Теперь-то я уже не сержусь, не знаю даже, на кого и сердиться. Что ж, тащите ко мне добрый совет! Обменяемся! Слово за слово! Не за деньги же его продавать! Доводилось ли вам получать даром пятак? Давал ли вам кто-нибудь крону за здорово живешь? Ну а менять пятак на пятак мне неохота, у меня и времени нет, пусть другие этим занимаются!
Я, конечно, отнюдь не хочу сказать, что отказался бы от денег или что в них не нуждаюсь. Не скажу и того, что слово весит больше, чем деньги. Как бы не так! Стану я такое болтать! Долгие дни и ночи, из которых складываются недели, месяцы, годы, да-да, многие годы, философ роется в книгах, изучает, просвещается, философствует, размышляет о себе и о людях, о земном шаре, что миллионы лет вертится вокруг солнца, так же как иная планета несется вокруг какого-нибудь иного солнца, ведь во вселенной много солнц, много солнечных систем, много рождающихся и догорающих звезд, огней и тлеющего пепла, и светящихся и темных туманностей и облаков, и белых карликов и черных гигантов; и на это на все взирает из жалкой, задымленной конурки человечек, которому хочется узнать, где же, собственно, находится эта его крохотная конурка, на какой орбите, на какой дороге, в какой части вселенной? Может быть, в центре? Или с краю? Вот найти бы ему этот центр, найти бы и край, поглядеть туда и сюда! Может, тогда бы он и себя лучше постиг, а станет ему тоскливо (ведь философам тоже иногда бывает тоскливо), так выберет он какую-нибудь из звездных орбит и помчится по ней, а там, глядишь, набредет и на другую орбиту — ведь во вселенной столько дорог! А раз много дорог, наверняка и много людей! Их надо только искать. Как же может там их не быть?! Смешно! Было бы просто смешно, если бы только на одной-единственной звезде, на маленькой, жалкой землишке люди лезли из кожи вон! Во вселенной много звезд, больше, чем у богача денег, хотя у иного богача денег несть числа. Где-то во вселенной на какой-то другой планете живет мой брат, которому я с радостью подал бы руку. И вот пока философ (любезный читатель, конечно, уже догадался, каков он, этот философ!) воспаряет мыслью, тот, кто держит в руках кошелек — а может, и главную торбу, из которой платят и философам, и ученым, и художникам, и им подобным, и прежде всего тем, кто ловок отвешивать поклоны, — небрежно и самодовольно усмехается, ибо знает, что и у философов урчит в животе, а значит, и философ однажды явится к кошельку на поклон. Так кто же после этого глуп? Кто больший дурак, скажите на милость?! Философ видит далеко, но при пустом кошельке далеко не уйдет. Хотя, бывает, конечно: начнется война, оденут философа в военную форму — и двигай! Топай, философ, познавай мир! Чудно! Обыкновенный человек, как правило, попадает в мир только через войну, тогда отчизна дарует ему заплечный мешок: вот тебе, сын мой, ступай, веди себя с честью, защищай любимую родину! Не хочешь повиноваться? Расстрелять! Почему? За что? Разве я только для того и родился, чтобы меня застрелили или чтобы я кого-нибудь застрелил? Что вы, собственно, обо мне думаете? Человек из материи. И капуста из материи. Но у человека есть еще и разум, и он размышляет. Земля — если мыслить в масштабах вселенной — всего лишь кочан капусты, на котором мы копошимся, грыземся и гибнем. А тебе, скупердяю, вору, холую, мошеннику, все еще кажется — кошель не очень тугой!..
Вот и опять это пространное словоблудие! Кого же теперь винить? Кому его приписать? Имро? Автору? Придется, наверное, обоим! Уж мы как-нибудь с ним поделимся.
10
Когда Имро уходил из имения, начало смеркаться. Из квартиры управителя несся громкий хохот — мужчины изрядно выпили и совсем дали себе волю.
Управитель вышел проводить Имро. — Уже уходишь, Имришко? — кричал он с порога. — К чему такая спешка?
— Уже поздно. Пойду. Жена ждет.
Имро был не в духе. Он жалел, что не ушел раньше. Мог ведь уйти еще с Карчимарчиком, к тому же — и он, пожалуй, обязан был это сделать — мог за него и вступиться. Почему же он не вступился? Сидел тогда у окна и слышал, как Киринович разговаривает с Карчимарчиком, как гонит его. Гонит, словно мальчишку. И Карчимарчик послушался. Еще извинился перед управителем. Как можно было стерпеть, чтобы Карчимарчик извинялся перед таким дураком и тупицей!
Имро злился и на Кириновича, и на себя. Потом вдруг подумал — уж не злится ли он на управителя по какой-либо иной причине, но тут же отогнал эту мысль.
Уходя, он заметил в дверях конюшни трех батраков. Они курили и о чем-то разговаривали. Между ними стояла плетенка для сечки. Один из них злобно пинал ее ногой. — Провались они ко всем чертям! — кипятился он. — Собрание вздумали устраивать, а меня турнули с него: я, мол, только… для чего я, а? Для говна, для работы, черт подери! А они? Свиньи поганые! Буржуи! Пришли сюда нажраться да надраться! Сфотографироваться, видите ли, пришли… Так их распротак! И управителя, и житуху эту! Дома куснуть нечего, все сидят голодом, болящая жена вечно кхекает, а я должен идти за этих бар подыхать, немца на себя науськивать, чтоб любая поганая свинья нынче или после войны могла на мне ездить?.. Мать вашу так и разэдак! Погодите, погодите, я еще погляжу на эту вашу войну! Погляжу и на управителя, и на этих торговцев, и на вонючего сопливого доктора, мне бы только винтовку раздобыть! Все разнесу! Погодите, вот увидите, мне бы только винтовку, ай-я-яй говно в руке, как шарахну, как раздолбаю все к чертовой матери!
Имро с минуту прислушивался. Невольно по спине забегали мурашки. На миг ему показалось, будто эти слова и к нему относились.
Потом он улыбнулся и зашагал прочь. Радовался, что ушел из имения. Но домой не хотелось. Вдруг мелькнула мысль: раз Штефка еще сегодня должна вернуться из Церовой, то, значит, можно ее и подождать, где-нибудь и подкараулить. Можно и навстречу пойти. Лишь бы знать, как она пойдет: тропинкой иди по дороге?
А потом? Ну встретиться с ной, а потом что? Что он ей скажет? Что ему от нее надо?
А Вильма, как же она? Вдруг догадается? Не будет ли он виноват перед ней?
Он долго раздумывал. Штефка теперь казалась ему роднее, чем Вильма. Мысль возвращалась к ней все настойчивей, в голове все время вертелось: «Надо с ней увидеться! Надо с ней увидеться!»
11
Штефка шла по тропинке. Она не спешила, помнила, что в имении гости, но теперь они совсем не интересовали ее. Встречаться с ними ей не хотелось.
Хоть бы разошлись все!
Но она знала, что Йожо будет удерживать их, и некоторые, позволив себя уломать, останутся в имении до поздней ночи или уйдут домой только под утро. Лишь бы не упились чересчур — Штефка не выносила пьяных. А пуще всего боялась, что и самой придется выпить — заставят, а потом до самого утра притворяйся веселой, чтобы Йожо не упрекал ее, будто не умеет подлаживаться, не умеет вести себя в приличном обществе.
Но ей теперь любое общество безразлично, ни под кого неохота подлаживаться, и уж вовсе не занимают ее какие-то дурацкие или скользкие речи. Нынешний разговор между Йожо и отцом встревожил ее. Удивило, что в речах отца не было ни злости, ни раздражения, ей даже сперва показалось, что можно с ним согласиться, но потом она уловила в его голосе что-то чужое, придающее словам какой-то особый смысл, особое значение, и она не была уверена, что точно улавливает этот смысл и что вообще хорошо понимает отца. Отец был человеком толковым, любил говорить рассудительно, но долгого спора не выносил: заметит, что слова его не находят должного отклика, и разом взрывается, выходит из терпения. Крестьянская рассудительность сменяется злобой, он просто-напросто выплескивает из себя ушат брани, потом сплевывает, как бы давая этим понять, что спор окончен, и, действительно, с противником он уже больше не пререкается. Но сегодня ей показалось, будто отец презирает Йожо, и это ужасно задело ее.
Идя с отцом в Церовую и раздумывая над тем, что же произошло в имении, она вдруг ни с того ни с сего расплакалась в голос: — Чего ты не поделил с Йожо? — сквозь слезы спрашивала она отца. — Почему ты все время его донимаешь? Скажи, почему пристаешь к нему?! Он же муж мне…
Отец молча шагал рядом. Возможно, он ждал подобных наскоков, но не думал, что они обрушатся так внезапно. Он даже не мог второпях найти слова, чтобы хоть как-то защититься. Он вздохнул раз-другой, потом сказал:
— Я знаю, что он муж тебе, знаю.
— Почему же тогда пристаешь к нему? — не отступала она. — Ты ненавидишь, презираешь его. Презираешь, это точно. Я поняла это сегодня. Что ты от него хочешь? Что он тебе сделал? Ну скажи, что он тебе сделал?! Почему ты презираешь его?
Отец слегка оробел. — Разве я что-нибудь такое сказал? Не помню. Я хотел поговорить с ним по душам. Кому ж и поговорить с ним начистоту, как не мне?
— Да, но как ты с ним разговариваешь? Всегда только оскорбляешь его. Ведь он тебя даже сторонится, а ты его вечно отыскиваешь. Явишься и всякий раз задираешь его, приходишь только затем, чтобы его оскорблять.
— Я и не думал его оскорблять. Честное слово! Ну не плачь! Тебе, должно быть, примерещилось.
— Вовсе не примерещилось. Что он тебе сделал, скажи?!
— Не знаю.
— «Не знаю», «не знаю»! А до сих пор знал! Зачем же тогда пришел? Зачем пришел его задирать?
— Право, не знаю. Я не хотел его оскорблять. Не плачь! Тебе просто показалось. Сказал то, что думаю. Ты дурно это не истолковывай. Не плачь, Штефка! Ты уж больно чувствительная.
— А как же не быть мне такой, скажи?! Думаешь, я слепая? Почему ты его презираешь? Что тебе в нем не нравится?
— Он мне не нравится.
— А еще говоришь «не плачь»! Не плачь! В прошлом году ты мне этого не говорил! В прошлом году молчал, ничего не говорил.
— Ну ладно тебе, Штефка! Не реви! Образумься!
— Вот буду реветь! Я же знала, я же видела. Ведь я давно знала, давно видела, что он тебе не нравится… Думаешь, я не знала, не видела?
— Да он не такой уж плохой, Штефка, вовсе не плохой…
— Ага, теперь уж и не плохой, теперь уж и хороший!..
— Да ты хоть выслушай меня, прошу тебя! Дай договорить, выслушай! Ведь, в общем-то, я его и не знаю. Может, и не плохой он вовсе, не плохой. Может, мы просто не понимаем друг друга. Потому я и сказал, что он мне не нравится. Люди-то разные. Люди есть люди! Не можем же мы во всем понимать друг друга. Может, он просто мне не по душе. Разные мы.
— Я знаю. Думаешь, я не знаю?
— Возможно, я виноват. Вполне возможно. Может, я не такой, как он. У каждого свой характер. Я искал подходящее слово, да не нашел, не попал в точку.
— Ты к нему придираешься.
— Вовсе нет.
— Я это заметила.
— Какие там придирки! Не плачь! Это не придирки! Я только хотел доказать ему, что у человека должны быть свои собственные взгляды и в них надо верить. Верить в них и держаться их. А порой и с чужими сравнить, чтобы убедиться, что они у тебя правильные.
— Он другой, пойми же ты! Он моложе тебя, он должен быть другим. Пойми же! Попытайся и меня понять! Если ты его презираешь, это и меня обижает!
— Понимаю, соглашаюсь. Ей-богу, понимаю и соглашаюсь. И все же у человека должны быть свои собственные взгляды. И у Йожо они должны быть. Иначе какой же из него управитель? Мне кажется, он слишком часто меняет свои взгляды, а это никуда не годится — у кого нынче одно мнение, завтра другое, кто нынче служит одному хозяину, завтра другому, а там, глядишь, все новым и новым, тот обычно и хорошим слугой не бывает, такой человек подчас и сам себе даст пинка, сам себя лягнет, как подонка, чтобы, выслуживаясь, доказать, что вчера был подонком, а нынче стал еще большим. У одного есть убеждения, у другого — нет, он и без них обойдется. Я не такой, мне не обойтись. А у подонка их много, их у него всегда тьма, потому как он их ворует. Сегодня скачет на белой лошади, завтра на гнедой, послезавтра трусит на кобыле да еще кричит по-ослиному: Иа! Иа! А вдруг осел случайно понадобится — он и им поспешит сказаться.
Штефка неожиданно рассмеялась, хотя в глазах еще стояли слезы. Отец обрадовался.
— Вот видишь, — сказал он, — ты и повеселела. Я ведь не желаю Йожо плохого. Бывает, и поворчу не в меру, да разве нельзя в своей семье поворчать? Проснешься ночью, всякое лезет в голову, а сказать некому. Днем в работе забываешь, о чем ночью думал. А иной раз и за работой страх возьмет! Ведь кругом война, а мы посередке! Когда-то я был солдатом, теперь-то не воюю, зато о войне много думаю. Порой мне кажется, что войны оттого и бывают, что у людей нет собственных взглядов, что они так легко перенимают чужие. Да к чему я это говорю? Нынче и так наболтал с три короба.
Штефка немного успокоилась. Они заговорили о будничном и в Церовую пришли почти в хорошем настроении.
Но по дороге в имение она заново все обдумала, и ей опять стало тоскливо, и, погрустнев, она грустнела все больше. Да и что удивительного! Отец просто хотел утешить ее, а мнения о Йожо не изменил, может, никогда и не изменит. Эти стычки между ними на всю жизнь. И доведись отцу опять встретиться с Йожо — да хоть сегодня, — они наверняка заговорили бы о том же, завели бы свой разговор, у которого нет и, поди, не будет конца. Кто же прав?! Отец вечно в чем-то подозревает Йожо, считает его человеком ненадежным, уверен, что он никогда не вел чистой игры. Почему он так о нем думает? Почему всегда взывает к его совести? Ведь Йожо пользуется уважением, его любят, не считают хуже других; свои обязанности он выполняет исправно, работы не боится, не отлынивает от нее, об имении и обо всем, что с ним связано, печется как положено и батракам часто идет навстречу; бывает, конечно, и прикрикнет на них, но иной раз приходится крикнуть, без крику не обойдешься, но зря-то он голоса не повысит; конечно, случается и погорячится, цыкнет понапрасну, а потом все утрясется, и опять порядок. Он небезгрешен, конечно, у каждого свои слабинки, у него тоже. Штефка знает о них, знает и о тех, что скрыты от чужого глаза и какие по большей части только ей и приходится выносить. Иной раз завяжется между ними ссора и, право слово, может по-всякому кончиться; порой Штефке приходится и уступать: прикинется она глупой и позволит Йожо немного поучить ее уму-разуму. Что говорить, замужество тоже школа, а в школе иной раз проходят трудный материал, да и методы при обучении бывают суровыми, не без принуждения. И Штефка знает, что иногда из школы надо хоть на минутку да выпорхнуть. Она обычно так и поступает, как только заметит, что Йожо, ее муж, крепче сжал кулак или схватил полешко; Штефка шасть-шасть, сперва к дверям, из дверей во двор, управитель — шасть за ней, да вдруг в дверях остановится: надо же, именно в эту минуту в школу входит Мичунек, или Галис, или какая-нибудь бабешка — ну вечно сыщется поблизости какой-нибудь дьявол или искупитель; чаще всего — это Ранинец, он сперва опешит, потом добродушно ухмыльнется и скажет: «Развлекаетесь, развлекаетесь?» Штефка смеется, и управитель показывает зубки, хотя на самом-то деле у него зубищи, но на сей раз он показывает только зубки: «Развлекаемся. А что же нам делать?» В руке он держит буковое полешко, а зачем его прятать? Поигрывает эдак с полешком, словно из удальства или шалости ради собирался плиту или печку поколотить. «А я как раз затопить думал». Он улыбается и кивает жене: «Что же ты, Штефка, ступай ужин готовь!» Правда, до сих пор Киринович Штефку ни разу не тронул. Даст бог, этого и не случится. «Чтоб жену бить?! Да какой же интеллигент станет жену бить?!» Замахиваться-то он на нее замахивался, раз два даже малость тюкнул. Но чтоб полешком?! Упаси боже! Не полоумный же он! Интеллигент — и полешко?! Этого еще не хватало! Полешко — это такое учебное пособие для острастки, что случайно время от времени само прыгает в руки… Да, замужество тоже школа, а школы бояться нечего, даже букового полешка не надо бояться — нужно только знать, когда отшвырнуть его в сторону, а когда поднять и подкинуть в огонь.
Имение было близко. В легких, еще прозрачных сумерках, заволакивавших край, желтели, как бы излучая неяркий трепетный свет, приземистые обшарпанные стены, однако их обшарпанность сейчас сглаживалась, была почти незаметна, потому что белые и сероватые пятна мягко сливались с желтой окраской, которая так же медленно догорала, обретая все более блеклый оттенок. Сквозь кроны неказистых акаций, которые сейчас казались могучими, образуя перед строениями молчаливую защитную ограду, просвечивали кровли житниц, конюшен, хибар и даже коньки сушилен и амбаров. Потяни чуть ветер, он, может, принес бы оттуда запахи аммиака и парного молока, запахло бы ромашкой и полынью, а потяни ветер резче, он донес бы, наверно, пахучесть хвои, так как неподалеку чернел уже знакомый нам лес, в котором так приветливо, а сейчас, пожалуй, еще приветливее и обольстительнее, чем днем, белели редкие березы.
Но ветер не тянул. Стояло безветрие. Раскаленная солнцем земля, не успев еще достаточно поостыть и набраться влаги, дышала сушью; где пахло клевером, где травой, а где отдавало чабрецом, но сильнее всего благоухало хлебами, которые вот-вот уберут и свезут на подводах под песни жнецов и жниц и вечно сиплых возчиков и кучеров; а потом во дворах, на гумнах, на токах близ амбаров или прямо в амбарах их обмолотят на молотилке или твердыми, веселыми цепами, чтобы вдоволь хватило муки на пирог и на пахучий хлебец, от которого можно будет, постучав по нему задумчиво пальцем, по праву отрезать ломоть и со смаком наесться.
Из леса, с полей еще доносился птичий грай. Свистал дрозд, куковала кукушка, там-сям летали и суетились скиталицы ласточки: жалко, не к кому в гости слетать! С земли поднялся, вспорхнул жаворонок: попробую-ка еще раз! Он пел и пел, спать ему не хотелось. А вдали — кур-кур, кур-кур — горлицы исполняли ноктюрн. Воробьи, поскольку всегда в большинстве, пожалуй, немного портили общее впечатление, однако и они закатили настоящий концерт, только все переругивались, перебивали, высмеивали друг друга; а какой-то злыдень, возмущаясь, сурово честил свою разболтавшуюся подругу, упрекал ее в чем-то и от ярости чуть не клевал. Разошелся и сорокопут-дождевик, не зная второпях, кому подражать, он запел просто так, по-любительски, но при этом замечательно трелил, свистел, жаловался, заливался, вытягивал шею, изображая порой и нежность, протяжно улещивал, потом вдруг выдал стаккато и, выпалив всю обойму, презрительно фыркнул: эй вы, артисты плевые, слыхали?! На ячменное жнивье, отужинав, вышел фазан — прогуляться и, наверное, покрасоваться перед незрячими днем совами, козодоями и нетопырями своим гребнем и, уж конечно, пестрым, по-петушиному нахохленным хвостом; он издал короткий, но выразительный крик, потом щеголевато огляделся и гордо понесся дальше. Отозвались и куропатки; может быть, за минуту до этого их кто-то вспугнул с какой-нибудь межи или клевера, либо они всполошились на дороге, где бегали стайкой, склоняясь друг к другу головками, переваливаясь и косолапя. А может, им просто захотелось взмыть ввысь, они ведь свободны, из-за этой-то беспредельной свободы они и раскачались, разбежались, затем ускорили бег, развеселились, и тут же у них заработали, затрепетали крылья, и, когда птицы взлетели, из стайки вдруг сделалась стая: радуясь и шаля, они растянулись над ширью хлебов еще больше и потому, когда опустились, плюхнулись все в разных местах, сперва перекликались, а потом умолкли: из хлебных колосьев вытряхивалось, осыпалось зерно, вот уж и впрямь замечательно! Да, лето — отличная штука! Что бы мы, куропатки, без лета делали?! Наклевавшись досыта, они теперь клюют лишь бы клевать, без охоты, без интересу, зобики у них уже полные, но кто знает, может, какое зернышко еще и поместится. Нет, не поместится? Тогда пошли! Они снова скликаются, но тем, что до отвала наелись или боятся, что у них из клювика зернышко выскользнет, не хочется отвечать. Иди-то спать! Что, что?! Никак и перепелка к нам затесалась? А почему бы и нет? Но ведь мы идем своей дорогой! Спать идите, спать! Идем, уже идем! Куропатки, идите спать! Не кричи, мы не глухие! Думаешь, мы не слышим тебя? Да если бы и не услышали, мы же знаем, где мы, знаем эти ржи и это поле, и то, и еще вон то, и знаем, что мы не очень далеко друг от друга. Спокойной ночи, перепелка, мы пошли спать!
Вдруг Штефка насторожилась; заметив, что кто-то идет навстречу, она чуть выпрямилась, пытливо вскинула голову и вскоре с удивлением обнаружила, что это Имрих. Сперва она даже обрадовалась, а потом ее охватило беспокойство.
Откуда он тут взялся? Куда под вечер наладился? Неужто в Церовую? Но почему сейчас? И почему именно этой дорогой?
Она опять поглядела на тропку, сердце у нее застучало сильнее. Она невольно остановилась: не ее же, в самом деле, он тут дожидался?
Остановиться все равно бы пришлось: они уже стояли нос к носу, мешая друг другу пройти. Имро улыбался, а Штефка почувствовала, как ее бросило в жар. Должно быть, она вся красная, и Имро это видит, хотя она и улыбается, прикрывая улыбкой смущенье: господи, только бы побыстрей все кончилось!
И чтобы приблизить этот момент, она заговорила первая: спросила Имро, куда он идет, куда путь держит.
Он выпятил нижнюю губу и, склонив голову к правому плечу, полушутливо подвигал им; он тоже волновался, правда меньше, но волновался — уж если об этом можно писать здесь, то почему не признать? Да, он волновался, а двинул плечом, только чтоб себя немного взбодрить. — Я был у вас в имении, — ответил он почти спокойно. — Да вот ушел, надоело.
— Правда? — Взгляд Штефки оживился; выражение лица сделалось другим — и от неожиданности и от радости, что разговор наконец завязался. — У нас был? А кто там? Еще сидят? А кто именно?
Имро сказал, что гостей еще много. Назвал несколько имен. А потом, верно для того, чтобы Штефка не задавала лишних вопросов, обронил еще фразу-другую; сказал и о том, о чем она не спрашивала.
Помолчав, он чуть перевел дух и вновь заговорил о себе: — Я пошел туда поглядеть: хотел знать, о чем толковать будут.
Штефка смотрела на него с любопытством. Иногда взгляд ее поворачивался к имению — оно виднелось шагах в двухстах, самое большее — двухстах пятидесяти.
Птицы, будто по чьему-то велению, притихли и улеглись спать, только изредка что-то попискивало, а в вечернем воздухе даже промелькнула ласточка и коротенько прочиликала «доброй ночи».
— Я думал, что ты дома, — сказал Имро, — знал бы, что тебя нет, и не пошел бы туда.
Штефка недоверчиво улыбнулась и сказала: — Не завирай! Все равно не поверю. Только что ты говорил совсем другое.
— Не вру я! — Взгляд Имро становился все вкрадчивей и соответственно окрашивался и голос: Имро втолковывал ей, убеждал, что он на самом деле пошел в имение ради нее. — Я весь день тебя дожидался, да все попусту.
Штефка, смутившись, снова огляделась. А что, если кто-нибудь из имения увидит их? Не надо бы ей тут с Имро стоять.
— Я была в Церовой, — сказал она. — Сегодня задержалась там дольше обычного. Йожо еще рассердится на меня.
— Не думаю, — заметил Имро.
Но Штефка, покачав головой, твердила свое. — Ну да ладно, — улыбнулась она. — Вывернусь как-нибудь.
Подумала-подумала и как бы извиняясь: — Ну мне пора!
И неторопливо пошла вперед. Не решаясь удерживать ее, Имро двинулся следом.
Но Штефке это не понравилось. Не могут же они заявиться в имение вместе! Тут же пойдут сплетни, пересуды.
Поэтому, сделав несколько шагов, она остановилась. — Знаешь что? — предложила она. — Давай повернем назад. Походим немного.
Имро приятно удивился такому предложению. «Добрый знак!» — удовлетворенно подумал он. Они повернули и вскоре сошли с тропки.
Штефка объяснила: если бы их увидели из имения, получилось бы очень неловко. Имро согласился, но в душе радовался, что на свете бывают и неловкие вещи, иной раз они даже кстати. На этот счет, конечно, у него были свои соображения, но он оставил их при себе.
Они шли на приличном расстоянии друг от друга, и Имро с удовольствием сократил бы его, а то и вовсе бы устранил, но пока не осмеливался. Тут рубить сплеча не годится, можно случайно что и напортить, навредить делу.
Хуже всего, что не ладился разговор. Как только ни распинался Имро, но Штефку, казалось, это мало трогало, во всяком случае не так, как ему бы хотелось. Она была вся не своя, рассеянная, встревоженная; то и дело останавливалась и все твердила, что ей нельзя так надолго отлучаться из дому: чего доброго, подымется шум.
Но Имро уверял ее, что никакого шума не будет — в имении дым коромыслом, гости уже под градусом, и все еще пьют, и тараторят, и веселятся, и кончать вовсе не собираются. Едва ли кого из них заботит сейчас время.
Он хотел намекнуть, что и Йожо изрядно подвыпил и, верно, уже покачивается за столом либо, спотыкаясь, бродит по горнице и старается перекричать всех, но такое замечание могло бы обернуться и против него. Штефка могла б усмотреть в нем скрытое ехидство, злонамерение, предубежденность по отношению к Йожо и из этого заключить, что Имро не испытывает к ее мужу особо дружеских чувств.
Нет-нет, Имришко! Прикуси язык! Любишь ли ты Йожо, не любишь — это твое личное дело, откровенничать ты ни с кем не обязан, думай что хочешь, но язык не распускай! Никаких намеков и пересудов! Нечего Йожо чернить! Да и что ты о нем такого знаешь, ну что тебе о нем известно?! Ровным счетом ничего. Глупости одни, бредни! Только зря оконфузишься перед Штефкой, уронишь себя в ее глазах, а то и огорчишь ее или вовсе рассердишь. Обидится она — и прощай! Беги потом за ней, втолковывай, убеждай: голубушка, не убегай, не глупи, выслушай меня, ведь я не то хотел сказать! Нет, Имришко, негоже! Сам должен соображать! Уж лучше похвали Йожо, что тебе стоит, похвали его, а там увидишь — может, тем и умаслишь Штефку!
Нет уж, дудки! Охота была ему Кириновича хвалить. Просто надо подольше тянуть разговор, а там видно будет!
— Чего зря тревожишься, — говорил Имро, покачивая головой, даже, собственно, всем телом — от самых ступней; он покачивался медленно, мерно, переваливаясь при каждом шаге и при каждом втором клонясь все ниже, все ближе к Штефкиному плечу, должно быть просто затем, чтобы она лучше слышала. — Для гостей у вас все приготовлено. Йожо вовсю их обхаживает. У вас весело. Гости довольны, еды хватает.
— Ну и что ж! — тянула Штефка свое. — Надо хоть показаться гостям.
— Ну и покажешься, — заверял ее Имро, смирясь с этой мыслью и довольный тем, что не обронил о Кириновиче худого слова. — Времени хватит, сегодня воскресенье, куда им торопиться? Не разойдутся они так скоро. Кстати, и время еще не очень позднее.
Они продолжали путь, Имро тараторил без умолку, растягивая беседу, он старался произвести на Штефку впечатление, расположить к себе, поэтому то и дело заговаривал с ней и пытливо всматривался, находят ли его слова отклик. Штефка слушала внимательно, но особого интереса к разговору не проявляла; если и вставит словечко, то вскользь, словно только затем, чтобы подтвердить то, что уже отметила кивком головы, а в основном только кивала. И по лицу ее многого не отгадаешь, хотя она и пыталась порой улыбнуться, однако это была не та улыбка, что могла бы Имро подбодрить и разжечь. А если и разожгла отчасти, то отчасти и смутила. Имро был слегка подавлен, он никак не мог обрести легкость и сосредоточиться на беседе, сосредоточиться настолько, чтобы говорить непринужденно и занимательно. В голове у него роилась уйма мыслей, но самые прекрасные не находили выхода, он не мог найти для них слов, они застревали в горле, липли к языку, и вместо них наружу вырывалось нечто другое: слова прыгали друг за дружкой и складывались во фразы совсем иные, чем ему бы хотелось. Штефкина молчаливость словно сковала его. Он болтал, порол всякую чушь, беда да и только! Временами он и на себя сердился — сам себе казался смешным. Вдруг ей надоели его речи? И чему удивляться! Ведь могла бы она подладиться, разговориться — не только же ей все слушать да слушать. А она в душе, поди, и смеется, ну конечно, смеется над тем, как он неловко коверкает и перевертывает слова и некоторые — как раз самые главные — никак не может выговорить. Вот уж и правда — беда! А все равно ему хорошо! Хотя зачем он все это выдумал? Что ему, собственно, надо? Чего он от нее добивается? Почему задержал ее по дороге? В самом деле! Разве у него какие сложности? Разве он Вильму не любит? Нет, сейчас он об этом не думает! Просто сегодня Имро какой-то невыносимый, тупой, нудный, ни одного умного слова не вымолвит. Просто дурак дураком! И все же будем надеяться, что Штефка от него не уйдет! Будем надеяться!
Постепенно он, правда, осмелел, расстояние между ними потихоньку сократилось, и некоторое время они уже шли плечо к плечу. Вдруг Штефка опять остановилась: — А куда же мы идем? — спросила она каким-то иным, испуганным голосом. — Посмотри, как стемнело!
Дорога, по которой они шли, раздваивалась: одна вела в лес, другая в имение, но лес можно было и обойти, если бы Имро не рассчитывал обойти имение; и тут, когда Штефка внезапно остановилась, словно испугавшись чего-то, его и вправду охватил страх, страх перед своим умыслом, добрым ли, злым ли, но, по существу, невинным умыслом, и от этого страха, о котором он, правда, тотчас забыл, он не успел затормозить шаг, а поскольку до этого немного отстал, то казалось, будто шагнул он с намерением прижаться к Штефкиному плечу. Испуг, если это действительно был испуг, длился недолго. Имро, почувствовав в голове жар, чуть неловко и смущенно обнял Штефку. Она мягко отстранилась, но его рука осталась у нее на талии.
Какую-то минуту они недвижно стояли. Потом Штефка посетовала: — Боже мой, мне же пора домой! Не надо было идти сюда!
Имро глубоко вздохнул, потом тихонько сказал: — Штефка! — и привлек ее к себе, чтобы видеть ее лицо. Он долго глядел на нее и, кажется, хотел поцеловать, но заметил, как задрожали ее губы. А в глазах стоял страх. Поэтому он только ближе наклонился к ней и тихо спросил: — Ты боишься меня?
Она покачала головой, должно быть хотела сказать, что не боится, но губы у нее еще сильней задрожали, и она не могла выговорить ни единого слова. Он погладил ее по лицу, от виска вниз, и вдруг у нее на глазах заблестели слезы, а потом ее всю затрясло в плаче.
Имро смутился. И не Штефкины слезы смутили его, удивило ее поведение. Трудно было поверить, что эта живая и веселая девушка, какой он знал ее до замужества, казавшаяся ему такой же и после замужества, могла вдруг так перемениться. Такой он Штефку не знал, такой никогда не видел, не мог бы даже представить себе. Он гладил ее волосы, спину, плечи, но она плакала все громче. Он чувствовал, как у него намокает рубашка. В чем дело? Что все это значит? Почему она так плачет? Он говорил с ней, успокаивал, но не знал, чем объяснить ее поведение. Встревожился даже, что ее плач могут услышать.
Внезапно Штефка подняла голову. Кусая дрожащие губы, она заглянула ему в глаза. — Я люблю тебя, Имришко! — сказала она сдавленным, надорванным голосом и, опустив опять лицо, стала дрожащими губами целовать рубашку Имро, словно хотела проникнуть сквозь нее.
Эти слова поразили Имро. Поразило прежде всего то, как она произнесла их. Такие же слова вертелись и у него на языке, но он не решался их выговорить, а сейчас, когда она сделала это, он просто-напросто испугался. Но вскоре им овладела бурная радость, мир вокруг зашатался, закружился, стал будто даже ломаться. Имро внезапно почувствовал, что и в нем что-то сломилось. Радость разлилась по всему телу, проникая в каждую мышцу, жилку, а вместе с радостью росла в нем и жалость. Имро приподнял лицо Штефки. Посмотрел ей в глаза. Потом обеими ладонями погладил ее по голове и поцеловал в лоб, хотя мог бы поцеловать и в губы. И снова погладил.
А больше ничего не было. Он тихо вздохнул и сказал:
— Пошли!
И они действительно потихоньку двинулись в путь.
Шли молча. Два раза они остановились, но только на миг, поглядели друг на друга и опять пошли дальше.
Недалеко от имения остановились в третий раз. Долго-долго смотрели друг на друга, и Штефка вновь прошептала: — Я тебя люблю!
Имро покивал головой: это могло означать то же самое, что сказала она, а может, и то, что он об этом знает, но могло означать и гораздо большее.
Потом он быстро поцеловал ее, на этот раз в губы. Нашел и сжал ее руку. — Спокойной ночи!
Штефка подняла брови, взглянула на него еще раз и прошептала то же самое.
Он стоял на тропинке и смотрел, как она уходит.
12
Все последующие дни Имро прожил словно в горячке. Ходил как лунатик. В голове гудело, точно в улье. Он утратил душевное равновесие, покой, способность трезво думать, бороться с собой. Штефка неотвязно стояла перед глазами, но он не хотел признаться себе, что влюблен в нее, убеждая себя, что все это досужие вымыслы, что он скоро опять забудет о ней, и, однако, при всем при этом мечтал с нею встретиться.
Он чувствовал, что Вильма о чем-то догадывается, хотя сохраняет вид равнодушный: может, выследить его хочет, а уж как выследит — шуму не оберешься.
Такие мысли томили Имро постоянно. А что, если довериться Вильме? Разве он уже не любит ее? Хотя нет, доверяться ей ни к чему. Толк-то какой? Только себе навредит, и Вильма зря будет терзаться, а потом всю жизнь колоть ему глаза его же словами, попрекать, что он перед ней согрешил.
Согрешил? Не согрешил? Знать бы! А может, он любит и одну и другую, хотя сейчас ему кажется, что к Штефке его тянет сильнее, во всяком случае, он так чувствует, и оттого он такой несчастный, несчастный и потерянный — ведь он никак не может совладать с этим. Бессилен даже управлять собой, воли не хватает, вот и ходит сам не свой. А то и вздохнет украдкой: господи, что же мне делать? Ну что мне делать? Что мне все-таки делать?
Было бы хоть с кем поделиться! Но с кем? С Вильмой откровенничать он не станет, она не поняла бы его, отцу и то ничего не втолкуешь. Боже всемилостивый, до чего сложна жизнь! До чего жизнь сложна и запутанна! И поговорить-то не с кем! И поплакаться-то не перед кем! И пожаловаться некому!
Имро убежден, что самый несчастный, самый непонятый, самый истерзанный на свете человек — это он. Некоторые мужчины любят изображать из себя страдальцев. Имро к таким не относится, и все же сейчас он никак не совладает с собой. Что с ним стряслось? Сколько раз его одолевало желание бежать к Штефке, уверить ее, что он свою жену по-настоящему любит, но, когда они встречались, он забывал о Вильме и вел себя со Штефкой так, как ведут себя все влюбленные, все потерявшие голову люди.
Киринович дважды в месяц ездил по служебным делам в Братиславу, где у него, как он сам говаривал, было много работы и всякой хлопотни. Слово «работа» он часто заменял словом «обязанности». А порой для пущей важности пускал в ход все три слова: «У меня много работы, обязанностей и всякой хлопотни». Конечно же, хватило бы и одного из этих слов, но Киринович предпочитал много слов. На слова он никогда не скупился. Всякий раз перед дорогой он с печалью в голосе предупреждал жену, что обязанности и всякие хлопоты займут у него по меньшей мере день! «По меньшей мере» означало, что это будет не день, а два. Ведь в «обязанности» управитель включал и встречи с приятелями, а их у него в Братиславе было не счесть, и время от времени он любил с ними встретиться, немного потолковать, а то и кутнуть. Ведь кто знает, сколько у такого управителя обязанностей, хлопот, или сколько их еще может быть? Словом, что было, то было! Главное — без него в имении на время воцарялся покой.
Покой! Опять же всего лишь слово! А на слова особенно полагаться не стоит. Кто-нибудь возьмет да скажет: «Покой!» И тут же обнаружится, что это сплошное надувательство; подлинного покоя-то и нет. Есть на свете люди, которые не знают покоя, не могут даже вообразить его, просто не понимают, что это такое. Вы, к примеру, скажете: «Покой!» И при этом еще улыбнетесь, дабы ясно было, что вы себе, да и другим, действительно от души желаете подлинного покоя. Но есть и такие, что после этого слова охотно заехали бы вам в рожу. Всякие на свете бывают люди! Некоторые думают, что это слово лишь им дано произносить. Однако слово есть слово, придет вдруг в голову и ну вертится на языке. Но в разных устах оно звучит по-разному. Иной раз — как угроза: «Помалкивай! Оставь меня в покое! Не разоряйся тут, ни звука больше, не то вздую как следует». Иногда говорят для острастки: «Тихо! Спокойно! Кто-то идет! Минутку покоя! Тсс!» Или: «Мне нужен покой! Люди добрые, оставьте меня в покое! Ну пожалуйста, оставьте меня в покое! Отстаньте от меня! Прошу вас, люди, оставьте меня в покое! Покоя, покоя, покоя!» Оно может означать и равнодушие: «Оставьте меня в покое! Я не хочу и слышать об этом. Хочу покоя — и баста!» Иногда это просьба не шуметь: «Тихо! Тсс! Тсс, покой! Малыш засыпает». Или это просьба вместе с молитвой: «Боже, ниспошли мне покой! Прошу вас, люди, помогите, дайте покой мне! Боже, пожелай мне покоя! Услышь меня! Видишь, как я молю тебя! Люди добрые, видите, как я прошу вас! Хоть выслушайте меня! Боже, хоть ты услышь меня! Люди, выслушайте меня, прошу вас! Ведь я хочу только покоя! Не будьте глухими и немыми, выслушайте меня, скажите что-нибудь, помогите мне обрести покой, который и вам нужен! Боже, прошу тебя, люди, прошу вас, даруйте мне покой или помогите найти его!» А тот, кто не любит кричать и не любит молиться, поскольку и молитва кажется ему тщетой и притворством, ни о чем не просит, никого ни о чем не просит, терзает самого себя, сам себе платит дань и всякий день у себя же требует платы, чтобы было чем оделять других или хотя бы обмениваться с ними улыбкой. Но если день скудный — бывают ведь скверные и скудные дни, — тогда и ему придет на ум слово, которого он так избегал и которое многие легковесно перемалывают во рту, забьется он куда-нибудь в угол, уткнется головой в подушку или спрячет лицо в ладони и шепнет тайком то, что боится вымолвить вслух: покоя, покоя, покоя!.. Вновь и вновь повторяет он это слово, играет им и, улыбаясь, обливает его робкими слезами.
Покой! М-да, настоящий покой — это как теплая, уютная комната. И это действительно комната: встретятся, к примеру, чех и словак и не станут больше друг на друга ворчать, поскольку поймут, что хоть оно так-то и так, а малость и не совсем так и что хоть оба они чуточку правы, на свете есть большая правда, чем у них у обоих; и засмеется один добродушно и скажет по-чешски: «Не горячись, брат, ступай в мой покой, там такая тишина! В Словакии ведь я тоже как дома. Взойду на Татры, о боже мой, до чего же хорошо, тихо! Чувствую себя как дома, как в собственных покоях. Вот отведай пирожка! Будь тут как дома».
Кое-кто может, пожалуй, заметить, что все это к делу не относится, что мы слишком часто отвлекаемся, затягивая повествование. Но что тут особенного! Разве уж так важно повествование? Кого оно занимает? Да и к чему оно? Тот, кого занимает только повествование, может перескакивать через страницы, а то пусть возьмет другую книжицу почитать. А о том, что должно быть в этой книге, решаю все-таки я.
Кибиц, заткнись!
Когда мужа не было дома, Штефка еще засветло запирала квартиру и, уходя из имения, говорила: — Ключ возьму с собой. Пойду навещу своих. — Так она говорила. А иной раз, — правда, это случалось редко, — как бы невзначай добавляла: — Может, сегодня и не вернусь.
Но потом обычно сердилась на себя. Слишком поздно ей приходило на ум, что она, в общем-то, и не обязана никому ничего говорить. Верно, думала: и почему я должна батракам и батрачкам докладываться?
Кстати — и об этом, пожалуй, надо сказать, — со всеми в имении она жила в добром, поистине добром согласии; муж подчас даже упрекал ее, отчитывая за то, что она, мол, не умеет держаться на подобающем расстоянии от этой вонючей, грязной, тупой, отсталой и никчемной, воровской и гнусной своры. Право слово, он упрекал ее в этом. При муже Штефка старалась держаться подальше от людской, но стоило ему выйти за порог, как она уже шныряла по батрацким лачугам. Она знала обо всем, что делается в имении; вникала в каждую свару, в каждую неувязку. Выведывала даже то, что батраки старались утаить. Бывало, пропадет мешок ржи или пшеницы, управитель ругается на чем свет стоит, рыщет по всему имению, сыплет угрозами, всех подозревает. Батраки прячутся по углам, спрашивают друг друга: «Кто бы это мог быть? Вишвадер? Голошка? Шумихраст? Илечко? Слобода? Мигалкович? Мрушкович? Или Зеленка? Илья Зеленка? Или это Галис? А мог быть и Габчо. И Мичунек. И Лойзо, и Людо, и Вило, и Винцо, и Шане, да и Йожо тоже вор. Все воры». А Штефка пороется в мужниных бумагах, а может, что и перепишет или только перечеркнет, бог ее знает! И вдруг окажется, что мешок-то и не исчез вовсе и никогда не исчезал, что даже и мешка-то такого сроду не было, стало быть, и пропасть он не мог. И управитель жене верил, хотя скреб в затылке и восклицал: «Все равно они мерзавцы! Все мерзавцы! Мерзавцы и жулики!» Но люди уже привыкли к этим словам. Хвалили управителя, хвалили и его жену. «Что ж, управитель наш по крайности такой, каким ему положено быть. И жена у него ловкая! Ловкая бабенка. А глаз-то у него какой! Ну и глаз! А жена-то, жена! Вот это жена! Словно создана для него». С той поры как Штефка стала пани управительшей, в имении все ладится. А разве не так? Право же, ладится! Все идет как по маслу. Пусть кто посмеет сказать, что не ладится». Штефка знала, что ее любят. Муж мог злиться на нее, сто раз укорять, да ей и самой было в чем себя укорять — и даже очень, — но одно было ясно: мимо тех, кто нас любит, проходить молча нельзя.
— Ключ возьму с собой. Пойду проведаю своих. Может, сегодня и не вернусь.
Имро ждал ее. О встрече они обыкновенно уславливались заранее, уславливались и о месте встречи. В имении Имро не показывался, чтобы случайно не привлечь внимания, не возбудить подозрений. Будь он менее осторожен, могла бы случиться беда и похлеще. Управитель, к примеру, мог бы в последнюю минуту по какой-нибудь нежданной причине поездку в Братиславу отложить или вернуться оттуда до срока. Достаточно было и капли беспечности, и Имро мог нос к носу столкнуться с ним. Ну было бы дело! Лучше нам об этом не думать.
Впрочем, Имро не приходилось ни размышлять, ни изворачиваться, все получалось как бы само собой: между имением и Церовой столько тропок и дорог, столько славных укромных местечек! Они словно сами предлагали себя…
А ну как однажды все всплывет наружу? Что тогда?
13
Только Агнешка с дочкой перебрались в Околичное, как Вильма тотчас, вся запыхавшись, прибежала здороваться с ними: затискала, зацеловала и одну и другую — чуть не ошалела от радости. — Агнешка, золотко, не представляешь, как я тебе рада, как я рада, что ты тут останешься. Уж до чего рада, что ты останешься тут, что вы обе останетесь. И маме теперь будет веселей, и я сюда хоть когда заскочу, вот увидишь, каждый день тут буду.
— Этого еще не хватало! — сказала смеясь мать. — Ты и так всегда тут. Прямо как гиря на шее. Дохнуть не даешь.
— Мне же тоже хочется иногда посудачить, — рассмеялась Вильма. — Вот увидите, каждый день буду у вас. Прибегу, посудачим.
Мать всплеснула руками. — О владыка небесный! Так тебя тут и ждали!
Но Вильму не собьешь с толку. — Могу прийти и помочь вам. Как накопится у вас работенки, я и помогу. Постираю, выглажу, а захотите, и сготовить могу. Все для вас сделаю.
— Ты дома делай! — охладила мать ее пыл. — Дома-то у тебя мужики!
— Да у меня с собой и нет ничего, — засмеялась Агнешка, роясь в чемодане, где было кое-что из белья и одежды. — Взяла-то я всего ничего, лишь бы донести. Остальное Штефан по почте вышлет.
Штефан работал в Главном жандармском управлении, и ему пришлось остаться в Штубнианских Теплицах. Агнешка очень огорчилась, но утешала себя тем, что это временно, война все же кончится, не будет же она длиться целую вечность. Должен же когда-нибудь кто-то выиграть ее или проиграть, или люди как-то иначе договорятся, война ведь всем давно очертела, а, как наступит мир, Главное управление вновь переведут в Братиславу — и все опять будет ладно. Только когда же, когда это случится? Штефан говорил, что ждать, пожалуй, и не стоит, что лучше он попытает другой путь: напишет заявление, чтобы его освободили от должности в Главном управлении и перевели в какой-нибудь жандармский участок на западе Словакии. Может, здесь поблизости какое свободное местечко и найдется. Господи, был бы он уже здесь! Только бы его просьбу уважили!
— Ведь там просто ужас, — рассказывала Агнешка, — почти каждый день тревога! Сперва-то были учебные, а теперь что ни день все хуже: партизан в горах — тьма, а Штефан и не заикается о том и мне заказал — мол, не моги и не смей и знать не знай, да я вообще-то ничего и не знаю о партизанах.
— Господи Иисусе, да почему же? — заудивлялась мать. — Кто же о партизанах не знает? И когда Галис утащил у Кулиха окорок, все ругали партизан.
— Только там их видимо-невидимо, знаете, сколько их там?! А ночью, ночью повсюду затемнение…
— Да знаю я, — сказала мать. — Дело известное, их там уйма, уйма всяких шалопутов. А каково же бедному да глупому, да хоть, к примеру, такой дуре, как я, глупой-преглупой, ведь вот тоже целый год по бедности кормлю свинью, а как потом опять же по бедности свинью выкормлю, нагрянет какой шалопут да в один присест мою свинью-то и слопает!
— Ой, мама, ведь не так оно, не так!
— А я, по-твоему, дура, что ли? Уж кто-кто, а я-то знаю, что такое свинья и как с ней намаешься, а там в Турце бедные деревни, словацкие деревни! А когда кормишь свинью, целый год одну свинью, право слово, ох и тяжко свинью выкармливать, право слово; человеку даже не по себе делается, ей-богу, не по себе! Человек-то — он всего человек, самый обыкновенный. А потом заявится какой шалопут, а свинью-то небось тяжко выкормить. Ох и тяжко! На одну свинью и одного шалопута достанет, и одного достанет, а сколько же их, господи, этих шалопутов на словацкую деревеньку! Боже ты мой, ведь и сказать-то страшно, до чего я глупая, до чего глупая! Ой, сколько же всяких шалопутов на словацкую бабу, на словацкую свинью, на словацкую деревню, сколько же этих шалопутов!
— Дались тебе эти шалопуты, — говорит Агнешка. — Речь ведь о том, чтобы Штефана перевели. Знаешь, как там ужасно? Каждый день тревога, каждый божий день! Поначалу были одни учебные, а теперь ужас, просто ужас! Ничего вы не знаете! Верьте не верьте, а их там видимо-невидимо!
— Совсем как тут. — Мать вновь ее перебила. — Нынче везде затемнение. Думаешь, уж больно тревожусь из-за этого? Ничуть. Бумаги мало, что ли? Заклеила окна и двери, теперь мне покойно, по крайней мере покойно, хотя, что говорить, покой я могла себе и иначе устроить, зачем мне для этого затемняться. Лягу чуть пораньше спать, вот и свет сберегу. А люди часто думают, что у меня свет горит, что у меня дома свет горит. Фигушки горит, вообще ничего не горит, вообще не горит. Только и бывает, что маленькую лампочку зажгу, а то и не зажгу вовсе, и свечки у меня даже нету, только та освященная громница[32] с прошлого года, только та и есть у меня, а к чему ее зажигать? Жалко, ей-богу, жалко ее зажигать. Нашарю впотьмах постель, да ее и шарить не надо, лягу себе и сплю. Свет берегу.
— Мама, — обратилась к ней Вильма, — не все же ложатся спать с курами.
— Больше всего я самолетов боялась. — Агнешке позволили, наконец, вставить словечко. — Ой, как я этих самолетов боялась. Иной раз и ночью, и ночью иной раз такой страх найдет, такой ужас! Ей-богу, не вынесла я, взяла да и убралась прочь.
— Я бы вынесла, — засмеялась мать.
— Гула я не выношу, — сказала Агнешка. — А здесь самолеты так же гудят?
— Ой-ей-ей! Еще как! — отозвалась опять мать. — Чай и у нас воздух есть. Или думаешь, воздуха тут нету? Еще сколько его! По воздуху они летают, летают по воздуху, отсюда и туда. Сколько раз мы на них с Вильмой смотрели, сколько раз их считали! Мы уже к этому гулу привычные.
— Я тоже привыкла, — сказала Агнешка. — А страшно, страшно там, знаете, как страшно?! Там еще страшнее. Там горы, Штубнианске Теплице в горах, в самых-самых горах. Кругом одни горы. Бывало, и Штефан пугается. Ой, как летят они, как летят, и мы все бегом в убежище, а Штефан, бывало, совсем напугается. И он сказал, что по крайней мере теперь, когда я в положении, мне нельзя там оставаться.
— Нууу! — Обе стали ее оглядывать. — Правда? Ты ведь даже ничего не сказала, ничего не написала.
— А зачем было писать? Вы разве не знали? Да неужто вы не знали? А я-то думала, вы знаете, что вы уже узнали.
— А откуда? Ведь ты нам не сообщила, не написала!
Вильма поглядела и сказала оценивающе: — И не заметно совсем.
Агнешка, почти оскорбившись: — Ага, еще как заметно! Гляди, как заметно! Гляди, какая я! — Она выпрямилась, чуть оттянула, одернула платье. — Видите, какая я?
У матери был глаз наметанней, зорче: — Заметно. Ну как, видишь или не видишь? По крайности будет прибавление семейства. Опять ребятенок. Завтра же в передней горнице приберусь.
— Мама, — поддела ее Вильма, — ты же там вчера прибиралась!
— Вот! — Мать переглянулась с Агнешкой, пальцем указала на Вильму: — Вот видишь, как она меня вышучивает!
— Ай-я-яй, да вы все такие же дурашливые, что одна, что другая, — заудивлялась на них Агнешка. — Все еще друг дружку поддеваете? Неужто вас это еще забавляет? Ведь и я прибираюсь, и я наводить порядок умею. Боже, Вильма, до чего же ты глупенькая! Ведь и ты у себя наводишь порядок!
— А как же, навожу, — похвасталась Вильма.
— Ей Гульданы помогают, — выдала ее мать. — А как помогут, так у нее времени хоть отбавляй, вот она и таскается сюда что ни день.
— У меня всегда время есть, — смеялась Вильма. — Его у меня всегда вдоволь. Ну как, прибраться тут? Как бы я вам тут все порасставила. Так значит, у нас будет маленький? — Она весело тряхнула головой, глаза у нее засверкали. — А Зузка? Где Зузка? Ой, малышка уже глазки заводит! Конечно, устала с дороги! Пойду-ка уложу ее в задней горнице! Либо ты, мама, ступай и уложи ее там поудобней.
14
Несколько дней кряду, радуясь Агнешкиному приезду, Вильма не могла толком ничем заняться, слонялась из угла в угол, хваталась за одно, за другое, но все валилось из рук.
«Боже, да я ни на что не гожусь!»
А выпадало немного свободного времени, она спешила к сестре. И опять разговорам не было конца.
Раз, а то и два в неделю Агнешка получала от Штефана письма; всякий раз она убегала в переднюю горницу и там, втихомолку читала их. Мать заглядывала к ней, хотела знать, что пишет Штефан, но Агнешка артачилась, утаивала письма.
— Глупая! — настаивала мать. — Жалко тебе прочитать, что ли?
— Не могу.
— Ну почему ты такая глупая? Я же никому ни-ни. Вильме и то словом не обмолвлюсь. Дай сюда! Не хочешь читать, так дай его мне! Одним глазком взгляну и тут же верну.
Вильма обычно врывалась в дом с шумом. — Агнешка, не таись! Знаю о письме, мне почтальон сказал. Быстро читай! Я хочу знать, что пишет Штефан.
— Какие вы противные! И что вы такие любопытные? Чего пристаете? Разве моя вина, что вам никто не пишет? Да там и нет ничего такого. Кланяется, вот и все.
— А как кланяется? Ну читай же, Агнешка! Мы хотим знать, как он нам кланяется.
— Зачем мне читать? Я и так все помню. А хотела бы, могла бы и присочинить.
— А ты лучше не присочиняй!
— Да не могу я прочесть. Правда!
— Почему не можешь? — В Вильме росло любопытство. — Видишь, какая ты? Теперь уж я от тебя не отстану, потому что мне стало еще интересней.
— И мне интересно, — призналась мать. — Где письмо? Куда его спрятала? Немедля покажи! А некоторые места можешь и пропустить.
— Лучше не надо! Пусть ничего не пропускает.
Наконец Агнешка сдалась.
Письма Штефана были красиво и аккуратно написаны, аккуратным и обстоятельным было их содержание: он сообщал Агнешке, не упустив ничего, обо всех новостях, событиях, о разных забавных, повседневных мелочах и всегда в письмах было множество вопросов, советов, примеров, наставлений, приветов и поцелуев на долю каждого. Иной раз, в самом деле, было просто трогательно, как он умудрялся всех и все держать в памяти, поминать и то и се, спрашивать об одном, другом, третьем или даже о совсем далекой родне и слать поклоны именно тогда, когда было нужно.
По поводу каждого письма Штефана начинались бесконечные толки. Порой в разговор приходилось вступать и Имро — Вильма всегда обо всем ему докладывала.
Имро любил свояка, но, случалось, и злость брала на него, и тогда начинал он ворчать: — Черт возьми, вы ни о чем другом и не говорите, все только о Штефане. Вы что, думаете, он там пропадет? Съедят его там, что ли? Сапоги ему были нужны, да? Ведь я его туда не посылал, я ему сапог не навязывал. Хотел быть жандармом, хотел носить форму, пусть теперь и носит ее. Думаете, ему кто поможет? Кто ему теперь поможет? Ждать надо! Ждите конца войны, а там, глядишь, что-нибудь да проклюнется! До некоторых вещей человек своим умом дойти должен. Хочешь носить сапоги и форму, топай, маршируй, слушайся, повинуйся, маршируй и слушайся. Я за него топать не собираюсь. О таких делах надо было раньше думать. Что в армии, что в жандармах — никакой романтики уже не осталось. А может, ее никогда и не было. А хоть и была бы, теперь каждый, у кого голова на плечах, плюет на романтику. В форму человека можно только впихнуть. А того, кто лезет туда из-за денег либо ради сапог, мне не жалко. Всяк умный, пока все хорошо, а когда плохо, да-да, когда потом туго приходится, вздыхать поздно. Раньше надо было вздыхать! Ведь когда плохо, так всем уже плохо. Каждый сам должен с бедой справиться.
15
У Имро, правда, были иные заботы. Он встречался со Штефкой два-три раза в неделю и всякий раз цепенел от страха при мысли, что Вильма что-то узнает, даже, может, узнала, но еще не уверилась в этом.
Однажды Штефка спросила его: — Вильма ничего не знает?
— Ничего, — сказал Имро. — Откуда ей знать? Или ты думаешь, я ей исповедуюсь?
— Даже ни о чем не догадывается? — выпытывала она. — Не подозревает тебя?
— Думаю, нет, навряд ли. — Имро старался убедить Штефку, а главное, себя. — Наверняка ничего не знает. Откуда ей знать?!
Помолчали, а потом Штефка опять заговорила, должно быть, ее мучила совесть. — Знаешь, я иногда чувствую свою вину перед Йожо, а вот как подумаю, то сдается мне, что я вовсе и не виновата.
Имро поглядел на нее с любопытством. Нельзя ли понятнее выразить свою мысль?
— Знаешь, я тебя еще раньше любила, — продолжала Штефка. — Очень любила. Но чувствовала, что ты ко мне равнодушен, что тебе дела нет до меня. Обидно было. До сих пор обидно. Сперва я на тебя даже немножко злилась. Ты, конечно, был обручен с Вильмой, я понимала, но все же и со мной можно было обходиться поласковей, помягче. Это как бы задевало меня, обижало. Хотелось отомстить тебе, а как — не могла придумать. Йожо я не любила, возможно, даже ненавидела и знала, что ты его не выносишь.
Имро перебил ее: — Я такого тебе не говорил.
Но Штефка стояла на своем. — Ты намекнул, — сказала она с улыбкой. — Но не в этом дело. Я хотела тебе отомстить и не знала как. Вот я и уступила уговорам Йожо. Знаю, что глупо. А ты что об этом думаешь?
— Что мне думать? Ничего я не думаю. Могу только сказать, в каком, я был тогда положении.
— Нет, не надо. Не надо ничего говорить. Хотелось бы просто знать, что ты обо мне думаешь.
— Говорю же: ничего не думаю.
— Ты, должно быть, не понимаешь меня. Я отдалась Йожо гораздо позже, чем ты думаешь. Просто так, ни с того ни с сего. Из упрямства. Не могла тебя переупрямить — тебе же было на меня наплевать, — вот я и решила себя обмануть — и обманула.
Имро молчал. Свои мысли он держал про себя.
— Только Йожко обидел меня больней, чем ты думаешь, — продолжала она. — Но представляешь, какой он был грубый. Но я сама виновата. Конечно, сама виновата, сейчас-то я понимаю, но тогда, когда ты меня сторонился, а Йожо ходил за мной по пятам, я ужасно злилась и со злости, может, и отдалась ему. Случилось это вечером, и я тогда очень переживала, не могла и слова вымолвить, не знаю, что со мной тогда стало, а в нем-то уже была уверенность, он знал, что взял верх, все время шутил, болтал, но хоть это были и шутки, а все равно в них было много грубого и обидного. Представляешь, что он мне сказал под конец? Он сказал: думал я, что ты еще девушка, а ты обыкновенная курвочка. И еще ржал при этом. Я просто не знала, как защититься. Тогда-то я действительно была еще честной, действительно была девушкой, а он дурак, кругом дурак, господи, что за дурак, он даже не понял, что я была девушкой! Правда, потом он изменился, стал относиться ко мне лучше, и сейчас он гораздо мягче, совсем другой, но о том я не забыла, просто не могу забыть, как он тогда со мной обошелся и что сказал тогда. А знаешь, что я сказала ему? Я была девушкой, но ты этого так и не понял, не заметил, и потому, Йожо, если представится случай, я тебе изменю, чтобы ты оказался прав. И может, только потому я с тобой первый раз и легла.
— Только потому? Значит, только потому ты со мной встречаешься, что злишься на Йожо?
— Не только потому. Я же говорю, что любила тебя, вот именно, любила и люблю до сих пор. Долго меня мучила совесть, правда, я корила себя еще и за то, что перед тобой провинилась. Ведь Йожо я видеть не могла. И после свадьбы он был мне противен. Теперь я вроде притерпелась. А вот люблю ли, трудно сказать, в самом деле, трудно сказать. До сих пор не знаю. Отец говорит, что Йожо всего-навсего управитель, и не больше. По-моему, метко сказано. Он старательный, все, что нужно, достанет. Иной раз начнет уверять, что я для него очень много значу, слова всякие подыскивает, чтобы меня убедить, отблагодарить, но мне-то сдается, что он говорит об этом так же, как о табаке или кукурузе.
А бывало, она рассуждала и так: я его чуточку даже люблю. Правда, вроде чуточку люблю. В нем есть и хорошее, даже много хорошего. В каждом есть что-то хорошее. Иной раз и упрекаю себя: это же мой муж! Или мне просто захотелось стать пани управительшей! Что ж, я же знала, должна была знать, за кого выхожу. Теперь-то уж все стало совсем, совсем по-другому. И потом, человек должен придерживаться каких-то твердых правил. Каждый человек. Да, каждый! Кривда может когда-нибудь и против нас обернуться.
Благих намерений у Штефки было многое множество, но в жаркие минуты она всегда забывала о них: все свои мысли и чувства она тратила на то, чтобы доказать Имро, как она с ним счастлива.
16
И все-таки Вильма почуяла неладное. С Имро что-то творится. Сам не свой в последнее время. И с каждым днем это заметнее.
А ведь прежде был спокойный, веселый, всегда шутил, смеялся, смеялся и ее шуткам, а теперь все по-иному: часто рассеян, настроение поминутно меняется, ни с того ни с сего раздосадуется, а почему — никогда не скажет.
Имро явно от нее что-то скрывает. Надо непременно обо всем разузнать. Только уж больно он теперь осторожничает. Не раз пыталась она потолковать с ним, но он всегда отвечал уклончиво, болтал — болтал, пожалуй, больше, чем нужно, — но из его болтовни так и нельзя было ничего вызнать.
Конечно, она не подозревала его ни в чем дурном, ей и на ум не могло прийти, что у него какие-то свои, тайные тропки. Она думала, думала и сама себя успокаивала: скорей всего, это просто недоразумение, вот-вот оно выяснится, разрешится. А вдруг это то самое, что порой накатывает на человека и чего нельзя ни понять, ни отбросить, то тяжкое чувство, что нам всем так знакомо, ибо мы не раз его испытали и даже нашли для него подходящее слово — пожалуй, каждый свое, — и еще знаем: как оно пришло, так и уйдет. Хоть бы поскорее ушло! Ведь тяжесть эта прилипчива, иной раз всю семью истерзает, и облегчить ее или вовсе стряхнуть с себя можно, только если с кем-нибудь ею поделишься.
Почему Имришко не сделает так? Почему не доверится Вильме? Или ему кажется это ненужным? Не доверяет ей? Кому же тогда доверять?
Чудной он какой-то! И есть стал как попало. Говорит — неохота, хотя еще недавно уплетал за обе щеки! Все, бывало, сглотнет без разбору, все с тарелки подчистит, а теперь только раскрошит, расковыряет и сидит, сидит, о чем-то, верно, думает, не приведи бог потревожить его! Иной раз вымолвишь слово, а он уже хмурится, а то и заворчит. Не смей ни угостить его, ни спросить.
Мастер над ним головы не ломает, ничего и не замечает, должно быть, а если и замечает, так относится к этому совсем по-другому. Бывает, и скажет:
— Чего насупился? Чего лоботрясничаешь и дуешься? Делать нечего, так ступай в сад, там найди дело. Вильме подсоби! Либо в горнице что-нибудь почитай! Не торчи тут как пень.
Только мастер говорит это так, вроде невзначай. Лишь бы что-то сказать, а в общем-то Имро его мало заботит. И Имро к его словам не больно прислушивается. При отце он немного сдерживает себя, притворяется. При отце сдерживается, а оставшись с Вильмой с глазу на глаз — опять прежний. Вот это ей и кажется странным и очень уж подозрительным, вот это и настораживает ее, тревожит. Иногда приходит мысль: не провинилась ли она в чем, не допустила ли промашки, которая Имро огорчила и огорчает, вот он и злится. Неужто в этом дело? Но она никакой вины не сознает за собой, никакой промашки, ни о чем таком и припомнить не может.
Что бы Имро откровенно с ней поговорить? Так нет же, скрытничает, избегает ее. Иногда ей кажется, что он избегает даже взгляда ее. А вечером нарочно уходит из дому и возвращается совсем поздно, чтоб не ложиться к ней.
А она его ждет. Каждый вечер. Глаз не смыкает, покуда он не придет. Он является домой часто пьяный, тихонько ворчит, но Вильме сдается, что он и тут ее обманывает, больше притворяется, чем пьян на самом деле, а то и вовсе изображает вдрызг пьяного, лишь бы только от нее отвязаться.
Но зато и она иногда его обхитрит. Шмыгнет в его постель с вечера и ждет, дождаться не может.
Наконец Имро приходит, вслепую раздевается и, подойдя к постели, вдруг замирает, стоит, переминается с ноги на ногу, никак не может решиться. Потом откинет перину потихоньку, хмыкнет и скажет в шутку: — Гм-м, гм-м! Никак я ошибся.
Славная получается встреча. Вильма улыбается, и улыбка ее все краше и краше, даже впотьмах видно. Конечно, стоит ждать в мужниной постели!
Сладко спится ей возле Имришко!
17
Но потом настает новый день, за ним еще один, а пройдет больше дней, и Вильма вдруг уверится, что ее подозрения оправданны.
Имро и впрямь стал другим. День ото дня все более хмурится. И к ней то и дело придирается без всякого повода, правда, не сказать, чтобы очень, чаще словечком, оброненным вскользь или ненароком, но Вильма по всему понимает, что она не ошиблась: Имро гложет затяжная какая-то злость, и он от нее не умеет или не может избавиться. Оттого Вильма и ходит угрюмая, разнесчастная, однако виду не подает, никому не жалуется, боится, как бы хуже не стало. Глядишь, у мастера тоже испортится настроение, пойдут передряги в доме.
А вдруг Имро возненавидел ее именно за эту угрюмость? Смехом, конечно, что хочешь прикроешь, но вдруг Имришко смеха-то ее и не терпит? Уж не смеялась ли она лишку? Вперед будет осторожней, меньше будет смеяться. Можно же научиться. Вильма понятливая. Да вот какой толк от этой понятливости? Какая от нее радость? Уж никак и ей притворяться? Обоим притворяться? Не лучше ли откровенно спросить его: «Ты что-нибудь имеешь против меня?»
Нет, она не спросила его, не попрекнула ничем, чтобы не дай бог не подумал, будто она в чем-то подозревает его. Несколько раз только украдкой всплакнула. Чуть помогло. А потом испугалась: не заметит ли он? А ну как заметит? Бегом к зеркалу: у зеркала с минуту дивилась, в самом деле, дивилась: а я-то и в слезах хороша! Что ему во мне не нравится? Может, веснушки? Но я же и прошлый год была такая, и прошлый год, и всегда была весноватая. Веснушки мне к лицу, любой скажет. Я всем нравлюсь, да и сама вижу, что хороша, вижу, какая я красивая. И сейчас, когда плачу, красивая. И тут же засмеялась. Утерла слезы. Хоть пока его дома нет, посмеюсь! Она подумала так, и в зеркале появилась улыбка, только чуть-чуть другая, как бы с оглядкой. Может быть, она даже не понимала, что это улыбка, которой хотела или должна была научиться: улыбка для Имришко.
18
Лето кончалось. Август был на исходе. Про жатву почти забыли. Только из амбаров да с гумен еще доносилось резвое «цупи-цупи»; люди молотили цепами то, что не взяла молотилка. Жнивье уже по большей части вспахали, кое-где засеяли свеженьким летним клевером — он уже дал зеленые всходы. В иных местах на почве проклюнулись листики осенней репки; еще два-три дождичка, и дети, а главное, чабаны, что пасут скотину на подножном корму, смогут поживиться, полакомиться. Хозяин, может, этого и не заметит, а заметит — ругнется, заохает, а то и смажет двум-трем сорванцам, и опять все ладно. Хватит на зиму корму, хватит и скотинке, хватит и свиньям! И крестьянин доволен — будет и ему чем прокормиться. Война войной, а есть надо! Есть должен крестьянин, есть должен и сынок его, который где-то там на востоке разряжает винтовку и то и дело замирает от страха, что и его однажды возьмет кто-то на мушку и под ним закачается, разверзаясь, земля, и после, после, когда солдатик уже ни о чем знать не будет, кто-то поплачет о нем. А кто-то другой, может именно тот, у которого прицел оказался точнее, сглотнет горькую слюну и обронит: «Еще одним подонком и олухом меньше!»
Бедный солдатик! Как же должно быть тоскливо тебе! Тоскливо в могиле, тоскливо и до могилы!
А другой марширует по Италии, треплет словацкие башмаки, обдирает ими итальянскую землю. Он то и дело затягивает ремень и лихо подкидывает заплечный мешок, в котором, как говорят, каждый солдат носит пресловутый маршальский жезл. Так, стало быть, добро пожаловать, маршал словацкий, добро пожаловать. Италия тебя приветствует!
Маршальский жезл впивается в спину, у маршала урчит в животе. Эх, был бы я теперь дома! Да, настал бы конец войне, очутился бы я дома, в Липтове либо в Турце, либо под самой Трнавой, откуда видны Нитрианские горы, Зобор и Жибрица! Эх, и показал бы я тогда вам, каков словацкий маршал у нас дома, на нашей словацкой ниве!
Тоскливо в Италии. И дома тоскливо. Кибиц, а тебе каково?
Тоскливо, братец, тоскливо. И мне тоскливо. Иначе разве молол бы я такие глупости?
Минул август. Мастер с Имро стали рыть на гумне траншею.
Набежало зевак, множились речи.
— Что-то больно замахнулись, — заметил кто-то. — Нешто горницу себе ладите? На кой ляд вам такая яма?
— Под картошку, — отшутился мастер.
— Была бы только! — заметил Кулих.
— Как будет худо, — продолжал мастер, — залезу в траншею и начну во все стороны картошкой швыряться. Картофельную войну затею.
— Гляди, чтоб тебя не зашвыряли! — пригрозил кто-то. Кто — не важно.
— Понадеялись на немцев, вот и получили. У них у самих земля горит под ногами. И над нами сгущаются тучки. Вот ужо запрыгаем, увидите.
— Кто это на них надеялся? А на кого другого нам было надеяться? На кого? Может, на чехов? Или на венгров? Не думаете ли вы, что, будь мы в каком-нибудь протекторате[33], мы бы Гитлеру хуже служили? Что ж, по-вашему получается — во всем зле, что накатило на Европу, мы виноваты?
— Мы тоже.
— «Мы тоже»! Ишь ты, «мы тоже»! Уж не потому ли, что не хотели дать себя слопать? Смешно слушать! Народ, который вечно был под сапогом, вдруг должен спасти всех?! Выходит, французы и англичане герои, а мы трусы?! Чехи — бедолаги, а мы подонки?! Неужто мы только потому и народ, чтобы нас любой мог прибрать к рукам или раздавать, как гостинцы? Сильные державы сперва отскочили в сторону, а теперь, когда такая каша заварилась, еще удивляются, что в горшке оказался и горох?! Или, если сказать иначе, к стаду свиней прибавилась еще одна? Что ж, пускай оно так!
— Эка нагородил! В эту яму и то всего не вместишь!
— Отстань от него! Он хочет картофельную войну затеять. Слыхали, что Бенеш[34] говорил?
— Тсс! Сейчас всюду уши.
— Бенешу в Лондоне хорошо говорить.
— Думаешь, в Лондоне не стреляют?
— Ну и пускай. Мне-то что до него? Бенеш — маленький господин.
— Маленький, но и большой. Думаешь, он укатил в Лондон в гольф играть? В два счета сюда пожалует. Опять будет тут мозги вправлять.
— Ребята, у вас часы отстают! Война-то уже у порога. Под самым вашим носом!
— Плевал я на Лондон и на Бенеша, — сказал Кулих. — Кончится война, возьму тюк кожи и отправлюсь в Одессу. Словак с русским легко столкуется. Думаете, я их боюсь? Я против них не воевал. Дойду с этой кожей до самого Владивостока, буду русским сапоги тачать.
— Дубина! Думаешь, у русских кожи нету?
— Так без кожи пойду. По крайней мере веселей идти будет. Дело-то не в коже, а в Бате. Станет он увязываться за мной, я им и скажу: этого сюда не пускайте! И они уже под Медзилаборцами пнут его в зад.
— Пнут Батю — могут пнуть и Кулиха, на кой им такой старый болван? Вот и потопаешь обратно от самой границы и будешь рад-радехонек, добравшись до Околичного…
19
Имро весь день работал с отцом. Вечером во дворе умывался. Вильма была дома, у нее гостили мать и Агнешка с дочкой.
Окна были раскрыты, женщины громко разговаривали. Толковали о каком-то письме, которое нынче пополудни принес почтальон. Письмо было от Штефана, и Агнешка снова заставляла себя уламывать — ни за что не хотела сестре и матери его прочитать. Наконец они все же уговорили ее.
«А с пятницы на субботу опять была у нас учебная тревога. А узнали мы про нее уже после. Проснулся я в двенадцать часов от собственного кашля и вдруг слышу — сирена. Доносится еле-еле. Подбежал я к окну и спрашиваю у ночного дозора, что как раз проходил мимо, в самом ли деле тревога? Была, говорят, да вся вышла. Тогда я обратно улегся в постель. А утром узнал от женщин, которые столпились на улице, что сельский пастух Малина, как заслышал ночью сирену, со страху и удавился».
— Господи Иисусе! — вздохнула Вильмина и Агнешкина мать.
Вильма одернула ее: — Мама, не перебивай!
Агнешка продолжала читать:
«Прихожу в канцелярию, а там сразу изволь объяснить, по какой причине ночью не был на учебной тревоге. Я сказал, что на Дольней Штубне сирену вообще не слыхать было. То же и другие втолковывали. Крику было изрядно, да на том дело и кончилось. А в тот самый день, стало быть в пятницу, только поздно вечером, заявляется вдруг Анча, с ней Амалька и пан Худа из Топольчан, вроде торговец, не то портной. Анча интересуется, могут ли они у меня переночевать, а я не посмел им перечить. Боялся ее, а почему, сама знаешь. Навязались они, выходит, на мою душу. А Тайцнар и говорит: «Не буду вмешиваться в ваши дела, делайте, как вам желательно!» Они, конечно, так и делали. Сразу надумали, что надо идти в Теплице звонить. Повстречали Гаспрунара, а тот говорит им: «Чего ради идти в Теплице? Ступайте к нам в комендатуру! Будто в комендатуре телефона нет!» Пошли, а их там сразу застукал пан Игринг; Тайцнару, Гаспрунару и командиру поста повелел явиться с рапортом, а Анче сказал такое, что она враз унялась. Весь день было препогано, все злобились друг на друга и говорили, что это не должно было случиться и бог весть, как все теперь обернется. Не знали, винить кого, вот и наскакивали друг на дружку. Сказать по правде, у меня тоже от этого настроенье упало. А после обеда они взяли одеяла и пошли за гумно полежать на траве. И меня звали. Я сказал, что лучше полежу на диване и почитаю газету. А вечером я заметил, что все они на меня чего-то косятся. Анча говорит: «Я тут, по-твоему, лишняя, так ведь? Хотел бы, чтоб и духу моего тут не было. Штефанко, давай начистоту. Скажи, что ты обо мне думаешь, хоть знать буду!» Только я ей ничего не высказал, пошел и лег. Думал, отстанет, а она — в слезы и проплакала всю ночь. А промеж плача то и дело бросала камушки в мой огород, по причине чего я слез с постели, кое-как оделся и пошел ее успокаивать. Тайцнар не спал, ясно дело, при таком плаче навряд кто уснет, но не проронил, однако, ни слова, хотя слышал ее хорошо, потому как двери были отворены из передней горницы аж до самой до задней. Один я и изображай из себя утешителя, один я и изволь сочинять всякие выдумки, точно я во всем виноват. Утром ребята должны были явиться с рапортом, и, в общем, все обошлось. Сразу следом за ними пошел я к пану Игрингу, а он меня спрашивает: «Так как же насчет этой Пеньяжковой?» Налицо там оказался и коллега Скарчак, поэтому я пана Игринга спросил, что, если нам остаться на минутку с глазу на глаз. Скарчак ушел, а пан Игринг говорит: «Теперь будем с тобой беседовать не как высший с низшим, а как товарищи». И я на все его вопросы ответил прямо, неуклончиво, то есть с моей стороны ни одного слова вранья не было. Я надеялся кое-что вызнать и был уверен, что пан командир посоветует, как в подобных делах и ситуациях положено действовать или как их нужно решать. Агнешка, ты ведь знаешь хорошо, о чем речь, стало быть, нет нужды многое объяснять. Только пан Игринг, хотя и относился ко мне по-товарищески, был очень сдержанный, всему как-то удивлялся, и это меня сильно расстроило. Чтобы пан Игринг был хуже меня осведомлен — такому ни за что не поверю. Вот, Агнешка, как тут мне живется. Все что-то исподволь вертят-крутят, а как плохо, как только чуть покажется, что дело не к добру клонится, бегут ко мне, один другого оговаривает и не прочь, чтобы и я эти сплетни разносил. Пан командир и тот припас для меня цельный короб каверзных вопросов и ужасно внимательно выслушивал мои ответы.
Не соображу, узнал ли он от меня, чего дотоле не знал, а про себя скажу, что я такой же умный или глупый, каким был прежде. Мне уж вроде казалось, что он хотел намекнуть на что-то, но именно в ту самую минуту отворилась дверь и в канцелярию вступили трое мужчин, один из них даже шляпу не снял — некогда мол. Из ихнего разговора я понял, что это художники, по видимости живописцы. Все трое пану командиру были хорошо знакомые, по крайности мне так показалось. Я ушел, чтобы дать им поговорить. Да вот дела! Покуда я сидел у пана Игринга, Анча с Амалькой отправились в гостиницу пообедать. Обедали в «Гранде», а оттуда видать в окна пана Игринга, вот там-то они меня и углядели и, должно, согласились на том, что коль я там так распрекрасно и долго рассиживаюсь, то пан командир узнает от меня все возможное. Ну скажи, Агнешка, что уж такое он мог от меня выведать?! После обеда заявился ко мне Тайцнар и говорит: «Пишта, давай Анчу с Амалькой проводим до станции». Идем. По дороге к нам присоединилась и та самая троица, которую я имел честь видеть в комендатуре. Сперва они о чем-то шушукались с Амалькой, а потом набросились на меня. Один-то был правда живописец, а двое только прикидывались, из кожи лезли вон — строили из себя художников. Который живописец, стало быть тот, настоящий, вдруг говорит: «Мы с вами уже знакомы. Или ошибка вышла?» Никакая не ошибка, говорю, виделись мы нынче в комендатуре. Он чудно этак усмехнулся, а следом заговорила Анча: «Знаю, Штефанко, что ты у командира наболтал и нажаловался. Мне все рассказал один офицер». И давай меня песочить. Чего только не посыпалось. А еще такая ерунда: пост, что нес утреннюю службу, остановился в комендатуре, а урядник Гозлар мне говорит: «Пан старший, у вас в гостях Пеньяжкова, а следовало ей в течение суток прописаться на жительство. Мы обязаны определить ей штрафу, по крайности в сто крон». Что тут поделаешь? Ну мог я сказать, что она не у меня? Я и говорю: «Если вы думаете, что она у меня, почему со мной в рассуждение пускаетесь? Разве вам неизвестно, где я проживаю? Или думаете, я буду в ваши служебные обязанности вмешиваться?» Потом он меня спрашивает: «Пан старший, а не знаете, что она делала сегодня утром в казарме?» Почем мне знать? Думаете, она мне докладывается? Раз пошла в казарму — так и изволь часовой ее задержать. Почему он не задержал? Слово за слово, от Гозлара я узнал, что часовой пробовал ее задержать, только она, поди, думает, что он ей не указ, взяла да просто его не послушала. Объявили об этом офицеру, дежурному по казарме, тот приказал ее выгнать, а пана Игринга обо всем известил. В утреннем разговоре он мне сказал, что никому не хочет чинить неприятности, иначе бы приказал Пеньяжкову и ребят, несли которые службу, на месте арестовать. И так эдак чудно смотрел на меня, чудней прежнего, точно бы хотел мне какой упрек бросить, точно это я должен наводить в казарме порядок. Пойми, Агнешка, все хотят быть героями, хотят в чине возвыситься, а сами перед каждым надраенным сапогом дрожат, ей-богу, не знаю, что об этом и думать. Такого противного и подозрительного народа, поди, нигде нету. Если бы я хоть что-нибудь значил, только тут я ничего не значу, отчего же я должен быть для всякого чина и не чина палочкой-выручалочкой? Разве я знаю, что у них между собой? Который хочет быть героем, пускай и стоит за свое геройство. Агнешка, прости, что я так расписался! Больно они меня разозлили. Все шпыняли меня да шпыняли. Допекли до того, что я им напомнил: дескать, как куда приезжаю, хочу не хочу, а прописаться в жандармском участке на жительство должен. Анча говорит: «Кто должен, а кто и нет!» И художник сказал, что ему на жандармов чихать. Все на меня накинулись. Анча сказала, что я обыкновенный фискал. Вдруг вытащила из сумки тысячную банкноту, да так это зло, по-барски хлопнула меня ею по лбу: «Вот тебе, Штефко! Чтоб не говорил, что за Пеньяжкову целую сотню пришлось выложить!» А на железнодорожной станции людей несметная сила. Все нас видели. От стыда я чуть сквозь землю не провалился. Я сказал: всего вам наилучшего! И сразу пошел прочь. Агнешка, слава богу, что ты отсюда уехала. Я тоже постараюсь отсюда куда-нибудь перевестись, не знаю только, удастся или нет. Всему виной эта проклятая война. Одна надежда, что она долго не протянется и мы ее в благополучии переживем. Агнешка, главное, чтоб человек всегда поступал честно и чтоб понапрасну никому обид не чинил. А которые люди зараз за двумя зайцами гоняются, таких я не терплю. А вообще как живете? Самочувствие у тебя хорошее? Что поделываешь днем? Вильма еще никого не ожидает? Имро ее слушается? Мама здорова? Хорошо ли ей живется? Сообразила бы ты мне какую посылку. Не посылочку, а дожидаю посылку: помидоры, перец и фрукты. Эх, вы там и живете! Вареную кукурузу жуете. О том, что я тут написал, никому ни слова, и это письмо сразу же сожги!
С тем всех вас горячо целую и шлю поклон.
Ваш отец, зять и свояк Штефан».Имро выслушал почти все письмо. Пропустил только начало, так как сперва не прислушивался. Редко когда его занимало, о чем женщины судачат. А теперь, когда Агнешка письмо дочитала и все трое принялись умничать, каждая на свой лад, он начал на них немного досадовать, а больше всего на Агнешкину дочку, которая хныкала все и что-то клянчила: «Мама, дай! Ну мамочка?! Мамочка, дай еще!»
Имро это злило. Хотелось подойти к окну и крикнуть: дайте ей, чего она хочет, пусть только не визжит!
А потом подумал: какое мне до вас дело, черт подери! По крайней мере поскорей смотаюсь отсюда! Но с другой стороны, письмо было занятное. И заинтересовало Имро. Он злорадно захмыкал: «Хе, у пана старшего урядника тоже свои проблемы! Поделом ему! Хотел носить форму, а теперь ему в ней уже несподручно. Носи, жандармишко, носи!»
На другой день отец стал его совестить: — Послушай! Ты куда каждый вечер таскаешься?
— Таскаюсь! — защищался он. — Да я нигде не был. Или уж и на кружку пива сходить нельзя?
— Пожалуй, зашибаешь лишку, — пенял ему мастер, — что-то стал изрядно закладывать. Думаешь, это геройство?
— Кто говорит, что геройство? А пива все же выпить могу. Уж никак хозяйка на меня жаловалась?
— Только ее не касайся! Вильмы ты не касайся! Не жаловалась, а могла бы. И я бы не удивился. А вот тебе нечего каждый божий день как телок нажираться. Иные мужики на войне, а ты тут зашибаешь. Считаешь, больше от тебя ничего и не требуется? Хотел жениться, так, стало быть, дома сиди, о жене думай!
— Ну ладно, ладно! Буду при ней сиднем сидеть. Пожалею ее, чтобы тебе больше не плакалась.
20
Однако тех, кто тогда сохранял ясную голову, было немного. В Околичном — и того меньше. Их, пожалуй, по пальцам можно было бы перечесть — одной, от силы двух рук бы хватило. Позже, после войны, таких стало больше. Куда как поприбавилось. Когда все позади, всегда находятся светлые головы и, уж конечно, герои, что горазды другим мозги вкручивать и хотя бы задним числом войти, так сказать вписаться, в историю. Только у истории своя правда и своя справедливость. Проходят годы, нет-нет да и родится простак, который не лезет в герои, не мнит себя даже умником, но любит людей и, поскольку хочет любить их еще больше, роется в учебниках, а значит, и в учебниках по истории, нередко встречает там забытые имена и пытается с ними познакомиться, ближе узнать, однако нам-то ведомо, до чего убоги учебники, а учебники истории и подавно: зачастую они ужасно отрывочны, пережеваны, так и сяк перетолкованы и искажены. Начнет любознательный ученик сравнивать такие учебники и сразу заметит, что они не в ладу друг с другом, не в ладу и с историей, словно хотят его убедить, что история всего лишь забавные плутни и в нее с одинаковой легкостью могут протиснуться и прохвост, и святой, ибо двери ее распахиваются при заклинании: «Дуди в свою дуду»; со временем прохвост может превратиться в святого, а святой — в прохвоста, однако всегда тот перетянет, кто войдет в историю с большей пышностью или хотя бы ценой большей крови. А что, разве не так? Или наш простачок ошибается?! Но надо заметить, да мы и не преминем заметить, что ученик тут ни при чем, огрехи в самих учебниках. Иной раз ему и вовсе покажется, что учебники истории специально созданы для того, чтобы поглупеть от них еще больше. Но как уже сказано, простачок любит людей, и оттого все человеческое представляется ему замечательным и занятным, замечательны мошенничества и обманы, сохраняющие в потоке истории имена не только святых, но и прохвостов, имена доблестных и мерзавцев, имена благодетелей и воров, героев и предателей, а вот имена обыкновенных, самых обыкновенных людей, что никогда не помышляли стать святыми или героями, предаются забвению, после них остаются щели, ужасно много щелей, которые мы ловки затыкать словами: рабы, солдаты, крепостные, крестьяне, рабочий класс. Имя крестьянина, что тысячелетье назад выращивал хлеб, неведомо нам, но имя того, кто хлеб этот грабил или губил мечом и дубиной, блещет во всей красе, и горе тому школьнику, который его не запомнит! Не одному школьнику взгрустнется на уроках истории. Грустит он, возможно, и после, когда улизнет из школы, вырвется на волю. Снова и снова роется он в учебниках, листает страницы старой и новой истории, ходит по музеям, разглядывает всевозможные ружья и сабли, просматривает старые письма и грамоты и ищет в них забытые имена, уже утратившие смысл и даже звучание; он был бы рад оживить их и, главное, тех, о ком не знает вообще ничего, как не будут знать и о нем, он представляет себе лица людей, которых никогда не видал, но знает, что здесь они были, трудились, хлопотали, выращивали хлеб и, если везло, спокойно озирали отчий край, которым теперь любуется он, порой блуждали по нему измученным взглядом, а порой на их лицах мелькала улыбка, и кто-то, верно, обрадовавшись, ловил ее и в свой черед такой же улыбкой одаривал кого-то другого — возможно, в самом деле так и было, кто знает; а может, та улыбка, мелькнув невзначай, вообще никого не коснулась и, не примеченная никем, просто исчезла, рассеялась по отчему краю, и вот долгие годы спустя другой бедолага или простак, может именно тот, кто пишет эти строки, выходит иной раз прогуляться по той же земле, что с тех пор чуть изменилась, блуждает по ней то спокойным, то измученным взглядом или, забывшись, невольно улыбается, поймав улыбку, оброненную здесь бог знает когда, возможно в минуту уныния, его неведомым братом, которого давно нет в живых. Проходят годы, и ученик — иной им остается всю жизнь — потихоньку старится и понимает, пусть с опозданием, что учебники истории и впрямь читал зря, особого ума от них не набрался. История всюду, ее открываешь на каждом шагу, но меньше всего — в учебниках. Кто хочет постигнуть историю, тот должен уметь читать ее на земле, да-да, на земле, в природе, на дорогах, родных и чужих, на берегах рек и морей, в больших и маленьких гаванях, близ железнодорожных станций, на обветшалых улочках городов и столиц, в селах, городках и местечках — некоторые из них позабыты настолько, что их нет уже и на карте, — в фасадах домов и лачуг, на их облупленных стенах с осыпающейся штукатуркой, на лугах и полях, где среди хлебов торчала забавная древняя башенка, а теперь уже совсем развалилась, ибо некому было подправить ее, на горах и холмах, куда из года в год взбираются на выгоны отощалые коровенки, обдирая рога и бока о широкую, покореженную местами стену какого-то странного белокаменного венца, которому никто не дивится — ведь он здесь исстари; и пастуху, что гонит коров и лихо хлещет кнутом, даже на ум не приходит, что он миновал ворота старого языческого городища, над которым слегка повевает теплый ветерок и тихо шелестят листвой вековые деревья; а под их скрюченными сучковатыми корнями ржавеют стародавние мечи, копья и стрелы, щиты и шлемы безвестных воинов, павших тут, несомненно, очень-очень давно, и, должно быть, пали они бесславной смертью, ибо никому не хотелось ни хоронить их, ни даже ограбить. Только земля — а она куда старше, чем человечество, и история ее гораздо богаче — была к ним справедлива: засыпав пылью, а позже прикрыв травой и кустарником, она снова ласково их обняла — все вы дети мои! Но человек, покуда жив, не мирится с подобной правдой. Мнится ему, что он для этого слишком умен, довольный собой, он беспрестанно твердит, что он один здесь хозяин, один волен распоряжаться землей, менять ее лик, нарушать законы и так-сяк ее ворошить. Отчасти это и удается ему, но что толку? Пустое! Здесь лишь ее законы извечны, лишь она, материя, умеет приноравливаться и сносить любую разумную, а порой и неразумную игру — и в этом ее величие, несравнимо большее и куда более совершенное, чем дано понять человеку. А уж что говорить о красоте и совершенстве вселенной, в которой земля лишь смешная, неприметная, хотя и не совсем ничтожная частица. Так к чему заноситься? Заносится лишь тот, кому доступна только малая, а то и вовсе глупая игра, он не смыслит и не хочет смыслить (заносчивого, самовлюбленного человека устраивает ведь какая угодно глупость, да он и сам себя устраивает) в большой игре, в которую втянута вся вселенная, и человечество исстари силится постичь ее и участвовать в ней подобающим, достойным образом. Большая и мудрая игра для большого и мудрого человека. Тот, кто не знает правил игры, не может менять их, и нечего ему заноситься, ибо с таким же успехом мог бы заноситься и червь, которому удалось подточить и до времени сбросить с дерева яблоко.
Что же добавить еще? Напомню, пожалуй, то, о чем уже говорил: историю нужно искать и читать на земле и чутко прислушиваться, ибо никогда не знаешь, что земля может поведать тебе.
Оглянитесь вокруг, и, может, вы увидите перед собою развалины, что уже заросли или зарастают чащей, травой, и вы вообразите себе или, возможно, от кого-то услышите, что в отдаленные времена прошел здесь герой или безумец, который никогда ничего не построил, но зато словчил уничтожить и разрушить великое множество зданий, построенных другими, и таким путем пролез в историю, даже в учебники; вот его-то заслугами и его славным именем послушные и терпеливые учителя забивают и морочат головы послушным и доверчивым ученикам. А что, если один из них спросит: «А кто построил это здание?» Допустим, речь идет о крепости или замке. В ответ могло б прозвучать: «Подданные».
«Подданные? А как их звали?»
«Трудно сказать. Их много там было. В истории о них не пишут».
В один прекрасный день любознательный ученик совершает экскурсию, отправляется к старым развалинам и долго бродит вокруг, со всех сторон их разглядывая. Озирает он и окрестности, любопытствуя, как они смотрелись из замка. И вдруг замечает вдалеке пахаря, и кажется ему, что пахарь этот с незапамятных времен тут ходит и пашет. Может, только иногда гати[35] меняет, да разве дело в гатях? Он вглядывается в него издали, потом подходит ближе и, когда убеждается, что с пахарем и поговорить можно, пристраивается к нему — он ведь в самом деле любознательный и чуткий мальчик, он знает, что пахарь, пусть какой ни есть говорливый, а останавливать плуг посреди борозды не любит. Поэтому они ходят рядышком и разговаривают.
«Долго вы уже пашете?» — спрашивает мальчик.
«Долго, сынок, долго», — отвечает старик.
«А с каких пор?»
«С утра».
«С утра? И вчера вы тут были?»
«Был и вчера. Но вчера я не пахал. Да я тут завсегда обретаюсь. Пашу ль не пашу, мотаюсь по полю!»
«А когда пропашете, что делать станете?»
«Садить буду, садить».
«Картошку?»
«Должно быть».
«А почему ее сразу не садите?»
«Ай нет!» — спохватывается крестьянин. — Картошку, знать, нет. Лучше что посею».
«Что же посеете?»
«Пшеницу».
«А еще?»
«Подумать надо. Тут всему место найдется».
«А чье это поле? Ваше?»
«Конечно, — тянет крестьянин. — А чьим ему быть-то?»
«Я только спрашиваю».
«И то дело. Спрашивать надо».
«А до этого? До этого чье было поле? Всегда было ваше?»
«Всегда. Пожалуй, и так можно сказать. Мой отец на нем трудился, а нынче я тружусь, так оно и должно быть. Я пришел вслед за ним. После меня, может, уже некому будет прийти».
«Почему?»
«Да так. Шучу. Думал, ты возьмешься. Сумел бы пахать?»
«Я еще не пробовал».
«Еще попробуешь. А чей ты? Не знаю, к кому тебя и причислить. Ты не нашенский?»
«Нет. Мне хотелось поглядеть на замок, вот я и пришел сюда».
«Вот-вот! Ну как, оглядел?»
«Оглядел».
«А я опять пашу».
?
?
«Дедко, — мальчик снова заговорил, — а вы где живете?»
«А что? Где же мне жить? Дома живу. Вон там! В той деревне. Там мы всегда жили, там я и нынче живу. От поля недалече. А зачем тебе это?»
«Знать хочу».
«Так, так! Живу в той деревне. Ты один был в замке?»
«Угу. Один».
«И я туда ходил. Я там часто бывал!»
«Дедко, а что там прежде было? Что вы там видели? Кто там тогда жил?»
«Ничего я там не видал. Это старый замок. У него много было хозяев. Да я их не знал. Зато мой отец о замке всякое ведал».
«Расскажите мне!»
«Да я уж позабыл!»
«А отец ваш?»
«Нету его. Помер».
?
?
«Дед, дедко мой, — улыбается пахарь, — нынче уж и я дед, так вот он знал о замке еще больше. Многое в голове держал. Память ему не отказывала. Крепкая у него была память».
«А что говорил?»
«Не больно разговорчив был. Скажет что, а потом опять ничего. А жалко. У меня не та голова. Будь я тогда поумнее, мог бы кой-чего и упомнить. Хороший был замок! Мой дедко, иль то прадед был? Оба пахали. Пахали тут, ясное дело, еще на хозяйской земле, и тогда этот замок еще куда как хорош был. Да он и нынче вполне хорош. Славный замок, и впрямь славный замочек! А когда-то, должно, он и вовсе красив был!»
«Вы же говорили, это было ваше поле», — напомнил ему мальчик.
«Как? Поле? Ага, поле! Мы его пахали. Господа не пахали. Кто-то должен пахать. Отец, дедко. Завсегда кто-нибудь да пахал. Нынче я».
«Дедко, а кто был старше? Замок или ваш дед?»
«Как? Который дед? Мой дедко? Ась? Замок. Разумеется, замок. Замок был куда старее. Только мой дедко, мой дед, тоже имел деда, которого я самолично не знал. Да и знать даже не мог, но, верно, так было, знаю, так оно водится. У каждого деда есть свой какой-нибудь дед. Один помрет, придет другой, нынче уж и я дед, пашу себе помаленьку. Хочешь еще что знать?»
«Хотел бы знать, кто этот замок построил».
«Кто построил? Дедко построил. Какой-нибудь мой дедко, заместо которого нынче я пашу. Я об этом никогда не раздумывал, дурная моя голова, но я всегда к этому так подходил, всегда я так на замок смотрел: вон тот славный замок построил мой дед либо прадед. А кто его разрушил, откуда мне знать, да оно и ни к чему мне. Знаю только, мой дедко его не разрушал. То, верно, был хорош дурак, хорош герой, что спалил и разрушил такой красивый, ладный замок!»
«Дедушка, а вас как зовут?»
«Зачем тебе?»
«Знать хочу».
«Все-то знать хочешь? Зовут меня Гирко. Мы все Гирко. Меня зовут Гирко».
И когда мальчик, простившись с пахарем, идет домой, он знает то, чего не мог узнать в школе, — один из тех, что строили замок, звался Гирко.
Был бы этот мальчик постарше да побогаче, может, он исходил бы все края и все как следует осмотрел бы, обо всем порасспрашивал. Может, и до Египта дошел бы и, остановившись у пирамид, оглядел бы и их, а потом и людей, каждому бы в глаза заглянул, в каждого бы всмотрелся и до тех пор внимательно бы всех изучал и слушал их речь, пока не нашел бы своего брата, отца, деда, чей дед или прадед был когда-то рабом и строил пирамиды во славу бессмертных и смертных фараонов, а также во славу себе, поскольку и он был достаточно славен, хотя считался рабом, и ему славы хватало, он щедро мог ее раздавать, чтобы и тысячелетья спустя всем его детям и всем его братьям, богатым и бедным, во всех бедных и богатых краях перепало от этой славы, от горькой славы его, заточенной в пирамидах и развеянной горячими и студеными ветрами во все концы земли, которая так же щедра, как и он, щедра и ласкова, любит умных и простаков, богатых и бедных, праведных и грешных, искренних и лгунов; снисходительная и терпеливая, земля упорно ждет, научится ли чему-нибудь у нее человек, совершит ли он что и каким войдет в ее пыль; она ждет потому, что у нее своя мудрость, своя правда, своя справедливость, она вновь и вновь рождает ее, ею обновляет, направляет, омолаживает и озаряет жизнь, да, жизнь — и нашу, конечно, — которую потом, когда мы потихоньку состаримся или до времени окончим ее, увенчает все той же правдой, мудро и справедливо — все вы дети мои!
Аминь, кибиц! Пошли теперь дальше!
21
События бурно менялись. Каждый день приносил ворох новостей. Одни были действительно новые, другие к пути состарились. Всякой всячины люди могли повыудить и из газет, но газеты теперь читали с пятого на десятое. Люди охотнее прислушивались к словам нотария, священника или учителя, но и те знали ничуть не больше остальных. Голов было много, но мало кто разбирался в положении настолько, чтобы рассортировать поступающие новости, создать из них правдивую картину.
Немцы всюду отступали. Десантные войска союзников вытеснили их из Франции. Союзники взяли город Сэн-Ло и, продвигаясь вперед, освободили Авранш, Ренн, Нант, Анже и устремились к Парижу. Париж был освобожден.
На Восточном фронте тем временем наступает Красная Армия. Немцы оттянули свои войска за реки Вислу, Неман, Сан. Фронт с юга, запада и востока сужается, все больше приближаясь к границам великогерманской империи.
В короткий срок была освобождена Польша. А 23 августа, когда парижане, стремясь приблизить день свободы, подняли восстание, Румыния подписала договор о перемирии и два дня спустя объявила немцам войну.
Забурлила и Словакия. Красная Армия на границах. В горах полным-полно партизан. Деревенские пророки сеют страх и панику. Женщины вздыхают и причитают. Каждый вечер ходят со священником в костел молиться. Зато дети и в костеле все еще озорничают, вплетая в молитвы слова «мессершмитт», «юнкерс», «хейнкель», «фокке-вульф», «кондор»… А мужчины то и дело опасливо вслушиваются в гул авиамоторов, смотрят на небо, потом, спокойно повертев головой, покрякивают и продолжают беседу: — Приближается, уже и к нам приближается!
— Я давно знал, — замечает один, — что дело серьезное. Я сразу это понял. В самом начале.
— Хлебнем лиха. Увидите, достанется нам и от русских, и от немцев.
— Ясно, достанется. А тебе больше всех.
— Почему именно мне?
— Потому что у тебя заручка была, потому что помпон на шапке носил. Понял, болван, для чего ты свои сапоги таскал? Для чего в трубу дул? Для чего ты эти гардистские[36] сапоги драил?
— А ты потише! Не кричи, еще не конец!
— Думаешь, мне конец нужен? Не знаю, что ли, какой будет конец? Форму подальше запрячь! А лучше закопай ее, как закопал сало и сахар.
— А кто ж не закапывал?
— Румыны уже повернули против них. Слыхали?
— Румыны? А как?
— Просто. Повернули и стали в немцев стрелять.
— Надо же! Кто бы подумал, что румыны так ловки поворачивать?! А наши ни с места!
— Как ни с места? Тоже тужатся, тоже кинулись.
— Опять? А на кого? Ей-богу, не хотел бы я быть сейчас на Пьяве[37].
— Черт возьми, ребята, да заведите часы! Чего Пьявой стращаете? Разве тут не на кого кинуться? Застрелили Отто[38], какого-то большого военного начальника, что возвращался из Румынии и нес либо вез в Германию какую-то миссию, что ли. Что точно — не знаю.
— Какую миссию? Что еще за миссионер?
— Генерал. Немецкий генерал. И еще какие-то военные господа. Говорят, их была целая туча.
— И что?
— Убили их.
— Как?
— Щелчком.
— Как их убили?
— Ну щелчком.
— Ребята, не валяйте дурака! — вмешался в разговор жестянщик Карчимарчик. — Говорите толком! Тут не до шуток! По мне, так больно много мы себе позволяем.
— А они что делают? Они могут себе позволять?
— Я не о них, я о нас говорю. Если кому охота дичать, пусть прыгает, брыкается, только у себя дома, а не за мой счет. Мне моя жизнь дорога, да и жизнь других.
— Ну уж и впрямь!
— Ребята, это не смешно! Что тут смешного! Или вы думаете, мне хочется, чтобы немцы прикончили меня?
— Караул, братцы, караул! Дротаря у нас забирают!
— Живо на помощь!
— Говори, Карчимарчик!
— Вы идиоты!
— Вот уже и досталось!
— А они могут? Они все могут, да? Немцы все себе могут позволить?
— Карчимарчик, говори!
— Ребята, я им советов не давал, не давал советов. Не было меня в правительстве ни после первой, ни перед второй войной, я не решал, кто может себе что позволить, а кто нет.
— Карчимарчик не решал!
— Конечно, я не решал!
— Чего же тогда выставляешься? Боишься немцев, так садись на велосипед и кати домой! Двигай газеты читать! Либо послушай радио, может, что о немцах и узнаешь.
— Мне радио не требуется. Я и без радио знаю о них. Знаю и почему боюсь их. Господи боже мой, ребята, я вас не понимаю, совсем не понимаю вас!
— Не кричи, не кричи! Не надрывайся! Не надрывайся, Карчимарчик! Когда шли против евреев или против русских, ты тогда небось не надрывался!
— Я и тогда кричал. Карчимарчик и тогда кричал. Я кричал, да вы уже не помните. Память у вас коротка. Я кричал, только никто не послушал, как и сейчас вы не слушаете.
— Говори, Карчимарчик!
— Послушаем дротаря.
— Никто не хотел слушать. Никто не хотел слушать. Вы скорей какого олуха или безумца послушаете. В два счета кого хочешь обсмеете, как меня обсмеяли, а вот о собственной глупости и о собственном безумстве не задумываетесь. Одно знаете — зубы скалить. Смеетесь, а спохватываетесь, только когда задымится под задом, когда все уже либо сгорело, либо здорово подгорело, и тут уж вы сами над собой причитаете, годами причитаете, вдыхая собственный смрад, и детей из поколения в поколение также приучаете смрадом дышать.
— Ну это ты круто замешал. Едкий крепачок! Такого, поди, даже Гульдан не вынесет.
— А совершит кто добрый поступок или, может, просто безумный — вам все одно, вы все равно дружно каждого высмеете, а годы спустя прославите его и возвеличите. Стоит указать: вон того прославьте! И вы тут же: ура, ура! Горе тому, кто не пожелает вопить и горланить вместе с вами! Горе тому, кто будет чуть иначе горланить или осмелится пойти чуть иным путем, хотя вы-то и собственного пути не видите, ибо не видите дальше своего носа, вы хотите быть и тут и там, сперва тут, потом там, вы за все и против всего, за каждого и против каждого, против евреев, против русских, против Польши и против венгров, на время с чехами, на время против чехов, с немцами и против немцев, с Лондоном и против Лондона, того самого, что начхал на вас в беде и, может быть, еще сто раз начхает на вас, вы за Англию и против нее, за Америку и против Америки, за все Америки и против всех Америк, за все власти и против всех властей, но сами за себя вы еще никогда не были, вы всегда были только против себя, поскольку в общем-то ничего о себе и не знаете, а может, это вам и не важно, вас заботит только кадушка с маслом, на худой конец даже пустая кадушка либо соседская свинья — как бы ее выкрасть из хлева, годами ведете вы потешные споры и тяжбы, не жалеете друг друга, всегда у вас была и будет тьма ненавистников, вы только и знаете, что ищете их, они повсюду у вас, а дома — больше всего, вечно между вами раздор, собственного голоса вы не слышите, может, вы и впрямь не народ, не доросли еще до народа, повинуетесь и всякий раз вытягиваетесь в струнку перед любым чужеземным болваном. Болваны меняются, вы — никогда. Все также подскакиваете и вытягиваетесь в струнку. Бараны! Ослы! Идиоты! Ошалелые бараны, ошалелые ослы!
— Эй ты, дротарь! Тебе еще никто не надавал по морде?!
— Идиоты! Идиоты на потребу себе подобным: ослы — ослам, дураки — дуракам, убийцы и самоубийцы — убийцам и самоубийцам…
Тут Карчимарчик вдруг осекся. Было заметно, что некоторым мужикам речь его не по вкусу, иные, правда, все еще улыбались.
Он удивился: — Вы не поняли! Вы совсем ничего не поняли… — Он обвел их взглядом, потом понурил по обыкновению голову и сказал: — Извините!.. Может, я ошибся… Извините!.. Не сердитесь!..
Он сел на велосипед, склонил голову еще ниже. И не спеша покатил восвояси.
А был уже конец августа. В садах дозревали сливы, алели яблоки. Близилось начало учебного года, и родители волновались: дети пойдут в школу, надо будет их одеть-обуть. Ах, дети, дети! Было бы только что есть — и теперь и зимой, — кончилась бы только война!
И вдруг в один прекрасный день люди услышали по радио — в Околичном было всего четыре репродуктора — такую весть: «…партизаны подрывают основы нашего государства, уничтожают плоды нашего труда, нападают на наши деревни, грабят наше народное достояние и вероломно убивают наших людей. Враг намерен продолжать свое преступное и дьявольское дело для того, чтобы нас поработить и погубить нашу столь дорого оплаченную свободу и государственную самостоятельность… Ввиду сложившегося положения в Словакию направляются части немецкой армии…»
Люди слушали, затаив дыхание, потом стали спрашивать друг друга: — Слышали? Вы слышали? Немцы пришли. Что это значит?
— Что значит? Пришли устраивать Schutz[39]. Пришли шуцовать. Освобождать нас от партизан.
— От каких? Разве они до сих пор о них не знали? Ведь партизаны тут давно. Всюду партизаны.
— Как всюду? Я их не видал. Ни одного не видал.
— А ты на меня погляди! Как следует погляди! Может, я и есть партизан.
— Ну с тобой я бы и сам легко справился. Для таких партизан немцы нам не нужны. Ей-ей, этот немецкий шуц интересует меня.
— И меня, и меня.
— Всем бы только шуцовать! Уж больно этот немецкий шуц интересует меня. Ребята, да ведь они на нас идут. Это нас пришли они утюжить и изводить.
— Сдрейфил? Чего тебе их бояться? Они и до сих пор были здесь. И каждый думает, что сапоги и фуражка — это уже все, что главнее его уже и нет никого. Ну и пусть себе маршируют, коли нравится. Чихал я на них, я их совсем не боюсь.
— Я знал, что так будет. Это за ту миссию и за того генерала, которого два месяца назад кокнули на востоке, и за ту военную автоколонну.
— Какую автоколонну?
— За те машины с бензином, что сгорели вместе с солдатами. Нужно нам это было, да?
— Почему нам? Ведь это русские сделали. Русские с ними воюют. А что, по-твоему, они должны были пропустить колонну в Россию или на Украину, чтобы немцы у них еще больше деревень подпалили?
— Но это было на нашей территории. И наши, говорят, помогали русским. Там и наши были.
— Русины.
— Русины и словаки. Может, они вовсе не знали, что там бензин был. Ну и пекло же, наверно, там было, люди добрые!
— Ну было. Ясное дело, было. Иному и взглянуть на такое страшно.
— Смелость нужна тут, смелость нужна.
— Смелость нужна, это точно!
— Какая такая смелость? Кинул спичку, и вся недолга.
— Гм, гм! Хотел бы я на тебя посмотреть.
— А хоть и две спички!
— Взрывчатку. Там наверняка была взрывчатка. Либо зажигательная бутылка. Кто-то кинул ее.
— Может, оно и так!
— Именно так, а иначе ничего не сделаешь.
— Как это не сделаешь?!
— Ужас что было! Огнище до самого неба. Все полыхало и взрывалось. Бензин шипел, горел, хлестал во все стороны.
— Так, именно так. Значит, был человек, нашелся для такого дела человек. Ох и зол был на них, верно…
— Ясное дело, зол, без злости тут не обойдешься. А что же дальше?
— Вот и я говорю, вот и говорю. Дальше-то что? О таком огне, о таком-то полыме забыть нельзя. Божья кара, огнь кромешный, содом и гоморра! Все сгорело дотла, все сгорело. Пепла не осталось. Милые мои, пепла и то не осталось. А от людей, от немцев, — ни следа. Все сгорело. Какие жуткие взрывы! На востоке все это слышали. Бензин взрывался, пламя полыхало аж до самого неба. Винтовочной пальбы и то слыхать не было. А мужики, выходит, партизаны эти — среди них, говорят, и дети были, мальчишки, — носились вокруг огня да кричали, жуть какая-то. Ужас, люди добрые, ужас!
— А ведь они могли там и задохнуться. Все там могли задохнуться, испечься.
— Даже ума решиться, ей-ей, даже спятить могли, ей-ей! Ужас, ужас, ужас! Небо заполыхало. Уж кто-нибудь там наверняка ополоумел, ошалел, творилось что-то страшное, все дотла сгорело, дотла сгорело. Ни одного немца в живых не осталось. Все сгорело, пепла не осталось. Люди добрые, ведь это даже слушать было невмоготу, не для моих ушей это, а теперь слова из глотки не лезут, просто ужас какой-то, от них и пепла не осталось, слышите, люди, пепла не осталось, ни горстки пыли, ни пылинки. Господи Иисусе, люди добрые, язык у меня отнялся, прямо язык отнялся, ни слушать, ни сказать не могу, слов нету.
— Привыкнешь. Немцы тебя еще многому научат. Будет по крайней мере у тебя хорошая школа.
— Господи боже мой, вы только подумайте, люди! Только подумайте! И подумать об этом страшно. Такое в башку не вмещается, в башку не вмещается, язык отнялся, язык отнялся…
— Кто от черта наберется, тот и до черта доберется!
Итак, пришли немцы, немецкая армия! Все говорят, что мы их позвали, говорят, позвало их братиславское правительство, чтобы они навели у нас порядок, ибо сами мы порядок навести не умеем.
Что сказать на это? Что об этом думать?
Увидим то, что видно будет. Увидим, каков он, этот порядок.
Немцы наводить порядок умеют, опыт у них богатый, сколько раз они уже наводили порядок и дома, и за границей. И нас уже подучили, и нам кое-что присоветовали, да вот теперь хотят поучить нас еще лучше, обстоятельнее, оттого и пришли — явить нам свой немецкий порядок.
Что ж, братцы, приготовимся встретить немецкий порядок!
В Околичное они пока не заявились, но люди уже цепенеют от страха, гадают, что будет, как будет. У всех поджилки трясутся, немцы, говорят, теперь лютые — еще бы не лютые! — говорят, страшно им — еще бы не страшно! — лютые они и страшно им, потому что их отовсюду гонят в шею.
Мужики ворчат, кто в одиночку, кто сбившись в кучку, прикидывают, прикидывают, как бы обхитрить немцев и как бы защититься от них.
— Я, ей-же-ей, ума не приложу, что будем делать, — говорит один.
— А ну как сюда к нам нагрянут? — спрашивает другой. — Целый год свинью откармливаю, а теперь, когда ее путем откормил, немцу ее отдавать? У меня свой рот, свои дети. А у кого рот, тому есть надо. А ежели за едой меня в задницу пнут, то эдак я могу и аппетит потерять.
— Так я им и позволю себя пинать! — храбрится третий.
— Думаешь, тебя спрашивать будут? С нами в два счета расправятся. Долбанут тебя — и очухаться не успеешь. С востока на них жмут, с запада вытуривают, а тут еще румыны и другие народы начинают поддавать им. Только мы с ними остались, в одной ловушке сидим: вы, мол, наши крестники, у вас, мол, самостоятельность, вот и слушайтесь крестного отца — ну надо нам все это было? Твою мать… и немецкую и словацкую! Все подохнем, увидите!
Поскольку вести из Братиславы и Банска-Бистрицы были напрочь противоположны, некоторые не знали, куда податься, чью сторону держать, с кем быть. Вот бы наведаться в Бистрицу! Узнать бы сперва, как там дела обстоят! Нелишне было бы заглянуть и в Турец, заскочить в Мартин или Микулаш; побывать и тут и там, потолковать с людьми, порасспрашивать их, как они смотрят на вещи. С тех-то гор, наверное, дальше видно, оттуда можно и осмотреться — оттуда, наверно, и южан видать, хотя кто знает! Хорошо бы во всем самим убедиться!
Конечно, приход немецкого войска никого не обрадовал, всех взбудоражил, но речь шла не только о немцах, сразу надо было решить множество вопросов. Что будет с нами? Что будет со Словакией? Речь шла о вещах, над которыми ломали голову люди и поумнее, чем какой-нибудь мужичок из Околичного, речь шла о многих и многих вопросах, решение которых откладывалось со дня на день, а тут решать надо было быстро и быстро же действовать. Историки и авторы исторических романов, как правило, избегают этих вопросов или касаются их весьма поверхностно, боятся, верно, что и долгие годы спустя кое-что могло бы дурно запахнуть. Только ведь дурной запашок разносится обычно на подошвах. Вот оттого-то мы охотно и сбрасываем свои крпцы[40], мы стыдимся их, да, да, и нередко предпочитаем стоять босыми, босыми в истории и перед историей, вечными дурнями — и перед венграми, и перед чехами, и перед другими народами, у которых есть своя гордость, а мы порой не решаемся сознаться даже в собственном смраде.
В Околичном не было тогда героев. Жили там всего лишь обыкновенные землепашцы да несколько ремесленников, и они не очень-то задумывались о геройстве. Возможно, им хотелось только выполнить долг и вести себя, как положено, но большинство из них даже не знали, что такое долг. Да и почему именно им надо было знать? Ссорилось правительство, не ладили между собой и те, что были в новом правительстве и стремились управлять дальнейшим ходом событий; не удивительно, что и крестьяне делились мнениями и спорили друг с другом, каждый умничал на свой лад и соответственно этому и решал. Двое сразу ушли в партизаны, просто исчезли из Околичного — ведь в Околичном не было партизан. Остальные раздумывали. Ждали, что будет дальше. Прислушивались к любой весточке, правдивой или ложной, а им счету не было: что-то доходило из Братиславы, что-то из Банска-Бистрицы — откуда только не доносились слухи! Один был в соседней деревне и там что-то слышал, другой уверял, что был в Трнаве и собственными глазами видел там марширующих немцев, — и все это выглядело вполне достоверным. Кое-что и сами присочиняли — тогда каждому хотелось быть умнее других.
Некоторые уверяли, что в Бистрицу перебежала часть братиславского правительства, что будто даже все правительство хотело повернуть против немцев и что об этом уже велись переговоры с русскими, но кто-то выдал все Гитлеру, и тот сразу же послал к нам свои армии.
Одна крестьянка из Церовой пришла в Околичное и рассказала, что немцы, мол, схватили президента, сцапали его, когда он выходил из своего дворца, а теперь держат его в каком-то большом немецком помещении, где ему даже есть не дают.
— В этом большом немецком доме, — говорила женщина, — есть такое маленькое оконце, а как ушли немцы обедать, пан президент отворил оконце и заговорил с двумя мужиками, которые во дворе яму копали, и сказал, что не даст себя сломить и что нам тоже надо держаться, так как русские уже идут к нам на помощь и, выходит, страшиться теперь нечего. Сталин папа президента заверил, что ни одна христианская душа не пострадает. Когда он говорил о христианах, он имел в виду и лютеран и католиков, хотя с этими лютеранами не все ладно. У них нет даже девы Марии в костеле! Но лютеране языком зря не треплют, держатся дружно, небось не такие дураки, как католики. И мой олух с каждым готов сцепиться. Я прямо не знаю, с чего эти католики, набожные люди, так поглупели. Все же Сталин помощь нам обещал. Сперва, конечно, даже разговаривать не хотел. Спросил пана президента: «А до сих пор ты где был?» — «Где был? Сам знаешь небось, где я был. Не мог же я предать Рим, когда вокруг меня столько католиков». А тот ему и говорит: «Ну и ступай себе в Рим, пусть они тебе помогают». Только потом за нас какой-то лютеранин вступился. Нет, лютеране не дураки. Нам бы поучиться у них.
А в Омпитале, говорят, — это тоже дошло до Околичного — восстал из земли святой Ленгарт и спросил: — Что же вы, словаки-омпитальцы, сидите сложа руки?
— А что нам делать? Мы ничего не знаем. Мы всего лишь омпитальцы. Пахари и виноградари.
— Омпитальцы, да вы что, слепые? Ничего не видите? Люди гибнут, а вы ничего не знаете? Не знаете, кому помогать должны?
— Мы друг другу всегда помогаем. И раньше помогали. Юрай Фандли был тут настоятелем, может, он и родом отсюда, правда, пока это еще точно не установлено, мы из-за этого долгие-долгие годы с частовцами спорим, потому как они ремесленники и большие господа. Идут они к себе в Частую, а никогда не скажут: идем в деревню! Всегда только: идем в городок! И Фандли хотят присвоить себе, чтоб хотя бы из-за этого люди признали, что у них — городок. Ведь они там друг другу выкают. Тут жил еще и Палкович, а кто такой Палкович, каждому известно. У нас много Палковичей. Я, к примеру, тоже Палкович. Зовут меня Палкович. Мы друг друга уважаем и друг другу помогаем, потому что у нас много знаменитых предков, они дурному нас не научили.
— Омпитальцы, но сейчас речь идет о народе! Сейчас речь о народе и о его чести! Речь и о других народах!
— И мы народ. Мы всегда были народом, а понадобится, в обиду себя не дадим. Уж как-нибудь долга спасемся и отобьемся.
И святой Ленгарт опечалился. Опечалился и ушел.
Был там еще мужичок из Штефановой, так тот после его ухода сказал: — Вовсе это не святой Ленгарт, а партизан. Русский партизан. На шапке у него была звездочка.
Со стороны Частой бежал человек. Ночью остановился в Дубовой и стал стучать кому-то в окно: — Вставайте! Слышите? Проснитесь, вставайте! Некогда толковать с вами, живо вставайте и ведите меня на Бабу![41]
— И это разговор называется, да?!
— Некогда лясы точить! Быстро одевайтесь и отведите меня на Бабу, не то рассержусь.
Кто бы это мог быть? Опять же партизан.
Через Яблоницу бежал другой человек. Дело было днем, и он спешил в Сеницу, но не хотел в этом открыться и потому спрашивал дорогу на Брадло: — Скажите, пожалуйста, я правильно иду на Брадло?!
— Правильно, правильно. Вот идите на Сеницу, а там за ней будет и Брадло.
А потом спросили его: — А зачем туда идете? О такую-то пору на Брадло не ходят.
— А я вот иду на Брадло, — ответил человек. — Иду на Брадло. Я еще весной решил, что в начале осени схожу туда, а теперь вот иду.
И яблоничане улыбались. — Так идите, значит. Идите в Сеницу. Оно, конечно, еще не совсем начало осени, да это уж ваше дело. Если хотите попасть на Брадло, ступайте в Сеницу, а оттуда до Брадло рукой подать!
А в Околичном Карчимарчик ходил по деревне и убеждал людей: — Слушайте, люди, надо идти, ничего не попишешь.
— Ага, глядите-ка на него! Что это с ним стряслось? Да что с тобой стряслось, ты же во как распекал нас, а теперь по-другому заговорил?
— Положение изменилось, — отвечал Карчимарчик. — Немцы уже здесь, все мы знаем, что это означает. В Центральной и Восточной Словакии дерутся. Там наши, надо помочь им. Положение изменилось, надо идти.
Он заглянул к Фашунгу, но тот отказался: — Не серчай, Матуш, я не пойду. У меня характер не тот. Убить корову либо теленка — это куда ни шло, но смотреть, как люди мрут, не могу. Не серчай, Матуш! Сходи к Кириновичу, авось его уговоришь.
Карчимарчик зашел и к Гульданам. Мастер был дома один. Имро с Вильмой пошли проведать Агнешку, утешить ее — события последних дней сильно напугали ее. Она ничего не знала о Штефане и тревожилась за него. Несколько раз ходила на почту, думала дозвониться, но всякий раз ей говорили, что линия повреждена.
Мастер, правда, получил телефонный вызов, почтальон еще вчера принес его, и старый вмиг припустил на почту, но разговор получил только на второй день. Невестки сообщали ему, что Якуб и Ондрей ушли к партизанам. А до этого, говорили они, мужья их получили повестки, отбыли в армию, но и обжиться-то не успели в казарме, как начался переполох; командир, дескать на линейке прямо так и сказал солдатам: положение очень серьезное, вот-вот нагрянут немцы, захватят казарму, а потому разумней, не дожидаясь прихода чужих войск, разойтись и рассеяться. Кто хочет, может вернуться домой к семье, однако в таком случае пусть действует на свой страх и риск. Остальные же по двое, по трое, а то и большими группами пусть попытаются перейти к партизанам. Якуб с Ондреем выбрали этот путь. Один их товарищ, из тех, что вместе с ними прибыл в казарму и вместе с ними обзаводился портянками и онучами, предпочел другое: он помчался домой, оповещая каждого встречного о том, что случилось в казарме, разгласил, одним словом, военную тайну, военный приказ — рассказал обо всем и Ондровой жене и Якубовой и передал от мужей им поклоны. Невестки, когда говорили с мастером, вздыхали и хлюпали в телефон, и он все хотел их утешить, но так и не успел — связь оборвали и больше не наладили.
Сейчас мастер с озабоченным видом ходил по горнице и раздумывал, что делать. Сесть за стол и написать что-нибудь невесткам? Или отправиться к ним и заодно навестить того, кто принес эту новость? Может, он знает больше, чем мастер услышал по телефону. Или чуть обождать? Может, Якуб с Ондреем отзовутся. Только когда? Когда это будет? Когда они отзовутся!
Карчимарчику он обрадовался. И тут же выложил все в надежде, что приятель посоветует ему что-нибудь дельное.
Карчимарчик внимательно выслушал его, порасспросил о том о сем, а под конец робко сказал: — Гульдан, а ведь я пришел и тебя позвать с собой.
Гульдан удивился. — Позвать? А куда? Ты что, уже забыл, что твердил раньше?
— Нет, не забыл, — ответил Карчимарчик.
— Ты же ненавидишь войну. Твердил, что и слышать о ней не можешь. Ты еще намедни об этом кричал.
— Забудь про то!
— Как так забыть? Небось не о пустяках речь. Два моих сына уже ушли, где они — неизвестно. Захоти я разыскать их, так не знал бы даже, в какую сторону податься.
— Зачем тебе их искать? — спросил Карчимарчик.
— Зачем?! У них жены, дети, — ответил Гульдан. — Час назад, когда я стоял у телефона, я просто не знал, что и сказать снохам. У тебя нет семьи, тебе легче о таких вещах рассуждать. Да и боюсь я, что все это одни шатания. Вряд ли добром это кончится.
— Если мы все будем вот так бояться, добром, конечно, не кончится.
— Ну вот видишь? Мы и то уже не совсем понимаем друг друга. А ведь еще недавно отлично столковывались. Теперь, когда дело приняло такой крутой оборот, и мы думать начинаем по-разному.
— Может, тебе кажется, что я изменился, — сказал Карчимарчик. — Это не так. В главном я не изменился. Я ненавижу войну, всегда ее ненавидел. Но многое изменилось, вещи вдруг обрели совсем другой смысл.
— Вдруг? Почему это вдруг?
— Дело не в слове. Сейчас не время играть в слова. Слова можно всяко перевертывать. В тридцать восьмом нам хотелось сохранить по крайней мере то, что можно было сохранить. А получилось вдруг так, будто у нас был камень за пазухой против чехов. Я много думал об этих вещах, и мне не по себе нынче. Тут немцы, хочешь не хочешь — с этим надо считаться.
— Они были тут и раньше.
— Были. Но это так не бросалось в глаза. Теперь уже ясно — надеяться не на что. Много было зла, и за него мы тоже в ответе. Как ни ловчи, ни изворачивайся, мол, не наша вина, но мы тоже несем свою долю, никто другой не взвалит ее на себя, хотя и то правда, что у нас не было особого выбора. Выбирали мы из того, что имели, и пытались то сохранить, что можно было сохранить, но наделали кучу ошибок, а сохранили меньше, чем сперва считали возможным; ошибок столько, что у нас едва хватит сил вынести их, но все равно надо признаться во всем и попытаться исправить то, что еще можно исправить, — мы должны доказать загранице, а главное, самим себе, что мы на самом деле народ, а не сплошь прохвосты.
Мастер ухмыльнулся и немного погодя спросил: — Ты полагаешь, мы немцев выгоним? Думаешь, это удастся?
— Одни не выгоним, — ответил Карчимарчик.
— Зачем же тогда вербуешь людей? — спросил Гульдан. — Зачем затеваешь дело, исход которого тебе самому не ясен? Раз нет уверенности в успешном исходе, никто не имеет права вербовать людей. Кто вербует, тот несет и ответственность.
— Мы все должны нести ее, — сказал Карчимарчик.
— Это ты так говоришь, — сказал Гульдан. — Может, и другие так говорят, каждый по-своему толкует ответственность, каждый по-своему ее и несет. Главная наша беда в том, что мы не едины, никогда не держимся вместе, не уважаем друг друга, мы недоверчивы, мечемся от одного к другому, срамим соседа, а тот срамит нас. Вечно унижаем кого-то и вечно ищем виновного — и не только сейчас, даже в мирное время, когда всюду покойно, мы меж собой непрестанно воюем. Какая уж тут ответственность? Что это за ответственность? Вечно мы кого-то судим, часто не разобравшись, была ли промашка, не узнав, чем она вызвана. Собственных ошибок боимся, скрываем их, боимся настолько, что не смеем назвать их подобающим словом, а скорее прикрываем лозунгом, подсунутым кем-то чужим из добрых ли, злых побуждений, а может, просто потехи ради. Смешная она, эта наша ответственность! Почти все, что делаем, смешно и комично, но мы и смех свой скрываем, боимся, что и он нас не вывезет — такой он убогий и горький, — боимся, как бы и он не сделал нас посмешищем перед заграницей.
— Это не совсем так.
— Именно так. Гордости у нас нет. Ни гордости, ни сплоченности. Будь мы о себе лучшего мнения, будь мы сплоченней, мы бы и с чехами легче столковались. Но мы вздорили с ними до последней минуты, пока вокруг нас не затянулась петля. В конце концов нами стали торговать; французы и англичане, на которых мы так надеялись, скрепили подписью приговор, который придумала и вынесла кучка мерзавцев. Что нам оставалось? Головы не снесли, так хоть шапку спасли. Да вот беда — шапка оказалась мала. Сперва-то сдавалось — мы в выигрыше, по крайней мере себя сбережем, но с каждым часом положение ухудшалось. И повсюду так. Плодилась глупость, беда шла за бедой. Пала Польша, пришел черед Франции, и она пала, Англия оказалась на краю катастрофы, были разбиты и многие другие страны, а сколько погибло русских и украинцев, никто и не знает, сколько погибло их и сколько еще погибнет, хотя уже наступил поворот. И даже теперь мы не едины. Одни за самостоятельность и держат сторону братиславского правительства, другие тоже за самостоятельность, но действуют заодно с партизанами, стремятся помочь им, соединиться с ними, а третьи — за Чехословакию, мечтают о старой республике, где иным и неплохо жилось; но для большинства она вроде пу́гала, потому они за новую, лучшую Чехословакию, где слово чеха и слово словака будут равны. Некоторые слушают Лондон, получают оттуда приказы, другие вострят слух на восток, ждут оттуда помощи. А почему бы нам и впрямь не дождаться русских, Советского Союза? Почему заранее было не договориться с ними?
— Откуда ты знаешь, что не договаривались? Может, такое и было. Мы против них воевали, и правительство не могло вести с ними переговоры, во всяком случае открыто. Но это уже нас не касается, теперь недосуг рассуждать. Пришло время действовать.
— Нет, я не пойду, — сказал мастер. — И Имро не позволю идти.
— Кто знает, может, и пожалеешь, — сказал Карчимарчик.
— Не пожалею.
— Как знаешь. А все же подумай, подумай еще!
На том они и расстались.
22
А Киринович опять подался тогда в Братиславу. Перед уходом из дому — хотя обычно он этого не делал — предупредил жену, чтоб была осмотрительна. И еще посоветовал ей не оставаться на ночь в имении, а пойти лучше в Церовую и там заночевать у родителей.
— За меня не тревожься! — успокаивала его Штефка. Стоя у дверей, она провожала мужа веселой улыбкой. — Я еще ни разу не потерялась, до сих пор меня никто не украл, не украдет и теперь, за меня не тревожься!
Но управляющий для верности забежал и к Ранинцу и попросил его, как самого толкового и здравомыслящего человека, присмотреть за женой, коли понадобится.
— Вы, Ранинец, — человек разумный и надежный, — старался он улестить его, — знаете, как нынче дела обстоят, объяснять вам не надо. У меня, как обычно, в Братиславе сегодня по горло всяких хлопот. Не знаю, удастся ли к вечеру воротиться. Поэтому, прошу вас, приглядите, если понадобится! Нечего тут разводить партизанщину! Кто хочет партизанить, пусть отправляется в горы, на север, там места вдосталь! Главное, Габчо и Онофрея надо держать в узде, да и не худо бы за Вишвадером приглядеть. Не нравится он мне, особенно в последнее время не нравится. Сами знаете, каковы все они! Надо, чтобы в имении был порядок. Ведь, ежели сами тут не удержим порядка, никто не станет его наводить. Смутное время нынче, поистине смутное! Положение серьезное, к тому же неясное, сам черт рога сломит. Съезжу-ка в Братиславу, может, что и поразнюхаю. Потом вас обо всем извещу. А пока меня не будет, приглядите, чтоб тут не стряслось чего. Вы меня понимаете?
— Понимаю, понимаю, конечно понимаю.
— И еще кое-что. Видите ли, тут жена моя. Да что я вам толкую? Одно слово — женщина. — Управитель заглянул батраку прямо в глаза: — Женщина, а вы умный человек. Вижу, вы меня понимаете. Более толкового и понятливого человека тут не найти.
— Пан управитель, положитесь на меня! Смело можете положиться!
— Вы, Ранинец, человек женатый…
— Тридцать годков, пан управитель, целых тридцать годков.
— Вы человек женатый и всякое пережили.
— Эхе-хе, чего только я не пережил! Право слово, всякое пережил! Всяко бывало!
— Сегодня даже лучше никуда не ходите. Оставайтесь-ка в имении. Тут житницы, у нас еще зерна порядком. Наведайтесь в конюшни, обойдите хлева. И следите за Габчо! Следите за Вишвадером! А заблажит вдруг Онофрей, так и с него глаз не спускайте! Иной раз и слова достаточно, Онофрей вас слушает, я заметил, что слушает. А потребуется — поговорите с ним!
— Так-так! Ей-богу, схожу к нему, пан управитель. Сейчас же схожу к нему поговорю.
— Зачем же так торопиться, Ранинец? Я только к тому, чтоб тут был порядок. Уверенность — это все же уверенность.
— Это уж точно, — согласился Ранинец. — Уверенность — это все же уверенность.
— Значит, я могу на вас положиться.
— Смело можете положиться.
— А что до моей жены…
— Пан управитель, и тут будьте спокойны.
— Не сказать, чтоб она боялась. Она не робкого десятка.
— Смелая женка! Истинно смелая женка, пан управитель! Право слово, посмотрел бы я на того, кто посмел бы ее изобидеть!
— Я не о том. Пан Ранинец, знаю, из здешних ее никто не обидит.
— И думать не думайте, пан управитель! Умная женка. Все ее уважают. И Габчо, и Онофрей тоже. Посмей кто ее обидеть, и Габчо и Онофрей тоже стали бы за нее горой. Честное слово! Поверьте моему честному слову!
— Теперь, знаете, время смутное. Разные ходят слухи. В любую минуту может все измениться, повернуться, перевернуться. Не обязательно даже, чтоб с человеком невесть что и случилось, но всякие разговоры на него действуют, человеку впечатлительному и чуткому что угодно приходит на ум.
— И то сказать, — подтвердил Ранинец. — Пан управитель, в ваших словах великая правда!
— Знаете, иной раз бывает тоскливо. Бывают же такие минуты, правда?
— А как же, бывают.
— Вдруг тоска возьмет.
— Вдруг возьмет, а как же!
— А женщины, они и вовсе впечатлительные. Иной раз и сами не знают, что с ними.
— Пан управитель, согласен с вами. Впечатлительные они. Иной раз и сами не знают, что с ними, не знают, что с ними. Вполне с вами согласен.
— Наведайтесь к ней!
— Наведаюсь. Пан управитель, скажу вам как на духу: я очень уважаю вашу хозяйку. Мы все ее жалуем. С удовольствием к ней наведаюсь. А хотите, могу и поговорить.
— Что ж, можно, лишь бы ей не было скучно. Лишь бы не было ей вечером боязно.
— Понятно, понятно.
— А что касается остального — это строго между нами, только между нами.
— Только между нами. А что остальное?!
— Ну захоти она случайно идти вечером в Церовую — переночевать у родителей, проводите ее!
— Проводить? И проводить даже? Что ж, случись это, и проводить можно.
— А то и не понадобится. Сами увидите, как сложится обстановка.
— Разумно. Уж я-то разберусь в обстановке. Положитесь на меня, пан управитель. Смело можете положиться.
Разумеется, Киринович на сей раз отправлялся в Братиславу не только ради своих служебных обязанностей. Пожалуй, сейчас они не бог весть как и занимали его. Куда больше его волновали события последних дней, к которым он до сих пор не определил своего отношения.
Киринович был человек осмотрительный. В привычной обстановке он умел принимать решения сравнительно быстро, иной раз пускался в дело очертя голову, подгоняя еще и других, но, если речь шла о чем-то серьезном, сложном и запутанном, он пороть горячку не любил, не корчил из себя ни ловкача, ни героя, а трезво обдумывал, что делать, как поступить, не полагался только на собственный разум, а изучал и чужие мнения, и, надо, признать, изучал основательно. Потерянное время не тяготило его, пожалуй, и говорить не стоило о потерянном времени, ибо Киринович, уж если он как следует осмотрелся и извлек для себя полезный урок, всякий раз наверстывал упущенное и догонял, а то и обгонял тех, кто действовал более решительно и быстро.
Положение отнюдь не казалось ему утешительным. Приход немцев его не обрадовал. Он слыхал, что немцы разоружают словацкую армию, некоторые гарнизоны, поговаривали, уже не существуют, но в Банска-Бистрице и в других городах словацкая армия соединилась с партизанами, и народ туда валом валит. Слыхал он и то, что якобы в Бистрице новое правительство, которое объявило немцам войну, и у него уж было созрело решение махнуть туда поразнюхать, да он тут же одумался. Семь раз отмерь, один отрежь! Нет, он все-таки не отправится в Бистрицу на разведку, чтобы там кто-нибудь его поучал: «Ага, товарищ, ты вовремя пожаловал, тут нам каждый кстати, мы и тебя запряжем!» В таких поучениях Киринович не нуждается. Сперва надо узнать, о какой такой «упряжке» идет речь! Когда говорят так и этак, это значит, так или наоборот, но некоторые вещи могут иметь не два оборота, а еще и третий, хотя это и вопреки логике. Но что такое логика? Для чего она, эта логика? Жахнут тебя по башке, вот и конец логике, да хоть бы она и осталась, тумак-то все равно уже при тебе! Прежде осмотрись, а потом и решись! Торопиться нечего, лучше поговорить с человеком, который разбирается в обстановке. В Братиславе такой человек определенно найдется, возможно, там найдутся и многие, что разбираются в обстановке. А пока Кириновичу ясно одно: дела обернулись несколько иначе, чем он полагал. И это злило его. Когда ехал утренним поездом в Братиславу, он был очень зол, свирепел на весь мир. «Все вверх дном! — думал он. — Все перепуталось! Черт дери эту кашу! Ты вот решил, что пришла пора тихой подпольной работы, что все мало-помалу образуется, переменится, а вот на тебе — втерлись сюда немцы и теперь иди добывай винтовку! Добывай винтовку или хватай рогатину, и именно сейчас, когда работы по горло. Правда, с зерном уже вроде управились: часть сбыли, другая сушится в житницах. Да ведь еще остались картофель, табак, а там, глядишь, и кукуруза поспеет. Если мужики по одному, по двое утекут в Бистрицу или еще куда в горы, тут и сбрендить недолго. Ведь не стану же я сам кукурузу ломать?! Или, может, немцев звать на поденщину?! Черт дери, кто мог все так угробить?! Вот тебе и подпольная работа, а следом за ней тихий, мирный переворот! Хватай винтовку и иди, иди бей немцев. Вот ты и бей, коли заварил это и выдумал! Я не клюну на такое геройство, на такую авантюру! Не оставлять же мне имение на произвол, на авось! Я и так делаю, что могу. Да еще и народ сплачиваю. А тот, кто постарался все развалить, пусть теперь и пожинает плоды. Я за это отвечать не намерен. А там кто знает?! Кто знает, как в действительности дела обстоят?! Пожалуй, и правда, нелишне поговорить с человеком умным и сведущим!..»
23
А Имриху вновь удалось ускользнуть из дому и встретиться со Штефкой. Они вновь провели вместе вечер, один из тех вечеров, которые Имрих (и не только он) много раз потом вспоминал, пытаясь один отличить от другого, и каждый представить себе каким-то особенным и, главное, выделить этот последний, но, как он ни старался, и этот вечер казался ему таким же, как остальные: все вечера, проведенные со Штефкой, были пронизаны одним настроением, одним дыханием.
Время способно все переплести, спутать, связать воедино. Время соединяет все.
Спустя годы вспыхнет вдруг что-то в памяти, ты посмеешься, а то и спросишь себя: неужто и правда? И это случилось со мной? В самом деле так было? А когда? Когда это было?
Иной раз припомнится какая-то смешная безделица, которая когда-то казалась совсем незначительной, может, всего-то раз мы на нее и обратили внимание, а то и вовсе не обратили или заметили ее лишь случайно, и нас привлекла именно ее незначительность. А потом мы вдруг понимаем, что она гораздо глубже запечатлелась в памяти, чем то, что когда-то представлялось значительным, и именно с этой-то малостью мы связываем массу вещей, предметов, множество забытых минут, вечеров, недель и даже годов.
Иной раз мы и не знаем, что с нами творится, ни с того ни с сего нападает какая-то непонятная радость или тоска. И мы спрашиваем себя: что это с нами? Что со мной? Почему я вдруг сам не свой? Почему изменилось настроение? Каково оно и чем оно вызвано? Мы размышляем, и в памяти возникает какой-то невинный, совсем неприметный пустяк, к нему даже трудно отыскать нити, однако мы чувствуем их и снова задаемся вопросом: «Что со мной? Что все это значит? Почему я вспоминаю об этом?»
Вспомнилась, к примеру, душистая вика. Или вам сказали о ней, может, произнесли одно слово — «вика». И вы ее сразу увидите. И тут же в мыслях всплывает изгиб тропки возле нее. Чья была эта вика? Куда вела эта тропка? Куда я шел тогда? Когда и где это было? Куда — туда? Куда — назад?
Или вдруг вспомнится ключ. Что это был за ключ? Где я его потерял? Почему он снова возник в моей памяти? От чего он был? От каких дверей? Эх, будь этот ключ снова у меня в руках, уж я бы нашел те двери, которые им отпирались.
В саду береза. Вихляет коленом. Мальчишки с ума по ней сходят. А я уж давно вырос из коротких штанишек и не способен даже стих накропать — вот оттого потихоньку и забавляюсь прозой.
Зачем я тут об этом пишу? Бог знает! Почему-то мне кажется это уместным.
Кибиц, поди прочь. Не искушай!
Ну ладно! Поведем речь об Имро. Мы же о нем говорили. Поговорим об Имро и Штефке!
Вот именно!
Стояли чудесные вечера. Пахло смолой. Лес дышал. В месячном свете блестели затемненные окна. Тогда всюду были затемненные окна.
Имро в тот вечер задержался со Штефкой дольше обычного. В Церовую уже притарахтел последний братиславский поезд и тут же оттарахтел дальше, а они все еще продолжали гулять. Бродили возле имения; через каждые пять-шесть шагов останавливались и взглядывали на дорогу и тропку, прислушиваясь, не идет ли кто. А что, если Йожо еще сегодня вернется из Братиславы? Не хватает только, чтобы он их застал! Нет, такое не может случиться, нет, нет, ни за что не случится! Если бы кто показался или они бы увидели, услышали что подозрительное, Имро немедля бы скрылся. А Штефка быстро и тихо юркнула бы в дом и там бы уж представлялась вовсю, чтобы Йожо ничего не заметил!
Время текло, вокруг царило спокойствие, и только тихо и однозвучно стрекотали сверчки. Но Имро настораживало это спокойствие, оно казалось ему каким-то ненастоящим! То и дело он вглядывался и прислушивался, то и дело замирал в напряженности. Имро считал, что этой напряженности и так многовато, зачем же ее еще продлевать? Да и поздно уж, пора, пожалуй, домой. Зачем рисковать и подвергать себя лишней опасности? Ведь и завтра день, и послезавтра; через два-три дня они же опять могут со Штефкой увидеться!
В самом ли деле он так подумал?
По всей вероятности, да. Во всяком случае, он вполне мог так подумать. Скорей всего, ему пришли на ум такие слова, и, конечно, пришли потому, что он хотел их высказать Штефке. А хотел по многим причинам.
И прежде всего потому, что, уходя из дому, он открыто признался Вильме, куда он идет, на сей раз действительно (какая откровенность!) признался ей в этом. Сказал, что идет в имение, повидать Кириновича: тот нынче утром (какое точное предположение!) уехал в Братиславу и сегодня же (Имро, правда, имел в виду завтра) должен вернуться и привезти свежие новости — вот потому-то Имро и хочет с Кириновичем (провались он, этот Киринович!) встретиться и потолковать.
Вот как Имро умеет обманывать! А что, если Вильма не спит? Вдруг еще ждет? Он сказал, что в имении долго не задержится. А теперь что он скажет? Где был так долго? Какую небылицу, какую отговорку он еще выдумает?
— Йожо уже не приедет! — сказала Штефка.
— Откуда знаешь? — пробормотал Имро. — Еще может приехать.
— Нет, я знаю. Он уже бы приехал.
Помолчали. Прислушались. Стрекотали сверчки. Потом Имро подумал об отце и следом — о братьях. Где они? В самом деле, где Ондро и Якуб?! Что они делают?
В мысли его затесался и свояк Штефан, муж Агнешки. Агнешка, да и Вильма вечно теперь над ним причитают, тревожатся, будто с ним что-то случилось. Может, зря и тревожатся. Просто застопорилась где-то почта, задержались Штефановы письма. Почта сработает, и, глядишь, завтра-послезавтра опять придет почтальон, заглянет во двор и, смеясь, крикнет: «Срочное! Заказное!» И опять все будет в порядке. Может быть. Поглядим. Надо надеяться! Да и что может случиться со Штефаном? Агнешка наладилась было к нему, да мать с Вильмой отговорили ее. Имро предложил свои услуги, но, верно, сказал это не очень-то веско и убедительно — женщины отнеслись к его предложению несерьезно. А может, он и предложил несерьезно.
Стрекотали сверчки. Штефка прижалась к Имро и, склонив голову ему на плечо, сказала:
— Как тут светло! Я бы на всю ночь тут осталась!
Она ждала ответа, но Имро молчал. И Штефка придумала новую фразу, показавшуюся ей, правда, довольно мудреной, но она все равно ее изрекла, причем даже как-то торжественно, чуть выпрямившись:
— Как скупится это лето на темноту!
Имро недвижно стоял, обнимая Штефку одной рукой, но тут протянул и другую, обвил ее талию и, слегка нагнувшись, стал целовать в губы.
Вскоре они двинулись. Штефка сказала: — Йожо сегодня уже наверняка не приедет.
— Все равно надо идти. Уже поздно. Тебе надо выспаться.
— Ты чего на меня валишь?
— Я не валю. Нам обоим надо выспаться.
Стрекотали сверчки. Штефка о чем-то говорила, но Имро не мог вникнуть в ее слова, хотя и пытался, пытался, его все больше одолевали собственные мысли, он хотел их отогнать, не думать, хотя бы пока не простится со Штефкой, но мысли были сильнее его, он просто перестал Штефку слушать, шел рядом, но не воспринимал ее слов и вроде бы даже забыл о ее присутствии; перед ним вдруг возникли другие лица, хорошо знакомые, лица его ровесников и однокашников, многих он не видел уже давно, но сейчас они были как бы и впрямь перед ним, они беззвучно, один за другим, обращались к нему, но он не понимал их, да и не очень-то хотел понять. Он спрашивал их, или ему казалось, что спрашивает: «Где вы и что делаете?» И задавал он им этот вопрос прежде всего потому, что боялся, как бы они в свой черед не спросили его: «Что ты делаешь, Имро?! Где ты и что делаешь?» В самом деле! Что, если многие годы спустя его спросят: «Имро, а ты, где ты был? Что всю войну делал? Как тебе удалось от нее отвертеться? Кто тебе это обстряпал? Почему ты не был с нами? Почему тебя не призвали ни в ударные части, ни в части прикрытия? Мы разрушали лачуги, поджигали сараи, амбары, а ты сидел дома, корчил из себя героя, а может, и смеялся: «Вот воюют, не зная за что!» Мы уничтожали, взрывали мосты, а когда нам самим нужен был мост, который взорвали у нас под носом другие, тогда мы оглядывались и спрашивали: «Имро, ты где? Почему нам не поможешь?» А однажды мы нарубили деревьев, сбили плот и спустились по течению Дона под стены Ростова; да, словацкие хлебопашцы-плотовщики шли на Ростов, а потом помогали немцам грабить и изводить советскую пшеницу! А где был ты, Имро?! Что ты делал, герой! Мы надрывали глотки под Липовцом, но твоего голоса не слыхали. Может, ты и сочувствовал нам, жалел нас, сидя где-то в Словакии, хотя мы этой жалости не заслужили. Мы видели тысячи тысяч несчастных, живых и мертвых, солдат и не солдат, толпы пленных и раненых, полчища оборванных и голодных людей, с ними мы так легко могли объясниться, и они, верно, с радостью приветили бы нас в своем доме, если бы мы его не разрушили и не заставили их, бездомных, скитаться с подушкой под мышкой и с пустым котелком за плечом по бесконечно долгим дорогам. А мы все шли; ворча, плелись за немецким сапогом и под защитой немецкого штыка, увертываясь от пуль красноармейцев, дошли до самого Кавказа. Мы спрашивали себя: пахарь словацкий, что ты делаешь, что ищешь ты на Кавказе? Имро, где ты тогда был?! Что делал? Многие из нас перешли на сторону красноармейцев, но мы и там тебя не нашли. Напрасно мы озирались вокруг, там тебя не было. А в сорок четвертом, что делал ты в сорок четвертом? Отвечай, храбрец! Скажи, что ты тогда выдумал? Какие тогда у тебя были заботы? Какое ты принял решение и как себя вел? Что совершил?»
Стрекотали сверчки.
Имро проводил Штефку домой. Хотелось поскорей с ней расстаться, но пришлось еще подождать, пока Штефка отомкнет дверь. Стоя рядом, он говорил себе: «Поцелую ее и пойду». Но Штефка словно нарочно оттягивала время. Ключ был уже в двери, стоило только его повернуть, но она не торопилась. Она посмотрела на Имро, слегка поежилась и сказала: — Брр! Опять в эту комнату! Не представляешь, как ненавижу я затемненные окна!
— Ведь их и приотворить можно. Почему они у тебя ночью закрыты? С раскрытыми окнами куда лучше спится.
— Если б я не боялась!
— А чего? — спросил Имро. Потом улыбнулся рассеянной, безучастной улыбкой, словно бы даже не связанной с тем, о чем говорил, и подумал: «Сейчас я и вправду пойду!» Осмотрелся: метнул взгляд на сушильни, на дома батраков, но в ту самую минуту, когда он хотел обнять Штефку на прощание, она снова повернулась к дверям.
Отомкнула. Сразу открыла дверь и вошла. Имро, нерешительно потоптавшись, двинулся за ней.
Двери остались приоткрытыми. Имро шагнул к ней и как бы безотчетно положил ей на плечи руки и нежно привлек к себе: — Мне пора, — шепнул он ей в волосы.
Она кивнула. — Ага. Сейчас пойдешь. — Она медленно подняла голову, заглянула ему в глаза.
— Сегодня я задержала тебя. Еще будут неприятности дома.
— Почему ты думаешь?
Она ладонью погладила его по щеке, в другую — поцеловала.
— Я же мог уйти. — Имро улыбнулся. — Хотел бы, мог бы уйти домой еще вечером.
— Я тебя задержала.
— Задержала? — Он все еще улыбался. — А почему?
— Просто так. Ты сегодня какой-то чудной.
— Чудной? Почему?
— Не знаю.
— Чего тебе не показалось во мне?
— Право, не знаю.
Он крепче обнял ее. «Ведь я люблю ее! Конечно, люблю. Зачем же все время повторять это?»
Она прижалась к нему, но потом вдруг отпрянула.
— Обожди, Имришко, запру, так спокойней.
И заперла. В комнате стало темно. Имро опять обнял Штефку и потихоньку стал ее раздевать. Но это, думается, дорогого читателя уже не занимает. А там — кто знает? Может, иному это показалось бы самым занятным. Пожалуй, оно и было занятно. Кое-кто, поди, все страницы бы обслюнявил.
Да, треклятые окна!
24
Вдруг Штефка вздрогнула. И Имро разом вскочил: «Что такое? Что случилось?»
Он хотел быстро скрыться, да в панике никак не мог найти одежду — они со Штефкой вырывали ее друг у друга, дергали и расшвыривали в стороны.
Гул моторов усиливался. Имро пытался на себя хоть что-то набросить, но Штефка толкала его к дверям: — Во дворе оденешься! — А потом снова оттащила от двери. — Обожди, уже нельзя, увидят тебя! Боже милостивый! Что делать?
— Через окно нельзя?
— Беги в горницу! Погляжу, кто это. Может, не к нам. — Штефка пыталась хоть немного себя успокоить. Она натянула платье прямо на голое тело и, босая, металась в испуге по кухне. Искала свечу — с лампой долго возиться. — Кто это может быть? Йожо еще никогда никто не привозил.
Машина остановилась, но мотор продолжал тарахтеть. Хлопнула дверь. Послышались шаги и мужские голоса.
Штефка, зажигая у стола свечку, говорила: — Господи, как я дрожу! Имришко, оденься пока! Приду потом в горницу, отворю окно.
Снаружи. — топот ног.
— …и туда.
— Вон туда? Йожо, ты спишь?
Стук в дверь: — Вставай, Йожо, вставай!
— Кто там?
— Это я. Партизан. Йожо дома?
Громкий хохот. Кто-то шепнул: — Пошли отсюда! Не мешай…
— Йожо нет дома. В Братиславу уехал.
— Правда? Йожо, вставай! Не увиливай! Это я, Карчимарчик. Хозяйка, откройте!
— Йожо нет дома. Его сейчас нету. Завтра вечером вернется.
Все ушли, за дверями остался один.
— Хозяйка, прошу прощения! Это я, Карчимарчик!.. Жестянщик! Ведь вы меня знаете. Жестянщик Карчимарчик. Я пришел к Йожо. Голубушка, не сердитесь.
— Он в Братиславе. Я одна дома. Йожо в Братиславе.
— Прошу вас, откройте! Поговорить кой о чем надо.
— Я одна. Сейчас я совсем одна. Приходите завтра! Завтра и муж будет дома. Сейчас я… Я едва держусь на ногах, я даже не знаю, сколько времени… Приходите завтра! Я ничего не знаю.
— Всего два-три слова. Голубушка, на часы лучше и не глядите. Знаю, мы разбудили вас, конечно, мы пришли и громко кричали. Не сердитесь, голубушка! По голосу вашему чувствую, что вы малость сердитесь. Я пришел к Йожо. Йожин товарищ, Матуш! Неужто вы меня не помните? Матуш Карчимарчик! Откройте — сразу меня узнаете.
Мотор заглох. Воцарилась полная тишина, нарушаемая только отдаленным шарканьем ног.
— Хозяйка! — Голос стал чуть глуше, но звучал так, будто жестянщик протиснулся внутрь. — Я пришел к Йожо. Надо поговорить с ним.
— Господи боже мой! Ведь его нету сейчас! Я ничего не знаю, ничего не решаю. Приходите завтра! Сразу же после обеда и приходите. Приходите завтра! Пожалуйста!
— Голубушка, завтра меня уже тут не будет. Кто знает, где завтра я буду. Мы тут на машине. Оттого я и хочу с Йожо потолковать — мы тут на машине. Я Карчимарчик! Ничего не бойтесь! Чего вам бояться? Хотя Йожо и нет дома, все равно не бойтесь. Спокойно одевайтесь! Знаю, что вы уже спали, одевайтесь спокойно! Карчимарчика бояться вам нечего.
— Я страшно боюсь, я до ужаса перепугалась. Муж в Братиславе. Еще утром уехал, а сейчас в Братиславе. Я устала, я до смерти перепугалась. Сами слышите, я вся дрожу! У меня даже голос другой, меня всю трясет…
— Золотко мое, ведь это же я, жестянщик. Вы меня, что ли, так напугались?..
— Ужас как напугалась, просто ужас.
— Голубушка, я же никому зла не сделал, я никого еще и пальцем не тронул.
— Я вас ужасно боюсь.
— Карчимарчика?
— Господи боже мой, меня трясет всю, я даже заикаюсь.
— Хозяйка, меня же тут завтра не будет. Я иду в Бистрицу, хотел и Йожко позвать с собой. Думал, он станет у нас командиром. Мне не хватать будет Йожо! От души вам скажу: мне не хватать будет вашего Йожко, хотя я ему, может, был и не нужен. Теперь я поведу людей. Карчимарчик поведет. Голубушка, по крайней мере передайте ему, что мы тут были. Передайте, что тут был и жестянщик. Очень прошу вас, вы меня слышите?
— Конечно, слышу. Как я могу вас не слышать?
Но кроме слов Карчимарчика, до слуха ее доносился и галдеж от батрацких лачуг. Постепенно поднялось все имение. Беспрестанно хлопали двери. Мужики бегали, мельтешили по двору, шепотом переговаривались, громко зевали, кашляли, там-сям прорывалось и слово. Где-то заплакал ребенок. Кузнец Онофрей переругивался с женой.
— Хозяйка, — продолжал Карчимарчик, — передайте, что мы пошли, что уже ушли туда. Некоторые еще вчера ушли. Не хотели, пришлось их заставить, Карчимарчик заставил их. По одному, по двое посылал он мужиков в Бистрицу. Уговаривал именно тех, кто больше всего боялся. Отбирал не солдат, ибо и сам никогда не был солдатом. Как же это вы Карчимарчика испугались? Может, я всю жизнь буду мучиться, что разбудил вас ночью и напугал, но виноват Йожо, виноват и ваш Йожо, он должен был меня разбудить; еще вчера, позавчера, думал я, он придет меня разбудить; кто-то должен был нас давно, ужасно давно разбудить; мы обязаны были друг другу всегда говорить, что через год и через десять лет нам захочется спать, что даже через сто лет найдутся на свете люди, которым захочется выспаться. Мы давно должны были думать о мире, больше тревожиться за него и друг друга учить, что нужно себя уважать, себя и других, всех любить, в каждом человеке открыть себя и почтить, ибо только такой человек может стать поистине непобедимым. И пусть бы он был как угодно унижен и беден или настолько никчемен, что мир и не замечал бы его, а умри он, его бы даже никто не хватился, он все равно пророс бы во все человечество, потому что хотел прорасти; стоило бы ему оглянуться, он всюду нашел бы знакомых, добрых знакомых, и, взвалив короб с жестью на спину, он легко зашагал бы по свету, поскольку везде встречал бы только друзей. Отправится на север — найдет людей с юга, вернется на юг — найдет северян. Пойдет с запада на восток, встретит людей с запада, а захочет повидать тех, кто с востока, отправится с коробом обратно на запад. А мог бы и изменить путь: пойти с юга на восток, с востока на север, мог бы бродить по земле как угодно и повсюду встречать только друзей. А надоест ему один путь, он может выбрать другой и, даже свернув с него, все равно думать, что идет по прямой. Он прошел бы по крайней мере двести сто́лиц[42], кабы они еще были, наверняка прошел бы их больше, чем на самом деле их было, но ему бы казалось, что он все время в одной. Иногда подтрунивал бы он над людьми, но только потому, что хотел и над собой посмеяться, а иногда, испытывая жалость к себе и не зная, как ее одолеть, брался бы оплетать негодный горшок, лишь бы он опять служил людям. Он увидит край света; он придет туда и, оглядевшись, даже сперва не поверит, что это край света, но потом все же поймет, что это край света и что край света именно в его сердцевине, а сердцевина может быть где угодно, хотя она и единственная, из сердцевины можно идти куда хочешь и откуда хочешь к ней воротиться, а можно даже пнуть в нее и носком башмака: здесь то место, откуда я вышел, тут я был и тогда, когда еще не был, и буду, когда уже не будет меня, я казался слабым, однако был сильным — ведь у меня во всем мире были друзья, я нашел себя даже в тех, кого никогда не видал, я стал самым сильным, так как врос во все человечество и овладел земным шаром, а через сто или тысячу лет я исхожу десяток новых планет или хотя бы ступлю на них — ведь я живу во всех людях, мне принадлежит будущее, я и сейчас уже на других планетах как дома, я покорил всех богов, я всем богам заглянул в короба, в любом человеке я могу открыть Будду или Христа, а то какого угодно иного Христа или бога, и, друг друга похлопывая по плечу, мы можем запросто разговаривать: — Привет, Будда! Как поживаешь, Христос? Тебя еще зовут Христос? — По-разному меня зовут. Зовут меня и Карчимарчик, и мне надо идти воевать, воевать против Карчимарчика. Понимаете, голубушка? Вы меня слышите?
— Понимаю, слышу. Но отчего там у вас такой гвалт?
— Мы идем в Бистрицу. Ребята собираются в Бистрицу. Был бы Йожо дома, он пошел бы с нами и был бы у нас командиром, а из меня — какой командир? Карчимарчик никогда не был солдатом. Он знал, где сердцевина света и где его край, повсюду мог найти друзей, но солдатом он не был даже тогда, когда носил военную форму. Он всегда был только ходоком. Раз семь топал с винтовкой и ранцем из Вены в Верону и оттуда назад, но даже тогда, когда шел туда первый раз, казалось ему, что у него на спине короб и идет он в Верону горшки оплетать. Возможно, голубушка, весь мир меня и считал дураком, но этот самый дурак чувствовал себя во всем мире как дома и всюду друзьям протягивал руку. Ей-ей, хотел бы я увидать простого немецкого парня, в котором не сидел бы свой дурак Карчимарчик! Всю жизнь я убеждал в этом людей, а они убеждали меня, что это не так, что, кроме дураков, существуют, мол, еще и обер-дураки. И Йожо уверял меня в этом. А вот в последнюю минуту забыл про меня, и тут уже мне пришлось убеждать людей и за него, и за себя. Сам не пойму, зачем говорю вам об этом. Может, потому, что многих ребят я уже послал в Бистрицу воевать с обер-дураками, но ни одному из них я не признался, что с самим собой мне было труднее всего — ведь я-то знаю, в кого буду стрелять. Ежели сумею стрелять. Хорошо это знаю. Перед Карчимарчиком будет всегда Карчимарчик, какой-нибудь обыкновенный немецкий Карчимарчик, что хаживал из Веймара или Плауэна мимо Лейпцига и Виттенберга в Берлин, а то и в Росток, может, какой-нибудь парень из Кёльна над Рейном, из Ганновера или Дортмунда, из Падерборна или падерборнских предместий, что всю жизнь собирался в Гамбург поглядеть на залив, какой-нибудь рабочий или ремесленник, а может, крестьянин из безвестной немецкой деревни, что тысячу раз был уже ранен, тысячу раз топтал чужой, а значит, и свой хлеб и вынуждал других топтать свой, а значит, и чужой хлеб, хотя это был именно тот, что всегда по весне, опоясавшись фартуком и выйдя в поле, казался себе творцом, способным вырастить урожай, все урожаи на свете! Однако этот творец, а может, и царь творцов, забыл дома фартук, забыл кусок дешевой тряпки и горстку зерна, надел военную форму и пришел в чужое поле изводить урожай и таких же творцов. Пришел и себя извести. Ибо тот, кто предает свое поле, не может ждать, что чужое его защитит…
Меж тем суматоха росла. В батрацких домах хлопали двери. По двору, освещенному луной, сновали мужчины и женщины. Шум и гвалт!
Вдоль стены прошмыгнул полуодетый человек и остановился у одного из зарешеченных окон. — Яно, ты спишь? — крикнул он в комнату. — Слышь, Яно? Вставай!
— Не галди! Чего спать не даешь?
— Одевайся, Яно! Пошли!
— Одеваюсь.
А потом женский голос шептал: — Не ходи никуда, Яно. Богом прошу, Янко, не ходи!
— Одевайся, Яно!
— Не галди! Ты-то хоть не галди. Одеваюсь я.
И опять женский голос: — Не ходи, Янко, никуда не ходи! Богом прошу, Янко, никуда не ходи! Доминко, вставай! Живо вставай, Доминко! Тата уходить от нас хочет, Доминко, убежать от нас хочет! Проснись, Доминко, проснись, Доминко!
Мужчины собирались у грузовика посреди двора. Некоторые пришли с Карчимарчиком, но вскоре местных стало больше. Они прохаживались взад-вперед, переглядывались, судили-рядили, что да как. Кого подняло с постели одно любопытство, а кто встал только для того, чтобы нагнать страх на жену. Жены, как и положено женам, ходили по пятам за мужчинами. А жена кузнеца Онофрея вдобавок еще и беспрестанно кричала. Но, видя, что и это не помогает, напустилась на всех: — Вы что, мужики, совсем спятили? Господь бог разума вас решил? Боже правый, да ведь у вас сопляки мал мала меньше, бог мой, ребятни-то у вас! Кто о них позаботится!
— Угомонись! — одергивал ее кузнец. — Угомонись, не то двину тебя по роже!
Из окна раздался визгливый бабий голос: — Заткните глотки! Заткните глотки, вы, вислоухие, и катитесь подальше! Чего явились людей бередить? Даром детей разбудили! Всех детей разбудили! Дьявол вас унеси!
Коренастый шофер с округлым брюшком и кучерявыми волосами нервно переминался с ноги на ногу и поторапливал: — Прошу вас, люди добрые, не ругайтесь, не митингуйте здесь! Чего мы, собственно, ждем? Господи, чего мы ждем? Где Карчимарчик? Поживей, люди добрые, не митингуйте! Поймите, ведь мне надо завтра домой воротиться!
Карчимарчик стоял у дверей управителя. Вдруг за его спиной раздались шаги. Карчимарчик оглянулся.
— Никак ты тут молишься, — сказал подошедший. У рта его вспыхнула сигарета.
— Управителя нет дома, — сообщил жестянщик.
— Знаю, — ответил мужчина. — Он подошел к дверям и загремел ручкой. — Пани управительша, откройте!
Штефка узнала его по голосу.
— Это вы, пан Вишвадер? — спросила она.
— Я самый.
Установилась минутная тишина, потом звякнуло и щелкнуло в замке. Двери медленно приоткрылись.
Штефка, с опаской высунув голову, спросила: — Пан Вишвадер, скажите на милость, что происходит?
— Все что хотите. — Батрак улыбался. — Даже больше, чем все. И война, и революция! Мне ключи нужны.
— Какие ключи?
— Железные. Начинаем реквизицию. Будем реквизировать.
Карчимарчик возмутился до глубины души. — Богом прошу тебя, оставь ты эту реквизицию. Не надо реквизировать. Что ты хочешь реквизировать? Что?
— Да хоть что. Допустим, свинью.
— Не понимаю вас. — Штефка переводила взгляд с одного на другого. — Ведь и у вас есть свинья, у вас тоже есть свинья.
Жестянщик вертел головой. — Господи Иисусе, господи Иисусе! Ты, Вишвадер, запомни, Карчимарчик ничего не реквизирует.
— Ну-ну-ну! А зачем же ты сюда пожаловал? Чего тут карчимарчикуешь? Чего передо мной карчимарчикуешь? Ты что, пришел сюда только в замочную скважину подглядывать, да?
Карчимарчик повернулся к управительше. — Очень прошу вас, голубушка, не обращайте на него внимания! Не слушайте его! — А потом запричитал: — Ах ты господи боже мой, у него на уме одна свинья, у него на уме одна свинья! Ключи ему подавай. Думает сейчас о ключах и свинье! Ну-ну, порадей о своих ключах и о своей свинье! Балда, ты что думаешь, мы за немцами с твоей свиньей будем бегать?
Тем временем некоторые направились к сушильне за табаком. С минуту мялись, потом один подошел к двери и бухнул в нее задом.
Дверь отворилась, кто-то обронил: — Чистая работа!
Ранинец сбегал куда-то и принес мешки, которые тут же наполнили молодым, слегка подсушенным табаком.
Ведя за руку заспанного мальчишку, во двор вышла Габчова жена. Тут как раз появились и мужики из сушильни, они шли гуськом, каждый тащил мешок. Восемь мешков. Доминкова мать могла бы их сосчитать, да не сосчитала. Она заглядывала мужикам в лицо, искала среди них мужа.
Он шел последним, но без мешка.
Она подошла к нему и снова стала его уговаривать: — Яно, не ходи! Яно мой, Янко мой, одумайся, покуда время есть!
— Не дури! — оттолкнул он ее. Потом погладил своего сынка и сказал укоризненно: — Ты чего его разбудила?
— Не ходи, Яно! Доминко, ведь нельзя ему уходить, нельзя уходить!
— Ты дура! Надо было тебе его будить, да? Чего ты его разбудила?
А подошли к машине, Габчова жена ухватила под руку другого парня: — Лойзо, — взывала она к нему, — уговори его! Прошу тебя, уговори! Попробуй его уговорить! Он тебя слушает, скажи ему что-нибудь!
— А что я ему скажу?
— Уговори его! Ничего для тебя не пожалею, Лойзо, ничего для тебя не пожалею!
Парень рассмеялся. — Да у тебя же нет ничего. Чего ты можешь не пожалеть для меня? Чего посулить можешь? Мне ничего не надо.
— Лойзо! Лойзо! Лойзо!
— Пустое! Сама ему скажи! Разве теперь уговоришь!
Мешки погрузили. Некоторые мужики уже сидели в машине. Остальные топтались возле. Кузнец Онофрей бранился с женой.
Шофер по-прежнему торопил: — Поехали, поехали! Кто хочет ехать, пусть садится! — Он искал глазами Карчимарчика. И вскоре увидел его — жестянщик как раз возвращался с Вишвадером к машине, продолжая спорить.
Ранинец неторопливо двинулся им навстречу. — Поживей, ехать пора! — сказал он не останавливаясь, даже не повернувшись.
Подойдя к дому управителя, он буквально налетел на Штефку, так как она преградила ему дорогу. — Управляющего нет дома.
— Знаю, знаю, — ответил он спокойно. — Скажите ему, что я должен был уйти. Передайте ему привет, и пусть не сердится на меня. Я должен был уйти с остальными. — Он потянулся к ручке двери, но Штефка опередила его, ему пришлось потихоньку ее оттеснить. — Можно?
Штефка остолбенела. — Вы что себе позволяете?
Но Ранинец словно бы и не слышал. Он отворил дверь и крикнул: — Имро, выходи! Знаю, что ты тут! Давай выходи! Небось вдосталь повалялся!
Он распахнул настежь дверь — оставалось только чуть подождать.
Имро не спеша вышел. Постоял в дверях. Должно быть, ему понадобилось чуть оглядеться. Он посмотрел на Ранинца, потом на Штефку и, склонив голову, сказал: — С богом! Всего вам хорошего! Будь здорова! Будьте здоровы!
— Прощайте, Штефка! — сказал и Ранинец. — Всего доброго. — Потом еще раз повернулся к Штефке и добавил: — И не сердитесь! Только не сердитесь на меня!
Шофер уже сидел в кабине. Включал мотор. Женщины и дети громко причитали. Онофриха попыталась взобраться на грузовик и стащить мужа вниз, — Отвяжись! — кричал на нее кузнец. — Не лазь сюда, не то плохо будет!
Доминко, предоставленный самому себе, стоял чуть в сторонке и потихоньку хныкал. Он то и дело утирал нос или лицо, а то становился на цыпочки и заплаканными глазами искал в машине отца.
Ранинец остановился около него и сказал: — Не плачь, Доминко! Не бойся, ничего не бойся! Отец скоро вернется, конечно вернется! И принесет тебе медаль, вот увидишь, Доминко, принесет тебе медаль! И золотую, и серебряную. Две медали тебе принесет. Ведь ты уже большой, Доминко, ты уже большой! Не плачь, Доминко, не плачь! Может, и я тебе одну принесу, вот увидишь, Доминко, и я тебе одну принесу, еще какую медаль тебе принесу!
Имро уже влез в машину и искал себе место. Он приглядывался к ребятам, не зная к которому подсесть.
— Поди сюда, Имришко! — Кто-то вдруг схватил его за локоть. Имро оглянулся и увидел церовского причетника.
Причетник радовался. — Садись, Имришко! Хоть кто-то будет рядом сидеть. Гляди, сколько тут табаку. Столько табаку я сроду не видел. Столько табаку, кажись, я еще сроду не видел!
Влез в машину и Ранинец и шмыгнул мимо Имро: — Порядок! Можем трогаться!
Имро осторожно оглянулся, даже вытянул шею, хотел видеть Штефку, но не увидел.
Причетник нагнулся к нему и зашептал ему в ухо, словно в чем-то оправдывался: — Знать бы, кто нынче на рассвете благовестить будет. Который-нибудь малыш зазвонит, конечно зазвонит, все умеют колоколить и звонить! Люди, может, ничего и не заметят. — И он как-то чудно, до того чудно засмеялся, будто именно сейчас, да, именно сейчас, пан священник пообещал ему маленькую причетничью шапочку, которую он всю жизнь ждал и так и не дождался. — Знать бы, кто нынче на рассвете в колокола зазвонит!
ГЕРАНЬ
Muškát
Редактор Т. Горбачева
ГДЕ ИМРИШКО?
1
Вильма проснулась. Глаза еще были прикрыты, но сон уже отошел. На дворе щебетали ласточки. Было их много, и, скорей всего, слетелись они на какую-нибудь соседнюю крышу, если не прямо на крышу гульдановского дома.
В отворенное окно струился в комнату свежий утренний воздух, пахнувший яблоками, сквозь редкую занавеску пробивался и солнечный луч, слабый и тусклый, пожалуй чуть непривычный для этой осенней или предосенней поры — до осени-то оставалось время — и все же больше осенний: мягкий, ласковый, вкрадчивый, медно-красный, слегка затуманенный и, в общем, вполне приятный.
В такой час Вильма обыкновенно была уже на ногах, но нынче ей захотелось остаться в постели подольше — вчера вечером поздно легла. А всему виной — Имришко. Экий бесстыдник, куда вчера опять его унесло? Ах да, в имение, повидаться, дескать, с Кириновичем! Обещал, однако, долго там не засиживаться, да разве когда он держал свое слово? Она ждала его до поздней ночи и не дождалась — придется теперь его выбранить.
Вильма чуть поежилась, потянулась, потом потихоньку поднялась, опершись локтем на грядку кровати, глубоко вздохнула, откинула одеяло и, уже сидя, с минуту недвижно глядела перед собой, обхватив руками колени. Окинула взглядом Имришкову постель. Где же этот бессовестный? Неужто встал уже? Когда же он заявился? Который может быть теперь час?
И вдруг она встрепенулась. Господи, да ведь Имро-то вообще не ночевал дома! Что случилось? Где он? Где он может торчать?
Вильма вскочила, наскоро оделась, сунула во что-то ноги, а потом всполошенно металась по дому, вздыхала и причитала, и хотелось ей кричать на крик: Имришко, где ты? Господи, что же это такое? Его и впрямь нету, он и дома не ночевал, постели даже не коснулся. Имришко, боже мой, где ты? Имришко, что стряслось?
Она выбежала и во двор. Глаза ее метались из стороны в сторону. Попыталась отворить кладовку, но дверь была заперта. Она заглянула в сарай и под поветь, кинулась и в сад, но тут же поспешила обратно, чтобы сбегать на улицу, да по ошибке снова влетела в кухню…
2
Тем временем поднялся и мастер и вышел из своей комнаты. Вильма перепуганным голосом объявила ему, что Имро нет дома, однако мастер не сразу схватился. Не спеша нагнувшись, он стал спокойно завязывать башмак. И вдруг поднял глаза: — Ты что говоришь? Имро нет дома? А где ж он?
— Не знаю. — Она беспомощно пожала плечами. — Ушел еще вчера вечером. Сказал, идет повидаться с Кириновичем. Я тем часом сбегала к нашим, да долго там не была. Нарочно торопилась домой. Думала, он скоро вернется.
— Ну и дела! — Мастер медленно выпрямился, лицо у него нахмурилось. — Дурачина, может, опять где нализался! Сказал хоть что? Что сказал уходя?
— Ничего не сказал. Сказал только, идет в имение потолковать с Кириновичем.
— Ах вот что, с Кириновичем! Наверняка вместе зашибали! А ничего боле? Правда, ничего? Не поругались?
— Не поругались.
Мастер удивленно захныкал. Потом, выйдя во двор, направился к колодцу, стал умываться.
Вильма пошла следом. Но, заметив, что мастер забыл полотенце, воротилась в дом, принесла полотенце, и мастер тогда хорошенько вытерся, хмурясь минутами, словно собирался кого-то поколотить.
На крышах весело щебетали ласточки.
В дверях мастер вдруг остановился, вгляделся в лицо Вильмы. — Вы в самом деле не повздорили?
— Богом клянусь, нет! — У Вильмы сорвался голос, но мастер сделал вид, что ничего не заметил. — Мы никогда не ругаемся.
Они вошли в дом. Мастер повесил полотенце на гвоздь. Надел чистую рубаху, поверх — пиджак и, уходя со двора, сказал: — Возьму у соседа велосипед. Съезжу в имение, погляжу.
3
Воротился он с четверть часа спустя еще более хмурый, чем прежде. Вильме пришлось вытягивать из него каждое слово.
— Ходили туда?
— Ходил.
— Ну и что? Где он? Нету там? Ведь говорил, идет в имение.
— Был там, а теперь нету.
— Нету? А куда ушел? Вы говорили с Кириновичем?
— Как мне с ним говорить, когда его дома нет. И вчера не было.
— Да ведь Имришко к нему пошел. Сказал, что идет к Кириновичу. Куда они делись? Где Имришко? С кем вы говорили? Ради всего святого, мне-то хоть скажите!
— Киринович в Братиславе. А Имро исчез. Ушел с Карчимарчиком.
— С Карчимарчиком? — У Вильмы захолонуло на сердце. — А куда?
— Ну куда! К дьяволу, вот куда. Должно, в Бистрицу.
Заметив, однако, какое действие возымели его слова, и не желая нагонять еще больше страху на Вильму, мастер взялся Имро ругать на чем свет стоит, чтоб хоть словами облегчить душу: — Парень совсем, видать, спятил! Ох, и задал бы я ему жару. Знал бы, куда он махнул, пошел бы туда и так двинул ему под зад — век бы помнил.
— А с ним ничего не случилось? Ничего с ним не случилось? — Вильма не спускала с мастера глаз.
— С такими пьянчугами ничего не случается, — успокаивал ее мастер. — Что с ним может случиться? Вот паршивец, хоть бы слово сказал! Ей-ей, меня и злит, главное, то, что он и не заикнулся. Догадайся я хоть о чем, отговорил бы его. Да ведь как отговоришь, ежели он молчал до последней минуты? Ну не блажной ли? Видано ли такое на свете? Ну погоди у меня, погоди, брехун льстивый! А ты, Вильмушка, не бойся! Теперь мы хоть знаем, откуда ветер подул. Про Карчимарчика-то мне уж давненько ведомо, что у него часто ум за разум заходит, но чтоб и у Имро помутилось в башке, чтоб ни с того ни с сего он позволил себя вот так взбаламутить, такое мне и в голову не приходило. Ох же и достанется им! Увидишь, Вильмушка, они свое схлопочут, и Карчимарчик получит! Этого я Матушу не прощу, уж и впрямь не прощу. Если у самого ума нет, пусть хоть сына моего не сманивает.
— Да, Вильмушка, таков он, нынешний мир, — продолжал мастер уже за кухонным столом, на который Вильма наскоро собрала завтрак, хотя и есть-то никому не хотелось. — Все с ума посходили, каждый на свой лад, весь свет перевернулся, повсеместно война, и вот уже кой-кому из наших не по нутру стало, что тут хотя бы какой-никакой, а все же мир и порядок. Кой-кто решил показать, что может навести лучший порядок. Только такие дела надо сперва крепко обмозговать, понять все и выждать, выбрать подходящий момент. Ведь в иных местах людям и вздоху нету. Франция и Англия на что большие державы, и то немцы страху нагнали на них, да и сейчас, хоть положение изменилось, им все еще приходится осторожничать, а вот у нас какой-то герой, которому мир опостылел или почудилось, что горя у нас маловато, а то, может, просто захотелось выставиться, чтобы никто его случайно не обскакал и не выхватил у него после войны министерство или табачную лавку, вздумал народ будоражить. А немцу только того и надо. Да теперь-то как быть? Ежели передо мной сатана, то и мне враз осатанеть, взбелениться, одичать? Честное слово, меня такая злость разбирает, что я всем бы кругом надавал затрещин. Но ты не изводись, Вильмушка! Мы хоть знаем теперь, на каком мы свете. А Имро от взбучки не уйти. Ух, окаянный, только этого нам не хватало! Ведь надо было на работу идти, нынче идти, уж давно надо было там быть. Что теперь людям скажу? Радуешься тут, что какая-никакая работенка подвертывается, а такой вот придурок возьмет да сразу все и угробит. Право слово, даже есть неохота… А ты бы поела! Не голодать же тебе теперь из-за такого паршивца! Я-то от злости не ем, от злости. Ну не остолопы они? Зло берет на обоих! О-ох, и накостылял бы я им. Я еще Карчимарчику говорил: Матуш, нечего нам пока ни во что впутываться, а то еще всем за это достанется! А вот, вишь, какие дела! Старый осел, коль у тебя разума нет, сам и ступай, а сына мне не сманивай и не вербуй!
— Господи, страх-то какой! — заохала Вильма. — С ним-то ничего не случится?
— А чего с ним может случиться? Все ж таки он там не один. И другие мужики подались, и ни с кем пока ничего не случилось. Поглядим. Подождем, поглядим. Кабы хоть не идти мне на эту чертову работу! Ну и петый дурак!.. Однако я ему не спущу, нет уж, не выйдет! Увидишь, Вильмушка, я ему это припомню. Чего ему надобно? Чего им, в общем-то, надобно? Думают, немец их испугается? Как же, испугался! Ох дьявол, погоди! Не переживай, Вильмушка! Лучше выкинь-ка это из головы! Ну правда… Знаешь, Вильмушка, работа есть работа! И разве не могли мы сейчас с Имро спокойно идти на работу, а? Мы бы уж там были, мне уж там пора быть. Вот те крест, получит пинка. Ну и блажной, вот блажной! Погоди, псих, такого получишь пинка! Да, Вильмушка, мне пора на работу! Черт бы меня побрал, зря обещался! А ведь и он, пень бестолковый, обещал! Ну зачем обещал, дурень?! А мне теперь идти перед людьми за тебя краснеть? Погоди, погоди, шалопут ты эдакий! Получишь пинка, еще и сапог специально обую! И Карчимарчик, болван чертов, пусть только пожалует в мой дом! Черт, если бы хоть никуда не идти! Ну ладно, не изводись, Вильмушка… Может, сегодня ворочусь с работы малость пораньше.
4
Мастер ушел на работу, а Вильма, предоставленная самой себе, ходила как неприкаянная. Она решила немного прибраться, да все валилось из рук. С трудом застлала постель мастера, потом свою, а между тем ходила взад-вперед или присаживалась то в кухне у стола, то снова у мастера в комнате, несколько раз даже подбегала к окну, выглядывала на улицу — не видать ли Имришко случайно.
Его постель она и застилать не стала. Зачем застилать? Она просто села на нее и, сложив на коленях руки, долго охала и причитала: где он, где он может быть? Почему ушел, почему со мной даже не простился?
Потом вышла во двор, а там на улицу, хотела было пойти поплакаться матери и Агнешке, да раздумала. К чему еще их огорчать? Будто у них у самих мало забот и страданий?
И она снова ходила, а то, останавливаясь, хваталась за голову, словно хотела, жалеючи, себя погладить или силилась что-то припомнить.
Как он мог такое сделать? Намекни он ей хоть словечком, они бы обговорили все наперед, и теперь ей было бы легче — она бы хоть знала, что к чему. Уж она бы его поняла, они ж всегда находили общий язык. Разве она мало к нему подлаживалась, разве не старалась почти во всем ему угодить? А если с ним что случится? Как она будет здесь без него? И как он будет без нее?
А нет ли тут умысла с его стороны? Что, если он просто решил почему-то сорвать на ней зло? Но ведь она ни в чем перед ним не виновата, напротив, она всякое умела ему еще и прощать, ну почему, боже милостивый, почему он это сделал?
А может, все-таки в ней причина? Может, надо было за ним лучше следить? Сколько раз вечерами он уходил из дому, а она даже не спрашивала, куда он идет. Теперь ей за это расплачиваться. А начни она его выслеживать, разве не было бы смешно? Сама бы себя выставила на смех, да и Имро бы этого не вынес, пожалуй, совсем бы ее возненавидел.
Может, он ее и вовсе не любил. Поначалу-то — да, а потом все меньше и меньше, по всему было видно. Не один раз она подмечала. Иначе бы он не выкинул такой номер. Боже ты мой, как он только мог это сделать?
Она зашлась в плаче. Сперва попыталась было унять слезы, и поначалу это даже ей удалось, но вскоре плач снова накатил на нее мощной волной, и она, совсем обессилев, разрыдалась в голос.
Такой ее и застали Агнешка и мать. Они горевали уже несколько дней, дожидаясь весточки от Штефана. А тут еще и эта беда. Вильме даже ничего не пришлось объяснять. Мастер по пути на работу зашел к ним и все им выложил, наверно, даже попросил их сходить развлечь чем-то Вильму. Но стоило им только увидеть друг друга и перекинуться словом — заголосили все трое.
Должно быть, это и привело Вильму в чувство. Она тут же взялась бранить их, хоть на глазах еще были слезы: — А вы-то чего ревете? Ведь с вами ничего не случилось.
Вскоре опамятовалась и Агнешка. Утерла глаза и, как бы не принимая Вильминых слов на свой счет, напустилась на мать: — И правда. Чего ревешь? С самого утра только и хнычешь! Тебе-то чего хныкать? С тобой ведь ничего не случилось.
— Как это ничего? — рассердилась мать. — Неужто это только ваша беда? Я же мать вам. Думаешь, я слепая? Думаешь, я глухая? Дочка ты моя, уж тебя-то я хорошо вижу, хорошо слышу! Думаешь, не слышу каждую ночь, как ты вздыхаешь? Отчего скажи? Ну отчего ты вздыхаешь?! А теперь нам только этого не хватало! — Она опять запричитала, бормоча что-то сквозь всхлипы, а потом снова на нее нашла злость, сквозь слезы проступая еще заметней. Мать подняла руку, словно собиралась кому-то влепить пощечину, и давай ругмя ругаться: — Да я с самого начала знала, знала, что это всего-навсего обыкновенный шалопут, я тебя, Вильмушка, упреждала об этом.
Агнешка перебила ее: — Мама, ты чего говоришь? Ты как говоришь? Он же муж ей.
— Какой муж? Он-то муж? Порядочный муж должен дома сидеть. Нешто я тебе, дочка, не говорила, что с ним счастья не будет? Не послушала ты меня, не захотела послушать. А я тебе по крайности раз сто говорила, что он малахольный, да ты за него всегда заступалась; теперь-то ты уж и сама видишь, потому как все ясней ясного.
— Что ясней ясного? Он же ничего не сделал. — Вильма и теперь пыталась защитить Имришко, да не тут-то было. Голос и то не служил ей как следует. — Ну чего вы хотите? Я же его лучше вас знаю. Господи, до чего же вы злые!
— Ты слышишь? — Мать устремила взгляд на Агнешку. — Нам же еще и достанется, только мы и будем кругом виноваты. — Какую-то минуту она чувствовала себя чуть обиженной, потом опять жалостливо поглядела на Вильму. — Вильмушка, клянусь богом, я плохого тебе не желаю. Думаешь, меня это не мучит? Ушел, даже не попрощавшись. Видано ли такое, слыхано ли такое? Ладно бы в другое время, а то сейчас, именно сейчас, когда всякий мается…
— Мама, господи, к чему ты это все говоришь? Ты-то хоть ее не пугай! — унимала Агнешка мать. — Ей и без того лихо. К чему ты еще масла в огонь подливаешь? Зачем все это ей говоришь?
— Штефана ведь тоже нет дома, — все еще отбивалась Вильма. — Отчего вы так уж надо мной вздыхаете, зачем сразу же думать о самом плохом? С Имришко ничего не случится, с ним ничего не может случиться. За Имришко я не боюсь. Я еще ничего и не знаю. И вы ничего не знаете. Ну к чему все это?.. Может, он сегодня или завтра воротится. Непременно воротится, чего он там не видал?
Быть может, она и сама немного верила в это. Так они вздыхали, охали и переругивались, а меж тем не забывали и утешать друг дружку. Они в этом очень нуждались. Да и впрямь: зачем думать о самом плохом?
5
Оказалось — уже полдень. Агнешка схватилась за голову. — Светы мои, да ведь обед! Зузка дома одна, поди, уж проснулась. Бедненькая, я ей даже ничего не сготовила.
— Ой, еще и этой крохе безвинно страдать! — Мать сочувственно качает головой, ломает руки, но тут же принимается утешать Агнешку. — Ничего, я тебе помогу! Идем домой! Увидишь, как быстро я все приготовлю. — Она обращается и к Вильме: — Пойдем, Вильмушка, пойдем с нами!
— Нет, я не могу.
— Это ж почему — не можешь? Все одно ничего делать не будешь.
— Надо. Мастер придет домой, наверняка есть захочет. Надо ему чего-нибудь приготовить.
— Вот вместе и приготовим, — предложила Агнешка. — Пойдем, Вильмушка! А потом домой возьмешь.
— Не пойду лучше. У меня и других дел полно. Белье и еще всякое другое. Надо и в сад заглянуть.
Она не пошла с ними. Но особо и не наработала. Весь день сновала по дому и поминутно выглядывала на улицу в надежде, что, может, все-таки, может, все-таки Имришко появится. Готовить ей и вправду не хотелось. А кому бы хотелось? И кто бы мог думать о еде? Только когда мастер должен был воротиться с работы, она сварганила что-то на скорую руку и даже как следует не распробовала.
Господи, что этот Имро наделал!
6
Мастер правда воротился с работы раньше обычного, и Вильма, завидев его у ворот, почти бегом припустилась к нему. Думала, верно, от него что-то узнать. А мастер от нее ждал того же. Но, встретившись взглядами, оба поняли, каковы дела: с утра ничего не изменилось.
Мастер ни о чем и не спрашивал. А Вильма — то ли потому, что успела разглядеть в глазах мастера вопрос, то ли, может, потому, чтоб снова ему не пришлось утешать ее, — нарочно заставила себя улыбнуться. — Не вернулся, — сказала она как бы походя. — И я о нем ничего не знаю.
И мастер, даже лба не наморщив, вошел в дом, послонялся по кухне, заглянул и в горницу, словно бы подыскивал для себя какое занятие. А потом, когда Вильма собрала ужин, уселся за стол и молча поел.
После ужина Вильма мыла посуду, а мастер, так и не найдя дела, продолжал сидеть за столом, задумчиво глядя под ноги — нынче Вильма забыла вытереть пол и даже не подмела, но и без того он был желтенький и чистый, — и постукивал пальцами то по правой ноге, то по столешнице, выпячивая при этом губы, словно еще засвистеть собирался; затем положил ногу на ногу, провел ладонью по лбу и поджал губы. — Ну что, Вильмушка? — спросил он. — Что делать-то будем?
Вильма поглядела на него, но ничего не сказала. Однако — возможно, лишь для того, чтобы мастер ее молчание дурно не истолковывал, — опять невзначай улыбнулась, и у глаз ее, и у рта собралось несколько мелких морщинок: — Не знаю. Я из-за этого… Я все еще не могу в это поверить.
Но мастер эту улыбку понял. И решил успокоить ее. — Не тревожься за него, Вильмушка! Имро не дурак, не маленький все же. Как бы там ни обернулось, он наверняка поостережется. Я за него не боюсь. Хоть сколько-то мы должны ему доверять.
— О господи, да я же ему доверяю, потому и несчастна. Ничего не могу с собой поделать, хотя он мне уже давно казался каким-то чудным. Правда, чудной он какой-то стал. Сколько раз, бывало, уйдет вечером из дому, а я и спросить боюсь, куда он идет. Язык не поворачивается — о некоторых вещах ведь и заикаться неловко! Иной раз и возьмет сомнение, да я нарочно не хотела ничего в дурную сторону истолковывать, смешно было бы. Не хотела его выслеживать. Я правда ему доверяла и теперь доверяю. Но он уже тогда, видать, что-то задумал. Я это заметила, а как не заметить, если он так изменился! Силы небесные, до чего меня это мучило! Правда, мучило, только говорить не хотела об этом.
— А может, тут-то и была твоя промашка, — сказал мастер. Он подождал, думал, верно, Вильма продолжит, но, коль скоро она молчала, постепенно разговорился он и, хоть зол был на Имро, решил все же за него немного вступиться. — Видишь ли, я тоже кое-что подмечал. Знал и то, что иной раз он забывается и приходит домой позже положенного. Ну что тут особенного, думал я, может, где задержался с дружками, может, пива выпил. Не хотел я колоть ему этим глаза, потому что и со мной такой грех случается и меня есть за что попрекнуть. Понимаешь, Вильмушка, уж такая у нас работа. Смастерим иной раз где какую крышу, и пожалуйте — магарыч! Пойми, Вильмушка, крыша — это тебе не какая-нибудь пустяковина. Кому надобна крыша и кто для этого мастеров подряжает, запросто бы последнее отдал, да и отдает последнее, и мастер об этом всегда должен помнить. Вот и я, бывает, только потому и выпью, что я хороший мастер, и Имро тоже мастер хороший. Поставишь иной сарай, а то и вовсе сарайчик, однако судьба сведет тебя с такими людьми, что делаешь вид, будто невесть какой дом отгрохал. Ведь люди-то чаще на большой дом и не тянут. А я на то и мастер, чтобы знать это. Н-да, и мы с Имро умеем быть такими мастерами, что иной раз ничего, почти ничего не сделаем, а раз-два сорвем магарыч. Ну а этого я от него не ожидал. Право, не ожидал.
— Я бы ему и это простила, — продолжала Вильма. — Но обидно, что он мне ничего не сказал. Ни слова, ни полслова. Сам-то небось обо всем давно знал. Хоть бы намекнул! Мне-то почему ничего не сказал? Хоть бы словечком обмолвился! Может, мне было бы легче.
— Я уж думал за него взяться. И про пьянку хотел ему помянуть.
— Нет, он не пил много. Правда, не пил. Иногда только прикидывался. И когда, случалось, особо шумел или куражился, это было одно притворство. Такой у него характер. А пьяный бывал редко.
— Он не бывал пьяный? Ежели так, значит, и я никогда не напивался.
— Правда, он не пил. А когда и был чуть навеселе, мне и тогда казалось, что он больше прикидывается. Несколько раз он признался мне в этом.
— Еще и признался! Первейший прохвост, стало быть! Да ты не волнуйся, он здорово набирался! А нынче, думаешь, как было? Думаешь, до этого он воды или молока испил? Питух несчастный, уж так, верно, надрался, что и лыка не вязал, а иначе разве бы такую глупость выкинул? Был бы в трезвом уме — посоветовался бы хоть с кем.
— Он уже давно это замыслил. Я и по нему это видела, только, должно быть, не понимала. Многое я не могла объяснить. А теперь мне и впрямь кажется, что у него уже наперед все было продумано.
— Уж он-то продумал! Как же — продумал! Так бы излупцевал его! Мог бы, окаянный, и поразмыслить! Пойми, в наше время думать надо. Кто теперь не думает? Да будь я помоложе… И Якуб с Ондро там. А Имро наверняка Карчимарчику поддался на удочку.
— Светы мои, Карчимарчик-то и сюда заглядывал! — завздыхала Вильма. — Но мне ничего такого даже на ум не пришло.
— А мне пришло. — Мастер закивал головой. — Может, ты не слыхала, а я с ним говорил, долго мы толковали, я, сдается, с ним малость и согласился. Однако человек я осмотрительный. Опасался я, как сейчас помню, даже сказал ему, что таким малым народам, как наш, в любой момент можно и попользоваться, мы хоть нос и задираем, да высоко ли его задерешь? Ведь когда у нас и есть, то все равно что нету, а если надо платить, то всегда только мы и изволь платить, а то и переплачивать, но нам, нам-то, бог мой, кто заплатит?! Эхе-хе, нам, право, редко когда заплатят. Я не ною, я не нытик, нытик мне самому смешон, мне всегда кажется, будто он напрашивается, чтобы его даже те обдурили, кто еще не успел обдурить.
— О господи, а я все о нем, об Имришко, думаю! — опять вздохнула Вильма.
— И я о нем думаю, — мастер кивнул головой, — потому как он непутевый, хочу не хочу, а должен об нем, о поганце, думать. Хоть и о другом говорю, а все он у меня из головы нейдет, должен я и об Ондро, и об Якубе думать. Да я уже обо всем с каких пор раздумываю. Молчал я, ан ничего от меня не укрылось, я все держал под приглядом. Ведь я уж в годах, и чего только мои глаза не видели, чего только мои уши не слышали! Знал я, что у нас делается и как делается, знал и про то, что за покой, который был у нас тут, надо кой-чем заплатить. Ну а раз мы из тех, кто всегда переплачивает, не ожидал я для себя многого, хоть порою и думал, что и мне могли б заплатить, что наконец и я мог бы кого обдурить. А видишь, как я обдурил. Опять лишь меня и обдурили, опять оставили нас в дураках. Может, и ты помнишь, как оно шло, как было. Началось с Польши, все мы были шибко умные, а тянулось все не более восемнадцати дней. Франция и Англия и пальцем не двинули, а почему не двинули? Ну, ясное дело, тут и пошло, завертелось. За Полыней, полгода спустя, пришел черед Дании и Норвегии, но по-прежнему никто пальцем не шевельнул. Потом, конечно, и Францию турнули. А в газетах писали, что это, мол, континентальная держава. Какая держава?! Была б держава, так защищалась бы. Может статься, как раз они-то, французы и англичане да и прочие страны, все и угробили. И нам все напортили, а потом и с ними расправились. Ведь и на Францию нескольких недель хватило. А англичане, святый боже, я и в толк не возьму, с чего это англичане так нос задирают? Пришли, повоевали малость и у этого самого Дункера — черт его знает, как он пишется, как выговаривается, — показали только, как ловки улепетывать. Ну и мы, маленькие, сразу вообразили себя большими, можно сказать наибольшими, враз увидели себя и в Африке, и на Балканах, повсюду себя уже видели, а потом пришел июнь, даже не помню, в котором году, но точно июнь был, немец напал на русских, румыны и финны вытянулись в струнку, а мы — мы тоже сразу напялили форму и пошли, еще загодя выучившись маршировать! И поначалу казалось нам — все как надо. Болтали о Москве, о Ленинграде, о Харькове, бог мой, о чем только не болтали, а на кой ляд все было?! Только людям худо было. С самого начала люди только и вредили друг дружке. А я только и замирал от страха, как бы и мне вреда не было, как бы меня и моих сынов ничего не коснулось. Вот так-то, Вильмушка! А Имро я бы и впрямь под зад пнул. Он, поди, уверен, что во всем разбирается, но в чем во всем?! Только мы, дурни, думаем, что нам достаточно года два мирных, да какой это мир, когда ради него надо в крови купаться? Господи боже, ну какой это мир?! Мы только плати да плати, знай плати — и все ради того, чтобы перед остолопом, перед каким туполобым скотом нам не было совестно?! Вот ведь, Вильмушка, большие народы обыкновенно не бывают такими стеснительными, как мы, словаки, ибо у народа побольше и дубинка поувесистей. А у кого дубинка, у того должна быть и самоуверенность. И она есть у него! Ладно, не слушай меня, Вильмушка, лучше не слушай меня! Оно ведь спокон веку так было. Господи, до чего же мы глупые, всегда меж собой только вздорим, лютеране, католики, гардисты и не гардисты, ох, Вильмушка, до чего глупые! Если и захочется что, то всегда каждый в свою сторону тянет. Кому-нибудь надо было нас как следует двинуть в ж…, только у нас даже ж… нет, у нас всего-навсего зад, но иной раз мы и с этим задом не знаем, что делать. Скажешь при словаке: ж…, и сразу тебя какой святоша готов на кресте распять. Оттого у нас всюду и столько крестов, а тут еще хакенкройц[43] приспел на помощь. Ну как тут не быть осторожным! Вот, Вильмушка, я и осторожничаю. Только осторожность-то моя ни к чему. Касалось бы дело работы, тут меня и впрямь никто не обскочит. Я ведь хороший мастер. Меня так легко не собьешь с панталыку. Только кому, скажи на милость, кому нужна нынче честная, совестливая работа? А крушить — ведь на войне всегда только крушат и жгут, а развалины и невесть какое огнище может устроить и распоследний болван, — крушить я не умею и не крушу. Нет, Вильмушка, пугать я тебя не хочу, с меня и так хватает, последним был бы дураком, вздумай я на собственную дочь или невестку страху напускать, уж чего-чего, а страху в нашем мире не занимать стать. Так что ты, Вильмушка, откинь всякий страх! В человеке, знаешь, в человеке частенько черт сидит. А Имро, ну не дурак ли этот Имро? Петый дурак, право слово, я по нему плакать не стану, надо больно по такому паршивцу плакать! Паршивцу никогда ничего не делалось и не сделается.. Да и потом, у меня там еще два сына, и те такие же безголовые и такие же справедливые, да среди чертей, слышь, Вильмушка, среди чертей многого ли добьешься со своей справедливостью! Ну теперь-то ты знаешь, девка, отчего я такой осторожный и чего боюсь? Н-да, немец есть немец! Я немца боюсь. Ну а коль я не герой — мастеру-то не за геройство платят, а спокон веку только за работу, — то чихал я на геройство, мастер есть мастер, хочу лишь того, что по праву мое, ан знаю, что и словак по-своему пентюх. А вообще, что мы о себе думаем? Ну кто мы? Неужто у нас нет зубов, кулака, чтоб заехать в рожу, ноги, чтоб пинка дать? Почему? Почему мы так должны думать? Может, потому, что нас мало? Мы что, ласточки? Или только рой мотыльков? Да, каждый словак пентюх, а кто думает, что он не таков, тот — еще больший. А наибольший тот, кто от таких слов взбеленится. Пентюх ты, болван ты, болван неотесанный! Знаешь, девка, плевал я на эту нашу честь и справедливость. Какая честь, какая справедливость? Что это, скажи, ну что? Ведь это как есть пшик, и об этом пшике я не волен даже правду сказать, потому как это уже о нас, о лютеранах, католиках, словацких лютеранах и словацких католиках, это уже наше — все наше, и дерьмо наше! А вообще… Устал я… И мне уже дремлется, хотя мне еще и не дремлется…
7
Вильма еще какое-то время продолжала сидеть за столом. Потом и она поднялась, но не знала, за что взяться. Спать ей пока не хотелось. Она вышла на двор, затем и на улицу. А что, если немного пройтись? Можно бы навестить Агнешку, да не поздновато ли теперь идти в гости?
Она постояла на улице, что-то помурлыкала, мелодия припомнилась ей еще раньше, когда она была в кухне и слушала мастера, но тогда она не хотела напеть ее вслух, сейчас же эта мелодия снова к ней привязалась, и она никак не могла от нее избавиться, мелодия вплеталась в ее мысли, словно пыталась спугнуть их или вытеснить. Но Вильме петь не хотелось, возможно, она думала, что мастер в горнице уже засыпает и, как почти всякий мастер, зачастую с трудом забывается. Ей не хотелось спугнуть его сон.
Деревня, днем оживленная, а под вечер еще оживленнее, теперь уже начинала неторопливо затихать, даже почти совсем стихла, отходя ко сну. Там-сям еще раздавалось какое-то слово, вдали кто-то о чем-то спрашивал, но ответ уже не дошел, либо нельзя было его разобрать, где-то зашуршали шаги, а где-то замерцал робкий огонек. И Вильма вдруг вспомнила, что прошлой ночью ей привиделся сон, снилось ей, что людям не хватало картошки и они сажали ее на могилах, и на каждой могиле было ее полно — крохотной, молодой, новой, она еще шелушилась, — к чему бы такой сон? Она не была суеверной, но сны ее часто преследовали, нередко тревожили целый день, а то и несколько дней, ей делалось страшно, что она захворает, и, бывало, потом ей и в самом деле слегка нездоровилось, хотя нездоровье свое она сама на себя накликала, но нынче, несомненно, это было связано как-то с Имришко, конечно же — только с ним.
Она постояла на улице, потом вернулась во двор, но в дом не вошла; она то сходила с крыльца, то поднималась, но всякий раз останавливалась у двери — и все думала, думала об Имришко; вспоминала, что сказал о нем мастер, как ругал его, и воображала себе всякое: и то, что могло быть, и то, чего вообще не было и, пожалуй, даже не будет. А на небе тем временем высыпало полным-полно звезд, и они так резко сверкали, даже самые маленькие, что прямо впивались, вонзались в человека. У Вильмы даже глаза заслезились. Но плакать ей не хотелось. Она стояла, прислонившись к косяку кухонных дверей, и невольно снова в голове у нее завертелась мелодия, та же самая мелодия, только теперь она предлагала себя еще настойчивее, а под конец стала почти докучать ей, да, да, докучать, хотя уже сделалась песней, а когда мастер уснул, она стала еще назойливей, просто раздражала, злила ее, но еще и потому, верно, что Вильма не могла ее уже как следует вспомнить, она не уловила ее и позже, гораздо позже, в последующие дни и ночи, когда снова и снова стояла у кухонных дверей или у окна, залепленного темно-синей бумагой, хотя, казалось, стоило только начать, выхватить со откуда-то из середины, совсем ведь не важно, откуда вы выхватите мелодию, безразлично какую, если она уж однажды или много раз к вам наведывалась, а то и постоянно наведывается, и, даже если вы ее не можете вспомнить, она звучит и звучит, звучит даже тогда, когда вы ее и не слышите и, стало быть, не можете напеть вслух; и вдруг она сама зазвучит и еще напомнит слова (хотя хорошую, по-настоящему хорошую мелодию жаль губить словом), только иной раз она и сама напомнит слова и оттого так зазвучит; но человек, этот глупый человек, подчас совсем-совсем туг на ухо, он слышит ее раз, другой, затем забывает, а если и вспомнит, то, может, подумает, что мелодия к нему не щедра, а все потому, что сам не был когда-то достаточно щедр к ней, и вот наконец нет уже ни тех слов, что так чудесно восполняла мелодия, ни самой мелодии, а остался от нее всего лишь обрывок, которым вы обыкновенно ее унижаете или губите…
…белая, бела-а-я, белоси-и-зая…Что это? Ничего. Ведь не в словах дело. Понадобилось бы — мы и покраше слова могли бы найти или придумать.
Но что с того, зачем слова, когда уже и мелодия затерялась и мы уже не в состоянии ее вспомнить. И слова, да и плохая, или униженная, или загубленная мелодия нередко служат нам лишь для того, чтобы лучше обманывать друг друга. Будто нам это неведомо? Ох, друзья мои, сколько раз мы по-всякому пели — бывало, и хором, и даже с чувством, да еще с каким, и как мы все улыбались, и как слезы лили, однако внутренний голос в каждом из нас тянул на свой лад, хотя с виду все было в порядке…
Помнишь, Вильма? Помнишь эту песню? А как было светло! И ночи были другими. Окна были заклеены, свет из жилищ не смел проникать наружу, поэтому те, что сидели при затворенных окнах, не знали ничего, не видели даже промчавшегося ночью метеора или кометы. Но для некоторых всегда было достаточно света. Хоть были и темные вечера, да, и тогда были. Вечера были темные, но, когда опускалась настоящая ночь, вновь проглядывались все предметы почти как средь бела дня, только чуть иначе, в другом цветовом тоне, как если бы кто-то смотрел на мир сквозь стеклышко или сквозь какой-то иной, быть может, лишь более мерклый, серый или серо-голубой день…
ТАБАК
1
В конце концов оказалось, что табаку всего семь мешков. Восьмой мешок где-то затерялся. Должно быть, затерялся еще в имении, но стоит ли горевать? Все равно мешки эти пошли прахом.
А впрочем — нет, один мешок сохранился, и его донесли до места, но прежде пришлось ему одолеть долгую-предолгую дорогу. Однако мы забегаем вперед.
Итак, поначалу были все мешки и все люди, были и рюкзаки, и всевозможные узелки, тючки, портфели, армейские деревянные чемоданы и разные штатские чемоданчики — каждый взял, что подвернулось под руку, и потом кто пешком, кто на велосипеде, а большинство же всем скопом на грузовиках направились в Мартин или Микулаш, в Ружомберок или Брезен и оттуда, хоть и не все, в Банска-Бистрицу, а также в Зволен и Жилину, шли и на Мыяву, в Сеницу и в Нове-Место, некоторые и туда торопились, куда торопиться не следовало, куда лучше было совсем не ходить.
Конечно, большинство шло в Бистрицу — туда можно было доехать и поездом, но иные железной дороги боялись, охотней ехали на машинах и даже просили шофера ехать проселками, потому как на многих шоссе уже подстерегала опасность. Временами тот или иной грузовик останавливался — ведь это были машины, работающие главным образом на древесном газу, — и пассажирам тогда приходилось соскакивать и подпиливать поленцев в котел. Случалось, останавливалась целая колонна, и те, кому пока нечем было заняться, топтались взад-вперед и глазели на пассажиров других машин; в основном ехали солдаты, разумеется солдаты в форме словацкой армии, успевшие улизнуть из своей казармы, но встречалось тут и много гражданских — эти стекались со всех сторон и, где только можно было, присоединялись к солдатам или к другим гражданским. И все были в страшной пыли, а потому подтрунивали друг над дружкой, смеялись и покрикивали: — Ну, как дела, мельники? Почем мелете? Почем берете за муку?
— Дешево, дешево.
— И мы тоже. А хотите, и задарма отдадим.
А потом опять забирались в кузов, ехали дальше, вздымая за собой клубы пыли, опережали тех, Кто топал пешком, объезжали деревни и городки, но иной раз, словно забывшись, нарочно врывались с гиком и пеньем в какую деревню, и оживившиеся, повеселевшие крестьяне — у нас же и в городках тогда еще жили крестьяне — бросали им хлеб, пироги, сливы и яблоки, все, чем были богаты, а у кого не было ничего, подымал лишь руку и скалил зубищи. — Наши, наши! — кричал он, не заботясь, слышит ли его кто-нибудь. — Ребята, держитесь! Держитесь, ребята!
2
Однако грузовик, о котором мы ведем речь, шел, вероятно, чуть позже, замешкался по меньшей мере дня на два, катил, наверное, кружными дорогами, да еще ночью, — вот и некому было пассажиров ни поприветствовать, ни подбодрить. Они подбадривали сами себя, и, надо думать, каждый в этом нуждался. В самом деле! Временами кое-кто пытался и пошутить, а один, верно из желания поднять настроение себе и другим, взялся даже напевать, но его сразу одернули: — Габчо, кончай! Нынче у тебя все равно не выходит!
И Габчо умолк. Молчали и остальные. Казалось, что ребята больше дремлют. Некоторые, быть может, и правда дремали. Между тем уже начинало светать, и кто-то вдруг заметил: — Фу ты, дьявол, а мешков сколько? Ведь их восемь было.
— Восемь? — раздался другой голос. — А теперь сколько? Всего семь? Мать честная, только семь? А где восьмой?
— Только семь. Похоже, один забыли в имении. Не уперли же его?
— Поди ж ты! Их восемь было. Один наверняка кто-то упер. Какая-то скотина. Вот те на! Ну не скотина, а? Черт возьми, кто мог его взять?
Вдруг грузовик резко затормозил. Что еще такое? Должно быть, что-то неожиданно преградило дорогу. Грузовик остановился, но тут же дал задний ход, и сквозь шум мотора раздался неразборчивый вскрик, не то восклицание, а затем грохнули выстрелы, которые разом всех пробудили. Ни один из тех, кто был в кузове, не вымолвил ни слова, все только растерянно метались. Вдруг грузовик резким броском влетел в канаву, и уж тут правда никто не мешкал — недосуг было раздумывать, расшибешься или нет, в суматохе все стали соскакивать с кузова и разбегаться.
Мотор еще с минуту ворчал. А кто-то орал: — Halt, halt! Когда мотор заглох, послышался хрип, в самом деле, только хрип, но и тот затихал. И тогда отозвался Карчимарчик:
— Хальт, хальт, ребята! Бога ради, опомнитесь! Стойте, ребята, ведь мы никому ничего не сделали!
Но и его слова оборвала стрельба. Вскоре и Карчимарчик утих, а вместо него закричал Ранинец:
— Подождите меня, ребята! Ребятки мои золотые, Христом богом прошу, не бросайте меня тут!
И потом — ничего, совсем, совсем ничего. Лишь петухи из ближней деревни возвещали новый день.
3
Прошло не менее часу, покуда они снова сошлись. Это было далеко от грузовика, к которому уже никто не решался вернуться, никто не хотел сходить даже взглянуть на него.
Встретились сперва только двое, почти столкнувшись друг с другом, а чуть позже набрели они и на третьего, а там уж к ним подсоединились и остальные.
Однако не все, не все уже сошлись. Четверых не хватало. И те, что остались, сгрудившись теперь вместе, сидели в невысокой траве и непрестанно оглядывались, словно искали тех четверых. А двое стояли у большого куста шиповника и шныряли по сторонам глазами — им не верилось, что опасность уже миновала, как и не верилось в то, что четверо уже не придут, ведь это были их знакомые, а для кого и товарищи. Ну можно ли без них идти дальше или вернуться домой?
Все еще до сих пор были насмерть перепуганы, мучительно бились над множеством важных вопросов, и у некоторых нашлись бы на них и ответы, но говорить никому не хотелось, они только спрашивали глазами друг друга: не желает ли кто случайно сказать что-нибудь.
Но совсем без слов тоже не могло обойтись. Кому-то понадобилось задать вопрос вслух: — Откуда взялся этот шофер? И кстати, как его звали?
А когда раздался вопрос, тут же нашелся и ответ: — Не знаю. Я его не признал. Думал, он из Церовой.
— И я его не признал, — нашелся и другой ответ. — Он не из Церовой. Карчимарчик его отыскал. Не знаю, откуда он, но похоже, хороший мужик.
— Был хороший мужик.
— Оба. И Карчимарчик. Хотя чего только не говорили о нем. Я видел, как он кувырнулся.
— Ребята, сил моих нет слушать такое.
— А Габчо? А Ранинец? Где они?
— Сам небось знаешь. Я только слыхал, как они кричали.
— И этот паренек там остался. Сосед мой. Что теперь матери его скажу? Право слово, лучше мне и домой не показываться!
Молчание. Но вскорости опять раздался чей-то голос: — Может, сходить туда, поглядеть?
— Зачем? На машину? Может, там уже и машины-то нету. Я ведь это место обошел стороной. Ничего там не видел. Мы все тут.
— Какие все? Тут не все.
— Все тут. Больше никого нет. И машину эту, поди, оттуда уже оттащили.
— Ребята, ведь это ужас какой-то. Нельзя так все оставить!
— Ну делай что-нибудь. Попробуй, сообрази что!
Издалека все еще доносилось кукареканье петухов.
Мужики молчали. Только церовский причетник бурчал себе под нос да все поглядывал на других. — Хорошенькое начало! Была б хоть какая… хоть какая атака! По простоте своей люди ведь ничего даже не ждали. И я ничего такого не ждал. Думал, может, и дело-то не больно серьезное, может, ничего особенного и не будет. Дома-то столько у меня министрантов, столько ребятишек, а теперь вон оно как — ни взад, ни вперед… Было бы хоть у кого ружье, ну пусть пистолет, какое-никакое оружие, была б хоть перестрелка какая, а то только в нас и стреляют. Кто мог ждать?! Ой, ребята, уж очень мне… Может, надо было остановиться, да ведь кто знал?! Кто что мог знать? Вдруг сразу: хальт! И он, бедный парень, р-раз в эту канаву, прямо в ров этот гнусный, я и теперь, ей-богу, в толк не возьму, как оно получилось. Ну а с другой стороны, кто бы остановился, в самом деле, кто бы? Кому охота останавливаться? Я и сам припустил. А тут еще этот мешок, я с мешком побежал, ага, вот он, мешок-то! Господи, и парень этот… И остальные… Такого и впрямь никто не ждал! Как бог свят! Ей-богу, ребята! Может, просто надо было встать — и ни с места? Да что толковать, коли все так вдруг получилось?! Кто ж бы не побежал? Всякий бы побежал. Что тут будешь делать, ежели враз тебе в лицо, а потом и в спину стреляют? Знаете, ребята, мне от этого… Уж мне от этого — во как… Мне совсем… Ей-богу, ребята, не мои б годы да не будь я солдатом с первой войны… я бы, может… ей-богу, ребята, я бы, может, и разревелся…
4
Сидели они там довольно долго: никак не могли решить, как быть дальше. Все были полны сомнений. Не только страх томил, но и злость и печаль по товарищам.
— Что делать? Надо что-то делать! Не век же торчать тут!
В них росло напряжение, они думали о завтрашнем дне, но никто не осмеливался решать сам за себя, а тем паче за остальных. Они становились все злее. Набрасывались друг на друга.
— Силы небесные, доколе нам торчать тут? Кто все это выдумал? Кто нас всех взбаламутил? Чего вы, черт дери, пялитесь как идиоты? Пораскиньте-ка мозгами, покажите себя наконец, возьмитесь за ум.
— Чего расфыркался? Чего кричишь, чего накидываешься? Нечего кидаться на меня, нечего, сморчок ты плевый! Ведь и тебя бог наделил разумом и у тебя голова на плечах! Ну отчего бы тебе хоть раз в жизни ею не воспользоваться? Разве я один должен думать? Сам думай, других не подначивай!
— Карчимарчик все это выдумал.
— Карчимарчик уже на том свете, его не поминай! Да простит ему господь бог все прегрешения! Нечего, да и времени у нас нет по нему плакать. Самим соображать надо.
— Я уже сообразил, — отозвался един из церовских крестьян и вызывающе посмотрел на других.
Все взгляды устремились к нему.
— Ну сообразил. Чего на меня уставились? Решился я. Домой иду. Да, домой! С меня довольно. Чихал я на все. Думаете, мне уж так охота, чтоб меня укокошили? Я ведь крестьянин. Неужто, ребята, того, что случилось, вам мало? Ну свернут мне шею, а прок мне с этого какой? И куда мы прем, да просто так, без всякого понятия? У нас и командира-то нету. Где наш командир, покажите мне? — Мужик меж тем поднялся и теперь еще острее пронизывал всех взглядом. — Послушайте, ведь за это за все кто-то же должен отвечать! Где все наши товарищи, скажите?! Где Карчимарчик? Не смог нас даже остановить, хотя и кричал нам «хальт». А где он, ну где? Или, думаете, поплакали над ним — и все дела? Или считаете, что с немцами сможете столковаться? Вы же видели, господи, ребята, ведь вы же видели, видите, что всех нас ждет. Если уж суждено откинуть копыта, то дома, ребята, только дома! В бога душу мать, так вас и разэдак, ребята, свиньи вы гнусные, на что вы меня подбили!
— Заткнись, заткнись, осел пьяный! — набросился на него кузнец Онофрей. — Наверняка упился, иначе бы ты так не орал. Кто тебя подбивал? Кто тебя подговаривал? Ну скажи, кто тебя подговаривал? Вот врежу по морде — из тебя уже ни одно слово, ни одна гнусность не вылезет! Ну скажи, храпун, кто меня разбудил? Кто мне ночью спать не дал? Кто меня заявился будить? Не ты ли ночью под окном торчал: пошли, Онофрей, пошли! Если думаешь, что у нас нет командира, по морде тебе может съездить и Онофрей!
— Ладно, ладно, Онофрей! — укрощал кузнеца церовский причетник. — На Онофрея тоже кто-нибудь может найтись, хотя и не обязательно именно я, потому как знаю, кстати, что и на причетника в такие минуты иной грубиян может поднять руку. А что, если бы тут был и Габчо? Пусть Габчо был не мой, а твой приятель, однако, братец Онофрей, ты бы тут так не разорялся! А ну как найдется тут какой другой Габчо?! Знаешь, братец, если жалко Онофрея, то жалко и Габчо, и не только потому, что некому тебе заехать в морду. Лучше поосторожней! Ты, Онофрей, поосторожнее! А то вдруг найдется оплеуха и для Онофрея! Люди добрые, ребята, да разве вы не видите, разве не видите, что стряслось? Боже ж ты мой, разве вам мало?
— Чего разохался, ну чего разохался?! — перебил причетника кузнец Онофрей; хоть он и злился на него и был еще немного не в себе, но разговаривал уже поспокойней, а тот, кто его хорошо знал, сказал бы, пожалуй, что он и вовсе разговаривает на редкость спокойно. — Дай мне по морде, коли охота, ну попробуй, дай мне, не то я сам тебе съезжу! Что до меня, то будь ты хоть сто раз причетник, если осерчаю, не побоюсь и святого отца. Думаешь, коли ты причетник, охи тебя спасут?
— Что уж меня может спасти? — Причетник даже руки заломил. — Что нас может спасти? Люди добрые, вот мы наконец собрались все вместе, и с нами случилось то, чего и не должно было случиться. Так надо ли нам как раз сейчас угрожать друг другу? Или станем дразнить друг друга, носы показывать? Нет уж, товарищи! У каждого нос, и голова есть у каждого, однако ж все разом командовать мы не можем. Я старый солдат, хотя на мне нету формы, но солдатом можно быть и без формы, и я думаю, что нам нужен командир — когда людей много, они подчас с трудом договариваются. Мне и впрямь не по себе, и впрямь не по себе, особенно если вижу, что мы еще ни в каком деле не были, а уж языки пораспускали, да и сами бы себя по домам распустили. Не перебивайте меня! Послушайте, люди, не перебивайте меня! Молчи, Йожко! И ты, Мишко! Кузнец, не прерывай меня! Мигалкович, цыц! Потом скажешь, если захочешь! Богом всех вас прошу, выслушайте меня! Умолкните, черт возьми! Послушайте, люди, куда мы теперь?! Если мы и побежим, то куда прибежим, золотые вы мои? Дом дому рознь! Постой, Йожко! Молчи, Шумихраст, не то тресну тебя! Что, если и дом теперь не дом, что, если теперь — мы же знаем, что было, — если теперь и дома все равно что не дома? Люди, давайте подумаем, нам надо крепко подумать! Глотки во какие стали, а разума поубавилось! Ей-богу, нам нужен если не капитан, то по крайности поручик, а то и надпоручик, хочешь не хочешь, а кому-то из нас быть надпоручиком.
— Какое у тебя было звание? — спросил Онофрей.
— Солдат, — ответил причетник.
— Солдат? Ну видишь! — надулся церовский крестьянин, опять же тот самый, что за минуту до этого так разъярился на всех. — И мне теперь тебя слушаться? Вот уж! Так и вытянусь перед денщиком в струнку! Где у тебя колокольчик, покажи?! Если меня кто нынче либо завтра навеки прихлопнет, скажи, друг мой, скажи, кто по мне тогда зазвонит?
— Ну, ну! — Причетник поднялся, выпрямился, даже руку вверх вскинул. — Только не вышучивай! Не время теперь для насмешек. А коли на то пошло, я, так и знай, зазвоню. А я не зазвоню, найдется другой, у кого будет колокольчик. Вот уж воистину колокольчик всегда и для каждого найдется!
— Плевал я на твой колокольчик! Дура стоеросовая, думаешь, дело в одном колокольчике? Ребята, люди, речь теперь обо всем!
— Вот именно, — подтвердил причетник, — речь идет обо всем!
— Ну видишь, осел! — вмешался в разговор другой крестьянин. — Зачем тогда бурчишь? Языком треплешь.
— Я треплю языком?
— Да еще и молотишь. — Крестьянин не желал и слушать причетника. — О чем, собственно, разговор? Ты был денщиком, сам же сказал, и вдруг хочешь стать капитаном?
— Рехнулся ты, человече? — Причетник почти обиделся. — Кто хочет стать капитаном?
— Ты сам сказал.
— Я сказал?
— А кто же!
— Эге, добрый человек, ты меня, видать, совсем не понял! Я говорил о командире. Кто тебе сказал, что я хочу им быть?
— Мое дело сторона! По мне — ты как был ослом, так и останешься.
— Ну вот, я свое получил! — Причетник покачал головой, но слова пока не отдавал. — Ладно, пускай я осел. Однако нас тут вон сколько, давайте хорошенько приглядимся друг к другу! И ты, братец, коли разум есть, скажи что-нибудь, скажи, но только путное!
— Я свое уже сказал, — ответил крестьянин. — Иду домой. К жене, к детям. И вы, мужики, решайтесь! А я домой иду, только домой, и баста.
— И я присоединяюсь, — поддержал его другой крестьянин, — потому как и я сыт по горло. Не так уж я глуп, во всем успел разобраться. Что поднесли, то и отведал. Не брошу я жену с детьми, чтоб немцы измывались.
— И ты думаешь, выиграешь? Вы что, думаете, выиграете? — Причетник переводил взгляд с одного на другого. — Разве у меня нет детей? У меня еще больше детей, семеро у меня. Не даете мне досказать, а я всего-то и хочу напомнить, что нам надобно вместе держаться. Так ли мы решим или эдак, пойдем ли вперед или назад, но тут должен быть человек, который нами всеми будет командовать, и мы будем его слушаться. Выберем такого человека, и пускай слово будет за ним! Я подчинюсь. Я старый солдат, и у меня тоже, ей-богу, есть нос, и глаза есть, и вы тоже многое видите, не скроешь того, да, и впрямь нас еще всякое ждет! Поэтому я так стою на своем и, может, даже кричу: одного, выберем одного!
— Раз уж кричишь, кричи и дальше. Быть тебе командиром! Сам себе это придумал.
— Я себе придумал? Если и говорю о командире, то это не значит, что я им хочу быть.
— Ну давай ты! — Некоторые стали его подбадривать. — Нам ведь все равно!
— О-ох, не все равно, ребятки мои золотые, мне, мне не все равно. Честное слово, я о себе и не думал. Я просто солдат, был солдатом. А нас тут вон сколько. Какое у кого звание?
— Какое у кого звание?! Мы все просто солдаты. — Они заспорили меж собой, и вдруг выяснилось, что самое высокое звание у Имро. В армии он был младшим унтер-офицером.
— Ну видите, — сказал причетник, — я, выходят, прав был, когда подумал: ежели нет Карчимарчика, хоть мне и жалко, ох до чего жалко нашего Карчимарчика, я сразу подумал — пусть это будет Гульдан. Ведь Гульдана мы все хорошо знаем. Молодой, а неглупый, обученный, ремесло знает, да еще и звание имеет. Вот и пускай Имро, пускай он. Уж если нет Карчимарчика, то скажите, кто другой, ну кто из нас может быть командиром?!
Имро, конечно, этого не ждал. Будь оно в другом месте и при других обстоятельствах, он бы принял слова причетника в шутку, да и сейчас, пожалуй, это все походило на шутку, которой, правда, никто не смеялся.
Сразу все глаза поворотились к Имро, и ему казалось, что этих глаз слишком много и что они уже давно глядят на него.
— Черт возьми, ну скажи что-нибудь! — гаркнул кузнец Онофрей.
Но Имро не сразу нашелся, не сразу. — Вы, должно, шутите! — выдавил он заикаясь и невольно чуть подался назад, словно хотел оградиться и отвести от себя внимание, он шарил глазами по лицам людей, надеясь, вероятно, найти себе замену. — Почему, почему именно я? Тут ведь есть и другие.
— Какие другие? — Церовский причетник решил его подбодрить. — Ведь ты, Имришко, чин, у одного тебя звание, и мы будем тебя слушаться.
Остальные глядели на него неподвижно, и взгляды их становились все тверже и недовольнее, словно они злились, что он хочет изменить или отдалить речами то, что было уже решено.
— Черт возьми, так говори! Чего молчишь? — взъярился кузнец Онофрей.
— Я… я правда не знаю… Что вы хотите от меня? Что я должен говорить?
Церовский крестьянин схватился за голову. — Ребята, какие вы безмозглые, до чего же вы безмозглые! Я иду домой, иду домой, ей-богу, иду домой! — И он на самом деле пошел, оглядываясь, не двинулся ли кто следом за ним.
— Я с тобой, — поднялся и его товарищ и, сделав несколько шагов, тоже оглянулся — верно, думал, что пойдут все.
Но мужики остались на месте, они лишь проводили долгим взглядом ушедших и снова повернулись к Имро, ожидая, что он им скажет.
Имро думал. Думал еще и после того, как уже принял решение, он обводил всех глазами и в каждого вглядывался, точно хотел выяснить, будут ли действительно все с его решением согласны. Потом он поднял руку и определил направление.
— Идем вперед!
5
И они пошли. Имро, правда, был не лучшим из командиров. Но пожалуй, это была не его вина. В конце-то концов, он и не хотел быть командиром. Он вел людей, но не знал, куда, в сущности, должен был их привести. Возможно, поэтому он вел их так долго, и они постоянно были в пути, некоторые даже не хотели его слушать, ворчали, то и дело с ним препирались, злились, что им есть нечего: хоть поначалу и было у каждого что пожевать, но они всем уже давно поделились друг с другом, подъели все до последней крохи.
Они шли не разбирая дороги, где лесом, где полем, нарочно выискивая тропы и стежки, которыми — как они думали — люди не очень-то пользуются. А время от времени они спускались к домам и пытались что-нибудь выпросить у деревенских, но им казалось, что деревенские ведут себя очень странно и относятся к ним недоверчиво, а если и дают что, то всегда как бы из страха, будто перед ними грабители, которые, если не отдать по-хорошему, отберут силой все, что им надобно.
В какой-то деревне они громкими окриками разбудили корчмаря и, хотя просили у него еды, получили одну выпивку, которую потом до утра потребили, и снова меж собой вздорили, нехотя плетясь дальше, ибо раздраженность и испуг корчмаря и других деревенских вконец их раздосадовали.
Постепенно они перестали доверять деревенским и брали мало даже у тех, кто относился к ним с большей сердечностью.
По дороге наткнулись они и на партизан, но не присоединились к ним — те им не понравились. В одних они видели лишь грубиянов и насильников, другие казались им еще хуже, третьи глядели не в меру спокойно, и этих они боялись пуще всего, ибо, возможно, из-за этого-то спокойствия и вовсе не принимали их за партизан.
Встречали они и таких, что бежали домой, и те в свой черед их уговаривали: — Люди добрые, лучше туда и не ходите! Ведь оно попусту, все уже кончилось. А по-настоящему ничего даже не было. Быть может, теперь что и будет, потому как до сих пор только крали и мы все только у себя наводили порядок, а нынче тут уже немцы, и вам не поздоровится. Слышите, люди, верьте не верьте, а теперь это будет самый обыкновенный, дурацкий убой.
— Какой еще убой?! Мы просто хотим где-нибудь повоевать, как положено. Но у нас нет ни оружия, ничего, а вот против нас все имеется, право слово. Нам бы какого стоящего дела, да со стоящими людьми, да против дурных и нестоящих, подсказали бы, ребята, где такое найти?
— А зачем? Зачем вам? Положитесь на нас, поверьте нам, не то еще пожалеете! Немцев, что ли, не знаете?! Убьют всякого, кого в горах найдут.
— А в которых горах? Ведь мы в горах ничего не видели. Даже не знаем, как партизаны выглядят.
— Так же, как вы.
— Наткнулись мы на два маленьких отряда и один побольше, и оружие у них было, но, чтоб это были партизаны, право слово, не подумалось. Может, они и были, да похоже — не с кем было им воевать. У нас же, напротив, случай был, да оружия не было. Не повезло нам, и многие из наших погибли, правда, некоторые погибли, хотя мы еще в деле не были. Нас теперь половина, всего лишь половина, и были у нас с собой мешки с табаком, а точнее, восемь мешков, но и тут нам не повезло: от восьми остался один, да и тот уже уполовинился, потому что именно те, кого мы принимали за партизан, захотели нас обобрать — и вот привязались. Припиявились прямо. Мыслимо ли дело? Наверно, не с кем было им воевать — вот и припиявились. Гляньте, как последний мешок отощал.
— Раз им дали, можете и нам дать. Хоть немного. Ясно, у вас самих мало, но у нас раньше почти все было, ей-богу, все, и курево было, курево, а вот уж второй день, как мы почти совсем не дымили, хотя все до единого курящие. Дайте из этого мешка! Ну а в общем, не паникуйте! Пошли-ка лучше с нами, ведь тут — теперь уж можно в открытую — нигде не убережешься. По дорогам лучше и не ходите, чтобы случаем не напороться на мину, мы здесь все вроде хорошо знаем, сами сгоряча где хочешь мин понатыкали. И мосты заминированы, ей-ей, кто-нибудь там нынче либо завтра здорово обожжется!
Церовский причетник, ибо он нес мешок, дал мужикам по два, по три табачных листа, а потом опять какое-то время они все вместе прикидывали, что делать дальше.
— Решай, Имришко!
— Чего решать? — взорвался кузнец Онофрей и с минуту злобно оглядывал всех. — Ведь мы уже решили. Идем, куда нам должно идти! А теперь из мешка никто и пол-листа не получит!
6
Они шли по опушке леса и вдруг услышали короткий свист.
Остановились. Огляделись. Сперва никого не увидели. Только когда свист повторился, а потом еще и окрик раздался, они заметили человека.
— Эй! Вы кто? Руки вверх!
Он стоял у могучего бука, наставив на них дуло автомата.
Первым его заметил Онофрей. Но рук не поднял. Никто не поднял рук.
— Не пугай, товарищ! — насупился Онофрей. Он, пожалуй, чуть нарочно себя усмирял, но не потому, что боялся. Просто был удивлен. — Видишь ведь, кто мы. Оставь свою пушку! Нечего нас пугать. С нами можно и нормально разговаривать.
— Пароль! — гаркнул парень.
— Нет у нас пароля и не было. Не стращай, товарищ, не выставляй себя на смех! У тебя ж ружье, а у нас нет ничего, вот и не выставляй себя на смех!
— Что вам надо? Из какого отряда?
— Из никакого. Мы не из отряда, мы просто так.
— Тогда руки вверх! — Парень, должно быть, уже заметил, что они безоружны, но до конца им все же не доверял и лишь медленно приближался. — Руки вверх! Не ясно? Вверх! Выше! Все! И вы! — сверлил он глазами причетника. — И вы! Бросьте мешок! Ну так! И выше, выше, выше руки! Руки — как положено! Что в этом мешке?
— Табак.
Парень медленно подошел к ним и все еще мерил их строгим взглядом. — Что тут? Что тут? И чего вам здесь надо? Черт возьми, чего вам здесь надо?
— Табак это. Табак. Серьезно, один табак. — Причетник вздумал было мешок поднять, чтобы парень уверился, что все без обмана.
— Руки вверх! Стрелять буду! — И это звучало почти так, словно он уже выстрелил. — Ей-богу, чаламаду[44] из вас сделаю.
Руки причетника снова взлетели кверху.
— Так! А теперь вперед! — Кивком он определил направление и одновременно стволом автомата подтолкнул причетника. — Мешок! Поднять! Поднять, черт возьми! И впереди меня! Все! Все! Не слыхали? Вот так! И пошли! Руки — как положено! Сказал — все! Руки! И пошли! Вот так! К командиру!
7
И командир внимательно их оглядел, но уж таким строгим не старался казаться. Он спросил их, откуда они и что тут делают. Подозрительным казалось ему особенно то, что они не принадлежат ни к какому отряду.
— А мы и есть отряд! — сказал причетник за всех. — Нас не много, но было нас больше. Нескольких уже нет… И все мы из разных мест, но из одного края.
— Откуда? — спросил командир.
— Из Братиславы, — ответил причетник.
— Из Трнавы, — отозвались другие.
— Так, значит, откуда?! Из Трнавы или из Братиславы?
— И оттуда, и отсюда, — ответил причетник. — Мы из одного края и все знаем друг дружку. Вам-то, может статься, мы и не понравимся, но о себе-то мы знаем все, что положено знать.
— А вам не страшно? Случайно не трусите? — Командир продолжал пытливо к ним присматриваться. — Который из вас боится?
— Мы и боимся. — Причетник обвел взглядом своих товарищей. — Кто ж не боится? Может, Онофрей! Вот, — он коснулся рукой кузнеца, — это Онофрей, мы его знаем, потому что он кузнец. Мы своего кузнеца хорошо знаем, и, если хотите, о нем тоже можно сказать, что, пожалуй, и ему теперь боязно, хотя он кузнец, а главное, он — наш Онофрей; вы как умный человек, верно, и сами отлично знаете, что настоящего кузнеца чепухой не напугаешь. Но мы в пути уже не день и не два и, покуда дошли сюда, многого, ей-ей, нахлебались, и уже не раз нам лихо пришлось, и впрямь лихо! Кабы вы не спрашивали, я, пожалуй, и не говорил бы, и тогда вы, может, и не узнали бы. Ведь нас больше было! Правда, сперва больше было! Из тех, что шли с нами, некоторых теперь здесь нет, и, может, совсем, совсем их уже нет, может, совсем нет! Многих теперь понапрасну искать. Вон этот Шумихраст. — Он стал указывать и на других товарищей: — А там Мигалкович, ну а вон тот молодой, — он указал и на Имро, — это наш капитан, хотя и не капитан он, это наш командир, потому как мы все выбрали его в командиры, и он мог бы вам обо мне, о нас всех много чего рассказать. Имришко, если охота, скажи обо мне что-нибудь! Или, если у вас есть терпение, я и сам могу о себе рассказать, ведь при желании я умею о себе довольно долго рассказывать. Так вот, я из Церовой. Был там причетником. Не хочу себя хвалить, но и хулить не хочу, скажу одно: там мной были довольны, хотя на моем попечении было два костела. В Церовой ведь есть и новый костел. И старый там. Вот я и был в обоих костелах причетником. Но я сказал, да и другие сказали что-то похожее — пускай и не так, как причетник, и не про костел, — я сказал: какой я ни есть и хоть в Церовой на моем попечении два костела, а в тех костелах, то бишь в алтаре, а потом дома, за столом, за горшком да за миской, полно ребятишек и министрантов, все равно мы все — Яно или Мишо, Гавел, Петер, Павол, а стало быть, и причетник — в долгу. И вы теперь, пан командир, товарищ командир, хотя вашего титула и звания я не знаю, наверняка хорошо понимаете, о чем примерно я думаю. Вы и то должны понять, ну или представить себе, как трудно мне было решиться! Мне и вправду было трудно решиться! Ведь я солдат с первой войны и что знаю, то знаю, пан командир, товарищ мой командир. Но я сказал: если придется испытать что или хлебнуть, недоспать или голода хлебнуть, то я сумею хлебнуть, сумею и голода хлебнуть, знаю, что такое голод, сумею и недоспать. Я ведь вообще не сплю. Бывает, вообще не сплю, а то и все время сплю. А ребятки мои, крохи мои, малолетки мои, озоруны мои, они тоже уж всякого натерпелись и за миской такой шум умеют поднять. А уж как иной раз ложками вкруг пустого горшка застучат — уж такого страху на меня напустят! Да что поделаешь?! Я сказал себе то, что мне уже говорили другие и малость меня в том убедили, да я и сам в том убедился: я туда и вправду пойду. Не знал только точно куда — вот и пришел сюда. Да, пан командир, товарищ пан командир, я сказал, что это мой долг! Истинный долг! Временами, ей-богу, вот и теперь тоже, аж ком такой стоит в горле, у меня ведь малолетки, ведь пустой горшок на столе перед ними! Товарищ друг, только теперь дело уже не в этом горшке! У меня, поди, и горшка уже нет или не будет. Только и есть у меня дорогие товарищи. Ребята мои золотые, помогите мне, видите же, я никак в толк не возьму… Боже ты мой, ничего-то я уж не знаю, ничего у меня нет, где все, что я потерял и чего у меня уже нет, господи, где я все это найду?! Многим товарищам уже аминь, а у меня остались только долг да этих семеро, семеро заморышей, целых семеро заморышей, которым дороже всего ложка, ей-богу, ложка в руке…
Командир до этой минуты молча слушал, несколько раз на лице у него появлялась улыбка, но, пожалуй, неосознанная. Меньше всего он хотел причетника высмеять — с какой стати? — и нарочно дал ему выговориться, а теперь, хотя причетник ни в коей мере не рассказал всего о себе и о товарищах, решил эту улыбку или то, что ее вызвало, как-то оправдать и потому улыбнулся еще выразительней. — Вы мне уже достаточно рассказали. И это в самом деле так? Впрочем, конечно. Вы рассказали достаточно, хотя меня-то интересовало совсем другое.
— Да я еще и не рассказал всего, — проворчал, как бы оправдываясь, причетник. — И другие не говорили.
— И не надо, — заявил командир.
Причетник подвигал плечом. — Извольте. Может, Имришко еще что-нибудь скажет, ведь до сей минуты он был у нас командиром.
— Вы хотите здесь остаться? — спросил командир.
— Мы есть хотим, — сказал Онофрей. — Может, случайно найдется чего…
— Найдется, — улыбнулся командир. — Но прежде вы должны решить.
— Решай, Имришко! — Причетник вытолкнул Имро вперед. — Он был нашим командиром. Мы его выбрали. И хотя мы иной раз не ладили и, случалось, не слушали его, он был нашим командиром, так пусть за нас и решает.
— Мне трудно с этим согласиться, — покачал головой командир, хотя и улыбался, улыбался, глядя и на Имро. — Я всех не знаю, не могу вам всем даже до конца доверять, но все равно — каждый должен решить сам за себя. И ваш командир — тоже. Если вы действительно захотите здесь остаться, вашему Имришко придется опять стать просто Имришко. Отныне он уже не командир.
Имро улыбнулся сперва командиру, потом товарищам, и улыбнулся главным образом для того, чтобы им легче было решить. — Остаемся! — сказал он.
МАЛЬЧИК
1
А весть о том пришла в Церовую, да и в Околичное. Люди не знали, кто принес ее, но передавали из уст в уста и всякий раз добавляли к ней что-нибудь от себя, чтобы она казалась правдивей, а рассказчик — занятнее, чтобы глядел он героем и напустил страх на других или своим страхом с ними поделился, а может, лишь затем, чтобы создать настроение, которое бы возбудило, взбодрило или хотя бы растормошило его самого, а иного привело бы в уныние и придавило, — одним словом, чтобы что-то происходило, чтобы было о чем говорить, да и чтобы ни у кого не возникло впечатления, что все говорится всуе.
Дошла весть и до Вильмы, она поделилась с мастером, а тому удалось узнать, что весть принес один парнишка, ученик из соседней деревни, мастер знал его хорошо, знал даже родителей и, стало быть, мог все выведать, потому что малый этот, говорили, уехал на той же машине, что и Имро, а на нее потом где-то под Нитрой напали немцы; шофера, Карчимарчика и Габчо, да, вероятно, и Ранинца застрелили, остальные бросились наутек, а немецкий патруль все палил по ним да палил; парнишка был ловкий, видать, да еще из везучих, а в тот час оказался особенно ловким, и везучим: как только шофер затормозил и дал задний ход, он спрыгнул с машины, плюхнулся плашмя наземь и с минуту не двигался, про других он и вовсе не думал, старался даже на них не глядеть, но лежать все равно было опасно, поэтому он быстро и ловко отполз и надолго притаился в кустарнике. Но и там у него поджилки тряслись! А теперь он не нарадуется, что счастливо из всего этого выбрался и попал домой.
Вслед за ним через два дня воротились домой и двое церовских крестьян — в общем, они говорили то же самое, но им и невдомек было, что паренек жив. — Мы уж думали, тебе, братец, капут, — дивились они, — мы тебя уж оплакали. Мы же тебя там видели. Все как есть видели. И мы еще потом обо всем говорили и о тебе думали, что ты полег среди первых.
— А я и лег. Первый спрыгнул, — согласился паренек. — Черт, ну и кувырок я выдал! Всю ладонь содрал! Теперь уже малость зажило.
— Тьфу — ладонь! — крестьянин в ответ. — Я животом стал маяться. И ноги у меня до сих пор дрожат, а про живот лучше и не думать.
— А Карчимарчика слышал? — спросил другой крестьянин.
— Все слышал. Я же ближе всех был. И я все понял, потому что и в школе немецкий учил. Он так кричал, так кричал! Хотел немцев перекричать. И Ранинец ужас как охал. Видать, здорово досталось бедняге!
— Ну видите! Надо же нам было! О-ой! Лучше и не говорить ничего.
Мастер выслушал сперва каждого в отдельности, затем — поскольку хотел от них все выведать — допросил всех троих вместе.
— А Имро? Имро-то как туда затесался?
— Так же, как мы, — ответил церовский крестьянин. — Приехал Карчимарчик с этим самым шофером и говорят: два дня назад одна машина ушла, сейчас у нас опять машина, раздумывать нечего! Ну мы и не раздумывали. Сели в машину, по одному, по двое — вот и набралось нас.
— А Имро дома вообще об этом не заикнулся. Только с Вильмой, с невесткой, со своей женой — я вам уже говорил: Вильма его жена и моя невестка, вы, должно быть, знаете, что они живут со мной и что перед свадьбой мы ради этой славной и тихой девушки специально дом отделывали, скажу больше, мы его от корня, право, от самого корня отделали, чтобы этой поистине горемычной девушке жилось у нас радостно, — так вот, только с ней, с этой бедняжкой, он двумя-тремя словами тогда перекинулся, сказал, что идет, мол, в имение Кириновича навестить. И больше ничего. Правда, ни слова больше.
— Да он и был там. Ей-богу, был там. Мы забрали его из имения.
— Я уже слышал об этом — вот и бешусь! Дурья башка, уж коли его черт понес, он, что, не мог никому слова сказать? Уж я бы с ним это дело уладил.
Крестьянин немного насупился, но мастеру возражать не стал, лишь покивал головой и жалостливо сказал: — Откуда ему было знать, бедолаге, что его ожидает? Пришел в имение, аккурат когда там собирались. Киринович-то умудрился куда-то смотаться, а Имро угодил в самую точку, может, хотелось и ему улизнуть, да мы его тут и накрыли. Ну, Имро, пошли, залезай, Имро! Садись, народ! Пошли на погибель! А что нам жены и бабы устроили! Чуть не исколотили нас в имении.
— Верно! — засвидетельствовал второй крестьянин. — Свои и чужие жены нас чуть не отколошматили! Пан мастер, Мишко, вот этот самый Мишко, мой товарищ, мы с ним одногодки, не даст соврать. И еще вам скажу: с тех пор, с тех страшных, жутких минут, что мы с ним пережили, мы будто один человек, мы в самом деле еще больше сроднились. Потому что такое дело, такое большое дело и такая большая беда сближают людей. И меняют их. От самого корня. Точно так, как вы давеча сказали.
— От корня. От корня, — повторял первый. — И этот малый, — он пальцем указал на паренька, — не плохой человек, не плохой. И с нами был там. А ведь сам еще школьник. В самом деле, еще учится. Скажи, ты чему учишься?
Парнишка зевнул, потом ухмыльнулся.
— Да я с мастером уже вчера толковал, — сказал он.
— Вся эта история с Имришко, — мастер сжал кулак и повертел головой, — у меня никак в голове не укладывается.
Первый крестьянин: — Отчего же не укладывается? Нас же тут трое. И все говорим, одно и то же. Хотя и то верно — такие вещи никогда в голове не укладываются.
— Но и из головы не выходят, — вступил второй крестьянин, — я-то о них не забуду, уж точно не забуду!
— А где это случилось? Где было? — теребил их мастер.
— Бог мой, да я почем теперь знаю, где это было? Кто тут упомнит? Кто думал про это? Была там вроде деревня. Мишко, не помнишь, как она называлась?
— Откуда мне знать, силы небесные? Нешто в такую минуту спрашиваешь имя или название? Я так припустил, что все из головы вылетело. А ноги, о-хо-хо, гляньте на мои ноги, ноги у меня и по сю пору дрожат.
— Под Нитрой это было. — Ученик решил помочь делу. — Я глядел на дорогу и все заприметил. Это было в нескольких километрах от Нитры.
— Как же! Где она, Нитра! Ведь мы нарочно проселками шли, чтобы не встретиться с немцами. И ночь была.
— Какая ночь? Уже светало. И с проселка выехали мы на шоссе. Разве не помните?
— Как не помнить?! — вступил второй крестьянин. — Было шоссе.
— Ясно, было, — продолжал ученик. — Вы все спали, а я не спал, знаю, по какой дороге ехали. Видел и Нитрианские горы. Что я, Зобор не знаю?
— Какой там Зобор! — Крестьянин махнул рукой. — Любой бугор может обмануть, с толку сбить. А ведь стрельба была, стрельба поднялась. Кому в такую минуту дело до бугра? Когда у человека кишки вон, ему не до бугра, ему и впрямь плевать, как бугор называется, хоть бы и рожь росла на том бугре!
— А там была рожь. — Товарищ прервал его.
— Откуда вы это взяли? — накинулся на него ученик. — В это время — рожь? Сентябрь ведь.
— Ржаная стерня. Помню, бежал я по ржаной стерне.
— Вот как! А где же я тогда лежал? Я ведь лежал в клевере! А с клеверища отполз в кукурузу. А Карчимарчик кричал «хальт», «хальт». Потому что и немцы хальтовали. Скажете еще, что не хальтовали?!
— Ну кричали «хальт». Ведь и стрельба была.
— А Ранинец не кричал?
— И Ранинец. Должно быть, бедняге здорово досталось.
— А Имришко? — Мастер уже терял терпение. — Ничего с ним не случилось? Как все кончилось?
— С ним-то ничего не случилось. Его еще и командиром сделали. Ох, не хотел бы я быть в его шкуре, поистине.
— Это Имришко-то командир? А почему именно он? — Мастер заудивлялся. А может, это ему и польстило немного.
— А кому же, как не ему?! Кому-то надо мужиками командовать и держать их в узде. Карчимарчика хлопнули, ну наши ребята и не знали, что делать. Только я там не остался.
— И я, ей-ей, не остался.
— И я тоже. — Паренек даже поднялся. — Я-то уж тогда далеко был!
— А почему именно Имро? — продолжал выведывать мастер. — Неужто никого другого там не было? Почему именно его выбрали? Или сам напросился в командиры?
— Вот еще — напросился! Ведь это же не мед! Да кого еще они могли выбрать? Мишко, объясни-ка ты ему, ну скажи что-нибудь.
— Чего мне говорить? Выбрали его, знали, человек он мастеровой. Показался он им и как командир.
— Так ведь там был и Онофрей, — вставил мастер.
— Этот мужлан? — Крестьянин отступил на шаг. — Да кто бы такого забулдыгу и охальника стал слушать? Такого висельника и Гитлер бы испугался. Он и сам мог бы Гитлером работать.
— А как видишь, — покачал товарищ головой, — те гитлеровские шавки-вояки не испугались его. Это он их испугался.
— Да, дело было нешуточное. Хоть «мама» кричи. Я и животом стал маяться. До сих пор не проходит.
— А куда они пошли? Отошли-то куда?
— Бог его знает. Я-то не пошел. Благодарение небу, я дома. А на мужиков этих и на вашего Имро, ей-ей, очень даже дивлюсь!
2
Конечно, особого проку от этих разговоров мастеру не было. Ему нечем было даже Вильму утешить. Все-то и утешение: он ругательски ругал Имро. — Ничего, Вильмушка, я ему этого не спущу! Вот узнаю о нем что, пойду к нему и такую трепку задам — век не забудет. Такие вещи не делаются! Выродок! Ох и выродок!
— А где он? Где он может быть? Где его найти?
— Я найду его. Точно найду! Потерпи малость, уж я-то найду его!
— Господи, кабы я знала, где он, пошла бы к нему. Я б и сама пошла к нему.
— Так ведь я к нему пойду. А вообще-то, лучше ему и не попадаться на глаза. Ладно, негодник! Подождем малость и уж тогда наверняка о нем что-нибудь да узнаем, он еще получит свое, вот увидишь! Влеплю ему не задумываясь! Увидишь, Вильмушка! У, поганец эдакий!
3
Некоторое оживление и радость внесли в дом Ондрей и Якуб. Мастер нарадоваться не мог, что с ними ничего не случилось. Они много говорили, но отцу сдавалось, что дело они упрощают.
— По правде сказать, даже не знаем, зачем туда шли, — говорил Якуб. — Получили мы повестки, маленько выпили и сперва нарочно страху нагнали на жен, чтобы они из-за нас поревели. Они и поревели. А мы их жалели. Ну а потом явились мы в трнавскую казарму.
— Я-то уж совсем лыка не вязал! — Ондро не упустил случая побахвалиться. — Черт возьми, до того нагрузился, что меня сразу хотели зацапать.
— А потом сплошняком учения да учения, — продолжал Якуб, — все мы думали, что дело сразу примет крутой оборот, и стали перед казармой рыть окопы и ямы, говорили, защищаться придется. А ничего такого не было. Однажды командир приказал нам построиться и стал говорить, да еще как серьезно и важно. Дескать, надо готовиться к самому худшему, а кто боится, пусть лучше домой уходит, только смелые ребята, дескать, пойдут в дело. Ну, мы с Ондро ведь смелые ребята, а дома все равно никакой особой работы не было, кто ж в такое время станет сарай ставить, кому охота враз его потерять, ну, значит, мы и пошли и все видели.
— Люди добрые, что там творилось! — Ондро не терпелось вставить слово.
— Не перебивай! Шли мы ой как осторожно. Шли целой колонной. А над нами такой немецкий самолетик. Как ласточка.
— Это «шторх»[45] был, — со знанием дела заметил Ондро.
— Черта лысого «шторх»! Кружил все время над нами. И стращать пробовал. Однако, слава те господи, обошлось.
— А сколько народу шло! — перебил брата Ондро. — Что солдат, что гражданских! И всюду до черта флагов, словацких и чешских, да и русских, красных, а то были и международные. Флаг на флаге, а за каждым флагом опять же флаг, и потом еще трехцветные, сплошняком трехцветные, скажи, Куба, было так?
— Было. — Якуб подтвердил. — Совсем как на процессии.
— Будто на богомолье, — снова вмешался Ондро. — Ей-богу! Вот бы вам видеть!
— Вы и в Бистрице были? — спросил мастер.
— Да ведь мы и шли в Бистрицу. И там были. — Ондро не дал себя перебить. — Ох там, и было! Все там были. Весь народ там был, а еще и чехи. Да и русские, и еще кто хочешь, а флагов этих!.. Честное слово, столько флагов вы в жизни не видели!
— А про Имро ничего? Ничего не слыхали? — спросил мастер, да и Вильма хотела спросить о том же.
— Среди такого многолюдства? Где его увидишь? Где его услышишь? Да вы не тревожьтесь, — успокаивал их Якуб, — он тоже вот-вот заявится! Глядишь, завтра либо послезавтра. На худой конец через неделю. Через неделю уж точно тут будет.
— И по городу, по Бистрице, — не унимался Ондро, — взад-вперед машины! Ой, братцы, ну и машин там было! И на каждой — пулемет, за пулеметом — цыган, ей-богу, эдакий цыганище! В людей целился.
— Ври да не завирайся! — прикрикнул на него Якуб. — Может, они были просто загорелые. Цыган я там, пожалуй, вовсе не видел.
— Загорелые-то были, конечно. Только за теми пулеметами были еще более загорелые.
— А один наш командир, — Якуб опять взял слово, — молодой такой поручик, он просто обмирал от восторга и только все говорил нам: ну, ребята, понимаете, до чего тут здорово, до чего здорово! А потом первый же и драпанул, хотя и офицер был.
— А воевали где? — спросил мастер.
— Может, где и воевали, — сказал Якуб. — А мы только все собирались. Потом нас передвинули, однако и там ничего не было, хотя и ожидали всякого. Но ребята по одному, по двое разбегались, так как нам сказали, что мы уже не словацкая, а чехословацкая армия, а это казалось некоторым малость подозрительным, ненадежным. Поэтому и мы драпанули. А где-то наверняка, наверняка воевали.
Мастер шмыгнул, хотя, может, особой нужды в этом не было, потом утер нос и презрительно проворчал: — Хороши вояки!
— А что нам было делать? Кто с немцами, с подлюгами, воевать станет? Конечно, кто хотел, мог воевать, кому охота, пускай дерется.
— А Имро разве не дерется? — Мастеру хотелось как-нибудь похвалить Имро. — Имро ушел с мужиками, а теперь у них за командира. Да ведь вы знаете, люди вам говорили. Уж раз вы там были, могли хотя бы о нем спросить.
— Да разве там спросишь? Тата, ты и вообразить не можешь, что там было.
— Отчего ж не могу?! Но лучше не буду. А все ж таки спросить, спросить вы могли.
Вильма вздохнула: — В самом деле, спросить о нем вы могли!
— Ну и чудные вы, ей-богу. — Якуб качал головой. — Ведь и то удача, что нас определили с Ондро в одну и ту же казарму. И когда потом понадобилось, мы смогли с ним столковаться и решить — и улизнуть смогли, вот потому мы тут. Был бы с нами Имро, мы бы и его позвали. Но увидите, он вот-вот явится. Через неделю, не позже. А хоть и через десять дней! Через десять дней он наверняка будет тут.
— Ох, хорошо бы! — вздохнула Вильма.
4
Проходил день за днем, прошла и неделя, об Имро — ни слуху ни духу. И хуже всего, что Вильму некому было даже утешить. Мастер, как мы говорили, хоть и утешал Вильму, но пользы особой от этого не было: поначалу утешал тем, что без устали ворчал на Имро, а теперь и ворчания поубавилось, из чего можно было заключить, что и он все сильней тревожится за сына. Понапрасну ей было идти и к матери — там была Агнешка, которая считала себя еще несчастнее и потому все больше плакалась, а мать усердно помогала ей. До сих пор они ничего не знали о Штефане. Несколько раз отправлялись в магазин, пробовали дозвониться в Главное жандармское управление, но, видимо, телефон там был отключен или испорчен — они ничего не добились. Агнешка все больше приходила в отчаяние, под конец даже сон потеряла, ночи напролет ходила по дому и душила в себе рыдания, чтобы не разбудить маленькую Зузу; да и чтоб мать не прознала, как велико ее горе.
Но мать и без того все знала. Не раз и на улице рассказывала соседям, что старшая дочка ждет ребятенка и вот с этим-то ребятенком что ни ночь ходит вся в слезах по дому, и оттого она сама, давно брошенная женщина, вырастившая двух дочек-сироток, встает к этой сиротинке, обнимает ее за плечи и причитает: «Голубушка ты моя, бедная-разнесчастная, так ты не только на дню, ты еще по ночам убиваешься?»
А утром, боже, каждое утро приходит к ним Вильма, хотя со своей печалью ей бы лучше где притаиться, приходит поплакаться, приходит со своей печалью, потому что хочет, горемыка и такая же сирота, своей печалью их в печали утешить.
Вот и попробуй-ка, человек сторонний, если ты на все смотришь вчуже и семью как следует не знаешь, попробуй-ка помочь или сказать что-нибудь путное этим несчастным бабонькам! Хоть у людей и найдется слово, да не для каждого оно годится! Так как же этим, да и другим, многим-многим другим бабонькам совладать с горем?
У Агнешки сдают нервы, и однажды, хотя у них в доме был мастер, она ударилась в слезы, да так, что и слушать было невмочь. И еще криком кричала: — Я должна пойти туда, я должна пойти туда! Я должна пойти туда, хоть поглядеть!
Мать заойкала, и маленькая Зузка — она еще совсем ребенок, и впрямь совсем ребенок, хоть и девчонка, а все равно несмышленая, еще и в школу не ходит, но для плача она уже достаточно умная, очень умная, особенно когда видит, что не только мать, а и бабка ойкает, и у Вильмы, ага, у тети Вильмы тоже на глазах слезы, — маленькая Зузка, Зузочка, в эту минуту, диво ли, тоже расплакалась, потому что и у нее есть причина. Ей-богу, эта маленькая девчушка и та чувствует, что у нее может быть причина и что мать, даже, скорей, пожалуй, бабушка (собственной матери, ох, не всегда служит голос) может сказать ей, что она уже сирота либо в один прекрасный день может стать ею. Ну разве такому ребенку не из-за чего плакать? Разве не может он со своей мамой или бабкой уже наперед поплакать? И разве у этой бабки, у которой в жизни было столько страданий и горя, а теперь она видит, что на нее надвигаются новые беды, нет причины поплакать? Иной раз человеку так хочется плакать, что он позавидует и лютому зверю!
И все-таки внучку надо прижать к себе, а дочку утешить. Мать должна это сделать. Будь она даже слабой, пусть совсем слабой, но мать всегда должна найти силы для этого. Она должна найти силы для утешения. А бабка должна собрать их в себе еще больше, по меньшей мере на два утешения, ведь если мать хотела иметь дочку, то должна была еще тогда, когда сама была дочкой, должна была и о внучке или о внуке думать. Но как подчас это трудно! Иной раз у человека недостает сил даже в самом начале, а ведь потом, когда у него уже дети и когда у него всего становится меньше и меньше, ему приходится давать больше.
И все-таки она утешает! Если не иначе, то хотя бы заохает, а то, может, скажет: «Ох, доченька моя, прошу тебя, опомнись! Не убивайся так страшно, ведь тут и помешаться недолго!»
— Но я должна пойти туда, — без устали твердила Агнешка, — я правда должна туда пойти, если даже случится и погибнуть дорогой!
— Боже милостивый, ты уж, видать, и впрямь помешалась! — ужаснулась мать. — Куда ты наладилась? Что ты только в ум забрала?! И думать не смей! И думать не смей, доченька моя!
— Если хочешь, я пойду, — предложила Вильма. — Не переживай, Агнешка! Если хочешь, я туда пойду. Ведь и у меня беда, я охотно тебе помогу. А если по пути туда либо назад мне повезет малость, может, я и про Имро, про Имришко что-нибудь узнаю.
— Никуда вы не пойдете! — вмешался мастер. Он сперва посмотрел на Вильму, потом на ее мать. Агнешку нарочно обошел взглядом. — Куда вас несет, вы же не знаете даже, куда идти! А и знали бы, может, вообще туда не дошли бы. А ты тем более! — Он поглядел на Агнешку. — Тебе только этого сейчас не хватает! Ну как по дороге рассыплешься? Выждать надо! Неделя есть неделя, это всего лишь семь дней, а месяц тоже из обычных дней и недель складывается! Возможно, где и впрямь неполадки с телефоном, а нам из-за этого сразу в панику впадать? Придет кто — бывает, что и дурак, — починит телефон, а мы и рот до ушей, мы, поди, и теперь посмеемся, сперва, правда, только в телефон, потому как сразу Имришко со Штефаном не увидим. А после и увидим. Нельзя все мерить на дни и часы. Иной раз и неделя может нас обмануть. Однако над ней есть месяц, и, может, он на то и существует, чтобы образумить неделю, а то и две. Кто не доверяет неделе, должен положиться на месяц. К доверчивым людям месяц всегда бывает добрым. Хотя и не всякий. Не может всякий месяц всем людям сразу все дать. Ведь иному и впрямь достаточно одного телефона. А месяц не торопится, он найдет время и для шутки и заместо телефона поднесет нам письмо. Ей-богу, мои милые, мне не до смеха, но все ж таки знаю, что иной месяц умеет людям понравиться, когда и посмеется с ними, когда и письмо подбросит. Бывает и совсем, обыкновенный день, а маленькая обыкновенная минута в нем дороже сотни крон, а то и вовсе нет ей цены — давайте-ка подождем такой день, такую минуту! Мои милые, ведь я теперь родня вам и обманывать не могу! Вот вам крест, если не придет письмо, соберусь и пойду куда надо. Пойду к Штефану, а по дороге спрошу и про Имро. А там, глядишь, сыночку моему, ежели мы и впрямь встретимся, какая оплеуха и достанется.
— Ох, да ведь у тебя не все дома! — перебила его Вильмина и Агнешкина мать. Сперва слова мастера пришлись ей по сердцу, но ей казалось, что он уже начинает заговариваться. Она всегда считала его малость трёхнутым и теперь снова об этом подумала. — Псих ты был, психом и останешься, хотя иной раз и бываешь чуточку прав!
— Чуточку прав! — Гульдан не рассердился, но и не дал сбить себя с толку. — Может, ты и верно подметила. Зернышко к зернышку, маковинка к маковинке, обождем еще несколько дней, чтобы достало на маковку!
5
И они стали ждать. Что было делать? Но мастеру и при этом каждый день приходилось убеждать Вильму, что нет смысла, даже просто бессмысленно идти куда-то вслепую.
— Да ведь не вслепую. — Вильма в свой черед убеждала его. — Речь-то о Штефане! О моем свояке, Агнешкином муже. Что касается меня, то я думаю и о нашем Имришко!
— Вильмушка, я хорошо это знаю. Но все равно надо подождать, ты всегда умела ждать.
— И теперь умею. Только что, если Штефан нас ждет? Что, если и Имришко ждет? Хоть они и в разных местах, но Штефан, может, и знает что-нибудь о нашем Имришко.
— Жандарм может знать. Он еще кое-что может. И знать, и сделать. Но ежели жандарм ждет, не будем все-таки торопиться к нему.
— Ведь это наша обязанность.
— А у него ее нет?
— И у него есть. Но с ним могло что-то случиться.
— С жандармом-то?
— Со Штефаном.
— А ну тебя! Жандарм может только поскользнуться. Может, он и поскользнулся, когда кого-нибудь хлестал по морде или, может, когда какого партизана, а то и нашего Имро, жахнул обушком по голове.
— Надо пойти туда!
— Сперва оттуда — сюда.
— Но ведь он не может.
— А думаешь, мы можем? Надо пока обождать. Хоть несколько дней. Хотя бы письма.
— Господи, а я разве не жду? Агнешка, что ли, не ждет? Да она уже изождалась вся! А где оно, ну где?! Где это письмо?!
— Я, что ли, должен знать? Пускай и она пишет.
— Да она только это и делает. Целыми днями пишет и целыми днями ждет. А мы тревожимся еще и о нашем Имришко.
— И о нем. Этот нам и впрямь задурил голову. Ну стоит ли сейчас куда-то налаживаться? Куда и зачем?! Ведь у нас сейчас сумасшедший дом! Стоит ли нынче куда-то бежать и искать того, кого даже письмо не находит, хотя оно и для жандарма? Пусть жандарм сперва наведет порядок! Тьфу ты пропасть, ведь он для того и поставлен! И он не один, не только ведь наш Штефан, есть и какие-то жандармские участки, даже управление. И он как раз там работает. Неужто жандармы и жандармское управление не могут защитить даже своего человека? Неужто, черт подери, если кто и откинет копыта, не найдется денег на письмо? На письмо или хотя бы на открытку с маркой для подчиненного, для товарища и для его горемычной жены?! Болтают: «За бога — народ и за народ — свободу»![46] Чихать на народ, чихать на свободу, раз тут даже свой человек, свой солдат, свой жандарм не может порядок навести, когда подлецу супротив подлецов приходит на помощь чужой, еще больший, считай наиподлейший, подлец! Какой это порядок? Какая это свобода? Чего болтать о свободе, когда денег нет на письмо, когда порядочному свободному человеку некому открытку бросить? И отец не может пойти поддать собственному сыну под зад, а тот в свой черед не может, не умеет либо не хочет отцу написать, что у него зад свербит. Чихал я на свободу! Дурак свободен и без нее. Тот, кто хочет быть свободным, должен дисциплине сперва научиться. А где тут дисциплина? Сам себя и лупцуй, болван стоеросовый! А жандарм — стой навытяжку! Стой смирно сам перед собой и любуйся своей униформой. Тьфу ты пропасть, и это народ! Душат друг друга и еще других подлецов на себя науськивают. Да, тут уж, тут уж и впрямь можно только на бога надеяться!
— А я и надеюсь. — Вильма хотела словно бы умерить тоску и горечь мастера, как, впрочем, и закипавшую в нем злость. — Каждый день молюсь за Имришко и за Штефана. Ничего другого мне не осталось. А больше всего убиваюсь, что на нашем Имришко и одежки путной не было. Хоть бы взял какое белье или что потеплее…
— Ты только не бойся! — Мастер махнул рукой. — Кровь у него густая. Мне его не жалко. Паршивец эдакий! Хотел было за него помолиться, да ничего у меня не получилось. Мы с отцом небесным чуть было в волосы не вцепились друг другу! Но господь бог господь и есть, и хоть не очень, а надеяться на него все же надо…
6
В Околичное пришла немецкая автоколонна. Она уже несколько раз проходила через деревню, словно хотела лишь постращать людей, но на сей раз остановилась.
Что это может означать? Почему эти машины так долго стоят здесь? И чего эти молодчики на них и вокруг них так живо и весело воркуют? Уж не собираются ли они здесь остаться?!
Именно так! Они собираются здесь остаться! Им у нас понравилось. Оттого эти молодчики такие веселые, оттого так воркуют.
Мастер пугается: — Плохо дело, девка! — говорит он Вильме. — А ну как нам определят на постой какого приятеля. Эти парни прямые как струна. Только когда я вижу струну в форме, мне всегда немножечко боязно.
— Что мне до них?! — Вильма лишь плечом поводит и на мгновение складывает губы в гримасу. Потом вздыхает: — Я только за Имришко боюсь.
А мастер: — Разве я о другом говорю? И я ведь о нем думаю! Что, если к нам кого пошлют? И если вот такой струнке что-нибудь нашепчут о нас?! Потом она кой о чем может нас и спросить.
— И то правда! Все же надо было нам к нашему Имришко идти!
— Куда идти, девка, скажи?!
— Хоть к Штефану. Может, Штефан нам что сказал бы.
— Штефан ничего не знает. Остается только надеяться. А струнок этих я точно побаиваюсь.
7
То была небольшая колонна. Несколько машин, две здоровые пушки, с одной, правда, что-то стряслось, затем полевая кухня и на одной машине четырехствольный пулемет. Счетверенный! Ах да, еще две цистерны, скорей всего с бензином, а может, и с капустным рассолом, поскольку из одной немцы что-то пили.
И солдат, то бишь этих струнок, в действительности было не столько, сколько спервоначалу казалось. Расселившись по домам, они затерялись в деревне, будто и нет их. Командиром был рыжий обер-лейтенант, и звался он Мишке. Мастеру довелось с ним познакомиться, так как Мишке жил неподалеку, а кроме того, в тот двор, где командир обосновался, мастер ходил что-то отделывать. Ну скажем, хлев…
И они разговорились. Поначалу это была потешная мешанина, однако порой казалось, что они понимают друг друга. Немец, пожалуй, мастеру доверял; они даже сыграли в карты, а потом руку друг другу подали. И немец представился: — Мишке.
— Мишке? — Мастер улыбнулся. — Mein Herr[47], так они Мишке? Вроде как Мишко! Нет, не мой Мишко, у меня нет Мишко. Меня зовут Гульдан.
А теперь улыбнулся немец и несколько раз повторил имя мастера, чтобы ненароком его не забыть.
Говорили о разном. В самом деле, о разном. И о войне. Потом обер-лейтенант сказал: — Яйка.
И мастер снова улыбнулся. — Яйка! Ты знаешь, что есть яйка. Ты, значит, побывал и в России?! O, mein Herr, а почему ты сказал именно «яйка»?
— Ja, ja[48], яйка! — повторил немец.
— Ах, вы хотите яйка! Mein Herr захотел яйка. Знаете что, пан Мишке? Ведь вы почти что Мишко, пошли со мной, дома я вам какое-никакое яичко найду, хотя уже осень и времена похужели, вот курицы и не очень-то кладут яйки. Но для вас какое-никакое яйко дома найдется.
Так и получилось. Мастер дал обер-лейтенанту не одно, а целых шесть яиц. «Вот тебе, друг любезный! Интересно, когда ты мне их вернешь? Я Гульдан, а к тому еще и мастер и, ежели захочу, найду дома яйко для каждого, ну стало быть, и для немца. А русский придет — тоже яичко получит. А кабы он мне домой Имро привел, пожалуй, и глоток сливяночки получил бы».
8
А вечером, собираясь спать, мастер заглянул в Вильмину горницу, постоял немного в дверях и сказал: — Надеюсь, этот Мишке, этот рыжий командир, раз я дал ему яйка, надеюсь, теперь уж он меня не повесит!
9
А спустя несколько дней — ура! — пришло письмо от Штефана. Он извещал Агнешку, что жив-здоров, что ему, мол, не грозит никакая опасность. В то же время просил извинения, что не отозвался раньше, не было, дескать, возможностей, причины объяснит позднее.
Агнешка вся переполнилась гордостью, никак не могла скрыть своей радости. Огорчало ее лишь одно: письмо было очень короткое. Но кое до чего можно было и додуматься, ведь женщины, и, разумеется, Агнешка, слушали радио, знали уже многое из газет, из пересудов соседей, а главное — из разговоров мастера.
Мастер, выходит, был прав! Теперь он наверняка почувствует себя на коне. Разве не твердил он им непрестанно, что надо подождать, что человек должен быть крепок терпением? Жаль только, Вильма не получила ничего утешительного! Ну что ж, получит попозже! Придется ей еще чуть подождать подобной радостной вести!
— Ничего, Вильмушка! — утешала ее Агнешка. — Вот увидишь, и Имро отзовется. Боже, какая я счастливая! Теперь буду поспокойней. Нарадоваться не могу, что все в порядке, что Штефан жив. И спать буду спокойно. Не мучайся, Вильмушка! И ты спи спокойно. Имро непременно отзовется.
Вильма разделила сестрину радость. Еще придя домой, была весела, и глаза ее сияли. — Агнешка получила письмо от Штефана. Вот уж десять дней, как послал его, а пришло только нынче. Верно, застряло где-то на почте.
— Правда? — обрадовался и мастер. — Видишь, что я тебе говорил? Ясное дело, застряло на почте, — поддакнул он ей. — Почтарь есть почтарь! Чуть какая суматоха — сразу все стопорится. Да и почтари вносят сумятицу. Может, и Имрово письмо где застряло. Может, какой олух носит его в почтарской сумке или мешке.
— А удивительнее всего, — продолжала Вильма, — что письмо было послано не из Штубнианских Теплиц, а из Святого Антола.
— Из Святого Антола? Что так? Штефан не объяснил? А впрочем, что тут удивительного? Ведь он жандарм! И должен наводить порядок там, куда его пошлют. А кстати, где он, этот самый Святой Антол?
— Не знаю, и Агнешка не знает.
— И она не знает? Ну главное, что написал. Раз написал из Святого Антола, значит, есть такая деревня. И увидишь, наш Имро тоже напишет, если уже не написал. Оно понятно, в такие-то поры все тянется медленнее, а почтари и нарочно все затягивают. Которые письма проходят еще и проверку. Цензуру! А к чему она, цензура?! Чего у нас либо у нашего Имро проверять?! Однако и такое возможно, что Имро специально не пишет, чтобы, чего доброго, письмом не навредить нам, не наделать неприятностей.
— Каких неприятностей? Родным-то каждый может писать!
— Так, да не так. Мы уже о том, девка, толковали. Война есть война! Каждому теперь надобно осторожничать. И мы должны быть довольны уж тем, что про нашего Имро никто хотя бы не спрашивает.
— Как так не спрашивает?
— Да так, как говорю. А что, ежели пан командир Мишке однажды придет к нам и спросит: где ваш Имро?
— Зачем ему спрашивать?
— Потому что он Мишке. Немец есть немец, и Мишке про Имро может спросить.
— Было б ужасно!
— Что ж тут ужасного? Ты, Вильмушка, только не плачь, беспременно письмо от нашего Имришко какой-нибудь дуралей уже носит в своей почтарской сумке!
10
И еще в тот же день — мастер тем временем заскочил в корчму выпить пива — она пошла в сад, хотя уже мало-помалу смеркалось, хотела еще чего-то поделать или просто нарвать букет астр, но, позабывшись, задержалась там, должно быть, потому, что все пережитое за день вдруг в ней опрокинулось как-то, и радость от Штефанова письма перестала быть радостью, сменилась печалью. Господи, это ведь только Агнешкина радость, и я от души желаю ей этого, но о моем Имришко я же по-прежнему ничего не знаю!
И вдруг заплакала. Сначала потихоньку; сперва только хлынули слезы, она пыталась их побороть, но печаль поднималась в ней все новой и новой волной и гнала к глазам все новые потоки слез, они текли по щекам, и она, обессилев вконец и уже не сопротивляясь, расплакалась навзрыд и потом все плакала, плакала и плакала…
Вдруг она заметила, что за низким дощатым забором стоит кто-то и смотрит на нее.
То был соседский мальчонка Рудко. Да, это был я. Хотите, можете звать меня Рудко, правда, теперь я уже гораздо старше и едва ли заслуживаю такого ласкового обращения. А тогда я и правда был Рудко, что поделаешь?
Рудко пригнулся. Он не обрадовался тому, что Вильма его заметила. Но и бежать не хотел. Какое-то время стоял в растерянности, потом осмелел и потихоньку выпрямился. Подождав чуть, спросил: — Вильма, ты почему плачешь?
Она уловила в его голосе сочувствие. Попыталась побороть печаль и, хоть сразу не смогла, рыдания все-таки приглушила и уже не плакала в голос, а потом и вовсе перестала, только слезы катились по щекам да грудь чуть шумнее дышала. Вскоре она совсем успокоилась, подошла к забору и погладила мальчонку по голове. — Ты что тут делаешь, Рудко?
А мальчонке и сказать нечего, ведь как-никак его застигли врасплох. Вильмина ласка сбила его с толку, он и не знает, как понять ее. Может, она вздумала ответить сочувствием на сочувствие? Но он же этого не просил у нее.
— Вильма, можно мне зайти к вам? — спрашивает он.
Вильма удивляется: — К нам? А зачем? Чего ты у нас не видал?
— Хочу поглядеть на платье.
Она смотрит на него и, хотя глаза ее полны слез, невольно улыбается. — На платье? А на какое?
— Ну на голубое, разве не знаешь?
— Не знаю. Да у меня и голубого платья-то нет. Не знаю, Рудко, честное слово, не знаю.
Они глядят друг на друга. Мальчонка не отступается: — У тебя есть голубое платье. Я помню его.
— Да которое? Правда, не знаю. — Вильма не перестает удивляться. — Боже, ну и глупенький! Нет у меня такого платья.
Потом она протягивает руки, берет мальчика под мышки, высоко подымает его и через забор перетаскивает к себе в сад, — Рудко, золотой ты мой, про какое платье ты говоришь?
— Да про то, голубое.
— Я, ей-богу, не знаю. — Вильма пытается припомнить. — Такое синее?
— Нет, то голубое.
— Тогда какое? Ведь у меня не так уж много платьев.
Мальчонка поначалу огорчается, что Вильма такая забывчивая. Потом замечает, а может, он еще раньше заметил, что в саду у Гульданов растут не только цветы, но и всякие овощи — морковь и петрушку пора, пожалуй, и выкопать, — есть тут и помидоры, много помидоров. Они заинтересовали его больше всего. — Вильма, дай мне помидор.
— Помидор захотелось? Сорви себе, их тут вдосталь.
Мальчонка озирается, но выбрать не может. Он полагается на Вильму, но не забывает предупредить ее: — Но я хочу самый большой.
Вильма ходит с минуту взад-вперед, никак не может отыскать самый большой помидор. Наконец ей удается выбрать действительно большой и зрелый, она дает помидор мальчику и говорит: — Можешь нарвать, сколько хочешь.
Мальчонка доволен. С аппетитом ест помидор, но вскоре обнаруживает, что он чересчур велик для него. — Вильма, а ты мне не поможешь? Я хочу и маленький такой попробовать.
— Помогу тебе, конечно. Выбери, какой нравится!
— Я люблю выбирать. — Мальчонка с удовольствием выбирает. Но и маленький помидор остается несъеденным.
— Вот видишь! Ты даже этого не доел! — улыбается Вильма. Потом спрашивает: — Заметно, что я плакала?
Мальчонка мнется с ответом, но говорит правду: — У тебя немного покраснели глаза.
— Очень? — спрашивает Вильма.
Мальчик задумывается, а потом говорит: — Не очень. Но все-таки видно.
Вильма проводит ладонью по глазам, другой рукой опять гладит мальчика. — Боже, какой ты золотенький! Подождем тут немножко.
— Зачем, Вильма? Я ведь и так знаю, почему ты плакала. Ты по Имришко скучаешь, правда?
— Мальчик мой, лучше не говори мне про это! О каком же платье ты думал?
— Ну о том, голубом.
— О каком голубом?
— Да ты знаешь, Вильма. Как-то раз, когда ты шла из магазина, наша мама аккурат мазала улицу в голубой и только все плакала, потому что перед корчмой сидели на телегах призывники, и у всех были пестрые ленточки, и наш Би́денко призывался, ну помнишь? И я тогда долго так бежал за телегой, а дядя Берто все хлестал и хлестал лошадей, потом и мне стало грустно. Ведь тогда призвали и нашего Биденко. А мама все плакала и плакала и красила в голубой эту улицу, а ты еще не была ни Имришковой женой, ни нашей соседкой, дяденька Гульдан с Имришко тогда только дом ремонтировали. А я так бежал за этой телегой! А дядя Берто нарочно гнал лошадей, и гнал их аж до самой России, поэтому наша мама плакала и мазала эту улицу, ведь было это перед самым храмовым праздником, и карусель была, и шатры, а ты так долго тогда стояла на дороге и сказала нашей маме: «Ой, тетенька, как же бледнехонько у вас получается!» Я тогда за Бертовой телегой нарочно бежал, а наш Биденко уже не видел меня, даже не кивнул мне, ведь мне только потому было грустно. А когда я воротился, на тебе было такое голубое платье.
— Мальчик мой золотой, которое?! Ей-богу, не знаю. Я, должно быть, не помню то платье.
— Ну то, голубое, голубое! С белым воротничком.
— Ах, с белым воротничком! Ну знаю, золотой мой, так ты еще его помнишь?
— Ведь тогда нашего Биденко призвали. Аж до самой России. А теперь все в один голос: пал, пал! Ведь он совсем не пал, правда, Вильмушка? И ваш Имришко тоже, наверное, скоро вернется.
— Ах ты бедняжечка! Пойдем, я тебе голубое платье покажу!
11
Она привела его в кухню, усадила за стол, а потом пошла искать платье, но так и не нашла его. — Господи, а его у меня здесь нету! Нету, потому что его уже не ношу. Выросла из него.
— Не ищи его.
— Но я хотела его найти. Как я обрадовалась, что ты о нем вспомнил. Я его еще найду. Надо будет маме сказать. Ладно, я покажу тебе его в другой раз.
Потом она угостила его творожным пирогом.
Мальчонка ел и, чтобы не казалось, что он получил пирог задаром, без устали умничал. — Вильма, ведь вы могли бы написать вашему Имришко?
— Ой, глупенький ты мой, а куда? Кабы я знала, где он, давно бы ему написала.
— Я бы все равно ему написал.
— А куда?
— Хоть куда. Я и нашему Биденко писал. Писал я ему и после того, как он пал, но мама мне запретила. Но я ему написал и без разрешения. Ведь люди могут и ошибиться. Что, если вместо нашего Биденко пал кто другой? И вдруг в один прекрасный день возьмет он негаданно и придет сюда из России, и все будут только дивиться. Я бы и вашему Имришко написал.
— Боже мой, да куда ж писать, если я адреса не знаю?
— А может, кто и знает Имришко. Я бы послал письмо и без адреса. Разве одного имени мало?
— Мало. И с адресом письма теперь ходят медленно. Но он, Имришко, тоже должен бы о том знать. И вправду, мог бы уже отозваться.
— Увидишь, отзовется. Вильма, а если он принесет потом что-нибудь? Мне тоже дашь?
— Конечно, дам.
ТАБАК
1
Вы и представить не можете, какая бывает цена табаку!
И самому обыкновенному табаку, что сушился в обыкновенной сушильне и не успел даже порядком подсохнуть — вот и не понадобилось держать его ни на пару, ни в настое, как, бывало, делали наши отцы и деды, у которых сроду не водилась деньга на табак, а тем паче на сигарету, и потому тайком в уголке сада выращивали они несколько корешков, что тянулись вверх и цвели прекрасным пахучим цветом, и отламывали от них по два, по три листа, чтоб было на курево.
Помните? Сперва табаку было восемь, а потом всего семь мешков, но и из тех удалось сохранить только один. Кому-то может казаться, что об этом вообще ни к чему вспоминать, тем более что мы уже знаем, когда и при каких обстоятельствах сохранился этот мешок. Но самое удивительное, что кто-то вообще думал о мешке с табаком в минуты, когда речь шла о жизни — его и товарищей.
Был то церовский причетник. Но можно ли его в этом упрекать? Можно ли упрекать его в том, что, пока другие спасали свою жизнь — не всем, правда, посчастливилось, — он сам спасся, да еще и мешок успел подхватить?
Нет, упрекать его в этом нельзя. И уж хотя бы потому нельзя, что сам он был некурящий и подхватил мешок вовсе не для себя, да и торговать табаком не собирался. Просто взял мешок, взял его для других, которым табак может позже понадобиться. Ведь есть же на свете люди, которым табак в самом деле позарез нужен, иной раз им даже может казаться, что табак им настолько нужен, что за него они отдали бы по меньшей мере десятую, а то и пятую часть жизни, однако чаще всего оно потому — и это естественно, — что у них есть эта жизнь и они понять не хотят или, может, слишком хорошо понимают, что покуда жизнь является жизнью, то и самая убогая жизнь и даже пятая или десятая часть несчастной или самой разнесчастной жизни есть всегда целая жизнь, всегда целая жизнь настоящей, большой, целой, живой жизни.
Причетник об этом не думал. Недосуг ему было тогда думать об этом. Но это было в нем. При надобности оно всегда оказывалось в нем. Поэтому и тогда, соскакивая с машины, он подхватил мешок и затем под обстрелом пересек с ним клеверище, потом кукурузу, нес его и тогда, когда решили продолжать путь, и ни на миг не показалось ему, что это дело пустое или что мешок должен нести кто-то другой.
Причетник был ворчун, он всегда на все ворчал. И мы бы погрешили против истины, скрыв это. Был он, однако, скромный и знал, что такое справедливость. А почему бы скромным и справедливым людям не поворчать? Причетника можно было бы упрекнуть лишь в том, что ворчал он чересчур часто. А может, ворчал лишь потому, что к этому принуждала его собственная скромность и справедливость, он злился на себя, но злился и на других, в которых скромности и справедливости не находил.
Когда они встретились с отрядом, когда уже влились в него, командир решил отобрать у причетника мешок с табаком. Воинский порядок требовал этого. Все, что было в отряде, принадлежало всем. Однако причетник, возможно потому, что еще прежде познал множество самых разных порядков и беспорядков и знал даже то, что порядки-беспорядки придумывают люди, не пожелал мешок отдавать. Дело дошло до конфликта: командир возмутился и, казалось, готов был принять строгие меры, как и полагается командиру, но он был умным человеком, умным командиром и даже в возмущении не забыл, что, прежде чем причетника наказать, надо его сперва как следует выспросить.
Однако возмутился и причетник. Ребята только глаза таращили. Боялись за причетника. Диву давались, как много он себе позволяет.
— Черт возьми, пан командир, — кричал причетник, и было ему все равно, пристрелят его или нет, — вы еще не так-то долго мой командир, чтобы мне вас бояться. Коль вы мне не верите, ну и слава богу! Значит, и я не обязан вам верить. Думаете, дома некому было меня исповедовать? Стреляйте в меня, если вам будет легче, только потом о моей ребятне позаботьтесь! Я небось не мальчишка, если хотите, сразу уйду, хотя пришел сюда издалека, однако хочу упредить, что пришел сюда по собственной воле. Могу послушать, а могу и не послушать, так как я солдат еще с первой войны, я сказал вам об этом в самом начале, и, если будет охота, могу своему командиру и нос натянуть, я еще в ту войну этому научился.
— Молчать! — приказал командир.
— Буду молчать, но сперва вы должны меня выслушать.
— Молчать! Вам что, непонятно? Я не желаю вас слушать.
— Придется выслушать! Ведь вы командир. Это ваша обязанность. Настоящий командир должен знать своего солдата. А вы меня знаете? Откуда вам меня знать? Ведь я тут не очень-то и давно. Да и я вас не знаю, но, говорю же, пришел сюда по доброй воле, и вы, должно быть, тоже: на вас нет ни формы, ни знаков различия. Доброволец добровольца должен выслушать. У меня дома семеро ребятишек, не знаю, может, и у вас какие имеются, пожалуй, что да, но особо вдаваться в это мне ни к чему, ведь вы уже сердитесь, видать по вас, и, как командир, могли бы еще сильной рассердиться, а потом со мной по-всякому разделаться, право, по-всякому, только я ведь в одной увольнительной в первую войну был столько, сколько вы во вторую — солдатом. Прикажите меня расстрелять! Прикажите старика и солдата-добровольца расстрелять! Но за что, пан командир?! За то, что я солдат? Я был курильщик, когда вы еще не курили, но еще в первую войну бросил курить, потому что пришлось горе мыкать и именно тогда я понял, что значит для человека курево. Пан командир, оттого я теперь и не курю. Но обратите внимание! Пан командир, хоть вы и пан командир, а я опять же некурящий…
— Черт подери, довольно! — вскричал командир. — Смирно! Смирно наконец! Приказываю: смирно!
Причетник вытянулся. — Извольте. Есть «смирно». Уже стою навытяжку. А хотите, прикажите меня… Но не забудьте, что я был на первой войне и что я некурящий, хотя и был курящий…
— Молчать, черт подери!
— Молчу, ведь я уже молчу. Молчу, однако я и доброволец…
Командир рассмеялся. — Вы страшный человек! В бога душу! Завтра утром начистите на всех картошки!
— Как вам будет угодно! Есть! — Причетник еще больше вытянулся. — Я знаю, что такое приказ! Есть, завтра картошка! Но мешок этот…
— Дьявольщина, вам что, это еще мало? — качал командир головой. — Добро! Пусть отныне этот мешок будет на вашем попечении, вы за него в ответе!
— Есть! Это тоже приказ! — Причетник застыл в неподвижности. — Табак! Отныне я за табак в ответе!
2
Так оно и вышло. Когда командир понял, кто такой причетник и что он за человек, когда сам уверился в этом, да еще узнал, что причетник не курит, он оставил ему мешок, однако с тем условием, что при надобности именно он, да-да, он, причетник, будет делить табак между людьми.
И командир в причетнике не ошибся.
Причетник действительно делил табак по справедливости, а когда видел, что мешок тощал, без труда добавлял в него — ведь была осень и со многих деревьев слетела пожолклая листва, стоило только набрать из нее и на солнышке подсушить, на ночь укрыть, а на дню опять сушить; когда листья затем смешивались с табаком, мешок снова толстел, и так раз за разом все повторялось. Всегда было что курить.
У ребят было курево и потом, когда погода испортилась, когда солнышко в горах вообще не показывалось, когда целыми днями лило как из ведра или туман расстилался по студеным долинам, когда все, кто был в горах, переживали поистине трудные дни. У причетника хватало курева и тогда. Было что курить.
3
Но постепенно многое менялось. Менялись и люди. Изменился и Имро. И теперь причетник для него уже не причетник, а Якуб. Имро по-другому его и не называет. Он легко привык к этому имени, ведь его старшего, а точнее, самого старшего брата зовут Якуб. Только этот, тутошний, что еще до недавнего времени был причетником, еще старше, он, по сути дела, уже старик, хотя ему нету еще и шестидесяти. Не трус он, но и не очень-то храбрый — таких тут немало. Но зато речист, в самом деле, вечно ворчит, подчас, возможно, и потому, что хочет речами сам себя подбодрить, а может, и других подбодрить. — Имришко, не бойся, только держись меня! Никому не говори ничего, а меня держись! Много ли человек знает?! Даже я не раз ошибался. Люди разные, всяк норовит верх взять, особенно в такие минуты, и сам ты, поди, заметил, что здесь тоже люди разные: лютеране, католики, коммунисты, демократы, такие и эдакие, и набожные, и безбожники! Сперва мы, то есть католики, идем вроде на подмогу правительству, правительство спасать. А потом вместе с лютеранами мы вроде должны правительство скинуть. А по дороге опамятовались, спросили себя: какое же это правительство, если правительство в Братиславе? Только мы уже были в пути и про немцев все уже знали, даже встретились с ними, теперь и впрямь не воротишься, да, бог даст, не пропадем! Нынче-то за коммунистами, за ними, говорят, главное слово. И точно, Имришко, за ними! До сей поры, правда, за ними не было почти никакого, а нынче… Не будь я малость набожным, как бог свят, и я бы стал коммунистом! Однако, парень, надо бы нам, не только нам двоим, а всем вместе держаться — лютеранам с католиками, коммунистам с не коммунистами, униформам с не униформами — словом, людям с людьми. Бывает, что иначе и невозможно! Только у нас все может повернуться и так, и эдак. Но ты меня держись, и сейчас держись! Охо-хо, нынче-то нас как порасставили! Что опять-то будет? Сегодня, похоже, нешуточное затевается! Наверняка опять с немцами встретимся. Ведь ежели хотели бы только постращать какого-то словацкого мельника или корчмаря, навряд ли бы так к делу готовились! А ты рядом шагай! Если ненароком что и… Честное слово, Имро! Только не бойся, держись рядом, стало быть, опять за дело!..
4
И потом всякий раз, когда какая-нибудь опасность была уже позади — то ли они удачливо из нее выкарабкивались, то ли как-то удавалось ее обойти, — причетник радовался, как малый ребенок. — Ух, пронесло! Ей-богу, Имришко, ты держался молодцом! Увидишь, как приду домой, скажу твоему отцу: Гульдан, слушай, хоть ты и мастер и сын твой у тебя в подмастерьях, однако и он мастер, он был всегда рядом и держался молодцом! Так, Имришко, так! Нынче туго пришлось, ты сам видел. Я-то уж не раз бывал в переделках! Если надумаешь отцу рассказать, я подтвержу, Имришко! Как же не подтвердить, когда и ты про меня все знаешь! Слышь, Имро, когда мы в первый бой шли — тогда еще ничего, мне и винтовка была ни к чему, мозговой кости б хватило, а тот мост через речку, ей-богу, такой-то мост я и теплым пирожком бы взорвал! Эх, где он сейчас, этот теплый пирожок! А второй бой — это уж был настоящий, ей-богу, настоящий бой, ой-ей-ей, еще та работа, грязная работа! Да как гром среди ясного неба, ведь мы все ползли да ползли, и вдруг — хлоп! Двое враз кувырнулись, у остальных в глазах зарябило. Я крикнул: ложись, Имро! И тут пошла кутерьма. Ей-ей, настоящая была кутерьма, автомат у меня едва не заело — так он строчил! Боже ты мой, ведь немчурята эти дергались передо мной, как куклы на ниточках, так и плюхались, что дождевые капли, ох и пришлось же мне потарахтеть, бог свидетель! Не знаю, убил ли кого, но когда уже все кончилось и я попробовал встать, то сразу почуял недоброе. Истинный бог, Имришко, я ведь тогда в штаны наклал! Не сказал я никому ничего, и мне никто ничего, только как быть, ежели мне самому в нос шибало?! Поэтому я и не поднимался тогда! Поднялся, уж когда сказали, что ежели награды дадут, так и я получу. И меня это маленько утешило. Подумал я: ребятишкам покажу! Но грязная то была работа, грязная работа! Не выдавай меня, Имришко!
5
Трудные дни. Непогодье. Провианта нет. Все будто разладилось, и командир знай предупреждает людей, чтобы не вздумали бежать, а то не миновать им кары. Да они и сами бы себя покарали. Если бы кто и удрал с гор, вряд ли бы спасся: никто не знает, что ждет внизу, впереди одно неясное будущее!
Почему командир беспрестанно твердит об этом? Разве другие ничего не видят? К чему эти угрозы? Или уж и он набрался страху? Опасается за себя и за своих людей?
Откуда-то поступали все новые и новые приказы, бывало, еще один не выполнят, а уж другой наготове, зачастую люди не успевали найти или смастерить крышу над головой, а уж снова отправляйся куда-то, и обычно это были долгие, поистине долгие марши, которые изматывали вконец.
Число их постоянно менялось: кто-то вливался, а кто-то уходил на выполнение важного задания и больше не возвращался. Просто исчезал без следа. Может, его постигало несчастье, может, уходил он домой.
А может, и не уходил никуда, просто не мог отыскать своих товарищей, ведь сказано было — группа все чаще переходила с места на место, и людей становилось все меньше и меньше, пока их вообще осталось не более сорока, но и из тех не досчитывались то одного, то другого.
Да, что было, то было, и пусть умник, который там не был, думает об этом что хочет, а если он олух, пусть посмеется, впрочем, смеяться умели и те, кто там был, хотя тогда было в основном не до смеха: сперва все казалось продуманным и шло как положено, все держались и действовали согласно какому-то высшему общему плану, который время от времени приходилось лишь слегка изменить или немного подправить. Но на войне это вполне естественно, иначе, пожалуй, и не бывает.
Вот именно! А если и бывало иначе, рассказчик не хочет и не смеет болтать что попало, забывая о сказанном! Иной раз они натыкались на другой отряд или отрядишко, и, хотя, вероятно, в этих отрядах были такие же люди, как и они — частица и исполнители одного и того же плана, — они недоверчиво косились друг на друга, если пути их, вольно или невольно, пересекались. И такое случалось! Но и это недоверие понятно: как доверять, когда они не знали друг друга, а опыт уже многих научил осторожности.
Сколько раз Имро казалось, что в одном из таких отрядов или отрядишков он увидел знакомого или товарища, он пробовал его даже окликнуть, но тот не отзывался. Очевидно, вышла ошибка.
Но Имро все равно становилось грустно. И всякий раз, когда его охватывала грусть, он так размышлял: это правда был мой знакомый, мой однокашник? Или я ошибся? Господь весть. Со мной уже не раз такое случалось. А может, эти ребята меня не узнали? Или не хотели узнать? Нет, нет, верно, то не они…
Так кто же тогда это был? И где они в самом деле, где теперь все однокашники Имро? Сколько их полегло? Где они полегли? Почему и за что? И почему он не погиб? Почему он об этом раздумывает? Почему раньше не думал об этом? Что делал тогда, когда его ровесников гнали на фронт? Выпивал с ними, и все дела. Почему не воспротивился? Почему не взбунтовался? Почему не подбил и других взбунтоваться и не идти на фронт? Но зачем бы он это делал? Дурак он был бы после этого. Его бы подняли на смех! Разве бы что помогло? Сочли бы его просто дурнем. А может, и без того считали. Почему все не взбунтовались? Он-то рад был радешенек, что его не трогают… Другие поддались на речи, а хоть и нет, все равно шли туда! Кто виноват? Кто был виноват тогда, да и раньше, еще до всего, в самом начале? Но когда и где это начало? Где у этого свинства начало? Кто, ну кто теперь виноват, скажите? Кто был виноват тогда и кто теперь? На чьей совести будет все это свинство, все потерянные, истребленные жизни? Гитлер? Германия? Возможно ли это? Может ли один человек или один народ сотворить столько зла? А если и может, то вынесет ли такое? Вынесет ли такое один человек или один народ? Два или три народа? Едва ли. Что делали остальные? Что делали все? Что делал он? Напивался. Иной раз и делал что-то полезное, конечно же делал, но забывал при этом, что есть еще нечто более полезное, и не только для чьего-то одного желудка, одного рта, для одного человека или даже десятерых. Для всех надо делать. Бывают минуты, когда думать о желудке по меньшей мере неприлично, пожалуй, даже трусливо и отвратительно, а порой — преступно. Имро тоже виноват. Почти все виноваты, один из-за трусости, другой из-за своего обманчивого простодушия, а на самом-то деле — безразличия, другой потому, что не смог отказаться от ничтожной своей смешной славы, какой прикрывал большую или меньшую пустоту или просто глупость, а может, даже свой смрад хотел утаить, но хотел им и попользоваться, потрафляя своей маленькой, однако кичливой и ненасытной душонке или, может, обыкновенной ненасытности, потому что в иных нет ничего, вообще ничего, одна лишь эта ненасытная утроба, поистине ненасытная, а ненасытность — она всегда болезненна, подчас и преступна…
— Имришко, — заговорил с ним церовский причетник, — а куда мы опять идем? Не знаешь?
— Не знаю.
— Мне что-то это не нравится, — ворчал причетник, как обычно, себе под нос. — Иной раз мне сдается, что бродим так просто, на авось. Надо бы нам хоть на короткое время где и сесть-посидеть, ведь так долго не вытянем. Уж и какой конец, поди, должен быть, докуда так будет тянуться? Ведь у меня семья, не знаю, что с ними, кто о них теперь позаботится? И ночи студеные, спать охота, а не могу, холодно, зуб на зуб не попадает, днем и то не согреешься. Прошлой ночью глаз не сомкнул.
— Я заметил. Я тоже все время ворочался, не вышло поспать.
— Знаешь, что я думаю? — Причетник понизил голос — Что-то не заладилось. Кто-то что-то напортил, либо с самого начала нас провели, иначе мы бы так, на авось, не бродили. Сперва все вроде бы ладилось, всюду был порядок. Пусть нам и казалось, что нет сплошного фронта, да ведь мы, обыкновенные люди, особо в таких делах не разбираемся, нам трудно судить, как должно быть, но хоть мы туда-сюда и ходили, а все ж таки в этом был всегда смысл. Ежели какой приказ поступал, мне не надо было ломать над ним голову, я знал, что его нужно выполнить, но теперь подчас мне сдается, что некоторые из этих приказов кто-то проорал нам лишь для того, чтобы нас взбаламутить, чтобы во всех отрядах среди солдат и партизан только поднять переполох.
— Ты уж лучше помалкивай! Как бы не поплатиться за это. Может, тебе только так кажется.
— Нет, Имро, не кажется. Я ведь не маленький. О некоторых вещах я, должно быть, иначе сужу, чем ты. Я заметил, что и другие недовольны. И командиры тоже. Да и я не хотел бы, чтобы меня за нос водили. Обещали еще в самом начале соединиться с русскими, а, как видишь, мы этого пока не дождались, хотя на русских партизан и наталкивались. Почему не соединились с ними? Очень даже удивительно! И командиры беспрестанно ворчат. Солдаты злятся на партизан, партизаны на солдат. Наверняка опять Бенеш к этому руку приложил. Москва, верно, не может договориться с Лондоном, Лондон — с Москвой. Я уж понял, что к чему. А с позавчерашнего дня мне особенно кажется все подозрительным: вы тогда спали на сеновале, а я стоял на посту, пришли связные, точнее, двое пришли, о чем-то толковали с нашим командиром, и тот прямо из себя выходил, а как успокоился, то они между собой маленько и пошутили, не знали, что я слышу. Один из них сказал, что в Бистрице уже ничего нет, командование переехало, но это я уже и без него знал. А потом сказал, что и крупных чинов в командовании поубавилось, а те, что остались, знай бегут да бегут — вот до чего им все обрыдло. А наш командир спрашивает: как же их может быть меньше, когда именно сейчас нас должно быть больше? Где же эти умники из Лондона? А один из парней рассмеялся: пха! Давно поубегали. Наш командир: а куда? Парень снова в смех: ну куда еще? В Лондон.
— Да не может этого быть. — Имро не хотел верить. — Слушай, Якуб, ты это серьезно?
— Конечно, серьезно. Только ты не бойся, парень, нюх у меня хороший. Я и то слыхал, что Бистрица пала почти без единого выстрела. А кому было стрелять, когда все ушли? И мы теперь знай ходим да ходим. Куда теперь с этими несколькими ружьишками?
— Эх, черт, были бы пушки!
— Пушки? А для чего? Разве их не было? Ведь у нас все было. А чего у нас не было, у других было. Что у солдат, что у партизан. И немало. Пушки, лошади, провизия, боеприпасы. Все было. Только и всяких командиров было немало. Может, тут-то и вышла оплошка. Ведь иные чувствовали в себе силу только до тех пор, пока не понадобилось воевать. Хотели лишь повыставляться с ружьем, людей постращать. Немцев теперь все больше и больше, со всех сторон на нас прут. А нас все меньше, нас все убавляется. Прошлой ночью опять двое ушло. Должно, домой. А куда еще? Да и другие задумались. Вижу по ним, хотя и помалкивают. Знаешь, Имришко, у кого дома семья, тот не может не задумываться. Уйти домой? К жене, к детям? Или остаться? И до которых пор оставаться? Что будет с нами? А ежели и уйдешь, что будет с тобой, что будет потом? Ничего с тобой не стрясется? Можно ли верить этим паршивым листовкам, что немцы разбрасывают? Я-то, конечно, немцам не верю. Не хотел бы я попасться на их посулы. Некоторые ребята ушли, да вряд ли им была удача. Черт возьми, ну и заварили мы, парень, кашу!
— Надеюсь, ты-то не собираешься уходить?
— Куда, Имришко? Видишь же, не бегу, разве только вслух размышляю. Все время размышляю. Ей-богу, мне тут, поди, хуже, чем в первую войну. Я ведь еще ни разу как следует не обогрелся. Нередко мне даже чаю не достается. Ночью мне холодно, негде душу согреть. Вечно трясусь. И погода все никудышная. До каких пор в горах мне торчать, до каких пор сил хватит?
— Командир говорил, что этой ночью будем опять спать где-то на сеновале.
— Он все время толкует о сеновале. А скажи-ка, скажи, сколько раз ты на нем спал? Интересно, какой такой сеновал. Прошлой ночью я и глаз не сомкнул.
— И я спал только так, одним глазом, и то недолго. Еще и сейчас в сон клонит. И устал я. И покурить охота. Осталось чего в мешке-то?
— Есть маленько. — Причетник улыбнулся. — Но табак ли это, трудно сказать. Однако сейчас и негоже курить. Как придем на место либо привал где устроим, напомни мне. Только шепотом!
6
А однажды, когда причетник опять раздавал ребятам курево, кузнец Онофрей вдруг вышел из себя и с такой яростью кинулся на него, что, казалось, недалеко и до драки. — Слышь-ка, ты, звонарь от двух костелов, — кричал он, — докуда в дураках меня держать собираешься? Думаешь, это меня забавляет, думаешь, я такой олух? Это табак, да? Ведь это буковый лист! Дьявольщина! Как двину в рожу — родная мать не узнает.
— А ты что хочешь, ну что от меня хочешь? Что я тебе дам? — обиделся причетник. — Даю то, что имею. Все это курят.
— Не дурачь меня! Болван! Ведь это табаком и не пахнет!
Причетник дернул плечом. — Если у тебя есть табачок получше, так и свертывай из него.
ПОЧТА
1
Где Имрих? Что с ним? Почему не отзывается?
Я почти каждый день хожу к Гульданам и всякий раз спрашиваю про Имришко, впрочем, не так уж и спрашиваю, только пошарю глазами по комнате, а как встречусь взглядом с Вильмой или мастером, сразу все становится ясно: Имро не вернулся. Это между нами, и говорить об этом нет надобности. Да и вообще, слова о нем нельзя обронить. А мы вот роняем, и довольно часто. Нам нравится говорить об Имришко. Я столько раз слышал у Гульданов, как произносят его имя, что и сам стал думать о нем больше прежнего, и теперь частенько произношу его имя дома, в школе, на улице — всюду, и до чего мне тоскливо становится! Иной раз приду из школы домой и даже не поем как следует, только брошу книги в угол и быстрей к Гульданам. — Имро не воротился?
— Нет, не воротился.
Если б вы знали, как я жду его. Сперва я ждал только нашего Биденко, но он пал в бою, так все о нем говорят, а я все равно еще немножко жду и про себя думаю, что, может, он и не пал, он все-таки не мог пасть, оттого я по нему и не плакал. Я ведь не люблю плакать. Даже когда плачу, мне не хочется плакать. И в особенности из-за нашего Биденко не хочется. В конце-то концов, почему именно он должен был пасть, почему именно наш, именно наш Биденко? А если и пал, все равно до конца я в это не верю, просто это слово означает для меня совсем иное, чем для других. Поэтому я не плакал, не плачу и, наверно, плакать по Биденко не буду, хотя немного и переживаю, хотя и ждать приходится. Ну и что из этого? Я ведь умею ждать. Я уже научился и, может, еще больше научусь, потому что и Вильма в этом мне помогает, а я помогаю ей. Я же взаправду думаю, что наш Биденко однажды воротится. А как воротится, наверняка мне чего-нибудь принесет, из такой-то дали человек должен все-таки чего-нибудь принести. И особенно он. Особенно наш Биденко. Он любил мне приносить. Когда был дома, всякое приносил. Сколько раз так бывало! Ведь иногда человек найдет что и на дороге. Идете, идете и вдруг замечаете, что перед вами что-то лежит, стоит только нагнуться, и оно ваше. Мало ли чего я вот так находил. А там, в России, там, говорят, столько всяких дорог, ну а на стольких-то дорогах всегда чего-нибудь да найдется, как не найтись?! У нашего Биденко уж точно все карманы набиты, оттопырены, только бы из них ничего случайно не выпало, только бы какой, непутевый дружок у него чего не стибрил! Зачем люди говорят такие глупости? Ну мог ли он пасть? Фигушки, пал. Если он пал, то где, где все, что он нашел или получил и что должен был мне принести? А все твердят одно: пал, пал, пал! Ведь и я падал, и не однажды, а кто не падал? И всякий раз потихоньку озирался, не видит ли кто, потому что любому человеку неловко, когда люди видят, как он упал; иногда бывает и больно, но он сразу же вскакивает и обычно, даже не отряхнувшись путем, идет себе дальше, а кто еще нарочно раз-другой подпрыгнет, чтобы все так глупо не выглядело и чтобы люди не знали, что было больно и до сих пор болит. Ведь не всегда достается одному колену, иной, падая, может и руку сломать, да и нос расшибить. Коленку и нос я частенько расшибал, а вот с рукой покуда ничего не было, я даже двум-трем дружкам завидовал, что у них было что-то с рукой, втихомолку даже мечтал, чтобы и со мной такое случилось, чтобы и у меня она хоть раз сломалась. Мне просто интересно было: затрещит ли что в руке или хрустнет? До сих пор меня такие вещи занимают. Только родителям ни к чему о том знать, и я, коли нет особой надобности, много о себе не рассказываю. Зачем все на них взваливать? У них и без того хватает забот, а потом ведь родители — они такие, все поучают, поучают, они должны поучать и, пожалуй, делают это с охотой, а вы, может, и любите, когда вас поучают, но у родителей, естественно, всегда какие-то заботы, мало времени — вот и лучше всего коротко да лучше всего по уху. А когда в свою очередь вы или я хотим им чего объяснить, так снова эти их заботы, это их время, а если вы стараетесь быстро им объяснять, до них, как правило, не доходит, и ни с того ни с сего — бац! Могут же у человека иногда быть какие-нибудь секреты! Ведь и у них есть. И про Биденко они хотели сперва от меня утаить, делали вид, будто он не погиб, и все ходили, ходили и по углам все о чем-то шушукались и хлюпали носом. Потом отец рассердился и сказал маме: «Ну чего хлюпаешь? Скажи ему!» А я сразу догадался, о чем может быть речь. Если мама плакала, то почти всегда из-за Биденко. Я сказал отцу: «Тата, ты почему на нее кричишь, если видишь, что она плачет? Скажи ты мне про это! Ведь я все равно знаю». — «Раз знаешь, так зачем тебе и говорить? Погиб наш Биденко. Упокоился. Домой уже не придет. Но я не верю в это, не могу поверить, и ты, Рудко, тоже не верь, ведь это же ерунда!» Но отец мало-помалу стал верить, а я все еще цепляюсь за его слова, не хочу верить, что Биденко погиб, потому что и он, родной мой отец, сказал мне, даже крикнул: «Не верь, Рудко, ведь это же ерунда!» Ну, что я теперь должен обо всем этом думать, ну скажите, пожалуйста! Что об этом мне думать? Что я должен думать о Биденко? Ерунда, конечно же ерунда! Хоть бы знать больше! Я бы и в календарь записал об этом точнее, я люблю в календарь записывать. Я и о Биденко записал, что он уехал, а когда потом он погиб, тата подал мне календарь, правда, уже на другой день, да, уже на другой, подал календарь и сказал: «Запиши! Запиши и это!» И я записал, там оно, этот календарь всегда у меня под рукой, и так бы хотелось еще что-нибудь написать в нем про Биденко, но я не знаю, не знаю что, только все думаю, переживаю, а умного ничего нейдет в голову. Хоть бы нашлась еще какая-нибудь другая ерунда! Вот идешь по дороге, шагаешь и вдруг что-то находишь. На дороге всегда что-нибудь находишь. У меня в карманах полно всякой ерунды, а вот для календаря ничего, ничего пока еще не нашел. Мне пока нечего туда записать. Но все равно не верю! Не верю, не верю! Биденко не погиб! Ерунда это, ерунда, ерунда!
Но теперь я надеюсь и на Имришко, и надеюсь на него все больше и больше, ведь это сосед наш, хотя он и ушел из дому, а все равно наш сосед, то есть мой сосед. И Имришко не пал. Так пока никто о нем не сказал. Он просто ушел, и теперь его нет, но это еще ничего плохого не означает. А иногда это может означать и хорошее, вот именно — хорошее. Сколько народу уходило из дому, скольких не было! Каждый куда-то уходил. Человек то дома, то нет его, на одном месте человеку все время не усидеть. Ведь и я где хочешь был: и в Трнаве, и в Братиславе, и в любой момент я — в соседней деревне, был там и на свадьбе, когда сестра замуж выходила, был и на крестинах, когда родился другой, конечно же, совсем другой и совсем маленький сестрин Биденко. Ясное дело, это не настоящий Биденко, это просто мальчонка, просто такой круглячок и на брата моего, на настоящего Биденко, ни капли не походит. Но все равно он нам родня, он сестрин сын, и отец его, на которого он похож, тоже такой круглячок, только гораздо больше, — одним словом, кругляк. Но он не плохой, совсем не плохой, у него только привычка дурная, как увидит меня, всегда петь начинает: «Шилды-булды, пачики-чикалды!..» Не знаю, то ли ему эта припевка очень нравится, то ли он просто меня так вышучивает. А в общем, он меня любит, иной раз мне от него кое-что и перепадает — случается, и целая крона. Ах да, чтоб случайно не забыть, дома у него черный гардистский мундир и красивые блестящие сапоги. Мамочки, когда он оденется и обуется и когда еще потом фуражку на голову наденет, ему все так идет, такой из него хорошенький круглячок получается, правда хорошенький. Нет, я над ним не смеюсь. И моя сестра так его называет: «Круглячок мой!» А еще, даже при мне, много раз ему говорила, что в форме он похож на трубочиста. Но сестра не разбирается в этом. Мне форма нравится. Если у умного человека есть форма, он чего хочешь добьется. Кто-нибудь, возможно, взял бы да и отменил форму. Но я бы не стал этого делать. Мне нравится форма, что ни говори, а в ней есть что-то праздничное. А я люблю праздники! Уж если бы до дела дошло, я сумел бы что и поумнее придумать, сумел бы по-всякому формой попользоваться. Тут ведь речь не только о форме или о празднике. Хоть человек и любит праздники, хоть ему и есть на что купить форму, это еще не обязательно, что он чего-нибудь да стоит, он может быть и вовсе нестоящим, даже вроде бы голым, и подчас кой из кого при всей его праздничности так и прет, что это всего лишь обыкновенный пентюх или празднично одетый болван. В самом деле, форма может о человеке многое рассказать. Но говорю: мне форма нравится. И мой свояк, круглячок, однажды дал мне надеть форму, да еще и фуражку мне на голову напялил, а когда я потом мимо него прошагал, он пропел мне, как обычно: «Шилды-булды, пачики-чикалды…» Иными словами, и я был гардистом. Свояк меня даже сфотографировал и фотографию послал в газету. Пропечатали меня. Вся деревня глаза на меня пялила. А я смеялся. Здорово смеялся. И в газете было написано: «Молодой гардист смеется». Правда! Я так здорово смеялся! Наглядеться на себя не мог. Смеялся себе в газете и себе из газеты. Я и теперь чуть улыбаюсь, но это уже что-то совсем другое. Теперь я, может, даже не умею как следует смеяться, обыкновенно смеюсь, только когда забудусь, но это уже не то. И сейчас не то. Улыбаюсь я только тому, что и я был гардистом и что попал однажды в газету. Но через два дня после того, как я держал в руках эту газету, почтальон принес извещение, что наш Биденко, настоящий Биденко, пал в бою под Липовцом.
Так вот, хожу я, значит, к Гульданам. Вильма радуется, что я к ним хожу, мне кажется, что и мастер доволен, когда застает меня у них или когда я обоих их застаю дома. Потом мы вместе сидим, сидим и разговариваем, иногда мы друг над дружкой подтруниваем, чтоб веселей было. Если кто заговорит об Имришко, то обычно вспоминается и Биденко, а бывает и наоборот, сначала Биденко, а потом — Имришко, хотя на самом-то деле это все равно: то ли они ради меня, то ли я ради них, но мы как-то сообща соединяем обоих в одно. Вильма, например, говорит: — Кто знает, что делает Имришко. Где он, где он только может быть, раз не отзывается?
А мастер на это: — Где-то, где-то он обязательно есть. Может, ему и хорошо там. А ваш Биденко, — поворачивается он ко мне, — хотя с ним дела и похуже, но он тоже может где-нибудь быть. Ей-богу, и такое возможно!
— Так оно и есть, — подтверждает Вильма. — Увидишь, Рудко, когда Имришко воротится, а может, еще и ваш Биденко — ведь и это возможно, все возможно, Ру́денко, — вот уж тогда настоящий праздник будет.
А я на это: — Хоть бы он уж пришел! Хоть бы один, хоть бы сперва один! Я ведь и вашему Имришко очень обрадуюсь!
2
А Вильма переживает еще больше, чем я. Я-то не все время переживаю, вернее, не всегда из-за Биденко и Имришко, бывает, я о них и не вспоминаю. Но Вильме в этом не признаюсь, хотя она и простила бы мне. Наверняка бы простила. А как потом вспомню про Имришко и Биденко, так опять расстраиваюсь, и даже очень. Иной раз, пожалуй, немного и притворяюсь, но это только ради нее, пусть знает, как я люблю Биденко, да и Имришко, и как я их жду. Ведь я и вправду жду, очень жду. А Имришко даже чаще вспоминаю. Хочу задобрить ее, но не потому, что мне это выгодно. Хотя и выгодно! Еще бы! Когда прихожу к Гульданам, Вильма всегда мне дает что-нибудь, и мастер меня иной раз чем-нибудь угощает, и я охотно беру. Иногда и немножко стесняюсь, а несколько раз даже взять не хотел, но коль угощают… Они всегда угощали и угощают. И я только потому стесняюсь, что они так угощают. А потом все же беру. Но сам не прошу, никогда не прошу, ведь мне и так дают. Ну разве в таком случае мне не за что благодарить Вильму? И Имришко, я же его в самом деле люблю, господи, так люблю! Когда он придет домой, наверняка и он мне что-нибудь принесет, обязательно принесет! А вот принесет ли он чего Вильме? Кто знает, может, и принесет. Увидим. Пожалуй, он и обо мне вспомнит. Он же знает меня, мы ведь соседи. Да если бы и не вспомнил обо мне, главное, что он не забудет о Вильме, и если не сейчас, так потом наверняка ей что-нибудь даст. А если даст Вильме, то это все равно что мне: Вильма со мной ведь всем делится, мне всегда что-нибудь перепадает.
Но даже от Вильмы не все достается задаром. Разве я только однажды бегал для нее в магазин? И овощи помогал ей выкапывать. А сколько раз посылала она меня к мастеру — поглядеть, не пьет ли он в корчме, — о том лучше и не говорить. Мне и не положено о том говорить. Чего доброго, прознает мастер об этом и сразу подумает, что я хожу на него ябедничать! Время от времени он, конечно, выпивает. Сколько раз я это видел! Но когда Вильма посылала меня поглядеть на него, я хоть и шел, да всегда обдумывал, что бы ей сказать. Я не ябеда! Когда было нужно, я и утаивал кое-что, лишь бы все было в порядке, — иными словами, старался, чтоб оба были довольны. Так вот, пусть и дают, им есть за что!
Я знаю о них все. И о мастере, и о Вильме, и о ее маме, и о сестре Агнешке, и о Зузке. Штефана не очень хорошо знаю. Это Агнешкин муж. Видел я его только на Имришковой свадьбе, но зато о нем знаю всякое, потому что Вильма чуточку болтлива и всегда мне обо всем рассказывает. И Штефана ждут. Каждый человек ждет. Каждый — кого-нибудь. Все только ждут и ждут. Штефана ждет Агнешка. Но со Штефаном все в порядке, он просто не может приехать. Я знаю почти все о нем, каждую сплетенку, читал и некоторые Штефановы письма. Да хоть бы и не читал, достаточно, что Вильма их прочитала, она всякий раз от слова до слова мне их выбалтывает. Если бы хотел, и я мог бы их выболтать, потому что Вильма постоянно болтает — оттого я все знаю. Например, знаю, что Штефан делал в Главном жандармском управлении и что там произошло в августе. Ведь и это мне интересно. И я знаю почти все, и серьезные вещи, но и всякие пересуды, только я их не рассказываю. Если бы я их рассказал, потом, глядишь, уже ничего и не узнал бы. Я иногда люблю поговорить, но умею и молчать, поэтому узнаю все. А то могу иной слушок и вытянуть. Если и не добуду его сразу, а он занимает меня, то наверняка заполучу его позже из вторых, третьих или даже четвертых рук. Толки ходят из уст в уста, но случается, что и из рук в руки. Я, например, знаю, что Главное жандармское управление перешло на сторону повстанцев, что до этого был большой сбор, а после, этого сбора сели все, кто там был, в машины, и Штефан сел, и повезли их неведомо куда. Потом Штефан был под Стречней, служил полевым жандармом, там крепко дрались, наверняка и он дрался, а то что бы жандарму делать в поле? Погибла там уйма народу, и Штефану потом негде было спрятаться, ходил он взад-вперед, покуда не приютил его евангелический священник в Святом Антоле, хотя Штефан и имеет зуб на евангелистов. Но этот священник, говорят, спас ему жизнь. Может быть, Штефан теперь уже не станет больше на евангелистов ершиться. Главное жандармское управление опять в Братиславе, и Штефан, как и его товарищи, опять держит сторону братиславского правительства. Иначе якобы и быть не может, потому что он жандарм и должен поддерживать любое правительство, а значит, всех людей, потому что жандарм для того и существует, чтобы заботиться о порядке. Но Штефан и партизан должен поддерживать, конечно втихую, иначе это дорого бы ему обошлось. Штефан в самом деле на стороне любого. Он уже определился в районное жандармское управление в Крупине, а оттуда его послали в Тераны, на мотоцикле он теперь часто ездит в Жемберовице и в Крупину, а домой приехать не может, хотя это довольно странно — ведь на мотоцикле оттуда нетрудно и улизнуть. Никто бы и не заметил. Но у него хватает забот, он, дескать, малость побаивается, как бы его опять не перевели в Литаву, потому что оттуда уже нелегко будет выбраться. Он хотел бы опять служить в Главном братиславском управлении. И Агнешке постоянно в письмах наказывает, чтобы и она похлопотала об этом, сходила бы куда следует. «Борись, Агнешка, — так он ей пишет, — сделай все, что можешь, потому как с моей стороны ничего не получится, я не смею ни о чем помышлять, нам это заказано. И всюду говори, что ожидаем ребеночка. Попроси и пана надпоручика Кушнера, который служит в Главном управлении. Хочу отсюдова поскорей выбраться, сил моих нет тут торчать. Что с Бадликом, не знаешь? Что с ним сделали? Если бы я мог быть с вами! Ведь у меня даже теплого белья нет, обуви нет, да мало ли у меня чего нет, но купить-то на что? Или прикажешь мне у тебя спрашивать, когда уже столько времени я тебе не посылал ничего? Похлопочи за меня! Вины-то ведь никакой на мне нет, разве по-другому я мог поступить? Разве другие жандармы смелее? Ведь и в эту Литаву хотели меня сунуть только потому, что оттуда все жандармы поубегали, слыхал я, однако ж, что они опять туда возвращаются…»
Все это письмо я знаю назубок. А не знал бы — можно пойти с Вильмой к Агнешке и там его прочитать. Сколько таких писем я уже читал! Только этого мало, надо и слушать, надо всегда слушать, что при таких письмах еще и говорят. Некоторые вещи знаю так точно, как если бы сам работал в каком жандармском участке, а то и в самом управлении.
Вильма мне иногда грозит пальцем: — Смотри, Рудко, только не проболтайся! О том, что услышишь от меня либо от Агнешки, не смей никому говорить.
— Что я, не знаю? Знаю небось. Я никому ничего не говорю.
Но Агнешке она меня всегда нахваливает: — Ему можно сказать обо всем. Он как рыба. Смело можешь при нем говорить. Ей-богу, он никогда ни о чем и не пикнет.
3
А об Имришко ничего, по-прежнему ничего мы не знаем. Вильма глядит все несчастнее. О Биденко я и не заикаюсь при ней. А она о нем нет-нет да вспомнит. Должно быть, ради меня. Но Имришко ей дороже, ведь он муж ей, чему удивляться. Но где он может быть? Неужели трудно написать. Или этим письмом и впрямь боится навредить ей и мастеру? Сколько мужиков было в горах и сколько воротилось, ну а что с ними сталось? Правда, некоторые не воротились и дошли о них плохие вести, но об Имро, с тех пор как он уехал, ни слуху ни духу. Ведь мог бы дать знать о себе, хотя бы через кого-нибудь, а уж тот мог бы послать весточку с другим надежным человеком, чтобы Вильма наконец чуть успокоилась. А он — ничего. Чудной человек! Все как-то чудно.
Штефан теперь пишет домой почти каждый день, и я всегда узнаю, что в этих письмах, даже люблю и глаза запустить в них. Мне кажется, что жандарм хоть и не работает теперь в Главном управлении, а знает обо всем чуть больше, чем обыкновенные люди, вот потому мы эти Штефановы письма и глотаем иной раз, что думаем, будто из них, поскольку он жандарм, мы узнаем и ту весть, которую так ждем. Но до сих пор этой вести нет как нет. Иной раз и встретим в письме имя Имришко, но потому только, что и Штефан интересуется свояком.
У Агнешки уже столько писем от Штефана! Иногда к ней сразу два приходят. Агнешка всегда радуется, и Вильма вместе с ней, обычно и я присоединяюсь, хотя, но правде говоря, эти письма не очень веселые.
Тераны, 15 нояб. 1944 г.
«Бесценная семейка!
Нынче уже четыре года, как у нас народилась наша несравненная, золотая и дорогая доченька Зузочка. Господь бог сберег ее нам в добром здравии, и сердце на нее не нарадуется. Быть бы мне сейчас с вами, ох, чего бы я не отдал за это! Родные мои, женушка моя и доченька моя, папка не забывает вас! Я, как обычно, на участке в одиночестве, и так меня тянет домой, к вам, ненаглядные мои!
К 19 часам я всегда прихожу домой, хочу послушать первые вечерние известия, и всегда я такой нетерпеливый, всегда жду не дождусь, что же будет после известий, но счастья мне пока не было, не слыхал я ничего, что меня бы порадовало. Агнешка, пока еще ничего? Знала бы ты, какой я нетерпеливый, как нетерпеливо все время жду! Жить вот так вдалеке от семьи — хуже нет!
В субботу, то есть 11 нояб., был тут п. Шандорфи-Клас, секретарь ГСНП[49] и два пана редактора, удалось с ними поговорить. Посулили мне, что кое-что сделают, дескать, проявят заботу, а то хотя бы попытаются, может, кого попросят, чтобы меня перевели в Братиславу.
Голубушки мои, все время думаю о вас! Что у вас нового? Кроха еще не явилась на свет? Когда она уже появится? У тебя нет каких трудностей? Беда просто, что я не дома, а главное, теперь, когда я вам боле всего нужен. Святый боже, что же мне делать? Агнешка, объяснила ли ты это кому? Толковала ли с людьми, на которых я тебе в прежних письмах указывал? Надо было им объяснить, что я всегда честно выполнял свои обязанности и что хочу их выполнять и вперед. Ведь я не виноват, что война, и что у нас пошла такая катавасия, и что было то, что было, и до сих пор нет никакого спокойствия. Ведь я всегда слушался и подчинялся начальству, правда, я всегда думал только о своих обязанностях, и вдруг со мной все так обернулось.
Агнешка, пишу очень наспех. Один парень из Тесар, то есть из соседней деревни, должен ехать нынче в Батёвианы, говорит — за зерном, посулил мне, что тут остановится и заберет это письмо. Поэтому я маленько нервничаю, очень тороплюсь и в поспешности даже не знаю, о чем писал раньше. Боюсь, случайно бы не упустить чего.
Выпали у нас сильные дожди, но уже теперь прояснело. Кто знает, на как долго? У некоторых тутошних хозяев имеется в полях еще кормовая свекла, и даже картошка в земле, так как из-за ненастья некогда было их выкопать. Люди жалобятся, что не могут сеять, так как земля страшно мокрая, насквозь раскисшая, на поля и не ступишь. Не знаю, все ли работы переделают. Ведь что, если правда прояснело лишь на короткое время? Даже и то может случиться, что наместо дождей ударит в конце месяца или в начале декабря мороз, а они все еще не поспеют с работами. Они навряд ли управятся, и мне их жалко. Ведь обидно, если урожай пойдет псу под хвост, и опять же все, что должно уродиться на будущий год, вообще не уродится, потому как нынешней осенью не было подходящей погоды для сева. Пришлось бы все возместить яровыми, какой-нибудь фасолью, картошкой, кукурузой. Да зерно трудно чем возместить. А еще и весна может выдаться никудышная, разве что только картошку или фасоль сажать, знаешь ведь, фасоль все равно садят поздно, почти в самое лето, чтоб не померзла. Эх, перевели бы меня в Братиславу или хотя бы определили где поблизости, может, и я бы в Церовой поработал. Помнишь, какие у нас были в позапрошлом овощи? Нынче были бы еще лучше. Если бы была весной погода, сразу же в марте, а хоть и поздней я бы все перекопал, а потом ты бы поглядела на эту морковь. И фасолька была бы. Мама бы тоже хвалилась. Да, вот что: тут поблизости живет одна такая ловкая бабенка, характером чисто Вильма, тоже у нее полно самых разных цветиков, хотя теперь осенью этого так особо не видно в саду, но уж по разговорам все ясно, и дома у нее всякие луковки и семена, если бы Вильма желала, я мог бы для нее из этих семян что и выпросить. Да, а что с ней? Что с Вильмой? Здорова? А мама? А Зузочка? Что ты делаешь, Зузонька моя? Агнешка, прошу тебя, обо всем мне отпиши! Мне очень хочется знать, как Имро. Не сказался еще? Ничего о нем не знаешь?
А вот тебе и радостное: повезло мне достать для вас немного сахару — приблизительно столько, сколько осталось у нас в Дольней Штубне. Ну и рад же я! Зузочка моя, доченька любимая, придет вам от папки посылочка!
Боже мой, как мне тут скучно! Агнешка, ты себе даже не можешь представить! Агнешка золотая, все время о вас думаю!
14 ноября опять взорвали пассажирский на линии Зволен — Дудинце, у станции Доманики. Паровоз, почтовый вагон, железнодорожный вагой и вагон второго класса сильно повреждены. Это уже третий случай. Партизаны, что ли? Кто знает. Но на сей раз ничего особенного не случилось. Ребра переломанные, лица окарябанные, но слава богу — жертв нет. Пассажирский транспорт остановлен у нас дня на 3—4. Теперь ходят поезда только до места крушения и оттуда назад, то есть до Зволена.
Ты знала пана вахм. Хлапика? И он тут со мной в участке. В понедельник уехал в Штубнианске Теплице, но не знаю, когда воротится и привезет ли чего нового.
Ну, пора кончать. Хотел сегодня написать только несколько строчек, а видишь, опять оно малость растянулось. Поклон всем, а главное, нашей маленькой Зузочке! Агнешка, и следи за собой! Тяжелую работу не делай, лучше попроси Вильму или маму, они тебе помогут. Скажи им, что и я их об этом очень прошу и что их сразу же и за все очень благодарю. Душенька, и напиши мне! Каждое слово меня обрадует. И главное, самое что ни есть главное, опять же выделяю: Агнешка, дорогая моя, как только ребеночек народится, тут же дай знать мне по радио! Как тебе уже писал: после первых вечерних известий. Как только узнаю, что эта наша кроха, наша эта малышечка уже на свете, попрошусь в отпуск. И получу его. Уже осведомлялся. Агнешка, прошу тебя, только не забудь: по радио и после первых вечерних известий! Каждый вечер хожу их слушать по обязанности, но главное, от нетерпения. Когда только дождусь этой радостной вести?
Горячо вас обнимаю, целую и кланяюсь.
Штефан».4
Почта, стало быть, работает. И хотя никогда не приносит именно ту весть, которую человек больше всего ожидает, она всегда приносит много вестей. И как часто ненужных или уже запоздалых. Почтарям все равно, ведь им неизвестно, какие вести приносят они людям. Люди злятся на них, а они знай себе бегают, ей-богу, так недолго и ноги стереть. Где-то вдали свистит паровоз, машинист широко окрест оповещает людей, что тянет почтовый поезд, и, даже если это только обычный поезд, сразу же за паровозом почтовый вагон, который на всех железнодорожных станциях уже поджидают ретивые почтари, они что-то берут, что-то подкладывают, потому что вести и посылки, письма, открытки и почтовые карточки снуют по всем направлениям и целыми днями знай шмыгают и шуршат. Всякий почтарь может письмами даже ветер поднять. А уж словацкий почтарь и подавно, хотя на машине он не ездит, обычно у него и велосипеда-то нет. Словацкий почтарь всегда был только пехотинец. Почет и уважение словацким почтарям-пехотинцам.
В Околичное, однако, ездит почтарь-велосипедист. Но и этот всего лишь пехотинец. Велосипед он обычно тащит рядом, для него он только обуза.
Почтальон ходит в Околичное каждый день. Носит письма и посылки, но Вильме всегда только улыбнется и покачает головой.
— Опять ничего, Вильмушка!
ТАБАК
1
Имро отлично знал, сколько страданий причинил он Вильме и отцу, какого страха нагнал на них. Понимал и то, что надо бы многое объяснить им, но поначалу некогда было думать об этом — уж слишком быстро все закрутилось, где уж тут было искать бумагу и марку, не с кем было и послать весть о себе, да он не знал и какую весть. В самом деле не знал.
Но он все-таки хотел написать. С дорогой душой написал бы Вильме. Первым делом хотел попросить у нее прощения. Правда, он твердо решил: как только разыщет лист бумаги и конверт, да если еще где-нибудь выклянчит марку, он извинится перед Вильмой и все ей объяснит, и у отца попросит прощения, и успокоит их, чтобы они за него не тревожились, однако сперва он должен все сам для себя определить, иначе бы он не убедил их. И если у него нет разумных доводов, придется их выдумать. Но иногда человеку трудно выдумывать. Возможно, поэтому Имро особенно не торопился.
Сначала ему казалось, что Вильма и так все знает. Она наверняка чувствовала уже давно, что он ее обманывает. Хотя вслух ни в чем не упрекала его, не выспрашивала у него, иной раз все же видать было по ней, что она подозревает его. И Имро был убежден, что, когда он ушел в имение и обещал скоро вернуться и не вернулся, она наверняка всю ночь прождала его, а утром побежала туда — и люди ей все разболтали. Если сама не сходила, то наверняка мастер пошел, и тот тоже мог быть куда как удивлен. Однако, возможно, мастер и не рассказал всего Вильме. Но люди-то в имении наверняка знали об Имро многое, о нем и о Штефке еще и до этого всякое нашептывали друг другу, а уж когда Ранинец вытащил его из дома Кириновича, было у всех над чем поехидничать. На счастье, стоял гвалт и суматоха, но все равно многие, конечно, видели Имро, и на другой день наверняка чесали языки и все раздували, а может, кое-что и присочиняли. Имро опасался, даже был убежден, что больше, чем его уход, огорчит Вильму то, что она узнает от людей. Если бы Вильма ему все и простила, все равно некоторые вещи очень трудно было бы объяснить. И он был бы собой недоволен, а уж она им — тем паче: все, что она узнала о нем, вновь и вновь приходило бы в голову. А воротись он с полдороги домой, разве бы он не совестился и не боялся взглянуть ей в глаза? Он полагал, что, ежели выдержит тут с ребятами и подаст весть о себе лишь со временем, Вильма о многом забудет или по крайней мере кое-какие пустяки притупятся, пусть уж было что было, со временем легче все проглотить, а то, может, оно и вовсе покроется молчанием. К чему же тогда писать, раз о том, что он ушел с Карчимарчиком и другими, она в конце-то концов и без того узнала. А куда он идет, он и сам точно не знал. Ничего у него при себе не было: ни бумаги, ни ручки, ни денег на марку. Конечно, захоти, он мог бы раздобыть эти вещи — бумага нашлась бы, а ручку или карандаш ему бы кто-нибудь одолжил. Однако даже поздней Имро не стал писать — боялся, что Вильма с мастером наладятся искать его, а это казалось ему совсем неразумным. Только чудом они могли бы найти его. Но это было бы дурацкое чудо, и Имро должен был бы корить себя еще и за то, что вынудил их пережить такое дурацкое и опасное чудо.
Он во всем полагался на время и на события, но иной раз, забываясь, начинал доверяться кому-нибудь из товарищей, обыкновенно это был Шумихраст или Мигалкович, но чаще всего — причетник; говорил он с ними и о вещах, которые, как думал, уже спят в нем, но вдруг ни с того ни с сего они отзывались сами, и тогда он обычно решал, что напишет домой, даст хотя бы знать Вильме и отцу, что он жив, но как раз в тот момент у него не находилось бумаги, да и почта была далеко. В горах, увы, нет почты.
2
А к товарищам он привык, казалось ему, что с ними он находит общий язык, с некоторыми он и впрямь находил. Еще бы! Ведь и у них были если не совсем такие же, так, во всяком случае, подобные заботы, и это сближало их. Имро подчас даже казалось, что некоторые из товарищей значат для него больше, чем Вильма, отец, Штефка, родственники и вообще все, кто еще до недавнего времени представлялись ему, самыми близкими и незаменимыми.
Но и это можно понять. Разве он мало пережил с товарищами? Где Карчимарчик? Где Ранинец? Где Габчо? Скольких уже нет! И те, что не погибли и не ушли, радуются не только каждому, хотя и не самому лучшему, дню, а каждой пустяковине. Иной раз и еда их радует так, что даже слезы наворачиваются. Общие переживания и вседневная опасность сближали людей.
В горах слово «товарищество» обретает иной смысл, чем в обыденной жизни. Каждым днем испытывается товарищество, и всякий раз по-другому, товарищу можно простить что угодно, а вот картошине трудно простить, что она больше или меньше другой. В горах может встретиться человек с человеком, приятель с приятелем, но если они хотят друг друга признать за товарища, то должны сердиться на картошины, что те не все одинаковы и что в горах не растут. Такая или подобная мысль, может, осенит тебя в горах, может, ты ее и утаишь и даже попытаешься улыбнуться, а возможно, улыбнешься как раз тому, кого тебе так трудно было признать за товарища, но это не притворство; именно этой улыбкой ты как бы извиняешься за свой голод и при этом не только товарищу, но еще и картошине прощаешь, что она была такой, какая была, а то и совсем не была или просто тебе не досталась. Но тебе, вовсе не обязательно улыбаться, иной раз с трудом хватает сил на улыбку, бывает, и косо на кого-то посмотришь, но, может, ты и тут иногда ошибаешься. Поэтому время от времени спроси себя сам — не ошибся ли ты, братец, случайно, мы ведь разные, и кое-кто уж слишком часто ошибается! Подумай и о том, не улыбаешься ли ты слишком часто и не глупо ли это, ведь и серьезный человек может выглядеть глупым. Подумай, хорошенько подумай, не грошовая ли у тебя улыбка или, может, она и гроша не стоит, подумай, не напрасно ли ты на кого-то искоса смотришь. Да умеешь ли ты вообще смотреть искоса? Если не умеешь, попробуй! Надо научиться. На некоторых нужно косо смотреть! Может, ты с нами не согласен или то, о чем мы здесь говорим, кажется тебе делом пустячным, но именно потому ты должен хоть однажды и над такими пустяками задуматься, должен уметь их схватить, уловить, приглядеться к ним, чтобы все-таки знать, каковы они, эти мелочи, насколько они важны, чтобы сквозь них познать самого себя и других лучше понять, чтобы уметь задать вопрос самому себе, ибо если ты этого не умеешь, то и другим напрасно станешь задавать вопросы и напрасно станешь ждать правильных ответов. Едва ли ты узнаешь, что правда, а что ложь, что геройство, а что трусость, поэтому поразмысли, человече, пока есть для этого время, и, если тебе кажется, что достаточно времени, поразмысли сейчас, а позже, позже можешь опять поразмыслить, да тебе и придется — не пошел же ты в горы просто так, не покинул же дом прогулки ради или чтобы поесть гуляшу, ты хочешь жить, жить хочешь, ты сам о себе поразмысли, а на других не ссылайся! Умного человека все равно не проведешь, кого ты думаешь провести? Если от чужих слов воротит тебя, так сам скажи, за что ты воевал, какой ты герой! Ты должен всегда защитить собственное, да и чужое справедливое слово, тебе это нужно, да и твой это долг. Иначе ты и впрямь покажешься смешным — не себе, а другим, именно тем, на которых ссылался ты уже наперед, возможно, хотел их и правда задобрить, но не хотел достаточно поумнеть, чтобы и их понять до конца, а они, может, именно этого от тебя ждали, особенно позже, в обычной жизни, где нужно соблюдать обычные правила, которых: держатся все обычные, умные и честные люди. А что, если тебя когда-нибудь спросят, не чувствуешь ли ты себя немного неловко, не бывают ли у тебя такие минуты, когда ты и сам задаешься вопросом: не был ли ты лишь минутным героем, а после, когда нужно было платить обычной, будничной ценой, ты протягивал лишь единственную, одну и ту же монету, чтобы возвыситься ею над остальными, и чаще над теми, кто пришел уже позже в более нормальную жизнь, словно у тебя не было или ты не хотел иметь достаточно мелочи? Поразмысли, братец, поразмысли над прошлым и настоящим, не забывай и о будущем и взвешивай все на обычных весах, которыми пользуются в обычной, справедливой жизни, и, если иной раз чего-то недостает, добавь, добавь и тогда, когда глупцы из-за твоей мудрости и справедливости считают тебя дураком! Добавь и не горюй! Брат мой, ты ведь хорошо это знаешь: в обычной жизни не плачут по картошке или по щепотке какого-то жалкого табака! А о том, что ты был героем, о том лучше не думай, пусть тебя это вовсе не волнует, потому что об этом всегда умнее и справедливей рассудят те, что придут после тебя. Если твое геройство чего-нибудь стоило, его наверняка сумеют оценить. Истинное геройство становится таковым лишь тогда, когда героя нет, когда он уже ничего ни от кого не хочет и ничего не ждет. Только глупый и маленький человечек еще при жизни ждет, что кто-то придет ему поклониться…
3
О стольких вещах Имро хотелось поговорить! Но он лишь изредка позволял себе задумываться, некогда было особенно размышлять. Не то чтобы у него не хватало времени, времени было достаточно, да вот какое это было время… Дождь, снег, непогодье, тучи! Сколько раз думал он о своих родных лишь потому, что некому было пожаловаться!
Хотелось и молиться. Всякий день хотелось молиться, но мысли у него так путались, а то и рвались, что он не мог сотворить даже «отченаш». Забыл «отченаш», забыл и «богородицу», иной раз казалось ему, что он уже все забыл. И лишь торчали кверху эти высокие, ветрами, снегом и дождем исхлестанные ели, иногда они гулко лопались, а иногда молчаливо стояли во мгле и немо взывали к нему, не давая забыть о себе постоянным напоминанием, ибо были всегда перед глазами, со всех сторон обступая его. Иногда он останавливался и, опустив руки, смотрел на них: господи боже, что я тут делаю, кто все это выдумал, зачем я сюда пришел? Сколько тут дерева, а я стою без дела или все хожу и хожу, кому от этого польза, для чего это нужно? И скольких людей я обидел! И сколько обидели меня! Скольких я уже потерял и от скольких отступился! О господи, для чего это нужно? Поможет ли это кому? Действительно ли поможет? Если я творю грех, кто меня оправдает? А разве мне не делают зла? И это уже не око за око, а за око — четыре, за зуб — шесть зубов. А рядом со мной и такие, у которых, может, вообще нет зубов, а они все еще должны платить, все еще должны платить, так могу ли я от них отступиться?
4
А положение все ухудшалось. О каком-либо сплошном фронте уже действительно не приходилось и говорить. Если где-то еще и были крупные отряды, то постепенно они дробились на более мелкие либо просто сокращались, потому что люди один за другим убегали домой, к семьям, а среди тех, кто оставался, тяжело было поддерживать дисциплину и моральную стойкость. Многие сердились на командиров, считая, что именно командиры, особенно высшие, те, что отдали приказ к отступлению, все и загубили. — Что же, собственно, получилось? — спрашивали вслух. — Ведь у нас было все: машины, пушки, снаряжение, оружие и боеприпасы, полевые кухни и продовольствие! Где же это? Кому и зачем мы это оставили? Что теперь в горах станем делать?
О серьезных боях нечего было и думать. Если что будет, так только небольшие вылазки, но и те часто не должны повторяться, по крайней мере в одном и том же месте или даже где-то поблизости, ведь это опасно, они привлекли бы к себе внимание немцев, и иному небольшому отряду это грозило бы гибелью.
Поэтому и отряд, в котором был Имро, постоянно передвигался с места на место, и зачастую это были долгие и мучительные марши, и, если раньше у людей редко бывала крыша над головой, теперь она была еще реже, то и дело приходилось спать под открытым небом. Сначала у них были палатки, но ими не пользовались, а теперь, когда непрестанно лило, их страшно не хватало, хотя ставить их на одну-единую ночь все равно не имело смысла — только морока с ними.
После дождливых дней немного распогодилось, но ночью морозило, люди не могли спать по ночам, не спали и днем. Все были простужены и кашляли. Мало того, что болело горло, что у многих был насморк и грипп, — некоторые подхватили воспаление легких или бронхит, другие трудно мочились, у кого нарушилось кровообращение, а у кого мутило в желудке, начался понос. О головной боли или усталости никто и не заикался. Люди обычно даже не знали, скольким из них приходилось одолевать долгий и изнурительный переход в сильном жару. Только когда кто-нибудь уже впадал в беспамятство, ему пытались как-то помочь или где-то оставить его, но это возможно было сделать лишь ночью, спустившись в деревню, хотя и такое было опасно. Больной мог поплатиться за это жизнью, да и тем, кто нес его или прятал, не поздоровилось бы.
Но хуже всего была неуверенность. Никто не знал, до каких пор все это будет длиться. Никто не знал, что его ждет завтра, что послезавтра. Никто не знал, что его ждет здесь и что там, что на этом месте, а что на другом, и придет ли он вообще с одного места на другое. Некоторые теперь завидовали тем, кто ушел сразу, в самом начале, подумывали, не уйти ли хотя бы теперь, но опасались, не разыскивают ли их уже дома гражданские или военные власти. Скорей всего, да. Может, даже немцы. Наверняка нашлась какая-нибудь добрая душа, успевшая шепнуть немцам, что, дескать, такой-то и такой уже давненько не проживает в деревне. Еще и у семьи начнутся неприятности, передряги. Немцы вряд ли кого пощадят, ну как тут идти домой? Кто туда пойдет? Кто по своей воле кинется волку в пасть?
5
Волк может иногда глядеть овечкой. А если и не овечкой, то по крайней мере добрым малым.
«Словаки в Банска-Бистрице и округе! Мощные бронированные соединения немецких вооруженных сил приведены в боевую готовность для наступления на ваш край. Борьба, к которой принудили вас безответственные антисловацкие элементы, злоупотребляющие вашими патриотическими чувствами, подходит к концу.
Сопротивление бесполезно!
Напрасно будет пролита дорогая словацкая кровь, напрасно будет уничтожена прекрасная словацкая земля.
Прекратите бессмысленную борьбу,
она стоит ненужных жертв вашей отчизне, которую вы все, несомненно, любите.
Подумайте о Варшаве,
где польский генерал Бор-Коморовсккй сдался со всеми офицерами и со всеми повстанцами. Никогда не придет помощь, обещанная вам.
Кто сдастся, тот спасет свою жизнь!
Подумайте о своих женах и детях. Вывесите белые флаги, чтобы сохранить свое имущество. На рукава наденьте белые повязки! Палка с белой материей — наилучшее для вас оружие. Кто сложит оружие и сдастся, тому мы торжественно обещаем
пощаду.
Выловлены подстрекатели и московские агенты. Уничтожайте этих преступников, которые обманули вас, или передавайте их немецким властям.
У нас в руках грозное оружие. Вы избавите себя от рокового конца!
Сдаваясь, вы спасаете свою отчизну и свою жизнь.
Немецкий комендант в Словакии Гёффле, обергруппенфюрер СС и генерал полиции».Такие или подобные листовки находили часто. В основном до падения Банска-Бистрицы, да и позже. Они были обращены к солдатам и партизанам, и почти в каждой говорилось: «Выходите из леса, сдавайте оружие, идите домой и приступайте к мирному труду!»
И эти листовки действовали на них. На всех действовали. Поэтому запрещалось собирать их. Но их тайком собирали и прочитывали. Многие послушались этого воззвания, ушли к женам и детям, а некоторых гнал домой холод и голод, и, если им везло, а главное, находились влиятельные знакомые, с ними и вправду ничего не случалось. Однако многие домой не пришли, напрасно размахивали они листовкой, с нею же отправлялись они в концентрационный лагерь, если по дороге не настигала их пуля. Повсюду: в канаве, на лугу, под деревом, в любом месте — можно было найти мертвого штатского или солдата, у которого в руке или в кармане была листовка, обещающая спокойный мирный труд, свободу, тепло, еду и сон.
6
Иной раз Имро так хотелось обо всем этом кому-нибудь написать! Но не мог он. Карандаш, ручка, бумага были для него роскошью. Смешно, но это так. Правда, ему-то смешно не было. Если он иногда и смеялся, то нездоровый получался смех, не раз он и сам своего смеха пугался. По-настоящему смеялся он обычно только тогда, когда было что есть. И тогда вспоминал он и Вильму, и отца, и Штефку, и Вильмин сад, и начатую работу, которую мастеру пришлось доканчивать одному, вспоминал он и Вильмины герани, с которыми целое лето она столько возилась, вечно обирала с них мошек, в особенности с одной, что стояла в горнице на окне, на нее обычно светило солнце, когда Имро утром вставал. Что ты делаешь, Вильма? Очень на меня сердишься? Некому тебе помочь, а меня и выбранить не можешь. Есть ли у тебя еще та лиловая герань? И все ли она еще такая запорошенная? Ты по-прежнему встаешь спозаранку и внимательно оглядываешь листочки герани, не пристали ли к ним какие мушки, а потом протираешь подоконник, собираешь с него пыль и сухие цветки или ты повынесла уже все горшки в подполье? Что ты делаешь, Вильма? Думаешь обо мне? Очень сердишься? Вильма, неужто и у нас такая безрадостная погода?
Он решил, что должен ей написать, но написать что-то совершенно другое, чем хотел поначалу, написать о тех на первый взгляд пустяковых и все нее главных вещах: о еде, о холоде и голоде, о товариществе, даже о таком товариществе, когда, собственно, и товарищей уже нет. Написать! Написать, написать, написать!
Но он не написал.
Потому что — мы же сказали — иногда времени не хватало, а если и хватало, так либо он был изнурен, либо просто ему нечем было писать. А когда, случалось, вечером или ночью его поднимали идти на какое-нибудь небольшое дело в деревню — уничтожить немецкий патруль, а может, всего лишь кого обокрасть или чего-нибудь выведать, — он едва ли вспоминал о ручке или бумаге; не вспомнил он об этом даже тогда, когда наткнулся на почту, а в другой раз и на добросердечного, но крайне пугливого почтаря, который покормил его ужином, потом трясущимися руками нашарил в почтарской сумке ключ от канцелярии, соседней с его комнатой; кроме обычных вещей, какие бывают на почте, там были еще и мешки, доставленные как раз в тот день благодетельной почтой, и в один из них почтарь насыпал ему четыре литра коричневой фасоли, но Имро, хотя там тогда все внимательно оглядел, радовался только ужину, а еще больше фасоли, оттого-то он так похлопывал почтаря, охотно бы и расцеловал и обнял его — однако даже тогда он не вспомнил, что почта служит и для другого.
7
После затяжных походов они поселились на более длительный срок в землянке под высоким деревянным накатом, крытым хвоей. Над ней трудился Имро. Командир, зная, что Имро плотник, даже поручил ему руководить работой. И землянка получилась на славу, уж такое они проявили усердие! К сожалению, не было в ней порядочных окон. Два окна, правда, были, но не было стекол, поэтому пришлось забить их хвоей и мхом, отчего стало дымно и душно. Приходилось то и дело проветривать, и тогда опять делалось холодно, землянка как следует не прогревалась, и поэтому люди по-прежнему страдали от холода и по-прежнему были недовольные, озябшие, угрюмые, голодные, а порой им не хотелось даже ворчать, жаловаться, часто между ними устанавливалась тягостная тишина, нарушаемая лишь сморканием, кашлем и вздохами.
Больше всего их мучил голод, а некоторым ужасно недоставало и курева, и потому причетник, хотя сам некурящий, не раз еще вспоминал те восемь или семь — теперь уже никто не знал, сколько на самом деле их было или должно было быть, — пожалуй, семь, да, семь мешков, взятых в имении. Мы помним историю последнего мешка, как он вновь и вновь наполнялся, покуда кузнец Онофрей не возмутился. Однако история мешка на этом не кончилась, причетник еще раз наполнил его, и из него снова все вышло, а уж когда из мешка весь табачный дух совсем-совсем выветрился, кинули его раненому цыгану, «надпоручику». Надпоручиком он не был, но все его так называли. Был то обыкновенный солдат, по всей видимости цыганского роду-племени, и хоть он не признавался в этом, однако страшно любил говорить о цыганах и по обыкновению ругал их; людям его разговоры были уже знакомы и нравились, потому что ими он порой веселил всех. В самом деле, это был обыкновенный солдат в форме словацкой армии, и не было у него никакой звездочки и, должно быть, никогда не было, но его и командир любил и всегда называл надпоручиком.
А цыган этот, надпоручик без единой звездочки, был настоящий курильщик, заядлый курильщик, и, когда ему мешок отдали, он несказанно обрадовался и осторожно, тихонечко — поскольку был ранен — сел и, повертев мешок туда-сюда, вытряс из него чуточку мусору, и хватило его как раз на одну закрутку. Говорю же, то был заядлый курильщик — при куреве он всегда был спокойнее, чем другие, порой забывал, что он ранен, и откалывал такие номера, что люди диву давались, как это он умеет так вдруг взбодриться и откуда в нем что берется — просто взрыв энергии, остроумия, подковырок, всяческих выдумок, забавных песенок. Страшно любил поговорить.
— Ну, ребята, коли вы все уж так завздыхали, расскажу-ка я вам кой-чего. — Он потряс перед собой самокруткой, будто ею и собирался продолжить рассказ. Потом чуть призадумался. — Что бы вам такое поведать? Ага, вот! Все-то вы вздыхаете, что нечего есть и что у вас того-сего нету! Послушайте, люди, уж как-нибудь выдюжите! Ведь у вас у всех здоровые ноги, чего ж вам не выдюжить! Я не то чтоб вам завидовал! Чего мне вам завидовать? Золотые вы мои, христом-богом клянусь, ведь вы даже не знаете, для чего у вас ноги! А к тому же у вас еще лапы и рот, еще и глаза! А вы подчас так разговариваете, будто господь бог вам не только разуму не дал, а будто не дал вам начисто ничего, даже будто еще и обобрал вас, будто у вас рога забрал, да и то, что к тем рогам приложено, а может, и не приложено, хотя у некоторых из вас такие рога, лапы и рты, что и на десятерых хватило бы, но вы только тогда о том узнаёте, когда надо что-то схватить или сожрать. Дева Мария, святой Мартин Лютер, да и святой Ленгарт Омпитальский и вы, что сидите вокруг меня и с кем я готов, правда еще не сейчас, отойти на небо сине-голубое! Золотые мои, вы ведь даже не знаете, чего хотите, пусть и говорится: кому как угодно, а мы как знаем, да не так оно. И знаем, и не знаем. Некоторые знают, да не скажут. Будь у меня ваши ноги, не подмени господь бог мою собственную, настоящую ногу эдакой вот стервой раздутой, — он похлопал себя по раненой ноге, — я, ей-богу, ой как бы забегал, а потом и спросить бы сумел, эх, ей-богу, у вас бы я рога не стал занимать, их бы я и по дороге нашел, а понадобилось бы — они б и сами из меня выскочили. Дева Мария! Средь добрых и дурных людей все ведь можно найти.
Люди улыбались. Некоторые пробовали его подколоть, но надпоручик без звездочек не дал себя сбить с толку. Он сделал две короткие затяжки, утер пальцем нижнюю губу, потом ее еще чуть полизал и продолжил: — Расскажу вам, к примеру, такую историю. О цыгане. — Он опять говорил так, чтобы всем было ясно, что сам-то себя он не причисляет к цыганам. — Я, если хотите знать, иной раз болею за эти цыганские души. Был у нас такой ловкий цыганище, и всегда он мне нравился, вот из-за него я и других полюбил. Ох и озорной был! Настоящий цыган, ловкий цыган! Уж больно мне нравился. Шел он как-то утром, может чуть подвыпивший, со свадьбы домой, был в добром настроении, так как играл на свадьбе всю ночь, и это его еще малость держало; контрабас его держал — был он контрабасист, и инструмент у него был хороший, завидный такой, когда бывал он в подпитии, поиграет на нем за милую душу, а потом на нем же дает себя и отнести. Куда угодно. Хоть в канаву. Ну и шел он, значит, держал контрабас, тот — его, и был он собой доволен, потому как хорошо заработал, получил за игру триста крон, да и утро было хорошее, день у него хорошо начинался.
— Триста крон? — командир удивился. — Кто бы нынче заплатил цыгану за музыку триста крон?
— Иной раз и больше платят. — Цыган не дал себя перебить. — Он всегда зарабатывал, сколько хотел. Богатые люди сколько раз пытались его всего деньгами облепить, да он их всегда гнал прочь — ведь цыгана знать надо. А этот… жаль, вы не знали его! Ну а свадьбы он высоко ставил, шельма эдакая, высоко ставил! Да оно и понятно. На свадьбе он всегда командовал. Прикрикнет на контрабас, а тот на него — и пошло-поехало: враз все запрыгает, запляшет, и затопает, и задурит, а которые там даже подерутся, пол так и охает, а где пола нет, там всякий раз бедняги эти, пьяненькие-то, до утра колодец вытаптывают! Ох и дела! Нынче уж я и не помню, где было, что было и как было. Ну допустим, шел этот цыганище просто так со свадьбы и все еще пиликал. Если у милого цыгана контрабас, то чего бы ему не пиликать! Но про себя-то он ужасно смеялся. Да и как ему не смеяться, когда контрабас временами сам пиликал, хотел, должно, к нему либо к себе привлечь внимание. Вдруг кто-то говорит ему: послушайте, пан цыган, у вас из контрабаса сотня торчит. А пускай торчит! Вам-то что до нее? Не то берите ее себе, мне-то ведь она ни к чему. Взял он у контрабаса сотнягу и эдаким красивым цыганским жестом подарил ее милому и хорошему человеку. А вскоре и другой прохожий упреждает его: эге, эге, пан цыган, из контрабаса-то у вас это самое… Какое там «это самое»! Ведь это сотняга! Сделайте милость, берите ее! И идет себе дальше, нарочно эдак малость вразвалочку, точно хочет показать людям, что весь белый свет его, а ежели весь свет, то и эта дорога. А тут вдруг икнулось ему, он подождал, подумал: может, ему еще раз икнется. Ан нет, не икнулось. Вместо этого мелькнула в голове мысль, что, пожалуй, и не стоит так сорить деньгами. Да только вот контрабас сам выставляется, сам сотню подсовывает. А эту ждут уже шестеро: пан цыган, пан цыган… Он берет сотню и запросто бросает ее: дурачье, ну побейтесь из-за нее! Да у меня денег куры не клюют, много их у меня, сколько захочу, столько и есть, как помета их у меня, злюсь на помет, а контрабас надо мной ржет, что я не могу его ни на что другое, путное, употребить, а только помет в нем волоку. И тут вдруг людей потянулось за ним — туча, и все только: пан цыган, пан цыган, ведь и я цыган, будь другом, пан цы-цы-цы-ган, я тоже цыган, только у меня рожа белая… И все дергают его за пиджак, за штаны, прыгают перед ним и вокруг него, за контрабас дергают, к струнам лезут и под струны… А откуда ни возьмись полицай! Да какой же это был бы цыган, кабы за ним полицай не топал! И за этим цыганищем всегда один таскался, и чудо какой красный! И тут ни с чего вдруг грубо: постой, чернявый, ты чего тут выкомариваешь, что за контрабас у тебя?! Наверняка в нем что-то есть! Топай за мной, поглядим-ка мы на твой контрабас. И они пошли. Цыган рад-радехонек, что теперь по крайней мере спокойно ему, теперь его полицай охраняет, даже еще ему и контрабас несет и думает, что, может, и ему из этого контрабаса что достанется, да только напрасно он его потом обглядывает и проглядывает, ей-богу, эдак по-свойски, почти что бессовестно, повертывает его туда-сюда, по-всякому засматривает в него, а контрабас знай себе бормочет и легонько посмеивается. Кой для кого в контрабасе ничегошеньки нет…
8
Имро часто задумывался, где он этого цыгана — если это правда цыган — и надпоручика, который в действительности-то и не надпоручик, в первый раз видел. Он наверняка уже когда-то видел его, но когда и где точно — никак не мог вспомнить. Думал, что надпоручик сам подскажет ему, но, как только он спрашивал цыгана — не встречались ли они где уже раньше, тот всегда отделывался какой-нибудь шуткой или заводил речь о чем-то совершенно ином, и Имро обычно оставался в дураках. Он понимал, что цыган-надпоручик делает это нарочно. Поначалу думал, что это всего-навсего блажь, чуть поздней — что цыган хочет за его счет позабавиться, потом просто стал считать его чудаком. Мог бы считать его и вовсе безумцем, и вполне обоснованно, ибо, с тех пор как цыгана ранили, он был все время в бреду. Но Имро безумцем его не считал. Напротив. Огорчался, что вот не может вспомнить о чем-то важном или, во всяком случае, интересном, а надпоручик не хочет ему в этом помочь. В конце-то концов, он тоже, возможно, забыл: отчего бы память должна была ему служить лучше, чем Имро? Но почему он так любит Имро высмеивать? Не то чтобы злонамеренно, а так только, как бы желая ему дать понять, что знает, о чем Имро спрашивает, но именно потому и не собирается ему ничего говорить, точно хочет, чтобы Имро сам обо всем догадался.
А однажды, когда Имро попробовал к цыгану подъехать, тот рассмеялся и сказал: — Послушай, малый, ты чего, собственно, от меня добиваешься? Хочешь знать, не провоняли ли у нас давно онучи? Мы оба, может, смердим одинаково, но я тебя чуть постарше. Дурак ты, парень, и я люблю над тобой посмеяться! Знаешь, почему я смеюсь? Потому что ты работу любишь. Сразу, как ты пришел, смешным мне показался. Заметил я, как ты пялишься на меня. Хотел знать, цыган ли я, правда? А мне стоило на тебя только взглянуть, как я сразу сказал: эхма, да он же дурак, он бы весь лес на крыши перевел! Зачем столько крыш! Сработай одну, и пускай стоит на здоровье! Знаешь, отчего я цыган уважаю? Если хочешь, и про это скажу. Уважаю их, потому что они от работы нос воротят. Правда, кто от нее нос не воротит? И я ворочу, хотя и вовсе не цыган. Ну, чего опять на меня гляделки вылупил? Пусть каждый делает работу, какая ему по носу. А у цыгана фартовый нос, ей-богу, фартовый. Цыган — артист, это должен каждый признать. Бог мой, сколько я знавал всяких цыган! Ходили они за мной, и знай только: пан надпоручик то, да пан надпоручик се, ведь они, эти поганцы, знают, кто их уважает и кто за них не краснеет. Ой, нога меня опять донимает! Золотые мои ребята, хоть щепотку табаку раздобудьте!
Табаку нет. Цыган-надпоручик оглядывается вокруг, да все зря. — Не дури, Гульдан! — молит он взглядом. — Найди что-нибудь! Глянь-ка, что у меня с ногой! Вот те крест! Сдохну я тут. Братцы мои, дайте что-нибудь, не то увидите, хлопот со мной не оберетесь!
— Да ведь у нас нет ничего. Нет табаку. Разве не знаешь?
— Нет табаку? Так найдите! Зачем вы здесь? Черт возьми, почему никто в деревню не сбегает? На что надеетесь? На милость божью? Я бы все раздобыл, только для того и вы бы понадобились.
— Ну посоветуй! — подбодрил его командир.
— Я и советую!
— Путем советуй!
— Дьявольщина, нога ведь у меня болит! Думаете, охота мне все по сто раз повторять? Даром советовать, коль все равно меня не слушаете!
— Ну посоветуй!
— Ступайте в деревню!
— Нельзя туда.
— Как так нельзя?!
— Серьезно, нельзя.
— Боже правый, до чего же вы глупые. Вы тут подохнете. Мое-то дело решенное. А вы, черт побери! Если вас двадцать пойдет, что-нибудь да найдете.
— Немцы там.
— Какие немцы! Они ведь тоже люди. Разыграйте из себя немцев. Хоть кто-то и откинет копыта, но всех же не убьют. Я-то уже весь как копыто, а вы тут рядом киснете. Табаку бы, табаку или какой пакости, что только курить можно. Ой, как нога саднит! Гляньте-ка на нее, свинью гнусную, до чего раздулась. Наверняка с голодухи. Гульдан, если найдешь табаку, скажу тебе, откуда меня знаешь.
— Где я найду? Нет у меня.
— А нет, так ни хрена не узнаешь. Ой, жуть какая! Как думаете, не лучше ли эту свинью отрезать? Два-три дня обожду, а потом сам ее чикну. Свинья гнусная, здорово меня школит! Табаку дайте! Братцы мои, Христом богом прошу вас! Если хотите, спою вам.
И правда, ни с того ни с сего он начинает петь. Сам выдумывает слова и мелодию и ужасно тому умиляется.
Наш словацкий надпоручик Сильно ранен в ножку, Закурить бы ему лучше, Скрасить жизнь немножко…Ребята слушают. Двое-трое смеются, но командир одергивает их. Цыган-надпоручик прикрикивает уже и на командира, потом несет всякую околесицу, а вскоре снова начинает петь.
Цыганенка, что ли, кликнуть, Пусть придет, пусть плачет скрипка, Пусть он скрипку принесет…И замолкает. Слезы текут по лицу, но он быстро приходит в себя и уже снова смеется. — Дураки набитые! Надо же вас позабавить малость. Так о чем это я хотел сказать? Ага, о том цыгане. Боже праведный, чего только он добрым людям не намолол! Речи закатывал, какие хотел, потому как и сам забавлялся. Когда было холодно, толковал людям о лете, а потом, когда было жарко, говорил так, чтобы всем стало прохладнее. Кабы этот подлый цыганище пришел сюда, ей-богу, нам бы враз стало теплее. Да только не такой он олух, чтобы прийти. Который цыган пойдет по своей воле на фронт? Лучше сто раз сходить с контрабасом на свадьбу. О-ой, нога! Идет раз цыган, постойте, откуда он, это, шел? Не со свадьбы, нет, потому что был довольно голодный. Вот он и подумал: войду-ка я в какой двор, побренчу там, дадут чего-нибудь, и голод как рукой снимет! Да что там! Вошел он в один двор, а в нем полна ребятни — столько наверняка и у церовского причетника не наберется. А глазенок голодных! А ротиков! У иного голодного ребятенка и три ротика! Не как у взрослого. У взрослого просто пасть. Ну а там — ротики, вот наш цыган и сказал себе: эх, оплошал я. И уж хотел было убраться восвояси, да вокруг него было столько голодных глазок, столько ребятишек, столько пустых ротиков! Он и сказал себе: хоть побренчу им! Детям-то правилось, видать было, только ротики у них были пустые. Господи боже, что с вами делать? Подумал он, подумал, а когда опять начал тренькать, то и слова сочинил:
Горшок, ветчина, Ах, какая вкуснота! Гусь и утка на столе, Выпью рюмку, выпью две!Он оглядел товарищей, засмеялся и сказал: — Ловко, правда? А он это запросто выдумал. Что для цыгана выдумать песенку? У детей даже глазенки засверкали. Враз эту песенку выучили, пришлось ему маленько ее и продолжить:
Придет зима, утешит меня, Свининки поем, братцы! С орехом пирог, в другом творог, Дай колбаски, Франца!— Ну и скотина же ты! — завздыхал кто-то. — Я вот-вот с голоду сдохну…
— И сдохнешь! — рассмеялся надпоручик. — Да была б у меня нога как нога, я бы и пироги, и колбасу достал! Еще и вам бы принес. Человек должен быть ловким, вроде того цыгана. Что ему было делать? Контрабас сам пел у него, а он на нем только смычком струны пилил либо время от времени пинал его коленом в зад, как вы дома жен пинаете. А ребятишки пели во всю глотку, развеселились, точно в храмовый праздник, когда и самые бедные дети сыты. А людей — сила несметная! Люди всегда тащатся за контрабасом как идиоты. Это же божье наказание, ребята, божье наказание! Один крестьянин рассердился, шмякнул этим детям каравай хлеба и сказал: нате ешьте! И мы тоже наелись. И я от того хлеба себе отхватил. Собственно, цыган тот для меня отхватил, он меня угостил. А потом, каналья, наверняка пошел куда за колбаской. Черт его знает, что у меня с этой ногой? Нынче, должно, и она чего нажралась. Наверняка говна. А чего же еще? Ей-богу! Ну и курва она, курва подлая, тьфу ты, курва подлая!
— Не греши! Болван! — окрикнул его богобоязненно чей-то голос, по-видимому, был то церовский причетник. — Разве господь бог мало тебя покарал?
— Не греши, не греши! Силы небесные, да разве я грешу? Я же просто с ногой переругиваюсь, меня господь бог все равно любит больше, чем вас всех, вместе взятых, потому что вы ослы бестолковые. Лучше спать буду. — Он и правда повернулся к ним спиной. Но прежде еще раз поднял голову. — Послушайте, ребята, нынче мне наверняка будет всякое сниться, уже чую. Если я случайно со сна стану кричать, двиньте меня в эту ногу или вынесите наружу — я крепко сплю, а уж раз мне что снится, я, ей-ей, так легко не очухаюсь. Лучше выкиньте меня вон на минутку, на снегу я всегда легче просыпаюсь. Дева Мария! Эх, чего уж там! Чихал я на вас на всех, я уже сплю.
И стало тихо. Все уже устали. И цыган устал. Временами он причитал или вздыхал, а больше — ничего.
Имро вышел из землянки. Захотелось помочиться. Он отошел на несколько шагов, оправился, а когда застегивал брюки, заметил на снегу, что моча его ржавая, даже почти красная, словно кровью изошел.
Он слегка удивился. Потом минуту-другую смотрел на деревья. Повсюду вокруг были чудесные ели и пихты, и он точно хотел их все поощупать глазами, даже будто хотел сказать им что-то вроде того, из-за чего цыган недавно смеялся над ним: и впрямь, сколько крыш!
Но моча беспокоила его. Он снова поглядел на снег. Неужто действительно кровь? Или оно уже раньше там было? Нет, пожалуй, там ничего не было. Наверняка он где-то сильно простыл. Конечно же, было где. Сколько раз он простужался. И кашляет, и какая-то слабость. А, все равно, плевать! И все ж таки надо больше следить за собой!
И он вновь пообщупал глазами деревья. Стемнело. Мороз начинал уже помаленьку прихватывать. Слышно было, как тихо потрескивали деревья. Красивые ели. Дерева-то сколько! Сколько деревьев! А над ними небо ясное…
Он снова поглядел на снег. Что ж! А если даже и кровь? Чему тут удивляться!
Он сморкнулся в снег, утер ладонью нос и вошел в землянку.
МАЛЬЧИК
1
В Околичном ничего нового. Хотя кое-что есть. Почти каждый день идет снег. Людям кажется, что его уже вдосталь. Но я снег люблю. Пускай себе сыплет, пускай снегу будет вдосталь!
О Микулаше я почти совсем забыл. Сперва он был такой бледный. Должно быть, это была Вильма. Дала что-то, но я так быстро съел, что даже не понял, что это было. А потом пришел этакий гнусный Микулаш и выдрал меня, хотя я и молился. Я и на коленях стоял, и руки заламывал, а то пригибался к самым коленям, и потом опять поднимался, и опять руки заламывал, но лучше было бы мне вообще улизнуть, потому как по этой свинье — Микулашу — сразу было видно, что он явился из самого пекла, чтобы только меня отдубасить. Ой, как же он меня выдрал! До сих пор не знаю, кто это был.
Ну а потом рождество. Вполне терпимое. Яблоки, орехи и бобы. Конфет не было. Но я люблю и бобы. По крайней мере после них вокруг меня всегда пахнет.
Снегу вдосталь, вот и ладно! Да, чтоб не забыть! У Агнешки родилась дочка, и назвали ее Катаринка. Справляли крестины. Уже второй раз я был на крестинах. Сначала у Биденко, у нашего кругляша, сестриного мальчонки, ну а теперь у Катаринки. Хорошо, что Катаринка родилась. Но Штефан не приехал. Обещали ему отпуск, а потом не дали. Дивлюсь временами я на этих жандармов! Были крестины, а потом там почти некому было и есть. Один я ел. Им еще пришлось и с собой мне завернуть, хотя я отказывался. Насильно заворачивали. Два дня к крестинам готовились, а потом почти все, правда почти все, только мне одному и отдали!
Ну а в остальном — что? Про Имро пока еще ничего не слышно. Слава богу, хоть Штефан пишет! Почта работает. Но Штефановы письма приходят уже не из Теран — его перевели в другое место. В общем, уже в третий раз.
2
Немце-Раковце 16.1.1945.
«Бесценная моя семейка!
Знаю, что это письмо вы уже ожидаете, но я не мог раньше послать весть по причине некоторых служебных обязанностей. На крестинах я не был, о чем страшно сожалею. Вы даже не можете представить, какое любопытство меня разбирает! Хоть одним глазком взглянуть бы на нашу Катаринку! Но мне удалось хоть заскочить к родителям в Илаву. Не знаю, может, про это тебе уже известно. Возвратная дорога была долгая, потому как участок тем временем уже захватили русские. А у меня осталось там все. Не знаю, что будет. Перевели нас в соседнюю деревню. Кабы фронт малость отодвинулся, мы бы опять перешли на первоначальное место, но я сомневаюсь, очень даже сомневаюсь. Агнешка, деньги вы получили, все в порядке? Слава богу, что я опять получаю хоть жалованье! Выдает нам его правительственный уполномоченный из Банска-Бистрицы. Получил я достаточно, послал тебе, а остаток в 6500 крон взял себе. На них купил: брюки-гольф, обычные брюки, теплую рубашку, носки, мыло и разные мелочи. Все стало 1000 крон, и теперь у меня при себе 5570 крон. Не беспокойся, зря тратить деньги не буду! А когда получу жалованье и за февраль месяц, опять тебе вышлю.
Питание у меня довольно хорошее. Столуюсь у одного крестьянина по фамилии Слобода. Сколько буду платить, пока не знаю. Но надо думать, вынести можно будет. Стрельба тут дело привычное. Как раз перед домом, где мы работаем, то есть перед домом этого самого крестьянина, стоят три пушки, и, как только начинают палить, отзываются в ответ так называемые «катюши». Но нам, ей-богу, пока везет! Снаряды рвутся все в отдалении, хотя бахнуло уже и перед домом, и за домом, однако в нас еще не угодило. Не бойся, душенька, мы остерегаемся! Но все равно мне уже тут невмоготу. Ведь уже с 10.8.1944 года мы с тобой живем поврозь, а это ни много ни мало шесть месяцев. Не был я приучен к такой долгой отлучке, потому теперь так тяжко и переживаю.
Напиши мне, душенька! Обо всем напиши мне, да побольше! Чтобы было чего читать. И попроси, будь добра, Кулиха починить мне те башмаки! Пускай вышлет их по моему адресу наложенным платежом, я заплачу. У меня тут только солдатские ботинки, и те ужасно рваные, когда оттепель, то промокают.
Агнешка, тебе не удалось ничего добиться? Знаю, много ходить ты не могла, но меня так тянет домой! Может, пан гл. зам. Прцух попросил бы пана шефа безопасности Кубалу. Агнешка, ведь нас тут в любую минуту могут захватить русские, и потом я уже не смогу узнать о вас совсем, совсем ничего. Если бы ты была с детьми рядом со мной, я не переживал бы. А так, Агнешка, дорогая моя, скажи мне на милость, что это за жизнь? Боже мой, иной раз я так на себя злюсь! Как я мог выбрать такую-то работу?! Если бы я хоть легче ко всему относился! Сколько у меня уже было всяких начальников! А я знай слушался да слушался, хотя они-то свои взгляды меняли. А я, видишь, какой послушный болван! Иной раз ужасно на себя злюсь!
Кланяйся всем! И напиши, если получила ты деньги. А как с тем ящичком, что ты мне послала, когда закололи свинью? Пришел назад? Обо всем напиши! А если ты опять надумаешь послать мне посылку, пошли мне в ней какие-нибудь сигареты, табаку и бумаги, потому что в куреве здесь форменная нужда.
Еще раз всем шлю поклон! Тебе, Агнешка, и моим доченькам, Зузанке и Катаринке!
Храни Вас бог!
Штефан».3
Почта, стало быть, работает. Работает, хотя и не для всех. Вильму, меня и наших почтари не жалуют. А мастер временами твердит, что он почтарей не жалует. Особенно когда маленько под хмельком, наскакивает на них. — На почту я совсем не надеюсь, — заявляет он, и тогда глаза у него чуть расширяются и сверкают, словно загораются всамделишной злостью. — Почта мне еще сроду не сослужила службу. Ведь и этот, что вечно тут по деревне взад-вперед на велосипеде раскатывает, какой же это почтарь? Он даже велосипеда своего не стоит. Знай ездит, ездит, ездит, даром перед людьми комедию ломает. А в сумке ни шиша. Если он сюда ненароком заглянет, увидите, что я с ним сделаю. — Мастер склоняет к плечу голову, но тут же снова сердито подымает ее, откидывая даже немного назад, и глаза у него еще больше сверкают, подымает он и руку. Окажись в такую минуту почтарь поблизости, наверняка получил бы от мастера затрещину.
Вильма улыбается. Она понимает, что означают мастеровы слова, знает и почему он говорит их, но у нее свое на уме.
А у меня тоже свое. Обыкновенно я держу сторону Вильмы. В главных вещах мы с ней заодно, ну а в неглавных — ни про какие неглавные я вообще не знаю. Ведь и орех даже, когда он у вас в руках и вы хотите его съесть, сразу вдруг становится главным, а неглавный, должно быть, тот, что еще в кармане или на столе, только и до того дойдет очередь. Ведь что такое один орех? Съешь и десять орехов. А когда ешь их, каждый из этих десяти орехов хотя бы минуточку — главный. Так к чему тогда толковать о неглавном? Если я какой орех и оставлю, ведь он тоже орех, иными словами, и до него дойдет очередь, может быть, съем его после, а может быть, и не съем, но он главный уже потому, что остался. Настанет час, и с ним тоже что-нибудь да случится.
При Вильме я бы рассуждать так не мог. Скорей всего, это бы ее раздражало. А мастеру бы понравилось. Потому что этому я у него научился. Честное слово, если бы он меня слышал, непременно меня бы чем-нибудь угостил или хотя бы хлопнул меня по плечу — так бы ему понравилось! Ведь из мастера иной раз просто как из мешка сыплется, болтает он с пятого на десятое, но умеет быть и краток. Однако когда мастер и балаболит, все равно в этом всегда что-то есть. Иной раз оно эдак хлопнет, а то и лягнет. Ей-богу, оно как орех! А в орехе много кое-чего — знаете, даже когда орех пустой, я и тогда люблю в него заглянуть.
Ку-ку, мастер! Ку-ку, Вильма! Думаете, школяр или подмастерье не может сделать «ку-ку»? Думаете, у школяра или у подмастерья нет своего кибица? Ку-ку, критик! Ну глянь же на меня!
4
Это я просто хотел пошутить. Мальчик — ведь это же я, старые чурбаны! — хотел пошутить.
А в общем-то, все в порядке, почта в самом деле работает, в школу хожу, учитель меня бьет, родители отвешивают оплеухи, хотя бы просто по привычке. И с Вильмой мы в дружбе. Не похоже, чтобы она имела что-то против меня.
Конечно, иной раз и случается какая-нибудь небольшая стычка, но она всегда быстро проходит, о ней легко забываешь. А пусть бы Вильма только осмелилась не забыть! Мы друзья, это правда, только дружбу со мной никто не может ставить себе в заслугу. Со мной легко дружить. Если кто хочет быть умным, я прикинусь глупым, а если кто хочет быть глупым, я еще сильней поглупею. С таким человеком легко дружить!
А кто-нибудь мог бы подумать, что делает мне какое добро, если дружит со мной или в школе сидит со мной за одной партой. Бестолочь ты эдакая, думаешь, охота мне сидеть с таким олухом? А вот сижу. Должен же я кому-то делать добро! Я всегда жертвую собой. А теперь думай себе, что хочешь. Все равно я буду в выигрыше: либо отвяжусь от тебя, либо свою доброту малость улучшу! А в общем, я тобой дорожу.
Но то, что тебе говорю, Вильмы и мастера не касается. У нас совсем другие отношения. Ведь они знают меня как облупленного. Они утешают меня, а я — их. Боже, как бы я хотел их иной раз утешить!
Мастер прикидывается веселым, хотя ему не весело. А Вильма — та и вовсе поникла. И я не знаю, правда не знаю, чем развеселить их. Несу всякую околесицу — а иначе им все равно не поможешь. Хорошо еще, что у меня голова так устроена. Брякну какую глупость, а мастер мне тотчас ее вернет. Брякну опять — мастер опять вернет, да еще и перевернет. Ведь мастер на то и мастер — умеет с учеником ладить, умеет с ним столковаться.
Несколько раз он мне и с глазу на глаз говорил: — Думаешь, не знаю, что у тебя внутри? В тебе сам черт сидит. Не знаю, известно ли тебе, что такое нервы, но, как вырастешь, кому-нибудь придется железякой тебя по голове огреть, иначе никакой черт тебя не возьмет. — Потом, понизив голос, добавил: — Слышь, Рудко! Годов тебе мало, а разума господь бог наверняка сообща с Люцифером в голову тебе столько нашвырял, что часом и я, хотя и сам Люцифер, глаза таращу. Я иной раз еще и слова не подыщу, а у тебя оно уже наготове. Знай, опасное это дело, лучше попридержи язык! Пока еще люди тебя не спрашивают, наверняка думают: молодой, глупый, немой! А вот когда разболтаешься, парень, тебя либо придушат, либо в пасть горящих углей насыплют. И я, кабы был господь бог, тоже бы тебе маленько насыпал. Потому что ты богохульствуешь, Рудко, богохульствуешь! Всех хулишь, не только бога, но еще и Люцифера. Послушай, Рудко, зачем богохульствовать? Как вырастешь, тебя люди либо распнут, ей-ей, распнут тебя, либо ты сам себя распнешь, ведь, ежели Люцифер тебе насыплет, господь бог тоже захочет себя показать, он милостью своей никого не оставит. А кто спознается и с Люцифером, и с господом богом, тот высоко прыгнет. И люди просто ахнут. Честное слово, Рудко, я тебя уж теперь боюсь. Правда, немного тебя и жалею, ведь, если люди не поймут, что ты знаешься и с господом богом, и с Люцифером, все начнут тебя бить, всякий захочет дать тебе в морду. Знаешь, я всегда надеялся на Имришко, теперь же только тебе, тебе хочу сказать — будь разумным, ведь Имришко тут нет, а у тебя жало из глаз торчит.
— А у вас? Когда вы иной раз хмельной, глаза у вас так и сверкают!
— Ах ты паршивец! Я же тебе хочу… а ты… ну ладно, ладно! Знаешь что, Рудко?! Ты вот так и держись! Умный человек не пропадет, но все-таки в оба гляди! Так, так, Рудко! Да смотри особо не переумничай. Я хотел единственно тебя остеречь, да вот на меня что-то нашло. Еще хочу тебя попросить: когда Вильма одна, приходи к ней немного поболтать.
— Я ведь и так хожу к вам.
— Вот и добро! Болтай себе! Знаешь, о чем ты должен болтать? О чем попало. Главное — языком молоть. Меня-то это все уже доконало. Имро я бы охотней всего под зад двинул! Но у тебя еще хорошие нервы, болтай, Рудко, болтай!
5
И я болтаю. В любое время болтаю. Иногда и ночью. Правда! Я потому Вильму поминаю, что несколько раз у них ночевал. Мама сердится, когда мне не хочется спать. Не раз мне уже и ночью поддавала. А Вильма никогда. Мастер ездил навещать Якуба и Ондро, а Вильма всякий раз приходила к нашим и спрашивала: — Рудко не мог бы у нас ночевать? Боязно одной. И к маме идти не хочу, чтоб дом не пустовал.
— Бери его! — Наша мама рада, что я ухожу из дому. По крайней мере не надо меня ужином кормить.
И я, бывало, радовался. У Вильмы я всегда ужинал лучше, чем дома. А сон что — я повсюду одинаково высыпаюсь. Да и своя выгода тут была: не нужно было рано ложиться. Первым делом мы наедались, потом калякали, а потом — что же… Вдруг за разговором я засыпал. Даже не знаю, когда она переносила меня в постель.
Но раза два-три я держался стойко. Целый вечер выдержал. Немного потрещал, но дал и Вильме поговорить, потому что она старшая. Я всегда так — пусть знает, что мне все интересно, а там она уже и сама трещит. И рада, что не перебиваю ее.
Но когда не перебиваешь, долго не выдерживаешь. Ни с того ни с сего глаза сами начинают слипаться, и потом уж трудно слушать. Если мне дремлется, я уже не притворяюсь. Сначала пробую пересилить себя, а потом говорю Вильме: — Вильма, мне уже спать охота.
— Бедненький! А я тебе все рассказываю. Но гляди, чтоб завтра дома не жаловался! Уложу тебя. Где хочешь спать? В Имришковой?
— Все равно. Не сердись, Вильма, я тебя слушал. Только чуточку глаза слипаются.
— Ах ты, мой воробушек! Как долго я тебя мучаю, позабылась маленько, не сердись на меня! Подложу дров в печку! Не бойся, если ночью тебе станет холодно, прикрою тебя.
Но мне ночью не холодно. А Вильма и ночью знай вскакивает с постели и подкладывает в огонь дров, но и когда идет к печи и когда возвращается, всякий раз заботливо меня укрывает. Даже и потом меня укрывает, а я все время ворочаюсь и раскрываюсь, потому что мне жарко. Я такую жарищу не выношу, но ночью мне не хочется об этом говорить, я иногда даже не знаю, что мне жарко, просто только раскрываюсь. А она меня все прикрывает и прикрывает, бедняжка, может, вовсе не спит. Иной раз до того умается, что, наверно, даже на меня злится, перетаскивая к себе, чтобы я случайно не простудился и чтобы когда-нибудь после моя мама ее не упрекала.
Потом она забывает и про печь. Но даже если печь выстудится, я сплю возле Вильмы как голубок.
Только иной раз случается и неприятность. Кто-то однажды рядом с Вильмой обмочился. Не знаю, кто это мог быть. Понятно, в таком деле никто не признается.
Я крепко сплю, и вдруг Вильма трясет меня. — Рудо, Рудко, что это с тобой?
Я сразу понимаю, что случилось. Только кто в таком деле признается? Лучше даже не отзываться. А она продолжает меня трясти. — Рудо, Рудко, что ты сделал?
— Ничего я не сделал. Я же сплю.
— Ах, Рудко! Видишь, какой ты! Ведь я вся мокрая.
— Я же сплю, я все время сплю. Ой-ей-ей, я тоже мокрый! Правда, Вильма, я тоже мокрый.
— Рудо, да ну тебя! Ты хоть дурачком не прикидывайся. Я вся мокрая. Ты что наделал?
— Что я наделал?! Ничего я не наделал. Кто-то тут обмочился. Ведь и я мокрый.
— Рудо, ради бога, хоть не отговаривайся! Я вся мокрая, а ты еще дурачка из себя строишь.
— Да, да, я отговариваюсь! Ты-то не отговариваешься, хочешь на меня все свалить! — И в слезы. Хоть я и не люблю плакать, но когда хочу и когда вижу — дело труба, сразу в слезы. — На меня все сваливаешь, теперь я виноват. Если бы я знал, не пришел бы к вам. Никогда больше к вам не приду.
— Не реви, Рудо! Я ведь ни в чем не виню тебя. Только говорю, что ты обмочился. Ведь и я мокрая, вся мокрая.
— А я не мокрый? А я не мокрый? Ведь я спал в Имришковой, зачем меня к себе перетащила?
— Дуралей, я тебя хотела прикрыть.
— Да, да, ты все отговариваешься, а я лежу тут мокрый. Пойду лучше домой! Пойду домой! Я иду домой!
— Замолчи, Рудо! Не то вздую тебя.
— Да, да! Ведь я спал в Имришковой, спал в Имришковой.
— Ах ты дурак эдакий! Не реви только! Я ведь все равно ничего никому не скажу.
— Я пошел домой, пошел домой! И к вам уже никогда не приду.
— Послушай, Рудо, сейчас ты получишь от меня!
— Никогда больше не приду, никогда больше не приду!
— Боже, какой ты глупый! Не реви хоть! Ведь я же говорю, что никому не скажу. Ну давай иди, топай вперед, голова садовая! Нам обоим теперь надо в Имришкову!
6
Но иногда я и помогал ей. Однажды, мне даже кажется, что это было следующей ночью, мастер еще не воротился, а Вильма посреди ночи снова меня трясет. Господи боже, что же опять приключилось?
— Рудко, спишь? Проснись! Кто-то тут ходит!
— Чего-о, чего-о?! А кто ходит? — Я не люблю просыпаться.
— Не знаю. Кто-то по двору ходит.
А мне дремлется. Сплю, сплю, никак не очнусь. Вильма тормошит меня, я открываю глаза и тут же опять закрываю. Подниму голову и тут же опять опускаю на подушку. Но Вильма все теребит меня:
— Рудко, родненький, проснись!
— Да я не сплю. Я только… что?!
— Кто-то ходит по двору.
— А кто, не знаешь?
Я сажусь. Прислушиваюсь. Сначала ничего не слыхать, потом и я что-то слышу. Не сказать, чтобы это были шаги, но все же что-то слышно.
Мы прижимаемся друг к другу. Обоим боязно. Неужто в самом деле кто-то подглядывает? Может, вор какой? Или это Имришко? Имришко — тот бы смело постучал. Кто это может быть?
Я весь покрываюсь потом. Вильма, перепугавшись ничуть не меньше моего, обеими руками прижимает меня к себе, а эта свинья уже притопывает к самому окну. Я бы и не заметил этого, не обрати Вильма моего внимания.
— Вон, вон, гляди! — Она указывает на окно. Я лучше не гляжу, а еще теснее прижимаюсь к ной.
Молчим. Жмемся друг к другу. Оба взмокли от страху. Чуть погодя Вильма подает голос: — Знаю, кто это, — говорит она шепотом. — Соседский Лойзо. Наверняка он. Раз уже ломился сюда.
Но я не сразу ее отпускаю. Подумалось мне сперва, что это она только потому шепчет, чтобы отогнать от меня и от себя страхи.
— Откуда ты знаешь, что это он?
— Знаю. Правда он. Лойзо Кулих. Потому-то я тебя к нам и звала. Боюсь его, потому тебя всегда и зову.
— А что он хочет? — Я сразу смелею.
— Не знаю.
Смелость во мне растет. — Наверно, хочет украсть что-нибудь.
— Нет, нет. Он не крадет. Он тут еще ничего не украл.
Я представил себе Лойзо Кулиха с его яйцевидной головой и толстым носищем, да еще с этой отвратной пастью, которой он на меня почти каждый день скалится. Смеется надо мной и всегда мне кричит: «Мышка, поди сюда!» А иногда; «Ну что, грызун?! Покажи мне зубки!» Он вечно смеется надо мной и над моими большими зубами, хотя о его-то яйцевидной башке и уродливом носе можно было бы наверняка сказать что-нибудь и похлеще.
— Думаешь, это правда он?
— Точно он. Ага, погляди, вон он! — Она опять указала на окно. — Ведь его и в темноте узнаешь. Окна-то я нарочно не заклеила, потому что люблю свет и думала, может, Имришко придет.
— Правда, это Кулих?
— Правда! Видишь же.
Похоже, это в самом деле он. Уже узнаю его по яйцевидной башке. Смело сажусь, даже выпрямляюсь и вытягиваю шею, ведь я все-таки рядом с Вильмой, а Кулих за окном во дворе. — Ну что, старый носатик? — кричу на него. — Думаешь, я твою яйчатую башку не узнаю? Вынюхиваешь тут, хочешь что стибрить? Ну заходи, заходи, поганец носатый. Тресну тебя по этому дурацкому огурцу, сверну твою сопелку…
Мы с Вильмой стали громко смеяться, и Кулих исчез.
Когда я утром проснулся, Вильма, уже одетая, улыбается мне и говорит: — Знаешь что? Не говори о Кулихе никому. Даже дома. Ведь он неплохой, только немного чудной. Если мы кому-нибудь скажем, застыдят его. А мы же не сплетники, Рудко, правда? Захотим — и сами справимся. По крайности было у нас над чем посмеяться.
ВАССЕРМАН
1
Цыгану день ото дня становится хуже. Он весь горит, хотя для него раздобыли уйму лекарств и он их все уже проглотил. Нога у него угрожающе вздулась, и теперь всем ясно, что ее надо было отрезать, давно уже надо было отрезать, но кому было это делать? Многие нашептывают друг другу, что цыгану уже ни черта не поможет, продержится он еще эдак с неделю, и все это время придется ему уже только с самим собой. Некоторые жалеют его, ибо его еще любят, но воевать многие уже потеряли терпение, злятся на него и ворчат, что никому от него нет покоя — день и ночь хрипит, вздыхает, балаболит, поет, завывает и тут же вслед безумно гогочет. А то вдруг сядет или лишь подымет руку да начнет кидаться на своем лежаке и, размахивая как бы в такт рукой, кричит: — Ух, ух! Ух, ух! Ну давай, давай, ух, ух!
А ребята кивают на него: — Ну и ну! Опять у него в руках контрабас! Сызнова наяривает на контрабасе!
А иные цыгана уже ненавидят, едва переносят его, и этот его контрабас действует им на нервы. Разве отдохнешь при цыгане? А сверх того, они еще боятся, что он своими вечными безумными выкриками накличет на них беду. Поэтому его то и дело одергивают. Иногда вбегает в землянку разъяренный часовой и просто пышет злобой: — Черт подери, ребята, заткните этому олуху глотку, ведь он так орет, что лес откликается!
Но цыгана понапрасну одергивать. Порой он вообще ничего не замечает, бубнит, хрипит, выкрикивает и поет себе дальше, а если время от времени кто его сердито встряхнет, он чуть подивится, бывает, что и на минуту притихнет, а потом концерт опять продолжается.
Случалось не раз, он совсем умолкал и довольно надолго, казалось, уже переставал и дышать, и некоторые подходили поближе к нему поглядеть, не умер ли он, чего доброго.
Только цыган очень живуч. А после такого долгого отдыха он какое-то время даже в здравом уме. Вдруг ни с того ни с сего загогочет и скажет: — Ох я и вздремнул! Вы чего на меня так пялитесь? Дайте поесть! Осталось чего-нибудь? И курить охота! Ну живо! Живо давайте, да чтоб все зараз!
— Сила крестная! — раздается откуда-то из угла. — Я уж думал, его песенка спета, а он всего-навсего струну на контрабасе натягивал.
Именно так. Цыган опять их вскоре уверил, что на его контрабасе еще добрые струны и что он умеет играть на них еще хлеще.
Однажды ночью, когда цыган кричал вовсю и разорялся, кто-то не выдержал, подскочил к нему и давай дубасить кулаками куда попало: — У свинья, паршивая свинья, черная! Ты-то выдюжишь, только мне конец придет, вот тебе, вот тебе, вот тебе!
— Что за черт! — вскричал командир. — Что все это значит?
Завязалась короткая перебранка, в которую вмешались и остальные. Они пеняли командиру, что он уже давно должен был навести с цыганом порядок — надо было дотащить его до любой деревни, а там уж нашелся бы какой-нибудь лекарь, но они все только лекарства для него добывали, а на кой ляд были эти лекарства? Будто многие другие не нуждались в лекарствах. А им небось не досталось. Почти все лекарства один цыган слопал. Надпоручик, мол, надпоручик! Все его тут еще и надпоручиком величали. А какой он надпоручик? Кем цыганище может быть, каким еще надпоручиком? Лучше бы заместо лекарств какую жратву раздобыли. А теперь кто с ним пойдет? Кто теперь его до деревни дотащит, когда всюду немцев тьма? Ведь и за жратвой спускаться вниз боязно. Всюду ходят только поодиночке, да еще какой крюк дают, и зачастую даже ничего не приносят, но и то счастье, что им удается вернуться. А сколько и вовсе не вернулись! Их здесь все меньше, их здесь и впрямь уже мало, да все равно оно ни к чему. Зачем они, собственно, здесь? И праздники были, они и от праздников ни шиша не имели, ну видал ли кто такую работу? Лучше б все дома сидели, понапрасну только здоровье свое подорвали! А теперь что? Торчат тут несколько словацких дурней, которые не хотят ни с кем ничем поделиться, хотя, сказать по правде, у них уже ничего не осталось. Только и есть, что этот цыган, а он все просит жрать да курить и, если ему не дают, опять им тут начинает наигрывать.
Они были правы. Командир знал это. Однако он не мог наперед угадать, что все так обернется. Ведь поначалу у них всего было вдосталь! Хватало оружия, боеприпасов, пищи и одежды, даже ром был! И какая дисциплина, порядок, какой подъем! Куда все это делось? Выдержка и подъем сменились недоверием. Да он и сам стал многим не доверять. Перестал доверять и своим начальникам, и, похоже, они ему, потому что вдруг куда-то исчезли, от них перестали поступать даже приказы, и вокруг него осталось лишь несколько человек, которых он берег. Берег всех до единого. И цыгана. Ведь поначалу цыган был среди самых верных. Как никто другой, он часто веселил здесь ребят и помогал ему поддерживать в них дух даже тогда, когда сам был уже ранен. От такого солдата трудно отречься! Сперва отнесли его к доктору, доктор перевязал ему ногу и даже запасных бинтов дал и сказал, что ранение пустяковое и что если парень какое-то время пробудет в покое, то вскоре опять сможет ходить. Так оно и получалось сперва — нога вполне хорошо заживала, цыган был спокоен, и ребята радовались, что он с ними остался, но они без конца перемещались, и цыгана приходилось носить, правда, сам-то он сопротивлялся и даже хотел им показать, что нога потихоньку начинает слушаться, — и вдруг все пошло кувырком, только зря потом за лекарствами гонялись! А теперь уже и лекарств нет, и в деревню не прошмыгнешь, но, даже если куда его и дотащишь, кому доверить заботу о нем, кто обиходит цыгана так, как он заслуживает? Командир уже и своим-то людям не доверяет — опасается, как бы дорогой они цыгана не пристрелили. Многие ему намекали, что надо бы это сделать. А цыган к тому же еще сам просит об этом, и не только когда и бреду, но когда и в здравом рассудке. Командиру приходится постоянно людям напоминать, что каждый должен держать оружие при себе и следить, чтобы цыган не подобрался к нему. А тот знай возмущается: — А мое оружие, где оно? У кого мое оружие?
— У нас мало боеприпасов, — говорит ему командир.
— Для меня мало, а для других хватает?
— Для всех мало.
— Только для меня у вас совсем ничего нет. Все у меня отобрали. Черт знает, зачем тогда вообще меня здесь терпите.
Однажды, когда цыган-надпоручик опять немного опамятовался, он попросил вынести его из землянки. Дескать, на свежий воздух. Двое взяли носилки — цыган лежал на носилках и его часто приходилось вот так выносить, — вынесли наружу и с минуту переговаривались с ним, правда, минута эта несколько затянулась, ибо надпоручик после долгого перерыва опять был в добром настроении. Ребята просто диву давались.
Имро в это время стоял на часах; когда вскоре после смены он возвращался в землянку, надпоручик окликнул его: — Постой, Гульдан, с тобой малость поговорить охота.
Имро обрадовался. Он тоже заметил, что цыгану лучше обычного, поэтому остановился и улыбнулся. Цыган-надпоручик сказал тем двоим, что его вынесли: — Оставьте нас на минуту. Хочу с Гульданом потолковать.
Ребята ушли. Имро остался. — Гульдан, знаешь, откуда мы знакомы с тобой? — начал надпоручик. — Поначалу-то я взять в толк не мог, а потом догадался… И мне все время казалось, что я с тобой уже имел дело и что было оно не из приятных. Поэтому меня и тянуло все время тебя вышучивать. Но не из-за какой особой зловредности. Я только так, маленько над тобой потешался. Ведь и меня мучило, что я тебя никак не припомню. Но я еще и потому серчал на тебя, что ты уже с первой минуты знал, что я цыган. Ведь знал, правда?
— Думал так. Ну а что в этом особенного?
— Да вроде ничего. А может, тебе только так кажется. Кажется, верно, потому, что ты не цыган.
— Но ведь про тебя все это знают.
— И то сказать. Сначала я таился, а потом уж стыдно было в правде признаться. Понимаешь, потом уж неловко было, что я обманывал. Поначалу я чувствовал себя каким-то другим, вроде бы хуже, чем остальные, я как бы сам за себя и за других цыган стыдился, а потом уж так и пошло, неохота было признаться даже в том, что я музыкант, хотя музыкант я хороший, ведь подчас оно так и рвется наружу. Но думал я: признаюсь, что музыкант, потом уж ни от чего не смогу отвертеться, все поймут, что я цыган и что я обманывал.
— Брось ты это, — убеждал его Имро. — Ты не обманывал, за цыган ты совсем не стыдился, наоборот! Ты всегда о них хорошо говорил. Бывало, ты и сам признавался, что ты цыган и музыкант.
— Ты в самом деле так думаешь?
— Тут все так считают, и тебя всегда любили больше, чем кого другого.
— А знаешь что, Гульдан? — улыбнулся надпоручик. — Я иной раз тоже так думал. Только в тебе я малость сомневался. Иной раз сдавалось, что ты хочешь обо мне что-то выведать, то, что, может, никому и не интересно, но ты как бы силком хочешь это выпятить, извлечь на свет божий, будто непременно тебе охота передо всеми громко крикнуть: цыган он, цыган, цыган!
— А разве ты не цыган?
— Но я и хороший музыкант, да к тому же еще кое в чем смыслю. Недавно, когда я проснулся, до меня дошло, откуда, должно быть, я тебя знаю. Вдруг точно пелена с глаз спала. Вспомнил я не тебя, а отца твоего. Уж позабыл, встречались мы с ним раз или два раза. Но однажды я с ним точно встречался. И знаешь где? В Плавече. Я там на свадьбе играл. Вернее, сразу на двух. Там мы и встретились. Разве я не на твоей свадьбе играл?
— Нет, не совсем так! — Имро, сразу повеселев, покачал головой. — Но похоже, оно так и было! Похоже, что так, только женился не я, а мои старшие братья. Оба разом женились. Ну теперь до меня дошло!
— Добро, Гульдан, добро! Только чего так орешь? Никому об этом ни слова. Погоди, я еще не кончил. Знаешь, как я обо всем этом вспомнил? Тогда я хлебнул лишнего, и вышел у меня разговор с твоим отцом. Крутился он все время возле меня, и мы балагурили с ним о том о сем и о политике тоже. Кой в чем мы сходились, а кое в чем нет, но мне сдавалось, что отец твой в некоторых вещах жуть какой твердолобый, а еще и горячий, хотя это, может, скорей цыганское свойство, вот я ему и не уступал. Этот тогдашний разговор тянулся бы целую вечность, да только у меня там был контрабас и мне надо было играть. Временами я на твоего отца склабился, а из-за того, что он меня все снова и снова подкалывал, контрабас тоже стал на него скалиться. Он за милую душу тогда и контрабас бы расколошматил, но, поскольку хотел меня во что бы то ни стало оскорбить, сунул мне в карман пятикронку.
— Правда? Должно быть, больше у него не было. Не думаю, чтобы мой отец хотел тебя оскорбить.
— Похоже, что хотел. И ему удалось. Привык я, что люди мне под смычок, в контрабас или в карман деньги суют. Давали помногу, иной раз и впрямь давали помногу, но я умел играть и задаром, хотя знал, когда, кому и где. И люди мне, ей-богу, ни разу не переплатили. А твой татко дал мне всего пять крон. А он не дурак, знал небось, что этого хватит. Чтоб оскорбить, этого и впрямь хватит. Поначалу он оскорбил десятикронкою, но я хотел отгородиться от этого, бросил ее на цимбал, только тут твой татко вынул еще пять крон, и не потому, что хотел мне добавить, просто хотел найти шпильку поострее — вот откуда эти самые пять крон. Он знал, что я подтер задницу его сотней еще раньше, чем он дал мне ее. Поэтому он мне ее и не дал, знал, что этот номер у него не пройдет. Может, это его и злило. Оттого и эта шпилька! И он кольнул! Так кольнул, что я лишь поклонился: «Благодарствуем, мастер!» И чувствовал себя до того приниженным, что эту пятикронную не мог уже ни воротить, ни отшвырнуть, ни даже поделиться ею. Я просто оставил ее себе. Долго я о ней думал. Наверняка и он о ней вспоминал. Знал небось, что делал. Ей-богу, твой татко наверняка это знал. Интересно, что он теперь думает. С той норы много воды утекло. Я свои взгляды тоже малость подправил, вот и хотел бы его теперь повидать. Наверняка и он круто переломился, если враз на месте его не подкосило и удар не хватил. Скажи ему, что я на него зла не держу. Скажи ему, что я на него зла не держу, но про ту пятикронную, про ту его шпильку, не забыл. Напомни ему о ней. По-хорошему. Хочу по-хорошему ее воротить. Пускай она у сына будет, ты-то наверняка ему примерный сын. А теперь застрели меня! — приказал он и строго посмотрел на Имро.
— Ты что, рехнулся?
— Не рехнулся! Застрели меня, у меня опять жар. Я уж чувствую. Ежели ты мне пули пожалеешь, кто надо мной тогда смилуется?
— Чего плетешь? Ты чего, брат, мелешь?! Если скажу командиру, что ты мне говорил, его от злости кондрашка хватит.
— Да и тебя хватит. Думаешь, тебя не хватит? — Цыган все более раздражался. — Я к тебе как к товарищу. Еще и про отца рассказал. Еще и про шпильку эту. Если ты мне не поможешь, кто мне тогда поможет? И сказал еще, что на отца не сержусь. Ведь сказал?
— Сказал.
— Даже не сержусь на него. Ведь и меня, Имро, эти его пять крон кой-чему научили. Если хочешь, можешь ему и это передать. Только теперь застрели меня, это твой долг, ты его сын, теперь твой черед уколоть меня!
— Да ты совсем спятил! Опять бредишь! Сперва говорил разумно, а теперь снова бредишь. Ты что обо мне думаешь? Придется про это сказать командиру.
— Ну ступай, ступай, душа пятикронная! Шпилька зловредная, никчемная, паршивая, что всегда в человека только исподтишка вонзается! С виду хочешь быть чистеньким, всегда с виду хочешь быть чистеньким, ты, убогий работяга, убогий поденщик, тупица со школьным свидетельством, губитель хвойных деревьев, бандит, вор, пятикронный вор, свинья пятикронная, что отродясь не сделала и не сделает ничего путного, ты, стукач чертов, шпилька потаенная, убогая, недоквашенная, недоросшая ты пятикронка словацкая…
2
Все знали, что цыган долго уже не протянет, что конец его близок. Похоже было, что он и сам это знает. Все жалели надпоручика, и командир жалел.
Как помочь ему? В горах уже никто ему не поможет. Оставалась последняя надежда.
— У кого хватит смелости спуститься в деревню? — спросил командир.
Вызвался Имро.
— Но там немцев полно, — остерег его командир. — Тебе нельзя одному. Кто-нибудь должен тебе помочь.
— И я с вами — вызвался причетник. — Мы с Имришко знаем друг друга. Глядишь, и повезет нам.
— А не уйдете? — спросил командир.
— Мы еще пока туда не дошли. Да и можно ли учинить такое? Дело-то касается нашего человека.
— Надо быть крайне осторожным. Повсюду немецкие патрули. А они стреляные солдаты, умеют здорово маскироваться, не верят ни черту, ни дьяволу, воина им самим уже обрыдла, оттого и злости в них столько.
— Знаем. Не впервой с ними встречаемся.
— Да и деревенским с ходу нельзя доверять. Никогда не знаешь, на кого нарвешься. Они боятся немцев, но боятся и нас. И удивляться нечего. Многие уже нахлебались. Получили от немцев, но и мы с ними особо не церемонились. Затесались между нами всякие, кое-кто выставил рожки. И немцы, переодевшись в партизан, натворили много дел. Слыхал я, что якобы и некоторые наши гражданские, чертовы подонки, напялив на себя немецкую форму, вольготно ходили разбойничать. Так разве не с чего простому человеку бояться? Оттого и нам трудно. Нельзя даже в порядочную разведку сходить. Днем и ночью цепенеем от страха, боимся, что немцы знают о нас и в любую минуту могут сюда нагрянуть. Завтра или послезавтра придется снова перебираться. А пошлю кого в деревню, то почти каждый или даст деру, или его немцы схватят. Наши люди голодные, у нас совсем нет провианта. И потому тоже надобно стоянку сменить. Но прежде всего нужно найти для надпоручика какое-нибудь подходящее место.
— Попробуем. Коли нас не поймают и с нами ничего не случится, попробуем прихватить еще и жратвы какой-никакой.
— Нет, поймать вас ни в коем разе не должны. Иначе все впустую. Да и вам самим придется солоно.
— Ну стало быть, не поймают. А если и поймают, будем молчать. Мы здесь уж давно, знаем, что к чему.
— Ну держитесь! И в добрый час!
— Подождите, и я с вами! — в последнюю минуту поднялся и Онофрей. — Пойду с вами. Если хотите, пойду впереди. Кому-то все равно надо быть впереди. Не бойтесь, у меня глаза острые, как иголки, и с автоматом управляюсь неплохо…
3
Имро с причетником несли цыгана на носилках, а Онофрей шел в нескольких шагах впереди, расстояние между ними то увеличивалось, то уменьшалось, они давали ему чуть отойти, выжидали немного и двигались снова лишь тогда, когда он кивал им, но мной раз и он поджидал их, желая что-то сказать, а обменявшись с ними несколькими словами, опять уходил вперед. Онофрей зорко во все всматривался и поминутно подавал им всякие знаки.
Цыган был спокоен. Радовался, что с ним хотя бы что-то происходит. Он сразу почувствовал себя почти здоровым, ему хотелось даже петь, и, если бы ему дозволили, он, глядишь, и запел бы.
Лес редел, они потихоньку приближались к деревне, между деревьями уже проглядывали первые хатенки, занесенные снегом. Из труб дымило. Достаточно было пройти чуть волнистой прогалиной — возможно, это была луговина, но теперь разве узнаешь? — и они могли быть уже в деревне.
Онофрей вдруг замедлил шаг, почти остановился и одновременно подал им знак рукой, но они, не поняв этого знака, подошли вплотную.
— Плохо дело, ребята, — зашептал Онофрей, бледный от страха. — Там немцы! Нас уже заметили. Ждут, когда мы подойдем ближе, хотят заполучить живьем. Я еще пройду маленько вперед, будто ничего не случилось, а вы сверните вправо, вон за тот бугорок, оттуда легче вам будет бежать.
Имро удвоил внимание. Ему показалось, что между домами мелькнула фигура в серой униформе.
— Гульдан, дай сюда автомат! — сказал цыган повелительно. — Дай мне скорей автомат и беги.
Имро не слышал. Он напряженно всматривался. Хотел точнее определить обстановку. Но времени было мало.
— Черт подери, дай ему автомат! — крикнул Онофрей, сорвал с плеча у него автомат и бросил цыгану. — Стреляй! Мы должны их задержать! А вы бегите, быстрее бегите, черт подери, да проваливайте отсюда!
В этот момент от домов донеслись выстрелы.
И Онофрей открыл огонь.
Цыган, как бы еще пытаясь все задержать, поначалу только поднял вверх автомат. — Не стреляйте, ребята! — кричал он немцам. — Я музыкант… Бетховен, Моцарт! Cosi fan tutti, Dichter und Bauer, Lili Marleen, Servus, Kamerad, Es klopft mein Herz bum bum… Leichte Kavallerie… Violino, ребята! Viola da gamba и viola da braccio[50], бога ради, не стреляйте! — Но тут и он стал стрелять, хотя продолжалось это недолго — немцы вскоре угодили в него.
А причетник, словно помешавшись в рассудке, кинулся совсем в другую сторону. Имро хотел крикнуть ему, собственно, даже крикнул, но было поздно — именно в эту минуту причетник перекувырнулся.
Имро на миг остановился. Но в руках у него ничего не было, он не мог никому помочь, поэтому бухнулся в снег, несколько метров полз, потом, поднявшись, быстро вбежал в лес, а немцы все еще палили по нему, хотя, пожалуй, не так уж остервенело.
Уже в лесу он несколько раз оглянулся. Немцев было четверо. Двое еще стреляли, но как бы вслепую. Двое других между тем подбежали к Онофрею, силившемуся подняться с земли, и стали грубо пинать его ногами, и, хотя ему удалось привстать, он снова упал, а эти двое все пинали его и били, из-за домов выбегали другие фигуры в серых формах…
Помочь Онофрею нельзя было ничем. Имро опрометью кинулся прочь, чтобы хоть самому спастись.
4
Бежал Имро долго. В сущности, это не был бег, в глубоком снегу особенно и не разбежишься; он бродил, увязая в снегу и вспахивая сугробы, пока сил хватало. А потом остановился, от усталости завалился в снег, а когда чуть отдышался, спросил себя: господи, куда я бегу? Разве еще идут за мной? Ведь, может, за мной уже не гонятся.
Он прислушался. Вокруг была тишина. Где я? Где примерно наш лагерь? Видать, я здорово уклонился в сторону. Ну и ладно. По крайней мере немцев сбил с толку. Лишь бы не пошли за мной по следу с собаками!
Он передохнул немного, пытаясь тем временем сориентироваться, а потом двинулся дальше, но уже не спешил — был очень голоден, и сил у него поубавилось. Он хотел поскорей рассказать ребятам обо всем, что случилось.
Прошел метров двести, и вдруг ему показалось, что он заблудился. Снова огляделся. Где я? Ведь здесь и тропки-то нет. Если бы шел правильно, я был бы уже в лагере. А тут одни бугры, и все незнакомые, я сроду их не видал. Разве я бывал тут раньше?
Пожалуй, нет. Должно быть, слишком далеко забрел.
Он повернул назад. Идти теперь было легче, так как шел под гору, Правда, недолго — он опять чуть свернул, и на пути у него вырос новый бугор. Взбираться на него не хотелось, и он его обогнул. Но видать, зря это — вскоре перед ним вырос следующий, еще более высокий бугор. Этот он уже не стал обходить. Не захотел. И с большим трудом вскарабкался на него. И когда был уже наверху, с облегчением вздохнул: хорошо! По крайней мере отсюда все как на ладони. Ага, вон там, это должно быть, наша речка! Да, точно наша, ходим к ней за водой! Слава богу, не сбился с дороги! Но все равно точно не знаю, где я. Похоже, надо было подняться еще выше.
Он спустился в долину, а потом вдоль реки, уже посмелей и веселей, поднялся наверх.
Прошло несколько минут, и он снова засомневался. Нет, уж куда выше! Не может быть! Я совсем заплутал. Но ведь это же наша речка, убеждал он себя, может, я просто шел другим берегом, может, я пересек ее еще раньше и на бегу не заметил. Надо вернуться.
Он так и сделал. И очень скоро пришел к знакомым местам, нашел и тропу, что вела в лагерь. Он зашагал по ней и вскоре увидел землянку. Господи боже, но что это? Кто там стоит?
Имро бросило в дрожь. В нескольких шагах от землянки стоял, прислонившись к дереву, солдат в немецкой форме.
Имро метнулся за дерево.
Но солдат — ничего, даже не шелохнулся.
Черт, на этот раз мне повезло! Что этот малый там делает? Заметил меня или нет? Похоже, что нет. Хоть бы мне еще чуток повезло! Надо поскорей смыться отсюда.
И он незаметно исчез.
Но и потом все это казалось ему невероятным. Неужто он меня и впрямь не заметил?! Уму непостижимо! Не мог же он меня не видеть. А если видел, почему не стрелял? И кто знает, кто знает, сколько их там было?! Если был один, значит, их там было и больше. Как они там очутились? Откуда пришли? Неужто они из тех, что бежали за мной? Но почему они ничего мне не сделали? А где же наши? Что с ними? Ведь должны же они были хоть защищаться! Но тогда я бы услыхал. А я ничего не слыхал. Господи, что случилось?
Он никак не мог успокоиться. Он отшагал уже изрядный кусок пути, а затем, сделав крюк, вернулся назад. И долго, напряженно всматривался со стороны противоположного бугра, выжидая, что же последует дальше. Но ничего не последовало. Он ничего даже не видел. Пришлось немного спуститься.
Между тем слегка начало снежить.
Он продвигался шаг за шагом. Где этот малый? Ах вон он, все там же. И это действительно немец, и он совсем не двигается, стоит, как и раньше стоял. Возможно ли? Что он там делает? Что это за человек?
Имро долго глядел на солдата, но тот не сделал ни единого движения. Тьфу ты черт, ведь должен же он пошевельнуться, хотя бы качнуться чуть, но он ни рукой не двинет, ни шага не сделает, не переступит ногами, а ведь и ему, поди, холодно, ему должно быть холодно, и поостеречься ему не мешает.
Не спуская с солдата глаз, Имро снова двинулся, он осторожно заносил ногу за ногу и почти при каждом шаге останавливался и прислушивался. Но осторожность его была излишней, хотя, конечно, Имро этого еще не мог знать.
Вокруг царила несказанная тишина, бесшумно падал снег, а немецкий солдат стоял как заколдованный.
Имро был от него уже в нескольких метрах, но и их пройти у него не хватало смелости. Смешно! Смешно говорить о смелости. Может быть, Имро тоже невольно понял это. Тьфу ты дьявол, ведь он же может подстрелить, какого черта он не стреляет?
Он сделал еще несколько шагов и только тогда понял, что немец ничем не может ему навредить. В самом деле, не может. Он подошел к нему, внимательно обглядел, даже дотронулся до него. Немец был мертв. Он висел на толстом суку огромной сосны, причем висел так низко над землей, что казалось, будто стоял там, и он, пожалуй, мог бы стоять, не будь у него согнуты ноги. И он был босой. Эй, парень, кто же тебя разул? Видать, кто-то свистнул у тебя сапоги.
Разумеется, Имро долго его не разглядывал. Он вбежал в землянку, где пришлось ему еще больше изумиться. В землянке не было ни души. И вокруг никого. Был только один висельник. Силы небесные, что тут приключилось?!
На снегу виднелось множество следов: одни вели в землянку, другие — в горы. Значит ли это, что ребята ушли? Командир говорил, что они должны сняться с места. Но почему так внезапно? Их кто-то вспугнул? Кто-то гнался за ними? Куда они ушли? Ведь этих следов, что ведут сюда, не так-то и много, ребятам, пожалуй, не надо было уж так стремглав убегать, наверно, можно было попробовать и защищаться. Или кто-то пришел предупредить их? Кто и когда? Откуда здесь взялся немец? Кто его повесил?
А не лучше ли ему побыстрей отсюда убраться? Только куда? Вниз, в деревню? Ведь он оттуда прибежал сюда. А теперь? Куда теперь? Что, если немцы выследили отряд, а иначе чего бы ребятам убегать сломя голову?! Если немцы и не кинулись за ними сразу же, то Имро наверняка привлек их внимание, и теперь они наступают ребятам на пятки, того и гляди настигнут. Однако не побежит же Имро за немцами вслед, не станет же поджидать их или попадаться им на дороге!
Между тем уже завечерело, Имро был страшно голоден и изнурен. Трясло его и от холода — ему так хотелось согреться, но огонь в землянке потух, а спичек не было. Может, они есть у этого немца? Он подошел к солдату, порылся в его карманах, спичек не нашел, да и забыл о них. Зато просмотрел его бумаги и фотографии, заглянул и в дневник, полистал его, пробежал и несколько писем, но он не настолько знал немецкий, чтобы с ними дольше возиться. Он нашел у него в кармане и военный билет. Ганс Вассерман! Да, так звали этого малого. С минуту он глядел на его фотографию, потом просмотрел и другие, хотя он уже раз просматривал их и Вассермана там не заметил, но теперь он увидел его, увидел почти что на каждой. На одной фотографии немец (Имро внимательно вгляделся, он ли это) сидел на земле, ремонтируя велосипед, и смотрел в объектив или на кого-то, стоявшего рядом, на другой — немец сидел в лодке, греб — подбородок выставлен вперед, руки вытянуты, он как раз собирался зачерпнуть веслами воду — и улыбался жене, сидевшей напротив, она не была особо красивой, но фотография может и лгать, на женщине была майка, в волосах цветок, возможно искусственный, или даже заколка, украшенная цветком, и насколько худ был он, настолько она (неужели это его жена?) была упитанна и мило, ну просто блаженно, улыбалась. Однако Имро больше всего заинтересовался фотографией, на которой Вассерман стоял у грузовика, вероятно, ремонтировал его — в руке он держал какой-то ключ, а рядом лежало отвинченное колесо, он стоял чуть пригнувшись и кому-то улыбался, высовывая язык. Имро долго смотрел на эту фотографию, немец выглядел на ней гораздо убедительнее и больше всего походил на Вассермана, что был перед ним, только этот не улыбался.
Имро нашел и табакерку, а в ней пять или шесть словацких сигарет. Он ненадолго задумался, потом одну сигарету сунул в рот и опять засновал руками по Вассермановым карманам, но спичек все равно не нашел. Он вложил сигарету обратно в табакерку и снова призадумался — хотел, должно быть, вернуть немцу и табакерку, но не вернул. Зачем она ему? Зачем она тебе, ведь ты уж все равно не куришь и курить больше не будешь, а мне понадобятся сигареты, я ведь и сейчас охотно бы закурил!
Он опустил табакерку в карман, постоял возле Вассермана, а потом сказал громко: — Уж не свихнулся ли я? Пожалуй, да. В уме вроде мешаюсь! Но это, верно, от голоду. И от усталости. Я целый день на ногах! Боже ты мой, и что я пережил! Пережил ли я? Это же немыслимо! И как я есть хочу, и устал как! И холодно мне, и в жар кидает! Господи, что делать?! Куда теперь идти? Не могу же я тут остаться! Не могу тут остаться и потому, что уже мешаюсь умом, в самом деле, ум заходит за разум!
Он стоял перед землянкой, глядел в долину. Неужто воротиться? Но зачем я тогда бежал сюда? Я ведь должен был принести и какой-нибудь еды, что, если они ждут меня? Но где ждут? Может, уже и не ждут. А может, они и не ушли далеко. Если пойду по следу, может, найду их! Если бы я только знал, что случилось, и не был бы таким голодным и усталым!
Но он все равно пошел. Шел и тогда, когда уже совсем смерклось и он потерял след.
Господи, куда я тащусь? Я ведь уже ничего не вижу. Везде только снег, снег, и впереди и сзади. Куда к черту все подевались? Ежели пойду еще дальше, собьюсь с дороги, тогда меня уже сам черт не отыщет, просто в лесу от устатка и сдохну.
Он дико испугался этой мысли. Нет, идти дальше нельзя, но и тут нельзя оставаться! Не хочу подыхать, нет, нет, не подохну, не могу подохнуть! Я должен воротиться! Все равно куда!
Он обшарил глазами лес, потом повернулся и побежал назад.
Он совсем выбился из сил, но все-таки бежал, скатывался под гору, разрывая телом сугробы, а потом просто плелся, качая головой из стороны в сторону, лизал снег, а когда в конце концов остановился и поднял взгляд к небу — захотелось завыть. Будь он волком, и впрямь бы завыл!
А тем временем, пока он блуждал, прорвалось небо, и из-за туч выглянул узкий рожок месяца, снег вновь побелел, зеленые ели выступали на нем еще резче и еще смелее тянулись ввысь…
Будь он волком, и впрямь завыл бы!
А вместо этого он взял да и рассмеялся, хотя у него тут же потекли и слезы. Ах глупец я! Ведь знаю же, где я, отлично все узнаю! Вон там речка, да, наша речка, я не могу здесь пропасть! Потому что здесь речка, и это в самом деле наша речка, она должна быть тут, должна быть тут, должна и сейчас быть тут!
Имро как бы приказывал, и приказывал так, что будь речка в каком ином месте, она наверняка сразу бы переместилась туда, где он повелевал быть ей.
Но речка и так была там, и Имро снова по ней сориентировался, и, хотя потом еще какое-то время плутал, снова отыскал землянку, от которой до сумерек отошел, отыскал ее и очень обрадовался. Он увидел и немца, но теперь уже не испугался его. А нарочно теперь уже ради него поднял голову и выпрямился. Ну как, Ганс?! Он посмотрел ему прямо в лицо и громко рассмеялся. Как дела? Как тебе живется в Словакии? Видишь, я опять тут! Потому что я здесь дома, Ганси, хотя и ты уже нашел здесь свой дом. Схлопотал! Оба мы схлопотали! Больше нам уж нечего друг друга бояться. Остались мы тут только вдвоем. Ну как себя чувствуешь, Ганси? И тебе холодно? Я уже мешаюсь умом, у меня жар. Ты должен стоять на посту, ты должен тут меня караулить и шуцовать! Но погоди, сперва я перережу веревки, не по нутру мне, когда рядом висельник.
И он в самом деле перерезал веревку, стоило это ему большого труда, да и потом он еще повозился с немцем, стараясь прислонить его к дереву. — Стой, Ганси! Так! Внимание! Achtung![51] Стой смирно! Осторожно, Ганси! И не падай! Ей-богу, я уже мешаюсь умом.
Он вошел в землянку. Нашарил нары, свалился на них, но ему нечем было прикрыться. Он нагреб высохшей хвои, зарылся в нее, но и это не помогало. Он все время ворочался, ему было страшно холодно.
А что, если взять у Вассермана шинель?
Неплохая мысль. Но он был донельзя измучен и не хотел слезать с нар. Мыслимо ли это? Я ли это вообще? Может ли навалиться на человека такая беда? Что со мной? Что вообще случилось? Ага, знаю ведь! А этот парень, пожалуй, и сам мог бы мне шинель принести. А есть ли вообще на нем шинель? Ну ясно, есть! Какой я все же болван, я же сам выворачивал у него карманы.
Он медленно слез с нар, вышел наружу и снова заговорил с немцем: — Где ты, Вассерман? Послушай, может, ты одолжишь мне шинель? Ведь тебе уже все равно, ты уже привык к холоду. А не одолжишь шинель, так и мне скоро капут.
Он стал раздевать немца, но тот так окаменел, что не было никакой возможности стащить с него шинель. — Не дури, парень! Видишь, как я умаялся и как у меня зубы стучат! Ну и осел я! — Имро почти что вслух рассмеялся. — А нож у меня зачем? — Он вытащил нож и разрезал рукава шинели — с ними-то он и не мог никак справиться. — Ну видишь, ничего не случилось, я тебя не обидел. Ведь это я тебя с дерева снял. Могу и твоей шинелью малость попользоваться.
Имро снова поставил Вассермана, прислонив его к дереву, но теперь он оказался прямо у входа в землянку. Имро понял это. Он решил исправить дело, да не тут-то было — пальцы у него совсем окоченели, и терпение лопнуло. — Тьфу ты черт, отличного же я себе часового выбрал! А, дьявол с ним! Ганси, так ты хоть неплохо приглядываешь за мной! В конце-то концов, сейчас уже ночь, и у меня все равно в голове мешается, можешь и ты меня покараулить… Ничего, ничего, только бы согреться… Ганси, покойной ночи!
И ночью его трясло от холода. Несколько раз он соскакивал с нар и выбегал наружу, думал бежать, но не знал куда. Деревни он боялся, да и была она так далеко, немыслимо далеко! Он боялся и леса и потому всякий раз возвращался.
Под утро небо совсем прояснело, но на нем все еще сверкал узкий рожок месяца, озаряя гордые величавые ели, снег мерцающе белел, и Имро, почти что плача, похлопывал Вассермана по плечу и говорил: — Ганси, браток, товарищ мой, в чем мы с тобой провинились, почему мы должны быть здесь? Кто тебя сюда послал? Что у тебя было против меня? Ты, старый болван, зачем сюда пер? И за что тебя так, браток? Или ты сам удавился? Ты боялся? Болван, тебя-то ведь я еще и теперь боюсь! Но я не повешусь, выдержу до утра!..
Он снова вбежал в землянку, накрылся Вассермановой шинелью, но его по-прежнему трясло от холода. — У меня жар, страшный жар, — говорил он вслух, — месяц мне светит, господь послал мне месяц и Вассермана… Хоть чуток отдохнуть…
Заснул он только средь бела дня.
Проснувшись, он почувствовал себя еще более разбитым, не мог даже шевельнуться и испугался, что никогда, уже никогда не пошевелится. Он попробовал двинуть ногой — не вышло. Господи, что со мной сталось?! Возможно ли так задеревенеть? Он попробовал пошевелить пальцами руки, потом всей рукой, наконец он потихоньку задвигался, умудрился даже слезть с нар и почувствовал себя счастливым, что у него есть силы и он может ходить. Ему почти не верилось, что ноги могут служить ему. Но они служили. Он прошелся взад-вперед и какое-то время в самом деле был счастлив. Было бы еще что поесть! А в общем-то, нет, голода я уже даже не чувствую, вот сигарета была бы кстати!
Он нащупал табакерку, раскрыл ее и с минуту обнюхивал сигареты. Одну вложил в рот, несколько раз вхолостую затянулся, а потом просто съел ее. И рассмеялся, чего, однако, делать было не надо: табак в сигарете был мелкий, сухой, он застрял в горле, и Имро стал задыхаться. Гадкая была сигарета. Кашлял он еще и тогда, когда уже совсем забыл про нее.
Тем временем он вышел из землянки, остановился у входа, вдохнул свежего воздуха, бросил в рот горсть снегу и, когда кашель кое-как его отпустил, попробовал все в голове упорядочить и прикинуть, что делать дальше.
Вдруг он заметил, что Вассерман плачет. Имро просто глаза вылупил. — Бред все же какой-то! Ты плачешь, Ганси?! Неужто я уж совсем свихнулся? Скажи, приятель, отчего ты плачешь, что с тобой стряслось?
Он подступил к нему ближе, вгляделся. — Не дури, парень! Ты плачешь? Ага! — Он пальцем отер ему слезы, чтобы лучше удостовериться. — Ну я и набитый дурак, это же оттепель! Снег, вода, Ганси, это просто оттепель! Пусть хоть что-то! Коль мы выдержали до сих пор, теперь-то уж не замерзнем! Отлично, камрад! Теперь-то мы не замерзнем! Как думаешь, сколько сейчас может быть времени?
Утро еще? Или уже полдень? Черт знает, сколько теперь! Кто знает, когда я заснул и как долго спал?! И спал ли вообще? Сон ли это был? Пожалуй, немного спал! Слава богу, что проснулся, мог же и не проснуться! У меня жар, все еще жар! Но я выдержу, теперь-то уж выдержу! Что надо делать? Ага, знаю, конечно, знаю, надо идти в деревню! Не в ту, где был, а в какую-нибудь другую! Все равно в какую! Ну привет, Ганси! Я пошел, я не задержусь здесь! Там я тебе оставил шинель, хочешь — можешь взять ее обратно. Прости, браток, ночью я отобрал ее у тебя, но что было делать! Не сердись на меня! Я тебя не забуду, запишу в памяти твое имя готическим шрифтом! Ну что ж, бывай! И не плачь, Вассерман!
ПОЧТА
1
А почта работает. Хотя и не для всех. Работает-то работает, а некоторым все равно может казаться, что для них почты вовсе не существует или что другим она лучше служит. Во всяком случае, для них почты как бы вообще нет.
Но почта работает, в самом деле работает. Хотя снегу всюду навалом. Трам-та-та-там! Или: дзинь-дзинь, дзинь-дзинь! У словацкой почты, право слово, никогда рожка не было. Но почта работает, все-таки работает! Слышите, люди, толкуйте себе что угодно, а все-таки словацкая почта работает. Конверты с письмами и открытками иной раз до того забиты штемпелями, что там вообще не разберешь адреса, только почтальон, хоть это и словацкий почтальон, и самый что ни есть заурядный, пошныряет глазами по штемпелям и в два счета меж ними найдет адрес, а чтобы всем было ясно, что это он нашел адрес и что даже адресата знает, поднимет важно нос, одновременно и руку и, чтобы добавить адресату да и словацкой почте весу, прихлопнет сверх того еще один штемпель — наша словацкая почта на штемпеля не скупится.
Крнишов 7.2.1945.
«Дорогая Агнешка и мои любимые доченьки!
Не знаю, получили ли вы мои предыдущие письма, но надеюсь, что да. Мне все же сдается, что почта пока работает довольно хорошо. И то сказать — молодцы почтари! Только и нам, жандармам, надобно помнить, каковы наши обязанности. Многим кажется, что мы то на одной, то враз на другой стороне. А для нас всегда первым делом наши люди, не можем мы их натравливать друг на друга, потому как у них и без того хватает мучений, их и чужие обижают, а бывает, они и сами друг друга поубивать готовы. А жандармерия всегда должна была, да и нынче тоже должна следить за порядком. Иногда люди не хотят признать этого, и зачастую жандарму приходится что с одной, что с другой стороны всякое проглатывать. Сколько раз я сожалел, что пошел в жандармы. Агнешка, знаешь ведь, как все получилось! Сперва был рад, что мне посчастливилось: не каждый же мог стать жандармом. А я стал им еще во время Чехословацкой республики, а когда потом наша словацкая республика образовалась, я уж был какой опытный, только разве я думал тогда, что меня ждет?
Ладно, нечего мне столько охать. Обращаюсь к прошлым письмам. Деньги, то есть жалованье, мы получили, и ехалось нам хорошо. Собственно, первый раз ехал я только один. В Жилину прибыл благополучно, а из-за того, что пришлось до утра там ждать, временами мне было не по себе. Умаялся я, и напала на меня страшная дрема. Прислонился я к стене и попробовал уснуть, похоже, и подремал маленько, но поминутно открывал глаза, ведь приходилось еще и следить — у меня было много денег, да еще поезд надо было укараулить. И вдруг я увидел одного мужика из церовского имения. Спервоначалу я даже его не признал, а он-то меня признал и вроде бы даже сперва оробел, но потом заговорил со мной. На мой взгляд, мужик этот был сильно даже подозрительный и имел жалкий вид. Может, только поэтому он и заговорил со мной и сказал, что звать его Шумихраст. Не хочу тут всего писать, потому что он мне много чего нарассказывал. Заверял, что до самого рождества был с нашим Имро и что до той поры с ним был полный порядок, то есть и с ним, и с Имро. Говорил он со мной до невозможности осторожно и без конца озирался, боялся немецкого патруля. Уверял меня, что Имро жив-здоров, теперь-то, дескать, он о нем ничего не знает, но думает, что с Имро ничего не случилось, даже он, мол, наверняка уже подался домой и наверняка, мол, уже дома отсиживается, но он-то сам домой боится идти, потому как вступиться за него дома некому. А потом он спросил, не дам ли я ему несколько крон и чего-нибудь поесть. Я дал ему кой-чего, и мне показалось, что в основном он нажимал на еду, уж больно жадно ел, а наевшись, не стал дожидать даже поезда, только меня еще раз заверил, что Имро правда живой и что поезда еще ходят. И впрямь поезд пришел. Я в благополучии доехал до Вруток, а там пересел на зволенский поезд. В Дивиаках на станции ждал меня мой коллега, с которым мы потом совместно ехали в Крупину, куда попали только вечером, переночевали там у другого коллеги и на следующий день отправились пешим порядком через горы. Только я в дороге совсем умотался, взмок даже, поэтому хотя бы на остатний путь мы наняли сани, а те довезли нас сюда, до самого Крнишова. Во вторник в 11 часов пополудни мы прибыли уже на место и за сани уплатили 50 крон. Были мы очень усталые, но при этом и счастливые, что без всякого злоключения воротились назад, и ребята нас приняли радостно — были довольные, что мы привезли деньги.
Нынче уже среда, и мы прослышали, что русские наступали на Зволен, но, опять же по слухам, наступление это было отбито. Не знаем, что будет дальше. Домой теперь уже наверняка так скоро не приеду. Прошу тебя, дорогая Агнешка, следи за собой и за нашими детьми! Пока еще можно и пока еще есть у тебя немного денег, не забудь купить какую-нибудь материю, купи и для детей что-нибудь, а если у тебя что останется, можешь купить и мне для гражданки, потом-то уж навряд что-нибудь можно будет найти. Или отдай сшить ботинки! Мои, те, что сшил Кулих, выдержат, думай теперь единственно о себе и о детях, очень прошу тебя, следи за ними!
Это известие о Зволене передавала Братислава. Поэтому считаю, что железнодорожная связь со Зволеном будет прервана. Но ты хотя бы пиши, пока есть возможность, Если письмо уже будет на почте, почтальоны что-нибудь да напридумают, уж как-нибудь доставят письмо. Не тревожься, я тоже буду тебе писать!
И еще одно: нынче в полдень, когда мы пришли обедать, получили капустные галушки, и то всего ничего, а супу вообще не дали. И это был весь обед. А еще эта баба ни с чего взяла да и брякнула, что кормить нас уже не может, чтобы ужин мы уже искали где в другом месте. Заплатили мы и пошли. Вот как тут обстоит с питанием. Одно горе!
В воскресенье, то есть 4 февраля, русские самолеты бомбили Крупину. Два немецких солдата погибло. Городскую думу, где Чукаш служил, разбомбили, и страховая касса уничтожена. На счастье, бомбежка была в воскресенье пополудни, когда там никого не было.
И еще одно: Штево Плучек был в воскресенье в Дивиаках у моего коллеги, что живет возле того красивого замка с башенками, и тот сказал, что шестнадцать жандармов уезжают в Братиславу, потому что относились к Банска-Бистрице, а оттуда жандармов эвакуируют. Другие жандармы, которые не хотели уехать из Банска-Бистрицы, остались там.
Агнешка, дорогая, уже кончаю. Это, скорей всего, последнее письмо. Хоть и буду писать, а не уверен, доставят ли тебе почтальоны мои последующие письма. Молись за меня и за вас всех, за мое скорое возвращение, за наше спасение и защиту, чтобы мы снова могли жить с нашими любимыми доченьками в нашем прекрасном и любимом отечестве. Горячо вас всех целую.
Штефан».2
Но почта не прекращает работу. На Агнешку письма так и сыплются. Штефан и впрямь заботливый отец, примерный супруг, сознательный жандарм, у него ведь хорошая жандармская выучка, он пишет, пишет, пишет, почтальоны с его письмами просто с ног сбились.
Иной раз какое его письмо и малость задержится, но редко когда виной тому почтари. Уж если что попало в почтовый мешок, уж если что проштемпелевано почтой, то уж, право слово, не затеряется! А если б и затерялось, я бы даже не удивился! Сколько раз такой мешок попадает в почтовый вагон, и железнодорожники — этим тоже почет и уважение! — стремятся такой вагон протолкнуть побыстрей, но вдруг встревает немецкая военная власть и приказывает: весь состав перегнать на запасной путь, и вот железнодорожникам приходится маневрами по этим запасным путям либо разными там петлями и обходами перегонять этот состав на отведенное место. Но и тут может всякое приключиться. Кто-то возьмет да и упредит партизан: по этому пути пройдет один подозрительный поезд, известно о нем немного, но вроде бы повезет он каких-то немцев и то, что они у нас награбили. И вдруг почтовый вагон взлетает в воздух. Иной железнодорожник не успеет и ойкнуть, не то что послать маменьке или своим деткам поклон. В самом деле опасная это служба. Я бы каждого железнодорожника орденами наградил. По меньшей мере двумя: одним железнодорожным, другим — почтовым, ведь железнодорожники с почтарями должны идти рука об руку, особенно в такие серьезные моменты, частенько им приходится собирать письма и в поле — в картофельном, клеверном иль кукурузном, а потом заново сортировать их. А бывает, иное письмо и вовсе затеряется, но что почтарь, что железнодорожник боятся и заикнуться об этом — в два счета могут схлопотать нагоняй. Железную дорогу и железнодорожников каждый критиковать горазд. А пусть-ка попробует туда пойти такой умник! Умничать и критиковать — каждый мастер. А вот мне такие критики не по нутру, обычно это люди, которые ничем не рискуют, ну а чтоб покритиковать, особого ума, право, не требуется. Часто им и невдомек, откуда смрад идет, нередко путают благовонье со смрадом, и иной раз лишь потому, что хотят кого-то умаслить: «Ой, до чего от тебя хорошо пахнет!» Что до меня — так от обоих смердит. А от какого критика не смердит? Не выношу этих отцовских, поучительных речей. Вот, к примеру, и мне — я-то знаю — могли бы сейчас попенять: «Разве мальчик так разговаривает? Обыкновенный деревенский мальчишка так ведь не рассуждает. Не больно ли заумный для своих лет этот мальчишка?» Но и я мог бы тоже спросить: «А этот критик не дурковат ли для своих лет, даже более того — не смешон ли? Я ведь пишу о прошлом и настоящем и в будущее пытаюсь заглянуть, а в будущем мне не хотелось бы встретиться с таким идиотом, а тем паче не хотелось бы из себя идиота строить».
Но мы отклонились. Осел нас вынудил. Осел всегда отзовется, когда думает, что о нем речь.
Осел, отзовись!
А ты, мастер, помалкивай! А то, если хочешь, тоже можешь отозваться, можешь иной раз и не очень-то умно говорить, но лишь для того, чтобы осел случайно себя неловко не почувствовал или чтобы ты его случайно чересчур умным словом не обидел. А иначе у нас с тобой ничего не получится! Остерегайся и умников, не мастеров, а именно умников, чтобы ненароком не возвыситься над ними. Люди, упаси боже, этого не выносят! Однако мастеру и тем, кто хочет быть мастером, всегда открой карты. Настоящего мастера никогда не надо бояться, мастер любит открытый разговор. Это и отличает настоящего мастера. И еще одно — мастер, правда? — еще одно, и это, пожалуй, главное: мастеру перед другим мастером никогда не стыдно снять шляпу.
А мастеров можно повсюду найти. И в жандармских участках, и на почте, и на железной дороге.
Да здравствуют мастера! Да здравствуют жандармы! Да здравствуют железнодорожники! Да здравствует почта, да здравствует и словацкая почта! Когда стану прилично зарабатывать и у меня будет много денег, я обязательно куплю словацкой почте хороший почтовый рожок!
3
А я по-прежнему хожу к Гульданам и про все расспрашиваю. Если Вильма забудет мне о чем-нибудь сказать и я не узнаю об этом ни от Агнешки, ни от их мамы, я потихоньку подбираюсь к письмам и все прочитываю.
Фронт мало-помалу приближается. Мишке еще по осени приказал рыть траншеи. От каждой семьи должен кто-то идти. И от нас. И от соседей. Обычно ходит мастер, но, если ему подвертывается какая другая работа, вместо него идет Вильма. И я туда хожу, но просто так. По сути дела, все — просто так, хотя это довольно сносно оплачивается. Народ смеется. Кто-то даже сочинил песенку:
Татка мой гардистом, Мамка в Цепео[52]. Я окопы рою, Черт те для кого…А некоторые и боятся. Я-то стараюсь подавить страх, все надеюсь, что до фронта или вместе с фронтом придет Имришко. О нашем Биденко думаю все реже, но не потому, что не хочется о нем думать, а он у меня как-то удвоился, я вроде бы его сдвоил с Имришко. Если жду Имро, значит, жду их обоих.
Время от времени прибегаю на мост, где всегда стоит солдат, всякий раз другой, они ведь то и дела меняются, но все равно — один и тот же. Солдат как солдат! Мне всегда казалось — а со временем еще больше станет казаться, — что в жизни я знал только одного-единственного солдата, боже, и до чего я всегда льнул к солдатам! С любым из них я быстро заводил дружбу, и особенно тогда, когда я стоял на мосту, да, особенно тогда: казалось мне, что и тот солдат, тот немец, кого-то ждет, ведь и он поминутно смотрел в ту же сторону, что и я. Изредка мы встречались глазами, а потом переглядывались все чаще и чаще — как обыкновенно и делают ожидающие. Конечно, если между ними разговор не завязывается, многого друг о дружке они не узнают и обычно довольствуются хотя бы тем, что оба ждут. Только кто долго ждет, любит обычно завязывать разговор. Правда, в людях почти всегда просыпается любопытство, они хотят знать, нету ли между ними чего-нибудь общего, не слишком ли расходятся их интересы, да и вообще ли расходятся, не надут ли они случайно одного и того же, не зная об этом лишь потому, что не обмолвились словом. Иногда достаточно захмыкать, и уже разворачивается нормальный разговор. Кто-то шмыгнет носом, и это может означать: эге, подмораживает! Другой шмыгнет следом за ним, но при этом чуть улыбнется, и это значит: здорово подмораживает, ей-ей, даже в носу щиплет!
И так — день за днем. Немцы меняются, хмыкают, пошмыгивают носом и улыбаются, а мне порой и впрямь кажется, что и они ждут Имришко. Время от времени мы пускаем в ход настоящие слова, и мы тогда киваем друг другу, понимающе смеемся, и нам все веселей и веселей, потому что то, о чем мы говорим, не приходит к нам в словах, а скользит мимо, опережает слова или допрыгивает уже после них, чуть запаздывая, и именно это нас и смешит. Немец едва ли мог бы повторить то, что ему сказал я, а я не сумел бы повторить то, что сказал он, но все равно мы понимаем друг друга и знаем, что́ должны или что́ можем друг о друге думать. Не один немец хранит меня в памяти, не одного немца сохраню в памяти я — и надолго, — и между нами всегда будут добросердечные отношения. Я всегда находил в солдате лишь то, что искал, и ничего другого никогда искать в нем не буду. Вполне возможно, тот самый немец, что живет в моей памяти, совершил много зла, но и наш Биденко — я знаю — не пошел на восток прогулки ради, и если немца мне не хочется защищать, то нашего Биденко я бы все-таки хотел защитить, хотя и у него были ошибки. И у Имришко были ошибки. И когда я вырасту, тоже не обойдусь без ошибок. Но если и совершу что дурное, не стану кивать на других. Я не буду расчетлив, не стану из расчетливости защищать и прощать собственные ошибки. Что вижу — вижу, а что знаю — знаю, и мне показался бы страшно глупым тот человек, который спросил бы, сколько мне лет. Разве в этом дело! Пускай я выгляжу для кого-то слишком заумным, но мне было бы еще неприятней, если бы кто-то годы спустя упрекнул меня в несправедливости.
— Имро еще не воротился?
— Мальчик мой золотой, лучше о нем и не спрашивай!
ВАССЕРМАН
1
Пока Имро выбрался из лесу, снова уже завечерело, но кое-как еще виднелось: внизу под ним простиралась деревня, к которой вела дорога, окаймленная тополями. Деревня была небольшая, но и в тех немногих домах, что он охватывал взглядом, казалось, не было жизни. Только из трех-четырех труб шел дым.
Сперва он робко кружил вокруг деревни. А когда совсем смерклось и терпение его лопнуло, он перестал думать об опасности, подошел к ближнему дому и вошел во двор, но не зная, куда постучать, какое-то время нерешительно топтался на месте, а затем выбрал дверь, которая напрашивалась больше других и за которой, можно было предположить, обретались люди. Он постучал в нее сперва раз, затем несколько раз кряду и всякий раз чуть медлил, пробовал нажать и на дверную ручку, но так никто и не пришел отворить. Тогда он выбрал другую дверь, но и там повторилось то же, несколько раз постучал он и в окно, но в доме стояла тишина, словно там не было ни души.
Зато в соседнем дворе отозвалась собака, и, поскольку она лаяла все яростней, Имро поплелся туда. Но собака была препротивная, да еще не на привязи, и ни за что не хотела впустить его. А хозяева и тут оказались глухими, возможно и не без умысла. Имро надоело околачиваться возле двора, и он побрел дальше.
Но и в соседнем доме ему повезло столь же. Он опять постучал в окно и помедлил. Ему почудилось, что изнутри донесся шепот, и он постучал еще сильнее: — Отоприте, бога ради! Я страшно устал, прозяб весь и голоден!
Внутри опять послышался шепот. Слышно было, как там советовались, но дверь не отворилась даже тогда, когда он стал просить еще настойчивей, а озлившись, принялся угрожать. В конце концов он пнул ногой в дверь и ушел.
В остальных домах его ждало то же самое. В одном из них ему даже примерещился свет, но, как только он подошел, свет тотчас погас и больше уже не зажегся.
Усталый, он оперся на плетень и, чуть отдохнув, побрел куда глаза глядят, он снова кружил вокруг деревни, а когда уже вконец изнемог, залез в какую-то конюшню, не то сарай — точно определить, что это, у него не было ни сил, ни желания, но по запаху, конечно, если он мог еще обонять запах, можно было судить, что это конюшня, там было тепло, и он сразу впал в беспамятство.
2
Разбудил его страшный грохот. Но почти в ту же минуту он осознал, что это просто конский топот: конь осторожно бил копытом о настил, на котором лежало Имрово плечо.
Имро тронула бережная чуткость животного. Значит, мне ничего не грозит? Он хотел чуть подвинуться, но почувствовал, что близ коня теплее, и лишь перевернулся с боку на бок. Господи боже, где я и отчего так дрожу? Он попытался собраться с мыслями, чтобы понять, как очутился здесь, но от холода его так трясло, что он не в силах был связно мыслить.
Вдруг его залило благостное тепло. Следом понял он и причину благости. Конь помочился на него! Имро проникся к животному еще большей благодарностью. Но вскоре его снова затрясло в ознобе; он обвился вокруг ноги коня и не выпускал, хотя тот, защищаясь, и пытался ее выпростать. Конь тогда беспокойно запереступал ногами, высвободился все-таки и лягнул Имро в плечо. Удар не был ни сильным, ни злобным. Имро повернулся ничком и забубнил что-то, чего и сам не мог разобрать. Конь стоял рядом и осторожно бил копытом о землю…
Мысли у Имро снова стали путаться. Представилось ему, что он дома и что рождество. Вместе с Вильмой он пришел в церовский храм и сразу увидел весь Вифлеем таким, каким его описывал церовский причетник, все библейские фигурки были перед его глазами, он смотрел на них, они — на него. Если он улыбался им, они тоже улыбались, когда делался серьезным, тотчас и они надувались, а между этими фигурками прыгали ягнята и козлята, было тут и полно знакомых. Все были в сборе.
И красиво, протяжно звучит в храме контрабас. Это играет цыган-надпоручик. Это он. А кто же еще?
Вдруг раздается: — Schaumal! Das ist herrliches Bethlehem! Aber wo ist Jesus?[53]
— Jesus? Ich weiß nicht[54].
Цыган-надпоручик выводит звуки еще прекрасней.
А где-то в углу стоит Ганс Вассерман и высовывает язык. — Ich habe nicht gewusst, dass du Jesus bist![55]
И Имро снова впадает в забытье.
3
Открыв глаза, он обнаружил, что лежит на постели в маленькой низкой комнатушке с темным деревянным потолком. Вокруг него ходили, шептались, но Имро не понимал, как он попал сюда и кто возле него разговаривает.
Сперва подошла к нему женщина и, увидев, что у него открыты глаза, повернулась и взглядом подозвала двух мужчин; один из них, наклонившись, посмотрел на него удивленно, потом улыбнулся и, откинув голову, выставил подбородок, будто задавал вопрос — Германец? — спросил он чуть погодя.
Имро не понял. Мужчине — то был могутного вида человек с добродушным взглядом, на голове — ушанка, — пришлось повторить вопрос: — Германец или словак?
Он, должно быть, хотел пошутить с Имро. Но Имро и теперь шутки не понял.
Русский покачал головой. Потом недоверчиво оглядел Имро и снова улыбнулся: — Чудной ты какой-то, что-то не нравишься мне. Я думал, ты германец, да ты молчишь все! Или ты словак? Словак, да? Почему ты ничего не говоришь?
Имро силился улыбнуться, но улыбки не получилось.
А русский продолжал улыбаться. — Ну молодец! Только почему ты боишься? Я не обижу тебя, мне все можешь сказать.
Но Имро ничего не сказал.
И русский опять покачал головой. — Ты солдат? Партизан? Какой же ты солдат? Спишь, спишь, только и знаешь, что спишь. Надо воевать либо работать. Ты чем занимаешься?
Имро — опять ни-ни.
— Ты болен? — спросил русский.
Имро — ничего.
Парень, что стоял рядом с русским, решил делу помочь и заговорил по-словацки: — Товарищ старший лейтенант — доктор. — Он дышал Имро прямо в лицо. — Он доктор и спрашивает, не болен ли ты. Не бойся его. У тебя болит что-нибудь?
Имро — ни слова в ответ.
Русский еще больше удивился. Протянув руку, он ущипнул Имро за плечо, потом внимательно посмотрел ему в лицо.
— Больно? — спросил он.
Имро молча поглядел на него, затем покачал головой.
Мужчины переглянулись. Старушка заохала: — Ох, бедный ты мой, дитятко безвинное! Ведь это пан доктор. Сынок, пана доктора бояться-то тебе нечего!
Доктор еще внимательнее вгляделся в него, снова ущипнул и снова спросил, не больно ли.
Имро не смог ответить.
— Родненький мой, — склонилась над ним старушка, — ты ничего не чувствуешь, ничего у тебя не болит? Все-таки что-то ты должен чувствовать! Пан доктор спрашивает, не болит ли чего у тебя?!
Имро покачал головой. У него ничего не болело.
— Как тебя зовут? — спросил доктор.
Имро молчал.
Парень повторил вопрос по-словацки.
Имро с минуту глядел на них молча. Потом прошептал: — Вассерман.
И снова забылся.
НА МОСТУ
1
А почта работает. Хоть мастер и ворчит на нее, а она непрестанно работает. И жандармы должны это признать, И они признают. Они умеют почту ценить, умеют и похвалить ее.
Крнишов, 21 февраля 1945
«Любимая Агнешка, дорогие мои деточки!
Письмо, которое было послано 14 февраля 1945 года, я получил в понедельник, то есть 19 февраля, и премного за него благодарен. В понедельник еще утром я сказал, что придет почтальон, потому что ходит он через два дня на третий. И поэтому я ждал его и без конца выглядывал — может, идет. Вдруг отворяются двери, и почтальон входит. Я мигом вскочил и спрашиваю, нету ли для меня почты. А он вытаскивает из сумки письмо, я гляжу на почерк, сразу же беру письмо, которое я так долго ожидал, и за радость, которую именно он принес мне, я дал ему пять крон и говорю: пан почтальон, вот вам уже и за следующий раз.
Нынче могу тебе сообщить новость. Мне опять отказали от стола. Утром я еще завтракал, дали мне рюмочку сливянки, яичницу и крынку молока. А когда я пришел обедать, дома был только старик крестьянин, а он ни к чему не касался и ничего даже не давал. Спрашиваю, где хозяйка. Отвечает: пошла вверх за околицу, в хибару на взгорье, так как пришел от немцев, дескать, приказ, чтоб всем из хибар выселяться и спускаться в деревню. Вот, дескать, пошла она за вещами. Обед, само собой, не сготовила, не наказала даже, чтоб старый мне чего дал, когда приду, хотя бы какого зельца или чего другого, да пусть хоть чего. Старый стал отговариваться и сказал, что нынче такие времена, что и не знаешь, что делать, а заботы у них у самих большие, так как скотину у них отобрали, кормов нету, да и вообще, дескать, зачем и для чего взялась его невестка за это столование. Как божий день было ясно: хочет дать мне понять, что кормить меня они уже дальше не собираются. Я поглядел в календарь, сколько я у них кормился, и заплатил ему за стол 180 крон. Сказал «спасибо» и пошел в участок. В чемодане у меня было четыре яблока, те я съел и, что называется, пообедал. Еще до этих пор я сердитый. Ведь невестка его, кабы хотела, могла бы прийти в участок, это же второй дом от них, и могла бы сказать: да, пан жандарм, или как уж там водится, сегодня надо вам как-нибудь перебиться, получите вот обед сухим пайком, потому как я занята, дома не буду и сготовить некогда. Я б согласился, и все было бы ладно. Но я знаю, в чем дело. Я писал тебе в прошлом письме, что в воскресенье 18 февраля был жуткий переполох, рано утром стали отбирать скотину, и ко мне с плачем прибежал один такой бедолага — дескать, корову у него и ту забрали, а эта корова, дескать, его кормилица. Поэтому я тут же надел форму и поднялся в деревню. Я сказал немецкому офицеру, что корова моя собственность, что у меня на нее есть и паспорт, но я вынужден был эвакуироваться вместе с семьей, а теперь тут нет у меня ни коровника, ни корма, вот я и отдал ее, значит, этому бедолаге, чтоб он обихаживал, но молоко, дескать, мое и я забираю его себе. Офицер стал передо мной оправдываться, просил извинить их: им, мол, невдомек было и все прочее, ну вот, таким путем я и уберег коровушку для этого мужика. Только та баба, у которой я столовался, узнала про это и разобиделась, что я и их корову не уберег, поэтому-то и отказала мне от стола. Вот видишь, душечка, этих лютеран я уж было хвалил, а теперь опять все такое, тут-то их лучше узнаешь, вот какие они! Теперь у меня нет другой возможности, как только идти к моей коровенке и сказать тому мужику: милый друг, а теперь ты мне помоги! Ведь что может делать человек в таком краю, где одни лютеране! Хуже всего тут с питанием.
Что касается той материи и всех прочих вещей, которые ты хочешь спрятать, дорогая моя Агнешка, это я одобряю, но надо тебе потом непременно упомнить, что у тебя где, чтобы ненароком у тебя чего не пропало. И Вильму об этом предупреди. Если случайно чего замуруете в печь, не позабудьте потом то место затереть краской, чтоб незаметно было.
Дорогая моя, так ты уже входишь в тело? Представляю тебя и просто не нарадуюсь. Ты мне, ясное дело, понравишься. Только чтоб вы все были здоровые, это самое главное. Ребята играют в джокер и все время меня поддевают, что я никак не могу оторваться от письма, интересуются, чего уж я могу столько отписывать. Они вечно кого-нибудь задирают. Но, однако ж, письмо главней, чем их карты. Я тоже люблю в картишки сыграть, но мужний долг важное, и я свой долг перед своей семейкой должен и хочу выполнить. Что мое, то мое, и оно мне дорого-предорого. Агнешка, мои доченьки Зузанка и Катаринка — цветы жизни моей, — я радуюсь на них и хочу, чтобы мы их хорошо воспитали и о них заботились. Ах, Агнешка моя, почему свалилась на нас эта ужасная война или же и мы в чем виноваты? Почему человек не может пребывать у семейного очага, возле родных деток и любимой женушки под одной родительской крышей?
Кончаю это письмо и желаю вам, чтобы я нашел вас в полном здравии. Затем я вас хотя бы заглазно горячо целую и обнимаю, любимая моя Агнешка, дорогие мои детоньки, и вспоминаю вас тихой ежевечерней молитвой. Шлю всем поклон.
Штефан».2
Почта работает. А на мосту, да, там, на мосту, все еще стоит солдат, всякий раз другой, но все равно один и тот же. И я, когда хочу, с ним разговариваю.
Одному я дал сметанную лепешку.
Для другого пошел купил рожков.
А один, ох, как же он заморочил меня! Разговаривал он со мной почти по-словацки. — Ну как, Пепик, тебе не холодно?
— Меня зовут Рудо, — поправляю его.
— Рудо? Прости, пожалуйста, — извиняется. — А чего ты ждешь?
— Имришко.
— Имришко? Safra![56] Я тоже. Не знаешь, что с ним?
— Не знаю. — Я недоверчиво оглядываю его. Немец все же не мог бы так со мной разговаривать! Шутит он со мной, что ли? Или хочет у меня что-то выведать? Уж не Имришко ли это случайно, может, он притворяется, хочет малость надо мной посмеяться, хочет меня испытать, не хочет, чтоб я узнал его? Нет, это не он.
— А ты его знаешь? — спрашиваю. — Знаешь Имришко?
— Как же не знать?! — смеется солдат. — Я же видел его. Ну ясное дело!
— А где?
— В России.
— В России? Так он же не был в России.
— Safra! А где же это было? Я со всего этого сбрендил. А ты меня совсем с толку сбил. Где же это могло быть?
— А ты был в России?
— Ясное дело!
— Правда? А нашего Биденко там случайно не видел?
— Чудак человек, так я же с ним там разговаривал! Он партизан, да?!
— Нет, он погиб. В России. Убили его.
— Safra! Как же так? Видишь, я ведь не знал этого. А где?
— Там и убили.
— Herr gott![57] Так это он был? Ну ясное дело! Погоди, где я его напоследок видел? Под Ростовом, это уж факт! Стою у реки, пялюсь как идиот. Русские орут на меня из окна, и вдруг по Дону на плоту твой братан. Чуть было про это не забыл. Herr gott, так они его отделали, да?! Меня тоже хотели. А мама теперь плачет, да?
— Бывает.
— Ясное дело! А отец коммунист, да?
— Не знаю.
— Ну точно, коммунист. И оружие дома, а? Мне-то можешь сказать.
— Не знаю. А ты не немец?
— Я из Либерца[58]. Знаешь, где это?
— Нет.
— Ну, это… я-то знаю, где. Но все равно я на это кладу. Меня они тоже хотели отделать. Сразу же, в самом начале. Сказали мне про эту штуку, — он хлопнул по автомату, — что это ружье, а это прямо пушка! Safra, если начну отбиваться, так у тебя и задницы не останется! Не вздумай трепаться! Так я знал твоего братана, выходит! Если на меня капнешь, ей-ей, себя в обиду не дам — от твоей задницы один пшик останется. Ясно?
— Ясно.
— Ни хрена не ясно. Но все равно держи язык за зубами. Они бы и тебя отделали. Всех бы отделали. Наши. Ясно? Ведь меня тоже хотели отделать! Теперь-то кого ждешь?
— Имришко.
— Это твоего братана так звали?
— Нет, это мой сосед.
— Ага! А молиться умеешь?
— Умею.
— Наверняка он коммунист. И дома у него пушка, да? Ну для верности помолись за меня! Хочешь немецкую монету?
Я усмехнулся.
Солдат опустил руку в карман и вытащил целую пригоршню мелочи. Я прочитал, что было написано на монетах: — Böhmen und Mähren[59].
— Safra, да ты умеешь вполне прилично читать! — улыбнулся солдат. Потом спросил еще раз: — Не забудешь завтра за меня помолиться?
— Не забуду.
3
А на следующий день на мосту стоит уже другой солдат, они меняются, как и прежде, и почти о каждом я думаю, что он ждет Имришко — кто с большим, а кто с меньшим терпением. Не могут же все ожидающие быть одинаковы. Один все ходит взад-вперед, ходит, другой топчется на месте, хмурится, бывает потихоньку или громко даже заворчит, а другой стоит да стоит, глядя безмолвно вдаль, — о таком недолго и подумать, что он вообще не умеет разговаривать. Улыбнетесь ему — он даже не заметит улыбки, свистнете на пальцах — не услышит. Чем его привлечь, как к нему подступиться?
Кто знает, как зовут его?! Спросить, что ли?
— Вернер?
Молчит.
— Франц?
Ни звука.
— Гассо?
Опять ни звука.
— Гельмут?
И вдруг он оживает, сразу улыбается и не меньше минуты, теперь даже слишком усердно, кивает головой: — Ja, ja, ich heiße Helmut. Kennst du mich? Was ist los?[60]
Ага, значит, Гельмут! Но что он потом говорил — ведомо ему одному. Правда, и улыбкой сказать можно много, а этот малый умеет улыбаться, слава богу, он не такой обалдуй, как поначалу казалось.
— Ждешь? — спрашиваю.
— Ja, ja, — кивает он.
— Имрих уже скоро придет, — хочу его порадовать. — Вот я его и жду.
— Ja, ja. — Он не перестает улыбаться.
— Значит, мы оба ждем. Это мой сосед. Он обязательно придет. Может, он уже в пути.
— Ja, ja.
— Нет, ты меня вроде бы не понимаешь. Я говорю об Имришко. Имрих — сосед мой.
Он удивленно глядит на меня, улыбка не сходит с его губ, затем он вытаскивает из ножен штык и чертит, пишет на снегу:
INRI[61]
Я качаю головой. Пытаюсь его убедить, что он ошибается, но он стоит на своем, снова обводит штыком каждую букву и каждую же букву произносит вслух, чтобы убедить меня, что знает, что пишет.
Я беру у него штык и пишу на снегу Имришково имя.
Солдат смотрит на меня и спрашивает: — Имрих?
— Имрих, Имришко.
— Aber nein, — теперь он качает головой. — Ich warte INRI[62].
Мы не смогли договориться. Но зато и не повздорили. Ведь двое ожидающих не обязательно всегда и во всем договариваются. Мы попробовали говорить о другом, но у нас и это не вышло.
Между тем мы с ним нет-нет да и поглядывали на надписи, и я невольно заметил, что они очень схожи:
INRI IMRICH
Но я увидел и разницу. Немец ждет какого-то более худого, более бедного Имриха.
Я сразу же обратил на это его внимание, и он на удивление быстро все понял. Развеселился. И, улыбаясь, поддакнул: — Ja, ja.
И мне захотелось развеселить его еще больше — к его надписи я прибавил еще две буковки:
INRICH
Гельмут внимательно вгляделся в написанное и сказал: — Danke[63]. — А потом с моей надписи две буковки стер.
IMRI
4
Мы подружились. Но наша дружба длилась недолго.
Однажды — это уже было великим постом — мама послала меня в костел исповедаться; я долго стоял у исповедальни, не решаясь войти: боялся пана фарара, мне казалось, что у меня много грехов, и я нарочно оттягивал эту тягостную минуту, блуждая глазами по сторонам, а когда они вдруг остановились на распятии, я невольно вспомнил Имришко, потом и нашего Биденко и даже Гельмута. И тут же мне пришла в голову мысль, что Гельмут, должно быть, сейчас стоит на мосту — два дня назад он мне об этом сказал, — мне захотелось с ним встретиться, и я, не сумев побороть себя, вышел из костела с намерением завтра же утром сходить исповедаться в ризнице.
Пока я был в костеле, в деревню вошла какая-то бесконечно длинная немецкая автоколонна, машины стояли настолько впритык, что между ними было не пробраться, там-сям жались кучками озябшие солдаты и о чем-то ворковали тихими, усталыми голосами. Если я где-то останавливался, меня тотчас же окрикивали: «Geweg!»[64] Или всего лишь: «Ab!»[65] А в ином месте мне только рукой давали понять, чтоб я убирался.
Но я держал путь к мосту. До этого, правда, еще успел заскочить к Гульданам. — Имришко не воротился?
— Не воротился.
На мосту Гельмута я не нашел. Стоял там другой солдат. Я хотел спросить его о Гельмуте, но с ним нельзя было столковаться. Он только и твердил: — Geweg! — А потом: — Los, los![66]
Неподалеку, под могучей разлапистой липой, которая еще спала, но в которой уже через несколько недель, а может, и дней проснутся вешние соки, были выстроены солдаты Мишке. Мишке стоял перед ними и вовсю разорялся. Но солдаты его слова не принимали всерьез, они улыбались, временами чему-то даже громко смеялись, а двое-трое просто-напросто гоготали.
Я поспешил к ним. Думал, найду между ними и Гельмута, но, как только я к ним подошел, Мишке обернулся, мельком меня оглядел, потом посмотрел на солдат, выставил вперед подбородок и сказал: «О mein Gott! Hier ist auch ein Partisan![67] — Он показал на меня. — Oder klein Teufel?[68] Потом подошел ко мне, щелкнул меня пальцем по носу и сказал: Schmutzig![69]
Солдаты опять загоготали.
Мишке схватил меня за плечо, другой рукой легонько поддал под зад, что должно было означать: проваливай отсюда.
5
А на другой день я узнал, что одного немецкого солдата на мосту сшибла машина. Некоторые утверждали, будто видели это, говорили, будто он сам бросился под машину.
— Сам? А почему? Когда это случилось?
— Вчера пополудни. Приблизительно в три.
— А который это был? Как звали его?
— Немец. Солдат. Вроде бы Гельмут. Сам бросился под машину. Бедный малый, видать, уж вдосталь нахлебался. И даже никто не заметил. Только на поверке углядели, что им одного не хватает.
— Не трепись! Там ведь сразу заместо него другого поставили.
— При чем тут другой? Я про того, что кинулся под машину.
— Так и я про него. Собственными глазами видел. Другие машины в лепешку его раскатали и разнесли на колесах.
И я еще долго потом, еще и в последующие дни, и даже много позже, размышлял о том, над чем или почему эти Гельмутовы товарищи смеялись. Как могли они смеяться, когда погиб их товарищ? В самом ли деле они смеялись? Не казалось ли мне? Может, я не понял их смеха. Ведь и мой смех иные могут по-всякому истолковать. И Мишке смеялся. Возмущался чем-то, но нет-нет да и смеялся. А некоторые и вовсе громко, прямо-таки омерзительно, гоготали. Но даже и это не должно ничего означать. Часто я и сам смеялся лишь потому, что не хотел плакать, мне был противен собственный плач. Да и собственный смех. Смех ли то был? Смеялись они? Иной раз чужой смех трудно понять.
6
Почта работает. У почтарей работы невпроворот — приближается пасха. Хоть и война, а люди не забывают о добрых обычаях, некоторые думают уже о шибачке[70], да и о том, что пора писать поздравления к пасхе, уверенность все же уверенность, вдруг на почте что не заладится, какой-нибудь почтальон ногу сломит или лодыжку вывихнет — кому тогда тащить вместо него почтовый мешок к железной дороге? А еще под самые праздники иной почтальон может выпить — люди-то в такое время щедрее и, уж коль есть чем, от души угощают: «Уж вы, пан почтальон, не отказывайтесь, выпейте! Если хотите, думайте про себя, что мы уже сжигаем Иуду[71], ведь все равно его, подлеца, нужно будет сжигать! Выпейте! Чертовка, до того хороша, аж сама в горло лезет. Да и разве пили бы мы столько, кабы не пост? Наверняка и вы поститесь, а мы уж со страстной среды постимся. Только и знаем, что пьем. Если человек не ест, так хоть горло надо ему прополаскивать! Хлебните, утопите Иуду, чего нам волынить!» И почтарь не волынит, пьет, и, конечно же, если он не потерял под пасху почтовый мешок, то уж почтовую сумку может запросто потерять. А без сумки — какой из него почтарь?! Совсем готовенький, упившийся до посинения, форменная фиалка, а иной с перепою и вовсе очумелый, ходит он от одного к другому и всюду спрашивает: «Послушайте, люди, не дурите, не знаете, где моя сумка?» — «Дружище, если думаешь, что у нас была твоя сумка, так лучше ее не ищи, была да сплыла».
Да ведь в такой сумке — письма, открытки, пасхальные поздравления. Денег в ней нет — а какой бы дурень стал таскать деньги в почтарской сумке? Иные думают, что в такой сумке бог весть что, оно так и есть, там все, а вот денег нету. Загляните-ка в сумку! Где она, эта сумка? Умные люди посылают пасхальные поздравления чуть загодя, зная или хотя бы предполагая, что в пасхальную неделю почти каждый второй почтарь может упиться.
Черт, куда подевалась сумка?!
7
Но пасха пока еще не настала, пасхальной недели и то еще нет, это просто мы так торопимся, все-то нам поскорей подавай. Маленькому Рудко уже не терпится хлестать прутиком, а старый Рудо малость уже обленился, наскучило ему и писательство, но все равно оба должны выдержать, оба должны немножко подождать.
Подожди, Рудко, потерпите, ребята! Возьми себя в руки, лоботряс, потерпите, бездельники!
8
Вильма вышла на улицу. Ей нужны были нитки, и она собралась в магазин.
На улице увидела почтальона. Подскочила к нему. — Для меня ничего, пан почтальон?
— Ничего, Вильмушка. — Почтальон покачал головой, потом поднял вверх палец. — Или погоди, погоди! Для Агнешки два письма.
Пока он рылся в сумке, Вильма терпеливо ждала, но, как только письма оказались у нее в руке, сразу же заторопилась, забыв про нитки и про магазин, стало ей невтерпеж и выслушивать обходительного да речистого почтальона — с минуту потоптавшись возле него, она кинулась к Агнешке.
Во дворе играла маленькая Зузка.
— Где мама? — спросила Вильма.
— В саду.
Вильма устремилась было в сад, но Агнешка, заметив ее, вышла к ней навстречу, за Агнешкой поплелась и мать.
— Агнешка, два! — Вильма протянула письма. — Ты должна оба нам прочитать!
Агнешка обрадовалась. Огляделась вокруг, подумав, верно, что ради двух писем можно бы и присесть.
Они пошли в кухню.
Вильма и мать садятся, Агнешка, чуть взбудораженная — она всегда нервничает, когда получает от Штефана письма, — не садится. Присеменила к ним и Зузка; прижавшись к притолоке кухонных дверей, открытых настежь, стоит и терпеливо ждет.
Первое письмо, написанное от руки, датировано 5 марта 1945 года. Но сейчас уже конец месяца. Письмо задержалось более чем на две недели. Штефан в нем сообщает, что он в Святом Кресте над Гроном и что все кругом уже в руках русских.
«Фронт уже рядом. Я приехал сюда по служебному делу, но попасть назад теперь не могу. Все время слышна стрельба, но к ней я привык. Нынче либо завтра мимо нас все и пронесется, но по крайности все уже будет позади, и тогда скорей попаду домой, это точно. Есть мне нечего, удалось купить только пиво. Не можешь представить, как оно пришлось мне по вкусу после такого долгого перерыва…»
Другое письмо напечатано на машинке. Агнешка открывает его бережно, чтобы не повредить даже конверта, но, прочитав первые слова, в ужасе леденеет.
«Уважаемая пани!
С глубоким прискорбием извещаем Вас, что Ваш муж и наш дорогой друг во время воздушного налета 6 марта 1945 года погиб в Святом Кресте над Гроном. Поскольку его останки по причине обстоятельств не могут быть перевезены, о чем весьма сожалеем, похоронили мы его на местном кладбище, а личные его вещи — кошелек, в котором 123 кроны, далее казенный пистолет, ремень и штык — сдали на хранение в жандармский участок.
Извините, что сообщаем Вам такую скорбную и безрадостную весть! Примите наше глубокое и искреннее соболезнование.
Урядн. Гозлар, собственноруч.».Возможно ли такое? Правда ли это? Мать встает, выхватывает у Агнешки из рук письмо и тут же начинает причитать.
Агнешка таращит на нее глаза, все еще не сознавая, что случилось. И вдруг взвывает не своим голосом, и ее уже невозможно унять.
Вильма вскакивает, подходит к ним и кладет руки обеим на плечи.
— Опомнитесь, ради бога! Погодите плакать, ну хоть минуточку! — Но вскорости и сама разражается рыданиями.
Маленькая Зузка глядит на них непонимающе. Никто ничего не объясняет ей. Она подбегает к матери, повисает у нее на юбке и закатывается жалобным-жалобным плачем.
Раздается крик и в горнице. Это проснулась маленькая Катаринка, а поскольку она самая маленькая и очень голодная, голос ее словно родничок, который насквозь промочил бы рубашонку младенцу Иисусу, будь он рядом.
Несчастные женщины! Матери безутешные, вдовы горькие! Ох, бедные сироты!
9
Еще в тот же день пришлось вызвать к Агнешке доктора. Сначала она все глаза проплакала, а затем навалилась на нее невозможная слабость, и ее непрерывно тошнило, но все равно ее с трудом удерживали в постели. Она все время порывалась ехать к Штефану.
— Нельзя тебе, Агнешка, ведь это бы тебя вконец извело! — говорила ей мать сквозь слезы. — Ну можешь ли ты, такая несчастная, больная и слабая, куда-то тащиться? Упадешь на дороге, и некому будет тебя даже поднять.
И доктор ее остерег: — Никуда, никуда, голубушка, даже думать нечего! Только бы еще больше натерпелись, и все попусту! За это время и фронт уже порядком продвинулся — что ж вам теперь угодить в самое пекло? Надо справиться с горем, голубушка, ведь у вас малыши. Вам теперь о них надо думать, ради них себя поберечь. Ничего серьезного у вас нет, надо побыстрей оправиться и снова стать крепкой, даже крепче прежнего. Ведь о детях единственно вам теперь заботиться. Вы их мать, примите мои слова так, будто вам их сказал ваш муж.
А потом мать со слезами все это ей снова и снова втолковывала: — Агнешка, пан доктор плохого не посоветует, он умный человек, слушайся его. Я бы тебя одну никуда не пустила. Слыхала, что он говорил? Фронт, мол, уже близко. Образумься, Агнешка, подумай о детишках, об этих сиротах! Ведь и так хуже некуда. У тебя и молоко враз пропало. А Катинка-Катаринка, ой как она заливается! Неужто не слышишь? Как тебе пускаться в дорогу с такой-то крохой? Чем станешь кормить ее? Христарадничать, что ли, будешь? Ведь эта бедняжечка молока просит. С утра знай плачет и плачет, только маленько чаю и выпила. Выздоравливай. А в Гитлера уж точно кто-нибудь бомбу кинет. Покой снова будет. Будет покой у того, у кого ость он. А мы с Каткой и Зузкой сходим потом к Штефану, Агнешка, ведь это был и наш Штефан. Цветы возложим ему на могилу. Может, и ждать недолго. И пан доктор так сказал! А ты поправляйся. Ребятенок есть просит! Поправляйся, доченька моя!
10
А почта работает. Жизнь идет дальше. Пробежит несколько дней, и вот уже святая неделя. Словацкие почтари снуют по словацкой республике — она между тем поджалась, уменьшилась, — пыхтят и звякают велосипедными звоночками, тут письмо кинут, там открытку, выпьют с Каиафой[72], поздороваются с Пилатом, подмигнут Иуде, и кажется им, что он мог бы быть священником или хотя бы причетником, помогут колокола завязать, чтоб не звонили до пасхи, умоются в ручье, затрещат трещотками и опять хлебнут, а когда вечером идут усталые, но довольные, с пустыми сумками домой, невзначай заприметят святого Юрая, «что по полю летает, землю отворяет, чтобы трава росла, фиалка синела. Возвеселитесь, бабоньки, уж мы вам красно лето несем, зеленое, розмариновое, сидит баба в коробе, дедо просит у ней: дай, баба, яичко…»
11
В деревне все оживленнее. То и дело проносятся мимо колонны машин, то вперед, то назад, потом снова вперед и снова назад. Фронт приближается. Иной раз какая-нибудь колонна задерживается в деревне, и тогда люди тревожно озираются по сторонам: — Чего они стоят здесь? Почему остановились? Будто их и без того мало! Или уж подступило? Стянулись сюда все и теперь начнут обороняться? Плохо дело. Если подымется буча, то и нам несдобровать.
— Схоронимся.
— Где?
— В лесу. Я еще осенью вырыл в лесу траншею, там и спрячемся.
— Этого не хватало! Дурак я, что ли? А дом? Дом все же не брошу. У меня на гумне траншея.
— Что в лесу, что на гумне — один черт! И я бы ушел в лес, да тут у меня масло.
— Одно масло?
— И сахар.
— Эх, братец, лишь бы оно у тебя в земле не испортилось!
— Откуда ты знаешь, что я его закопал?
— Ну знаю.
— Так лучше забудь! Еще маленько подожду, а на пасху подслащу себе кофей и хлеб маслом намажу.
— А мне намажешь?
— Там поглядим. А откуда ты об этом пронюхал? Послушай, парень, уж не прибрал ли ты все к рукам?
— Ступай погляди! А ждать станешь — узнать опоздаешь. Давай, братец, поторапливайся да гляди в оба. Беги-ка лучше выкапывай!
— А я ничего не закопал. Даже яму не вырыл. На кой ляд она мне? Ведь у меня новый амбар. Придет беда — в передние двери вбегу, а в задние выбегу.
— Слышь, ребята, много их, много немцев-то! В этом году, считай, будет лихая шибачка!
12
И немцы знают, что близится светлое воскресенье. Однажды пополудни стоит мастер у окна, глядит на улицу и вдруг несказанно пугается, прямо цепенеет от страха, а потом начинает бестолково метаться по горнице, размахивая руками: эх, самое время схорониться, только куда, и времени уже нет, и Вильму на произвол судьбы не оставишь.
— Ой, Вильма, плохо дело, сюда идет этот Миш… Миш… ну, этот рыжий!
— Какой рыжий?
— Мишке. Наверняка за мной идет. Может, кто на нашего Имро донес, выдал его.
И мастер хоть и норовит скрыться, но, растерявшись вконец, выскакивает во двор. Они чуть ли не сталкиваются в дверях. Мишке даже поправляет фуражку, чтобы ненароком не свалилась. — Ajé, jejé, Herr Guldán! Wie geht es Ihnen?[73]
Мастер, почти посиневший со страху, однако, поддакивает: — Danke! Gut, gut[74].
— Gut? — Мишке недовольно фыркает. — Aber ich fühle mich schrecklich[75].
Мастер и бровью не ведет; не понимая почти ни единого слова, он лишь по лицу Мишке догадывается, что тот чем-то недоволен.
— Нехорошо? А в чем дело?
— Schrecklich. Ich bin müde. Schrecklich müde. Ich bin ein Soldat. Ich weiß es. Aber ich bin schön sehr müde[76].
— Ах вот что! Устал! Ясно, ясно, пан Мишке! А кто устал?
— Sehr müde, sehr[77] устал.
— Значит, пан, пан Мишке устали?
— Ja, ja. Aber das macht nichts! Wie geht es Ihnen, Herr Guldán?[78]
— Конечно, пан Мишке. Понимаю. Я пана хорошо понимаю. Так-так, понимаю, конечно, уже понимаю. Я, в общем-то, хорошо себя чувствую.
— Ich mache nur einen Spaziergang[79]. Ходить! — Мишке и рукой показывает, что он всего лишь прогуливается. — Ходить und мой Kamerad Guldán пасха посетить.
— Меня посетить? Ja, пан Мишке, это со стороны пана очень мило! Вроде бы я и не заслуживаю.
— Ja, ja. Пасха посетить. Мой Kamerad Guldán. Alles ist schrecklich[80]. Фсе. Пасха будешь посетить.
— Понимаю. И вижу. Пан очень душевный человек.
— Пасха. Kirche. Christus und Stabat Mater[81]. Пасха будет Kamerad Guldán посетить.
— Ну, ну, дело хорошее! И впрямь душевный человек!
— Und яйка?
— Яйка? Ах вот что, пану яиц надо! Вот оно что! Будут яйка, дам пану яйка! — Мастер в эту минуту готов был даже обнять его. — Я давеча дал, и теперь дам. Слава те господи, что мы так по-быстрому столковались! Пойдем, камрад, пошли, пан Мишке, пошли, пан Мишке!
13
А по дороге на запад две умученные женщины, видимо родственницы, может и сестры и обе наверняка вдовые, тащат деревянную тележку с грядками, горюют и плачутся, а с тележки у них все время что-то сваливается.
Пожилой мужчина заговаривает с ними: — Вы что, милые, горюете? Почему плачетесь? Откуда бежите и что с вами стряслось?
— Как нам не горевать, как не плакаться? Идем с востока на запад, война нас гонит. Немцы хату нашу разворотили. Сначала ее подпалили, козочка там у нас сгорела, а потом они все что ни есть укатали, с землей сровняли. Ничего-то у нас не осталось, ничего нету, только и остались, что стулья да перины. А нынче оттого так расстроились, что вот уж две недели все бежим с востока на запад — обратно-то не побежишь, — а люди толкуют, что мы уж на западе, ну и мы из-за этого совсем одурели. От плача. И от страха. Совсем одурели: выходит, что и бежать-то уж некуда.
— Не хочу, мои милые, вас огорчать, горя вам и так хватает. Только тут и впрямь запад, вы уж на западе. А двинетесь еще дальше, попадете в самый рейх. Сперва, правда, в протекторат, да это без разницы. Чехия и Моравия, Böhmen und Mähren, как немцы говорят, Чехия и Моравия — это и есть протекторат, но все равно что рейх, теперь это рейх. Там в Моравии, в Лидеровице, куда наш дядя Феро посватался, там тоже рейх, и он живет в рейхе. Теперь-то он уже старый, старше меня будет. Натерпелись вы всякого, я вам плохого не посоветую, а все ж таки в рейх не ходите и от протектората держитесь подальше. А может, вас туда и не пустят. Дядя Феро из Моравии теперь нам даже не пишет, такие там дела. Дальше вы уж не ходите! Лучше бы вам где приткнуться, переждать. Потому как мы тут в Околичном считаем, что войне быть недолго. Может, оно мимо нас промчится, может, и стороной обойдет, глядишь, вы и домой потом сможете воротиться.
— Ох, у нас и дома-то нет! Мы все потеряли!
— А хоть и дома нет, а все что-нибудь осталось, хоть какая земля. Земли-то и клочка достанет. Ведь и у меня земли не больше чем с две-три простыни, а все же знаю, есть она. Образумьтесь, голубушки! Повсюду война, но у меня еще местечко найдется, тут ничего пока такого не было. Хотите, так пущу вас на время. Надо передохнуть вам, подождать. Уж как будет, так будет, а человеку о своем угле думать положено. Откатится оно, вот вы и домой воротитесь, вас ведь двое, мои милые, ежели придете домой и все опять будет спокойно, уж какой-никакой домушко из собственной земли сотворите, выроете себе или вытопчете…
14
На страстную субботу набилось столько машин, что в народе началась паника. Еще не отошла одна колонна, а уж подоспела другая. Никуда было не протолкнуться. Солдаты все больше молчали, недоверчиво косились на деревенских, а если их кто о чем спрашивал, вертели головой — мол, непонятно. Ничего от них не узнаешь. Они даже друг с другом не разговаривали, там-сям обронят слово, да и то всякий раз тихонько, не громче чем вполголоса.
И священнику негде было устроить крестный ход. Праздник воскресения поневоле проходил только в храме, и все волновались, озирались вокруг, мужики перешептывались о чем-то, едва дождались конца богослужения.
Кто-то разнес по деревне слух, что русские уже занимают Братиславу. Весть передавалась из уст в уста.
Дошла она и до мастера.
Вернувшись из костела домой, он молча сел к столу, на который Вильма хоть и не веселая, но все же чуть более оживленная, собирала праздничный ужин, чашки, тарелки — господи, да разве кому захочется есть?
— Слыхала? — спросил ее мастер. — Русские уже заняли Братиславу. Ежели так, завтра они тут.
Вильма открыв рот с удивлением глядела на мастера. — А это хорошо или плохо?
— Не знаю. Для немцев плохо. А для нас? Кабы с русскими пришел наш Имришко, было бы хорошо.
— Может, придет. Ох, пришел бы! Я бы каждого русского приветила и угостила. Может, всех бы угостила. И пирогом, и выпить поднесла бы.
15
Всю ночь было слышно, как гудят машины. Мастер не мог уснуть. Сперва все ворочался в постели, а потом оделся и пошел заглянул в Вильмину горницу. — Спишь, Вильмушка?
— Не сплю.
— Да разве уснешь? Мне кажется, будто я уж на фронте. Поди, и пушки слыхал. Ты ничего не слыхала?
— Не знаю. Но вроде почудилось. Как если бы где далеко гром гремел.
— В такую-то пору — гром? Персики и абрикосы только отцвели, яблоня еще в цвет не вошла, ель и сосна сок едва пустили, а уж чтоб гром?
— А я что-то слышала.
— Ведь и я слыхал. Вот оно, тут оно, Вильмушка! Немцы драпают. Не знаю, что будет. Ей-богу, маленько побаиваюсь.
— Может, спрятаться?
— Почем я знаю? Авось и не понадобится. А ежели да, так эта траншея, что мы с Имро вырыли, вряд ли спасет. Зря мы над ней потели. Словно ума тогда решились.
— Да и другие рыли.
— Кто рыл, а кто нет. Теперь мне думается, что надо было рыть в другом месте. Уж ежели плохо, так везде плохо. Человек может где хочешь спрятаться, иной раз даже в бадье, но, если ухнет бомба — прямо ли в траншею или поблизости, — что толку от этой траншеи? Да и от дурных людей не скроешься. Ой, вроде опять грохнуло. Не слыхала?
— И мне показалось, но вроде как опять гром гремит.
— Какой тебе гром? Где-то уже бабахают. Пожалуй оденусь. Все равно не уснуть. Неловко из дому трюхать в одних подштанниках.
— Разве это так опасно? Мы же не немцы. Наше дело — сторона.
— Ишь ты, сторона! Для пули, гранаты или огня — нет посторонних. А ты думала, они только для русских да для немцев? Может, и Штефан так думал. А видишь, какой конец у него. И об Имро не слуху ни духу. Душа за него изболелась.
— А ведь на днях вы мне сами говорили, что он, может, уже и придет. И я в это немного поверила, даже спала лучше. Спала бы, кабы машины так не гудели.
— Да, говорил, а вишь, что делается? Всю ночь грохочут. Временами и самолеты. Ума не приложу, что с Имро. Теперь уж и мне не по себе. Ей-богу, машины страх на меня нагоняют. Их жуть сколько, всю ночь едут, сама слышишь. А Ондро с Якубом обещались завтра с детьми приехать — поздравить нас, сказывали, приедут на шибачку.
— А разве не в понедельник?
— Обещались в воскресенье. Может, и передумают. Вроде как снова загрохотало. Где это могут стрелять?! Слышь, Вильмушка, лучше и ты встань, оденься.
— Мне уже неохота спать, прошел сон. Только зачем вставать, темно еще. Теперь и я боюсь. От страху аж мороз по коже подирает.
— А ты встань, оденься, уж особо бояться нечего. Говорить-то я хоть и говорю, да всегда люблю обо всем лишку сказать, ты так это принимай, но все равно оденься. Хотел бы я знать, что утро принесет!
16
Всходило солнце. Заспанные птахи всполошенно облетали крыши; некоторые не решались выпорхнуть из гнезд, но, и притаившись в них, молчали в страхе, а иные, в особенности воробьи и взбудораженные весной, но теперь сбитые с толку синицы, стреканули к гумнам и амбарам.
По деревне все время проходили машины, танки, транспортеры, воздух был насыщен испарениями бензина, масла, жженой резины и нефти.
— Бегут, — кивал мастер в окно. — Бегут, но глянь-ка, сколько их еще. Бегут от русских, не от нас, на нас их бы еще достало. На улицу лучше и не высовываться.
— Да мне, пожалуй, идти надо. И даже обязательно. Надо к нашим сходить. Там ведь только мама и Агнешка с детьми. Пойду, хоть скажу им что.
— А хочешь, я пойду.
— Зачем же, я ведь туда иду.
— А то я бы пошел.
— Нет, я не боюсь. Хочу их немного успокоить.
— Позови их сюда.
— Сюда? Я тоже об этом думала. Может, так-то разумнее.
— Может, и разумнее. Хочешь, позови их.
— Ну ладно. Я сбегаю. Там ведь одни женщины. Женщины и дети.
— Ступай, Вильмушка, позови их.
17
А на улице Вильму прямо-таки обуял ужас. Она пугалась каждой машины, которая проносилась мимо. Но поскольку машин, танков и пушек было видимо-невидимо, вскоре она чуть осмелела. Только у одного грузовика, который стоял на обочине дороги, она на минуту задержалась. Господи, ну и машина! Она была доверху уложена сапогами. Нет, то были не обычные сапоги, а люди, немецкие солдаты, лежавшие друг на дружке, и Вильма поначалу подумала, что они спят.
— Пан командир, — обратилась она к немецкому офицеру, — ради бога, что с ними? Сделайте, пожалуйста, с ними что-нибудь. Ведь им, поди, холодно, почему вы их ничем не прикроете?
— Zum Teufel![82] — взорвался офицер. — Geweg, geweg![83]
И только тогда она поняла. — Дева Мария, они же все мертвые! Живые разве могли бы такой кучей лежать?
18
Мать с Агнешкой и детьми были уже на дороге. — Ой, Вильмушка, это жуть что творится! Всю ночь мы глаз не сомкнули, а сейчас аккурат бежим к вам.
— Идемте, идемте! Я как раз к вам торопилась. Пока они пришли в дом, мастер кое-что надумал. Он сидел у окна, глядел на улицу, а завидев их, сказал: — Я отсюда не двинусь.
— Все ведь бегут!
— Ну и пускай. Я никуда не пойду. Якуб с Ондро обещались приехать на шибачку, а ежели нас дома не будет, где они нас найдут?
— Ах ты, старый дурень! — Вильмина и Агнешкина мать схватилась за голову. — Даже теперь шибачка у тебя на уме. Не приедут они, вставай, бежим!
— Ну нет, и не подумаю.
— Пень бестолковый, давай собирайся! Зачем мы сюда пришли?
— Садитесь. Можете сесть посидеть.
— Посидеть? Теперь? Я и дома могла сидеть. Ну скорей пошли! Хотя бы в траншею.
— Ну ее к лешему, эту траншею!
Вильма наклонилась к нему, взяла за плечи. — Тата, образумьтесь! Люди бегут, все бегут в горы, а кто убежал еще ночью. Испугались текущего войска.
— И я испугался. Но бежать и не подумаю. Будь что будет. С немцами воевать мне не привелось, а русские меня тоже не станут неволить.
— Не чудите, тата!
— Чего мне чудить? Коль немцев не испугался, русских мне, что ли, бояться? Не обидели одни, не обидят и другие. Только собственные сыновья меня обидели. А как же, я ведь один тут. Где мои сыновья? Подожду их.
— Господи, ну и полоумный ты, Гульдан!
В этот момент кто-то заглянул в горницу: — Пошли, сосед, плохо дело! Все уже убежали.
— Ну и беги, догоняй их! Я небось знаю, где мой дом!
— Балда! Я ведь тоже знаю. Пошли, сосед, пошли!
Тут и женщины еще решительней насели на мастера. Ударились в слезы. Хочешь не хочешь, а пришлось идти с ними. Но в дверях он остановился: — Хоть запрем, запереть-то надо! Все ж таки мой дом.
— Ступайте, тата, я запру. — Вильма посмотрела на него умоляюще и попыталась оттеснить его от двери. Но мастер не поддался.
— Ну беги! Я и сам запирать умею! А хоть и не запер бы, вот назло не запру, уж лучше и не запирать… Нынче, ей-ей, кого-нибудь зашибу…
— Вот он весь, Гульдан! — Вильмина мать, подбоченившись, чуть присела и сплюнула. — Тоже мне, пророк! Тьфу на тебя, старый олух. Доченьки мои, пошли! — Она подтолкнула Вильму и Агнешку, схватила за руку Зузку — Катаринку уже прижимала к груди — и побежала по двору вверх.
Но Вильма вернулась: — Господи, тата, ну почему вы такой упрямый? — Она расплакалась, прислонилась к стене. — Тогда и я не пойду.
— Пойдем, глупая, плюнь ты на него! — позвала ее мать.
Мастера так и дернуло. — Ну ладно! — Он схватил Вильму за локоть. — Идем, Вильмушка, идем! Только ради тебя иду, а по матушке твоей черти в аду плачут!
Поначалу он шел неохотно, но потом и сам припустил. Когда они были уже на гумне, заметил, что сосед никак не может выгнать корову, и поспешил ему на помощь.
Мимо бежали несколько немцев. Один немец злобно кричал, показывая рукой, чтобы они поскорей убирались.
Но соседская корова все артачилась. Гульдан, схватив ее одной рукой за хвост, другой ударил по ляжке. А она хоть бы хны, может, еще оттого, что сосед, потеряв терпение, беспрестанно дергал цепь, намотанную на рога.
Вдруг раздались выстрелы, и корова, взбрыкивая, понеслась. Мастер не поспевал за ней и, забыв отпустить хвост, поскользнулся. В этот момент что-то страшно грохнуло и ударило его по голове. Он сразу же распластался на траве, а корова умчалась прочь.
— Плохо дело, Вильма! Видишь, я знал, что со мной такое случится.
— Вставайте, тата! — Вильма, нагнувшись, подняла ему голову. — Ах ты господи, вставайте же, тата! Христом богом прошу вас, вставайте!
— Убили меня, Вильмушка! Я чувствовал, что так и получится, оттого и идти не хотел. Скажи Имришко, скажи и тем… Ах, Вильмушка, конец мне! — Он еще что-то пролепетал, потом прикрыл глаза, точно впадая в беспамятство.
— Встаньте, тата, встаньте, ну хотя бы сядьте! — Она расстегнула ему пиджак и рубашку, потом оглядела рану. Рана показалась ей несерьезной, но в голове все-таки мелькнуло: лишь бы не сотрясение мозга или чего похуже. — Тата, встаньте! Надо идти дальше, а не можете — воротимся…
— Убили меня, — шептал Гульдан, не открывая глаз.
— Кто вас убил? Откуда вы взяли? Ничего ведь с вами особенного не случилось, вас просто корова лягнула. Ну давайте воротимся.
Мастер вмиг очухался, сел и вытаращился на Вильму. — Корова? Что ты говоришь? Это корова была? Так ее распротак, где она? — Едва он встал на ноги, как его охватило бешенство. — Ну теперь-то ты видишь? Ты во всем виновата! Черт возьми, где корова?! Вот те крест, я ее зашибу!
19
Но они не воротились. Не понадобилось. У разъяренного мастера все как рукой сняло. Ему было лишь чуточку совестно, поэтому он еще долго разорялся и чертыхался. Женщины даже не решались его усмирять. Но пока дошли до лесу, он выкричался, перестал ворчать, почти успокоился, досада у него прошла.
В лесу собралась по меньшей мере половина деревни. У некоторых были там траншеи, да они еще впустили туда и знакомых. Однако все туда не вместились, и, уж разумеется, не вместилось то, что люди прихватили с собой. Кто взял с собой только самое насущное, немного еды и теплой одежды, а кто решил и в лесу не отказывать себе в горячем: притащили кастрюли, миски, горшочки и тарелки, а нашлись и такие, что приехали на телегах, а раз была телега, была и упряжь, и было тут не счесть лошадей, мычали коровы и волы, а у кого была одна козочка, пришел с козочкой, однако нашелся здесь и козел, и у нескольких пареньков с ним хватало работы: сперва-то он бегал за козами, а потом его как ветром сдуло.
Все время слышалась стрельба, гудели самолеты, а когда стрельба и гул моторов усиливались, люди толкались в траншеи, лезли туда и непрошеные, и те, что уже и не вмещались.
Поскольку все это тянулось довольно долго, люди привыкли к грохоту. Вдруг кто-то вспомнил, что еще ничего не ел, хотя, по всей вероятности, уже полдень, развернул еду, попробовал ее пожевать и вскоре убедился, что она на вкус вовсе не хуже, чем обычно.
Кое-кто поначалу этим даже слегка возмутился: где это видно, есть в такую пору? А потом и им захотелось. У каждого что-нибудь да нашлось, ведь была пасха, пасхальные праздники. Уже за два дня до этого пахло маковниками, творожными и ореховыми пирогами. А кто постился и не спешил с ветчиной, тому как раз ветчиной-то в лесу и запахло.
Там были люди не только из Околичного, но и из Церовой. Торговец Мелезинек встретился с торговцем Храстоком, набрели они и на мясника Фашунга, и у всех троих тут же оказалось полно сигар, колбасы вареной и копченой, а когда они уселись играть в «марьяж», тут же перед ними вырос и бочонок вина. Они ели, пили и гоготали: — Чего нам тужить? Мы и здесь не пропадем. Придут русские, станем им продавать, а не захотят они покупать, купим мы у них — если будет что — и другим продадим.
Вдруг кто-то прибежал и говорит: — Люди, русские-то уже в деревне. Немца там и не сыщешь. Мишке уже давно умотал. Я видел, как он укатил, летел к машине — только пятки сверкали. И перестрелка была, и русская машина у погоста взорвалась, трое враз погибли, даже не пойму, откуда стреляли в них, поблизости уже не видать было немцев.
— Должно, мина.
— Какая мина? Ведь немцев уже не было.
— Ха! Не было! Они и раньше могли ее туда засобачить.
— Ну выходит, засобачили. Что-то вроде того наверняка было, коль трое враз замертво. Но теперь в Околичном уже весел-о-о-о! Там полно русских. И знаете, сколько сахару они некоторым нанесли? Некоторые околичане их здорово околпачили.
— А я уже месяц, как сахару не видал.
— А я, что ли, видал? Ведь и я только глаза таращил. Знаете, совсем другие солдаты. Все бегают, бегают и смеются. Я разговаривал с ними, они смеялись и говорили: «Хорошо, хорошо!» А Киринович дал им дрезину, катают они на ней взад-вперед. И ребятню с собой возят. Да, Киринович — ловкий мужик, что-то, говорят, уже придумывает, и якобы против немцев.
— Против каких немцев? Ты ж говоришь, они умотали.
— А хоть и так. А он что-то там придумывает. Все уже обегал.
— Чего ж ему не обегать?! Теперь ему легко бегается. Лучше бы раньше бегал. Почему не побежал в Бистрицу, в Мартин или в Микулаш?
— А они не реквизируют, а?
— Они-то? Да они только носятся, так на лошадях и мелькают. Эх, а какие шапки на них! Каждый подбегает, посмотрит на тебя: «Хорошо, хорошо!» Говорю вам, сахару нанесли. Кой-кто из наших уже успел за их счет поживиться. И еще вот что: Словакия теперь уже не Словакия, теперь мы снова Чехословакия, снова президентом Томаш Гарриг Масарик[84].
— Не болтай чушь! Какой Масарик? Ведь тот давно помер.
— Как помер? Кто помер? Просто в Лондоне был, а теперь снова пожаловал.
— Хрен пожаловал! Бенеш вернулся. Он опять тут, будем ему челом бить.
— Да ну его к дьяволу! Я теперь русскими интересуюсь. Пошли домой, пошли в деревню!
— А ничего нам не будет?
— А что может быть? Немцы тебя не съели, а уж русские и подавно не съедят! Люди, по домам! Слышите, люди?! Домой!
20
А на мосту стоит уже другой солдат. Солнце печет, солдат щурится, то и дело утирает пилоткой вспотевшую шею и бритую голову.
Он замечает меня и сразу заговаривает: — Ну что, мо́лодец, здравствуй!
— Здравствуй! — повторяю за ним. Я точно не знаю, что это значит, но, скорей всего, он спрашивает, что я тут делаю, а если и не спрашивает, потом, может, спросит. Поэтому спешу с ответом. — Я здесь просто так жду.
И он понял. Улыбнулся мне: — Понятно, мальчик, я тоже жду.
— Я жду Имришко. Это мой сосед. Я сюда каждый день прихожу и жду. Все время жду его, он уж должен прийти.
— Ясно. Сосед. Все понятно.
Он продолжает улыбаться, оглядывает меня и от нечего делать расспрашивает: — А куда он поехал?
Я не понимаю. Ему приходится повторить. — Куда он поехал? Его немцы убили? Куда он делся?
— Я не знаю. Он не делся. Я тут каждый день жду.
Солдат ощупывает карманы, словно что-то ищет, но потом снимает пилотку и утирается ею. — Мама у тебя есть?
— Есть.
— И отец?
— И отец.
— И сестра?
— И сестра. У меня и брат был, наш Биденко. А теперь я соседского Имришко жду.
— Понятно. Я не знаю его, но все понятно. Он солдат? Ему тоже надо воевать?
— Не понимаю. Я тут его жду.
— Хорошо, мальчик. Ну что делать, что делать? Жарко сегодня. Твоему соседу, может, сегодня еще трудно приехать. А денек нынче славный. Пришла весна, и твой Имришко тоже придет.
Стало быть, он знает о нем?! Как же он меня обрадовал! — А когда? Когда придет?
— Я точно не знаю, — смотрит на меня. — Сегодня или завтра.
— Завтра? Тогда я утром сюда приду. С самого утра буду ждать его.
21
Назавтра мы снова встречаемся, и солдат опять со мной заговаривает: — Пришел?
— Нет, не пришел.
— Почему не пришел? Как же так?
— Не знаю. Я его тут подожду.
— Черт возьми, куда он подевался? Что с ним случилось? Завтра приедет, ну в крайнем случае — послезавтра. А я буду уже далеко-далеко. Скажи ему, мальчик, что и я его ждал.
— Сказать, что и ты его ждал?.
— Скажи ему. Спасибо!
ГДЕ ИМРИШКО?
1
У соседей дозрели черешни. Вильма каждый день позволяет мне взобраться на дерево, а потом — она же боится за меня — то и дело кричит: — Осторожно! Не упади!
Зря боится! Я хорошо лазаю по деревьям, особенно если они ветвистые и есть за что уцепиться. Бывает, я и понарошку зашуршу сильней листьями, и Вильма всякий раз замирает от страха. — Иисусе Христе! Ты что там выделываешь? Вот увидишь, завтра не пущу тебя на дерево.
Конечно же, она меня просто стращает. Я таких угроз не боюсь. Каждый день я на черешне. Вволю наемся, нарву еще и в карманы. Один карман я всегда набираю для Имриха. Никто в деревне не верит, что Имрих вернется, ведь все, кто уходил, но остался в живых, уже дома. Имриха нет ни среди живых, ни среди мертвых. Даже мастер перестал его ждать. Он теперь хаживает на работу один и, видать, исподволь к этому уже привыкает. Но мы с Вильмой ждем. Каждый день мы откладываем черешни: если случайно Имришко придет, пусть будет у него чем полакомиться.
Иные люди просто обожают черешню. И мастер тоже. Всегда, когда ему уходить на работу, он незаметно сует в карман то, что мы нарвали для Имриха. Не хочет прямо сказать, что Имрих не вернется. Только ведь и мастера слушать необязательно. Что он может об Имро знать? Зря только сеет в нас неуверенность и сомнение. Счастье еще, что немного уверенности есть и в черешнях, оттого-то я что ни день — на дереве. С каким же удовольствием собираю я их для Имришко! И когда потом мы разговариваем с Вильмой и нет-нет да поглядываем на горку черешен на столе, нам кажется, что Имрих уже близко, может, уже в пути, и не сегодня-завтра будет здесь. И тогда мы уже сами потаскиваем одну за другой из Имришковых черешен, они-то ведь слаще тех, что еще висят на дереве.
В школу я теперь не хожу. Никто не ходит. Учиться я, конечно, не люблю, но школы мне немного недостает. Мне бы только заглянуть в наш класс или хотя бы в коридор: в коридоре висел мои рисунок, кто знает, там ли он еще. У меня там много рисунков, а в шкафу мои тетради, я так и не знаю, что мне поставили за последнюю контрольную. Тетради и рисунки все же могли бы нам раздать, теперь мы их, может, уже и не получим.
Вильма, правда, говорит, что осенью снова откроют школу. Но я даже не знаю, в какой класс пойду — из-за войны я не доучился, и теперь, может, меня оставят на второй год.
С чего я начну этой осенью? Как буду повторять то, что я уже проходил? А если меня переведут в следующий класс, откуда мне знать то, чего мы еще не проходили?
Даже этих немногих тетрадей и рисунков у меня нет. Могли бы вернуть хотя бы тот один. Я бы показал его Вильме, он бы наверняка ей понравился — на нем были нарисованы две герани в горшках. Я очень хорошо их нарисовал, даже тени наложил. А Вильма любит герань. Учитель нам даже табеля не дал, не мог же он выдать его так рано, а теперь хоть и июль, все равно не выдает, и я останусь без табеля. Если потеряется классный журнал или что случится с тетрадями, никто и не узнает, в какой класс я ходил.
А вдруг осенью переведут меня в следующий класс — что я буду там делать? Что буду учить? Учитель станет мае спрашивать и из того, чего мы не успели пройти, и никто ничего не ответит.
Но в школу я бы все-таки хотел заглянуть. Все время считаю да считаю: сколько еще дней осталось до осени.
2
А Вильма боится, что осенью у меня не останется для нее времени. — Рудко, в сентябре ты уже будешь старше, начнутся опять занятия, и ты уже не придешь к нам даже на маковник.
— Почему не приду?! Я бы и сейчас от маковника не отказался.
И она заботится обо мне, подчас даже слишком. Вечно у меня что-то спрашивает, иногда мне приходится ей и читать, и она постоянно твердит мне: — Ты и сейчас должен заниматься, чтобы продвинуться, сделать еще прыжок.
— А разве я не двигаюсь? Я ведь и сейчас прыжок делаю — как захочу, и у вас. Прыг через забор, и сразу за маковник.
— Ты невозможный озорун. И лентяй. Одна еда у тебя на уме. А как работать и учиться — тебя не видать.
Иногда Вильма посылает меня в магазин. Продавец меня не обманывает, знает, что я разбираюсь в ценах и деньгах. Пятикронки словацкие уже не в ходу, потому как на них не написано: подделка преследуется по закону. Нам-то известно, что значит подделка. Это то, что под делом, ниже дела, какая-то никудышная работа. Иной раз среди денег замешается крона Böhmen und Mähren, но продавцы не любят ее и, стараясь побыстрей сбагрить, сразу суют ее в руку первому же покупателю. А я еще глаза таращил, почему тот немец на мосту насыпал мне целую пригоршню пфеннигов! Он просто подарил мне Böhmen und Mähren, будто они уже жгли ему карман.
Проходит день за днем. Имрих не возвращается. Иногда мы и гневаемся на него. А как гнев пройдет, мы уверяем друг друга, что его приход мы намечали на какой-то иной день и что, в общем-то, все в порядке: — Ой, я ведь вчера пересчитала, — говорит Вильма. — Глянь-ка в календарь, увидишь, который день я подчеркнула! В субботу будет тут.
— Только в субботу? Чего ты меня все обманываешь? Сколько черешен я набрал, а теперь жди до самой субботы?! Сперва «сегодня», потом «завтра»…
— Завтра нет, завтра мне стирать надо.
— Мы все считаем да считаем: завтра, послезавтра, а потом еще один день. Только на дереве уже рвать нечего.
— Знаю. И то знаю, что мы с тобой уже притомились… Но неужто нам теперь бросать ждать?..
3
А однажды утром прибегает к нам, запыхавшись, мастер. — Имрих вернулся! — возглашает он, и глаза его сверкают. — Наш Имришко дома! Только что воротился. Его на машине привезли. Пошли, Рудко, пошли, с Имро поздороваешься!
Одним махом я на улице. Вот оно, свершилось! Значит, он все-таки вернулся. Имришко, здравствуй, что ты мне принес из своего странствия? Вдруг мне подумалось, будто Имрих был просто где-то в странствии. Пойду-ка выпрошу у него свою долю.
Но прежде нужно повсюду разнести новость, оповестить всех добрых и мирных людей, а таких на улице видимо-невидимо.
Пробегаю мимо Гульдановых ворот, останавливаюсь у первой же группки. — Имрих вернулся!
Люди удивленно оглядываются.
Несусь дальше. На всех подряд глаза таращу, всем улыбаюсь: — Имрих здесь! Имришко здесь! Уже вернулся. Не слыхали? Гульданов Имришко вернулся.
Прыгаю вокруг машин, кричу как полоумный: — Имрих вернулся!
Обгоняю пехотинцев. Возле командира замедляю шаг. — Слушай, товарищ! — поднимаю на него глаза. — Имро, соседский Имро, пришел сегодня утром домой!
Командир улыбается: — Отлично! — Потом поворачивается к солдатам: — Слушайте, товарищи! Сегодня Имришко вернулся домой! — Голос у него твердеет: — Смирно!
Я прохожу мимо него, чеканя шаг.
И опять бегу дальше.
Дорогу мне преграждает конный отряд. Мой крик врывается в ржанье и топот коней: — Казаки, ребята, Имришко дома!
Но они проносятся мимо, не слышат меня.
Бегу. Аж в боку колет. Добегаю до шеренги пленных. Они все усталые, небритые, запыленные. Проталкиваюсь к ним, вытягиваю шею. — Имро вернулся. Имро уже дома!
Один из них глядит на меня сквозь очки, потом вбирает голову в ворот грязной шинели и говорит: — Jawohl![85]
И я бегу дальше. Через минуту я на мосту, но там уже никто никого не ждет. Ну конечно, нет! Имрих уже дома! Я бегаю, прыгаю, допрыгиваю и подпрыгиваю, толкаюсь туда-сюда, возвещаю на все стороны: — Он уже пришел…
— Какой Имрих? — дивится советский повар. — Я его не знаю.
— Ну Имрих. Соседский Имрих. Сегодня он домой вернулся.
— Вот и добро! — громко хохочет повар и шлепает мне на ладонь горячую котлету. — Будь здоров, малец!
Я отскакиваю на обочину. Мимо меня проносится автоколонна. Солдаты весело кивают мне. Из одной машины улыбается и кивает мне генерал Малиновский. — Имрих вернулся! — оповещаю я и его.
Потом мчусь назад. В глазах, в носу, на одежде, в волосах и ушах, а главное, во рту у меня полно песка, пыли и грязи; я смеюсь, кричу, ору, визжу, я уже охрип, я давлюсь, задыхаюсь — и все из-за Имриха: — Имрих уже дома… Сегодня утром вернулся… Вы видели Имриха?.. Слышали? Соседский Имришко! Вы его уже видели? Он вернулся!.. Он уже дома!.. Имришко вернулся…
И вдруг я умолкаю. Осматриваюсь по сторонам. Потом потихоньку доплетаюсь до Гульдановых ворот, потихоньку подхожу к ним и, осторожно отворив, заглядываю во двор.
Отваживаюсь идти дальше. Какая тут тишина! Приближаюсь к кухонной двери, нажимаю на ручку, слышу голоса.
Вхожу в горницу. Здесь Вильма и ее мать, Агнешка с обеими дочками, Катка у нее на руках. Мастер разговаривает с моим отцом. С минуту все смотрят на меня. Я ищу среди них Имриха. Где он? Где Имрих? Гляжу, но не вижу его. И вдруг замечаю: он лежит на кровати. Это он? Ведь это не он. Почему он такой исхудалый?
Вильма подводит меня к нему. — Видишь, наконец-то здесь твой Имришко!
Он видит меня? Ведь он вроде и не видит меня. А какой он худой! Наверно, и немощный! Должно быть, и на ногах бы не удержался.
— Боже милостивый! — говорит Вильма приглушенным голосом. — Ну и наждался тебя этот мальчонка!
Это вправду он? Имрих? Что с ним? В самом деле, это Имрих?
Ни с того ни с сего я начинаю реветь как дурак.
4
Я каждый день навещаю Имриха. Хочу о нем побольше узнать. Но пока знаю одно: с Имрихом, которого я ждал, этот не имеет ничего общего. Я хотел бы с ним подружиться и потолковать — про того, другого, ведь этот, который пришел, пожалуй, даже не Имрих, он ведь не живет или живет совсем капельку. Чуть-чуть оживает только тогда, когда курит, а как догорит у него сигарета, неживые глаза на исхудалом лице его совсем угасают, он перестает дышать, перестает жить. Трудно даже сказать, что здесь важнее: Имрих или сигарета? Пожалуй, все-таки сигарета важней — ведь только она поддерживает в Имрихе жизнь.
Каждый день ходит к нему доктор, делает ему на всякий случай уколы, но все больше мрачнеет. Мастеру он украдкой шепнул: — Не будет от него толку. Колю лишь для того, чтоб болей не было.
Но Имрих ко всему равнодушен, он, пожалуй, обошелся бы и без уколов, он вообще ничего не чувствует, ему ничего даже не нужно. Одни сигареты нужны. Как начнет озираться и шарить возле себя — значит, хочется ему закурить. А подчас у него нет сил даже вспомнить о куреве; он неподвижно лежит или сидит и смотрит в одну точку, взгляд у него совсем цепенеет. Не приди ему кто на помощь, он так бы и смотрел перед собой до самого Судного дня.
Вильма подолгу не спускает с него глаз. Иногда пытается и заговорить с ним, но все ее слова пропадают впустую, не находят ответа, пока сама она на них не ответит. Иной раз бросится к нему на постель, обнимет его, омочит всего слезами, но и это на Имро ничуточки не действует. Просиживает она возле него до глубокой ночи, а потом, когда уходит спать и через какое-то время засыпает, встает мастер, пришаркивает к Имро и вслушивается в его дыхание; временами ему кажется, что сын уже перестает дышать, поэтому он хватает его за плечи и тихонько говорит: — Имришко, спишь? Ну не спи, Имришко, ты же цельный день спишь! Закурить не хочешь?
Но Имрих не отзывается. На мастера накатывает страх, уж не уснул ли навечно сын. Поэтому он начинает его щипать. — Продери глаза, Имришко, слышь?! Не валяй дурака, Имро! Ведь ты уже много спал… Глянь, сколько табаку!.. Не сердись… Имро!.. Имришко, бога ради, не дури!.. — Он то и дело чиркает спичками, пытаясь огоньком его пробудить, но если и это не помогает, начинает изображать взаправдашний гнев, щиплет его еще сильней, причем в самые чувствительные места. — Имро, мне уже надоело! Думаешь, мне охота с тобой препираться? Продери глаза, не то… Имро!.. Слышь, Имро! Не понимаешь, что ли? Ради всех святых, не поддавайся!.. Глянь-ка, сколько тут сигарет и табаку!.. — Мастер усаживает Имро и осторожно подпирает плечом. Чиркает спичками. — На, кури! — Он вкладывает ему в губы зажженную сигарету. — Тяни! Я за тебя не стану тянуть!
Лицо Имро оживает. Мастер поминутно прикладывает ему к губам сигарету, но вскоре становится еще строже и говорит: — Держи сам! И не отвиливай, не то я на тебя по-настоящему рассержусь.
Оба курят.
— Вот видишь! — Голос мастера понемногу теплеет. — Если бы ты хвори не поддавался, ничего б тебе не было.
Из соседней горницы едва доносится Вильмино дыхание.
Мастер тушит Имров окурок, потом свой и спрашивает: — Воды не хочешь попить?
Имро качает головой. Но мастер, оживившись, бежит в кухню и приносит стакан воды: хоть половину, а Имро должен выпить, а нот, так мастер сам вольет в него воду.
День бежит за днем, и доктор, когда заходит к Имро, всякий раз диву дается, что он еще жив. А мастер утаивает, как ему удается растормошить сына. Вильма ходит бледная и вечно жалуется, что Имро не хочет есть. Даже если что и попробует, тут же выдает все обратно. Даже жидкого супа не переносит. Тарелки и ложки просто пугается; иной раз от страху и задрожит весь, но и страх ведь один из признаков жизни. Слава те господи, хоть воду пьет! Мастер всегда в нее чуть молока подбавляет; с каждым днем подбавляет все больше, и постепенно вода превращается в молоко. А однажды случается, что Вильма подносит Имро действительно чистую воду, и он, сделав глоток, поднимает к ней удивленное лицо, и впервые за долгое время у него развязывается язык: — Что это было? — спрашивает.
От изумления у Вильмы дух захватывает. Она глядит на мастера, потом наклоняется к Имро и посреди объятий и поцелуев говорит ему: — Это вода, вода была!.. Имришко, вода это!..
Мастер выбегает в кухню. Чувствует, как все в нем и вокруг него задрожало. На столе расплясалась кружка, из нее выплеснулось молоко. — Я знал… — бормочет мастер. Он берет кружку и бежит с ней в горницу, но у дверей глаза ему застилают слезы, он поворачивается и то ли по ошибке, то ли от радости, что Имрих заговорил, подбегает к окну и остатками молока поливает Вильмины герани…
ВИЛЬМА
Vilma
Редактор Л. Новогрудская
МАЛЬЧИК
1
Иной раз я и понять не могу, почему люди на меня сердятся. А может, и понимаю, да не всегда признаюсь в этом. Кто любит признаваться в ошибках? Вот и я не люблю.
Бывает, конечно, совершу какую ошибку, и не одну. Но, скажите, кто без ошибок?!
Когда я на вас подчас смотрю, сдается мне, что и вы на меня смотрите. А как отвернусь и стану глядеть в другую сторону, могу думать, что вы тоже перестали на меня смотреть.
Допустим — я все еще мальчик. Недолгое время был и министрантом. Знаю наизусть Konfiteor и Suscipiat[86]. Но надень я сейчас белую рубашку и рясу, к которой очень шел белый, красный, зеленый или лиловый воротничок (я тогда очень важничал, не сознавая, что похожу на встрепанного ангела, но теперь-то я себе таким и кажусь), я уже вряд ли сумел бы скрестить руки и набожно потупить глаза, а если бы даже и принял самый благочестивый вид, появившись у алтаря в чистеньком, выглаженном облачении, пан священник, наверно, тотчас испугался бы меня, и некогда грешные, а нынче, пожалуй, богобоязненные старушки, не пропускающие ни одной обедни, глядишь, поубегали бы из костела.
Нет, уж лучше не считайте меня министрантом!
Но все-таки я еще мальчик. Надо же доиграть это маленькое представление. Допустим, вокруг меня все те же люди, что были когда-то: родители, соседи, однокашники и всякие друзья и знакомые. О братьях и сестрах не говорю. Я ведь и раньше о них не упоминал. О Биденко — да. Я любил Биденко, но он погиб. Сестра любила меня, но лишь покуда не вышла замуж. В общем-то, и потом любила, но она уехала из нашей деревни, а если когда и навещала нас или я к ней заходил, обычно не находила времени выразить это. Бывало, только обнимет меня и частенько сразу же, пока обнимает и целует, сует мне в руку монету или пакетик конфет; хоть я и радовался этому (я и теперь радуюсь, когда мне что-то дают), иной раз мне казалось, что она хочет поскорей от меня отделаться, что, дескать, нет времени, она и так угостила меня всем, чем могла, и даже не знает, чем еще угостить, да и недосуг ей об этом раздумывать, так вот, если хочу, могу заняться своими делами, а то и вовсе уйти — у нее ведь работы по горло! Что ж, я понимаю. Я всегда такие вещи понимал.
Конечно, меня окружают и другие люди. На братьев и сестер особенно я не рассчитываю. У меня есть и родители, притом оба. Если что нужно — стоит только сказать. А уж сказать я умею. Иной раз мне удавалось выклянчить у них и на такую вещь, что потом, одумавшись, они приходили в ярость, что дали на нее. Дать бы мне и хорошенького тычка вдобавок! Дети ведь тоже частенько задумываются: чего только при деньгах не сделаешь! Получишь две-три кронки, а то и больше, на карандаш, на резинку, на тетради, на цветные карандаши, на бумагу для рисования или на кисточку, ты, может, и купишь эту бумагу, купишь тетради и резинку, но вдруг обнаружишь, что на кисточку-то денег уже нет или что тетрадки недостает. А мать дома шум подымает: «Тебе на все дали, у тебя должно было хватить денег!» Легко сказать — хватить! Кто же мог знать, что именно в этот день пройдет по деревне мороженщик — из самого города катил он велосипед с ящиком, на котором было ярко намалевано мороженое, да какое большущее, и так он выкрикивал и звонил, звякал, звонком приманивал! Кто бы тут устоял? И в школе был звонок, но какой? Школа есть школа, мы-то знаем школьный звонок, знаем и школу, знаем, что в ней можно увидеть, о чем узнать. Звонок мороженщика приманивал куда больше! Ну и понятное дело, кронки как не было! В школе потом нагоняй, а дома — и того хуже: «Где тетрадь? Где резинка? Дали ведь тебе на бумагу? Пять листов должно быть!» Ну и пошло-поехало. На другой день получаешь от отца или от мамы еще крону, может, и две, в зависимости от того, сколько нужно, покупаешь и бумагу для рисования, и резинку или даже то, что ты вчера съел и за что тебе всыпали. Все как положено. Родители тебя потом еще и жалеют. Ничего не говорят, но подчас это чувствуется. Бывает, на улице и не звякают, но отец в хорошем настроении, а то и в плохом, но хочет как-то подправить его или просто доставить сыну радость, он входит в горницу, протягивает крону: «Вот тебе, держи! Марш на улицу, мороженщик пришел! И поживей, не то бежать за ним на другой конец придется!» И, разумеется, я лечу. А тата вдогонку кричит: «Если хочешь, можешь и на улице поиграть! Да, а уроки, вам задали уроки? Если не сделал, давай сделай, не то, парень, больше не видать тебе мороженого, другой раз ничего не получишь, гляди, как бы из-за уроков тебе опять не всыпали!»
На родителей я не сержусь, хоть они меня порют, и нередко здорово порют. Только держись! Как завижу ремень, начинаю охать и ахать, дело-то известное, что и как бывает с ремнем. А хуже всего, когда не знаешь, что кричать и как кричать, сознаться ли, нет ли, а то и тогда сознаться, когда на тебе нет вины, потому что ремень — это ремень, уж раз начнут ремнем выяснять, виноват ты или не виноват, ох и больно! Жутко больно! Иной раз и то признаешь, в чем вовсе не повинен, а ремень все лупит и лупит, потому что он уже в действии и ему кажется, что ты надрываешься лишку; а как тут не надрываться, когда ты принял на себя даже то, чего вообще не было и быть не могло или было где-то совсем в другом месте, неизвестно в каком, и ты не знаешь, что сказать и что не сказать, лучше ли кричать «да» или кричать «нет», кричать или вообще молчать — господи, так не кричи, не кричи, если и впрямь ничего, совсем ничего не знаешь и думаешь, что тебя теперь бьют за один этот крик; но, если перестаешь кричать, они решают, что уже не очень-то больно, а то и вовсе не больно, и, значит, нужно снова, да похлеще, ремень слеп и глух, он не видит и не слышит, что кричат только глаза, что от страху, от боли и отчаяния они вот-вот выскочат, ремень, коль однажды взъярился, обычно бьет до тех пор, пока не устанет, пока и сам от такой порки не разнеможится, и ты потом уплетаешься, семеня ногами, куда-нибудь в закуток, если у тебя еще раньше не отлетел туда ботинок, и твои выплаканные глаза с минуту, а то и дольше испуганно и отчаянно озираются, дух у тебя по-прежнему перехватывает, но рано или поздно ты понемногу успокаиваешься, глаза возвращаются на свое место, и поскольку слез нет в них, но и настоящего покоя в них нет, то уже не крик, а лишь обыкновенный плач поднимается в тебе, и до того тихо и робко, что только тихие, целебные и успокоительные слезы могли бы его приглушить, но все они выплаканы. И глаза устают! Чистые, а у детей они такие лучистые и правдивые, даже когда и лукавят, эти глаза подчас замутятся, изменятся неузнаваемо, разучатся и удивляться. Потом их прикроют сухие веки: так и уснут они в закутке. И когда поздним вечером мать — иной раз и матери умеют так бить — переносит ребенка из закутка в постель, он и во сне на руках у нее задрожит, весь заколотится. И мать, даже та, что ловка лупцевать, почувствует эту бурю, ведь ребенку она дала жизнь, она не может не чувствовать, и, если прежде у нее ничего не болело или не очень болело, теперь-то наверняка заболит, и будет болеть все больше и больше; она и то, пожалуй, узнает, постигнет — и этому собственный ребенок научит ее, — что боль взрослого, а особенно детская боль болит и во сне.
2
Да, я вроде перехватил малость. С этой самой поркой, разумеется. Что ж, лупили меня, и, бывало, изрядно. Ремень мне противен — глаза б мои на него не смотрели. Не ношу ремня и никогда не буду носить. Люди, что носят ремень, да еще кожаный с металлической пряжкой, пусть и хорошие люди, не знаю почему (а впрочем, знаю), всегда немного мне подозрительны. Не обижайтесь! Просто дремлет во мне этакая мыслишка, этакий мнительный росток мысли. А вообще-то я не люблю подозревать людей попусту. И на родителей не сержусь, я сюда и другие порки приплел, я ведь всякого нагляделся, видел и как других бьют. Иные родители ох и здоровы драть. И не скрывают этого, излупят, искровенят собственного ребенка, хоть на улице. А потом скажут: «Ну и что?! Это же мой ребенок».
Однажды я видел, как красивая, рослая и сильная женщина пнула, и именно на улице, своего пятилетнего сынишку в животик. Из-за ерунды. На нем были новые ботиночки, и его понесло в грязь. Хотел обновку в грязи испробовать. Сами судите: какой ребенок не обрадуется новым ботиночкам и останется равнодушным к грязи? Новые ботиночки и грязь — это же прекрасно! Спросите у малышей, разве это не так?! А если думаете, что это не так, что вещи эти несовместимы, если вам кажется, что грязь не прекрасна, объясните им, но таким образом, чтобы и вам, да-да, и вам понравилось. Ведь и вам пришлось бы кое-что объяснить, и уж коль зашла о вас речь, то, пожалуй, и у вас свои понятия, как вам надобно объяснять. И у вас ведь есть своя грязь, ей-ей! У нас своя грязь, мы и новые ботиночки любим, причем те, что подороже, и, пожалуй, именно для грязи, чем больше грязи — тем и ботиночки подороже. Быть может, и эта женщина — я же ее знаю, хорошо знаю, — может, и она огорчилась, что и у нее новые ботиночки и своя грязь, только в ту минуту, наверно, казалось ей, что до грязи далеко, ну а ребенку долго ли до грязи добраться, захочет, сумеет и сам ее сотворить, совсем как взрослый, разве что побыстрей да попривлекательней. И эта сильная женщина вдруг сразу — бац! Я сказал — в животик, а на самом деле пнула его в яички. Не хочется говорить чересчур откровенно. Иные этого не переносят, рассуждают так: приличный человек, а главное, писатель должен всегда прилично и красиво выражаться. Об этом у нас уже шла речь. Но в конце концов, слово «яичко» не звучит бог весть как некрасиво или неприлично. Если бы мы говорили о взрослом мужчине, тогда была бы проблема! Не бойтесь, господа! Откиньте страх, чувствительные дамочки и барышни! Смело можете читать дальше! Действительно, речь шла не о взрослом мужчине. Это был лишь пятилетний мальчонка, а у него действительно всего-то яички, да и их почти нет; в самом деле один животик, а что еще? Головка на шейке, какие-то руки или ручонки, которыми он все время что-то хватает, потом ноги, чтобы надеть на них новые ботиночки и всласть пошлепать по грязи, ну а ежели под этим пузиком у него что-то висит, его ли это вина? Частенько пятилетний мальчонка еще и обмочится, хотя и сам в толк не возьмет, как такое могло приключиться. Я и по себе это знаю. Но говорю о том, что видел тогда; видел, как этот мальчонка умирал от страха и боли и как вскорости мать бежала с ним к доктору, а он не унимаясь кричал, плакал навзрыд. А потом и мать плакала, жалела мальчонку и себя и злилась на себя: «Как просто беды натворить, как легко собственного ребенка искалечить!» Бедняжка! Может, она и жаловалась и сердилась, что некому горю ее посочувствовать. Хорошо еще, доктор выручил, сделал мальчонке укол от боли и немножко его утешил. Да и мать наверняка купила потом сыну какую-нибудь ерунду, конфеты или воздушную кукурузу, уж мать знает, что нужно сыну купить. С неделю мальчонка еще дома полеживал и посиживал по закуткам, вздыхал и постанывал, но наконец и это прошло, и он снова стал здоровым и веселым мальчонкой. И на мать не сердился — а как на собственную мать сердиться? Каждая мать должна ребенка воспитывать, но каждая делает это по-разному. Главное — чтобы ее сынишка был приличный и послушный, чтобы был всегда чистенький и руки чтоб были чистенькие, чтоб не шлепал по грязи и не водился с плохими мальчишками — от них он бог весть чего наберется. И даже ей мог бы однажды сказать — известно, дети бывают неудачными, а если и удачными, то, возможно, неблагодарными или страшно невоспитанными, — так вот, этот мальчик, ежели его плохие дети испортят, мог бы ей, родной матери, сказать, что она пнула его тогда не только в животик, но и ниже и что он это запомнил и никогда не забудет, потому что в тот день она купила ему конфетки и воздушную кукурузу…
3
Ну, я уже в своей стихии, теперь пошло, вижу — само пишется, я уже снова мальчик. Хожу в школу, учусь, а иногда не учусь, особенно-то и учиться не надо, и без того всякое запоминаю, а другой раз напрасно только терзаю голову, никак не могу в нее вбить то, что задали, некоторые вещи просто нейдут в голову, хоть я их кое-как, по крохам, по кусочкам, и собираю и укладываю в ней, а потом радуюсь, что все знаю, что все у меня в голове и, стало быть, могу побегать спокойно или заскочить к кому-нибудь в гости, а вечером с легким сердцем лечь спать и радоваться еще в постели, особенно если суббота — ну какой бы осел в субботу вечером не радовался? Про воскресенье и не говорю, потому что в воскресенье, и обычно уже с самого утра, у меня почти всегда вырастают крылья. Вздумай я какое воскресенье подробно описать вам, ей-богу, у меня вышла бы вся бумага, хотя сейчас, озираясь, вижу, что бумаги вдосталь. Ну зачем, зачем обо всем писать?! В воскресенье дома меня не бывает, прибегаю только к обеду чего-нибудь наскоро проглотить, в воскресенье все можно съесть и все вкусно, вот я чего-нибудь и хватаю, чтоб мне еще и на улице было вкусно, и потом снова ношусь, прихожу домой лишь вечером, иной раз совсем затемно, и тогда обычно получаю по крыльям. Но мне не привыкать стать; если порка так порка, а если всего-навсего крик, ну и что?! Частенько я еще и в постели скалю зубы: и это называется порка, и это называется крик? Отец ворчит, и мама грозится, но я долго не скалюсь и отзываться не отзываюсь, даже словечка не вымолвлю, ах, я так притомился! Засыпаю, чисто голубок. И не замечаю, когда отец с мамой перестают меня распекать.
Да вот что толку?! В понедельник прихожу в школу и, хотя в субботу знал все, не знаю вдруг ничего, и даже именно то, что больше всего учил, что в субботу так долго и упорно вдалбливал в голову, за воскресенье из головы у меня напрочь выветрилось. Я, ей-богу, и рта не раскрываю. А как его раскроешь, когда в голове пустота? А ведь не было пустоты, не было бы, спроси меня учитель о чем-нибудь другом, уж я бы тогда сумел намолоть, глядишь, и его бы огорошил, но как назло он спрашивает именно то, чего я не знаю, что просто в голову мне не лезет, а если и влезет, тут же — фьюить! Я и на учителя злюсь: ну чего бы ему не спросить то, что я знаю?
Бывает, однако, что и повезет, особенно если учитель терпелив и дает мне немножко подумать, а иной раз достаточно, чтобы он ненадолго забылся или о чем-то задумался. Вот и получается: я чуточку шевелю мозгами, он чуточку ждет, наверняка у него какие-то другие, неведомо какие, может совсем обыкновенные, домашние, заботы, хотите верьте, хотите нет, а у меня на это дело нюх, и я не раз по нему видел, что спрашивает он просто так, ради того, чтобы только спросить, это ведь его обязанность, учитель как-никак должен подчас своих учеников проверять. Однако частенько он и сам забывает, о чем спросил, ну а я, не будь дурак, тут же этим пользуюсь и начинаю совсем о другом говорить, и это здорово у меня получается: трещу, трещу, трещу. Он опомнится, прислушается, бывает, ему это и понравится. Он дает мне поговорить минуту, а то и две и лишь потом вспоминает: «Постой! Я ведь тебя о чем-то другом спрашивал. Ты это о чем тарахтишь?» Но меня уже не остановишь, боже избавь! Сыплю, да так шибко, словно собрался высыпать все, что когда-либо выучил, словно бы знаю даже больше того и хочу перед ним и остальными учениками этим похвастаться. Но учителю, видать, уже невтерпеж, он скучающе машет рукой и говорит: «Ну хватит! Садись!» А потом опять кого-нибудь спрашивает.
Иногда просто нужна удача. И в школе. Не обязательно большая. Бывает, достаточно, чтобы какой однокашник шепнул единственное слово. Повторяешь это слово, а то попытаешься его как-нибудь обыграть, сделать из него фразу. И пусть она не из лучших и вовсе не хитрая, хватит и того, что ты ее произнес: тем временем тот же или другой однокашник шепнет еще слово, а то и целую фразу подкинет, ну а там уж и сам вокруг этого крутишься, авось выкрутишься: сначала подправишь первую фразу, потом попробуешь добавить вторую из двух-трех ловких слов, конечно если умеешь их приукрасить или знаешь, что тем или иным словом и блеснуть недурно. Вот и блеснешь, а там из двух-трех слов можешь и семь фраз слепить. Учитель, глядишь, тебя еще и похвалит. А если и нет, то по крайней мере скажет с пониманием: «Н-да! Не совсем то, но я хотя бы вижу, что это ты учил!»
4
К Гульданам я захаживаю. Бываю часто у них. Но теперь там немного по-другому. С тех пор как Имро дома, у Вильмы нет для меня времени — во всяком случае, не столько, сколько было прежде. Подчас мне сдается, что она относится ко мне почти как моя замужняя сестра: «Вот тебе пирог, и сиди смирно, потому как Имришко только что уснул».
Такие речи я хорошо понимаю. Иной раз это звучит, как если бы она сказала: «Вот тебе, мальчик, пирог! И лучше сразу отчаливай, на улице съешь!»
Но я ее понимаю. Знаю, что у нее полно с Имришкой забот. Знаю и то, что ему нужен покой и сон, нужно много-много спать.
Но иной раз мне кажется, что ей нечего уж так с ним носиться, он ведь и без того спит, непробудно спит. А как я надеялся на него! Думал, он чего-нибудь принесет, может, и то, что потерял наш Биденко, или хотя бы что взамен принесет, может, и самого Биденко мне заменит. Но он так ничего и не заменил, ничего не принес, принес лишь себя, и у Вильмы теперь одни заботы. Заботы принес ей, и только!
Разумеется, эти ее заботы и я теперь чувствую. Частенько их чувствую. Вечно: «Тсс!», «Тсс!» Она велит мне молчать, даже когда я ничего не говорю.
А меня это мучит. Пускай я ребенок и знаю, что должен молчать и молчу, но иной раз и мне хочется сказать что-нибудь. Иногда думаю, что ей поможет это, мы ведь прежде хорошо понимали друг друга и всегда обо всем разговаривали. А теперь одно: «Тсс!» Словно бы про все забыла или думает, что ребенок только тогда и бывает доволен, если получит что-нибудь в лапу.
И все-таки я понятливый. Что, в общем-то, я хочу? Что я могу хотеть? Имришко болей, а он Вильмин муж, она его так ждала. Я ей только помогал ждать, но, пожалуй, лишь потому, что и мне хотелось ждать, а некого было. Разве Вильма виновата в том, что наш Биденко не вернулся с войны? Разве она виновата, что муж ее, Имришко, вернулся не таким, каким был прежде, каким должен был быть, о каком мы вместе мечтали и какого ждали? В чем мне ее упрекать? В заботах этих, что ли? Иль в том, что не сбылось все так, как ей хотелось? Но ведь и у меня не сбылось.
А в общем, я даже не знаю, чего мне от нее надо.
5
Правда, и у нее бывает всякое настроение. Иной раз она и обрадуется моему приходу. Хотя и то возможно, что она еще до этого чему-нибудь радовалась, а я как раз взял да пришел.
— Как хорошо, что ты пришел! — улыбается она мне и радостно разводит, всплескивает руками, словно вот-вот в ладоши захлопает. — Мне уж вчера тебя не хватало. Хотела похвастаться. Имришко опять малость получше. Вчера после обеда был с отцом во дворе.
Ну разве можно в это поверить? И вообразить невозможно, чтобы Имро мог выйти во двор, ведь с тех пор, как он здесь, я ни разу не видел, чтобы он стоял на собственных ногах даже в горнице, ну как тут верить? Я всегда видел его в постели, обычно лежащим, только несколько раз видел, как он сидел. Как он разговаривает и то не слыхал. Если он и сказал что-то случайно, то не при мне, истинное слово, при мне он ни разу даже не забормотал, а если я раньше обмолвился, что — да, то я вас вовсе и не думал обманывать. Просто я от Вильмы узнал, что Имришко не совсем немой. И поверил ей. Ведь Вильма никогда меня не обманывала; и если не мне, то хотя бы ей поверьте. Многого, правда, он не сказал, больному и не хочется говорить. А Имришко, правда, серьезно болен. Неужто он в самом деле ходил? Ведь до сих пор он только одно и делал: спал. Может, мастер вынес его во двор?
— Нет, нет, не вынес, — возражает Вильма. — Он обхватил отца за пояс, а отец — его, и они так это ладно, потихоньку шли. На дворе были недолго. Всего минутку. Потом Имришко опять лег, чтобы не очень уж перебрать с этой прогулкой, чтоб по первому-то разу не слишком умаяться. Во всем надо меру знать!
И мастер подтвердил. Даже захотел сообщить об этом еще более решительно и более выразительно, потому как и он радовался. — Ну, ходил со мной, именно! — сказал он горделиво и при этом еще выпрямился и немного надулся. Словно бы сын его был уже совершенно здоров, и он с радостью оповестил бы об этом всех и вся, но пока оповещал лишь меня торжественным, словно с амвона, голосом: — Ходил со мной! Ей-богу, будто совсем здоровый мужик, почти как солдат! А он и есть солдат, разве он не был хорошим солдатом? Был солдатом, и на войне был, партизаном был. И у него крепкий корень, он весь в меня, был и будет солдатом! Завтра опять пойдем! И прямо с утра, потому как утренний воздух ядреней! Чего еще надо солдату? Завтра утром опять выйдем, выйдем на свежий воздух, поход устроим!
И мне это доставляет радость. Я с удовольствием и поглядел бы на Имришко. Пожалуй, я бы ему и сказал или хотя бы намекнул, как я рад, что ему полегчало.
Но Вильма предупреждает меня: — Нет, сейчас туда не ходи! Имришко спит.
К нему и не войдешь. Все только одно: «Тсс! Спит!» Все время «Тсс» да «Тсс»! До каких же пор он будет так спать?
6
А мастер бубнит свое. Наверняка и его одолевают сомнения, но он все равно изо дня в день повторяет одно и то же, убеждая в этом себя и стремясь убедить Вильму: — Самое худшее у Имро позади. Он уже здоров или почти совсем здоров. Должен есть больше, сам должен есть. Вот начну его снова пичкать — в два счета хворь из него вышибу. Начну его снова подкармливать, сразу все как рукой снимет, вскочит с постели и без всякой подмоги! Потому как мне часом сдается, в этой его хвори есть безразличие: ничего, мол, не хочу, только бы мне лежать! Нечего ему лежать, надо его гнать из постели! И я буду его гнать, всякий день буду с постели сгонять. Ему двигаться надобно!
— А вреда не будет? — На Вильму сразу находит страх. — Может, ему еще покой нужен. Ведь у него и сил нету. Надо бы с доктором посоветоваться.
— Плевал я на доктора. Будто доктор его вылечил? Знаешь ведь, как он лечил. Ничего, мол, ждать уже не приходится. Никакого проку не будет. Все ходил стращать нас. Послушайся мы доктора…
— Надо бы посоветоваться… Плохого ведь он не советовал.
— Но и хорошего мало. Не может же он век вылеживать, надо ему на ноги подыматься, размяться надо. Ведь он уже выходил из дому.
— Выходил. Только как? Вы ж его выволокли.
— А что я мог делать, когда сил у него не было? На ногах не держался. Сама небось мне посоветовала.
— Думала, поможет ему. Хотела, чтоб он хоть немного побыл на воздухе. А потом мне стало жалко его. Видно, поторопились мы.
— Думаешь, мне его не жалко? Но ему надо размяться. Если он начнет двигаться, увидишь, ему и есть захочется. Ты-то, Вильма, знаешь, каково с ним было. В больницу не брали, послали домой умирать. А нынче, нынче, когда он дома кое-как оклемался, идти с ними советоваться? Будь он сейчас в больнице, его бы и там есть и ходить заставляли. И нам надо.
— Может, просто его на воздух вынести?
— Да мы же его выносили. Ну вынесешь его со стулом наружу, и что?! Сидит на стуле. Да и когда в комнате — окно у него отворено, он ведь на воздухе, у него всегда свежий воздух. Ему ходить надо. Сегодня опять с ним попробую.
— Нет, сегодня не надо. Заснул только. Нынче он кажется мне еще умученней, чем другой раз.
— Опять спит? Что ж, ладно. Попробую завтра, сразу же как проснется. Утренний воздух самый здоровый, чистый. Наверняка на пользу ему будет…
7
Что можно сказать? Он, видите ли, солдат. Любой ценой они хотят, чтоб он был солдатом, а я только и вижу, что он спит да спит. Спит и тогда, когда не спит. И я, хоть и люблю солдат, не могу, не смею на этого солдата даже взглянуть.
Но мастер, тот на него не нарадуется. Он снова видит в нем своего здорового сына-солдата, он вообще в его здоровье не сомневается. В корчме лишь о том и толкует, ни о чем другом ему говорить неохота: — Имро почти здоров. Скоро будет ходить, да и сейчас уже ходит. Увидите, скоро пойдет со мной на работу. Хворь из него вышла, с ним все в порядке, хотя пока слабый. Да ведь хлебнул немало, было с чего ослабеть. Доктор не оставлял ему никакой надежды, ан, видите, мы с Вильмой его отходили. Докторам не верю. Больно ученые, а чаще лечить речами горазды. На Имро все крест поставили. Доктор и ходить-то к нам не хотел, говорил, зря все, а потом и сам диву давался. Поверить не мог, что это мы с Вильмой его так выходили. А вот как, спросите! Да расскажи я все, и не поверите. Сперва я его только табаком лечил. Есть он ничего не хотел, поначалу и впрямь ничего. Бывало, я сам для него папироску раскуривал, приходилось и потянуть ее раз-другой! Иногда давал ему попить маленько воды — да разве пил он, силком приходилось в него эту воду вливать. Однако водица была из доброго колодца, во дворе у меня, право слово, знатный колодец, а в эту водицу подбавлял я и хорошего молока, вот увидите, скоро моего сына увидите, ему бы еще поесть как следует, не сегодня-завтра все подряд станет есть, он пока слабоват, и желудок у него слабый, но он уже приучается помаленьку и к более твердой пище, не сказать, чтоб совсем твердой, но приучается. Днями пожалует на улицу, а там увидите — станет что твой бык.
8
И все-таки Имришко не поправляется столь быстро, как мастеру и Вильме хотелось бы. Пожалуй, он все такой же. Вроде и ест сам, а когда сидит, иной раз начинает ерзать, словно с постели слезть собирается, только всякий раз ему это скоро надоедает, неохота или сил недостает долго ерзать. Самому, пожалуй, с постели ему пока не сойти. Такое и вообразить трудно. Обычно он просто сидит, а чаще лежит и глядит перед собой. Если двинет головой и переведет на что-нибудь взгляд, он все равно у него не меняется.
Иной раз мне думается, что он и не выздоровеет. Возможно, со временем придет немного в себя, а то и ходить начнет, так все говорят, но не скоро это случится, да и таким, как прежде, ему, пожалуй, уже не бывать. Ох, если бы я ошибался!
С Вильмой или мастером я бы и поделиться не мог этой мыслью, они бы наверняка рассердились и огорчились. Ведь они верят в Имришко, ухаживают за ним. Оба твердят, что он уже выздоравливает и что был бы еще здоровей, кабы ел больше. Лишь бы ему, дескать, окрепнуть. Но как, с чего он может окрепнуть? Еда по-прежнему страху на него нагоняет. А они знай ему наготавливают, наготавливают, чего только не наварят ему и какую только вкусноту не подносят, а он и не глядит на нее, приходится все совать ему прямо под нос. Иной раз хлебнет жидкого говяжьего супа, но всегда из кастрюльки, тарелку и ложку Вильме лучше ему не показывать, а иной раз чуть молока выпьет, и все. Даже молоком перебирает: то ему сырого хочется, то кипяченого, но это тоже кое-что значит, тоже, поди, добрый знак. В один прекрасный день мастер с Вильмой сходятся на том, что раз он молоко пьет, то может съесть и кашу.
И Имро съедает кашу. Но опять же из кастрюльки. Мастера это даже злит: — Имро, не дури! Каши боишься? Да ты ее уже давно ешь. Всякий раз, когда Вильма кипятила тебе молоко, я незаметно в него малость мучки подсыпал и наскоро замешивал, а потом убирал, чтоб она ничего не заметила. А теперь мы оба считаем, что пора тебе есть кой-чего и погуще. Это же каша! Раньше бывала пожиже, было в ней только малость муки, а теперь она с манкой, чуть погуще, сам видишь, что из этой кастрюли без ложки она и не вылазит. Теперь будешь ложкой есть. Притом сам. И не из кастрюли, а из тарелки. Где это видано, чтоб из кастрюли кашу лакать, кашу пить?! И суп можешь, и не один говяжий. Хоть всего и не съешь, а попробовать должен.
Имро поначалу только дивится. Но мастер вновь и вновь ему напоминает об этом, а за едой еще строже втолковывает, и Имро уже не противится, перестает пугаться тарелки и ложки, ведь тарелку перед ним держат, а ложкой — не так оно и трудно, он когда-то это умел, вот и снова у него получается, сам себе и набрать может, он даже находит, что тарелка лучше кастрюли, потому как все на ней видно и, ежели ему что не по вкусу, можно ложкой и обойти. В конце концов, так и не доев, он кладет ложку на тарелку и устало говорит: — Ну хватит!
Мастер с Вильмой минуту глядят на него, им-то кажется, что вроде бы еще не хватит. Но потом, наверно, подумают, а то и вслух выскажут, что другой раз придется ему съесть и побольше. А сейчас оставляют его в покое — он совсем изнурен. Еда всегда его так утомляет.
Сразу же после еды Имро заваливается на постель и спит…
Имро лучше. Он теперь и с постели сходит, правда с трудом, но, уж коль стоит на ногах и приложит усилие, если сосредоточится и принудит себя, способен сделать и без сторонней помощи несколько шагов. Однако он не любит себя принуждать, обычно мастер заставляет его, доглядывая при этом за каждым Имровым шагом, чтобы сын ненароком не потерял равновесия; мастер шагает рядом и при надобности всегда может его подхватить, удержать, подпереть, снова выпрямить. Но это только проверка, мастер одного его не заставляет ходить… Да и Вильма бы не позволила, ведь и она к Имро подскакивает, обыкновенно чаще, чем мастер, и, если бы речь не шла о деле серьезном, о больном Имришко, эти Вильмины семенящие подскоки и прискоки, пожалуй, были бы просто смешны — ведь она и без того все время при нем и обычно так близко, что ей вовсе незачем скакать и подскакивать, если бы Имро даже и падал; однако она все равно вокруг него прыгает и скачет, хотя при этом и за руку его держит или по крайней мере за рукав, а иногда и за шиворот рубахи. Мастер на нее даже сердится: — Ну что ты его не отпустишь? Чего все время его держишь? Отпусти рукав, чего бесперечь до него дотрагиваешься? Я небось знать хочу, набрался ли он сил хоть малую малость. Не мельтеши перед глазами, не лезь, а то брякнется, и будешь ты виновата. Еще и меня свалишь!
У Вильмы от таких слов наворачиваются слезы. — А если я боюсь, что он упадет? Слаб ведь. Разве не видите? Зачем его заставлять?
— Кто его заставляет? Однако ж попробовать не мешает. Чего хнычешь, ну чего опять нюни распустила? Видишь, дело у него на лад идет. Скоро станет ходить и без нашей подмоги. Нечего тебе его все время держать, виснуть на нем. Если и упадет, так лишь потому, что ты вкруг него прыгаешь. И не хнычь! Думаешь, хныканьем ему поможешь? Лучше положись на меня! Имришко, поди! Садись-ка сюда, к столу! Отдохнем. Завтрак готов?
Вильма утирает ладонью глаза. — Сейчас! Сейчас! Еще не успела. — Она чуть виновато глядит на Имришко, потом на мастера, и невольно в ее заплаканных глазах появляется невинная, почти детская улыбка: — Сейчас приготовлю завтрак. Совсем про него забыла.
Мастер садится возле Имришко. — Ну вот и постряпай! — говорит он Вильме все еще как бы сердито, но Вильма знает его и понимает: таким тоном мастер порой и пошутить не прочь.
— Сваргань чего-нибудь! На скорую руку. Мы с Имришко покамест отдохнем, а потом поедим.
9
Не видал я Имришко ни на первой, ни на второй прогулке. Слышал только, как о них Вильма рассказывала. Но видел его позже, не знаю, правда, которой по счету была та прогулка. Вот уж история! Когда учишь малого ребенка ходить, всегда получаешь радость, каждому шажку умиляешься, но, когда учишь ходить взрослого, умевшего прежде ходить, — просто мучение, даже если в один прекрасный день такой человек и пройдет на шаг-другой больше вчерашнего. И хоть ты этому радуешься, обычно в твою радость столько слез набежит, что ею — какая уж тут радость — того и гляди захлебнешься.
Так и у Гульданов получается. Мастер, хотя временами этого и не скажешь, через меру заботливый и внимательный. И по отношению к Вильме — внимательный. Не хочет ее обидеть, не хочет мучить. Пусть он и крутого нрава, а подчас прикидывается еще суровей — так бы и прогнал Вильму прочь! — на самом-то дело он, пожалуй, куда несчастней, чем Вильма думает, несчастный и из-за нее, из-за того, что она вынуждена глядеть на эти Имровы натужные и мучительные шаги. Правда, иной раз он охотно прогнал бы ее!
Но что делать? Она все-таки Имришкова жена. Разве он может запретить ей со своего мужа глаз не спускать? Не запретишь ведь.
Только он все же отец, и мужик есть мужик, он как-никак выдюжит больше, коль нужно, иной раз он должен и вмешаться решительней и решительней помочь сыну.
Разве виноват мастер, что сын его так трудно и медленно выдирается из болезни. Как часто они с Вильмой чуть не ликовали, будто с Имришко день ото дня совершается чудо, будто через несколько дней, от силы неделю, он возьмет да вскочит с постели.
Прошла неделя, прошел месяц, а с Имришко по-прежнему не все ладно.
Не сдаваться! Выдержать! Имришко, не падай духом, не поддавайся болезни! Имришко, держись до последнего! У тебя ведь дело пошло, ты уже начинаешь ходить, поднатужься, оттерпи свое, хоть ты и без того уже вдосталь намучился, выдержи еще, потерпи малость, увидишь, Имришко, опять все будет ладно!
10
Мастер встает еще затемно. Иной раз проснется и полеживает в постели. Размышляет. О разном. Ему есть о чем поразмыслить. А иногда встанет, оденется, поснует по горнице, а надоест, и на двор выйдет, но совсем потихоньку. Жаль Вильму будить, если ей сладко спится и пока самое время для сна. А будить Имриха? Зачем? Разве ему на работу? Далек он от работы, куда ему еще до нее. Пускай спит!
А спит ли он? Вот что тревожит мастера. А ну как пойти ему на Имро взглянуть? Вдруг не спит. Ему и на дню есть время поспать, а если он спит и ночью, иной раз под утро ночь может показаться чересчур долгой. Может, и сейчас так. Пойти поглядеть на него? А почему нет? Можно же войти туда и тихонько. Вильма и знать ничего не должна. А если бы и проснулась, что тут такого? Достаточно сказать ей: я хотел лишь взглянуть. Поначалу они чередовались возле Имришко, приходилось чередоваться, один до полуночи, другой после, однако время точно они не отмеривали, менялись смотря по тому, кто когда просыпался, или будили друг друга, если тот, кто не спал, чувствовал, что его сморила усталость. Чередовались они по-разному, а то и вовсе никак, случалось, оба просиживали возле Имришко целую ночь.
Но теперь мастер спит один, и под утро ему почти всегда кажется, что в последнее время сон его слишком долог. Он и до этого высыпался. Редко когда ему сна не хватало. Только когда он должен был с Вильмой меняться или они вместе глаз не смыкали возле Имришко, тогда всякое утро он чувствовал себя усталым и невыспавшимся. Но теперь достаточно на Имро лишь иногда поглядеть, а чаще и это не надо. Имро спит хорошо и, к счастью, умеет уже и просыпаться. Слава всевышнему, не уснул навечно! Но сам мастер словно бы поотвык от сна. Ему теперь нужно совсем мало спать.
Так заглянуть ему в горницу? Эге, да ведь светает, уже почти светло, вот и воробьи расшалились и ласточки защебетали.
Он осторожно отворяет дверь, входит в кухню, у вторых дверей, за которыми спят Имришко и Вильма, на миг останавливается, потом легонько нажимает на ручку, приоткрывает дверь, шмыгает внутрь; бесшумно проходит к Имришковой постели, прислушивается, как Имрих дышит, слышит и Вильмино дыхание, немного ему и неловко, что он вошел сюда тревожить их сон и что видит невестку не совсем прикрытую, верней сказать — почти раскрытую, в самом деле, она раскрылась во сне, он стыдится за себя, стыдится, пожалуй, и потому или тем больше, что видит, какая его невестка красивая, ведь такой он ее ни разу не видел. Вильма и впрямь хороша и как хорошо и ровно дышит, боже, лишь бы ее сна не нарушить. Не лучше ль уйти? Нет, ведь он уже тут, а на Вильму лучше и не глядеть, он наклоняется к Имришко, касается его пальцами, с минуту ждет, потом снова касается и легонько трясет за плечо: — Имришко, спишь?
Имро не отвечает, но мгновение спустя чуть пошевеливается. Мастер стоит возле него, следит за ним, кажется ему, что Имро просыпается, что даже проснулся, возможно, еще раньше проснулся, а теперь только так подремывал, а может, вообще не спал. О таком человеке трудно сказать, когда он спит и как и когда просыпается. Может, спит, хотя с вами и разговаривает. Ну а в такой ранний час тем более — ан гляди-ка, Имро как раз открыл глаза — не поймешь, на самом ли деле мастер его разбудил. Но глаза Имро открыл. Мастер ему открыл их. — Садись, Имришко! — шепчет он ему на ухо, потому что все еще немного боится, как бы и Вильму не разбудить. — Садись! Закурить не хочешь? Уже утро, неохота спать. Пойдем выйдем на минуту, да хоть в кухню. Мы давно с тобой вот так, утречком, не курили. Пошли покурим!
И Имро подчиняется. Хотя глаза у него были закрыты, скорей всего, он уже не спал, наверняка еще раньше проснулся. Не мастер же его разбудил. Смотри-ка, вот он уже поднялся, отец помогает ему сойти с кровати, помогает дойти до кухни и усаживает его к столу, потом идет за одеждой и, вернувшись в кухню, потихоньку прикрывает за собой дверь.
Вильма, не ведая ни о чем, спокойно спит. Отец с сыном выкуривают по сигарете, но не до конца, потому как мастер рассеян, встревожен, то и дело оглядывается на двери, боится, как бы Вильма случайно не проснулась.
— Оденься, Имришко! Пошли! Давай немного пройдемся!
Трудно сказать, охота Имро одеваться или неохота, больше похоже на то, что не хочется, но он одевается, медленно, неловко. Мастер помогает ему надеть брюки и пиджак, и они выходят во двор, оставляя кухонную дверь открытой, идут медленно, осторожно, отец держит Имро за талию, а Имро обнимает его, крепко, прямо-таки упорно держится он за отцовское плечо, и они идут, тесно прижавшись друг к другу, отец и сын, идут, качаются, стараясь не терять равновесия, минутами кажется, будто оба вот-вот упадут, посреди двора останавливаются, отдыхают, потом снова идут покачиваясь, выходят и в сад, мастер озирается: жаль, тут нету скамейки! — Имришко, придется тебе чуток обождать! Если хочешь, можешь на забор опереться, обопрись на забор! Враз смастерю скамейку.
И старый опрометью бежит из сада и вскорости возвращается да с полными руками, словно все у него было загодя припасено, может, он уже давненько задумал сделать в саду скамейку, да времени не было, а теперь вот разом все и наглел: и широкую доску, и круглые столбики, топор и искать не пришлось, топоров у него хватает, и он всегда знает, где они, ну а гвозди, кое-какие гвозди всегда в карманах имеются, дело большое, что от гвоздей рвутся карманы и гвозди теряются, в котором-нибудь кармане гвозди всегда найдутся. — Тьфу ты, я ведь плотник! Почему же не быть здесь скамейке? Давно ей положено быть здесь! Человеку и сесть некуда! — Вот он уже вбил в землю кол, или столбик, — вот черт, выбери же слово — кол или столбик, хотя теперь все равно, мастер и без того второй кол вбивает и еще два кола-столбика, на них ляжет доска, а в нее — сколько-то гвоздей. — А гвозди есть у меня? — Мастер шарит в карманах. — Конечно, есть! У меня гвоздь всегда есть, ведь у меня всюду гвозди. А больше всего тех, что я из карманов повытерял. Вот и дело! Скамейка поспела! Даже времени на нее не понадобилось. Пойдем-ка, Имришко, сядем!
Садятся. С минуту молчат. Затем подает голос мастер: — Ну видишь, Имро, видишь! Немножко прошлись, а теперь вот сидим. И еще на какой ладной и нарядной скамеечке! Давно полагалось быть ей! И вот она есть, у нас новая скамейка, и воздух у нас хороший, ну скажи, не славно ли здесь?!
Вдруг прибегает всполошенная Вильма. — Господи, вы ума решились? Что вы делаете? Как вы тут очутились?
Мастер, сперва немного опешив, теперь улыбается. — Что делаем? Да ничего не делаем. И ума никто не решился. Вишь, новая скамейка у нас. Смастерили мы скамейку, а теперь вот сидим на ней.
Вильма, все еще перепуганная, шарит по ним глазами, вроде бы хочет отца и выбранить, но тот спокойный, совершенно спокойный, а Имришко глядит на нее, и невольно — это правда? это действительно правда? — Вильмино взволнованное и удивленное лицо постепенно меняется, проясняется, хорошеет, хорошеет все больше, потому как у Вильмы радость, после долгого времени она хоть на минуту чувствует себя счастливой, а радость и счастье — в такие минуты ведь это одно и то же, так вот, счастливая радость или радостное счастье всегда в такие минуты придает женщинам красоту.
Имришко после долгого, бесконечно долгого времени в первый раз улыбнулся ей.
11
А мне Имрих по-прежнему не нравится. Пусть он и чувствует себя лучше, даже сам ходит, за ним теперь не надо особо присматривать, он уже и во двор выходит, потихоньку добирается и до сада и посиживает там немного, иной раз выглядывает и на улицу, но долго снаружи никогда не бывает, устает быстро и почти после каждой долгой — для него-то долгой, а в действительности недолгой — прогулки должен пойти лечь и хоть немного поспать.
Но дело не в этом. Он мне как-то по-другому не нравится, но не в том смысле, как вы, может, думаете. То, что мне в нем не нравится, пожалуй, вовсе не связано с его болезнью. Конечно, я могу и ошибаться. Но что-то странное тут есть, в нем или вокруг него, может, и вне его, возможно, и во мне, в самом деле, не нужно это связывать с его болезнью. А вот что это, я не знаю, не могу объяснить. С другой стороны, что-то меня к нему и притягивает, я хотел бы с ним подружиться, хотя знаю, что он не тот Имрих, которого я ждал, и что таким он не будет, собственно, даже не может быть, если бы и полностью выздоровел. Не будет же он подлаживаться под меня, а то и вовсе под мои смешные, глупые сны. Разве я могу от него это требовать? Но все равно я хотел бы с ним подружиться, а у меня это никак не получается. Я не умею его ни привлечь, ни подслужиться к нему, не люблю подслуживаться, а главное, к таким вот людям, которые ни рыба ни мясо. Ведь он, если говорить откровенно и по совести, правда ни рыба ни мясо, и я даже не знаю, почему он еще и теперь так много для меня значит и почему я хотел бы привлечь его внимание. Неужели я так жалею его? Сочувствую ему? Хотел бы задобрить его? Быть может. Ей-богу, не разберусь в нем, да и себя не пойму.
Пожалуй, меня немного сердит и то, что он до сих пор мне ничего не сказал. Поначалу он вообще не говорил ничего, много воды утекло, пока мастеру с Вильмой удалось вытянуть из него первое слово, но и потом, да и сейчас он не больно-то разговорчивый, хотя иной раз какое-никакое словечко или фразу обронит. А я, когда у них, ловлю каждое слово, да еще и Вильму выспрашиваю: что он сказал? Что? Что Имришко сказал?! Вильма повторяет, но, поскольку слов у него раз, два — и обчелся, ей не хочется вновь и вновь все повторять, подчас со своими расспросами я, видать, действую ей на нервы.
А Имришко я бы кой о чем расспросил! Хотелось бы всякое о нем знать и всякое от него узнать, уж не раз я пробовал заговорить с ним, но до сих пор он мне ни на один вопрос не ответил, говорю же, поначалу он просто не мог, и мне ничего не оставалось, как признать это, больной есть больной, разве прикажешь ему, если он и заговаривает, так обычно о том, что в эту минуту ему кажется важным, самым важным, а если молчит, если говорить не может, за него говорит его молчание. Наверно, придется мне еще много выспрашивать, выведывать, многое восполнить, пока удастся все об Имришко сложить, да и у него разузнать обо всем, что он пережил, кого встретил, какие это были люди, где с ними встречался, что они делали, постигла ли их тоже беда, не рассказал ли ему кто случайно такое, что и меня бы касалось, именно меня, например что-нибудь о нашем Биденко, ведь если там было много народу, а говорят, было, партизан и солдат, и со всех уголков, со всех краев и, дескать, с чужой стороны, так неужели среди стольких людей не мог кто-нибудь нашего Биденко узнать, встретиться с ним, а то и воевать рядом, видеть его в последнюю минуту, видеть, как пал он в бою, и, значит, подтвердить, пал ли он на самом деле, и если да, то не поднялся ли снова, не помог ли ему кто и почему не помог? Или уж нельзя было? А что, если можно? Что, если он все-таки поднялся, если ему помогли чужие, неизвестные люди, кто-нибудь из тех, против которых он воевал, может, эти неизвестные люди о нем позаботились, вылечили или до сих пор лечат? Хотя навряд ли. За такой долгий час он бы, конечно, вылечился и отозвался бы сам, или бы эти чужие люди оповестили о нем, прислали бы письмо или открытку. Нет, такая открытка уже не придет. Трудно о Биденко не думать! Я бы и не думал о нем, но пусть бы я даже не хотел, нисколечко не хотел, как бы ни старался забыть его и не думать о нем, он все равно — и чаще ни с того ни с сего — то и дело вспоминается мне.
Имришко многого мне о нем не расскажет. И спрашивать незачем! Особого толку от него не добьешься, но порой хватает его на иную фразочку, а то и такая вырвется, какую еще недавно понапрасну бы из него и вытягивали. Попробуешь опереться на эту фразу, завязать с ним разговор, а он опять ни гу-гу и еще будто дивится тебе, но все равно — сразу либо после недолгого молчания — ответит, правда частенько невпопад, словно не только на твой вопрос, но и на свою собственную мысль, с которой этот вопрос связан, он уже не в состоянии опереться. Если у него есть мысли — ведь и он размышляет, он теперь столько не спит, — так вот, если у него есть мысли, то наверняка они у него в голове невесть как перекручены.
Иногда, и надо сказать все чаще, находит на него просветление, он способен даже улыбаться, он и Вильме и мастеру уже несколько раз улыбнулся. Мне пока нет. Вспоминал уже и о Карчимарчике, но многого о нем не сказал. Мастер с Вильмой, да, пожалуй, и я, могли бы рассказать о Карчимарчике и побольше. Во всяком случае, сейчас, пока Имро болен. Вспоминал он и церовского причетника, Габчо и Ранинца, Шумихраста и Мигалковича, Онофрея и какого-то Вассермана, да еще кого-то и что-то, а однажды какой-то мост, другой раз страшный пожар, горела якобы вся деревня, люди кричали, но тушить пожар не смели, а случилось все будто из-за одной немецкой машины, что проходила по этому либо по какому другому мосту, вроде было два моста, и машина эта вместе с мостом взлетела на воздух. А иногда вспоминает он одну женщину, у которой как-то ночью скрывался, но она донесла на него, навела на него немцев, правда еще до их прихода успела предупредить его, что за ним идут и что ему надобно быстрее спасаться, а потом догнала его и дала целую ковригу хлеба. Не бредни ли это? Коль эта женщина донесла на него, так зачем предостерегла и почему, догнав его, дала хлеба? Если немцы явились и не нашли его, то что она им сказала? А если бы они узнали, что тот, кто скрывался у нее, получил еще и ковригу? Зачем она их звала? Она же могла эту ковригу дать ему раньше и сразу отослать прочь, а уж тогда и немцам не пришлось бы идти доносить. Но попробуй-ка что уточнить, выяснить, Имро и не такого туману напустит.
12
Вот так время от времени кое-что я от него узнаю. Правда, говорит он это не мне, меня он словно не замечает. Но, бывает, скажет что-то мастеру или Вильме, смотря по тому, кто поблизости, а иной раз таких чересчур много — родственников и не родственников, мало ли кто приплетется, случается, просто ротозей, а то сплетница придет поглядеть, не полегчало ли немного Имришко или, упаси господи, не собрался ли он опять на тот свет.
Какое там! Он вовсе не собирается! Немощь из него уже мало-помалу выходит, у него все больше светлых минуток, да и слов побольше. А поскольку и остальным любопытно, то когда один, когда другой, а иной раз и вчетвером или вшестером исподволь что можно из него и вытягивают. Седьмая (пол сейчас не имеет значения) сидит, пожалуй, в самой середке, разумеется, если все сидят, так и она сидит, хотя и постоять бы могла, сидит рядом с Имришко (мне, выходит, надо было бы изменить и порядок), первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, какая уж разница, я все равно сейчас мужчин за женщин считал, но тут нет ошибки, седьмая сидит и здесь и там, я просто не знаю, с какой стороны или в какую сторону отсчитывать, ну допустим, седьмая сидит в уголке, ведь там можно послушать, можно кой-чего и насобрать, будет на сплетенку.
А Имро, пусть из него и вытягивают, несет порой всякую околесицу, и у меня, я ведь тоже любопытный, есть чем заняться, мне нелегко путем все сложить, кое-что приходится долго ждать — иногда то-се распутать, а что-то снова связать или домыслить, иначе бы в голове был сплошной ералаш. Сейчас-то у меня уже все укладывается легко. Только пока я все подсобрал, поперевертывал, попередумывал, пораскидывал умом, прошло немалое времечко. Кое-что и позабылось, и сейчас, когда мне нужно, опять того-сего нет, у меня же не более чем обыкновенная голова, и вот опять изволь додумывать, опять всякое придумывать. И хоть говорю, что у меня все идет как по маслу, это не совсем так. Может, оно хорошо звучит. Нередко испытываю уверенность, верю себе, сдается мне, что и впрямь все идет само собой. Настает такая минута, и вдруг покажется, что в такую вот завидную минуту в два счета построишь дом. Я-то знаю такие минуты! Но если бы все давалось так легко и так быстро шло, то, ей-богу, у меня было бы уже столько домов, что я бы запросто их раздавал. Понадобись и вам случайно, так я и вам бы, глядишь, преподнес. Почему бы и нет? У меня иногда есть такие дома, я вам дам один. Хороший дом, но всегда только на минутку, поскольку потом, если кому не отдам, то и сам его теряю. Так и с этим писательством: иной раз кажется, что все уже в голове, в руках, а вот на бумаге, на бумаге ни черта не получается. И сейчас почти та же картина: то разбегаюсь, то опять стою, хожу по комнате, раздумываю, минуту разыгрываю из себя мальчика, минуту — Имро, временами чувствую себя и больным, даже есть мало стал. Уже несколько дней нет у меня аппетита. Конечно, вам этого и знать не обязательно, иной в этом вряд ли признается, но я — что ж, я во всем признаюсь. А если о чем и умалчиваю, так лишь из деликатности — возможно, и по отношению к вам, возможно, и по какой другой причине. Да и к чему обо всем говорить! В одну книжку так или иначе всего не втиснешь. Одного человека и то на все не хватит, он всего не знает, всего не успеет, да ведь тут есть и другие, и вы в том числе. Так как же?! Поразмыслите! Помогите и вы!
13
Иногда приезжают Имровы братья, приезжают обычно со своими женами и детьми, в доме шумно, особенно если придет еще и Агнешка с девчонками, а то и я туда загляну, знаете ведь, как оно: где детей с избытком, там обычно их набивается еще больше, сперва они попялятся друг на друга, а потом подружатся или, может, даже и пялиться особенно не придется, враз подружатся, и домашним захочется показать, что у них дружков и подружек и вовсе не перечесть, и тебе не надо даже искать их, потому как они уже ищут тебя и, возможно, найдут — и именно у Гульданов.
Мастера и Вильму, наверно, эта малость тревожит: Имро в такие дни совсем лишается покоя, напрягается больше обычного, но, слава богу, справляется, радуется, что приехали братья с семьями, ибо они полны жизни, сил, и все это словно с них на него переходит; пожалуй, он этого и не осознает, но Вильма с мастером по нему видят, сразу замечают, что он веселеет, многим интересуется, иной раз и такими вещами, к которым еще вчера был безразличен, к которым едва ли бы проявил интерес, зайди о них речь. Но братья есть братья, каждый своих сестер и братьев любит, а если их подолгу не видеть — они ли не приходят часто, вам ли недосуг их навестить, — то всякая случайная или неслучайная встреча с ними — радость, настоящая радость, вы просто счастливы, что встретились. И сразу хочется о стольком потолковать, столько задать вопросов — не успеваешь их выговорить, не то что ответить на них как полагается. И даже тот, что считался молчальником, находит в себе множество слов и порой чувствует себя почти несчастным, что не в силах сразу их высказать, что и дня ему для этого мало, да и от братьев он не узнает такого, что могло бы его занимать или занимает, потому что они тоже не успевают ни рассказать всего, ни спросить обо всем. Между братьями такого набирается уйма, но ведь и женам хочется посудачить, хочется кое-что дополнить, припомнить, вставить словечко да чуточку и повыведать. Ах, кабы эта мелюзга не мешала! Ступайте прочь, во дворе поиграйте!
Дети, однако, и во дворе поднимают гвалт, пожалуй еще больший, чем в доме, спешишь затворить окно, но и это не помогает, дети могут подумать, что раз окно закрыто, то они вольны делать все, что им заблагорассудится, могут устроить форменный кавардак и обычно-таки устраивают. А временами еще и жалеют, что взрослые не видят или не слышат всего, кто-то из них то и дело врывается в дом: — Мама, поди на нас погляди:
— Ладно, ладно, сейчас приду. Поиграйте пока!
Двери отворяются и затворяются, бывает, и остаются открытыми, некому их затворить, а если кто и затворит, их снова откроют, ходят взад-вперед, со двора в кухню и в горницу, оттуда снова во двор, всюду полно крику, беготни, стрекотни, смеха, щебета, но и расстройства, недовольства, досады. — Мама, поди глянь-ка! Мама, ты ж обещала! Тятенька, скажи маме! Или сам поди!
— Подожди чуток! Мама придет!
— Татенька, скажи ей!
— Получишь по попе. Ступай играть! Сказала же, сейчас приду.
Так проходит весь день. В доме и на дворе оживленно и шумно до обеда и после обеда, а за обедом — он ведь обычно бывает посередке — опять суетня и работа, правда только женская работа и так это мимоходом, она была и с утра, она и после обеда, там-сям случается драка, но, конечно, между детьми, а когда и оплеуха от взрослого, потом детский плач, ну и опять разговор, а дети — сплошной гвалт. — Почему вы не во дворе?
— А мы во дворе.
Конечно, они во дворе, но они и в доме. Иные из тех, что во дворе, стучат в окно или липнут носом к стеклу, таращат глазищи, скалятся, строят рожи, смеются и верещат. Они балуются, независимо от того, замечают ли их старшие или нет, но, если долго не замечают, они уж опять тут как тут, временами и не поймешь, о чем разговор, о чем ты хотел сказать, а дети, будто чувствуя, что близится вечер и нужно побыстрей выдать из себя все, что только возможно, лезут из кожи вон: гогот, хохот, топот, хлопанье, скрип дверей. А время летит, летит, летит, оттого-то и дети прыгают, носятся взад-вперед, дергаются, кричат, фырчат, а иные, словно волчата, и укусить норовят, ой-ей-ей! Ну и так оно бежит дальше — плач, смех, щебет, чудес до небес, глазенки горят, топанье, хлопанье, шлеп, щелк, гвалт, опять, что ли, плач? На столе блестел горшок, да вот не блестит. Прискакивает туда мешалка, скачи, мешалка, скачи!
Ребенок кричит.
— Не реви! Возьми себе еще пирожка! Ну живей! Ведь тебе не так и больно-то было.
Потом все прощаются. Братья похлопывают Имро. — Имришко, с тобой уже порядок. Знаешь, сколько нынче повсюду работы? Только держись! Всюду гони дерева да дерева. Люди нынче ох и носятся, все чего-то добывают. Много порушено. Да и те, у которых прежде ничего не было, хотят теперь иметь дом. Знаешь, какие домины, да и амбары им подавай большие, просторные. Хоть и всадишь посередке три-четыре опорных столба, а все равно по обеим сторонам у тебя широтища. Одни висячие стропила работаем. Теперь людям подавай добротную, хорошую работу! Подпорки приходится делать потолще, все затяжки теперь почти в полтора раза выше. Да и с подкосами случаются те еще номера. На прошлой неделе мы такое решение с подкосом на плане видели — прямо всего тебя подымает, эти подкосы прямо так и подбрасывают. Ну и ширина, ну и высота будет, архитектор, должно быть, ловко все продумал. Пожалуй, можно найти и иное решение, да, видать, и ему захотелось выкинуть фортель, видать, прямо за чертежом и осенило его, вот и влепил это в план. Вместо лежней теперь рельсы используют. Работы хватает. Всюду гони дерева да дерева. Имришко, надо тебе побыстрей сил набираться! Ну а до тех пор бывай, ведь ты уж молодцом, крепись! И сил набирайся! Пошли, дети!
Мастер, Вильма и Имро провожают всех на улицу, еще и на улице весело прощаются. Потом мастер, Имро и Вильма идут обратно в дом. По дороге мастер роняет: — Хваткие ребята. И Ондро поди все толковее. И работа им в радость! Хорошо, что приехали! Жаль, что живут далеко! Могли бы сюда и почаще заглядывать.
Имро садится в кухне к столу. Чувствует себя немного усталым, но все равно в добром настроении. Вскорости пойдет ляжет, будет ему хорошо спаться.
Вильма хочет пойти ему постелить, вернее, оправить постель, но тут замечает на полу несколько мелких черепков от разбитого расписного горшка, которые дети не приметили, поднимает их и бросает в цинковое ведро в углу.
Нынче воскресенье, завтра снова будний день.
14
А вот я с Имро никак не могу подружиться. Хотя бываю у них часто, он мне еще ни разу ничего не сказал. Иногда мне с ним как-то чудно, потому что и он чудной, а бывает, особенно когда поблизости нет ни Вильмы, ни мастера, когда мы только вдвоем, я вроде его и побаиваюсь. Он ведь и тогда ничего мне не говорит. И я, хоть обычно у меня вопросов полно, не решаюсь, особенно в такую минуту, о чем-либо спросить его, я тоже молчу, мы оба молчим, но я порой чувствую себя очень неловко. Кажется мне, что хоть каким словечком нам бы надо с ним перемолвиться, но именно в такую неловкую, неприятную минуту у меня почему-то не находится ни одного подходящего, пусть совсем обыкновенного, слова, да и он для меня его не находит.
Часто у меня такое ощущение, будто я там всем мешаю, хотя и молчу, сижу тихо и ничего не говорю, будто мешаю одним своим присутствием. Зачем сидеть, когда сказать нечего!
Правда, Имро пока ни разу не дал мне понять, что я мешаю ему, скорей он вообще не обращает на меня внимания, просто безразличен ко мне. Не приди я к ним неделю, другую, он вряд ли спросил бы у Вильмы или у мастера, почему я у них не бываю.
Это можно понять. Пожалуй, даже глупо требовать от него, чтобы он разговаривал со мной как с ровней, когда и со взрослыми ему не больно-то охота говорить. Не могу же я сердиться на то, что он взрослый, и мне нечем его занять, и я даже не могу ему намекнуть, что интересуюсь чем-то, впрочем, я и не знаю, чем именно. Ведь детей интересует все, а порой — ничего, они просто не ведают, чем нужно интересоваться и как спросить, и, хоть спрашивают — дети ведь часто и с охотой и о разном спрашивают, — для взрослого большинство детских вопросов может звучать глупо; взрослый, если хочет, понимает ребенка, вопросам не удивляется, но это не значит, что ему хочется на них отвечать, и особенно тогда не хочется, когда вопрос очень простой и, наверно, ответ тоже был бы очень простым и совсем коротким, однако взрослому такой вопрос кажется лишним, а ответ на него — таким очевидным, что вместо одного слова, одной короткой фразы он предпочитает выдать две или три, чтобы ребенок не докучал. Вот и выходит, что иногда ответа на вопрос не дождешься. Так ведут себя зачастую и здоровые люди, ну а больному некоторые вопросы еще больше могут докучать, поэтому ребенок, как бы чувствуя это, ни о чем больного и не спрашивает. А больной тоже чисто ребенок, который, по-видимому — а время от времени определенно, — осознает свой возраст, и, хоть поведение его может казаться детским и детскими бывают иные его требования, и желания, а речь его, и вопросы, и ответы, тут все-таки есть разница, возраст — это возраст, большой ребенок о некоторых вещах уже так просто и не спрашивает, не хочет спрашивать, лучше даже, когда и его о некоторых детских вещах не спрашивают. У ребенка свой мир, и, хоть этот мир кажется маленьким, ребенку он таким не кажется, потому что этот мир живой, с каждым днем все живей и все шире, и ребенок радуется, когда этот мир расширяется, когда в нем прибывает жизни, а больной словно в заколдованном круге, он пытается из него выбраться, должен пытаться, но не выносит, когда в этом круге тревожат его, а если он еще и безразличный, то не понимает, почему взрослые или дети так стремятся попасть в его круг.
Короче говоря, вина, пожалуй, на мне. На мне тоже. Я, собственно, и не понимаю, почему Имро так много для меня значит. Должно, потому, что временами он и мне кажется почти здоровым, но отношения между нами постоянно одни и те же — иными словами, никакие, совсем никакие. Я уж не так глуп, некоторые вещи могу себе объяснить. От Имро я многого и не жду. Поправится, ну и что? Я ему не ровня. Он мой сосед, и, возможно, ему и потом не о чем будет со мной разговаривать. Что я для него? Он наверняка станет смотреть на меня как на младшего соседа, которому когда-никогда и улыбнется, иной раз обронит и слово, может и хорошее слово, а почему ему быть плохим? Но дальше этого, видать, не пойдет. Нечего об этом и раздумывать. Говорю об этом скорей всего потому, что до недавнего времени, когда его здесь еще не было, я относился к нему иначе, много ждал от него, больше, чем надо, и Вильма во мне это поддерживала, верно, жалела нашего Биденко и меня, и я этому радовался, хотел и ей ответить добром, мы друг друга утешали, поддерживали, помогали и немножко обманывали, но все лишь потому, что хотели друг другу помочь. Вильма старше меня, но ни ее, ни мои мечты не сбылись. Биденко не вернулся, а Имришко привезли домой хворого. Что тут объяснять? Что я могу хотеть от Имришко? Если он и выздоровеет, что я могу от него требовать? И почему, в общем? Потому, что ждал его? Разве он знал об этом? Я ведь и раньше ждал. Знал, что Биденко не вернется, а не мог с этим смириться. Хотел ждать и дальше. А поскольку всякий день был с Вильмой и видел, как она несчастна, то хотел помочь ей, но на деле-то она мне помогала. Она же своего Имришко все равно бы ждала, и я ее в этом поддерживал и помогал ей ждать только потому, что мне ждать уже было некого. Нас жалость сблизила, ну и ожидание, надежда, что хотя бы Имришко, да, хотя бы Имришко… Придет ли? Когда же придет? Мы ждали. Но я не понимал — такие вещи лишь поздней понимаешь, — не понимал, что и он, покуда был далеко, именно потому, что был далеко, помогал мне. У меня ведь было кого ждать. Ждать его, живого. Я ждал его, и он именно этим мне помогал. Помогал мне легче забывать. Имришко уже здесь, а я к ним все хожу, хожу, сам не знаю, что мне еще от них надо. Имришко здесь, и у Вильмы теперь нет для меня времени, во всяком случае не столько, сколько когда-то. Ну и что?! Чему удивляться? Они оба мне немножко помогли. Биденко, я ведь о тебе уже так редко думаю, почти вообще о тебе не думаю. Мне бывает только на душеньки грустно, потому что я люблю красть свечки. И пусть на душеньки я всегда допоздна на погосте и столько всегда этих свечек для тебя накраду, но никогда не знаю, Биденко мой, забытый мой Биденко, где хотя бы одну-единую из стольких украденных свечек поставить тебе и затеплить.
15
И я все хожу к ним. Ничего не сделаешь, меня постоянно к ним тянет. До недавней поры я бывал у них каждый день, они же мои соседи, ну можно ли теперь ни с того ни с сего перестать к ним ходить?
Не скажешь, чтобы я был дикарь, который других детей сторонится. Я даже не особый чудак и не из тех любопытных, что всюду суют нос и, главное, в дела взрослых. Правда, меня интересуют разные вещи, но уж не настолько, чтобы отличаться от других детей. А если и да, то наверняка не очень, очень я не отличаюсь. Все дети бывают любопытны. Разница, думаю, лишь в том, что один ребенок интересуется одной вещью, а другой — другой, но подчас их интересы и совпадают, иногда все разом навострят уши или вытаращат глаза, а если детей много и они таращат глаза на одно и то же, то случается и подерутся: никак не столкуются, кому же, собственно, принадлежит эта вещь. И особенно если речь идет о такой вещи, которую можно схватить, но не десятью руками сразу.
Бывает, я и подерусь. Товарищей у меня хватает, есть с кем играть, за кем побегать, ну а если дело дойдет до потасовки, что из того? Думаете, я не умею двинуть в зубы? Часто, правда, не бью, не люблю драться. Иногда только смотрю, как другие дерутся или борются, меня это особенно тогда забавляет, когда хоть чуточку весело и можно посмеяться. Я люблю смеяться! Если речь идет о потехе, о пробе сил, это и впрямь может меня захватить, и я обыкновенно болею сразу за обоих противников, мне всегда трудно решить, чью сторону держать. Если кто выигрывает, я способен его уважать, но уважаю и проигравшего, сочувствую ему, умею войти в положение и одного и другого, а тот, что проиграл, подчас кажется мне даже ближе, иногда я охотно бы ему на это и намекнул или хотя бы сказал, что и мне, наверно, не удалось бы победить. Не терплю, когда кто-то во время игры или какой борьбы становится грубым. Если речь идет об игре, о пробе сил — все в порядке, но если кто-то сильнее и этим пользуется — это мне не по душе. А еще хуже, когда более слабый начинает прибегать к нечистой, нечестной игре, меж тем как его сильный противник ведет себя смело и достойно. В таком случае я не болею за слабого. Невольно приходит на ум, каким он был бы дрянным, окажись он сильнее. Да он и будет дрянным, со временем наверняка будет дрянным по отношению к более слабым. Люди не все одинаковы, не все всегда и во всем побеждают. Каждый побеждает в чем-то одном, каждый в чем-то одном оказывается ловчее других. Но тот, кто не умеет честно проигрывать и смиряться с поражением, кто — по глазам видно — злобствует еще и после схватки, которая, собственно, не была ни игрой, ни потехой, кто уже загодя думает о будущих плутнях, выискивает новую подлость, тот опасен, тогда я обычно сочувствую победителю и, пожалуй, только за него, за победителя, и опасаюсь. Думаю подчас: хоть он и победитель, но, может, недостаточно осторожен, он, очевидно, считает, что ему незачем остерегаться, в таком случае осторожным должен стать я, хоть все это до сих пор прямо меня не касалось, я должен стать осторожным, так как проигравший недомерок — негодяй и подлец! Неужто и на других людей из-за таких вот злобных и ничтожных недомерков иной раз нападает тоска?
А вообще-то я не робкого десятка. Мне просто больше нравится ладить со всеми, хочу быть в дружбе с более сильным и более слабым, случается, кто и двинет меня под ребро или треснет по носу, я попытаюсь дать сдачи, но, бывает, по ошибке тресну другому, и вдруг — бац! Схлопочу оплеуху уже от третьего, совсем от иного, а все потому, что он не разобрался путем, не успел второпях все оценить и понять, что с моей стороны действительно вышла промашка, которую тот, кто получил от меня по носу, простил бы мне. А теперь каково? Один двинул или треснул меня, другого треснул я, правда по ошибке, третий дал мне оплеуху, но тут же, возможно, заметил, что оплошал малость, что, возможно, и ни к чему было давать оплеуху, а теперь-то что? Ни с того ни с сего я посередке, и досталось мне больше всех: оплеуха и тумак или щелчок по носу, да еще перед тем, кто получил щелчок от меня, надо извиняться. Двоим другим не досталось ничего, эти только дали, и оба — мне, но ни один из них и не думал извиняться. Так дайте и вы друг дружке по зуботычине, и мы сравняемся, хотя оно и не совсем справедливо! Иногда так и бывает, но кому от этого польза? Никому. Так или эдак мы вскоре все помиримся или обо всем забудем, мы уже нашли себе иную забаву или просто размышляем о ней, ищем ее. Я, возможно, чувствую себя немного обиженным, но стараюсь об этом не думать. Помогаю им размышлять. А потом — пожалуй, я и не хотел это выговорить вслух — невольно роняю: — Иду к соседям.
И они, словно это их тоже касается, топают за мной, ну как их прогонишь? Могут подумать, что я все еще чувствую себя обиженным, что именно я — пусть это даже было бы и оправданно, ибо мне досталось больше всего, — но способен забыть, простить, извинить. Я ничего не говорю, иду, а они за мной. Теперь уже глупо менять свое решение. Не раз я их — этих ребят или каких других — затаскивал к Гульданам. Минуту-другую мы топтались во дворе, в основном возле кухонных дверей, в дом я все-таки не осмеливался их затаскивать. Случалось, выходил мастер и спрашивал: — Ну так что?
А мы только пожимали плечами, корчили всякие рожи, я старался даже не вылезать вперед, не то начнут пенять мне, что они, дескать, со мной пришли. Мастер с нами забавлялся немного, шутил, но надолго его не хватало, да обычно мы его и дома-то не заставали. Может, он и был дома, но не хотел из-за стола подыматься. Вильма нас иногда кое-чем угощала, обычно тем, что должен был съесть Имро, а не съедал, много, правда, такого не набиралось, ведь то, что готовилось для одного, для Имро, могло хватить, скажем, мне, будь я один, но не четверым либо пятерым. А впрочем, ей и необязательно было что-то совать нам, почему она вечно должна была кого-то угощать? Ей недосуг было, я и это знаю, но с некоторыми вещами трудно смириться. Иной раз много воды утечет, пока кое-что поймешь и смиришься. Вот и у меня довольно долго это тянулось. Хотя она и давала нам иногда какое лакомство или иной пустяк, мне все казалось, что она ничего не дает или дает меньше, чем когда-то. Казалось, что она уже не такая щедрая. А то, бывало, нас просто гнала, едва мы появлялись в воротах. И потом, позже, когда я приходил один, выговаривала: — А другой раз мне сюда своих дружков не води! Если хочешь прийти, топай один. Мне до всяких чужих сорванцов нет дела.
16
Как могла она так измениться? Конечно, у нее достает с Имришко мучений и забот, она не может тратить на меня много времени. Но пожалуй, она его на меня и не тратит. Если и сижу у них, то совсем не отвлекаю ее, часто она ничем и не занята, просто сидит и раздумывает, если, конечно, не крутится вокруг Имришко. Порой мне кажется, что ей и ни к чему вокруг него столько крутиться. Что из того, что он болен? Все равно ведь он ничего от нее не хочет. А быть может, и не знает, чего хотеть. Разве мало раз я за ним подъедал? Всякое подъедал. И чаще одну вкуснятину. А иной раз доставалась — хе-хе, Вильма, — такая бурда! Я даже ей об этом говорил: «Не сердись, Вильмушка, но невкусно было, я доел, чтоб только тебя не сердить. Правда, бурда была, а в том воскресном супе, каким вы меня давеча накормили, опять было что-то ужасно мягкое. Я люблю лапшу. Но еще больше люблю ушки, знаешь, Вильма, такие ушки, какие наша крестная нарезала и закручивала на той маленькой резной дощечке букового дерева, тогда, к свиному празднику, когда наш Биденко должен был идти на фронт. Не бойся, я уже Биденко не вспоминаю, но эти ушки были у вас и когда ты выходила замуж, а еще и потом, когда у Агнешки родилась Катаринка. Вильмушка, тогда эти ушки больно хороши были!»
Но мне кажется, что Вильма и ко мне иногда совсем равнодушна и даже не хочет, чтоб я в их двор и заглядывал. Да возможно ли? Неужто она в самом деле могла так измениться? Бывает, совершенно явно косится на меня. Ну как тут быть?
Не раз я решал больше к ним не ходить, но, если два-три дня и выдерживал, на четвертый срывался. Зайду и уже в дверях оправдываюсь: — Вильма, я пришел на немножко. Не был у вас со вторника. И мастер часто заходит к нам, и ты раз, не то два раза приходила к нашей маме за перцем, вот я и пришел.
— Да что ты! Два раза? И вправду, два раза? Мама тебя послала? Ей перец нужен?
— Не-с, не нужен. Я просто так говорю. Мама сказала, что и вчера ты приходила за перцем.
— Ну приходила. В самом деле два раза. Руденко, хорошо, что ты напомнил. А то забыла бы. У вас кончился, да? Поэтому тебя мама послала?
— Не послала. Только сказала. И я к вам пришел, Вильмушка, просто так пришел.
Она смотрит на меня, словно бы не верит, потом более примирительно, но мне-то кажется — по-прежнему сердито, говорит: — Садись, посиди!
Сажусь, хотя после такого приветствия лучше бы и не садиться.
Боже, как она изменилась! А я-то думал, что смогу к Гульданам вечно ходить. Что случилось? Ну что случилось? Почему она такая? Я ведь у них даже ничего не прошу. Или она думает, я не знаю, что и я их должник? Конечно, должник. Не большие то долги, а хоть бы и большие, я же умею иногда долги отдавать. Особенно Вильме я должен. Возможно, и не знаю что, так, одни мелочи: пирог, яблоко, грушу, а бывает, и медяк. Конечно, для меня и такие мелочи ценны, но, если надо, я сумел бы ими поделиться. Да мало ли раз Вильма откусывала от моего пирога? Наверно, уж и забыла про это. Ну и что, что из того? Да и кто не одалживался, скажите? А что, если я и затем туда хожу, чтоб с ней хоть немножко расквитаться. Но сперва мне надо знать, кому и сколько я задолжал, все ли по отношению к ней и Имришко я выполнил. А вот если она каждый раз этот пирог вновь и вновь возвращает, что мне тогда делать? Надо ли сердиться и показывать ей, что слово ее камнем легло на сердце? В конце концов, пирог есть пирог, который ребенок от него откажется? Но если бы до дела дошло, я мог бы пирог попросить и у мастера, он ведь не раз меня угощал, нередко мне и крону подсовывал, а раза два, когда Вильма посылала меня за ним в корчму, поднес мне и стопочку сладенького. Совсем неплохое это дело, ей-ей!
Мастер любит меня, часто заходит к нам и все говорит, что ходит к отцу, а я-то подметил, что он и меня всегда выглядывает, а однажды, говоря это, нарочно подмигнул мне, наверняка хотел дать понять, кто для него самый главный. Правда — и это кажется мне чуть подозрительным, — хоть мастер и не имел никогда ничего против меня, раньше он не обращал на меня такого внимания. Чудные люди!
Как-то спрашиваю его: — Мастер, а почему ваша Вильма сердится на меня?
— С чего ты взял?
— Я заметил.
— Оставь, пожалуйста! Просто тебе показалось.
— Нет, не показалось. И она уже несколько раз меня выгнала. И вчера выгнала.
— Не выдумывай. Может, отослала тебя домой, только и всего.
— Раньше она никогда меня не отсылала. Я же ее знаю. Домой отослала.
— Если оно и так, не серчай! Прости ой. Верно, была занята. Может, ты мешал ей. Когда она работает, бывает, и на меня прикрикнет. Раз к нам пожаловал, так изволь вести себя прилично.
— А я и веду себя прилично. Правда, пан мастер Гульдан. Я всегда веду себя прилично. Это она изменилась, потому и гонит от вас, посылает прочь.
— Ну прости ей. А хочешь, я поговорю с ней.
— Лучше не надо, потому что она снова меня выгонит. Раньше такого никогда не случалось.
— Ай-яй-яй! — Мастер удивленно качает головой. — Прости, Рудко, прости! Ты должен простить ей. Мы всегда должны друг другу что-нибудь да прощать.
Но на другой день Вильма прямо обрушилась на меня: — Ах, ты уже тут, давай, давай, хорошо, что пришел! Вчера ты на меня нажаловался, ну? Поди, поди, голубчик, высыпли это и на меня!
— Я ведь мастеру ничего не сказал.
— Ничего, да? Откуда же тогда знаешь, что это мастер мне сказал? Ну давай выкладывай, что ты опять на меня наплел.
— Я не наплел. Ничего не наплел.
— Выходит, мастер выдумал? Пойдем прямо в лицо и спросим.
— Зачем прямо в лицо? Вильма, я же ничего не говорил. Может, наша мама…
— Что ваша мама?
— Может, она говорила.
— Что говорила?
— Не знаю, но она, она всегда говорит. Наверно, и теперь. Наверно, и теперь чего наговорила.
— Мне пойти спросить ее?
— Как хочешь. Раз я ничего не говорил, иди, пожалуйста.
— Прямо в лицо и спросить?
— Вот еще — в лицо! Или, если хочешь, иди к нашей маме. Если хочешь, и в лицо спрашивай.
— Хорошо. Ну пошли, идем сперва к мастеру.
— Я к мастеру не пойду. Я не сплетничал. Чего ты меня тянешь к мастеру? Иди сама к нему! А хочешь, иди к нашей маме. Иди к нашей маме.
— И тебе не совестно, — корила она меня, — и тебе не совестно сплетни разводить? Думаешь, меня это забавляет?
— Я ведь ничего не сказал, я ничего не сказал.
— Ну ладно, ладно! Хоть не отнекивайся! Скажи, Рудо, когда я тебя выгоняла?
— Ты меня не выгоняла.
— Теперь отказываешься. Тогда почему ты про меня это сказал?
— Вильма, я, правда, не говорил. Может, мама. Наверно, она. Вильма, а однажды мне показалось, что ты меня правда хотела выгнать.
— Скажи когда.
— И вчера.
— Рудко, не выводи меня из себя! Откуда ты можешь знать, что я хотела, а что нет? Вчера ты тут даже не был!
— Так значит, в другой раз.
— Ей-богу, влеплю тебе. Если станешь всякую напраслину на меня возводить, когда-нибудь получишь от меня, вот увидишь.
— Ты кричала на меня. Всегда на меня кричишь. И сейчас кричишь. Раньше ты на меня никогда не кричала.
— Вот дам тебе раза! Бесстыдник этакий, да кто кричит? Я нешто кричу? Думаешь, буду под тебя подлаживаться? Хочу кричу, могу и закричать. Откуда ты знаешь, кричу я или нет?
— Раньше ты не кричала.
— Да и ты не приваживал сюда всяких озорунов. Только попробуй еще раз приведи их сюда, получишь у меня затрещину.
После такой лекции я и впрямь долго не выдерживаю. Если бы меня хоть слушался голос, я бы, может, еще что и сказал, пусть через силу, только кого в такую минуту слушается голос? И Вильма вскоре опамятовалась, сменила тон, даже попыталась улыбнуться, только меня на эту улыбку уже не поймаешь.
— Ну я пойду. — Наконец у меня находятся силы выговорить это. — Я пришел только спросить, не нужно ли чего Имришко.
Гляжу на постель. Имро спит.
— Ничего ему не нужно, — говорит Вильма. Но чуть погодя добавляет: — Тебе не обязательно сразу уходить. А в другой раз лучше не сплетничай. Не сердись! Я ведь никогда не кричу!
Но она умеет кричать, еще как умеет. А не умела бы, ловка и по-другому человека прогнать. Иногда одного взгляда достаточно. Как глянет, разом у меня душа в пятки уходит. Я не ошибаюсь. И мастер не раз осторожно намекал, что я не ошибаюсь, но всегда лишь для того, чтобы ее выгородить. Но чтоб объяснить ее поведение — никогда. Всегда все старается замять, а подчас и поправить дело кроной. Крона человеку сгодится. Если у ребенка крона, он в момент про все забывает. Правда, ненадолго, нет конечно. Мастер все чаще меня задабривает, а я все ясней понимаю, что с той поры, как Имро дома, Вильма очень изменилась и продолжает меняться — пожалуй, день ото дня становится хуже. В самом деле, бывает она и злобной, но я еще ни разу не видел, чтобы злобилась она на Имришко. А на меня вот кричит, иногда сразу же начинает орать, как только переступаю порог. Если мастер дома, он обычно затаскивает меня в свою комнату либо во двор и успокаивает: — Бог с ней, не обращай внимания! Знаешь ведь, она неплохая. Вы же понимали друг друга, да и теперь тоже. Вильма любит тебя, просто сегодня она в дурном настроении.
— Но почему она так кричит и почему у нее дурное настроение? Она опять на меня кричала.
— Ну ладно, ладно! — утешает меня мастер. — Вот Имришко совсем поправится, и у нее все пройдет.
Имришко потихоньку поправляется, но Вильма, пожалуй, все такая же, а иногда мне кажется, что я и ему в тягость. Он мне, правда, пока ничего не сказал, но раз-другой я по его глазам это понял. Вина, однако, может быть и на мне, пожалуй, немного есть, ведь с некоторых пор я обычно вхожу к ним чуть робко, боязливо, словно опасаюсь, что уже не она, а он мне заявит: «Ступай домой! Чего тут глаза мозолишь!»
Но пока этого не случилось. Одна только Вильма то и дело меня поддевает, все время держит камень за пазухой; пусть порой и кажется, что все в порядке, и я нарочно пытаюсь к ней хоть немножко подластиться, воспользовавшись минутой, когда у нее хорошее настроение, привлечь ее внимание какой-нибудь сплетенкой, которую ни мать, ни сестра не успели ей принести, я-то знаю, как Вильма охоча до сплетен и до всяких слушков. Любую женщину можно сплетней задобрить. Я это еще когда знал. Вот и не диво, что я так люблю слушки собирать, а иной раз к ним добавлять всякое или присочинять. С чем только не бегу к ней. Ну как тут не обидеться, когда она после всего вдруг наскакивает на меня. Бывает, даже в эту светлую минутку. Сразу помрачнеет и хмуро скажет: — Не болтай! Наверняка опять все выдумал!
Этого мне уже сполна хватает. Два-три дня к ним не захожу.
И дома дивлюсь: — Мам, почему Вильма на меня так кричит?
— А коль кричит на тебя, так не ходи к ним. Чего тебе ходить к ним всякий день, глаза мозолить.
— А я часто туда не хожу. Но иной раз только приду, она сразу в крик. Зачастую даже не знаю за что.
— Ты у них вечно торчишь. Думаешь, у нее время есть для тебя? У них своих забот хватает, зря только им мешаешься.
— Ведь и ты меня туда каждый раз посылаешь!
— А пошлю тебя, сделай дело да и беги прочь.
Но я все равно не могу с собой совладать, вспоминаю Вильму, хоть и нисколечки не хочу. И оглянуться не успею, как снова у них, а Вильма, завидев меня, прикладывает палец к губам и предупреждает: — Тсс! Имришко спит!
Словно в другой раз не спал! Зачем она предупреждает меня?
Сперва я чуть отступаю, потом осторожно прикрываю дверь, подхожу к столу, сажусь и сижу. Если Вильма захочет, может, о чем-нибудь и спросит меня.
Нет, не спрашивает. Что делать? Тсс!! Долго я не выдерживаю, сижу как на иголках, начинаю ерзать. Наверно, лучше уйти.
Но Вильма вдруг ставит передо мной черешневый компот. Отлично, выходит, пришел я сюда не так уж и зря! Компот малость отдает плесенью, но дело какое! Съедал я вещи и похуже. А компот всегда хорош, пусть бы даже плесень во сто раз больше чувствовалась. В один присест умолачиваю его, сок выпиваю, выцеживаю все до последней капли, а обнаружив, что малость облился, еще и облизываюсь. Хорош был! Вильме говорить ничего не надо, она знает: для ребенка, хоть, к примеру, и для меня, компот всегда хорош.
Сижу еще немножко, ведь если нас чем угощают, не положено сразу же убегать, вот я и не убегаю, сижу спокойней, чем прежде, и лишь потом, чтоб ненароком не рассердить ее, потихоньку поднимаюсь, а поскольку я тоже хочу ей угодить, да и потому, что люблю ходить к ним, но у меня есть и обязанности, которым, правда, не придаю большого значения, я говорю о них, нарочно говорю: — Мне много задали. На этой неделе, наверно, к вам уже не приду.
— Глупенький. Ты же можешь прийти. Хоть и много задали. Если тебе понадобится и у меня будет время, я могу тебе и помочь.
— Сейчас мне некогда. Завтра надо в школу. А в воскресенье на немножко приду.
А вот и воскресенье. Но Вильма уже с утра не в духе — завидев меня, тотчас подымает крик:
— Опять ты здесь! И чего аккурат сейчас тебя черти принесли?!
Вот так так! Надо было этого ждать. Ей-богу, надо было этого ждать, да я и ждал, только хотел убедиться, не ошибаюсь ли.
Мастер пытается за меня вступиться, а она и на него начинает покрикивать: — Оставьте вы меня оба в покое! Видите, я занята! Вечно он тут, вечно у меня на голове!
Но почему она тогда звала меня? Делами она просто отговаривается. Она и раньше не сидела без дела, но я никогда ей не мешал. Если бы она хоть помягче об этом сказала! Но в голосе у нее что-то такое, к чему я не привык. Лучше бы мне убраться отсюда. Однако после такой ледяной купели тяжело уходить, а из мест, где еще до недавнего времени; нас привечали, уходить еще тяжелей. )
Мастер берет меня за руку и выводит во двор. Он хочет немного облегчить тяжесть, что Вильма на меня взвалила, намеренно хочет принять на себя больше, чем ему полагается. — Ну нам и всыпали! — ворчит он у меня над головой. — Эко, Рудко, право, нам всыпали! В конце-то концов за все только нам вдвоем и придется расплачиваться.
Почему он так говорит? За что я должен расплачиваться и почему именно с ним? Ей-богу, больше я туда не пойду, теперь они меня уже вряд ли увидят. И на улице заговорят — не откликнусь. Не хочу ее видеть, никого из них не хочу видеть. — С богом! — бормочу я под нос и со слезами на глазах ухожу.
17
Очень уж я принял это к сердцу. Если я не в школе, а дома нет дела или от какого дела увильну — брожу по улице. Я с радостью бы к ним заглянул, но не загляну, не хочу навязываться и, честное слово, не буду. А вот от дружков я вроде отвык. Выберусь с ними на рыбалку, но уже дорогой подерусь, потому что я без конца с кем-нибудь да дерусь, вечно хожу битый. С одним, двумя, будь они послабее, я, может, и справился бы, но на четверых меня не хватает, а иной раз на меня, честное слово, и четверо наскакивают. Бывает, кого и кусну — коль дерутся, пускай и у них останется памятка. Но частенько и рубашку на мне испластают, прихожу домой или в школу весь драный — и тогда держись! Ох, и будет выволочка! Но к этому я привык. Выволочки мне, что ли, бояться? Ведь меня всюду бьют. В школе меня треплют за волосы, дома отвешивают затрещины, когда угодно поддают и пинка. И кто угодно. Даже чужой. В деревне на пинки не скупятся. Иной даст тумака — и оглянуться не успеешь. Деревня есть деревня, да хотя бы и в деревушке, ей-ей, в самой маленькой, самой лучшей и самой красивой деревушке, недостатка в тумаках никогда не бывает. Ни с того ни с сего — р-раз! И я уж хватаюсь за зад, право, за пинками не надобно ходить в город. Ну а если кто меня разозлит, я тоже ведь знаю, что кому причитается. Однако, если меня смажут и я кого смажу, мне потом всякий раз не по себе, иногда мне кажется, правда чуточку позже, будто я чувствовал и все еще чувствую то, что сам отпустил, и то, конечно, что получил. А если бы и не чувствовал, родители дома или учитель в школе мне об этом напомнят.
Хожу по улице, ничто меня не занимает. Вдруг почему-то мне некому даже влепить, а я, ей-богу, в такую дурную минуту охотно бы кому-нибудь вдарил. Повстречайся мне Вильма, вот так по дороге, тоже бы свое получила. Конечно, по-настоящему накинуться я на нее не посмел бы, да и не хотел бы, но получить свое она бы получила, ей-богу, уж я бы не устоял сказать ей, кто она есть. Сказал бы, что она конопатая. Конопатая, и все, а может, что другое, похлеще, сказал бы. Но Вильмы на улице не видать. Где она ходит? Я и в саду ее выглядывал, но что-то никак не набреду на нее, никак не угляжу. Хоть бы ей понадобилось сбегать в лавку, и очень срочно. Ну вот, Вильмушка, и иди! Вот и топай сама в лавку! Неужто им ничего не надобно? Или мастер все для нее добывает, всюду бегает? Ведь в конце концов она чего-нибудь хватится, наверняка ей что-то понадобится. Давай, Вильмушка, пошевеливайся! Из-за этого своего Имро она того и гляди совсем спятит. Биденко погиб, но про это уже забыли, если бы погиб кто другой, какой-нибудь другой Биденко, может, и не забыли бы. Может, кто и все глаза бы выплакал. Все только над Имро вздыхают, а какой прок от него? Одни хлопоты. Вот и радуйся, Вильмушка, вот и крутись вокруг него, крутись вокруг своего табачного Имришко, вари ему кашку и молочко! Кашку ему вари!
Но однажды Имро заговорил со мной. Правда, заговорил! Прогуливались они с мастером по саду, старый держал его под руку, и ходили они взад-вперед, словно бы разглядывая Вильмины грядки, на которых, пожалуй, и нечего было разглядывать, так как Вильма вроде бы забыла о саде, однако там все равно что-то растет, там всегда что-то цветет, и меня — мы же знаем почему — меня теперь подчас это сердит. Она уже не очень-то за садом следит, а он у нее и без того цветет, ну и разгневанному человеку тут есть на что коситься. Так вот ходили они взад-вперед и любовались, любовались, наверно, тем, на что я косился, но Имро вдруг уставил на меня глаза и глядел так долго, пока мне стало не по себе. Потом шевельнул губами и спросил меня этим своим ни шатким ни валким, молочным, а главное, табачным голосом: — Постой, а как тебя вообще зовут? Ты все время у нас, а я тебя и не спросил.
Ответить или нет? Почему он меня спрашивает? Может, Вильма на меня наябедничала? Что она могла наябедничать? Сказал ли я что-нибудь против него? Есть ли ему на что злиться? Неужто он на меня и впрямь злится? Что я про него когда говорил?
Я глянул на него и с улыбкой сказал: — Имришко, ты же знаешь, как меня зовут.
Мастер улыбнулся и говорит: — Рудко. Соседский Рудко. Тот, что тебя так ждал. Он каждый день у нас.
А Имро все пялится на меня, а потом опять шевелит губами, шепчет сам себе: «Рудко». А чуть погодя спрашивает: — Почему ты у нас давно не был?
— Я к вам хожу. Я всегда у вас. А теперь некогда: в школе новый учитель.
Я немножко приврал. Учитель-то у нас новый, но все равно я приврал. И не знал, что второпях добавить.
Но только мастер с Имро отошли, я сразу понял, что опять к ним пойду.
И правда, иду к ним. Иду еще в тот же день. Вильма весело меня привечает: — Ну и ну, кто к нам пришел? Так мы уже не сердимся? Ну, понятное дело. Добро пожаловать! Как в школе? Двоек не было? А сколько пятерок?
Вопросов уйма, а я и рад — по крайней мере не надо на все отвечать.
А Имро опять нижет меня глазами и так же, как раньше, произносит мое имя: «Рудко».
Потом отводит взгляд в другую сторону, и я доволен, пожалуй даже рад — и потому, что не спасовал под его взглядом, да и потому, что он на меня уже не смотрит. Но имя мое он все равно несколько раз повторяет. И при этом — что из того, что не прямо в лицо, — погмыкивает: — Гм-гм! Рудко!
А Вильма меж тем натаскала на стол для меня всякой всячины, потому что за то время, пока я у них не был, Имро стал по-другому есть, стал пробовать даже то, до чего прежде и дотронуться боялся, ну а теперь для него выдумывают, наготавливают и впрямь невесть какие кушанья, да где такому хиляку все это съесть. Но мне многое под силу. А поскольку вместе с едой меня потчуют все новыми и новыми вопросами, я отвечаю только на каждый второй, и они смеются, смеются даже тому, что, может, вообще не смешно. Больше всех скалит зубы мастер, но чуть меня и осаживает: — Помаленьку да потихоньку! Нечего все зараз выкладывать, не бойся, еду у тебя никто не отымет! Гляди не подавись словами иль куском.
В самом деле, хорошо мне у Гульданов. Обидно было бы в такую семью не ходить!
И я опять почти каждый день у них на голове. Родители рады бы меня дома или еще где в какую-нибудь работу запрячь, ведь, по их разумению, я уже в том возрасте, когда сил у детей прибывает и силы эти нужно использовать, однако от работы мне всегда удается увильнуть; если не получается иначе, отговариваюсь учебой, частенько жалуюсь, что в школе не понял того-сего и надо, мол, попросить какого ученика объяснить, а то, мол, пойду спрошу об этом у Гульданов — пусть-ка Вильма или мастер мне растолкуют. А когда уж особенно жалуюсь и вздыхаю, что одному мне с уроками не справиться, родители и сами, бывает, посылают меня к Гульданам, и я тогда могу делать все, что мне вздумается.
Правда, я люблю ходить к ним. Я охотно и помог бы им, пусть даже особой помощи они и не хотят от меня, должно быть еще потому не хотят, что боятся, как бы не пошли всякие оговоры. Вот разве Вильме чуть помогу — схожу в лавку купить чего-нибудь, или Имро подам то-се, либо в аптеку сбегаю для него за лекарствами. С такими-то пустяками они бы и сами управились, мастер мог бы все достать по пути с работы или на работу, да и Вильма — она ведь постоянно дома и следит лишь за тем, чтобы у Имришко ни в чем нужды не было, — могла бы сбегать в лавку или аптеку, когда он спит. Но спит он уже меньше.
Сдается мне, что она уж не такая раздражительная, но, пожалуй, и то правда, что и я за это время изменился, малость к ним приноровился, научился и с ней, и с Имришко ладить.
С Имро легко поладить. Дела у него, по всему видать, лучше, но он все еще молчаливый, лишь изредка обронит слово и всему как бы дивится. Случается, и попросит меня о чем-нибудь. Хотя порой вроде даже не знает, о чем и просить, обо всем Вильма или мастер должны ему напоминать. А если он о чем и обмолвится, так на другой день делает вид — когда заходит об этом речь, — будто вообще об этом впервые слышит. Обо всем приходится ему по нескольку раз напоминать. Такой человек, само собой, не умеет сердиться, даже не знает, на что сердиться, все ему безразлично, словно он забыл, что одно можно похвалить, другое поругать, а если бы ему это и объяснили, надеясь на его благодарность, или, забыв о чем-то, попытались бы этим его рассердить, он снова бы только глаза таращил.
Вильма это знает и потому не на шутку встревожена; если она раздражена, издергана или печальна, то чаще всего поэтому. Боится, что Имришко так и не оправится до конца.
Об Имришко и заговорить с ней нельзя, даже когда стараешься признать ее правоту. Сразу повернет разговор и станет попрекать, даже в том, чего ты не сделал, или оскорбит за то, что сама, страшась за Имришко, выдумала или сказала.
А то подскочит к его постели или обнимет посреди горницы, когда он стоит, держась за стол либо стул, и диво, что не собьет его с ног — так на нем виснет.
18
Он уже и на улицу выходит. Даже один. Но люди не интересуют его. Ему все равно, встретит ли он кого или нет, ни с кем не остановится, никого не поприветствует. Поздороваются — ответит, но всякий раз с опозданием. Остановят — стоит и почти всегда удивляется. А если разговор затянется — удивляется еще больше. Он всему удивляется.
Но и эта пора удивления длится всего неделю. Да и слава богу, чему он может дольше удивляться?
Меж тем, Имро открывает, что может ходить в корчму; опять поудивляется, но не очень, хотя в корчме есть немало причин для удивления, теперь наступает иная пора — он опять перестает чему-либо удивляться. Отведает пива и вскоре начнет клевать носом, ну и что из того? По крайней мере может идти спать.
Он идет домой и спит, спит до самого утра.
Мастеру не надо уже ходить приглядывать за Имро, теперь он спит так шумно, что иногда и перебивает мастеру сон.
Утром мастер уходит на работу. Вильма снова наводит в доме порядок, а Имрих, хоть и встает позже всех, все время зевает, перестает зевать только к обеду.
Около двенадцати ест. Вильма всегда приготовит ему чего-нибудь на закуску, но, как раз тогда, когда собирается этим его попотчевать, замечает, что он уже снова спит, задремал у стола.
Спустя час, а то и позже Имрих пробуждается. Съест, что Вильма для него приготовила, и идет на прогулку. По дороге, вспомнит о корчме, снова туда зайдет, выпьет пива, и опять все повторяется.
Идет домой. Там-сям кого-нибудь встретит, всегда кого-нибудь встретит. Но не всякий к нему подойдет.
Кто только издали его разглядывает, а кто смотрит на него как на чудо. В общем, это и есть чудо: Имро уже ходит и даже на улицу выходит.
Однажды встречается он с мясником Фашунгом — тот ведет на веревке телку и уже издали кричит Имро: — Привет, Имришко, даже не представляешь, как я рад тебя видеть. Всегда, как встречу Вильму или отца твоего, спрашиваю о тебе, небось знаю, каково было с тобой, думал, не выживешь. Сколько не выжило. Недаром я уж тогда осторожничал. Пойди я с вами, где-нибудь давно бы откинул копыта, некому было бы нынче и теленка зарезать. Правда, теперь для убоинки мало чего найдется. Ну много ли проку от такой телочки, — указывает он веревкой на скотинку. — Каждый из деревенских чуть пожует — вот и вся вышла. Скажи Вильме, пусть зайдет вечерком. Не бойся, уж ей-то я всегда кусочек выберу. Пусть бы даже ни для кого не было, а для вас у меня всегда какой кусочек найдется. Ну а вообще-то как, полегчало?
— Теперь уже ничего. Получше мне.
— Да и пора. — Мясник покивал головой. — Надо тебе больше мяса есть. И я буду теперь для Вильмы первейшие куски выбирать. Скажи ей, пусть зайдет ко мне вечером.
Почти все спрашивают его об одном и том же. И все очень удивляются и восхищаются Имро. И он радуется. В самом деле, вдруг любые, даже самые обыкновенные и будничные вещи кажутся ему удивительными и интересными. Интереснее, чем другим. Остановится он где-нибудь и разглядывает дерево, на которое в детстве лазил, в ином месте колодец, куда деревенские коров на водопой водят, радует его и камень, что торчит у дороги, мимо него он хаживал сызмальства, никто так и не мог его своротить — даром парни испытывали на нем силу, — а теперь неожиданно он как-то иначе повернут. Неужто, правда, кто его своротил? Или он так торчал спокон веку?
Имрих оглядывает и крыши, не одну из них сработал его отец, где и он помогал, но большинство из них, особенно те, совсем низкие, много старше, а на двух-трех и вовсе низехоньких еще солома.
Надо будет их скинуть или хоть подлатать, чтобы никого не придавило. Однажды на прогулке встречается он и с Кириновичем. И тот весело с ним заговаривает. Жизнь из него прямо ключом бьет.
Имро поначалу его даже пугается. Но вскоре угадывает чутьем, что Кириновича не стоит бояться.
— Ну что, Имришко? Каково поживаешь? — спрашивает и управитель, а затем поминутно теребит Имриха за пиджак. — В который уж раз хотел навестить тебя, да все в беготне, некогда даже остановиться. Теперь живу не в имении, а в Церовой. Знаешь небось, что да как. Все одни и те же хотели бы коноводить в деревне. Сперва все были гардисты, а теперь охотно вывернули бы себя наизнанку. Я хоть и не здешний, но то, что творится, мне не по нутру. Мы хоть что-то сделали. Про табак помнишь? Мы ведь тоже могли сидеть сложа руки, а другие пускай подыхают. Я дал табак, а ты его доставил, куда надо было.
Имрих сперва подумал, что Киринович шутит. Никогда о табаке они и словом, не обмолвились. Ведь управителя и дома тогда не было. О табаке он, верно, позже узнал. Или о чем-то таком, может и о табаке, уже наперед решено было? Может, и так, дело прошлое.
— Все было как надо, — сказал он, чтобы Киринович не думал, будто он корчит из себя героя.
— Ясно, было. Знал бы ты, чего мне стоил этот табак. Не меньше десятка раз приходили ко мне жандармы. А сколько я набегался по всяким конторам. Ан у меня крепкие нервы, все выдержал, как видишь. А ты, приятель, все еще слабый, худой, повстречай я тебя где в ином месте, и не признал бы. Как чувствуешь-то себя?
— Почем я знаю? Усталый вроде. Все спать охота.
— Обойдется, Имришко. Надо есть больше. У нас много работы впереди. Надо деревню поднять. Живу теперь в Церовой. Перебрался в дом, где жили немцы. Вебер уехал в Германию, дом опустел, вот и отвели его мне. Но только на время. Знаешь ведь, на чужое я никогда не зарился. Сами мне предложили. Председатель. Он сказал: «Йозеф, иди! Знаем, ты заслужил. Всем известно, каково с тем, табаком было. По крайней мере тебе никто не станет завидовать. Хоть для деревни кое-что сделаешь». И делаю, Имришко, делаю. Сколько могу, столько для деревни и делаю. Жена меня все ругает: «Лучше бы жить нам в имении!» Будто я кому-то навязывался. Кто-то должен наводить порядок. И ты, как оправишься, помогать будешь.
Имрих улыбнулся. — Покамест плох я. Какой из меня помощник? С тех пор как дома, я еще палки не переломил.
— Переломишь, Имришко, переломишь! Еще не раз переломишь, отчего бы тебе палки не переломить, коль ты и на другие дела горазд? Работы будет по горло. Увидишь. Заходи ко мне как-нибудь. Ведь теперь у тебя время найдется.
— Не под силу мне. Враз такой путь не одолею. Но потом когда-нибудь, может, и приду.
19
Дома о таких встречах он не рассказывал. Не хотелось. Иной раз обронит слово, скажет Вильме или мастеру, кого повстречал. Но если мастер или Вильма спрашивали, о чем речь шла, он и вспомнить не мог: — Бог весть. Вроде бы кто-то отцу что передал. — А иногда и оговаривался: — Нет, не то. Встретился я с Кириновичем, разговор шел о табаке. — Или: — Встретил Фашунга, телку тащил на раздел. Велел Вильме прийти вечером за мясом.
Вильма, бывало, руками всплеснет. — Ох, Имришко, до чего ты забывчивый. Как можешь о таком-то деле забыть? Знаешь, как теперь туго с мясом?
— Я же не забыл. Сходи вечером да возьми.
А то, случалось, и разговорится. Потому что иная встреча о чем-то напоминала ему, вызывала в нем более сильные, а подчас и веселые чувства, и тогда уже у него дело шло легче. Особенно если вытягивали из него или припоминали ему, о чем он говорил раньше. Когда Рудко, а когда я: — Имришко, не рассердишься? Скажи, а как было с той женщиной?
— С какой женщиной?
— Ну, не знаешь? Ты как-то сказал, будто одна женщина донесла на тебя.
— Ах да! Ну донесла. А потом, когда я уже убегал, бросилась вслед за мной и дала мне целую ковригу хлеба.
— Имришко, а почему она донесла на тебя? Будь она такая плохая, она не дала бы тебе ковригу! Может, на тебя кто другой донес, а она только прибежала оповестить тебя.
— Она и оповестила. Сперва немцев, а потом меня. Не то что плохая, просто боязливая была. Боялась немцев, но и за меня боялась.
И остальные его о всяком расспрашивали. Разумеется, мастер с Вильмой, они-то были с ним постоянно, но часто туда заходила Вильмина мать с Агнешкой и ее дочками. Зузка с Катаринкой, правда, всегда мешали, но я ловил каждое его слово, и то, о чем взрослые спрашивали, и то, что он им отвечал, и знаю: женщину, которая дала ему ковригу, связывал он с одним мясником, но не мужем ее, мужа-то Имро не видел, может, его вовсе не было, а у того мясника были с ней, верно, какие-то делишки, ну и он прознал кое-что, пройдоха, видать, был, с этой женщиной вел игру в открытую и думал, поди, что и с партизанами можно играть теми же картами; однажды, когда мясник вез на телеге в город шесть-семь заколотых откормленных спинок, он намеренно упомянул об этой женщине, назвал и имя ее. Имро имя забыл, но мясник, дескать, говорил точно о ней, потому как упомянул и о партизане, что у нее недавно скрывался: немцы, дескать, искали его, а она спасла ему жизнь, да еще ковригу дала, — и что, мол, она многим давала, и сало и всякую всячину, и что он, да и все, мол, каждый по-своему, кто меньше, кто больше, помогает партизанам, хоть и у самих ни шиша уже нет, но партизаны все равно ходят, коль им нечего есть, ничегошеньки нету даже в домах, ну что может быть, что еще может быть в таких маленьких, горных, бедных деревушках, всякий знай просит или сразу берет, а которым людям и дать-то нечего. Вам, может, кажется, я несу сущий вздор, но это не я, это Имро все накрутил. Я просто пытаюсь как-то все упорядочить. Мужик этот, мясник который, сказал-де, что партизан тьма-тьмущая, полно среди них и чужаков, с которыми никак не столкуешься, но и те просят есть, приходят обогреться, да еще норовят с собой в горы чего унести, потому как и там холод и голод, и люди, бывает, со слезами дают, отдают и последнее, а то расплачутся, что у них уже нет ничего, есть которые плачут и ночью, а утром плачут еще пуще, потому как утром обратно же немцы приходят, а эти грабят, корову отберут, а еще выпытывают, где кто был ночью и кто в дом приходил, заглянут в горницу, в кухню, в кладовку, а в коровнике спрашивают, где корова, почему коровник пустой, а ежели нет коровы, то почему в коровнике и на дворе навоз? О чем только не спрашивают. И людей истребляют, бьют, а то и убивают, стреляют либо силком уводят, люди зачастую даже не знают за что: дескать, партизанам, помогали, посылали им сало, фасоль, а у этих бедолаг, поди, у самих-то фасоли не было, а сала они с каких пор и не пробовали, даже в глаза не видали, ну а их за это и бьют или волокут прочь от дома, на работу, истязают людей только за то, что у них в доме хоть шаром покати. Но люди все равно рискуют, каждый рискует. Разве такая женщина, что дает партизану ковригу хлеба или горку творога, не рискует? Иной немецкий солдат, что покруче, мог бы запросто ее за такое убить. Мясник на это особенно нажимал и еще толковал о разных разностях, а сам знай оглядывался, все ли его свинки на месте, — ребята и тот, кому эта женщина, эта знакомая мясника, дала ковригу хлеба, косились на телегу, хотя мясник все твердил, что и в городе нужда, почитай еще большая, и что он это мясо опять же везет для людей, все для людей, причем для больных, и прямо, дескать, в больницу, но все равно этого мало, вроде как совсем ничего, ну что это — несколько таких свинюшек? А тут взял и сам сказал: имей он больше, отдал бы одну-две партизанам, даже и сам бы предложил, если бы было, может, дескать, и самую откормленную свинку им бы поднес. Да где ее взять? Может, у кого и есть, там-сям, может, и случается что добыть, но он-де долго искал и едва нашел, да и то мало, всего ничего, зря только люди в городе ждут, ну много ли тут, чего тут станешь разделывать? Было бы чего разделать, он-де запросто бы управился, разрубил бы, кости бы вынул, но кому оно раньше? Люди бы и из-за костей перегрызлись, глядишь, и ему самому не то что мясо, костей бы не перепало. Потому как этого мало, и впрямь очень мало, для больницы, в самом дело, страшно мало. В больнице уж точно расстроятся. Партизаны слушали его, временами даже поддакивали, кто ему и сочувствовал. Быть может, и командир сочувствовал, ведь и он его слушал, и он вроде бы с ним во всем согласился, но, когда сполна наслушался, сказал четко и ясно: «Я вас понимаю. Вы правы. Даже если вы и приврали малость, тоже понятно. Похоже, что и не очень приврали. А если и да, всякий бы приврал. Я тоже. Однако и нам требуется! Скиньте-ка чего от этого мяса!» Мясник разохался, за малым не разревелся, оборониться хотел, да не знал как, хотел мясо спасти, хотел лошадь стегнуть и по-быстрому смыться, да вот как, ежели вокруг телеги полно партизан. Двое молодцев были уже на телеге, скинули две полтушки, то бишь одну тушку, хотя каждая могла быть и от разных свиней, скорей всего, и была, но вместе-то они сошли за одну. Свинка как свинка. То были даже большие половины, кабы срослись, была бы большая свинья. А ребята, коль уж залезли на телегу, с дорогой душой все бы посбрасывали, но командир сказал: «Будет! Больше не надо! Только эти две половины». Мясник горевал, жалел себя и семью, поминал и больницу, грозился, что из-за партизан больные оголодают. Он даже уезжать не хотел, словно все еще верил, что партизаны эти две половины ему отдадут. Но при этом и опасался, что командир может одуматься и который-нибудь из этих бесстыдников одну, две штуки, а то и все может скинуть с телеги, так вот и надо радоваться, что дело на этом кончилось, самое разумное — побыстрей смыться.
Он еще раз взглянул на командира и сердито покивал головой: «Крепко же вы меня одурачили! Думаете, мне это задарма дается? У меня отобрали! У больных отобрали. В больнице все расскажу».
И командир уже снова ему сочувствовал. «Что говорить! Знаем, понимаем. Но и вы знаете, и вы понимаете. У нас нет, нам тоже, согласитесь, надобно. А в больнице не умрут, съедят поменьше. Будут и одной свинье рады, коль им дадите!»
«А, пустое!» — фыркнул мясник и в сердцах махнул рукой, в которой держал кнут, другой рукой утер нос, потом снова взмахнул кнутом и стеганул лошадь.
Ребята глядели ему вслед, а кто-то закричал: «Благодарствуем! Может, оно вам и зачтется! Господь бог вознаградит вас за все!»
Мясник услыхал, хотя был от них уже на значительном расстоянии. Оборотился и, поскольку страх в нем уже поубавился, яростно, теперь и впрямь яростно, во всю мочь хрипло прогудел: «Целуйте меня в задницу!» И еще крепче вытянул кнутом лошадь.
Ну мог ли такой рассказ Рудко не нравиться? Ему и то нравилось, как мясник, взбеленившись, выкрикнул им эти слова напоследок. В самом деле. Эти слова меня немного развеселили. Но было и немного жаль мясника. Конечно, жалел я и партизан, и больных в больнице. Как не жалеть, кого не жалеть? Успокаивался лишь тем, что раз мясник везет семь свинок, то от одной-единственной не может быть ему уж такого урону.
И Имро иногда так рассуждал: — Знаете, бывало, я некоторых ужасно жалел. Не только тех, что были со мной в горах, но совсем обыкновенных людей, да хоть и мясника. А особенно одного почтальона, истинного добряка, что однажды ночью дрожащими руками насыпал мне в рюкзак коричневой фасоли для ребят. И представьте, не припомню даже, где это было. Не знаю даже, как звали того человека, чтоб написать ему.
— Не можешь припомнить?
— Не могу. Не помню, как и попал к нему. Может, когда позже обойду все эти деревни, порасспрошу о нем, да и о других надо будет спросить.
— А нашего Биденко, Имришко, ты правда нигде не видал?
— Рудко, он же был в России, — вмешалась в разговор Вильма. — Знаешь ведь, так зачем спрашиваешь!
— А некоторые солдаты потом перешли. И те, что были на фронте, и те, что в казармах. Говорят, перешли к партизанам. Не только в Банска-Бистрице, а и в других местах. Под Прешовом, Имришко, там возле солеварни, где из такой большущей ямы таким огромным старым деревянным приводом, который кони раскручивают, соль из земли добывают, там, Имришко, возле той солеварни, все зеленые луговины, говорят, были совсем-совсем кровяные. Там ты нашего Биденко не видел?
— Рудко, я ведь там не был. Никогда не был ни под Прешовом, ни под Соливаром.
— И никогда о нашем Биденко не слышал?
— Не сердись, Рудко, не слышал.
— Я просто хотел спросить, просто спросить. Я ведь уже о Биденко, о нашем Биденко, не думаю. Имришко, я ведь уже только смеюсь, мы и с Вильмой смеемся, и теперь у меня глаза чуть-чуть пощипывает, мы все время смеемся, мне надо выйти немножко на воздух, у меня глаза щиплет, я же смеюсь и о Биденко почти совсем не думаю…
20
Я не понимаю чего-то. Хоть Имро и выздоравливает, а все не ладно что-то. Вильма тоже вроде не очень довольна: хотя изо дня в день только и говорит об Имришко — и сколько он когда съел, и что ему все лучше становится, — радость ее не кажется мне настоящей.
Неужто она притворяется? В чем тут дело? Ума не приложу.
Однажды, когда я пришел к ним и Имро не оказалось дома, я увидел Вильму плачущей. Было ясно: я опять явился не вовремя, но улепетнуть уже было нельзя — просто неловко. Я потихоньку пробрался к столу, робко сел. Не осмеливаясь спросить, отчего она плачет, я старался и не глядеть на нее. Но взгляд мой нет-нет да и обращался к ней, чтобы она ненароком не подумала, что я притворяюсь, будто не замечаю ее слез.
Она вытерла платком глаза, потом высморкалась в него и вроде бы хотела что-то сказать, а может, она и сказала, но слезы тут же снова застлали ей глаза.
Мы оба молчали.
На столе были картофельные сочни, но мне лучше было и не глядеть на них, потому что если на какую еду долго глядишь, то хочешь ли ты или нет, а в тебе вдруг просыпается аппетит, и потом уже трудно с собой совладать. Но сочни я заметил сразу, как вошел. Убери их Вильма, я бы, наверно, забыл о них. Но они все время торчали передо мной. Я видел их, хоть и не глядел в их сторону. Другой раз мне было бы достаточно руку протянуть, но теперь это выглядело бы дико, Вильма могла бы обидеться, а то и прикрикнуть на меня, начни я в такую минуту уминать эти сочни. Если бы я знал, отчего она плачет, было бы проще, я мог бы о чем-нибудь ее осторожно спросить, но спросить прямо — не дело, это, пожалуй, ни к чему хорошему не привело бы. Уж наверно, это как-то связано с Имришко, не иначе. Не знаю, что другое могло бы заставить Вильму плакать. Хотя и такая причина не казалась мне вполне убедительной, ведь Имро с каждым днем набирается сил. Вильма, конечно же, радуется и часто сама себя убеждает, а иногда и меня, что Имро совсем выздоровеет, и очень даже скоро. Никак они с Имро повздорили? Вряд ли: оброни он какое грубое слово, Вильма бы вынесла, ей всякое приходилось проглатывать. Что же могло случиться?
Сижу жду и думаю, что Вильма очувствуется и что-нибудь скажет. А я первый разговора не заведу.
Но сочни не дают мне покоя. Я больше люблю пирог, и мне иногда все равно, маковый он, ореховый или творожный, я люблю и капустный, и картофельные лепешки ем, все ем, не погнушаюсь и сметанной лепешкой, но, когда вижу на столе картофельные сочни, мне сразу кажется, что лучше их ничего не бывает. Могла бы мне и предложить!
Я стараюсь на них не смотреть. Вильма как-никак меня знает и, коль я здесь, вряд ли будет долго плакать, надо просто подождать, потом она и сама предложит.
Но Вильма не предлагает. Я даже чуточку злюсь. Был бы хоть мастер дома! Он-то знает: когда я у них и вижу что на столе, у меня всегда слюнки текут. Потому что я почти все люблю.
Ага, вот и перестала плакать! Но теперь она стоит, чуть привалившись к плите, и на ее заплаканном, обычно красивом, а теперь распухшем от слез лице нет и намека, что в такую минуту она способна интересоваться чем-то иным, а не тем, о чем именно сейчас думает, она даже бровью не ведет, ну а я сижу, словно меня и нет здесь.
Однако я здесь и переживаю за Вильму, хоть и боюсь ей об этом сказать. Знай я, как заговорить с ней, чем приманить ее, уж я бы постарался. Тогда у меня в руке был бы, поди, третий сочень, а может, она позволила бы мне и полтарелки съесть.
Наконец не выдерживаю: — Вильма, если не рассердишься, я возьму один сочень.
Вильма кивает, и в тот же миг взлетает моя рука — сочень мой. Только он маленький, не жалей я его, он бы весь уместился во рту, но я не спешу, а просто так прикладываю к губам и по кусочку от него откусываю, словно дома наелся, словно этот сочень хоть и маленький, а в общем мне не по вкусу. Но так или иначе, через минуту его уже нет, и приходится во второй раз протягивать руку, хотя теперь я и не спрашиваю. Если Вильма позволила раз, то, значит, можно и два, а то и больше раз потянуться к тарелочке. Однако после первого раза я чуть забываюсь, и второй и третий сочень исчезают у меня во рту так быстро, что я и глазом не успеваю моргнуть, и вот уже вновь протягиваю руку, чтобы исправить дело: пусть Вильма видит, как я и не торопясь умею есть. А если б пришлось, если было б другое настроение, если бы мастер был дома и хотел бы меня как-нибудь испытать, я, наверно, сумел бы умять все, что было на тарелке. Имро к этим сочням, все равно не притронется. Еще возьму. Вильма же не плачет, смело можно взять. До чего хороши! Картошку я не люблю, а картофельные оладьи и сочни — да. Шесть я уже съел, ну а что, если попробовать и седьмой взять? Нет, лучше подождать немножко. Может, Вильма вспомнит о каком-нибудь деле, и тогда это не будет так бросаться в глаза. Почему она ничего не делает и не говорит ничего?
Я оборачиваюсь — оказывается, она глядит на меня. — Рудко, лучше бы ты не приходил к нам. Видишь, какая я. А потом еще больше из-за всего этого расстраиваюсь.
Нет, теперь не возьму. Но и не поднимусь сразу. Может, спросить ее о чем-нибудь? — Вильма, я же сейчас уйду.
— Ступай, Рудко, ступай. — Мне кажется, она настаивает на этом, хотя, пожалуй, не надо б уж так. — Приди к нам как-нибудь в другой раз. Я ведь такая не всегда бываю. Ступай, Рудко! И не говори никому, что я опять плакала! И мастеру смотри не проболтайся!
Медленно встаю. С радостью пожалел бы ее, да не знаю как. И сочни еще на столе. Нет-нет, о них я уже и не думаю. Не положено.
Дня два-три к ним не заглядываю, но потом — а то Вильма еще подумает, что я обиделся или рассердился, — снова к ним наведываюсь.
Вильма поспокойней, и мастер спокойный, ну и я, особенно если Имрих привередничает и все, что для него наготовлено, не съедает, чувствую себя у них неплохо. Кое-что и мне иной раз перепадает. Вильма на меня все хмурится, иногда даже взрывается или вздорит со мной, потому как с Имришко вздорить не хочет. Но это всегда можно выдержать, я научился сносить от нее и неласковое слово — знаю: что Вильма испортит, то сама же и выправит. Если она меня иной раз малость обидит, виной тому обычно какая-нибудь черная минутка, часто просто погода; чуть обложит небо, и уже Имро чувствует себя хуже, или аппетит у него пропадает. Вильма враз все подмечает, бывает, и загодя, обычно как встанет с постели, тут же бежит к окну — на небо взглянуть, и, если оно не голубое, не ясное, Вильма тоже мрачнеет. В такой день лучше туда не ходить, да ведь я не гляжу так часто на небо, иной раз дождит, я это замечаю, но редко чтоб так, как Вильма, то есть на небо я не сержусь, спохватываюсь лишь тогда, когда прихожу к Гульданам, ну а поскольку я уже поднабрался ума, то легко догадываюсь, что небо во всем виновато. Но и Вильме, и небу я прощаю. А пристынет к сердцу что посуровей да потяжелей, мастер опять же все уладит, отведет меня в сторонку и давай вдалбливать: — Не будь глупым, не обижайся, даже не перечь ей! А ежели думаешь — надо перечить, тогда не стесняйся, потому как она тоже трудный орешек. Ты-то ее знаешь, знаешь, что у нее внутри, но и понять должен, как ей лихо. Ты же, Рудко, знаешь, каково было! Ты уж не маленький. Не бойся, я и про вашего Биденко помню. Да женщина послабей характером, ты даже представить не можешь, сколько ночей из-за Имришко она не спала. Я тоже не спал. Но она за него постоянно тревожится. Если она тебя, случится, кольнет, сделай вид, что не кольнула. Ты же мужик, Рудко! Ей-богу, из тебя выйдет толк! Если выучишься, школу кончишь, ей-богу, возьму тебя в ученики. Будешь со мной ходить на работу, вот посмотришь. Я уже старый и знаю свое, Имро-то всегда хорошо подмастерничал, он и мастером мог бы быть, и ты, как выучишься и маленько при Имро в подмастерьях понатореешь, тоже сумеешь быть мастером. Сделаю из тебя мастера. Ей-ей, уж мы с Имро порадеем, об этом.
— А он что, еще очень хворый? Все хворает?
Мастер задумался и, чтоб заполнить паузу, пока найдет нужное слово, двинул немного плечом, а потом лишь повторил: — Хворый. Все еще хворый.
— А что с ним? Ведь он же ходит. И не спит уже столько.
— Не спит. Но все равно хворает. Идет осень. Погода испортилась. И ему стало хуже.
— А у него что-то болит?
— А не болело бы, он бы не хворал. Как тебе объяснить? Ты когда-нибудь спотыкался?
— Ну спотыкался.
— А палец на ноге ссаживал?
— Ссаживал.
— И больно было?
— Еще как больно.
— Вот видишь, Рудко, видишь! Но о том, что тебе сейчас скажу, никому ни слова, смотри не проболтайся! Болела у тебя когда-нибудь мошонка? Ударял тебя кто?
— Я же все время с кем-нибудь дерусь, без конца дерусь.
— И туда тебя ударяли?
— Многие ударяли. И я ударял.
— И туда ударяли?
— И туда…
— И больно было? Больно, Рудко?
— Конечно, больно.
— Ну а у нашего Имришко все время болит, у него все болит. И там болит. Понимаешь, Рудко?
— Ага, понимаю.
— Вот видишь, Рудко! Оттого наш Имришко хворый, а еще из-за другого. Очень хворый. К любой перемене погоды чувствителен. И Вильма, почитай, такая, как он. Но ни-ни, Рудко! И дома, Рудо, ни звука! То, что для мастера и подмастерья, негоже для всякого уха.
Если день погожий, Имро идет с отцом на работу. Правда, идет лишь потому, что отец работает поблизости, далеко он бы не потащился. Имро хочется только поглядеть на работу. А помочь, помочь ему еще не под силу.
А Вильма об этом рассказывает так, словно Имришко уже работает. Да и со стряпней надумывает себе возни: — Господи, что бы такое сварить! Имришко пошел с отцом на работу, надо им нынче что-нибудь повкусней приготовить!
И славно, что приготовила! Имришко, правда, не очень этим ублажила, зато будущего ученика — да.
Бедная Вильма! Как она радовалась! Столько наложила в тарелку, что я едва справился. Будто уже видела во мне не только ученика и даже не подмастерья, а сразу будущего мастера.
Спасибо тебе, Вильма, в самом деле, спасибо! За все спасибо тебе! Если я чуть и ухмыляюсь, то не потому, что хотел бы тебя или даже кого-то другого обсмеять. Я все время стараюсь только развеселить тебя. Не раз и не два я у вас наедался. Спасибо тебе, Вильма! И не только за еду! У меня есть за что благодарить тебя.
Спасибо, Вильма!
Но я уже опять сержусь на нее. Пришел к ним, наверняка опять было пасмурно, либо только собиралось к ненастью, а я не заметил или еще не мог этого знать. Вильма окрикнула меня сразу, как я только вошел: — Какой тебя черт сюда носит? Опять ноги не вытер? Думаешь, мне охота все время за тобой грязь вытирать? Чего опять надо? За перцем пришел? Я вам его, почесть, уже десяток раз отдавала.
— Вильма, ни за каким, перцем я не пришел. И ноги, я же их вытер. Я к вам не за перцем.
— Так за чем? Сплетни собирать? Нет у нас сплетен. Бери пирог и проваливай!
— Не хочу пирог. Я ведь даже ничего про ваши пироги и не знал. Я пришел, просто так пришел.
— Боже милостивый, почему у меня нет покоя? Почему у меня никогда нет покоя?!
Вильма хватается за голову. Неужто я так ее распалил? Она бубнит свое и все фырчит на меня: — Вечно ты тут, во все нос суешь, иной раз я бы тебя просто вытурила!
Но почему? Неужто из-за этих сочней? Что я ей сделал? Господи, лучше бы мне сюда не приходить!
— Чего пялишься как дурак? Возьми пирожок и убирайся, убирайся отсюда!
Но как уйти, как теперь уйти?! Я не хочу пирожка, не надо мне этого пирожка! Господи, зачем, я ел сочни?! Лучше бы мне никогда ничего у них не есть, всегда надо было от всего отказываться.
Вильма, я не хочу пирожка! Ничего уже не хочу, но как мне теперь уйти?
И Имро это видит. Вроде бы он мне сочувствует. Почему он ничего не говорит?! Имришко, Имришко, ну заступись за меня!
Не заступается.
— Вильма, — наконец собираюсь я с духом, — я же к мастеру пришел.
— Мастера нет дома, — отрезает она — аж в ушах звенит. — И мне некогда, ступай прочь!
Но и это ни к чему не привело. А если и привело, то ненадолго. Через два дня я снова у Гульданов. Дольше сердиться не могу. Зато все чаще жалуюсь мастеру, и, хоть всякий раз прошу его ничего не говорить Вильме, он все-таки иногда забывается и при Вильме что-нибудь обо мне да обронит. Хочет за меня заступиться, но Вильма воспринимает это иначе и всякий раз тычет мне этим в глаза. Надо быть осторожнее! Да я и так осторожный! У меня что, не было времени осторожности научиться? Самое лучшее было бы вообще молчать, ведь, чем больше я жалуюсь и чем, больше мастер хочет помочь мне, заступиться за меня, тем хуже; бывает, особенно-то и не пожалуюсь, да еще и мастера попрошу ничего не говорить Вильме, а он, наверно, все-таки в чем-то ее упрекнет, а может, лишь намекнет ей, или она сама обнаружит, что мы с мастером говорили, и опять же про Имришко и про нее.
— Эй ты, ябеда, — встретила она меня однажды, как я только вошел во двор. — Кончай сплетни водить, не то так тебя жахну — дорогу сюда позабудешь. Думаешь, это меня забавляет? У меня что, забот мало? Надо больно, чтоб этакий безобразник вечно меня выводил из себя, нервов моих не хватает. Раз тебе у нас плохо, чего сюда шлендаешь?
Гляжу на нее в растерянности, не знаю, что и сказать. О чем это мы с мастером говорили?
Но и молчать не могу. Ведь если Вильма сердита, трудно к ней подъехать. Молчанием ее не задобришь. — Вильмуш-ка, я не сплетничал. Правда, я не сплетничал. Можешь спросить, если хочешь.
— Кого спросить? Ах ты! — замахивается на меня. Хорошо еще, что сразу не хлопнула.
— Вильмушка, я правда не сплетничал. И ни на какую соседку я в жизни не сплетничал. Может, мастер что и сказал, но я так не думал, не знаю, что он сказал, но я правда так не думал. Я не сплетник. Я не сплетничаю, Вильмушка, я ведь уже не сплетничаю.
— Хоть не при!
— Не вру! Вильма, я уже не вру.
— Врешь! Ты врун! И сейчас врешь. Все время всякие сплетни разводишь. Если не прекратишь, я когда-нибудь тебе так влеплю!
Опять, опять замахнулась. И я не выдержал. — Ну так влепи, влепи, ну! Ты врунья! Вот! А хочешь, ты и сплетница! Почему на меня замахиваешься? Почему замахиваешься? И врунья ты! И все время про меня что-то выдумываешь. Выдумываешь, чтобы я перестал к вам ходить.
И вдруг — хлоп! Влепила мне затрещину. А не надо было этого делать. Потому что после затрещины и мне трудней себя сдерживать. Я кричу на нее: — Дрянь конопатая, ты чего меня бьешь? Сама врунья, не я!
Наверно, я на нее и глаза выпучил и зубы ощерил, потому что она вдруг позеленела, пожелтела, и заместо одной затрещины я сразу три заработал.
— Кто конопатая?! И кто врун? Кто вечно сплетни разводит? Ах ты бессовестный! — Ну и опять — бац! Заместо одной оплеухи у меня сразу шесть.
С ревом иду по двору вниз. Ох, кабы со мной разревелась вся улица. Но на улице нет никаких зрителей. Сперва одной ногой, потом другой я злобно колочу в ворота и все приговариваю: — Конопатая! Конопатая! Сплетница противная! Ведьма злющая, паршивая, врунья подлая! Конопатая ведьма! Ведьма! Ведьма! Ведьма! Гадкая, гадкая, гадкая! Ведьма гадкая, самая разгадкая!
Но когда и это не помогает, я нахожу на дороге большой и горбатый камень, размахиваюсь и изо всей мочи запускаю его в окно.
МЕДНОЕ СОЛНЦЕ
1
В деревне о разбитом окне вмиг забывают. Одно я, что ли, разбил? Люди при таком деле поворчат малость, может, дома или на улице вас кто и выдерет, но, если не отдубасили сразу, поздней вам уже ничего не сделают, потому что тем временем какой ваш дружок еще что-нибудь выкинет.
Вильма не пришла на меня жаловаться. Никто на меня не жаловался.
Но все равно что-то сломалось. Нет, об окне я сейчас и не думаю. Еще в тот день вставили в него новое стекло, И речь не о тех затрещинах, которые Вильма мне отпустила. Наверное, она сразу же и пожалела о них. Когда я на другой день с ней встретился, она меня ни в чем не упрекнула. Сперва хотел ее стороной обогнуть, да не тут-то было. Она внезапно оказалась прямо у меня на пути. И вроде бы тоже сперва меня испугалась. Покосились мы один на другого, а потом Вильма погрозила мне пальцем. И улыбнулась.
Долго мы не дулись друг на дружку. Но с тех пор хожу к ним все меньше. Загляну когда-никогда, но все реже. Вильма сделалась ко мне сердечнее, но, пожалуй, еще и потому, что не хожу к ним так часто. Хотя мог бы. И она мне намекает на это. И мастер намекает. Даже Имришко. И я знаю, они не обманывают. Заметил я, туда ходят и другие дети. Они и до этого хаживали, но обычно со мной, я их туда водил, потому что хотел позадаваться, хотел показать им, что у меня есть куда ходить и что с Вильмой мы понимаем друг друга. И я в самом деле с ней ладил; случались, конечно, перекоры, но долго они не тянулись, а если бы и тянулись, нынче на многие вещи я уж иначе смотрю, нередко мне кажется, что и перекоров-то никаких не было.
Чаще других ходят к Вильме Агнешкины дочки. Бывает, приводят с собой и подружек, а то и дружков, и, возможно, к Гульданам я еще потому не хожу так часто, что знаю: я уже вырос, во всяком случае старше тех детей, что туда ходят. Было бы глупо, если бы я препирался с ними из-за груши или пирога. В каком-то возрасте — ведь и детям прибавляется лет — человек теряет право на пирог или, во всяком случае, имеет право лишь на тот пирог, который принадлежит ему.
2
Но вовсе не обязательно, что других детей, маленьких, у Гульданов всегда привечают. Во всяком случае, не чаще, чем меня. Все зависит от того, какое у Вильмы настроение, а оно меняется, смотря по тому, какие у нее заботы. Забот у нее хватает, и почти все они или большинство из них связаны с Имришко. И хотя в конце лета казалось, что Имришко уже выздоравливает и даже вроде бы совсем окреп, осенью выяснилось, что это не так. Он снова почувствовал себя хуже, а когда настали хмурые, позднеосенние, мглистые и дождливые дни, ему опять пришлось слечь в постель.
Недели две Вильма просидела возле него. И мастер что ни утро и что ни вечер подсаживался к нему на постель и спрашивал: — Ну как тебе, Имришко? Ты же почти выздоровел! Так не осрами нас теперь! Если будешь долго лежать, Имришко, ты ведь и сам себя осрамишь! Коли ты Гульдан, соберись с духом!
И Имро заверял их, что соберется с духом. А то смеялся и говорил: — Думаете, мне охота лежать? Уж нынче собирался встать. Но раз вы обо мне так заботитесь, должен же я вас слегка подразнить. Но завтра точно встану. Надо малость прийти в себя, я ведь уже долго бездельничаю и порядком обленился. Мне такая легкая жизнь даже понравилась. А кому бы не понравилась? Чему вы дивитесь. Но завтра, завтра непременно встану.
Но на другой день, еще до того, как развиднелось, он стал искать рукой Вильму, шарил и по соседней кровати: — Вильма, спишь? Не знаю, сколько времени, но наверняка скоро утро. А мне что-то опять вставать неохота. Очень болит поясница, болит и сейчас, когда сплю. Да я особенно и не сплю. Ужасно болят у меня… кабы только поясница!
А тогда уж и Вильма поутру бывает невыспавшейся. Не раз, навещая мать и сестру, тоже жаловалась на поясницу и на то, что частенько у нее болит голова: — Я вся будто сломанная. Сдается, эти его хвори и на меня переходят. Если он будет еще долго так лежать, я, считай, не вынесу. Он встанет, а я, скорей всего, свалюсь.
Но при Имро она так не говорила. И по-прежнему была терпеливой и заботливой. Каждый день ломала голову над тем, что бы ему приготовить, а ночью полусонная сходила с постели, потому что Имришко захотелось воды или, может, даже не захотелось, но без воды ему трудно было проглотить таблетку.
И Имрих снова целыми днями спал, нередко просыпаясь именно тогда, когда Вильма собиралась ложиться. И потом она еще долго ворочалась в постели — рядом с ним невозможно было по-настоящему спать.
И если бы хоть когда погладил ее! Мог бы ее и обнять. Однако день за днем, ночь за ночью бежит или только тащится, а Имро все такой же, ко всему безразличный. Хотя Вильме ничего особенного от него и не нужно. Он ведь и вправду хворый. Она сознает это. И все-таки, все-таки мог бы ее когда-никогда, хотя бы ночью, погладить. Ведь с той поры, как Имришко дома, ничего особенно не изменилось. В самом деле, прибавилось ей только забот. Или просто заботы у нее изменились. Тревожиться за него приходилось ей и тогда, и сейчас. Подчас ей даже не верится, что Имришко уже дома и что постели их рядом. Но пока она его еще ни в чем не винит. Только изредка втихомолку вздыхает: ох, Вильма, ты этого своего Имришко еще изождешься.
Несколько раз ей казалось, особенно когда у них были гости, что Имришко немножко иначе, живее, даже как-то заискивающе, на нее поглядел, и она подчас многого от этого ожидала. А как останутся вдвоем и она прижмется к нему — он стоит и стоит, даже рукой не шевельнет, не обхватит ее, хотя она-то все крепче его обнимает. Долго к нему прижимается, а он, может, лишь для того, чтобы высвободить руки, погладит ее раз-другой по лицу, но и этого ей достаточно. Почувствует его ладонь, и тут же на глазах у нее слезы: — Видишь, Имришко, какая я смешная. Враз плачу. Уж ты не серчай. Плачу, хоть ты и гладишь меня. Но и смеюсь. Я всегда была такая. Не изменилась. Вот видишь, Имришко, смеюсь и сейчас.
Они с минуту гладят и обнимают друг друга, потом ей чудится, что Имришко вроде бы от нее отступает. Может, устал и перемогается, может, из-за нее устал, иначе бы столько не мешкал, а поскорей бы обнял ее, начал бы ее раздевать или сказал, чтоб сама разделась. Но он знай стоит и стоит, под конец еще раз погладит ее, неловко поцелует, улыбнется ей, и все. Прежде он таким не бывал! Дело не только в болезни, иногда ей кажется, словно он и робеет. Ей хочется об этом сказать. Но боится, ведь и она немножко робеет. Рано или поздно все само собой и без того образуется, все наладится. — Имришко, знаю, ведь ты так устал! Она хочет намекнуть, что ей все равно, что она сумеет побороть нетерпение. Господи, недели и месяцы она выдержала без него, а теперь-то уж легко выдержит, коль он тут. — Имришко, главное, что ты дома. Если хочешь, пойди поспи! Я пока что-нибудь к ужину приготовлю.
Но он воспринимает это иначе. Так всякий бы воспринял. Думает: «Хочет со мной переспать! Ясное дело! Уж сколько времени между нами ничего не было». — Ты права, я малость устал, — говорит он, чтоб она не считала, что он отговаривается. Но сразу пугается: что это со мной? Я же люблю ее, а веду себя так чудно, будто это не так. Почему не сказать ей об этом! Разве она не заслуживает? — Устал я, — повторяет он. — Пойдем, пойдем ляжем.
В самом деле. Однажды он позвал ее.
Но в постели вел себя неловко.
Они целовались, обнимались. Поначалу оба разгорячились, но, чем Вильма делалась горячей, тем больше становилось ему не по себе. Он снова и снова задавался вопросом; что это со мной? Он гладил ей грудь, целовал в губы, но вскоре она почувствовала что-то неладное. Заметила, что он взмок весь. Попыталась ему как-то помочь, чтобы он не так мучился, касалась губами его кожи. Он потел еще больше. Она оглаживала его всего: руки, грудь, бедра, долго не осмеливаясь коснуться его и там, где он боялся больше всего. Тогда Имро перестал двигаться, на минуту задержал дыхание. Он и там был потным. Наверно, это было ему неприятно. Он чувствовал себя мальчишкой, впервые очутившимся с девушкой, но Вильма сразу поняла, что Имришко уже не мальчик, что именно сейчас он вошел в самую пору и что таким еще никогда не был. Бедняжка, ну и натерпелся! Слаб еще, а иначе бы он так не потел. А она тоже хороша, взяла да и влезла к нему в постель, вот уж правда, могла подождать, покамест он немного поспит, хоть и звал ее, а она могла додуматься, что ему отдохнуть надобно, нечего было ей его слушаться.
— Имришко, мы уж давно не были вместе, — сказала она. — Надо привыкнуть друг к другу. Мне ведь и так хорошо. Я рада, если могу с тобой хоть чуточку полежать.
Он пораздумывал с минуту, что бы ей на это ответить. И решил не говорить ничего, поскольку ничего умней, чем сказала она, нельзя было придумать.
На дворе смерклось, но ни один из них не уснул, хотя оба делали вид, что спят. Каждый ушел в свои мысли.
Позже Вильма попрекала себя. Какая я глупая! Разве не могу совладать с собой? Что теперь обо мне Имришко подумает? Теперь еще больше будет чураться меня. Как делу помочь?
Господи, разве я не знаю, что он хворый? Неужто мне этого показалось мало?
Нет, ей этого не показалось мало. Она была благодарна за то, что он погладил ее. И он сперва был благодарен, она ведь тоже целовала и ласкала его, и минутку, минутку они оба действительно были взволнованы и счастливы. Кого тут, собственно, винить?
Имришко, Вильма умеет ждать, разве у нее не было времени научиться? Имришко, ты не смеешь серчать! Не смеешь хворать, Имришко! Ну сколько, сколько еще можно хворать?..
Под рождество Имро снова встал на ноги. Погода вроде наладилась, пришли морозы, застыли лужи и болотца, а речка, что текла по деревне, зажурчала вдруг совсем по-иному, чем раньше, ровно в ней тарахтело стекло. Но работать Имро пока не хотелось, его опять больше тянуло на разговоры. Он даже Вильме советовал, что ей стряпать, и, хоть она старалась вовсю, редко когда угождала ему едой, он всегда наводил на все критику и не прочь был покритиковать Вильму даже тогда, когда съедал все в охотку. Несколько раз они из-за этого и повздорили. Виноват обычно был Имро, но Вильма, возможно потому, что и она несколько раз довольно резко подколола его, верней лишь отбила уколы, принимала вину на себя.
Иногда он бывал совсем в хорошем настроении. Наступала умиротворенность, Имро делался вдруг необыкновенно живым, снова рассказывал о Вассермане, вспоминал, как поначалу Вассермана боялся и как под конец осмелел, как стало ему уже почти все нипочем, хотелось лишь как-то выстоять, как ясно светил в ночи месяц и какими громадными, но при этом жуткими и прекрасными казались горы, только каково, если холод вонзался человеку в самые жилы? Не было ни огня, ни спичек. Имро пришлось взять у Вассермана шинель, пришлось, что называется, ограбить его.
— Черт-те что, наткнись кто на меня, найди меня в этой немецкой шинели, тут же на месте меня бы и прихлопнул. Может, и свой бы прихлопнул!
Временами он задумывался, но рано или поздно снова заговаривал о том же, и в мысли его замешивался кто-нибудь из товарищей, что были с ним в горах, цыган-надпоручик или кузнец Онофрей, но чаще всего он поминал церовского причетника. — Бедняга, хороший мужик был! — говаривал он о нем. — Семеро детей у него, и всякий день он мне о них рассказывал. Не представлял, как с ними жена одна управляется. Обычно ворчал на все, на что можно было ворчать, и на священника фырчал, но кто причетника Якуба хорошо знал, тот понимал: в основном он ворчит на то, что ему дорого. Он и этого своего фарара, конечно же, любил. И новый церовский храм был ему дороже, чем для всех прихожан вместе. Он частенько рассказывал, как расписан костел, хвастался, что и он богомазам советы давал, не раз и мне сулился показать в церовском храме ангела, которого сам предложил богомазу, даже пытался ангела изобразить, как тот, надувшись, глядит на прихожан с костельного свода и поет — он еще и запел — Gloria in excelsis Deo[87]. Мечтал дождаться освящения костела. А вот видишь, Вильма, освящения-то и не дождался! Бедняга! Только и осталось после него что семеро ребятишек, кроме них да еще двух, трех товарищей, об их отце, почитай, никто и не вспомнит. Да и этой детворе пришлось всякого натерпеться! Стольким-то детям лишь подавай есть! А кто им задарма что принесет? Может, они даже не знают, каков конец был у отца.
— Знают, ты о том говорил. И мастер раза два к ним заходил.
— Заходил? Добро. Знаешь, Вильма, как начну снова понемногу работать и у нас денег будет побольше, надо бы и нам когда-нибудь туда наведаться. Неплохо бы такой семье пособить, Якуб-то был моим товарищем. Никогда не думал, что мы так с ним подружимся, мне это и не снилось, в голову не приходило, когда мы строили церовский храм. Может, уже сейчас стоило бы отнести семье Якуба хоть два-три кило яблок.
— Можно послать. Скажу отцу.
За два дня до сочельника стал виться снег. Имро сидел у окна и смотрел на улицу, потом вдруг ни с того ни с сего запел. Сразу и Вильма повеселела. Попыталась подтянуть вторым голосом, да не сумела, не нашла терцию, и Имро вроде бы на нее рассердился, тут же умолк, правда, хорошее настроение его не покинуло. — Ах черт, когда так падает снег, неплохо бы и пройтись.
— Да? — Вильма вмиг схватилась. — Ну пойдем. Только надо теплей одеться.
Прогулка была недолгой, вышли в сад, а потом за гумно. Взялись играть в снежки. Но снегу было мало. Слепить снежок для Имро оказалось делом нелегким. Каждый кинул снежка по два. Когда в руках у Вильмы был третий, Имро загородил лицо локтем и сказал: — Ну будет. Мне что-то надоело.
И Вильма уже не осмелилась бросить в него снежок. Отбросила в сторону.
Но зато за ужином, когда мастер спросил, что они делали, Имро глянул на Вильму и, невольно повеселев лицом, сказал: — Мы играли в снежки. Правда, немножко. Некому было их лепить.
У мастера сразу поднялось настроение. — Что ж вы молчите?! Были на улице? Оба? И в снежки играли? Жаль, меня не было дома! Нынче был славный денек!
3
А на сочельник, должно быть, поднялось атмосферное давление, ночью чуть снежило, но поутру воздух был прозрачный и острый, как отточенное стекло. Имро встал первым, оделся и вышел во двор, стал заметать снег. Подмел почти до ворот. Пожалуй, и продолжал бы мести, кабы не вышел мастер и не сказал: — Ну давай, Имришко, я домету, осталось всего ничего!
Имро попробовал заняться и другими делами. Принялся чистить рыбу, пусть Вильме и пришлось потом дочистить ее, затем пошел поискать в кладовке подставку для рождественской елки. Однако ствол елки был чересчур толст, надо было его обтесать и опилить. Приглядываясь к топорам, Имро долго не мог решить, какой из них выбрать. А выбрав, подумал, что выбрал его лишь потому, что мастер забыл его наточить. Пришлось поискать еще и напильник, а начав точить, оглядел он и другие топоры, и те тоже, конечно, оказались с зазубринами. Ему просто не верилось, что у отца мог быть такой никудышный инструмент. Он брал его один за другим и по каждому хотя бы разок проводил напильником; но и за этим делом застал его мастер и, усмехнувшись, сказал: — Эхма, да ты заместо Ондро работаешь?
— На Ондро не потяну, мне бы надо быть терпеливей, — улыбнулся и Имро. — Но тебе Ондро и впрямь пригодился бы. Ведь у тебя нет ни одного справного топора. Все с зазубринами.
— Судить-то хорошо. Но чему удивляешься? Будто хоть один справный ученик есть у меня. Не говоря уж о подмастерье. Ты за работу браться не хочешь, все только собираешься, а меня одного на все не хватает. Когда мне точить? Точишь обычно на месте, когда топор, тесак либо тесло понадобится.
— Сказал бы мне. Наточить и я мог.
Мастер оглядел один топор, другой, провел по острию пальцем. — Ей-ей, ты, кажись, наточил их лучше Ондро, — пошутил он и добавил: — Но теперь, зимой, и у меня время найдется. Надо будет, смогу и сам наточить.
— Да я ведь их уже наточил, — усмехнулся Имро. — Это мне по силам.
Он опять взял в руки железную подставку, попытался всадить в нее елочку.
— Оставь так! — Мастер гнал его в дом. — Слишком долго-то на дворе не задерживайся, еще простудишься! Ступай, я сделаю. Поможешь Вильме наряжать елку.
4
Праздники удались. Имро совсем окреп. Порядком было и гостей, особенно маленьких песенников и колядчиков, для которых у Вильмы вдосталь было припасено орехов и яблок, а мастер уже за неделю, а то и за две стал откладывать мелочь, чтоб каждому колядчику дать по кронке. Вильма умудрилась раздобыть и апельсины, но они достались только родным и двум-трех озорникам, что были у нее на хорошем счету. К примеру, и мне; но мне в основном потому, что в последнее время их дом я стал обходить стороной. Но праздники есть праздники: куда бы это годилось, не приди сосед к соседу спеть, пожелать счастья? Гнев мой все равно давно уже прошел, а если и нет, иной раз стоит позабыть о гневе, особенно если известно: одна из тех кронок, что так долго звякала в кармане у мастера, звякает и для меня. Кого бы кронка не приманила? Правда, я еще и пел хорошо. Ох я и вытягивал! Если знаю, что за песню и перепадет чего, враз голос у меня становится краше.
Ярочки, кыть, кыть, Весело вам будет жить, Сыты будете всегда, Коли в поле есть трава.Я знал, что эту песенку мастер любит, поэтому пропел ее до конца. Добавил еще и «Гоп, гоп, молодцы!..» Ну и получилось все как нельзя лучше! От Вильмы апельсин, два яблочка и семь орехов. От Имро старые коньки, снегурочки, правда без ключика, ключик кто-нибудь одолжит! От мастера пять крон и бобы. Бобы у Гульданов всегда бывают. Каждый год у них бобы, и всегда полный горшок. И почти всегда один я их и ем. Даже когда в них мушки! Пха! А в черешне бывают червяки. Коль не тянет на мясо, так нечего вам в бобы или черешню заглядывать.
— Рудко, давай ешь! — подбадривал меня мастер. — Бобы я сам варил. И сам доставал. Каждый год достаю. Бобы есть бобы! Бобок прямо в роток! По крайности к полуночи стрельба будет.
Вильма, наверно, подумала, что мало дала мне, поэтому сняла с елки и шоколадную рыбку. Я решил ее отложить на потом — она была в такой красивой розовой фольге. И до чего она нравилась мне в этой фольге! Но все-таки интересно было, что и под ней. А вдруг это просто особая такая фольга, а у самой шоколадной рыбки нет ни плавников, ни жабр. Нащупать-то я их нащупал, да под фольгу не заглянешь. А, чего там, она же моя, разверну, а потом опять в фольгу спрячу. И знаете, это и правда была махонькая обыкновенная шоколадная рыбка! И какая еще легонькая! Откусил я крошечку от хвоста — и свисти на ней как на ключе. Уж раз что-то делают на шоколадной фабрике, так почему не могут это чем-нибудь начинить? Просто этакая тонюсенькая шоколадка, даже не намного толще фольги. Что, нельзя разве в рыбку что-нибудь положить? В общем-то самое обыкновенное надувательство. Пустую рыбку ни к чему и в фольгу заворачивать. Я два раза куснул, и рыбки как не было. Опять же одними бобами пузо набил.
А потом навалило туда певцов — уйма. И пели кто во что горазд. А во время пения и между пением переругивались. Не могли прилично спеть даже такую избитую песенку, как «Пастухи пасли отару». Иные пели чуть лучше, но опять же совсем легкую и затасканную:
Зяблик, зяблик не велик, Воробушек чик-чирик, Сел воробушек на тын, Народился божий сын…Мастер вышел во двор и спросил: — И это все? Что ж такую коротенькую?
Они хотели было спеть еще одну, да не сумели столковаться. Пришлось мне их выручать. Я нарочно выступил вперед и затянул за всех:
Видно, времечко приспело Для веселья и вина. Пустим, братцы, трубки в дело, Бочку выцедим до дна.Мастеру понравилось. Да я и старался. Тьфу ты, даже жилы вздулись на шее! Я-то думал, он еще что подбавит. А он только тем дал по кроне, а мне сказал: — Рудко, если хочешь, доешь бобы.
А вот как? Трехлитровый горшок? Да от такой прорвы лопнешь, не ровен час. Будет охота, приду доем завтра или послезавтра.
Перед уходом я, однако, спросил: — Мастер, а тыквенных семечек нету у вас нынче?
И хорошо, что спросил. Мастер тут же схватился. — Как же так, Вильма, Имро, мы же тыквенные семечки забыли поставить на стол.
— В кладовке они. Я и забыла про них.
Через минуту мастер уже держал в руке большой бумажный пакет: — Куда тебе насыпать? В ладонь или в карман?
— Лучше в карман.
Насыпал. В правый. Но потом я и левый подставил. — Если хотите, можете и в этот насыпать.
А во дворе опять поют. Вильмина семья. Мама и Агнешка с дочками. Даже вроде бы еще кто-то к ним присоединился.
Лучше всего теперь смотаться! Фьют! А не уберусь, глядишь, коньки у меня свистнут.
Не худо бы захаживать к Гульданам! Да вот как, ежели и другие, другие туда захаживают…
5
Хотел навестить их и на Штефана, да не застал дома. К счастью, догадался, где они могут быть. Где еще, как не у Вильминой мамы?
И точно! Поминали Штефана. Бедняга, ведь у него именины! Жалко, лежит так далеко!
Угостили меня куском маковника и сливовым компотом. Вкусно было, мне везде и почти все вкусно, но компот я не смог доесть, потому что Зузка, Агнешкина дочка, все время вертелась возле меня. Вроде бы даже косо на меня поглядывала. И знай спрашивала: — А ты чего не у себя дома? Ты дома не кушаешь? Почему у нас кушаешь?
Поначалу я делал вид, что ничего не слышу, но она вновь и вновь повторяла, и раз от разу громче: — Почему ты у нас? Ты что, дома не кушаешь? Почему у нас кушаешь?
Наверняка это и остальные слышали. Думаю, все. Должны были слышать. И никто не одернул ее. Я ее одернуть не мог. Просто делал вид, что ничего не слышу. Но и они такой делали вид.
Однако эта малявка начала меня еще и теребить. Сначала за пиджак, а потом и за нос. Такого выродка я в жизни не видел! А приходилось еще и улыбаться ей. Ох, были бы мы одни, уж я б ее вздрючил. Обязательно бы по губам смазал…
Имришко опять рассказывал про Вассермана, а я и послушать не мог. Лучше было встать, из-за такой-то малявки пришлось встать и уйти.
Имришко рассказывал про Вассермана, а эта козявка кричала мне вслед: — Уже уходишь? Ну иди! Все равно ты у нас все скушал!
До чего неотесанная! Просто выродок, и все. Вот встречу ее одну где на улице, уж точно тресну… В деревне полагается друг друга воспитывать. И детям. Ребенок постарше должен о младшем побеспокоиться. И меня так воспитывали. Не один раз Лойзо Кулих давал мне щелчка. Раза два и ногой пнул, а однажды просто так, за здорово живешь, влепил мне плевок промеж глаз. Ну и что? Другой раз по крайней мере увернусь от задиралы.
Только я подойду к делу иначе. Оглянусь, не видит ли кто, а потом бац! Вот тебе, козявка этакая! И сразу же ее приласкаю: ах, ах, Зузочка? Что с тобой? Где ты ушиблась?
Погоди же, козявка, уж я тебе покажу, как меня деревня закаляет и воспитывает.
Но пока не стоит ничего портить. До святого богоявления не хочу никого злить. Гаспар, Мелихар, Валтасар, что, если бы вы чуть поторопились? Хочется разобрать елочку! Все равно на ней почти ничего не висит. На нашей и впрямь уже ничего нет, ну а с гульдановской наверняка достанется мне хотя бы несколько салонок[88], а то и рыбка какая найдется. Если и злюсь на что, так только на рыбок, вернее, на фабрику, где их делают. Ведь есть же олива, манка, розмарин, лавр и тамариск — что еще? — а вот именно рождественские рыбки должны быть пустые! Какую-нибудь розовую начинку могли бы в них положить.
А что рыбка?! Хрум, хрум! И нет ее. На всякий случай пока и с Зузкой стараюсь ладить. Пожалуй, зря ее тюкнул. Пошли они все вместе в костел, ну и я за ними увязался, якобы поглядеть на вертеп. И вдруг хлоп! Зузанка поскользнулась, чуете, а у меня зубы враз оскалились. Я не виноват! Правда! Зубы у меня всегда готовы в смехе оскалиться. Я и спрятать их не успел. Знаете, как она потешно на дороге растянулась. Я действительно сначала рассмеялся, а потом зубы быстренько спрятал, заметив, что при падении она рассекла нижнюю губу. Бедняжечка! Я пожалел ее. Я, честное слово, первый ее пожалел, а потом стряхнул с нее снег. Она, верно, здорово ушиблась, то и дело хваталась за локоть, а главное, развизжалась из-за того, что рассекла губу в кровь. Потом ей и вертеп был не в радость, хотя на него все ей указывали. Дали ей и медяк, а потом даже крону: пусть негритенку бросит. Если бросите негритенку медяк, он покивает головой. И меня дважды поблагодарил, ну я и оторвал от пиджака пуговицу: вот тебе, негритенок! И вдруг трах! У меня даже искры из глаз посыпались. Надо мной стоял церковный отец, синдик; здорово же он хватил меня костельным ключом! В голове у меня потом жуть как гудело, гудело еще на улице, но у Зузанки в кармане были две салонки — она хотела положить их в ясли младенцу Иисусу, только после беды, с ней приключившейся, забыла о них. А я то и знай ощупывал голову. Мне даже не верилось, что синдик ударил меня ключом. Казалось, будто жахнул меня клещами. У, душегуб! Нечего было такого и в синдики выбирать. Погоди, захочешь на небо, но святой Петр тоже в руке держит ключ, да еще какой, уж он тебе покажет, где райские врата! Зузанка меня пожалела — да ведь и я, когда с ней случилась беда, ее пожалел — и те салонки, что были для Иисуса, отдала мне.
Но одну вещь, знаете, я еще раз проверил. Если вас кто-нибудь как следует трахнет по голове, и впрямь искры из глаз посыплются. Раньше я думал, это просто такое присловье, но, когда синдик жахнул меня, искр, ей-богу, семь было!
А на другой день я еще раз это проверил. Пошел на пруд, пробую коньки, катаюсь на этих снегурках, и вдруг хлоп! Отшиб не только зад, но и головой об лед грохнулся — в глазах не то что темно стало, а прямо запылало. Из такой маленькой вербочки, что была на берегу, пламя так и выхлестнуло. Ох и огнище был! Только и сделал — дззн! И вся верба занялась. Я сперва думал, что в пламени явился мне Моисей, а ему снова тот, что ему уже однажды явился. Мне даже вставать не хотелось, сперва я и не мог, а потом меня ни с того ни с сего вдруг стошнило, отвинтил я коньки и сразу же побрел прочь от пруда…
Уже давно минуло богоявление и сретенье! Холода отпустили, с гор стаивали снега, солнце потихоньку, а может, и быстро растапливало их, превращало в воду, и она весело, ручьями и речками, мчалась в долины, а воздух сделался сразу таким пахучим и влажным, что здоровому человеку, будь он в эту пору на улице, хотелось орать во все горло.
Лещину тронул по меньшей мере два раза мороз; глупышка, бог весть почему она так рано проснулась? Но на межрядье в винограднике, на камежнике и в поле, опять же на межах, желтеет уже кизил, конечно, если где какой остался, если какой-нибудь баловник или сквалыжник его со своей межи или виноградья пока не вырубил. Зажелтела краше и плакучая ива, уж скоро выгонит листики, а у ракиты, знаете, может, вы бы и не поверили, но у ракиты уже висят такие сережки, чисто туфельки, — ох негодница! А пчелы так и кружатся! Все запорошенные цветью, и на задних ножках у них не то что комочки, а целые комья, аж комья пыльцевые, ажж-ажж шматы, шматы пыльцы. Они-то уж точно перепачкают цветью все рамки. Много и маток, и медуниц, говорю же, медуниц — ужас сколько! Видели б вы, как тяжело усаживаются они с пыльцой на леток. Неужто уже и нектар есть? У персика или миндаля? Едва ли. Из персика пчелы могли б и розовую сердцевину вытянуть. Эге, кабы хотели! Пускай уж берут поноску, пускай уж сейчас берут, хе-хе, по крайней мере летом раньше отроятся! А какой-нибудь дурашливый, хе-хе, иль нерадивый пасечник, что забыл в срок глянуть на пчел, будет потом, взопревши, метаться с дымянкой и ройницей, будет пыхтеть под деревом, а то попытается на него и взобраться, а если не выйдет, заругается или хотя б завздыхает: ну не олух я? Не мог будто и стремянку с собой прихватить?!
Бежит домой за стремянкой, да только пчелиный рой меж тем с дерева-то и улетит. Пасечник махнет рукой. А что еще ему остается? Да разве на том успокоишься: тьфу ты пропасть, они ведь и в прошлом году роились! Четыре роя у меня было. И один рой сел как раз на это самое дерево. В прошлом-то году на него я вскарабкался, а в этом году нет? Попробую-ка еще разок.
Пробует. Не получается! Не получается, и баста. В прошлом году получалось, а теперь нет? Да возможно ли?
Он становится под деревом и силится отгадать, в какую сторону рой улетел. Эх, кабы кто ему подсказал!
Но если он не дурак или умеет хотя бы как следует слушать, может, дерево и подскажет ему: прибавилось годичное кольцо!
Пасечник постоит там еще, отдохнет, поразмыслит, а когда пойдет домой, встретит знакомого, и тот спросит его: — Ну как? Откуда? И почему в такой славный денек призадумался?
— Рой улетел у меня!
6
Имро уже снова выходит каждый день из дому, иногда прогулки его и затягиваются. Если день погожий, выходит и за околицу — поглядеть на горы, на лес. Что из того, если он почти всякий раз с полпути возвращается. Но раза два ему все-таки удалось подняться в гору, взойти на бугор. У нас же не бог весть какие бугры. На любой нетрудно взобраться. В хорошую погоду любой ребенок может все обежать. Но Имро это изнуряет. На самый высокий бугор, что и не бугор вовсе, а отлогое взгорье, возвышающееся над деревней, можно подняться совсем просто, если подойти к нему кружным путем. А когда на нем был Имро, подувал и ветер. Имро вроде бы сделалось зябко. Но спускаться он не спешил: хоть немножко тут отдышусь! Ах, вон и дубняк просыпается, на деревьях набухают коричневые и коричнево-лиловые почки. Даже лопаются! Все уже пошло в рост: распускается, вздувается, надувается. Молодеют и хвойные, эка, вон там под сосенкой распустилась легочница, а внизу у тропки, где красиво и весело лиловел молодой грабильник, Имро углядел и зацветшую ветреницу.
Я должен выздороветь! Куда ни кинь глазом, все подымается, всходит, растет, все в движении, а я по-прежнему никак не раскачаюсь. Долго ли мне еще хиреть в немочи? Товарищи, даже те, что были на фронте и не успели раньше жениться, уже воротились — не все, правда, — но ежели пришли, так теперь обогнали меня, почти у всех дети, а я… Их ведь дольше не было дома: фронт, потом Восстание, а кто и в лагерях был, поди, натерпелись похлеще меня, их дольше не было дома, но, коль уж пришли, не они, а я кажусь в деревне чудным и чужим… Доколе мне хиреть?
А если я действительно хворый и не вылечусь вообще? Хотя особо недужным я себя и не чувствую. Наверно, просто усталый. Бог знает, что за усталость, однако усталый, да ведь они тоже, может, устали, только об этом не говорят. Недосуг им. Может, поэтому и не говорят. Иные вещи, места, а главное, людей я зачастую нарочно, может именно нарочно, обхожу стороной. А что, если это и есть моя хворь? Что, если здесь всякое: чуть и лжи, чтоб было удобней, и слабость, и лень, а чаще страх, страх, что придется некоторым обыкновенным, справедливым и смелым людям в глаза посмотреть? Что, если это и есть моя хворь? Что, если я вжился просто в то, что болен, хотя, может, давно и не болен, по крайней мере не так уж серьезно. Может, просто некому меня расшевелить. Некому на меня как следует зыкнуть, хотя сам-то я, если надо было, если было действительно надо, умел подавить в себе жалость и вдарить ногой по воротам, умел и высадить дверь и потом заорать на людей, пусть там были и дети, да еще навести автомат: «В бога душу вашу, словаки! Мы мерзнем в горах, нам жрать нечего! Дайте чего, не то худо будет!»
Это я умел. Однако нынче, нынче другое время пришло, а я не хочу себе в этом признаться. Нынче другое уже время.
С Вильмой и то я не поговорил по душам, и с отцом разговариваю, лишь бы он от меня отвязался, прежде все было иначе, чем теперь. Но я ведь там был, был в самой гуще, знаю, как погиб Карчимарчик и тот цыган, что когда-то отцу так приглянулся — он хотел его и на мою свадьбу позвать, — знаю, как погибли в один и тот же день кузнец Онофрей и мой друг Якуб, причетник из Церовой. Неохота об этом особенно и раздумывать. Но можно ли не раздумывать? Я был там и ничем не заплатил. Иные заплатили, заплатили жизнью, а я ничем, все только хвораю. Доколе, доколе еще? Когда же начну платить? Или хотя бы покажу, что недостоин этого долга? А если достоин, так кто тогда, ну кто подскажет, чем, почему, за что, кому и как надо платить, чем платить и как платить?
Размышляя таким образом и что-то решая для себя, он незаметно очутился в имении. Но здесь все по-иному, чем прежде. Все как-то запущено, заброшено. Или и раньше так было? Нет-нет, что-то здесь изменилось, очень многое изменилось.
Сушильни для кукурузы исчезли. Ни одной не осталось. Куда они делись? Может, и кукурузу уже не выращивают либо сушат где-нибудь в ином месте? Имро осматривается, но впустую — сушилен нет. Ну видишь, Кубко, мысленно обращается он к старшему брату, нету твоей сушильни, а мой сарай, эко, еще стоит! Крепко мы с отцом его сработали.
На доме управителя — замок, а на дверях табличка: «Склад». А под ней на другой, побольше: «Посторонним вход запрещен!»
Имро чуть медлит, а потом осознает, что и он тут посторонний — его же никто сюда не звал, — и бредет дальше.
Заглядывает в батрацкие дома, в один, другой, а в остальные уже не заглядывает, понимает, что и дома сменили обитателей. Не иначе как здесь поселились цыгане. Перед лачугой Онофрея выросла какая-то бетонная диковина, и Имро, в самом деле, пришлось бы поразмыслить, что это, кабы не вышла прямо из Онофриевых дверей женщина средних лет, не слишком красивая, но и не уродина, для цыганки даже довольно опрятная, и не заговорила бы с ним грубоватым, хриплым голосом: — Воды нету. Второй день. Нынче и света нету. Нынче все испортилось. И эта водокачка уже два дня не работает — лопнуло что-то. Труба вроде. Или кран, какой-то краник сломался. А этот олух Яно, он тут вечно мотается, наверняка опять назюзюкался, пришел чинить, да ключи потерял. Вы никак контролер будете?
— Нет. Я только поглядеть.
— На эту водокачку? Ее, уж поди, и починить пора. Видано ли такое? Этот придурок Яно, ну право, куда он годится. Дать бы ему под зад или хоть по роже. Надо же, ключи потерять, вот псих малахольный!
— Да я пришел к управителю. Не знаете, где его найти? — И вдруг сам вспомнил: Киринович теперь живет в Церовой.
— Этот тут не живет. Переехал в Церовую, он теперь большой пан. Еще боле, чем был. Работает в районе. А того молодого, что пришел заместо него, собака не сыщет. Никто и ведать не ведает, где он проживает. Но пошутить горазд, почитай, будет еще посмешливей и повеселей, чем Киринович.
И вдруг — возможно ли?! Кого же это Имрих не сразу приметил? По дороге к имению катит телега, а рядом с лошадьми, так же как всегда, так же как и когда-то, только теперь чуть сгорбившись и припадая на одну ногу, шагает Ранинец. У Имро глаза полезли на лоб.
Нет, быть того не может!
— Кто это? — спрашивает он цыганку.
— Ранинец.
— Ранинец?! Ранинец же погиб!
— Черта лысого погиб, эво, тут он.
Но в эту минуту уже Ранинец заметил Имришко и весело, подняв руку с хлыстом, приветствует его: — Здорово, Имришко! Я было думал, не придешь, что всех старых товарищей позабыл.
Вот уже Имро возле него, и они вместе подходят к конюшням. Ранинец распрягает лошадей, впускает их внутрь, оба хомута вешает на железные крюки, что вбиты прямо у дверей в грязную, растрескавшуюся стену, оштукатуренную крупнозернистым песком, затем привязывает лошадей, подсыпает им в ясли немного корму; а меж тем они вновь и вновь привечают друг друга.
Ранинец! Имро смотрит на него, словно все еще глазам своим не верит.
— Ей-богу, мне даже на ум не могло прийти, что я вас когда-нибудь увижу. Думал, погибли, думал, убили вас. Никто и не сомневался в этом!
— Эх, милок, а как же иначе! Многие дивовались. Не ты единственный. Меня уж и жена оплакала, а я в одну прекрасную ночь, когда все уже спали, возьми да ввались прямо в горницу, в постель к ней залез бы, не испугайся она так.
— Но ведь многие видели, видели, как вы упали, сперва раз, а потом вроде бы еще раз, и между тем жутко кричали. Я и сам слышал.
— Ясное дело, кричал. А кто бы не кричал? Я думал, что в меня стреляли, что меня уже застрелили, вот я и кричал.
— Как? А разве это не правда? Разве в вас не стреляли, разве не попали в вас?
— Как так не попали?! Попасть-то попали, только после. Сперва-то я кричал потому, что думал — не убежать мне, у меня ведь пузо, охо-хо, какое пузо, а тогда, по чести сказать, оно было у меня еще больше, где мне, милок, угнаться за молодыми? А потом меня что-то шарахнуло по голове, я хвать за голову, думал, вот оно, схлопотал, потому и закричал так, жуть как закричал, милок, так кричал, что у меня потом, ведь на бегу да с эдаким брюхом, даже дух перехватывало. А как видишь, не то было, дьявол, сам не знаю, что меня тогда по голове так жахнуло либо треснуло. Ровно кто камень в меня кинул или каким сучищем огрел по башке. Вполне мог быть сук. Были там вокруг какие-то деревья, ты-то ведь знаешь, дело было к рассвету, еще не очень-то и обеднялось, разве в этой полутемени, да и с отчаяния что путем разглядишь, тут недосуг было осматриваться. Вряд ли кто сидел на дереве, поджидая меня, чтоб какой здоровенной палкой по башке трахнуть! Но вдруг что-то кольнуло в бедро, дьявол, и как! А может, бог весть как и не кольнуло, только я враз кричать позабыл, враз завалился, истинный крест, это и была та самая пуля! А вы тогда, вы все обо мне думали, что мне крышка. И могла быть крышка. Уж и не знаю, крикнул ли я еще потом что кому, пожалуй, и впрямь уже нет, потому как эти гады на дороге все еще по кому-то стреляли и кричали, должно, кричали и заместо меня. Не дамся вам, ей-же-ей, не дамся, пускай лучше мне будет капут, да только мой капут, одурачу вас, прикинусь, что скапутился, а сам-то и не скапучусь. С минуту лежал я недвижно, а потом вроде бы струхнул! А что, если они идут за мной, что, если найдут меня здесь и сделают мне взаправдашний капут? Отполз я подальше, выбирать-то особо не приходилось, углядел я там какую-то дорогу, проселок вроде, да и того испугался, пополз по канаве, пока не дополз до моста. Такой это приземный мостик, две, а то, может, и три бетонные трубы. Дальше-то я уж по этой канавке не решился ползти, пришлось довериться мостику, да вот трубы эти для моего брюха оказались узки, не боле, чем трубочки, ну а для моей ноги, этой одеревенелой ножищи, они и подавно были узехоньки, уж я ее и так и сяк перевертывал, хотел ее как-нибудь умостить. Вот черт, думал я, хоть униформы меня тут и не сыщут, а все одно сдохну в этой трубочке, мостик меня погребет, найду я тут свою могилку. Долго я там не торчал, а все ж таки и того сполна хватило. Милок, а главное что! Вылезти потом оттудова не мог. Голова снаружи, а живот все еще в этой бетонной опояске, ну никак мне не управиться, ведь тут обе ноги требуются, чтобы ими путем опереться и как-нибудь вышмыгнуть, протолкнуться, а вот как? Ежели мне их даже не согнуть было. Хоть одна нога и работала, а что толку, вторая-то — никуда, одна обуза. Да еще лапы мои внутри остались, с ними тоже сладу нет, потому как и плечищами бог меня не обидел. И вдруг слышу, пищит что-то. Что пищит, где пищит? С минуту не двигаюсь, а заслышав, что писк все сильней и будто где-то, скорей всего на дороге, что-то слабехонько погромыхивает, думаю: должно быть, какая тележка или телега, тачка, вот те колесико либо колесо и попискивает. Сказываюсь, прошу: «Помогите, люди добрые!» И потом опять, по крайности разов пять, пришлось мне кричать. И вдруг стоит надо мной этакая пригожая бабенка, глаза таращит, понять не может, как это угодил я туда, что думать ей обо мне прикажете. «Помогите, богом прошу!» — «Господи боже, да что ж вы там делаете? Что с вами сталось?» — «Болящий я. Раненый. Нога у меня болит». Помогла, бедняга. Задал я ей работы. Ну а после, когда я все ей объяснил, помогла мне взобраться на тачку, потому как была то ни телега, ни тележка, а шла она с тачкой рано утречком, может, даже так рано и не было, шла в поле бобы собирать, ну и по дороге на меня наткнулась. Самому-то мне никак бы и не вылезти из этой трубы, не снять с себя этой чертовой опояски. Вот те крест, посейчас не пойму, как это я умудрился влезть туда, влезть-то я влез, а вот вылезть — черта с два! Прикатила она меня на тачке в деревню, и враз сбежалось во двор к ним полно соседей, соседок, все меня обглядывают, перешептываются: «Партизан, партизан!» «Люди добрые, гляньте, ну какой я партизан! Я всего-то обыкновенный работник, крестьянин, батрак из Церовой, почитай, победней любого из вас буду. Настоящего партизана я пока и в глаза-то не видел. Удумали мы идти с товарищами в Бистрицу, а видите, получил я свое уже по дороге. И о товарищах ничего толком не знаю, не знаю, который жив, который помер». Собрались они идти за лекарем, а я так и обмер: ну как с лекарем и немец придет? Ан не пришел ни лекарь, ни немец, а привели они всего-то обыкновенного деревенского олуха, видать, перед этим он как раз в навозе копался, потому как был порядком замаранный, грязнее меня, и смердел больше, и не только навозом — навоз-то знаком мне, знаю, как навоз пахнет, ведь, ежели речь идет и впрямь о навозе, от него редко когда батраку смердит. А этот мужик смердел больше, чем тысяча свиней, а в руках у него были всяческие скляночки и бинты и еще разная хреновина, сказывали мне, будто он брат милосердия, он им и прикидывался, однако ж враз набросился на меня: «Ну видишь, брюхан? Надо тебе это было? Вот кабы все на тебя теперь плюнули! Зачем туда лез, скажи, кто тебе приказывал? Не совестно тебе своих людей изводить?» Спервоначалу у меня даже язык отнялся. Как может он так меня поносить? Околеваю от боли, а он орет на меня, а потом таким же манером меня и пользует. Дикарь, да и только! Форменный душегуб! «Слышь, братец, я же боль перемогаю, я же никому ничего, вот те крест, я же не супротив своих, я ведь своим помочь хотел». А он на меня: «Заткни пасть, не то как тресну тебя! Вот бы президенту на тебя поглядеть, понял бы, какие супротив него герои!» — «Не был я героем и никогда не буду. Я своим хотел помочь». А он: «В бога душу твою, заткни пасть!» — и ударил. «Кто тебе свой? Я тебе свой?» И опять ударил, два раза ударил. «Божий человек, коли хочешь, можешь меня обидеть, так я ему сказал, можешь меня и убить, ведь сам видишь, не могу за себя постоять. В твоей воле погубить меня или миловать, но слово твое несправедливо». — «Еще рассуждаешь тут! Я с президентом, а ты супротив него. Наших убивал». — «Пускай бог меня покарает, коли это правда! Я никого не убивал!» — «Так он же тебя покарал». — «Покарал, но не за то, что я убивал. Выслушал бы ты меня, может, и сам бы признал, что я малость прав. Я не только о президенте думаю, а еще и о других, обо всех, и о себе, чтобы самого себя не стыдиться. Я хотел наших защитить». — «Каких наших? И против кого? Где они, немцы? Покажи мне тут хоть одного! Ведь немцев здесь и не было!» — «Да ведь и я тут до сей поры не был. Дома был, в церовском имении, с лошадьми ходил, всегда пахал и сеял на совесть, а когда косили, свозили и молотили, следил и за тем, чтобы ни зернышка попусту не пропало, хотя я всего только батрак, а рассуждай я без понятия, мог бы и сказать себе: это же не мое, зачем мне так радеть об этом зернышке». Между тем душегуб этот, поистине без всякой мало-мальской жалости, очистил и обвязал рану, а когда я кой-как оделся и застегнулся, ему, видать, сызнова захотелось тюкнуть меня. «Проваливай! — заорал. — А ежели отсюда не уберешься враз и никто не донесет на тебя, я сам на тебя донесу. Топай к себе, рана у тебя плевая! Но иди домой да оглядывайся, не ровен час снова зло меня возьмет, тогда подошлю к тебе кого, свернет он твою поганую иудину шею!» Ну я и припустил, ох и припустил! Прохиндей чертов, как же страшно он меня ненавидел, жуть как должен был меня ненавидеть, сказал, что у меня ничего, а, видишь, по сю пору хромаю и уж до смерти буду хромать. Благодарение богу, это еще не самое худшее, за лошадью поспеваю ходить. Другим и вовсе лихо пришлось. О Карчимарчике ничего не знаешь?
— Пожалуй, не больше вашего.
— Ему, бедняге, первому досталось. Другим — тоже, только попозже. Шумихрасту сразу же после войны удалось воротиться, и Мичунек пришел, Мигалкович пришел немного поздней, якобы где-то скрывался, наверняка где-то какую зазнобу нашел. Такой тихоня подчас особо себя не выказывает, а воду, так сказать, замутить может. Пускай я хромаю, да хоть ничего из себя не строю. Сызмала любил лошадей, при лошадях и остался. Покуда жив, буду пахать, боронить и окучивать, косить и свозить, а потом снова пахать жнивье, пшеничное иль клеверное, кто любит землю и лошадок, тому их и обряжать, тому недосуг языком молоть. Не думай, из тех, кто воротился, в имении ни одного не осталось. Только я тут да Габчова Марта со своим мальчонкой. С Доминко. Вот я и принес тебе, Доминко, вот и принес обещанное! Славную медаль прислал тебе папка с дядей Ранинцем. Отслужили circumdederunt[89] по Габчо заедино с Карчимарчиком. К Марте-то уж заходил? А нет, так пойдем заглянем к ней!
Они подошли к дому Габчо. Попробовали открыть дверь, но она была заперта.
— Да, кроме цыган, здесь теперь никого не найдешь, — сказал Ранинец. — Марта живет здесь, а работает в другом месте. На прядильне. Каждый день ездит в город. Должно, и сейчас на работе. Где ж ей еще быть? Если выберешь когда время, навести ее, увидишь, как обрадуется. И не забудь потом ко мне заглянуть. Меня-то всегда тут найдешь, чего уж. Я люблю лошадей. Лошадей и меня в имении завсегда найдешь.
7
И Имро, шагая из имения домой, чувствует себя усталым, хотя и довольным. По сердцу ему все, что он видит вокруг, и ему кажется, что и в дальнейшем будет все хорошо.
Ведь в общем-то все, как прежде. Природа не изменилась, она такая же. Сосняк все так же хорош, и в нем по-прежнему белеют березы. Неплохо бы нарезать тут на березовую метлу, будет у Вильмы чем двор заметать, старая-то метла, поди, совсем истрепалась.
А к Вильме надо быть повнимательней. Конечно, надо бы ее и как-то уважить, вот уж впрямь было бы кстати. Надо больше думать о ней. Я же люблю ее, да она и заслуживает того, чтоб о ней думали. Вокруг меня одни добрые люди. Буду к ней повнимательней. И прямо с нынешнего дня. Женщине-то иной раз только и нужно, чтобы ее обняли или чуть приласкали, похвалили, хорошее слово сказали, пусть она его и не просит, подчас хорошее слово достаточно лишь вернуть, ну а потом, хоть изредка, когда-когда хорошее слово и добавить.
Вон березки, ей-богу, хорошо бы сладить из веток метлу. А впрочем, ну ее, эту метлу, к лешему! Для чего тогда метельщик ходит, для чего таскает на спине метлы?! У метельщика надо метлу купить, хоть поклажи у него будет поменьше, не умается так. В самом деле, надо у него метлу купить, по крайней мере этот смешной и веселый дедка заработает!
Дома, однако, о своем добром умысле он как бы забыл, но веселость его не покинула: он насвистывал еще и тогда, когда входил во двор. И Вильма заметила, что он немного другой, чем обычно, пожалуй в добром настроении, а таким он нечасто бывает.
Он и за столом был веселый, ел в охотку — на прогулке ведь изрядно проголодался. Не понадобилось ему и притворяться — все нахваливал, хотелось и пошутить, просто так, чтоб развеселить Вильму, однако ничего подходящего не приходило на ум, и он знай расхваливал прогулку, рассказывал, где был, что видел, с кем встречался, а меж тем не забывал и про еду. — Здорово же я проголодался! Да и протопал порядком, ну а в имении, представляешь, Ранинец! Я даже глазам своим не поверил — так меня это огорошило. Хорошо, что встретились, надо будет еще как-нибудь его проведать. Захочешь — вместе пойдем. Можно бы когда и прогуляться в имение. А знаешь, там даже весело. Живут там теперь, поди, одни цыгане, больше женщины, цыганки, а ругаются — только держись! Решили, что я пришел водопровод чинить. Бранились, чертыхались, но так это забавно, по-цыгански. У некоторых веселый такой разговор, я люблю их послушать. Ох я и насмеялся. Туда я шел напрямки, сперва думал сходить в лес, каких грибов поискать. Да заприметил на Перелогах колодец с журавлем, ну и пошел по церовской дороге. И тебе ведь нравится этот колодец? Мне он всегда глаз радовал, он там к месту, уж издали виден. Люблю колодцы в поле, колодцев в каждом поле должно быть вдосталь, но которые с журавлем еще и потому людям нравятся, что они как бы окликают их. Издалека журавль заметишь. Да там кто-то утащил ведро с коромысла. А может, просто сорвалось и упало в колодец. Так уж и некому ведро привесить? Хотел напиться — не смог, вот и пошел в имение, но и там та же картина. Старый привод, что всегда кони раскручивали и тянули им воду из колодца, нынче забросили: дескать, это примитивно, дескать, только вечером бывала вода, целый-то день лошади не могли привод раскручивать. Теперь там водопровод и какая-то бетонная будка, водонапорная башня, что ли, внутрь-то я не заглядывал, закрыта была, но думаю, насос там. В имении нынче и электричество, хвастались люди, но ругались, что водопровод с неделю как не работает. А Ранинец меня и впрямь огорошил. Пойдем как-нибудь навестим его. Можно и по грибы наведаться. Мне не попались. Правда, я только чуток лесом прошел, а потом махнул через луг, но лесок оттуда как на ладони, хорош лесок, аж до той каменной дороги, где он подступает к самой горе, в общем-то, одна эта дорога и отделяет лес от взгорья. Когда-то там, прямо на обочине у той тропки, что ведет к деве Марии, стояли три огромных дуба. Там бывали гулянки. Прежде так и говорили: будет гулянка «У дуба». Целый лесной колок так называется, а ведь все думают именно о том пятачке, который тоже теперь зарастает, да еще о дубраве, обо всей той полосе, вплоть до нижнего дубняка, где уже начинается «Заполье». А вот таких могутных дубов во всей округе не было, и, думаю, уж не будет. Где нынче время расти таким великанам! Жаль дубы! А все же краше всего сосняк, тот сосновый лесок, что подходит почти к имению, он хорош и со стороны имения, и с лугов им любуешься, ведь когда идешь по тропинке вдоль перелогов, так бы и махнул в этот лесок, а если случается оттуда идти, с радостью туда б воротился — до того хороши эти деревья, деревца, сосенки! Дубцы и дубки там словно в гостях, а белые березки, хоть и редки в лесу, зря хоронятся.
С минуту он улыбается, все еще вспоминая прогулку и лес. И главное, березки. Н-да! Зря, березка, хоронишься, заметят тебя, повсюду заметят, ты же белеешь. Углядят тебя и дети, зная, что платье на тебе из бумаги, они любят писать по тебе карандашами и ножиками, особенно позже, когда из мальчишек уже вымахнут парни, они и раскачают тебя, а потом, став уже совсем взрослыми, они вспомнят о тебе лишь тогда, когда метла им понадобится, чтобы двор подмести.
— Сходим как-нибудь прогуляемся. А обед нынче хороший. Правда, проголодался я сильно, но дело не в этом. Ты нынче вкусно все приготовила.
А потом ему казалось, что слова его звучали не так, как хотелось, не весело и не радостно, казалось ему, что он болтал языком, как обычно, а ведь собирался что-то другое сказать. Плохого, конечно, он ничего не сказал, но для него самого все это звучало не так, как хотелось. И неубедительно вроде бы, и не о том. Будто этими словами пытался подменить нечто такое, что не удавалось высказать вслух.
Но Вильма внимательно слушала, раза два невольно улыбнулась, а когда Имро доел, еще чуть посидела, потом встала и принялась собирать со стола.
Имро глядел на нее, думал еще что-то сказать ей, сказать что-то ласковое, ласковее обычного, порадовать ее каким-то иным, более добрым словом. Вильма не глядела печальной, но все равно. Хотелось еще что-то добавить. Возможно, и потому, что хотелось и себя успокоить, да и Вильму как-то обласкать, от души обласкать, а может, и рассмешить. Но как и почему, почему именно рассмешить? Разве нельзя как-то иначе ее отблагодарить? Пожалуй, и правда ей надо сказать что-нибудь хорошее. Вдруг ему захотелось Вильму погладить. Кабы она сидела поближе, наверно, в эту минуту он бы ее и погладил.
Вильма встала и начала собирать со стола грязную посуду.
Имро было шевельнулся, но лишь потому, что засмотрелся на Вильму, ему показалось, что и он встает вместе с ней. Однако остался сидеть. Хотел ей сказать еще что-нибудь, но ничего не сказал. Впрочем, нет, сказал, но опять какую-то ерунду: — Если вдруг пойдет по деревне метельщик, тот дедка, что иной раз тут проходит…
— Я уже купила, — перебивает его Вильма.
Имро даже немного теряется; — Купила? — Он глядит на нее большими глазами. — А я думал, у нас только старая и что хорошо бы у этого дедки купить, по крайности не пришлось бы ему с таким тюком таскаться. И кронку бы от нас получил.
— Уже получил. — Вильма взглядывает на Имро, собирая со стола посуду. — Я две купила.
— И у него? У этого дедки? Он все еще ходит?
— На прошлой неделе был тут… Крепкий, еще продержится. В пятницу прошел по деревне. Заглянул во двор, я сразу две и взяла. И поел у нас.
— Серьезно? В пятницу? У того самого дедки? А я и не заметил.
— Что?
— Ну эти метелки.
— Да они под навесом.
— Так, стало быть, две? Ну хоть за две получил. Сгодится ему. И сам просил?
— Что просил? Это я спросила. Не задаром же отдаст он метлу, ну?
— Нет, я спрашиваю, хотел ли он есть, может, просил чего.
— Я сама ему предложила. Но не за метелки. За них я заплатила. Небось догадалась, что в дороге проголодался.
— А он не отказался?
— Съел.
— Добро. Знаешь, из какой дали дед сюда топает? Как-то зимой пошел я срубить потихоньку елочку, а в лесу снегу навалом — я даже не знал, в какую сторону податься, подумывал было, что и елочка-то мне ни к чему, наверняка у кого лишняя найдется, либо Якуб с Ондро какую срубят. А снегу намело — горы! И мор-роз — жуть! И вдруг, что же это колышется? Что бы это могло быть? Гляжу, вроде сноп, но какой такой сноп? Никак метлы? Серьезно, сперва я эти метлы приметил, а потом уже и деда. Просто не верилось, что это человек. Теперь-то я хлебнул холода, знаю, что такое холод, но тогда я был еще парнишкой и подумал: ей-богу, дедок, я бы за такое не взялся! Хорошо, что ты его угостила. Наверняка был доволен. Такой дед особо и не манежится, его легко уважить.
— Пришел поутру, вас уже не было, я и дала ему чашку кофе.
— Чашку кофе? А знаешь, что такое чашка кофе? Ежели к чашке кофе получишь еще шматок хлеба — что еще нужно? Может, это пустяк, но за такой пустяк, случается, и руку кому поцелуешь. Теплый кофе, теплый чай! Да будь это хоть тепленький кофе с молоком, он, Вильма, и то иной раз золотого стоит. И такой цены нет, даже если человек и не бедствует. Главное, было бы кому предложить эту малост малости ь. Люди не дорожат этим, особенно когда им хороню, когда кругом тишь да гладь, потому как в этой тиши да глади тебе обыкновенно кажется, что малость — это всего-навсего малость.
Имро внезапно умолк. Словно бы на мгновение удивился или задумался над собственными словами. — Ну и разболтался я, — улыбнулся он. — Ни дать ни взять тата. Вот ведь, редко когда с тобой разговариваю, не говорю много, но иной раз придет на ум… — Имро невольно сделал несколько шагов и, посмотрев на Вильму, встретился с ней взглядом. — Я все кажусь тебе, наверно, неблагодарным, Вильма?
Она держала в руках кастрюлю с супом. Улыбнулась удивленно: — С чего ты взял?
Они с минуту глядели друг на друга, и Имро невольно снова почувствовал, до чего она близка ему, но выразить это словами было вроде неловко, даже глупо. Ведь уж за одну эту улыбку полагалось бы ее обнять!
Он сделал шаг, вернее, два, погладил ее по плечу, потом обнял, но лишь одной рукой, и вскоре отнял ее, словно опасался, что Вильма поставит кастрюлю на стол и ему придется обнять ее обеими руками, и, пожалуй, обнять по-другому.
— Не тревожься, я тебя очень люблю! Правда, очень! — Он сжал ей плечо, и на этом все кончилось. А потом повторил еще раз: — Если хочешь, пойдем вечером погуляем!
8
Начал он ходить с отцом и на работу, правда особенно мастеру не помогал. Да мастер сперва не очень-то на него и рассчитывал. Главное, чтоб Имро потихоньку опять втягивался в работу или хотя бы приохотился к ней. Мастер без такой подмоги легко обошелся бы. Иной раз приходилось ему прибегать к сторонней помощи. А впрочем, даже всегда. Всегда к сторонней помощи. Ведь если захочешь поставить дом, а на этот дом — кровлю, ой сколько надо натаскать бревен, а из этих бревен вынуть, высвободить столько брусьев, балок, прогонов либо поперечин, в общем-то целый венец, да и не только его, брусок к перекладине, подкос к подкосу, затяжку к затяжке, подвески, полицы, распорки, висячие стропила, бог ты мой, столько перекладин и перекладинок, ну может ли одного человека достать на все это?
Частенько мастеру и подсобляют, но ему все кажется, что работа у него спорится медленно, правда, годочки тоже дают себя знать, так что, хочешь не хочешь, а приходится рассчитывать и на посторонних, порой и на посторонних, для которых что-то делаем, ведь, собственно, для кого мы трудимся?
А мастер, раз он мастер, не смеет слишком щадить людей. Если речь идет о работе, так пусть работа идет. Где же еще может, а то и должен мастер показать, что он действительно мастер? А ежели кто подмастерье, так пускай слушается, подмастерничает, не то заново учится. Да хоть бы он был — а он и есть — родной сын, пускай заново учится. Раз хочешь быть подмастерьем, а потом мастером, учись, дружок, тебе надо учиться! Я мастер, человек с понятием, но ты, сынок, должен учиться! Заново пообвыкнуть в работе. Человек разве может без дома? Дома нужны. Знаешь, сынок, сколько на свете людей, и каждому хочется где-нибудь жить, так что ты, сынок, сделай милость, если и забыл, чему я тебя учил, будь добр, начни сызнова! Знаю, у тебя нету сил, но все равно, размельчи хотя бы кирпич или кусок кирпича, чтобы путем мне шпагат натянуть. Подержишь его, а я брусок им припорошу.
Черт возьми, Имро, да помоги ты наконец!
9
Вильма очень этим гордится. Теперь у нее и времени хватает. Хоть работы невпроворот, а кажется ей, что спроворила бы еще больше. И со стряпней она уже головы не ломает. Не то чтобы перестала готовить, нет, напротив, постоянно что-то выдумывает, все кухарит, кухарит, и, чем больше блюд выдумает и обычно их приготовит, тем быстрей все у нее спорится, да и вкусней все. Что же случилось? Что могло случиться?
Она и за садом приглядывает. И все у нее сразу зацвело или хотя бы пошло зеленеть. Поначалу были первоцветы, самые разные: коричневые и коричнево-красные, лиловые и цвета цикламена, а цикламеновых — больше всего. Прошлый год пошла покупать первоцветы и поначалу не знала, которые выбрать. Столько же их там было! Особенно этих, цикламеновых.
Но какие, какие из них выбрать, когда их уйма. Когда и глядятся одинаково. У каждого немножко иная сердцевинка, где сердцевинка маленькая и почти белая, где — вы же их видели — сердцевинка темно-красная или красная переходит в оранжевую либо в желтую, а то в белую и уж потом в цикламеновую.
Самые, однако, занятные — коричнево-лиловые, да их мало. Желтых у нее достаточно, но их найдешь в любом саду, а Агнешка даже говорила, что и в Турце растут такие же первоцветы, правда чуть бледнее, и притом где хочешь на воле. Ведь в Турце и сон-травы больше, чем здесь, уже с весны на камежнике распускаются сон-трава и первоцветы, и первоцветы всегда возле этой лиловой пушистой сон-травы, только на камежнике они цветут чуть по-другому, у них темно-желтый, сильно пахучий цветок и бледные серо-зеленые гладкие листья.
Есть у нее и тюльпаны. Сколько же у нее всяких тюльпанов! И ирисы она попересаживала, и которые уже цветут, зацвели сразу же после анютиных глазок. И барвинок… хотя бог с ним, с барвинком! А у ограды посадила она лавр, раньше там был розмарин, но тот посадила еще Имришкова мама, чего-то он только не принялся. Вильма подыскала для розмарина место получше, даже два, и теперь розмарин у нее в двух местах. И до чего миленький! Вот бы кому жениться либо замуж идти! Гладиолусы и белые лилии она хотела посадить еще прошлый год, да недосуг было, нынче сходила к маме и к Агнешке и столько их понасажала! Да вот зацветут ли?
Садика ей даже мало. Имришко опять выходит из дому, а она привыкла что ни день его обихаживать. Она и теперь, конечно, его обихаживает, но уже немного иначе, ее уже на все хватает, гм-гм, уже на все хватает. Прошлый год, хотя овощи и посадила весной, а позже и прополола, по осени не успела их выкопать. Но нынче опять где посеяла, а где посадила, петрушка вон уже всходит, если все уродится не хуже петрушки, на грядках овощей будет хоть завались.
На задах у нее ковер земляники. А что это там посреди земляники вымахнуло? Право слово, медунка. И откуда взялась тут? Сперва она хотела ее вырвать: думала, сорняк, а потом получше ее разглядела, даже пощупала мохнатые ее и липкие листья и решила оставить: медунка все-таки для чего-нибудь да сгодится, а вдруг какой ребенок случайно лодыжку вывихнет? Всякое может случиться. А может, и для Имришко такая трава будет пользительна. И для других, ведь не обязательно же всегда сразу о переломе думать, она и для глаз приятна, у нее ведь красивый цвет, почти как у яснотки, даже крупней, и всегда о нем пчелы знают, наверняка и пчелы дивуются, почему она цветет среди земляники, откуда взялась там.
Тут же возле земляники Вильма посадила картошку. Раннюю розу. Сперва она ее разрезала, конечно только большую, маленькую к чему разрезать, но иную только потому резала, что в руке у нее был ладный ножик, а картошка была такая свежая, внутри розоватенькая, посередке чуть меньше, а у кожуры прямо-таки темно-розовая, и каждая пускала росток, даже много ростков, словно каждый в руке у нее хотел сразу вымахнуть. Она думала посадить и фасоль, да ей отсоветовали: фасоль, дескать, замерзнет, прихватит ее Жофия[90], ну она и послушалась умных людей, хотя немножко их обманула, и впрямь только немножко, словно бы хотела с Жофией лишь пошутить, раз-другой тяпнула мотыжкой комковатую, но вполне взрыхленную и уже теплую землю, сделала несколько лунок и в каждую бросила по нескольку пестрых фасолек: ну, Жофия, теперь поглядим, кто первый в Околичном будет есть стручковую похлебку или соус.
Про незабудки и люпины мы почти забыли. Но это все потому, что их у нее за глаза хватает. Правда, они и возле овощей, и возле картошки, разумеется не прямо на грядках, не середь картошки, но все равно где только можно, по обеим сторонам стежек и дорожек. Их даже и поливать нет надобности. Некоторые околы — пожалуй, потому, как прошлый год ей недосуг было, — до того загустели, что теперь сами удерживают влагу. Ничего, Вильма их проредит!
Новость, а теперь новость! Вильма подыскала себе работу! На ее попечение отдан общественный парк. Она еще и не начала за ним ухаживать, а уж видно: попал он в хорошие руки. Но подождите сколько-то годочков! Околичное будет все в цвету. Розы она умеет привить и сама, живую изгородь каждый год и мастер с Имришко ей помогут остричь. И газон выкосят. Ну а цветки — вот увидите! Правда, сперва Вильме придется побегать, поозорничать и по чужим садам, хотят люди иметь красивый парк — так пускай раскошеливаются чем могут, а тогда уж и будем говорить о том, сколько в Околичном цветов, сколько пестрых околов, а главное, голубых, незабудковых…
10
А Имрова работа подчас немногого стоит. Он охотно бы отцу и больше помог, ведь и надо бы, да куда ему, долго он не выдерживает. Хоть и размахивает топором — получается тюканье, не больше. Мастер все видит, видит и то, что сыну и такая детская работа не по плечу.
Имро и сам часто в этом признается. Даже тогда, когда они с отцом ничего особенного и не делают. — Это пока не по мне. Устал я. Не так, правда, как уставал в прошлом году. Давно не работал. Пообвыкнуть надо.
— Пообвыкнешь, Имришко.
А когда он чувствует себя очень усталым, остается дома.
Слоняется из угла в угол, хочется — подремывает, а не хочется спать и дома надоедает, становится уже невмоготу топтаться из кухни в горницу, потом во двор, в сад или даже на гумно, то выходит он и на улицу, прохаживается туда-сюда.
Иногда немного помогает Вильме, поливает цветы в парке, неделю тратит на то, чтобы подстричь живую изгородь, уж очень она запущена, лучше его, пожалуй, только Вильма могла б это сделать, однако с той разницей, что управилась бы с этим за день, самое большее — за два.
Иногда он просыпает целый день, а все равно чувствует, что не выспался, тогда и вечером раньше отправляется на боковую.
— Все из-за этой хмары! — утешает его Вильма, и если в этот момент она и сама немного хмурится, так только потому, что злится на небо. — Наверняка опять упало давление. Увидишь, как завтра либо послезавтра небо прояснеет, тебе опять легче станет.
И это действительно так. Если Вильма и раньше любила голубой цвет, то теперь она любит его еще больше. И Имро его полюбил. И она теперь чаще смотрит на небо, чаще, чем прежде.
А поскольку оба, и даже, пожалуй, сам мастер, изо дня в день, обыкновенно прямо с утра, глядят на небо и если дело, похоже, к дождю, утешают друг дружку, словно бы хотят этим голубым меж собой поделиться, то и не диво, что Вильмин сад вдруг почти весь заголубел — в нем уже уйма больших, маленьких, мелконьких и вовсе малюсеньких, синих и белых, а главное, голубых цветков.
И деревенские дивятся: как мог их парк за столь короткое время так измениться. Да и чужие, что приходят в Околичное, нередко останавливаются: до чего у вас тут красиво! Как зелено, свежо, все в цвету, где пестреет, а где голубым голубеет!
Вильма при таких словах хорошеет. А как не хорошеть? Кого бы похвала не порадовала? Но на самом-то деле Вильма потому хорошеет, что чаще на воздухе. Работа ей на пользу.
И Имро, право, и ему работа понемногу начинает идти впрок. Снова он постигает движения, которые позабыл, от которых отвык, но теперь он осваивает их, а с ними обретает и прежнюю ловкость. Вот только приходится чуть больше сосредоточиваться на работе, углубляться в нее и не разговаривать, поскольку для разговора Имро нужна иная сосредоточенность, чем для работы.
Но совсем без разговоров все-таки не обойтись. Мастер иной раз, завидев, как его подмастерье мается с балкой, окликает его: — Отдохни, Имришко! Куда нам спешить.
Имро поднимает голову. С минуту дивится, почему это отец ему помешал, а потом, как бы признав, что пора и отдохнуть, садится на балку и прижигает сигаретку.
Оба курят. Отдыхают.
— Торопиться-то особо некуда! — подбрасывает мастер.
— А мы и не торопимся, — отвечает подмастерье.
И опять оба молчат. Курят, отдыхают.
— Знаешь, Имришко, что я тебе хотел сказать? — чуть погодя снова отзывается мастер. — Надо бы тебе с Вильмой быть малость поласковей. Не скажу, что ты неласковый, но мог бы быть и поласковей. Когда-никогда найти для нее и слово получше. Побольше хороших слов.
Имро делает вид, что не понимает отца:
— А мне вроде не кажется, что я неласковый.
— Да я и не говорю этого, — мастер подходит к подмастерью осторожно, — но думаю все же, ты мог бы сказать и больше, больше хороших слов. Да ты понимаешь меня. Не хочу к тебе с советами лезть.
— Сердится она на меня? — удивляется Имро.
— Упаси бог! — успокаивает его мастер. — За что ей сердиться? Мне никогда на тебя не жалуется. Хорошая она девка. Обихаживает нас. Обоих. И тебя и меня. Ты должен думать о ней.
— А я вроде и думаю, — пожимает плечами подмастерье.
— Так думай больше, — стоит на своем мастер, но опять же бережно, чтоб ничего не напортить. — Думать должен, Имришко. Она того заслуживает.
Курят. Отдыхают. А докурив, молча опять берутся за работу.
11
Как-то раз он снопа подался в именье. Возможно, и сам не знал почему. Пожалуй, хотелось пройтись, а то, может, снова повидаться с Ранинцем. Хотелось с ним повидаться, но на сей раз не было ему удачи — Ранинца он так и не увидел.
Зато повстречалась ему Габчова. Сперва его не узнала, а потом пригласила в дом.
— Одна живете? — спросил он, усевшись за стол.
— Одна. С Доминко. С сынишкой. Ходит уже в школу. А мужа нет. Убили его, вы же знаете. Постойте! Да ведь вы тоже с ним были. — Она подсела ближе к нему. — Ведь вы с ним были. — И сразу в слезы. — Видите, какая я глупая! Вот всякий раз плачу, хоть и привыкла. — Слова выплескивались из нее, иные фразы она не договаривала, хотела разом все выложить. — Дали мне квартиру управителя, он-то живет теперь в Церовой. Там у него и квартира, и канцелярия. И я работаю теперь в канцелярии, — похвасталась она. — Живу лучше. Все есть, видите вот… — И опять на глазах слезы. — Сейчас пройдет. — Она поискала платок и, не найдя его под рукой, пошла взять из шкафа. — У меня все есть, только мужа нет. Ну скажите, надо ему это было?
Что тут ответишь? Об этом вот так, второпях, и не поговоришь.
— Знаю. Я ведь не ругаю его, даже зла не помню. Что толку злиться? А все равно. — Она помолчала. Потом шмыгнула носом, утерла платком глаза, затем нос — Я любила его, любила, пусть он и плохой был. Часто бил меня, хотя бог знает… Может, и не был плохим. Другие мужчины тоже ведь не мед.
Она выговорилась, а потом и Имро пришлось рассказать все, что знал о Габчо, рассказал он и о себе, и о своей болезни.
— Я сразу догадалась, что с вами неладно что-то, сильно вы изменились. Я сразу заметила. Поначалу вас и не признала.
Разумеется, всего о себе он ей не сказал, но она сумела и домыслить. — А работать-то можете? — спросила.
Он пожал плечами. — Не шибко. В общем-то нет. Пока еще много не наработал. Очень быстро устаю.
— И вы лежали?
— Лежал.
Потом она вспомнила: — Ах да. Ведь я знала. Говорили мне. И Ранинец говорил.
Она на минуту задумалась. — Дали мне клочок земли. Хотела строиться. Да вот как…? Кой-чего мы припасли с мужем, немного, самую малость. И сейчас приходится откладывать. Увидим. Может, люди и не будут над нами смеяться! Другие-то решаются, отчего бы и мне не решиться? Ладно жизнь у меня пропащая, так пускай хоть Доминко что достанется, пускай хоть мальчонке будет получше. Вы даже не знаете, как я рада, что с вами встретилась. — Она улыбнулась заплаканными глазами, и Имро видел, что говорит она искренно.
Когда он уходил, Марта вышла его проводить. — Если случайно у вас когда будет время… — Она поправилась: — Если случайно когда придете и не застанете Ранинца, заходите. Можете у меня подождать. Ведь вы с мужем были товарищи, — У нее снова осекся голос. Она говорила голосом, в котором было немного радости, слез и жалости к себе: — Можете и ко мне зайти. Ведь вы с мужем были товарищи!
12
А раз под вечер, воротившись с прогулки, Имро застает полный дом народу: кроме Вильмы и отца, здесь и Вильмина мать и Агнешка с обеими дочками, приехали и Якуб с Ондро, приехали даже со своими семьями; женщины и дети — этих не перечесть — держат в руках букетики, там-сям мелькают и сверточки, мужчины тычутся с бутылками — словно бы только что все скопом ввалились и не успели еще положить свои бутылки, сверточки, цветы и букеты, а верней, не хотели, пусть сразу с самого же начала видно, кто что принес. И теперь все они наперебой дергают и толкают Имро, каждый норовит первым его обнять. Что это может означать? Имро делается не по себе.
— Имро, ведь у тебя день рождения!
— Серьезно? Бог ты мой! А какое нынче? Я совсем об этом забыл.
— Эх, братец мой, братец! — Ондро почти душит его; одной рукой стискивает глею, другой хлопает по спине. — Вижу, ты молодцом, ну и держись! Не зажимай в себе подмастерья! Держись, братик родимый!
— А когда вы приехали, когда? — Имро не успевает даже протянуть руки и при этом хоть чуточку передохнуть, его уже сгребает в охапку Якуб, а этого ручищами тоже бог не обидел. — Кубко, ты же меня задушишь!
— Не бойся, браток! — хохочет Якуб. — Мы на поезде приехали. И как видишь, — он выпячивает подбородок а сторону всей веселой оравы, — каждый со своей дружиной. Приехали обнять тебя. — Он опять дышит Имро прямо в лицо, скалит зубы, глазами посверкивает. — Поздравляем, Имришко! Желаем тебе здоровья!
А потом берут его в оборот женщины, меж ними протискиваются дети и тоже к нему тянутся. Имро не успевает и уследить, кто что ему говорит, даже не очень-то и благодарит. Только улыбается. Иной раз какого ребенка назовет и по имени, велика ли беда, что он их путает? Дети простят. Главное, что все это между своими и что все они вот так славно тут встретились.
— Поздравляем тебя, Имришко! — Женщины и дети еще и целуют его; которые даже по нескольку раз, потому что им кажется, что их оттеснили, а значит, нужно все повторить, чтобы случайно не думалось, что этих поцелуев и объятий маловато.
Имро совсем ошарашен. Он забыл про день рождения, а Вильма нарочно ему о том не напомнила. Думала удивить. А все-таки мог бы кто ему намекнуть, ведь он совсем к такому натиску не подготовился.
Вильма целует его уже напоследок. — Не обессудь, Имришко, что я тебе ничего не сказала! — улыбается она. — Это я виновата, я их позвала.
И все сразу на нее: — Ну уж, ну уж, Вильмушка! Думаешь, сами бы не приехали?!
— Вот видишь, сынок! — Мастер всего лишь подает Имро руку, но тем крепче его пожатие. — Ты наш, мы рады, что ты с нами, только есть должен больше. Потому как мне и своих топоров за глаза хватает, твои топоры, ей-ей, таскать на работу не стану. Есть надо больше, чтоб окрепнуть! Будь здоров, сынок!
— Ну а теперь наливай! — скомандовал Ондро; он поднимает бутылку и протягивает ее отцу. — Тата, ты открывай! И разливай! А то какой же ты мастер?!
Тем временем женщины разложили на столе подарки и букеты, один букет кто-то уже успел поставить в вазу, но теперь все это снова переносят в горницу, ибо в горнице будет ужин, а за ужином каждый опять захочет показать, что принес, а то еще путаница получится. Пускай Имро с Вильмой знают, кто что подарил.
Еще до того, как они усаживаются ужинать, приходят и другие поздравители, иные лишь так, мимоходом, благо только сейчас на улице прослышали, что у Имро день рождения. В деревне нет обычая делать из этого бог весть какое событие, но иной раз, уж коли случается, обычай можно чуть приподнять или к нему что добавить. А порой встречаются и такие, что скупятся и на доброе слово. Однако время от времени можно расщедриться.
Приходят, понятно, и соседи, и эти тоже подсаживаются к столу, чтобы, упаси бог, Гульданы не обиделись, а Гульданы, особливо Ондро с Якубом, потом и не думают выпускать их из-за стола. — В кои-то веки приезжаем домой, а вы нос показали — и прощай? Так дело не пойдет. Небось об Имро речь. Его это, знаете, как расстроит? А ведь сколько он пережил. Оставайтесь, отпразднуем Имро!
Приходит и Лойзо Кулих, он тоже живет по соседству. Маленько в подпитии, должно быть в корчме набрался, и мать его, учуяв это тотчас, как он вошел, собралась было его сразу выпроводить.
— Нет-нет, соседка! — опять вступается Якуб. — Пускай заходит, пускай с нами хоть чокнется.
— И выпью! — куражится Лойзо, и его чернявая яйцевидная голова на короткой толстой шее так и лоснится. — Хочу чокнуться с Имро. И Вильмушку, старую подружку, приветить пришел! — В руке у него уже рюмка, он щерится. — Ну пусть нам будет всем хорошо! — И одним духом ее выдувает, ожидая следующую. Пока ему наливают, он оглядывает всех, каждому хочет сказать что-нибудь умное или глупое.
— И ты здесь, мышка? — замечает он меня; а не заметь он меня, дорогой читатель, ты, пожалуй, и не узнал бы, что я там тоже был и что эту вторую рюмку Лойзо Кулих выпил и за мое здоровье: — За твое здоровье, мышка! Когда у тебя будет день рождения, пожалуй, поднесу тебе свежую шкварку!
— Закуси, Лойзко! — предлагает ему мастер.
— Деда, отстаньте! — Он опять тянет рюмку. — Лучше-ка налейте еще.
— Ты это каково разговариваешь? — вскинулся старый Кулих. — Тебе еще никто по губам нынче не смазал?
А Лойзо смеется. — По губам нет, а губы да. Деда, налейте! — Он ткнул мастера рюмкой. — Налейте, я татку не боюсь.
— Если хочешь, налью, но на отца не фырчи!
— Ну вот, мне идти надо, — говорит тетка Кулихова, — хочешь не хочешь, а надо, иначе этого теленка отсюда не вытащишь.
— Отволоки его домой! — говорит старый Кулих. — Я скоро приду. Погоди, уж я тебя отделаю! — грозит он сыну, потом поднимает рюмку и пьет за здоровье Имро: — За твое здоровье, Имришко!
Едят, пьют, при этом умничают и смеются. Празднуют. Развлекаются. Имро уже немного поел, по временам и из рюмки потягивает, и хоть довольно часто потягивает, а в ней все еще столько, что ни разу не пришлось доливать. Иной раз и улыбается, но тотчас серьезнеет; если кто скажет что-нибудь хлесткое и все рассмеются, а то, может, и разгогочутся, он опять улыбнется, пожалуй, ведет себя, как остальные, с той лишь разницей, что он не такой шумный. Вот опять улыбнулся. И улыбнулся вроде бы мне.
Веселье в разгаре. Но Имро незаметно встал, шепнул что-то Вильме и ушел. Должно быть, отправился в заднюю горницу.
Именно так. Вильма, хоть и знает это, говорит не сразу: — Ничего, не беспокойтесь! Имришко просто устал. Пошел прилечь.
Разговор ненадолго затихает, но вскоре снова оживляется. И смеха — не занимать. А Ондро даже вздумалось петь. Почему бы и нет? У Имришко как-никак день рождения!
Ночью Имро проснулся. Его мутило. Он дважды вставал с постели, думал — вырвет, но стоило ему выйти во двор — отпускало.
Второй раз задержался во дворе подольше. Стоял, привалившись к стене, шумно вдыхал и выдыхал влажный ночной воздух.
Вильма вышла к нему, когда он снова собирался пойти лечь.
— В чем дело, Имришко?
— Не знаю. Как-то нехорошо мне.
Она стояла в двух шагах от Имро в одной тоненькой рубашке, как бы молча разглядывая его, хотя лица не было видно.
Приблизилась чуть. — Очень плохо тебе?
— Почем я знаю. Должно, переел.
— Ты же мало ел.
— Ничего. Пройдет. Мне уже лучше. Ступай в дом, еще простынешь!
— Да не бойся, не простыну! Имришко, ты бы поосторожнее. Надо тебе хоть одеться.
— Да я тоже пойду. Думал, стошнит. Видать, перекурил.
— Зря столько куришь.
— Вчера перестарался. Ничего, пройдет. Мне уже лучше.
— Может, перепил?
— Я почти совсем не пил. Скорей всего, курево, чувствую, как оно у меня в желудке и в легких засело.
Они стояли друг против друга. Стоило сделать шаг, и растревоженная Вильма могла бы обнять Имришко. Она уже протянула руку, однако шага не сделала, как бы смутившись: наверно, в тот момент, когда протянула руку, подумала, что, если бы Имро хотел, он тоже, пожалуй, мог бы этот шаг сделать. — Меньше бы ты курил, — прошептала она совсем рядом.
Имро молчал. Эти слова он слышал от нее много раз. И не было никакой нужды снова на них отвечать.
Да Вильма и не ждала в эту минуту ответа, во всяком случае на эти слова.
А Имро был глух и слеп. У него болел желудок и, как он сам говорил, в легких что-то засело.
— Знаю, Вильма, намыкалась ты со мной! — шепнул он ей прямо в волосы.
И она приникла к нему: — Господи, Имришко, ведь ничего другого на свете нет у меня. Я с радостью тебя обихаживаю. Пусти, Имришко! — последние слова она произнесла лишь потому, что ей показалось, будто он хочет высвободиться из ее объятий.
А Имро, ощутив вдруг в себе огромную жалость, не знал, что и сказать.
— Пойдем, Вильмушка, холодно! Надо спать! Мне малость полегчало. Попытаюсь уснуть.
Но и утром Имро было не по себе: по-прежнему жаловался на желудок. Братья, должно быть, по привычке, а главное, от радости, какую испытывает любой человек, воротившись в родной дом и найдя в нем своих, с которыми не всякий день встречается, подтрунивали над ним. — Я думал, у тебя и желудка-то уже нету, — говорил Якуб, — что тебе и есть незачем, в самом деле, ты такой отощалый, будто и не ешь вовсе.
А Ондро, не заботясь сперва, что перечит старшему брату, а может, потому, что собирался прежде Якуба говорить и не ждал, что тот обгонит его, или не подозревал, что тот скажет, выдал совсем противоположное: — Не надо было есть столько, лучше пить побольше! — Но тут же решил поправить себя, и, пожалуй, не столько ради старшего брата, сколько ради младшего, чтобы тот случайно еще не подумал, будто он умаляет его болезнь: — Ведь ты почти ничего и не ел. Желудок может болеть и от голода. Что, ежели с голодухи ты и хвораешь?! Отучил желудок от порядочной пищи, надо снова тебе его приучать. А перед едой всегда как следует выпей! Ну а если что не так, самолучшее — травы. Слышь, Марта! — оборотился он к жене. — Ты захватила те травы?
Марта поводит плечом. — Ничего я не захватила. И ты мне ничего не сказал. Думаешь, у меня в голове только твои травы?
— Ты что, ты как говоришь? — Ондро немного насупился, словно хотел показать, что при желании мог бы и обидеться. — Мне же они для Имро нужны. Полынь и чистец. Можно к ним и чего другого подбавить, а в чай сливянки подлить, не то ужас противно. Я бы и то такую пакость не пил. Мне и сливянки хватает. Но если все смешать и добавить туда порядком сливянки — увидишь, Имро, что за лекарство. Я иного лекарства, почитай, даже не знаю. Ведь сливянку и доктора советуют. Да и сами ее хлещут. От каждого доктора на версту сливянкой несет, хотя уж он мог бы лакать и чистый спиритус, разве его не в достатке в этом вонючем докторском кабинете? У которых и по десять бутылок, притом не каких-нибудь там бутылочек. Я-то видал у лекаря и пятилитровые бутыли, маленькие-то бутылочки для дураков, в них только настой ромашки либо фенхеля. Чертов прохиндей, спиритус-то он бережет: придет к нему кто, он сперва спирт понюхает, а потом на рану так это спрыснет, и не из этой большой, а опять же из той махонькой, мало ли у него бутылочек! Наверняка и потайная имеется, нарочно из этой пятилитровой в маленькую переливает, чтоб прилично выглядело, да и чтоб экономно было: из того, что маленькое, особо-то и не спрыснешь. Куда как лучше потихоньку самому выпить. Если у него нет больных, наверняка он из этой большой бутыли и потягивает. Ну а потом, от него, гада ползучего, еще и сливянкой несет. Небось знает, что делает! Сливянка все нутро прочищает. Я, ей-богу, у докторов не стал бы лечиться! Полынь и чистец! Полынь все как есть очищает, а чистец, этот просто так сквозь человека проходит, ну а сливянка, она опять же силу дает, человек ровно заново рождается. Гвоздь и то слопаешь. У которых докторов глаза так и блестят, поэтому они их лучше сощуривают и тогда похожи на священников, только у них другая, белая ряса, да и не такие они доки по части вина. Имришко, если неохота есть, надо перед едой маленько выпить. Сливянка завсегда должна быть в доме. Нынче суббота, завтра едем домой, полынь и чистец в понедельник вышлю — пускай и у почтарей будет работа…
Конечно, все это не очень-то пошло Имро на пользу, но братья хоть немного развеселили его. Днем он еще полеживал, к вечеру почувствовал себя лучше, а в воскресенье, когда братья наладились уезжать, стало ему совсем хорошо, и он был вполне доволен собой.
Якубова жена говорила Вильме: — Видать, он просто от этого шума устал. Главное, от этой кучи детей. Кто к детям не привык, тот их не переносит, на нервы действуют. От них и захворать недолго.
Но Вильма качала головой: — Нет, нет, он привык к детям. Ведь и у Агнешки дети. Они часто у нас, приводят с собой и дружков, и подружек. К детям мы привыкшие. Может, просто погода меняется. Может, уже и изменилась где. Имришко не переносит перемены погоды.
А Имро все отговаривался. — Да ладно вам обо мне толковать. Все я переношу. И погоду. Мало ли у кого желудок болит? За меня не тревожьтесь, не так уж я плох!
А перед самым уходом взял слово Якуб: — Ну, теперь узнаю тебя, Имро. Как мы приехали — и желудок у тебя заболел, и слабость какая-то навалилась, и полежать пришлось, а теперь, когда мы уезжаем, тебе опять хорошо. Занедужил ты только для того, чтоб нас выпроводить. — Потом, обхватив его за плечи, потряс — Ну, будь здоров, Имришко, и держись!
Женщины и дети снова его обняли и расцеловали, а Ондро, благо в гостях ему удалось больше всех выпить и изрядно других позабавить, подождал до конца и попрощался последним, чтобы оставить за собой и последнее слово.
— Ну так, браток! — Он схватил Имро за талию и высоко поднял. — До стропил-то ты дотянешься, да и конек для тебя не высок, только вот ешь больше, тогда и подымешь стропило, а не умаешься с ним. Держись молодцом! — Поставив Имро на пол, он еще и похлопал его. — Чистец и полынь тебе вышлю!
13
А однажды — допустим, уже летом — они опять ставили у одного богатого крестьянина амбар; был он почти готов, ходили они туда-сюда по перекладинам и советовались, как быть дальше. Не то чтоб они нуждались в совете — у обоих за плечами было немало амбаров, — но если бы такая работа не прерывалась порой разговорами, то иной наблюдавший вчуже мог бы подумать, что поставить амбар — дело плевое. Ведь и хозяину, что временами наведывается на их работу взглянуть, хочется кое-что о своем амбаре узнать или то-се в нем улучшить, чтоб уж его-то амбар был не чета другим. Попробуйте какому крестьянину — ха-ха, давненько не видывал я крестьянина! — сказать, что его амбар — хе-хе, а где они, те амбары?! — пустяковина! Даже теперь, когда амбар его уже скособочился, сгнил или сгорел, даже теперь он бы на вас разозлился. Такой вещью может лишь тот не дорожить, кто не знает в ней толку, либо завистник, у которого нет амбара, да и нет в нем нужды, ибо нечего туда положить. Однако и бедняку неплохо бывало в амбаре: если на дворе жарко и крестьянин дозволит, он может в амбаре поспать, если дождь — порадоваться, что в амбаре он не намокнет и выспится еще лучше. И горожанин — благо он, на взгляд любителя амбаров, спокон веку был бедняком — иной раз понимает, хотя и всегда отпирается, что городской уют не чета деревенскому. А что в деревне ценнее амбара? Нынешние горожане (на самом-то деле чаще это селяне) живут в государственных либо кооперативных квартирах, а какой там уют — отлично известно, и многие (не все же селяне оглупели и отупели) нет-нет да завздыхают: — Ну и жарища! Был бы у нас амбар! — Или: — Ох и льет нынче! Был бы я дома! — И снова всплывет в его памяти амбар, сарай или чердак, сон под крышей, по которой стучит частый дождь, точно сыплется шебурша ячмень или пшеница. Бетонный амбар, виноват, сон между бетонных стен со сном в амбаре никак не сравнится. Дерево есть дерево, человеку оно близко, ближе, чем бетон. Дерево и растет, а пока растет — цветет, дышит и радуется вместе с человеком. И пахнет. Пахнет и тогда, когда начинает трухляветь…
Однако мы что-то разговорились. Те двое, что ходили по перекладинам, наверняка столько не наболтали, они лишь советовались: — Еще вот это, да еще вот так, проложим либо подложим, перевязку с обеих сторон укрепим…
Вдруг мастер уперся взглядом во что-то поверх изгородей, а вскоре и Имро туда же уставился. Спервоначалу казалось, они рассматривают другие амбары, сараи, курятники или ни с того ни с сего, просто так, засмотрелись на изгороди. Имро приметил, что в одном из дворов по лесенке, приставленной к курятнику, всходит женщина; хоть и видна она была со спины, все равно нетрудно было догадаться, что это отнюдь не старуха; она пригнулась, собирая яйца — а что ж еще там было искать, — и тут у нее задрались юбки, так что парни — если откинуть несколько десятков годков и отца назвать парнем — увидели красивые женские, даже, пожалуй, девичьи, ляжки. Иной бы мог возразить, что о вещах, увиденных издали, не стоит высказываться уж столь определенно и точно, но человеку с фантазией, особенно если в таких вещах он чуть разбирается, достанет намека, прочее он может домыслить, однако тут домысливать не пришлось, два-три двора — не такое уж расстояние. Мастер углядел, что сумел углядеть, а потом испытующе посмотрел на своего подмастерья. — Сдается мне, Имришко, эти ляжки мы уже где-то видели!
Имро вгляделся. А немного погодя сообразил, что забыл на отцовы слова улыбнуться. И взял да улыбнулся, только, возможно, совсем по другому поводу, чем подумалось мастеру.
Штефка — а кому ж еще быть, как не ей, — спустилась тем временем с лесенки, медленно прошла по двору вниз и вскоре исчезла.
Они оба снова принялись за работу, и Имро, пожалуй даже невольно, вслух загмыкал.
Гм! Так значит, она здесь живет.
В обеденный перерыв он пошел ее навестить. Его приход очень ее удивил. Она вмиг бросила все дела и вышла приветить его. А потом засуетилась — хотела чем-нибудь его угостить.
— Я ненадолго, — сказал он.
— Все равно. Хочется тебя угостить, Я рада, что ты пришел. Как ты тут оказался?
— Работаю. Помаленьку помогаю отцу.
— Слыхала я, что ты хвораешь. Я бы с радостью тебя навестила. Часто о тебе думала. Йожо мне много раз про тебя говорил. И сказывал, что с тобой встретился.
Он отозвался не сразу. Словно бы еще чего-то ждал. А потом заметил: — Знаю.
Она улыбнулась. — Часто тебя вспоминаю. Погляди! — Она повела его в горницу. — У нас родилась дочка.
В кроватке спала двухгодовалая девочка.
Штефка, склонившись, погладила ее по личику и поцеловала в лоб.
— Поначалу было думала…
Недоговорила. Что она хотела сказать? Смотрела на дочку, и на ее лице поигрывала улыбка. — Говорят, вылитая Йожо.
— И мне сдается, — сказал Имрих.
— Я тебя любила…
И опять умолкла.
Похоже было, что она нервничает.
— Про то не надо. Я и так знаю.
Она разволновалась еще больше.
— Я и сейчас тебя люблю, только… знаешь, я тогда очень была молодая. Оба мы были молоды. Теперь все по-другому. Счастье, что у меня такая чудесная доченька.
Лицо у нее засветилось. Она поглядела на него блестящими глазами. Как хорошо помнил он этот взгляд!
— Пока тебя не было, я дважды встретила Вильму. Было немного совестно.
— Почему?
— Ты ей ничего не говорил?
Он покачал головой.
— Когда мы с ней встретились, у меня было такое чувство, будто она обо всем знает.
— Это тебе показалось. Да если бы и узнала, Вильма умная. Ведь и теперь могла бы узнать, что я зашел к тебе. Отец знает, что я у вас. И твои соседи знают. Я сказал, что иду к тебе.
Она удивилась: — Зачем ты им сказал?
— А что тут такого? Могу же я тебя навестить?
— В общем, да. Я так просто. Ты же понимаешь. Ты долго хворал? — спросила.
— Долго. Я и теперь не очень-то хорошо себя чувствую, но это пройдет. Вильма за мной ухаживала.
— Вильма хорошая. И красивая.
— Да, красивая. — Он улыбнулся и кивнул головой.
И она улыбаясь смотрела на него. — Ты любишь ее. Я знаю, что любишь. Ты всегда ее любил. Я это знала.
— Откуда ты могла знать?
— Знала. Хотя ты и был со мной, а всегда был несчастлив.
Он принял это за шутку. На миг, однако, задумался, а потом, улыбнувшись, попытался и сам пошутить. — У меня, верно, такой характер. Я всегда несчастлив.
— Бедняга! — Она погладила его. — Знаешь, мы очень были молоды!..
14
Дни бегут по-прежнему. Мастер с Имро ходят на работу, а у Вильмы свои дела — в саду и в парке, дома и возле дома. В парке работать всякий день не приходится, никто ей не определил точно, сколько она должна там работать, ей просто вверили парк, а когда, что и как нужно делать — не указывают. Ей доверяют, полагаются та нее, и все видят, что это оправданно: парк круглый год нарядный и чистенький, нравится людям, когда он в зелени, а когда по осени облетают деревья, Вильма с детворой старательно сгребают все палые листья, и он опять нарядный, чистый, и опять же видать по нему, хотя это, пожалуй, заметно лишь знатоку или более зоркому глазу, как подстрижена живая изгородь, золотой дождь и всякие кустики, как очищены деревья и сколько всюду было цветов, и, пусть он уже без листьев и без цветов, он все равно чистый, знатоку и теперь видно, как Вильма круглый год парк обихаживала.
Конечно, краше всего парк в цвету, да он почти все время в цвету, от весны до осени, в нем всегда что-то цветет, потому как Вильма вечно в нем возится, сажает, пересаживает, поливает, и дети ей всегда помогают, одна бы она, пожалуй, и не управилась. Но это тоже ее заслуга, ее доброе качество: она умеет и чужих детей так завлечь, что они ей помогают, хотя она-то их не приневоливает, и дети радуются, что могут помочь ей. Они с охотой вместе с Вильмой работают и еще расспрашивают ее, что да как нужно делать, чтоб ненароком чего не напортить.
Если Вильма не в парке и не в саду, она находит работу дома и, хочешь не хочешь, опять же раздумывает о том, что ее радует, а что мучит, но ей кажется, что она всегда думает об одном и том же. Думает об Имришко, об Агнешке и ее дочках, о всей их семье, времени у нее хватает, она обо всех может думать, о ком чаще, о ком реже, и мысли эти приходят ей в голову именно за работой. Вильма любит работу и обычно делает все красиво и ладно, но она все равно недовольна и, даже испытывая от чего-нибудь радость, в глубине души чувствует, что и эта радость не совсем ей в радость, во всякой радости она постоянно находит какой-нибудь изъян.
И говорить об этом не хочется. Не положено! Да и с кем говорить! Люди бы о ней почем зря судачили, а то бы жалели. В семье и то ничего не должны знать. Да и зачем? Разве поможешь? Вот если бы только Имришко как-нибудь намекнуть. Он по-настоящему ее ни разу не обнял, даже не попытался. А ведь выздоровел и на работу ходит, но дома хоть и разговаривает с ней, а все как-то чудно, словно бы и не видит, не замечает ее. Вроде бы ни на что не жалуется, ни на кого не злится, говорит с ней спокойно, и она уже не раз перед ним и заискивала, а теперь вот даже не знает, стоит ли, можно ли заискивать или что иное попробовать. Насильно ему навязываться она не собирается. Хоть бы когда-никогда совсем легонько к ней прижался! Всегда только она к нему прижимается, а он стоит как столб, не выказывая, рад ли тому или нет, обычно и руками не шевельнет, они висят у него ровно плети, а если и шевельнет, то лишь затем, чтобы дать ей понять, что он и есть всего-навсего столб и что даже не ведает, зачем столбу руки — вот поэтому они снова у него и повисают.
Пока он хворал, он казался ей ближе, чем теперь, она любила его, сострадала ему, переживала за него сильно, всегда при нем, днем и ночью при нем, иной раз болело у нее даже то, что у него не болело, она любила его и по-прежнему любит, но, когда он болел, она могла в любое время его обнять, поцеловать, да когда угодно и целовала, сутками высиживая рядом, а иной раз боялась, боялась до него и дотронуться, хоть он и спал крепко, не хотела сон его нарушать, он ведь был такой жалкий, исхудалый, она стояла над ним или сидела возле, смотрела на него, вглядывалась в его лицо, она так любила его, так жалела, иногда ей хотелось просто плакать, но она и плач перемогала, и только слезы из глаз, только слезы — она и теперь могла бы ими залиться, — слезы из глаз у нее так и катились, катились.
Есть женщины, которые так плачут, которым приходится иногда так плакать. И Вильме приходится. Иной раз ей хотелось большего, хотелось все время его гладить, целовать, обнимать. И когда он выздоровел, она так радовалась, как же она радовалась, думала, что и он захочет погладить ее и что, конечно, погладит, и обнимет, и поцелует, но он ничего, по-прежнему ничего, хоть уже и здоровый, и теперь она уже не может так смело и часто приближаться к нему.
А Вильма хочет, иногда даже пытается. Сколько раз она прижималась к нему, сильно-сильно хотела прижаться, а он словно бы и не замечал этого. Словно бы и о том не ведает, что кровати их в одной комнате, рядышком, и что от одной до другой — рукой подать. Как часто она хотела позвать Имришко в свою постель, но думала, может, сам придет, а он ни разу не пришел, вот и изволь сама лезть, она юркнула к нему, но прежде робким, извиняющимся голосом спросила: — Имришко, не рассердишься, если я к тебе на минуточку лягу?
Он ничего не ответил. Быть может, и хотел что-то сказать, но потом, верно, подумал, что говорить ни к чему, что достаточно только подвинуться, уступить ей место.
Она юркнула к нему, а Имришко уже опять лежал, как раньше, будто Вильмы рядом и не было. Она успокоилась, ей было приятно возле него, какое-то время она чувствовала себя почти счастливой и думала, что Имришко, уж коль она рядом, наверняка вот-вот обнимет ее, ну а нет, так она и сама это сделает. Пожалуй, уже и пора, ей ведь так хочется прижаться к Имришко, очень хочется. Она прижимается, поначалу робко, потом посмелее — Имришко спокоен по-прежнему. Ей хорошо рядом с ним, а хочется, чтоб было еще лучше, она сильней льнет к нему, но вовсе не грубо, нет, напротив. А хорошо бы, если бы и Имришко повернулся к ней как-то иначе, чуть больше, чтобы она и лицо его видела, чтобы могла и поцеловать и крепче обнять и чтобы он ее целовал и обнимал, пока она целует его только в плечо, хоть и оно от нее ускользает, так как Имришко — ну наконец-то и он чуть оттаял — пожалуй, немного неловко и лишь одной рукой — теперь-то уже и в плечо неудобно его целовать, ведь как раз этой рукой он сперва погладил, чуть взлохматив, ей волосы, словно этой же рукой и обнять собирался, но, обвив ее голову, просто гладит ей плечо. Вильме поначалу не очень удобно, хочется шевельнуть головой, она опирается Имришко на грудь и снова пробует его целовать, но Имро уже — ни-ни, раз-другой погладил ей плечо, и все. Уж не уснул ли? Нет, не уснул, но Вильме сдается, что он охотно бы сделал вид, будто спит, охотно притворился бы спящим, коль он так тихо лежит, наверно, ему было бы неприятно, пожелай она большего. Вильма невольно чувствует, что Имро было бы неприятно, а может, и так уже неприятно, но он просто спокойно лежит, и тут уже она начинает чувствовать себя как-то неловко, в самом деле, чуть неприятно. Ведь ей и того бы хватило, что она может лежать возле Имришко, а теперь ей вдруг кажется, что этого мало.
Оба они недвижно лежат и делают вид, будто спят, но они не спят. Вильме неловко уйти, но неловко и оставаться.
Оба молчат. Не спят, лежат неподвижно. Вильма начинает вроде дремать, она, пожалуй, скоро заснет. Имро уже спит. Но вдруг она чувствует, что Имро снова гладит ей плечо, потом волосы. — Вильма, я же знаю, что я не такой, каким должен быть, — шепчет он ей в самое ухо. — Но я изменюсь, я ведь, может, люблю тебя больше, чем ты думаешь, правда, больше, я только пока такой, но я изменюсь. А сейчас спи, я хочу, чтобы ты спала. Доброй ночи, Вильмушка!
15
Вильма исподволь начинает многое понимать. Все это так странно, более чем странно. Она и не знает, как это выразить. Если Имро и изменится, то когда? Долго ли еще ждать?
В доме невесело. Все время чего-то недостает. В иных домах люди поссорятся, случается, и подерутся, а тут покой, временами просто невообразимый покой. Мастер спокоен. Имришко еще спокойней, только она какая-то неспокойная — рассеянная, дерганая, порой угрюмая, раздраженная, иной раз этого и не скроешь.
Многие к ним заходят, бывает, это ее и порадует, хотя и не очень, ей все чаще кажется, что ее, не Имришко, а ее, именно ее, люди раздражают. Подчас и близкие выводят ее из себя.
Иной раз такая охватывает злость и досада, что она, глядишь, кого и поколотила бы. Из-за ерунды, из-за глупости. Столько раз, бывало, гнев в ней вскипает лишь потому, что примерещилось, будто снаружи скрипнула калитка и кто-то идет, и ей уже невтерпеж пойти отхлестать гостя, отхлестать уже на дворе, хотя она еще даже не знает, кто идет и зачем, хочет ли чего или что-то несет — новость или какую безделицу, которую занял когда-то, а теперь честно хочет вернуть. А может, это и почтальон или кто из соседей, и всего лишь потому, что в доме стали часы и надо узнать, сколько времени.
Разозлившись, она выскакивает во двор, но, как только примечает посетителя, гостя, кого бы то ни было, досада с ее лица вмиг исчезает — стыдно показать людям, что она злится.
— Плетеные корзинки! Хозяюшка, не купите ли плетенку.
— Нет, нет, — пересиливает она себя, да еще мило улыбается, — благодарствуем, благодарствуем, у нас много плетенок.
Она дожидается, покуда корзинщик уйдет, потом входит в дом и опять хмурится.
Времени, чтоб поразмыслить, у нее вдосталь, и она размышляет. И в мыслях бывает еще сердитей, чем с виду. Правда, не всегда, но бывает. Да и притворяться она наловчилась. Подчас ей сдается, что она все время притворяется. Хотя это и не совсем так. Иные люди — да собственно большинство — должны притворству научиться или хотя бы научиться в определенные минуты владеть собой, чтобы притворства их никто не заметил, но стоит им разозлиться, как они тотчас открывают свое подлинное лицо. А Вильма наоборот. Она умеет притворяться по-всякому, но обычно делает это тогда, когда уже не может, не в силах совладать с собой. Чаще притворяется, прикрываясь любезностью или улыбкой, когда беспокойна, раздражена, разгневана, злобна, но лишь потому, что даже в злобе не хочет обидеть людей. Она куда охотнее вела бы себя естественно, однако ей кажется, что ее естественность, ее настроение — хотя у человека настроение и меняется, — то есть то главное и основное, самое что ни есть естественное, в ней должно было бы быть другим, мягче, приветливее, лучше, ей кажется, что раньше оно и было таким, а теперь все меньше и меньше, день ото дня она угрюмее, сердится и устает от собственных мыслей, она сама себе в тягость, вот оттого и притворяется, оттого и с другими приветлива, поскольку сама к себе нетерпима, недовольна собой, но пусть это недовольство и снедает ее совсем, она не хочет оделять им других в той же мере, что и себя. Оттого и притворяется! Притворяется, не сознавая, что ее настоящее лицо, даже это недовольное, усталое и порой — а в последнее время, пожалуй, все чаще — угрюмое и сердитое лицо, по-прежнему очень красиво, ее недовольство или даже злоба редко могут вызвать и у другого что-либо подобное, а если и да, то скорей какое-то иное недовольство (человека поумней недовольство и уныние, гнев или злость, пожалуй, действительно посещают редко), потому что Вильма, хотя и очень усталая и, наверное, несчастная, по-прежнему разумна и красива, в усталости, в страдании, в унынии, в несчастье, даже в злобе, в самом деле, даже в злобе, она гораздо разумней и красивей, намного лучше, добрей и справедливей, чем она думает.
Но она бы вряд ли в это поверила. Да и кто ей скажет об этом? Кто-нибудь, может, и скажет, но скорей всего по-другому, может, только намекнет об этом, но одновременно припомнит ей и кой-какие промашки. У нее есть промашки. Захоти кто, так нашел бы их, пожалуй, сумел бы их и раздуть. Подчас она и сама у себя их ищет! И, бывает, находит, но не знает, нашла ли те, настоящие. Да и надо ли было вообще их искать?
Иногда она чувствует себя такой дурной! Любого окрикнет, оборвет, подденет, бывает, отгонит словом даже людей, близких ей, а потом терзается. Холод порой пробирает, когда вспомнит, как зло обидела близкого и неповинного, и без всякого повода, просто от раздражения и досады.
По счастью, не всякий сразу обидится. Иного раз и два оскорбишь, и то не прогонишь. Но все равно — куда это годится! Да еще просто так, с бухты-барахты, без всякой причины? Что, если бы и ее вот так же задели?
В душе она еще хуже, чем кажется, по крайней мере она себя в том убеждает. Думает так. Неужто и вправду она стала такая дурная? Господи боже, но как все донельзя однообразно! Стряпать, прислуживать, мыть, стряпать, прислуживать, убирать, мыть и стирать! Когда поработать в саду, когда в парке, иной раз забежать в магазин, купить что-нибудь: муки, сахару, иголку, — ну и сызнова что-то пришивать и все время одно и то же, хотя детей в доме нет, только чужие приходят, и она вечно их гонит, а здесь порой так пусто! Только чужие приходят! Но она любит детей, когда-то и чужих выносила, пожалуй, и нынче бы вынесла, просто уже не в силах выказать это так, как им бы, наверно, хотелось или как полагалось бы, иной раз она и дала бы им что-нибудь или сказала, но ведь нельзя же все время давать, бывает, и неохота искать, пусть даже и нетрудно было бы что-то найти, да неохота, особенно если дети придут в ту минуту, когда ты сама себе в тягость, когда ты как раз задумываешься над тем, что опять только шьешь, что ты все уже переделала, посуда вымыта, всюду чисто, может, даже никто не заметит, что всюду чисто, вот и шьешь, а впрочем, что шить? Ничего не нужно пришить? Пришиваешь пуговицу, а вокруг так ужасно, ужасно пусто! Зачем было детей прогонять?
Тоскливо. Пусто. Изо дня в день. Пожалуй, и не должно бы так продолжаться, нельзя так. Всегда одно и то же, но при этом вечно чего-то недостает. Как будто ты на рубашку или на брюки без конца пришиваешь одну и ту же пуговицу. Ты-то знаешь, чья это рубашка, а он… да как же это возможно? Он словно бы даже не знает, что пуговица у него оторвалась или хотя бы что ты пришила ее. Не заметил, не заметит, не заметит и ста пуговиц, пускай бы ты ему и сто пуговиц, одних и тех же сто пуговиц, без конца пришивала.
Не заметил? Не заметит? Да возможно ли? Ведь он уже здоров, во всяком случае таким выглядит, но и не будь он больным, он все равно болен, он знает или чувствует, должен бы знать или хоть чувствовать, раз уж он выздоравливает, что у него не было пуговицы, что он не мог застегнуть рубашку, не получалось, а теперь может, уже получается, не обязательно даже замечать пуговицу, искать пуговицу, рубашку застегивать, достаточно дать понять, что у него уже не зябнет горло. Или как-то иначе выразить это, из ста каждодневных пуговиц заметить хотя бы одну, найти ее и ощупать. Застегнуть, расстегнуть? Расстегнуть или застегнуть? Может, нужно и меньше, в самом деле, достаточно самой малости для того, чтобы у тебя не было ощущения, что все время, изо дня в день, пришиваешь и будешь пришивать одни и те же сто пуговиц, а тот, у кого зябло, а может, и зябнет горло, носит их на рубашке, на пиджаке и на брюках, но ничего об этом не ведает, как не ведает и о других мелочах, которые, возможно, так же важны, хотя и менее заметны, чем пуговицы или пуговички…
Тоскливо. Пусто. Изо дня в день — тоскливо и пусто.
16
Так все и шло. Осенью Имро всегда немного прихварывал, но, как землю схватывало первым морозцем, он снова чувствовал себя лучше, потихоньку оправлялся, начинал опять ходить на работу, но теперь в работе у него уже не было прежней сноровки. Иной раз ему казалось, да и другие могли это подметить, что, будь он даже трижды здоров, все это уже не то и прежнего, видать, не вернуть. И когда он смеялся, и даже когда других хотел рассмешить — и надо сказать, это ему всегда удавалось, — особенно было заметно, что в глазах у него нет блеска, какой бывает или должен быть у веселых людей. В глазах у него будто что-то увяло.
Потерял он вроде бы и интерес к работе. Работал, правда, с отцом, но редко когда ему хотелось говорить о работе.
Мастер тем временем состарился. Не по душе ему были всякие новшества. Вечно он на что-то ворчал, и Имро, хотя и меньше ворчал на новшества, во многом, однако, походил на отца. А если и было между ними различие, то оно не казалось различием между отцом и младшим сыном — они скорей походили на братьев, старший только чуть сгорбленней, а младший — бледнее, и то, что один отмечал ворчанием, другой как бы подтверждал молчанием.
Старый Гульдан поначалу ждал для себя многого, думал, его работа всегда будет достойна звания мастера. И хотя понимал, что не ставить ему каждый амбар и не стоять ему на каждом новом доме, ибо на всех новых домах не может быть гульдановской кровли, все же считал, что возле всякого нового амбара и всякого нового дома у него найдется, что сказать. Но постепенно он стал подмечать, что его ремесло, хоть оно и остается таким же и выматывает человека, как и любое другое, уже теряет свою красоту и того, кто этим ремеслом занимается, пусть толково и не щадя живота своего, со временем перестанут величать мастером. Его, возможно, заменит машина или поденщик. А подчас ему казалось, что и этого поденщика, который понюхал настоящего ремесла и которого люди хотя бы из уважения по-прежнему называют мастером, уже и этого мастера-поденщика они отталкивают от себя, и не потому, что гнушаются им, нет, мастеру думалось — он потому перестает быть мастером, что люди начали гнушаться ремеслом.
Иной раз все выглядит проще простого. Пусть людям и нужна крыша над головой, раз охота жить в доме, они вдруг обнаруживают, что на новом доме кровли как кровли им и не надобно — все равно нечего под нею хранить. Мастер обшивает такой дом, временами он ему даже нравится, а потом начинает ворчать:
— Нешто это дом?! Ведь это коробка! Хоть у него и окна, а все одно коробка. У него же кровли нету. Я бы в таком доме не жил.
— А вам никто и не велит, — смеялись обычно молодые. — У вас старомодные взгляды.
— Ну что ж, пускай старомодные. И у меня, и у моего сына. Но в таком доме я, ей-богу, жить бы не стал. Имришко, коли так дело пойдет, придется нам с тобой разве что каменщикам леса возводить да кой-какие обшивки работать. А может, придется на старости лет иным начинашкам железные балки либо кружала подносить. Только я уж на железные балки не потяну. А и потянул бы, в коробке я, ей-богу, жить бы не стал.
Люди, однако, живут и в коробках. И довольны и смеются. Подчас смеются лишь потому, что в окошки светит солнышко.
Люди сами себе выбирают жилье, и против этого мастер не может ничего возразить.
Когда-то он очень верил в амбары, полагал, что, покуда есть поле и оно кормит людей и животных, всегда будет нужда сложить где-нибудь корм, а амбар, сарай и поветь словно бы для этого созданы: туда можно поставить и корморезку, и человеку, если вдруг пойдет дождь или задует ветер, не придется резать сечку под открытым небом, чтобы ненароком ему не промокнуть да и чтобы сечка, отсырев, не заплесневела или бы ветер, подхватив ее, не развеял.
И кооперативы старый Гульдан так же расценивал: кооператив так кооператив, думалось ему. И кооператорам понадобится коровник, а то и много больших коровников, понадобится и корморезка. Сечка все же сама не нарежется. Да и в конце концов — не о сечке речь. А о том, что резать. Речь прежде всего — о корме. А его нужно где-то сложить. И кооператорам нужны будут сараи, амбары, сушильни и хлева. Так за чем же дело стало?
Однако люди говорят: а к чему столько амбаров, а в них — корморезок? Да и столько коровников? Скотина-то может жить и стадом, значит, поживет и в одном коровнике.
И мастеру, да и, конечно, плотничьему мастеру, приходится признать: люди правы; он, пожалуй, еще думает: люди хотят, чтобы вместо малых амбаров он поставил один большой, крепкий и надежный, но при этом и красивый амбар, такой, чтобы все ахнули. Но его тут же начинают убеждать, что амбар выходит из моды, что новый амбар им ни к чему, а коровники, дескать, обойдутся и без кровли, пусть даже мастер, какой ни есть ловкий и искусный среди мастеров, хотел бы своими руками каждую кровлю позолотить.
Люди улыбаются и весело говорят: не все то золото, что блестит.
Старый Гульдан издавна знал, что ремесло не золотое дно, но ведь истинный мастеровой ищет не только пользу в работе, а еще и красоту. Иначе бы он работал просто ради работы. И теперь мастер понял, что у его ремесла, которое и без золотого дна казалось ему прекрасным, нет даже золотого верха, ни даже вершицы. Нет у него на вершицу! Но люди спокойны: а зачем вершица! Разве что для видимости, для красоты? Обойдемся без всякой вершины.
Мастер упирается: все равно вершица нужна, всегда должно найтись на нее. Кое-чему все же потребна верхушка. Я вам задаром ее смастерю. Достаньте мне дерева. А люди говорят: дерево уже есть. Его уже и нарезали. И доски и брусья. Внизу на лесопилке. Ох и навалила вам лесопилка этих досок и брусьев! Надо только их привезти и быстрехонько сколотить!
Лесопилка всего лишь лесопилка. Она может быть людям полезной, умеет быть полезной. Но если люди чего-то не знают, разве может знать за них лесопилка. Лесопилка, ей-богу, многого о годичных кольцах не ведает.
Тут-то и укоренились слова «халтура» и «халтурщик». Кто только не ходит подхалтуривать. И почти любой халтурщик над порядочным мастером все больше смеется.
Черт возьми! Ну и пусть! Я все равно мастер. И мастером буду. А вы, умники и халтурщики, живите в этой коробке, смейтесь, критикуйте меня, но на халтуру не подбивайте. Мастеру подавай только настоящую работу. А коли и сдохну, так сдохну мастером.
17
Хоть Имро и сказал Штефке, что любит Вильму, дома он все ее сторонится, пусть в этом и нужды уже нет: Вильма словно бы со всем смирилась и принимает его таким, какой он есть. Она не навязывается ему, вроде бы и не пытается с ним больше сблизиться и довольствуется тем, что живут они в одном доме, в одной комнате и постели их рядом — со стороны может казаться, что эти двое во всем, верно, сходятся.
Когда двое людей близки меж собой, то обоим легче сблизиться и с более далекими людьми. Каждый человек ведь немножко иной, и у него свои, несколько иные мерки, отсюда и каждая минута — пусть речь идет об одной и той же минуте и о двух, возможно, очень схожих, а в эту минуту и очень близких людях — для каждого иная. Не могут они в одну и ту же минуту сходиться во всем.
Вечером, когда небо клонится к домам и вселенная, подлинная вселенная из подлинных звезд, неспешно и бережно словно бы прикручивает небесный фитиль, желая вдруг показать, что и она близка людям и что она богата, а только из скромности вот уже тысячелетия показывает им все один и тот же алтарь, хотя звезд у нее на многое множество алтарей, люди, если ночь не застигла их где-то в пути, теперь уже дома, взрослые умничают или ссорятся, дети дерутся или щебечут, им не хочется спать, стихоплеты сидят при керосиновой или электрической лампе, пишут свои, но всего лишь украденные, затасканные тысячелетние вирши, мазилы — ну художники — возможно, снова заканчивают картину, пытаясь как бы на холсте сотворить клей и тут же его растереть, хотя и клей-то на свете был уже исстари. А лабухи — или им не хотелось, или они просто толком не научились свистеть, пиликать и даже слушать — сидят над партитурой и раздумывают о том, как бы в нее записать хмыканье или лепет какого-нибудь дурашливого и безумного комедианта, а может, попискивание в носу или скрип дверей. И этим артистам даже на ум не приходит, что надо бы подойти к окну, отворить его, смотреть и слушать!
Птахи в гнездах уже уснули. Куры сидят рядком на насесте или теснятся в деревянных курятниках, время от времени какая-нибудь хрипло заквохчет, в каждой белеет яйцо, а в нем желток, не одна хозяйка порадуется свежему яичку уже завтра, а может, послезавтра или только через неделю, ведь некоторые из этих яичек пока еще слабехонько светят, словно боятся, что в воскресенье где-то в кухне или во дворе блеснет нож, и тогда она уже не смогут ни запылать ярче, ни забелеть в своей нежненькой скорлупке, угаснет в них желтоватый огонек прежде, чем у него достало бы силы на пламя.
Вечер сменяется ночью. Люди уже спят, некоторые только сейчас засыпают. Есть и такие, что должны бодрствовать. Иные злятся, что кто-то их разбудил. Но есть и такие, что еще не уснули, хотя и не должны бодрствовать. Быть может, не могут уснуть, потому что у них плохая постель либо стоит она в какой-то душной или пустой комнате, где плохо спится. Возможно, постель и в их собственной, такой знакомой комнате, но все равно в ней пусто, возможно, им кажется, что другой, хотя бы еще одной постели тут не хватает.
А есть дом, в котором две постели в одной и той же комнате, но все равно там не спится. Иной может свою постель даже возненавидеть или просто бояться ее, и именно потому, что тут же рядом стоит и другая постель. И он сам не знает, которой же из двух постелей боится больше.
Смешно! Чего тут бояться? Вильма и впрямь не боится, нисколечко не боится. Неужто себя ей бояться? Она лежит на второй постели и никак не может уснуть, но только потому, что эта постель кажется ей ужасно большой, пустой. В Имришковой постели наверняка бы лучше спалось. Но Вильма знает, что в Имришковой, хоть это и большая постель и потому даже он не может заснуть в ней и хоть они оба худые, а значит, для обоих с избытком хватило бы места, однако в этой большой Имришковой постели ей не вместиться…
18
А как-то раз Имро опять заскочил в имение, думал навестить Ранинца, но, не застав его дома, зашел к Марте, вдове Габчо, благо он и с ней тем временем нередко встречался, и они подружились. Если не было дома Ранинца, он всегда заходил к Марте. И та его приходу всякий раз радовалась, обрадовалась она и теперь. Тем более что Имро был в лучшем настроении, чем обычно.
Иначе бы о том и говорить не стоило.
День был погожий. Незадолго до этого прошел дождь, а теперь снаружи весело заливались соловьи и ласточки. Разумеется, щебетали и воробьи, и всякие иные птахи, но ласточки больше всего подходят к нашему рассказу. Марта опять была дома одна и была одета довольно легко, она как раз закатывала фрукты в банки, плита уже топилась, и в кухне было жарко. Имро глядел на нее, сперва любовался умелыми пальцами, что ловко накладывали на банки целлофановую бумагу и резиновое кольцо, а потом взгляд его невольно скользнул от рук к обнаженным плечам, и когда он повнимательнее присмотрелся к ней, пообмерив ее глазами, то вдруг встревожился, стал насвистывать, встал, а через минуту опять сел.
Что же случилось с Имро?
Он понял вдруг, что у него вытянулся солдатик. И даже очень, почти с поручика. Сперва он было подумал, что это ему только мерещится, однако поручик стал еще больше выпрямляться. Словно хотел вытянуться аж до капитана.
Имро поначалу это изумило. Он перекинул ногу за ноту, а поручик, хоть и остался поручиком, все еще стоял навытяжку. Кто бы мог подумать? Имро и сам еще недавно, да еще сегодня, когда шел сюда, не поверил бы, что у него такой шустрый поручик.
Марта тем временем уместила банки с компотом в большой алюминиевой кастрюле и попросила Имро помочь ей переставить кастрюлю на плиту.
Имро с минуту был в замешательстве. Как же теперь встать, вдруг Марта заметит что? Однако потом он услужливо поднялся, нарочно чуть наклонился и в таком положении оставался все время. Гопля, кастрюля на пиите! Затем Имро снова уселся, а поручик меж тем в удивлении вертелся и озирался, хотя теперь уже немного и успокоился, словно готовый выполнить любое важное задание.
Возможно, все это продолжалось и недолго. Но за это короткое время у Имро многое пронеслось в голове, возможно, подумалось и вспомнилось, сколько всего ушло безвозвратно, сколько он упустил и сколько напортил. Но пожалуй, он и немного порадовался, надеясь, что многое еще можно поправить и наверстать.
Но, должно быть, именно потому, что с некоторых пор Имро приучил себя, размышляя о чем-нибудь, пусть о совершенно обычных вещах, делать это со всей серьезностью, посерьезнел вдруг и поручик, он как бы тоже задумался и сразу превратился всего лишь в сгорбленного старшину, а потом и вовсе в бедного солдатишку, которому отказали в увольнительной, не захотели отпустить из казармы даже на прогулку…
Но как бы то ни было, по дороге домой Имро был в очень хорошем настроении и, казалось, радовался вечеру. Должно быть, поэтому, а может, и по другой причине или просто захотелось немного взбодрить себя, подойдя к деревне, он завернул в корчму и взбодрил себя больше, чем намеревался вначале. Домой пришел в сильном подпитии, но Вильма, благо была занята, сперва ничего не заметила. Он показался ей только каким-то чудным, чуднее обычного, не подивилась она ни его хорошему настроению — с некоторых пор ничего особенного от его хороших настроений она уже не ждала. Имришко все больше стал ее раздражать. Подчас она не хотела в этом себе и признаться, но, случалось, это вырывалось наружу, она научилась на Имришко уже и пофыркивать, а иной раз, даже без причины, малость его и подкалывать. Но на сей раз подколоть его не захотела. И не подколола. Лишь прикрикнула. Сперва потому, что он, шмыгнув мимо, задел ее, а ей показалось, что он нарочно ее толкнул, и уж потом, когда Имро положил руку ей на плечо, она учуяла, что он где-то выпил: — Если ты где-то пьешь, лучше до меня не дотрагивайся!
Но Имро минуту-другую не отпускал ее, пытаясь заглянуть ей в лицо, потом только улыбнулся, вернее, ухмыльнулся, и рука его медленно, словно бы он хотел, несмотря ни на что, Вильму погладить, снова повисла.
И этот вечер, хотя поначалу Имришко и радовался ему, снова ничего не принес, он ничуть не отличался от прочих вечеров.
Тоскливо. Пусто. Пусто, как и прежде.
Когда-никогда он снова заходил в имение, пробовал и к Марте прижаться, и раз-другой это ему удалось, но солдатик, солдатик снова не слушался.
Имро частенько над этим подтрунивал и над собой подшучивал, случалось, и при других. Будто ему и впрямь все было трын-трава. Иной раз выпивал и тогда осмеливался отпустить и скользкую шутку, а нередко, чтобы от себя отвести внимание, кидал камешек и в Вильмин огород. Иногда они меж собой и ругались, и мастеру приходилось вмешиваться, хотя Вильма — у нее-то уж было время понатореть — и сама неплохо справлялась и часто умела поддеть Имро так, что его как следует пронимало. Раз, когда он обидел ее, крепко разозлив, она нарочно сдержалась, выждала, пока они остались одни, и лишь тогда шепотом сказала ему: — Бедняжка, постели боишься! Сожрал мою жизнь, а теперь и постели моей боишься. Оттого-то всякий раз меня оскорбляешь. Только оскорблять и умеешь.
Имро после этого еще сильней запил. Чувствовал, что это вредит ему, но не щадил себя. Бывало, много дней кряду вваливался домой пьяным и всегда находил в горнице разобранную постель, на которую с трудом забирался, а уж потом пытался раздеться. Раза два залезал на постель в ботинках и еще нарочно возил ногами, чтобы сильней все загваздать. А когда совсем выбивался из сил, уставал, уже засыпая, может, даже во сне, незлобиво ворчал, будто сам для себя: — Разуй меня, разуй!.. Все… в горах!.. Все это… считай… от этих лекарств…
19
Приходит осень, и снова все клонится к худшему. Солнце хоть и светит, но уже мерклое, зачастую и днем, а поутру, поутру и вовсе, бывает, не в силах продраться сквозь молочную мглу… Порой и мглы этой не бог весть как много, но у солнца нет уже былой остроты, оно не такое чистое — можно глядеть на него не прищурясь, иногда это всего лишь обыкновенный шар или красная тарелка, что потихоньку подымается, осторожно всходя из-за облезлых полей, а иногда это как бы уже и не солнце, и даже не шар, у него нет формы, привычной для солнца, это обычная копна сена, которую какой-то забывчивый или расточительный крестьянин оставил на луговине, а невесть какой шалопай либо, может, работник, бедный пастушонок, которому было холодно и тоскливо возле коров, подпалил эту копну — она взялась огнем, вся раскалилась, а потом вдруг поостыла, мгла остудила ее, облизала ей пламя, но раскаленность оставила, чтобы озябший мальчонка и многие годы спустя мог вспоминать об этой огромной огненно яркой копне.
А как погода еще больше испортится и солнце вообще перестанет показываться, напрасно тогда глядеть на луга или на рощу, над которой что ни утро всякий день выпрыгивало, пока было еще молодым, майское и июньское солнце, чтобы по небу батраки и скотники, работники и работнички, исхудалые, но всегда загорелые поденщики и поденщицы и даже не поденщики — все эти людишки, умники, пересмешники и певцы, что не владели и пядью земли, но вечно, словно божьи жучки, в ней копошились, потому что сызмальства едва из постели, даже, может, всего лишь с подстилки в кладовке, в каморке, с сена в сарайчике, из норки или норы, черт-те откуда они выбегали, и тропка вела их порой напрямки к гнезду жаворонка, они знали жаворонка, знали и жавороночьи яички, знали и стежку к пруду, откуда из года в год вылавливал кто-то рыбешек, прежде чем они делались рыбами, а там в зеленом тростнике ухали глазастые лягушата, поднимали мудрые рожицы, подмигивали детям и учили их петь, — чтобы по нему, этому самому солнцу, все эти людишки, которые не имели часов, но знали часы и умели их делать, определяли время; по этому солнцу, что всходило над рощей, они вновь и вновь проверяли солнечные часы, пытаясь улучшить их, солнце уточняло и подправляло их меры, без устали приходилось эти солнечные часы заново рисовать, переносить, опять подправлять и опять рисовать, но им всегда в них что-то не нравилось, они мечтали о настоящих часах, наручных или карманных, их не надо так часто чинить, на них можно глядеть в тени и на солнце; однако это солнце, по которому определяем мы время, да и время на часах, учило их большему, учило не только постигать меры, не только смотреть на часы, но часы и придумывать и создавать, оно постоянно касалось их своей часовой стрелкой и учило измерять время точнее, чем они могли осознать, оно вписывало время в их плоть и кровь, а то просто давало им это время, чтобы не надо было жить по часам, чтобы угадывать время, даже не глядя на солнце; солнце открывало им, что именно в этот час, в мае или июне, оно стоит над рощей, а в августе уже над лугом, в сентябре оно пронизывает кусты шиповника и терна, а к исходу сентября и в начале октября оно освещает уже иной луг, и луг тот неоглядный, там солнце они увидят и в ноябре, если не будет тумана или дождя, но увидят его несколько дальше и немного поздней, да они и сами, минута в минуту, могут высчитать, когда на этом самом лугу ноябрьское солнце захочет им вербу позолотить. А если они еще остры на язык, то возьмут да скажут: позолотить хочет, а у самого золота нет, ноябрь дал солнцу только латуни!
20
Снаружи светит латунное, даже будто бы медное солнце, выманивает человека на волю, но Имро солнцу не верит. А можно было бы и иначе сказать: кабы солнце умело думать, а кто-то смог бы его мысли выразить словом, а верней, в двух-трех словах, можно было б сказать, что и солнце не верит ему. Они словно друг дружку боятся.
Мастер работает, он уже порядком состарился, но все еще работает. И у Вильмы полно дел. Нужно перекопать сад, повыбрать из него лишнее, кое-что сгрести в уголок и отложить под перегной или компост, одно сжечь, другое закопать, вынуть из земли то, что зимой могло бы померзнуть, кое-что надобно проредить, кое-что освободить, ну а что мешает, просто изничтожить — в саду у нее всякое расплодилось. Пожалуй, не каждый бы это заметил, ибо Вильмин сад, привыкший за прошлые годы к порядку, выглядит не так уж и плохо, но, похоже, он и сам не прочь побахвалиться и поднести кой-чего больше, чем Вильме хотелось бы, а где поднес даже то, чего Вильма вообще не хотела. Весной придется ей потрудиться в саду еще усерднее.
И в парке работы невпроворот; с березок и кленов уже облетела листва, ветер ворошит ее по траве, граблями ее надо повыгрести, ибо даже зима, коль уж быть, зиме, не должна напоминать околичанам, что в их деревне где-то непорядок. А ну как зимой не выпадет снег? Или выпадет, да тут же растает, и тогда трава, хоть и утратила зелень, глядела бы еще хуже, если бы некому было сгрести с нее листья и чуть расчесать.
По счастью, возле Вильмы всегда крутятся дети. Конечно, не бог весть какая это помощь, у Вильмы не хватает для них даже грабелек, да и были б, вы же знаете, каковы дети, в одном месте подгребут и в другом, а чуть поодаль переворошат и то, что уже сгребли и собрали в кучку, или откуда-нибудь принесут кучку, и им даже невдомек, что их кучка, над которой они немного и потрудились, ни к чему в парке. Дети есть дети, бывают и такие, которые думают, что парк на то и причесывают, чтобы в нем были какие-нибудь кучки. Вильме приходится их еще и воспитывать. Они слушаются ее, а когда и не слушаются, иной раз им кажется, что без Вильминых наставлений в парке было бы чуточку веселей. Можно было бы и костер разложить. Но об этом и говорить не надобно. Тут Вильма сама им потрафляет, находит в парке подходящее место, где можно сжечь весь мусор, отбросы и бумагу, коробки от сигарет, использованные билеты и еще многое, чем взрослые украсили парк. Дети обожают смотреть на костер. Только Вильмин костер для них всего лишь костерок. Иные за ее спиной кривят и вертят носами, эх, честное слово, они бы не такой огонек развели! Позволь она им, они, право, в Околичном все деревья бы пообломали, даже из дома принесли бы полешек, вот был бы костер! Но что делать? Раз не костер, пускай хоть костерок. А если бы и того не было, достало бы и дыма, детей и дым бы устроил. Ведь и при дыме можно крик поднять. А Вильма, хоть поминутно и одергивает детей, крик переносит. Она и сама не прочь покричать. Детям часто кажется, что она кричит больше всех. Но хоть они все время над ней и подтрунивают, не будь ее долго в парке, ее бы им куда как не хватало. Именно этой Вильмы-крикуньи детям, пожалуй, больше всего и не хватало бы. Но откуда детям об этом знать? Вильма же здесь!
А по вечерам родители частенько ругают детей: — Чем от тебя так несет? Смердишь, будто вытащили тебя из коптильни.
— Я Вильме помогал.
— Вильме помогаешь, а дома пальцем не двинешь. Ладно, только явись завтра такой замаранный и вонючий, я кривули твои враз пообломаю.
И вправду иным детям, особенно тем, кто забыл, что учил утром в школе и что задали на дом, а если и знает, что задали, то забыл сделать уроки, тем и вправду подчас достается, случается и ремнем. Однако ремень опасен до тех пор, пока не началась порка, хуже нет, когда тата держит его в руке, но когда порка уже миновала и тата должен снова им подпоясаться (у него ведь падают брюки, из-за этого он не смог даже как следует замахнуться), то уж потом ремень, когда тата им подпояшется или, если ремень служит только для порки, повесит его на гвоздь либо на вешалку, перестает быть опасным. Иной отец, у которого всего один ремень и он должен им подпоясываться, бывает и смешон. Смешон без ремня, поскольку у него штаны падают, а как подвяжется, так еще смешней. Смешон и ремень. Дети про него забывают, скоренько сделают или доделают уроки, и после ужина — шмыг в постель. Потому что ремень, хоть это и ремень, иной раз годится и для того, чтобы дети быстрей засыпали. Но прежде, чем уснут, или уже в дремоте они снова вспоминают о Вильме, чудится им, что они с ней все еще в парке, что там горит костерок, от которого они чуть воротят нос, но одновременно и радуются, наперед радуются, что завтра, а то послезавтра они опять отправятся в парк помогать Вильме.
21
Имро снова неможется. Из дому почти не выходит, все у него болит, несколько дней пришлось и отлеживаться. Вильма вызвала к нему лекаря, старого и опытного лекаря, но тот ничем особенно ему не помог; измерил давление, температуру, вытащил из сумки и фонендоскоп, с минуту выслушивал легкие, потом кой о чем еще порасспрашивал, но это были вопросы, которые он привык задавать любым пациентам, иногда, почитай, и сто раз на дню, между делом отпустил две-три шуточки, но, видать было, эти шутки ему и самому опостылели — он, должно быть, рассказал их по меньшей мере тысячу и один раз, — наконец попросил Имрову мочу для анализа, прописал лекарства, которые прописывал ему всегда, посидел немного, позволил налить себе рюмочку, выпил, затем словно обиженно, но притом как само собой разумеющееся принял от Вильмы другую, непочатую, бутылку и, сунув ее в сумку к фонендоскопу, подумал, что там, пожалуй, поместились бы и две. А чтоб и при уходе не забыть о своем назначении, он отвел Вильму чуточку в сторону, с серьезным видом покачал головой и еще раз повторил то, что уже сказал раньше, поскольку не скрывал этого и от Имро: — Голубушка, ну что вам сказать?! На дворе осень! Осенью и весной у нас беготни прибавляется. И больницы всегда переполнены. Утешайтесь хотя бы тем, что он такой, какой есть. Это не самое худшее, но лекарства необходимы. И курить надо поменьше. Постарайтесь от курева его отговорить.
— Не слушается. А лекарства он принимает. Все время.
— Надо принимать. Ну а курение хотя бы ограничить. Не хочу вас запугивать, но сигарета пока никому не шла впрок. Мочу сдам на анализ, ну а все прочее скажу, когда приду в следующий раз.
— Пан доктор, а это не опасно?
— Тревожиться не стоит. По крайней мере — пока. Когда я впервые пришел в ваш дом, я не верил, я очень сомневался, будет ли вообще от него какой-нибудь толк. А он выкарабкался, из самого опасного выкарабкался. Легкие у него в порядке. Если, как вы говорите, его рентгеновский снимок у нас, я на всякий случай еще раз взгляну. С почками и печенью — дело хуже. Оттого и ноги болят, оттого и отекают. Да и за легкими надо следить! Запретите ему сигареты, не покупайте их!
— Сам купит!
— Ну хоть теперь, пока он не выходит из дому, не покупайте!
— Не куплю я — отец принесет.
— Надо и ему запретить. Скажите, что все от сигарет. Надо обоих убедить. Но, голубушка, говорю вам, в основном это перепады, неустойчивая погода. У него и давление теперь упало, и ревматизм мучит, ведь когда осенью и весной погода вот так резко меняется, то и здоровому тяжко.
— Пан доктор, скажите, правда, ничего страшного? Волноваться не надо?
Доктор мягко улыбнулся в ответ, а чтобы еще больше успокоить — ведь он получил и бутылку, а когда придет следующий раз, опять получит, и наверняка палинку, в этом доме наверняка он получит еще немало бутылок, не раз перепадет ему тут и сотняга, — по-свойски положил ей на плечо руку. — Голубушка, ведь мы не первый день знаем друг друга. Я люблю говорить с людьми откровенно. Бояться нечего! Увидите, через два, самое большее три дня ему полегчает. Если вам что-то не покажется, если до завтрашнего вечера ему не станет лучше, придете скажете или хотя бы оставите записку, я сам приду!
— Спасибо вам, большое спасибо!
— Не за что, уважаемая. — Доктор, довольный собой, как и большинство докторов, удалился.
Имро между тем уснул. А проснувшись, сразу вспомнил о докторе. Любопытно, о чем это Вильма с ним беседовала.
— Что он тебе сказал?
— Что ты должен принимать лекарства и не курить столько.
— Это мне с самой войны говорят. Если лечить можно одной болтовней, то и из меня вышел бы неплохой лекарь.
— Перестань, Имришко! Он же помог тебе.
— Чем помог? Вот сызнова лежу. Всю жизнь, что ли, вот так вылеживать?
— Имришко, ты же знаешь, каково тебе было. Нельзя сразу вылечиться. Пройдет. Такая нынче погода. Придется лекарства покрепче принимать.
— Я уже принимал.
— До завтрашнего вечера, увидишь, пройдет. А нет…
Имро вскипел. — Что пройдет? Черта с два пройдет.
— Пройдет, Имришко! Нынче погода-то какая, видишь, все время ни то ни се.
— Так это вы опять про погоду толковали? Понять не могу, почему он не говорит это при мне, почему всегда тебе об этом нашептывает?
— Но ведь он и тебе говорил, Имришко.
— А зачем тебе потом повторял? Наверняка ты ему опять сунула бутылку. За рецепты ему платят. Зашибает и за то, что людям натреплет. А еще получает надбавку за то, что рассказывает больным один и тот же анекдот с бородой, да к тому же работает барометром. Какая по осени или по весне бывает погода — я ведь и без него знаю, а уж как буду чувствовать себя завтра — мы с ним одинаково знаем. Оба не ведаем.
— Оставь, Имришко. Он и лекарства тебе прописал. Теперь покрепче прописал.
— Зло берет, когда приходится толковать с лекарем о погоде.
— Завтра тебе полегчает.
— Завтра! Мне уже лучше, потому что я выспался. А завтра он заявится и скажет, что мне помогли его крепкие лекарства, хотя покамест я их еще и не принял.
Имро ворчит, не доволен он ни доктором, ни лечением. А Вильма доктору верит. Ведь она все время рядом с Имришко, всегда внимательно следит за ним и потому помнит, что осень Имро плохо переносит. И прошлый год было так. Летом чувствовал себя хорошо, а осенью похужело. Зимой и весной было ему уже не так худо. И нынче будет не хуже. А глядишь, еще и получше. Ведь когда Имришко было совсем плохо, он ни на что не жаловался, казалось, он и к своей болезни равнодушен. А теперь хотя бы ворчит. Это тоже добрый признак. Пускай ворчит, да хоть бы и всю осень ворчал, пускай даже задирает ее, коль ему от этого легче! Хуже было бы, если бы не ворчал! Имришко, ворчи, только бы тебе помогло! Ворчаньем меня не обидишь, я привыкла к нему. В конце-то концов, и осень не такая уж долгая. Еще две-три ночки, надут на землю заморозки, и прощай, осень.
А потом придет зима и захочет, верно, покуражиться, уж в начале декабря пойдет показывать свою силушку, явится, глядишь, в косматом микулашском тулупе, ну а коли не найдется у Микулаша тулупа, так хотя бы черт или какой чертище ударит копытом о пруд, чтобы прудик крепче и поскорее примерз и можно было бы по нему топнуть, чтобы даже и он, чертяка, позадавался, побахвалился, показал бы, как ловко он топает. А кто дал Микулашу тулуп? Ведь и у черта тулуп был, только он истрепался. Но черт не был бы чертом, не умей он и без тулупа согреться, даже более того, заманить, собрать на лед и детей — дело какое, что они без шубенок. По крайней мере узнают, кто бо́льший пан. У Микулаша митра и епископский жезл, и приходит он к бедным детям, но только на именины, на свои именины. А если нужно кого-нибудь выдрать, кому Микулаш одалживает тогда свой жезл или хотя бы узловатую палку или орясину? Сам хочет быть достойным и ласковым, а если нужно кого-нибудь выдрать, оборачивается чертом, чтобы его рассорить с детьми, но от кого у детей, в особенности у бедных и у самых что ни есть бедных, такие хорошенькие и веселые рожки? Ведь черт и сам всего лишь бедняк, была у него нарядная безрукавка, да и та вся уже порется, ему и холодно, и голодно — куда бы сходить поесть? Останавливается он у пруда и сам себе жалуется: «Опять был день Микулаша, а мне и жалкого ореха не досталось. Епископик, верно, думает, что черт не бывает голодным. Зазнайка, святоша!» Черт шарит по карманам, находит только медяк, ну а какой прок от него? Куда с ним, с медяком-то? Вертит он его в пальцах и благо в тоске вспоминает, что когда-то был ангелом, бросает медяк: тот проблескивает в воздухе и звякает о ледовый покров. «Ну, епископик, покажись-ка теперь! Кто велел пруд вверх дном подковать? Дай-ка я его еще и испробую. И эдак копытцем притопну, искру высеку — сразу все дети узнают, почему этот пруд по ночам так искрится». Он щелкает пальцами, а потом стукает копытцем об лед. Делает круг, затем полукружье и, повернувшись, начинает выписывать восьмерки. И при этом щелкает пальцами. И вертится все ловчей и бьет копытцами, прыскает искорками; отпрыснула искорка и на берег, чтобы приманить, собрать все коньки из деревни и научить всех детей танцевать на пруду, прыскать искрами, вертеться, танцевать, прищелкивать копытцами. Что из того, если один упадет, а другой потеряет пластинку или подковку? Он научит их коньком и писать, и рисовать. Правда, только одним! Другой-то конек кто одолжит? Гляньте, какие каракули! Восьмерки, круги, пируэты. А сколько пластинок, сколько подковок! Он собирает их, считает, улыбается и говорит: «Я ведь был хороший кузнец, имею и не имею, могу иметь, даже могу и согреться. Могу и других согреть! Могу и учить. Гляньте, как хорошо я учил. И все эти каракули, круги и полукружья, восьмерки и пируэты выверчены и вправду только одним-единым коньком». Он вдруг разражается смехом: «Поди ж ты, сколько восьмерок, и до чего хороши! По крайности будет у меня на цепочку!»
ВИЛЬМА
1
Как давно я Вильму не видел! Пока был ученичком, заходил к ним почти всякий день. Однако и мне прибавлялось лет — ученичок стал учеником, а ученик студентом, много времени провел я в разъездах, поздней жил в общежитии и домой наезжал только по воскресеньям, да и то не каждую неделю. Приходилось и заниматься. Но если говорить откровенно, на занятия не стоило бы мне особо кивать. Я не был из числа студентов, которые излишне утруждают себя учением. Возможно, я не ездил домой лишь потому, что занесло снегом дорогу, намело огромные суметы, а другой раз, когда снега уже не было, возможно, в городе был неплохой футбол или я отправлялся с друзьями на какую-нибудь вечеринку — правда сперва из любопытства: не знал, что это такое, — а позже, ведь и я несколько изменился, мне, пожалуй, вообще не хотелось ездить домой, быть может, никуда не хотелось ходить, просто нравилось оставаться в общежитии.
Если я родителями не интересовался — это, однако, не значит, что я их не любил, — так с какой стати интересоваться мне Вильмой? Раз в две недели или хотя бы раз в месяц я все-таки ездил домой, но Вильма не занимала меня. Обычно и времени не было. Нередко я наезжал домой лишь для того, чтобы сменить белье и набрать свежих плюшек да еще лярду — сколько бы его ни было, его хватало не больше чем на две недели, равно как и сливового повидла, а уж о других вещах и говорить не приходится! Колбасу — ее всего-то бывало две палки — я съедал уже по дороге. Не знаю, как другим, но мне общежитской еды всегда было мало, подчас я даже бунт учинял или выливал свою досаду на кухарок, которые всякий раз затыкали мне рот: — Коль вы такой объедала, ешьте хлеб до отвала! — А я и впрямь хлеб считал основой студенческой кормежки. Правда, к счастью, если мне немного подкидывали родные, у меня находилось, чем эту основу заедать. Но когда я бывал голоден, а случалось, и во время еды, я частенько вспоминал Вильму: господи, как же я у них отъедался! Нередко и в постели вспоминал я Гульданов, когда уже засыпал или как раз не мог уснуть, потому что на ужин была рыба или чечевица, что-нибудь этакое несытное, после чего начинало урчать в животе. Не раз всплывали в памяти минуты, которые я пережил у Гульданов в конце войны или же сразу после нее, особенно такие минуты, когда мастера не было дома и Вильма, благо хотела меня ублажить, стряпала для меня разные разности либо кормила компотами и напаивала то таким, то эдаким чаем, и по общежитию тут же начинали носиться почти забытые запахи: гвоздика в вине, лимон с липовым цветом, сладкие рожки, маковые или пряженые лепешки, картофельные сочни, пончики, плюшки с корицей или лапша с грушей. Сразу припоминалось мне, как я бегу в лавку с кроной или пятьюдесятью геллерами, а может, и с пятикронной, чтобы купить маленький бумажный пакетик, на котором было написано: «Франтишек Грегорович, Грушевая фабрика, Шаштин». Вновь все становилось необыкновенно живым, нередко живым и во сне, мы снова вместе ждали Имришко и нашего Биденко, переговариваясь, возможно, одними глазами, и по щекам у нас часто катились горошины слез, но мы не знали, плачем ли мы или смеемся от радости. Ведь Имришко и Биденко придут, и всем опять будет весело.
Занятно: в общежитии о Вильме я вспоминал, а дома нет, дома редко когда мне ее недоставало. Иной раз я все-таки ее встречал или хотя бы где-то углядывал — то на дорожке в парке, что все хорошел в ее руках, то сквозь тесины нашего забора, казавшегося мне когда-то высоким, а теперь низеньким, начинавшим потихоньку трухляветь, случалось, мы и перекидывались с ней немногими словами, но обычно такими, какими перекидываются соседи, которые почти все друг о дружке знают, а если и разговаривают подчас, то редко когда находят о чем. Только дома я сознавал, как я изменился, а мои родители словно бы даже не старились, и Вильма казалась мне все такой же, пожалуй, еще лучше, чем прежде, и лицом она все еще была хороша, веснушки, которые так шли ей и раньше, как бы совсем исчезли с лица. Кто не знал Вильму в прошлые годы, обычно дивился ее вечно загорелой коже. И она умела быть по-прежнему ласковой и улыбаться, но у глаз ее наметились уже морщинки, выдававшие, что она способна и рассердиться или, во всяком случае, привыкла часто хмуриться, а то и на кого-то прикрикивать. Но и эти окрики такие уж заученные, что, пожалуй, она и сама не относится к ним серьезно, скорей всего, даже не думает, что говорит, и глаза прищуривает не потому, что так привычней кричать, а потому, что постоянно куда-то всматривается, словно хочет угадать, сколько времени остается у нее на работу, на всякие хлопоты, а значит, и на окрики, сколько за жизнь она еще перекопает земли, наделает грядок, разворошит их и посеет семян, сколько напересажает клубней и всяких пучков, где насадит пионов, ирисов, георгинов, флоксов и люпинов, тюльпанов, поповников, алтеев и нарциссов, целые вороха цветов, и сколько из них будет околов, а еще синих и белых хризантем, розовых, красных, лиловых, махровых и немахровых, высоких и низких астр, сколько остается у нее на все это времени и как быстро успеет она время свое проглотить.
Но все это так, мимоходом, думалось о ней. С некоторых пор я чувствовал себя старше ее. Пожалуй, и умнее. И все, что знал о ней, мог себе объяснить. И ее простоту. Она незаметно стала для меня всего-навсего обыкновенной соседкой. Милой, свежей, моложавой, улыбчивой, простой деревенской женщиной, без которой, если и не встречу, легко обойдусь.
2
И вдруг мы стоим лицом к лицу с ней. Она катила по дороге тележку с мешком картошки и, остановившись возле меня, почти закричала: — Рудо, голубчик, какой ты большой! Ведь я тебя не сразу и признала! Еще недавно совсем малец был, а теперь, — она хлопнула меня по плечу, — господи, прямо мужик!
А я, хоть и рад бы позадаваться, пока еще в том возрасте, когда мальчишка только становится парнем. И наверно, немного краснею. Однако не хотел бы, чтобы она это заметила.
— Что нового, Вильма? — Я улыбаюсь ей и в то же время злюсь на себя, так как даже голос меня не слушается, звучит иначе, чем прежде, это голос уже не мальчишки, но и не парня, моему голосу чего-то недостает, но что-то чужое в него и вторгается. — Вы здоровы? Что делает мастер? Как поживает? А Имрих? Поправился? Работает? И мастер еще работает?
— Оба здоровы. Работают. И я работаю, как видишь. И живу хорошо. Все как прежде. В общем, неплохо живу. — Улыбнувшись, она опять хотела стукнуть меня по плечу, но сейчас лишь подтолкнула. — Лучше о себе скажи, я тобой, поди, больше интересуюсь.
— Торопишься? — спрашиваю, а потом, указывая на мешок, подхожу ближе. — Хочешь, пройдусь немного с тобой. Мешок помогу тащить.
— Ну давай. — Она уступает мне место у тележки. — А хочешь, можешь и один тащить. Мне и так хватает. Думаешь, я без тебя не управилась бы?
— Мне — тащи, а сама еще и хвалиться будешь, — подсмеиваюсь над ней.
— Коль у меня помощник, чего мне надрываться? Чужого жалеть? Хотя ты сосед мой. А может, мне охота и похвалиться, ведь я всегда такая была. — Она снова хлопнула меня по плечу, и на сей раз довольно сильно. — Ах ты, шалопут, домой небось редко приезжаешь. Давно тебя не видала. Ты ведь даже не знаешь, что я делаю. Парк-то приметил?
— Еще бы! А кто ж не приметит! Живу теперь в общежитии. А бывает, и домой заглядываю.
— Плюшек набрать, да? Занимаешься-то много? — Она все улыбается. — Я всегда знала, что из тебя что-нибудь да получится.
— Что уж из меня может получиться? Надо выдержать. Я не умнее других.
— Ох и ленивец!
— Ну что ты, я вовсе не ленив.
— Все небось прогуливаешь?
— И другие прогуливают. Хоть с ними сравняюсь. А надо будет, потом все нагоню.
— Ваши не нарадуются на тебя. Похваляются. Сколько раз о тебе говорили!
— Поди ж ты, а где?
— Да хоть у нас. Знаешь, как гордятся тобой? Иной раз и я горжусь. Если хочешь знать, так тоже тобой.
— Мной? И ты?
— Ах ты паршивец! — И опять меня хлопает. — Я что, разве мало уроков за тебя переделала? Кто тебе читал сказки и всякие побасенки: про Ромула и Рема. Как их выходила волчица. Икар, Нерон, Пиатко Пустай и Пунические войны… мальчик ты мой, ведь не только Рим горел… Помнишь «Quo vadis, Domine?»[91] Горело и Матеево ложе. Свинья бежала по болоту. Сколько ты мне книжек испортил! Еще и «Королевское высочество», и ту, про Петра Великого, а книжку, в которой про Гондашика, до сих пор не вернул.
— Ну уж нет!
— А вот и да! До сих пор не вернул! Но бог с ней, я не попрекаю тебя. Была в Трнаве и купила такую же.
— Но ведь не я причина.
— Ну так, выходит, другой. Невинная овечка! — Она сперва поглаживает меня по голове, а следом легонько хлопает, словно хочет дать понять, что ласку я не заслужил.
Но мы уже возле ворот, разговор ненадолго прерывается, и я мгновенье раздумываю — войти мне в их двор или нет. Ведь и Имро, пожалуй, дома. И он ей может помочь.
Вильма бежит вперед, отворяет ворота и проторит во двор. Вот она уже стоит у кухонных дверей и весело мне кивает. — Ну заходи, нечего уж так задаваться. Нашего двора, поди, не боишься?!
Я дотаскиваю до нее тележку, подаю мешок, она хватает его за чуб, то бишь за горловину, и мы вместе укладываем его на место.
Она позвала меня в дом. Я не собирался задерживаться, но и не очень-то хотелось ломаться. Она предложила сварить кофею, да я отказался. Поначалу нам было не о чем говорить. Сдавалось, то, что нас когда-то сближало, увы, ушло; а просто так, по-соседски, судачить? Зачем? Но хотя бы несколькими словами нужно, же перемолвиться.
— Так говоришь, все как прежде?
— Как прежде, — кивнула она. — Если хочешь чего-нибудь вкусненького, могу тебе приготовить.
— Не надо. Ведь я, может, вкусненькое уже не люблю. Мне, может, больше нравится обыкновенная пища.
Она улыбнулась. — Знаю я тебя! Смолотишь все, что предложат.
— Да? И правда! Я и не подозревал, что ты меня так хорошо знаешь. Хорошая мельница все смолотит. А я и впрямь хорошая мельница.
— Однако ж, стал больно умничать! А хотелось бы тебя угостить. Когда-то ты к нам чаще захаживал. Правда. Ничего не хочешь?
— Дома ел. Но я не спешу. С каких же пор я у вас не был?
— Мне-то откуда знать? Был ты у нас и давеча, помогал что-то мастеру, а вернее, он вам. Приходил звать его. Ты и тогда пришел только потому, что он вам понадобился, вы надумали чего-то строить.
— Ну уж не цепляйся так ко мне! Мастер на пенсии, да?
— На пенсии, — кивнула она. — Ты и впрямь ничего не знаешь. Но и подрабатывать ходит. Имро тоже. Знаешь ведь, каково на инвалидности-то. Мастер на пенсии, а Имро на инвалидности. Подчас мне сдается, что Имро с этой своей хворью малость и перебарщивает. Пожалуй, лишку с ней носится. Бедняга, кабы выздоровел, и говорить ему, глядишь, было бы не о чем.
— Ему, значит, не так уж и плохо?
— Можно выдержать. Главное, что мне не приходится уже столько крутиться вокруг его постели. Да я уже притерпелась. Ради меня ему вообще не надо работать. И хоть пенсия у мастера не бог весть какая, помаленьку бы вытянули. Я довольна, хоть и не совсем. Работы хватает. Ведь и другие не лучше живут. Я не больно-то прихотлива. Многого мне не надо. Детей у нас нет, а для Агнешкиных, да и для чужих иной раз, конфетка всегда найдется. Своих детей нет, так я хоть крестная мать. И на том спасибо. У меня двое мужиков, что один, что другой, без разницы. Но зато работают. Хотят подработать. И на еду надо, и на курево, а бывает, и маленько выпить охота. И Имро пьет. Работают в строительной конторе. Но работать можно только несколько месяцев в году, чтобы не заработать больше положенного. Иной раз и на сторону работают. Правда, и так случается. В общем, можно сказать, живем не тужим. Имро, как выздоровеет и с него снимут инвалидность, перейдет на другую работу. Господи, только бы выздоровел, бедняга! Мне уж иной раз невмоготу делается. Вечно что-то у него не так. Вот купили барометр. Думает, барометр его вылечит.
— Он, значит, все болеет? Мне казалось, ему уже лучше.
— Не то чтоб больной, да и не здоровый. Иной раз совсем никуда. Я уж свыклась с его хворями. Со всем уже смирилась. А он еще всякое сулит. И работу, говорит, потом получше найдет! Только я уж на многое не надеюсь. Ничего особого от него не ожидаю.
— Почему? Он ведь не такой старый! Может, ему станет лучше.
Она покачала головой. — Вряд ли. И у него свои годы.
— Плохо себя чувствует?
— Я почем знаю? Вроде бы нет. Особенно, говорит, ничего не болит. Рудко, да ты хоть и обо мне спроси!
— А разве не спрашиваю?
— Все о мастере да об Имро. И о другом спроси. Я уж только своему саду и парку верю. Парк, правда, красивый?
— Хороший. Я же сказал тебе.
— И люди его хвалят. Знаешь, как меня хвалят! — Она снова улыбнулась. Улыбнулась еще краше, чем раньше. — Рудко, мне бы хотелось, чтоб и ты похвалил!
— Ах ты господи! Не хвалю я разве? Только и знаю, что хвалю. Всякий раз, как приезжаю домой, любуюсь парком.
— Рудко, я ведь шучу. Но ты в последнее время так редко приезжаешь. Даже домой не ездишь. А я только парку верю, только парку теперь и верю. Хотя меня люди и хвалят, мне все кажется мало, хотелось бы, чтоб меня кто-нибудь все время хвалил. Вот и ты, Рудко! — Она смотрела на меня и улыбалась, словно хотела взглядом проникнуть в меня. — Золотой ты мой! Ты ведь сосед мне!
— Хороший парк!
— Хороший парк! — повторила она за мной и скорчила гримасу. — В самом деле тебе нравится? Господи, какая я глупая. Я только парку верю. Парку и моему любимому саду. Боже, какой у меня сад!
— Заметил. Видел. В Околичном — самый красивый парк. Нигде больше нет такого парка, ну а после него…
— Договаривай! — Она глядела на меня улыбчивыми глазами.
— Ну а самый красивый все же гульдановский сад. Если он не равен по красоте парку, то тогда парк этот не равен самому красивому саду в Околичном!
А потом я у них долго не был. Учеба опять затянула. И домой ездил еще реже, чем прежде, от силы на день, на два. Но если происходило что-нибудь особенное в семье, у соседей либо вообще в Околичном, я всегда узнавал, и обычно вовремя. Если случалось что интересное, а мама забывала отписать мне об этом в письме, она обязательно выкладывала все сразу же, как только я заявлялся домой. Обыкновенно начинала с того, кто в Околичном умер, а кто женился, кто с кем гуляет, а кто с кем подрался, кто станет после ближайшего годового собрания новым председателем кооператива, а кто бригадиром, сколько она заработала трудодней и что ей за это причитается, сколько в получку и сколько еще сверх того натурой и деньгами — под натурой она разумела зерно, и тут же ей на ум приходили куры, которая как кладется и которая начала по весне клохтать и сколько высидела, и почему другая не сидела, мама, дескать, даже и яиц под нее не подложила, хотя та поначалу тоже клохтала, а потом, однако, клохтать перестала, зря только на дворе шуму наделала, а еще одна, дескать, сотворила куда больший переполох, даже перелетела через ограду в соседний двор — что ж, пришлось подрезать ей крылья. А кошку, мол, сшиб автобус. Автобус мама называла «казенкой», да и другие пожилые околичане так его называли, а которые так его и поныне зовут. А еще она говорила — мне, ей-богу, сдается, что по меньшей мере добрый десяток лет она говорила об этом, — якобы сосед обещал нам котенка, одного-то дал, да его бог прибрал, а другого пока не дает, хотя кошка его уже и окотилась. Лойзо — ежели речь заходила о Лойзо, она обычно имела в виду Кулиха — взял всех малых котяток да побросал в пруд. Убил и нашего утенка, наверняка пальнул в него из духового ружья. Почто таким балбесам продают ружья, понапрасну только по птицам палят да по уточкам, хотя уточек уже не бог весть как выгодно и разводить. На тот год наверняка останемся без уточек, глядишь, не будет ни хлева, ни поросенка, а если и да, так самый обыкновенный, потому как черный жрать перестал, уж придется его до срока забить, пускай хоть к малым или большим праздникам будет убоинка. Глядишь, в Церовой из-под полы и удастся купить еще какого и до сретенья его хоть чуть подкормить, да вот задача — с которого потом чепрак сдавать? С черного-то чепрак никудышный, а случись убой и впрямь к малым праздникам, как потом сохранить чепрак до самого сретенья? Не разумней было бы объявить неурочный убой? А что, если кто случайно зайдет во двор да заглянет в хлев?
Как все эти заботы знакомы мне и близки, но вместе с тем далеки и чужды! Долго, к примеру, не знал я, что такое чепрак. Не знал и тогда, когда ходил сдавать его. А узнал, когда поросенка у нас уже не было. И помет исчез со двора. Сначала я этого и не приметил. Помню, однако, как он всегда ударял мне в нос и как я чертыхался, что мы не перевозим его на зады. А оказывается, и перевозить-то уж не было надобности, ничего уже не было, но во дворе у нас по меньшей мере года три-четыре смердело. В самом деле, смердело и потом, когда помета давно и в помине не было и мама посадила во дворе сперва арбузы, затем помидоры и разную зелень и, наконец, всяческие цветы, словно хотела цветами сравняться с Вильмой, но в один из своих приездов я вдруг заозирался в нашем дворе: чего же мне все-таки не хватает? В нашем чистом, красивом, ухоженном, засаженном цветами дворе мне вдруг стало недоставать знакомого, нашего привычного, чуть бедняцкого, чуть забытого запаха.
И о Гульданах я почти все узнавал, ведь это были наши соседи. Они захаживали к нам, а наши — к ним: когда занять яйцо или дрожжей, хе-хе, когда перцу или рюмочку уксусу, а то и просто так, поболтать или, если хотите, иной раз отведать винца. Я знал о них все, что хотел знать, а если и нет, то все равно знал о них больше, чем другие. Что-то мне рассказывала мама, что-то отец, да и мастер не скупился при мне на слова. И Вильме порой хотелось выговориться. Кое о чем узнал я раньше, кое-что дошло до меня поздней. Но уж если и кому-то другому обо всем надо узнать, придется нам, конечно, кое-что и присочинить.
Да и вы не прочь присочинять, не правда ли?
О Гульданах люди понапридумывали, понарассказывали, понараспускали столько всяческих былей и небылиц! Старики рассказывали и такие, о которых уже забыли, а если их и вспоминал кто, люди улыбались, иной раз призадумывались, но чаще пожилые, молодым же многие истории вообще ни о чем не говорили. Некоторые были только о мастере, поминался в них, возможно, и Карчимарчик, один жестянщик, иначе дротарь, старый холостяк, у которого было немного польское или, пожалуй, всего лишь оравское или кисуцкое[92] имя и немножко польского или словацкого ума-разума, который, однако, он должен был сперва накопить, начав сразу же, как появился на свет: только мать его народила, повитуха положила его на деревянную лопату, чтоб не отличаться ему от остальных словацких дротарей, выставила лопату в окно и сказала: — Ходить тебе, дите, по свету, по свету, по свету, Карчимарчик! — Вы-то это знаете! Вот и пошел он с севера на юг, с юга на запад или на восток, но, так как не мог еще носить короб и даже треснутый глиняный горшок не умел путем оплести, коробейничал по деревням, да и в Будапеште, в Вене и, конечно же, в Братиславе и Праге. Продавал там вешалки, а может, одни мышеловки. Позже он и сам научился мышеловки и вешалки мастерить, научился и горшки оплетать, мог и короб носить и вот познакомился с Гульданом. Со старым Гульданом. А потом они вместе вдоль и поперек свет обошли. Один с коробом, другой с топором и угольником. А потом с ранцем. Топали пешком из Вены в Горицию, а может, в Верону, мечтали увидеть и Понтийские болота, да не увидели, не видели ни Милана, ни Неаполя, ни вечно цветущего над ним Везувия, не видели даже Рима, хотя тот, кто шел за ними и также тащил на спине ранец, обещал им: нынче папе римскому прикладами окна утрем! Ан не утерли. Только им утерли. Каждому что-нибудь другое. Которому задницу, которому только нос. Научились они есть траву и кору от деревьев, хотя поначалу им и пришлось убеждать друг дружку, что трава и кора хороши. Правда, как для кого. Им это нравилось. Раз говорю — нравилось, вы должны мне верить, это они мне сказали, я тогда был еще сопляком. Ну а если вы были или до сих пор остались еще сопляками, так верьте мне! Оба подхватили малярию. А кто не подхватил? Скажите, который солдат, если он действительно был солдатом и был в Тарнополе, под Стоходом, в Зборовской битве или еще где, в Сибири или на Пьяве, в Черногории или Иркутске, в Гориции или за Байкалом, в Триесте, в Пуле, в Венеции, в Градо или Биробиджане, даже, может, во Владивостоке или Маньчжурии, ну скажите, пожалуйста, который солдат или с первых же боев пленный, если еще многим раньше не потерял рук и ног, не стал от голода заикаться, не заработал язву желудка или куриную слепоту и даже не оглох, который солдат не подцепил малярию или какое другое свинство?
Обо всем забыто! Мы забываем! Особенно если вместо ранца снова находим обыкновенный топор, тесак, складной метр или простую мотыгу, лопату, грабли, заступ или только кирку, а где короб или, может, всего-навсего проволоку либо жесть, а то лишь кусок жести, и вот уже снова бредем: ходить тебе, дите, по свету, по свету!
О топоре и о жести они не забыли! Гульдан с Карчимарчиком — наверняка нет. Однако у людей короткая память, и те, что любят потолковать, толкуют лишь о чем-то одном, о другом уже меньше, кой о чем неустанно, а кой о чем вообще никогда.
Зачем говорить? Быть может, вас и это уже утомляет. И меня. Меня утомляет, что я вас утомляю. Я знаю, почти каждому собственная мозоль кажется важнее, и ему неохота тревожиться о чужих мозолях, тем более о такой, что уже гниет или вовсе сгнила.
А впрочем, почему мы об этом говорим? Почему и Карчимарчика снова вспомнили?
Кто это, собственно, был? Где он жил? Как жил? Куда пошел и докуда дошел? Как умер?
Он здесь, он и в этой книжке! Ищите его!
Это был пехотинец! И свой долг он исполнил! Разве тот или иной солдат плох лишь потому, что погиб преждевременно? Разве плох солдат лишь потому, что погиб у самой границы? Пехотинец преждевременно не умирает.
Что, если перед смертью он отдал товарищу ножик? Или кусочек сахару? Что, если ради товарища он отказался от последней картофелины? А товарищ его, прежде чем съесть кусок сахару или картофелину, успел перемахнуть через границу и только позже, может, гораздо позже хлопнулся наземь, потому что тем временем уже кто-то другой, следующий, бежал с дарованным ножиком или дарованным сахаром, пообещав, возможно, товарищу взорвать мост, быть может тот мост, что сам строил, и, если пришлось, сумел так доблестно исполнить свой долг, что и сам взлетел на воздух… Должно быть, уйти не успел. Но все равно он выстроил новый мост. Он сам стал мостом, по которому затем пробежали другие. Хотя и немного иначе…
Если я поднимаю зернышко мака и кому-то дарю его, во мне по меньшей мере тысячи рук, помогающих мне простереть руку!
Вот так-то, кибицы! Да вы же кибицы! Литераторы! И не напускайте на себя столь умного вида! Поймите же наконец, что такое субординация. Литература принадлежит жизни, она часть жизни. Но и ей положено знать, что более важно.
Мне-то все ясно! А кто не знает часов, с тем бесполезно толковать о времени.
Ах, негодники! Мошенники! Прохиндеи!
Кто хочет измерить разум, тот должен разбираться в мерах. Не в кукурузе! Не меру же кукурузы я имею в виду!
Мера потому и мера, что у нее свои измерители. А вот кое-кто прислушивается лишь к позывам собственного желудка. Ан нет, свободолюбцы!
Если нет бога, я должен быть богом или Эйнштейном. И человек велик, велик прежде всего тем, что сознает это, равно как и то, что такое ответственность. Обыкновенная ответственность. Если взвешиваешь кукурузу, то надо глядеть не только на мешок с кукурузой, но и на весы. Ведь так, брюхачи? Мера есть мера! Кто разбирается в мерах, того не проведешь, он умеет измерить и собственное брюхо, но при этом еще и поглядывает на брюха других, чтобы увериться, что его меры действительно правильны. Кто знает толк в мерах, чувствует себя свободным, понимает, что такое свобода и для чего существуют границы. Границы ведь для того, чтобы человек знал, куда он взошел, докуда дошел. Границы для того, чтобы человек не боялся свободы. Кто не разбирается в мерах, тот — куда бы ни взошел, чего бы ни достиг и до чего бы ни дотянулся — до конца не свободен, до конца не свободен…
Каков человек, таков и бог. Каково общество, таков и бог общества. Ну а нет бога, так и ладно, зачем его хватать за штаны? Иначе ведь и черта надо хватать за рога, чтоб не очень бодался… То-то же!
Миль пардон! Выходит, нам так и не удалось избежать этого отступления. Н-да! Но по крайней мере мы немного его сократили. Diabolus in poetica[93]. Надеемся, критики нам простят! А впрочем…
Друзья, историю пишут люди! Разумеется! А кто пишет книги?! Ах, если бы историки нам вновь об этом напомнили! Кабы они нам почаще об этом напоминали!
Исторический факт — это торба, которую нужно наполнить!
Кто это сказал? Что-то не припомню. Но все равно, исторический факт — это торба, которую нужно наполнить, вот так-то! Однако нужно беречь, беречь торбу! И торбу, друзья!
А главное, нельзя забывать, что в войнах, в войнах приходится гибнуть и дуракам, и даже чаще всего дуракам. Сколько погибает хороших и честных людей! Но Карчимарчик не был дурак! Боже ты мой, сколько погибает хороших и честных людей!
Вот так-то!
Если я беру зернышко мака…
3
Мы, однако, собирались говорить о другом. А по ошибке снова чуточку отклонились. Прошу прощения, это я отклонился! Прости, дружище! Простите, друзья! Умей вы писать, вы бы не отклонились…
Но не беспокойтесь, у нас все уже наготове!
Как-то раз Гульдан с Карчимарчиком… Как-то раз Карчимарчик с Гульданом… Как-то раз мастер Гульдан и трое его сыновей… Как-то раз мастер Гульдан и Имро… Как-то раз Имро…
У Гульданов все в порядке. По крайней мере на вид. Время от времени у них и потехи хватает. Особенно тогда весело, когда мастер с Имро идут куда-нибудь подработать и там немножечко выпьют.
Как божился мастер, что он в жизни не пойдет на халтуру, как ненавидел халтурщиков, как презирал их. Но кройка есть кройка, она остается ею и у мастера в пальцах, бывает, он и радуется, что ему, а вместе с ним и Имро еще предлагают халтуру. И Имро выпивает. Не раз уже приходил домой под хмельком. Есть у него и отговорка. Мол, ежели выпивает, у него перестает болеть голова, он не чувствует себя таким слабым и усталым. — Ох уж эта твоя усталость! — вздыхает обычно Вильма. — Главное, что у вас у обоих есть на что сваливать!
Друзей у Имро немного. Хотя в ладу он со всеми. Но дружит не со своими ровесниками. Ближе ему Ранинец, иной раз захаживает он к нему в имение и, как прежде, так и теперь, заглядывает в дом Габчо, посидит у Марты, иногда поговорит с Доминко. И Доминко уже студент. Говорят, инженером будет. Имро узнал об этом от Марты. Ранинец еще и прибавил к тому, разумеется в шутку: — Наш Доминко, а он и впрямь наш, будет наверняка инженером. Помнишь, Имришко, как он свалился в навозню? Вот и выйдет из него такой инженер-навозник. Бедный мальчонка, но он заслуживает, заслуживает того, чтоб учиться. Жаль, отец не дожил до этого!
Имро подружился в имении и с цыганами. Каждого величает по имени или по прозвищу. Чаще по прозвищу. Потому как почти всех зовут одинаково. По меньшей мере семеро Янов! Одни Бирко и Стойко! И они Имро любят, женщины ему «выкают», а мужчины нет, называют его «строитель» и могут — особенно в корчме: «пан строитель то да пан строитель се», как-никак знаются со строителем! — могут ему и «тыкать».
А в остальном — ничего нового. Все по-старому! Даже и у меня ничего нового. В Околичное наезжаю редко, хотя люблю Околичное! Знаете, как мне все в Околичном нравится!
Не только парк. Все мне нравится, ведь я там родился, и многие вещи мне о стольком говорят, даже если для других они ничего и не значат.
Ну и разумеется, парк, этот парк. Он молодеет, вновь молодеет, даром что газонам, кустам и деревьям в горах, лесах и парках прибавляется лет. Да, прибавляется! Мы молодеем помаленьку! Помаленьку, помаленьку молодеем!
А бывает, мы еще и взыграем духом, особенно если хорошая погода, иной раз нам весело. Гульданам, мастерам, да и подмастерьям должно быть иногда весело, а иначе бы мы никого не развеселили!
А у Гульданов иногда так весело — аж стены трещат. И Вильма временами веселая. Правда, всяк умеет веселиться по-своему, а кто не умеет, ну тогда, глядишь, дети его развеселят. Кой-кого только чужие дети.
Знаете, сколько подчас детей у Гульданов! Таскаются за Вильмой. Но мастер и Имро уже с ними свыклись. Частенько все вместе ужинают. И мастер их иногда проверяет, и не только таблицу умножения. Нередко за столом устраивается и стрельба. Особенно когда на ужин печеная картошка. Мастер сначала подходит к плите, вытаскивает из духовки противень и высыпает горячую картошку на стол, при этом он обычно насвистывает, петь начинает, когда сядет за стол, вокруг которого не менее дюжины детей, и тогда мастер уже не только поет, но и дирижирует, да еще кулаком разбивает картошки.
Все солдаты носят форму, Сапоги, фуражку. Каждый писем ждет из дому От своей милашки!Дети помогают:
Генерал, генерал, Генерал опять ворчал! Видно, будем и в гробу Топать строем под трубу.Мастер раздавливает кулаком одну, две печеные картошки. И Имро грохает кулаком об стол, да еще выкрикивает: — Раз и два!
Песенка продолжается:
На наличниках резьба, Над хатенкою труба, Сидит мама у окна, Вертит мельничку она, Вертит, будто завели… Мелко кофей намели! Вот под вечер завернет В хату старый, Позабавит, разведет Тары-бары…Мастер взглядывает на Имро, и тот опять выкрикивает: — Раз и два!
Дети снова подхватывают:
Генерал, генерал, Генерал опять ворчал! Видно, будем и в гробу Топать строем под трубу.Мастер сглатывает слюну, а поскольку в помощь себе он взял и картошку и даже успел откусить от нее — крошка из горла влетает ему прямо в нос, но он сразу же выфыркивает ее, будто хочет тем самым подтвердить детям, что каждая первая доля в двухчетвертном такте ударная.
Чтобы было нам светло, Продырявлено окно, Я б штанов не намочил, Каб их вовсе не носил. Крутит, будто завели… Мелко кофей намели! Вот под вечер завернет В хату старый, Ломит кости у него. Тары-ба…Имро, а ну-ка не забывай!
Имро выкрикивает: — Раз и два!
Но тут он видит на столе миску со шкварками и выпаливает: — Миска!
И дети — ведь там только самые умные, поскольку почти все они из Околичного, — вмиг понимают, что должны песенкой пояснить, что такое ритм.
Миска, чарка, миска, чарка, Гимназия, реалка. Возьми бумаги пол-листа. Взошла полярная звезда.Вместо Имро выкрикивает теперь мастер: — Под Олимпом! — Выкрикнул и чуть было опять не подавился картошкой, от которой только что откусил и хотел одним пыхом проглотить.
А дети уже радостно подхватывают:
Под Олимпом, под горою Белая ромашка. От меня теперь не скроешь, Чья же ты милашка…Мастер меж тем весело откашливается, улыбается детям и, конечно же, Имро и Вильме, однако это не должно быть «ударным», в главе или в песенке, в такте или стихе не нужно что-то особо подчеркивать, не так ли?
Моя хатка в три окна, Соломою шуршит она. Ушел дружок в Горицию. Осталась я девицею.Имро на сей раз не выкрикнул. Должно быть, забыл, а напомнить было некому. Вот и дети забыли о припеве. А Вильма все равно всем улыбается, хотя, пожалуй, уже с полчаса, как ее начала одолевать зевота. Она взглядывает на часы, потом переводит взгляд на стол. — Ну, дети, картошку вы съели, пора и спать!
А как-то раз оба явились замызганные, все заляпанные грязью. Вильма опешила: — Господи, где вас носило?
Имро и слова не мог выговорить. А мастер, благо еще и дома пребывал в добром настроении, только усмехнулся и сказал: — Знаешь, Вильмушка, мы это… Просто малость забылись. — И следом, все еще испытывая потребность шутить, опять ввернул: — Ходили глядеть, где тебе коноплю мочить.
— Какую еще коноплю! Что за конопля? Нету у меня никакой конопли.
— Ладно, Вильмушка, — никак не унимался мастер, — я ведь так просто, может, когда и будет у тебя какая конопля. Выглядывали мы с Имро местечко у воды, откуда потом тебе будет сподручней вымачивать.
— Ах вы, старые олухи! — Она обхватила Имро вокруг талии: ей казалось, он вот-вот рухнет.
— Не бойсь, с него как с гуся вода, — махнул мастер рукой. — Мне пришлось его дотащить, чтоб ненароком возле этой конопли не уснул. Уложи-ка его в постель! Увидишь, завтра про все забудет, будто ничего и не было. А я должен на минуту выйти. Имро разговор мне перебил.
4
Она осталась с Имро одна. Наскоро разобрала постель, но, когда попыталась уложить его, он, немного уже очувствовавшись, стал упираться. — Не-е, мне еще неохота спать.
— Не дури, Имро! Ты едва стоишь на ногах.
— Нет, мне неохота спать. Не пойду спать, не хочу в постель.
— А мне что! Ты ведь шатаешься! Ну так! Куда же ты лезешь?!
Она начала его раздевать, он продолжал сопротивляться, но вскоре — видать, был и впрямь изнурен — подчинился, дал себя раздеть и уложить. Она дораздевала его уже в постели, а чтобы он на нее не сердился, несколько раз погладила его, сперва по голове, потом и по плечу погладила и невольно, как бы позабывшись, а может, просто потому, что ей показалось, будто и Имриху если не всегда, то хоть в такую минуту это приятно или, во всяком случае, могло быть приятно, невольно прижалась к нему.
Имро стерпел. Да и сам раз-другой легонько погладил ее по спине, ей подумалось, что он собирается ее еще ближе привлечь, она готова была поддаться ему, и вдруг ей самой захотелось, опять захотелось, чтобы и Имро погладил ее, пусть даже сейчас, когда он в подпитии. А возможно, он и не очень-то пьяный, может, больше притворяется. Она подсела к нему и начала гладить. Нагнувшись, поцеловала в щеку. Но он почти обиделся: — Не целуй меня!
Она улыбнулась. Потом сказала: — Не сердись, знал бы ты, как несет от тебя палинкой, радовался бы, что хоть кто-то до тебя дотрагивается.
— А ну скажи еще раз!
— Другой, ежели такой пьяный, радовался бы, что хоть кому-то не противен!
Теперь уже Имро ей улыбнулся: — А я, правда, тебе не противен?
С минуту они глядели друг на друга, и Вильма — кто знает, серьезно или в шутку — процедила сквозь зубы:
— Свинья.
Ноги у Имро были уже на изножье кровати. Вильма разула его и раздела и даже прилегла к нему ненадолго. Они обнимали друг дружку. Но Имро обнимал ее так, словно бы уже спал.
— Все у нас… В горах… Перестреляли мы…
И очень скоро в самом деле уснул.
Какое-то время Вильма лежала возле него. Вдруг и она почувствовала себя ужасно усталой. Забыла даже, что лежит рядом с Имришко, захотелось уснуть. Уснуть по-настоящему и совсем забыть…
Но внезапно она вспомнила, что наказала соседке купить для нее в лавке дрожжей. Что, если бы соседка тут ее застала? Ох, провались к черту этот пирог! Зачем он, для кого? Скорой всего, его и есть-то некому будет. Но ведь и послезавтра снова надо будет печь или варить. И варить и печь! А может, и то и другое. Зачем? Без конца одно и то же, варить и печь, работать, убивать время в работе, без конца одно и то же. Изо дня в день! Вкруговую!
Она потихоньку слезла с кровати, оделась и вышла во двор.
На дворе сама над собой завздыхала: — Господи, что у меня за жизнь! Он был в горах, а я там по сю пору! Да кто об этом знает? Бог ты мой, ну кто обо мне что знает?..
А как-то раз — у меня тогда уже накопилось порядочно книг, некуда было их складывать, и я рассовал их все по углам, дома и в общежитии, — понадобилась мне для них полочка, а покупать не хотелось. Денег у меня, у студента, не было, и я хотел самую что ни есть обыкновенную. И вот подумал: тут ведь даже столяра не надобно, сколотить может ее и сосед. Я умышленно пошел к Гульданам рано утром, полагая, что мастер с Имро еще дома, но оказалось, они ушли на работу раньше обычного. Иди знай!
Стучу, вхожу в кухню, в кухне никого. Но мне почудилось, что, когда я отворял дверь, кто-то прошмыгнул в горницу. Да, кто-то прошмыгнул, но двери остались открытыми — я заглянул в них. И тут же должен был извиниться: — Прости, Вильма! Не помешаю?
Она плакала. Я охотно тут же бы и улизнул, да было поздно.
Она испугалась моему приходу, быстро утерла слезы и заставила себя улыбнуться. — Ну что ты, Рудко! Ты не помешаешь. Если хочешь, заходи! — Она попробовала улыбнуться приветливей, но у нее снова навернулись слезы. — На меня лучше не гляди!
Я даже забыл, зачем и пришел к ним. Правда, чуть погодя вспомнил.
— Знаешь, Вильма, мне бы Имриха или мастера. Нужна маленькая полочка. Книжки некуда поставить.
Она обрадовалась. Но лишь тому, что нашлось о чем говорить. — Полочка — ерунда. В два счета они тебе ее сделают. Что Имро, что отец. И давеча мастер делал полочку, правда для кастрюль. И для книг сделает. Это для них — дело плевое. — И снова залилась слезами. Но тут же и рассмеялась или, во всяком случае, попыталась улыбнуться. — Извини, Рудко! Я нынче совсем никудышная. Спроси меня кто, отчего плачу, я, поди, даже и не отвечу.
— Я ведь только насчет полки. А вмешиваться ни во что не хочу.
— А ты и не вмешиваешься. Но я все равно глупая. Не сердись, Рудко!
— Почему глупая?! — перевожу я разговор. Надо же мне было прийти! — Поплачь, коли нравится.
— Вот я и плачу. Только и знаю, что плачу. А бывает, и не плачу. Чего на меня нынче нашло? Может, просто я давно не плакала. В парке теперь меньше работы, я и поглупела.
— Не оправдывайся.
— А я и не оправдываюсь. Правда, я поглупела. Рудко, ты же меня знаешь. Ты бывал у нас часто, и я тебе все выкладывала. Мне не с кем было делиться, всегда все самой приходилось проглатывать. Одному тебе, мой золотенький, я всегда все рассказывала, хотя многого ты тогда и не понимал. Ну что у меня за жизнь, Рудко?! Как же я его изождалась, золотой ты мой, ведь мы с тобой вместе ждали, ну а как пришел наконец наш Имришко, ты ведь тогда и сам, Руденко, заплакал, а я, пусть он и муж мой, и впрямь мой Имришко, а я должна была еще и тогда перемогаться, а что мне с того? Только и знаю, что перемогаюсь, хотя долгое время думала — вот Имришко поправится, и все пойдет по-другому. Ан ничего не изменилось.
Я и не знаю, что сказать. До конца вроде и не понимаю ее. А может, просто не хочу понимать.
— А я-то думал, Вильма, — наконец мне удается хоть что-то сказать, — что он уже выздоровел и вы ладите меж собой.
— Да ведь и мне, Рудко, сдается, что он выздоровел. И сам он меня в этом всегда уверяет, но подчас у меня такое чувство, будто он на меня зло держит. А иной раз и правда злится. Мы и ладим и не ладим.
— Поговорила бы с ним.
— О чем? Обо всем уж говорено. А он меня, видать, еще и боится. Бывает, на меня и прикрикнет, но и эти окрики словно бы оттого, что не хочет со мной слишком ладить, словно как раз моя доброта и нагоняет на него страху…
— Будет тебе, Вильма! Ведь и я его капельку знаю…
— Не знаешь, Рудко. Я иной раз такая несчастная, уж и сама себя пугаюсь. Зачастую даже не знаю, как и заговорить с ним. Разве знаешь, в каком настроении он заявится, как вести себя с ним: может, лучше отойти, не разговаривать, либо, наоборот, заговорить с ним. Рудко, нет моих сил больше.
— Я вроде не понимаю тебя, Вильма. Может, все тебе кажется хуже, чем есть на самом деле, вот потому ты так и горюешь.
— Нет, Рудко. Я всегда все стараюсь загладить. А хоть бы я и не хотела терзаться, он меня истерзает. Пусть я ему ничего не говорю, он и сам томится и думает небось, что я это вижу, даже будто выискиваю, оттого меж нами такие нелады. Доколе это будет тянуться? Что это за жизнь?
Иногда она пыталась растолковать мне это еще обстоятельнее:
— Рудко, ты ведь уже взрослый, можно с тобой в открытую говорить. Вовсе не обязательно, чтобы он спал со мной. Не надо мне от него ничего, только бы он когда-никогда замечал меня, чувствовал, что я рядом, а то мне кажется, я ему в тягость, хоть я тоже одна. А как страшно подчас быть одинокой. Я не жалуюсь, Рудко, говорю тебе лишь потому, что ото всего устала. Сил моих нету. Сил больше нет мириться со всем. Пусть бы он хоть иногда меня замечал, пусть бы хоть замечал, я и то была бы довольна. О детях я теперь и не думаю. Где мне о них думать! У меня нету детей. У нас нет детей. Но на свете детей хватает. И у Агнешки дети. Была б охота, найдешь о ком позаботиться. Я ведь и о нем заботилась и по-прежнему забочусь, ведь он что ни день хворый. Без конца хворает, без конца хворает, ведь на инвалидности, сил у него меньше, чем у отца. А он и этим всем тяготится. Зачем я только замуж пошла? Прежде-то он таким не был, но я была другая. Совестилась. Да чего там толковать? Знаешь, мне все время сдается, будто он хочет дать мне понять, что я не нужна ему, что ему было б лучше, не будь меня рядом. Но я и это могу объяснить. И оправдать. Должно быть, болезнь ему в тягость, небось думает, без пользы он, проку от него никакого, да и я от него ничего не имею, кроме забот, оттого он так и упорствует и ничего от меня не хочет. Ничего от меня не хочет. Рудко, только ведь и мне он нужен. Нужен мне! Он в это даже, может, не верит. Как ему это доказать? Что доказать? Скажи, Рудко, что мне ему доказать? Рудко, у меня ведь нет человека ближе, чем он. Хоть бы поговорил со мной! Ничего больше от него не хочу. Хочу самую малость. Намедни я вроде бы в шутку хотела его обнять, а он так досадливо поглядел на меня. Ну разве это жизнь? Скажи, Рудко, какая это жизнь?
5
А как-то раз, уж и не помню, зачем пошел к ним, она так разгоревалась, что я просто оторопел.
И опять жаловалась на Имро, говорила, что она ему не нравится — дескать, разонравилась сразу же после свадьбы, а нынче еще меньше нравится, потому что она, дескать, уже не такая красивая, как прежде.
Поначалу я только слушал, а потом взялся ее разубеждать: — Что ты болтаешь? Ты отлично знаешь, что это неправда, что ты такая же красивая.
Но она заладила свое, печалилась, что уже постарела и что Имро поэтому ее ненавидит, в самом деле, мол, ненавидит ее.
— Не болтай! Ты такая же красивая.
— Если красивая, почему он меня тогда ненавидит?
— Он тебе об этом сказал? Откуда ты взяла? Вобьешь себе что в голову, а потом ешь себя поедом.
Она низала меня заплаканными глазами: — Рудко, ведь он меня по-настоящему даже не видел. Сперва я стыдилась, а позже у него пропал ко мне интерес. Ведь он и дома-то не был. Когда он мог меня видеть?! А нынче? Хотя всякий день я ему стряпаю, обстирываю его, ему и дела до меня нет, он даже иной раз намекает, что я раздражаю его. Правда, я еще красивая, Рудко?
— Я тебе уже об этом сказал.
Однако слов моих ей было мало. Понять не могу, что на нее вдруг накатило, словно бы с ней сделался какой-то припадок: ни с того ни с сего она сдернула с себя платье и предстала передо мной в чем мать родила.
Я опешил. Совсем растерялся. Не знал, что и предпринять впопыхах. Но и смущен был. Лучше бы она оделась, да разве ей прикажешь? Я обнял ее.
Она еще пуще расплакалась. Дрожа всем телом, целовала меня, даже вроде кусала, прокусила мою рубашку и знай повторяла: — Я же красивая, Рудко, правда, я красивая? Я ведь знаю, что я еще красивая, скажи мне, Рудко. Скажи мне, что я и тебе нравлюсь.
— Нравишься.
— Еще повтори. Прошу тебя, повтори!
— Перестань реветь!
— Я же ведь красивая, Рудко, повтори мне! Назло буду реветь. Повтори, не то еще сильней разревусь!
— Если не перестанешь реветь, я тебя стукну, вот посмотришь! Хотя нет, Вильма, я тебя не ударю.
— Ну повтори! Или ударь меня, ударь меня, Рудко!
Боже милостивый, зачем я пошел к ним? Зачем я пошел туда?
6
Несколько дней я злился. Правда, не знал на кого. На Вильму злиться было невозможно. На себя злиться? Почему на себя? Я мог сколько угодно обзывать себя дураком, да хоть и обзывал — дела это не меняло. Это даже никого не могло обидеть, да и почему обидеть? Кого обидеть и за что?
Я вновь и вновь обо всем размышлял, о Вильме, пожалуй, я думал и раньше. И в общежитии. Правда, не так часто… А впрочем, часто не часто, я могу и так и эдак сказать. Могу и соврать. Ловко совру, так, может, никто и не заметит. Никто не станет меня обвинять в том, что я вру. Поэтому могу теперь наломать, что хочу. Если врешь по пустякам или несешь какую-нибудь околесицу, этого и впрямь никто не заметит, кому до пустяков дело, а вот если в чем-то серьезном, в чем-то таком, что кажется людям значительным, тут уж никак не обманешь, поскольку о серьезных вещах знают почти все, да и умеют о них пространно высказываться. А того, кто высказывается пространно, никогда не словишь на ошибке. Никто не скажет о двугорбом верблюде, что у него всего один горб, и любой несмышленыш ученичок знает, что горб может быть один, но верблюды бывают и двугорбые. Только иной раз и сам учитель, учитель и тот частенько не знает, чем, к примеру, питается такой обыкновенный верблюд. Травами, травками… А вот как они называются? Но зато ни один учитель не преминет напомнить ученикам, что верблюд — это корабль пустыни и что по окраинам ее, а главное, в так называемых оазисах, где более всего влаги, где способно даже жирным растениям, растут не только кактусы, но и пальмы. Ни один учитель не забудет напомнить об этом ученикам. А если ученичок не знает того же, что и учитель, то, вполне вероятно, схлопочет и единицу. Если вы бы вновь спросили учителя, что такое пустыня, он, пожалуй, сказал бы: Сахара. А захоти вы знать больше и пригрози ему тоже единицей, он, может статься, и добавил бы: ну пустыня — это опять же корабли, караваны, кактусы, песок, пирамиды.
Я могу что угодно тут наболтать, но это лишь потому, что знаю — люди болтуны. И вы, да-да, я и вас имею в виду! Кто требует от меня, чтобы я пережевывал то, что вы сами изо дня в день неустанно жуете? Скажите, о чем болтать? А вы, наверное, были бы рады, если бы я говорил и о вас?
А вот у Вильмы и у Имро Гульдановых нет времени на всякие пересуды. Ни один порядочный мастер, подмастерье или добросовестный ученик не может быть болтуном. Кто должен надсаживаться, тому болтать недосуг.
Это вы — болтуны!
Эй, ущипленный гусь, можешь снова загагать!
А я могу снова вернуться к тому, о чем хотел рассказать, надо же как-то закончить нашу историю, для вас история все-таки самое главное.
Хотел я или нет, а непрестанно думал о Вильме. А со временем мысли о ней стали все больше будоражить меня. И не будь она такой красивой, воображение мое все равно заработало бы на всю катушку. Особенно вечерами мне часто казалось, что, кроме нее, хоть она и старше меня, ни в Околичном, ни в целой округе, а то и в целом свете нет для меня ни одной другой красивой женщины. Меня стало мучить даже то, что мне в ней нравилось, я внезапно острее увидел все, что когда-то давно пережил с ней или что просто подметил у нее. Вдруг мне начало недоставать ее веснушек, о которых я знал и прежде, только теперь они так приспособились к коже, что сделались совсем незаметны, но я-то помнил их еще по прошлым годам. И вдруг начал терзаться: так ли оно на самом деле, действительно ли она весноватая? Была весноватая? Вдруг мне представилось, будто вовсе не была. Ну и ну, чего только время не сделает! А может, шея у нее и не весноватая. Или да? Почему ж я лучше этого не разглядел? На шее, на шее, пожалуй, и не бывает веснушек. Нет, Вильма не весноватая. Может, и не была никогда. А вообще — зачем над этим задумываться? Почему мне пришло это в голову?
А почему она хотела, чтобы я ей повторял, что она мне нравится? Почему хотела, чтобы именно я это повторял? Ей-богу, надо поглядеть на эти ее веснушки.
Я даже не обнял ее, хотя она и льнула ко мне. Если бы она так не хлюпала! Чего она так ревела? В самом деле, я едва ей не врезал! Дуреха! Она же чуть не била меня…
Но эти веснушки… Хотя дело не только в веснушках. Ведь она была совсем голая. Ошалеть можно! Ни с того ни с сего взяла да разделась! Что ее стукнуло?
Может, этими веснушками я немножко попользуюсь?!
Только когда? Допустим, сегодня суббота, в субботу и в воскресенье мастер с Имро дома. В понедельник мне опять на занятия. А что, если мне попробовать заболеть? В понедельник заболею. И никуда не поеду. Ей-богу, уж очень меня занимают эти веснушки. Глядишь, я и вправду ими немножко попользуюсь.
7
В понедельник утром мастер с Имро ушли на работу, наверно в эту свою строительную контору, а может, работали где-то на стороне, но я видел, как они уходили. Потом я заметил и Вильму, она вышла со двора минуты через две после них и довольно долго возилась в парке — бог знает, что она там делала. Уж что можно в таком парке делать! Коли все отлично растет, человек там может только или мешать, или всем восторгаться. Однако у Вильмы не было времени для восторгов, она ведь с чем-то там канителилась — пожалуй, хотела с розовых кустов собрать какие глазки… или она уже прививала? Не помню точно, когда это было, но, если бы вы меня вынудили, я бы, может, и вспомнил. Знаю небось, когда прививают.
Она умела прививать. Умела и прививать, и прищеплять. Глазок у нее, пожалуй, взялся бы и на печи. Должно быть, она и на сей раз прививала, а что ей еще было делать в этом распрекрасном парке? У нее в руках не было даже грабелек, а мотыгой об эту пору она могла бы лишь навредить парку. Ну значит, остается одно — почка. Может, ей просто какая-нибудь почка понравилась и вот она с утра пораньше прыг-скок в парк, а может, просто помогала парку расти. А я то и знай выглядывал из окна, хотел к ней идти, но никак не мог найти повод. Хотел было идти обирать липовый цвет, но, прежде чем взять у сарая лесенку, я заметил, что липка перед нашим домом (хотя у нас перед домом вовсе не было липки), липка перед нашим домом уже отцвела. Были на ней желто-зеленые шарики. Почти такие, как мелкий горошек. Если вы умеете хорошо прививать и прищеплять, так и на липе что хочешь привьется! У Вильмы любая почка привьется.
Но внезапно Вильмы в парке не стало, напрасно я выглядывал из окна. Тьфу ты пропасть, где Вильма, почему она не обихаживает свой парк, еще придет кто в Околичное и подумает, что парк растет сам по себе, а то, может статься, и перед нашим домом ничего не увидит. Да я и сам уже ничего там не вижу, хотя всего минуту назад, всего лишь минуту назад, вроде там была липка. Свисали с нее шарики. Такие маленькие ядрышки. А что еще может быть в таких малюсеньких шариках? Только ядрышки, разумеется только ядрышки. Такой липовый шаричек ведь меньше черешневой косточки. Ровно смородинка. А, к черту смородину, к черту груши, плевать на фрукты. Где эта липка, дьявол ее побери? Вильма все равно больше любит цветки, да вот незадача: Вильмы вдруг в парке не стало. А я уже держал на плече лесенку!
Надо идти к ней! И я пошел. Она была на кухне. Я и сам чуточку трусил, а уж она, представляете, до того перепугалась, что я вынужден был перед ней извиниться.
Однако и она извинилась. — Руденко ты мой золотой, хорошо, что пришел, я хотела поговорить с тобой, но не знала, как нам встретиться.
— Ты правда обо мне думала?
— Правда, Руденко! Ты, поди, даже и не поверишь, как я эти дни мучилась. И из-за тебя тоже.
Поначалу я было обрадовался, сразу же захотелось ее обнять, но она мягко, собственно, одними пальцами отстранила меня, отстранила так, словно не желала до меня дотрагиваться. — Нет, Рудко, ты не понимаешь меня. Я совсем по-другому об этом думала. Хоть я и люблю тебя, но давеча просто поддалась минутной слабости. Знаешь, я такая усталая, иной раз, пожалуй, даже больше, чем Имришко. Но я люблю его, люблю Имришко.
Я попытался еще раз ее обнять, но уже наперед знал, что ничего из этого не получится. Однако ей это вроде бы придало духу и уверенности в себе, она улыбнулась, словно бы давая мне понять, что ей ни к чему ни отбиваться от меня, ни как-то особо оправдываться передо мной. — Я же твоя подружка, Руденко! Да мы еще и соседи. Если хочешь, можешь меня обнять, хоть когда, но не так, как ты думаешь. Если тебе кажется, что я давеча что-то напортила, прости меня… Ведь мы, считай, вместе росли. Я старше, уж давно замужем. Но все равно мы когда-то виделись почти каждый день. Ты и спал у нас. Не думай, я не забыла. Вот поэтому и смотрю на тебя иначе, чем на других. Когда-то у нас с тобой и маленькие тайны были. Но кому, если не тебе, знать, как я Имришко люблю. Рудо, Руденко, я и тебя люблю, я любила тебя, еще когда ты мальчонкой был, мы ведь вместе ждали. Ты и мне помогал ждать. Если хочешь, Руденко, можешь меня обнять, можешь меня и поцеловать, только, пожалуй, меня потом это будет мучить, меня подчас и малости мучат. Рудко, ты же лучше других знаешь, как я Имришко ждала.
Я бормотал ей что-то на ухо. Она лишь улыбнулась, ладонью погладила меня по щеке. — Я все понимаю, Руденко. Но я уж смирилась, смирилась со всем. Господи, опять я что-то напортила! Я всегда что-то порчу. Всегда мне надо что-то напортить. Ты, Рудо, уже взрослый. И сам все понимаешь. Да я по-настоящему тебе и не нравлюсь, не могу нравиться.
— Не болтай! Ничего ты не напортила. Ты мне нравишься. Сама хотела, чтоб я тебе это сказал.
— Ладно, Рудо, прошу тебя, только никому ни слова об этом. Может, я совсем не то думала. Я ведь старше тебя. Даже было б чудно, если бы мы уж слишком дружили. Погляди, какая Агнешкина Зузанка, мальчик ты мой, ведь она вся в меня, только еще краше, хотя пока и зелененькая. Кабы ты Зузанку или какую другую девчонку променял на меня, должно, я бы тебя так и не любила. Зузанка моложе меня, похожа на меня, вся в меня! Но хоть она на меня и похожа, думаешь, Рудко, я не люблю тебя? Но ты погляди на Зузанку, погляди, как она растет! Она чуточку и весноватая, небось заметил? Руденко, приглядись к ней! Зузанка краше!.. И уж ступай, прошу тебя, ступай, тебе лучше уйти. Рудко, я ведь тебя и побаиваюсь, правда! И малость стесняюсь. Видать, я слабинку дала, но, если ты этим воспользуешься, ты мне не друг, даже не сосед! Ну ступай, Руденко! Ступай, Рудко, моя Зузанка, Зузанка моя куда краше!
8
Но я к ним все равно хожу. Домой езжу нечасто, но уж коль приезжаю, не забываю спросить, как поживают соседи, а при случае и захожу к ним. И никогда никому не нужно объяснять, почему я пришел. Если все в сборе, могу заговорить с любым из них. А не заговорю я, есть кому заговорить и со мной. Как-никак я сосед их. Они всегда так ко мне и относятся.
Но особенно дружны мы с Вильмой. Хоть обычно и говорим об одном и том же — что из того, если и повторяемся. А захотим, у нас есть чему и посмеяться. Стоит вспомнить, как мы когда-то дурачили друг друга, как я подчас, даже тайком, ухватывал у Гульданов пирожок или лепешку, которую Вильма мне нарочно подсовывала. Словно мы оба предвидели, что со временем будем над этим смеяться. Или как я, нередко злобствуя и опять же тайком, лазал к ним через забор за черешнями. Как она однажды выбранила меня за перец, как закатила мне оплеуху, а я в отместку разбил им окно.
А иных вещей мы как бы умышленно избегаем. Ни один из нас никогда не обмолвился, к примеру, о том, как я у них обмочился. Или как Лойзо Кулих стучал к ней в окно, когда Имро не было.
Сколько вещей, а средь них и тайн сближало нас когда-то. Но многое уже чуточку стерлось, а об ином мы напрочь забыли. Оба, конечно, знаем, что когда-то все это было, но знаем, пожалуй, и то, что воскресить это — при всем желании — уже не удастся. Ведь все было тогда совсем по-другому. Хоть и времена тяжелей, но мы оба были на несколько лет моложе — пусть и тогда между нами была разница в возрасте, но что из того? Разница-то осталась, только времена изменились, век стал другой. Мы уже в ином времени! Вильма еще Вильма, а Рудко уже Рудо. А скажите, какой Рудо не хотел бы заполучить какую-нибудь Вильму или хотя бы этак тонко обвести ее вокруг пальца? Только и Вильма понаторела. Думаете, этот Кулих, а может, какой другой Кулих, который звался иначе, так просто, ни за что ни про что, вхолостую, стучался в окно? Не волнуйтесь за Вильму, она набралась опыту. Рудко везло у нее, а Рудо, скорей всего, не повезет, хотя ему-то казалось, что Вильма искушает его. Только попытаюсь к ней подластиться, она тут же сворачивает разговор и, если ничего более умного не придумает, начинает толковать мне о Зузанке. Как она, мол, растет и до чего хороша будет! Ну и пусть растет, пусть хорошеет! Пока что это ребенок. Зузанка не интересует меня.
Вильма, пожалуй, не знает, что и я уже Кулих. Не юбочник, нет, она это тоже знает. Но мастер говаривал, что во мне наверняка черт зашит. А ну как и впрямь зашит! Ладно, чертей нет, но если не чертовское, то по крайней мере что-то проказливое во мне, может, и есть. Я хочу о Вильме всегда только хорошо думать, но этот черт или проказник, который дремлет во мне, подчас мне нашептывает, что коль уж единожды была у Вильмы минута слабости, то, вполне вероятно, такая или подобная минута еще когда-нибудь наступит…
А как-то раз, когда я от них уходил, остановил меня во дворе Имро и спросил: — Послушай, Рудо! Давай начистоту! Что у тебя с ней?
— У меня? И с кем? — во все глаза гляжу на него. — Что может быть у меня с ней? Ничего. Я не понимаю, Имро, о чем ты спрашиваешь.
— Спрашиваю, и только. В самом деле ничего?
— Не понимаю тебя.
— Не серчай, Рудо! — Он сжал мою руку. — Я просто хотел знать.
— Но почему? Что ты хотел знать? Ни с того ни с сего все же не спрашивают! Я, ей-богу, не знаю, о чем ты говоришь?
— Так, почему-то на ум пришло. Ведь мы с тобой приятели. А с Вильмой вас и вовсе водой не разольешь. Я-то знаю, Рудо. Правда, я худого не думал.
— А чего тебе думать? Даже глупо, по-моему. Ведь ты ее можешь спросить. Я и не знаю, что тебе сказать.
— Извини, Рудо! — Он еще сильней сжал мою руку и действительно посмотрел на меня эдак по-свойски, словно то, о чем спрашивал, было совершенно естественным. Уж не свихнулся ли парень?
— Не говори ей, что я тебя спрашивал. Я, правда, не хотел тебя обидеть. Я рад, что вы с Вильмой ладите.
— Ну ладим. Только иначе, чем ты думаешь.
— Забудь про это! Ни о чем я не спрашивал. Наши двери для тебя всегда открыты.
— Нет, лучше мне к вам не ходить.
— Не валяй дурака, Рудо! Я худого не думал.
— Я, правда, не приду. Зачем мне к вам ходить?
— Как хочешь, Рудо. Пожалуй, не надо было мне спрашивать. Но я, ей-богу, не хотел тебя обидеть. Просто знать хотел. Ты должен меня простить! Ты же друг мне. И сосед. Ну и балда я! Извини, Рудо, извини.
Вот уж правда балда, да еще и псих! Тут все чокнутые. Вся семья. При них и здоровому человеку недолго спятить. Ей-богу, если у меня не было ума, а теперь появилась капля, надо быть осторожным, надо беречь его! Ребенку всякое можно простить, но не взрослому. И мне — пусть кому-то и кажется, что я еще ребенок, я уже взрослый, вот именно, — и мне таки нельзя прежде времени ума решиться! Нет, в такую семью не стоит ходить!
9
Вдруг по деревне пошли толки, что у Имро в имении — зазноба. Прослышала о том и Вильма, но она не верит, не верит и тогда, когда вновь и вновь, причем не одни и те же, а все разные люди доносят ей об этом. Как уберечься от всяких слухов?
— Бог с вами, не дурите! — смеется Вильма, ей-то уж давно все ясно, она даже думает, что люди потому ходят к ней, что хотят и ее втянуть в свои сплетни, хотят от нее что-то выведать, но ей нечего им сказать, она к этим сплетням ничего не собирается добавлять.
— По мне, так пускай у него хоть сто зазноб будет! — Вильма машет рукой. — Я за Имро ни чуточки не боюсь.
— А надо бы тебе бояться.
— Не хочу бояться. Потому и не боюсь, совсем не боюсь. Имришко может делать, что хочет. Только и я, — она еще и бахвалится, — и я делаю, что хочу. Правда, мне не так просто угодить.
Но поневоле она все чаще об этом задумывается, а понемножку начинает и злиться. Ежели столько людей говорят, значит, есть в этом чуточку правды, хотя всей правды об Имришко люди не знают и не могут знать.
Неужто Вильма заблуждается? Едва ли. Уж до такой степени Имришко бы не притворялся. Сплетни, сплетни! Господи, до чего же люди любят чесать языки!
На улице она почти всегда веселая. В парке работы хватает, а не захоти она быть на глазах у людей, можно и дома поработать. Разве мало дел дома?
Кто бы ей попенял, если бы она дня два-три, а то и неделю не показывалась в парке, но она назло, назло людям там показывается. Дурачье, судачьте на здоровье, да не забывайте посудачить и о том, как парк выглядит!
Это ее парк. Хоть он и принадлежит всем, однако — ее. Она его обихаживает.
А сколько вокруг нее детворы! Да пусть бы про нее и про Имришко кругом все судачили, она всегда может всем на глаза показаться, у нее есть чем и погордиться. И Имришко она может гордиться, ведь и он в парке работал, мастер и то помогал. Ха, ведь и ваши дети, да и чужие, ведь и они, дети, помогали, так, значит, чей это парк?
Да провались они, эти сплетни!
А что, если люди все-таки что-то заметили?! Не могут же все обманывать!
Это правда, Имро вечно где-то пропадает, не сидится ему дома. Если не дома, торчит в шинке или у какого приятеля, да кто их знает, что у него за приятели. Вильма не спрашивает, куда он ходит, но знает, что он довольно часто ходит в имение. И зачем он так часто ходит туда? А потом она опять машет рукой: да бог с ним, пускай ходит!
Соседки ей выговаривают: — Вильма, нельзя быть такой простодушной! Ох, поплатишься ты за свое простодушие.
— Ну и ладно! Вы за своих мужей держитесь, а я не боюсь. Плохо меня знаете.
— Ой, тебе и не посоветуешь!
— Вот видите! Доносить горазды, а как посоветовать — нету вас.
— Следи за ним! Не то пожалеешь.
— Ну и пожалею.
— Только потом поздно будет, гляди, будет поздно.
— Хоть и поздно будет, а я буду жалеть! Приди кто ко мне еще с такими глупостями, я его, как бог свят, вытурю, уж кого-нибудь да вытурю.
10
А как-то раз снова является к ней соседка. — Вильма, так ты говоришь, Имро в имение не ходит?
Вильма злится, сразу даже замахивается: — Бога ради, соседка, не сердите вы меня!
— Коли не веришь, пойди сама погляди! А там увидим, на кого сердиться будешь!
— Дьявольщина какая! Если не уберетесь, я кого-нибудь вздрючу, так и знайте. А то и ногой двину. Старое трепло! Не совестно вам? Чего без конца зудеть ходите?!
— А вот возьму и скажу тебе!
А Вильме все это уже изрядно осточертело. Она злобно выкрикивает: — Фигу вы мне скажете. Заткните глотку.
— Нет, я скажу, чтоб ты знала. К Габчовой ходит. Хотела фигу, вот и получай!
— Ну-ка убирайтесь! Живо убирайтесь! Чтобы ноги вашей в Гульдановом доме не было. Катитесь отсюда, старая, паршивая сплетница, негодяйка! Черт вас дери, вон отсюда!
Хоть Вильме и удается выгнать соседку, легче, надо признать, ей не становится. Сперва она ударяется в слезы, а потом все ходит, ходит по дому, сердится и то и дело вздыхает: — И откуда такие люди берутся? Почему во все нос суют? Имришко и сам сказал, что идет в имение, он всегда мне об этом докладывает. Почему люди во все нос суют?
Но потом она вспоминает, что нынче Имришко ей ничего не сказал. Был в имении и вчера, оттого она и ошиблась.
Чего он туда повадился? Чего его туда тянет? Ранинец? Он как-то сказал, что разговаривал с Габчовой. Почему он об этом сказал, когда Вильма ни о чем его и не спрашивала? С Ранинцем, да ведь тот уже дедка, неплохой, но самый немудрящий дедка, который так и не смог измениться, остался батраком, хотя батраков уже и в помине нет, ну о чем можно с таким дедкой, ну о чем могут они толковать?
Неужто на самом деле тут что-то есть? Она, ей-богу, сейчас же отправится в имение поглядеть, хотя уже вечереет. Именно поэтому! Что там Имро делать? Дурья башка, даром ей только хлопот доставляет! Глаза его бесстыжие, ну что ему в имении делать, ведь уж почти смерклось!
Она вспоминает, что он хаживал туда и прежде. Тогда вечно кивал на Кириновича, только Киринович там уже не живет. Для чего он ходит туда? Почему он туда по-прежнему ходит?
И когда пропал, когда завербовали его, тоже все свалил на имение.
Будь оно проклято, это имение! Будь прокляты эти горы! Ведь он уж калека, у меня теперь калека! Ан черт никогда не дремлет! Ну погоди, сплетница, погоди, сука мерзкая, вшивая!
Нет, Вильме, как бог свят, надо сходить в имение, поглядеть.
На улице она повстречалась со мной. Я шел домой, а она как раз выходила из дому. Мы поздоровались, и я уж вошел было во двор, как вдруг ее осенило, что я могу ей и пригодиться. — Рудко, обожди! Не хочешь пойти со мной?
— Можно. А куда?
— В имение. Искать Имро.
— А что, опять накачался?
— Не твое дело.
— Спросить все же могу. А не хочешь, так не зови. Почему думаешь, что он в имении? Они что, там работают?
— Уже не работают, Рудко. На него сызнова хворь накатывает, но, стоит ему выбраться из дому, все ему нипочем. И о том, что домой пора, забывает.
— Ну а почему в имение? Откуда ты знаешь, что он в имении? Кто тебе сказал?
— Я тебе сказала. Если хочешь, пойдем, хотя лучше не ходи! И ты мне на нервы действуешь.
— Вильма, чего сердишься? Честное слово, не понимаю, почему ты сегодня на меня рассердилась!
— Потому что ты дурень! И не лезь ко мне!
— Ты же меня звала! Зачем звала?
— Не лезь ко мне! Провались все к черту, никого не выношу! Ты тоже свинья! Никто мне не нужен. Никого не хочу. Не лезь ко мне, понятно?!
Остановившись, я смотрел, как она идет вниз по улице, но вдруг мне сделалось смешно, и я громко рассмеялся, чтобы она услышала. А потом поплелся за ней. Мы вышли за околицу, не разговаривали. А может, именно потому, что я ничего не говорил ей, даже не сердился на нее, мы не очень-то далеко и забрели. Дошли только до колодца с журавлем — пусть его там и не было, но селяне-то знают, где прежде в поле бывал такой колодец, — дошли до самого колодца с журавлем, и Вильма, теперь уже рассудительным, спокойным голосом, сказала: — Знаешь что, Рудко, лучше нам туда не ходить! Лучше никуда не ходить. Я давно со всем смирилась и Имришко знаю. Кабы люди меня не дразнили, я бы так не сердилась. Если хочешь, Рудко, можем вернуться.
И мы вернулись, но не сразу домой. По пути разговорились, и так мне удалось выведать, почему Вильма сердится.
Горели уличные фонари, почти совсем завечерело, было довольно поздно, но все равно попадались встречные: сперва женщина с ребенком, потом мужчина — уж не Имришко ли? Нет. И даже не мастер. Где-то раздался смех. А откуда-то вдруг донеслось: — А хрен с ним! Вот назло напьюсь, дерну как положено, а там хоть гром меня разрази!
Но потом, свернув в боковую улочку, по которой можно было бы выйти к имению, мы уже никого не встречали — да и домов тут было не густо. Похоже, что люди, живущие не в центре деревни, а в боковых улочках или в дальних домах, не в столь близком соседстве друг с другом, раньше отправляются на боковую.
— Вильма, послушай, зачем, в общем, мы пошли? Или надо выслеживать Имро?
— Не надо. Не надо было. Люди глупые. — Теперь я уже и на себя злюсь.
Внезапно она схватила меня за рукав. И потащила под старую «шемендзию», под такую старую грушу, на которой плоды дозревают только по осени, нынче, пожалуй, уж никто и не знает, что такое «шемендзия», так вот, под эту самую грушу, и оттуда мы оба глядели на дорогу.
— Это он! Спрячемся, не то он разозлится на нас.
— А что, если он нас заметил?
— Не заметил. Не больно-то он внимательный. Из такой дали и не углядит нас.
Из-за дощатого забора, натертого дегтем, пахло созревающими помидорами, яблоками, пахло и шемендзией, но тянуло и пшеничным кофе. Хе, кто-то уже варит кофе? Как только пшеничный кофе ударил мне в нос, разом перешиб все прочие запахи; кабы Имро именно тогда не шел из имения, верите ли, этот кофе, пережаренный, пшеничный (тата наш когда жарил дома кофе, пшеничный обычно пережаривал), па́хнул бы, ей-богу, пахнул бы еще лучше!
— Вильма, да это вроде не он, — шепнул я ей, вынужденный забыть о пшеничном кофе.
— Ради всех святых, молчи! — Она прижалась ко мне. Мне этим захотелось чуточку воспользоваться, однако я опасался, что Вильма по дури своей может вмиг все перерешить, может даже кинуться к Имро или окликнуть его. Много бы чести мне было, узнай Имро, что я помогал Вильме его выслеживать.
— Погляди, как он сгорбился и еле тащится! Он ведь едва ноги волочит! — Она показала на него рукой. — Дома-то я думала, он притворяется, нарочно сгущает краски, а уж видать, вновь захворает. Пойдем, Рудко! Мне домой надо!
— Обожди немного! А то узнает, что мы тут.
— Ну и пускай! На вид он еще жальче, чем я думала. Пошли, Рудко! Пойдем за ним потихоньку! Домой надо.
Когда она вошла в дом, мастер с Имро сидели за столом и спокойно разговаривали. Она сказала, что ходила навестить Агнешку, хотя могла и ничего не говорить. Разве кто запрещает ей отлучиться из дому? Имришко, а тем паче мастер не проверяют ее. С чего бы им ее проверять? Но нынче она ходила выслеживать Имро. Если бы он об этом узнал, наверняка бы рассердился. Надо же быть такой глупой, поддаться на всякие сплетни? Разве за столько-то лет она не успела узнать Имришко? Кто его знает лучше нее? Нет, другой раз ей нечего поддаваться, а тем более так расстраиваться, лучше просто никого в дом не впускать, не водиться ни с одной соседкой, тогда уж никто не будет ей ничего доносить.
Имришко показался ей таким же, как всегда, и лицо у него было обычного цвета, и был он в хорошем настроении, временами словно бы и шутить пытался. Уж не выпил ли малость? Да вроде нет, не похоже. Но в имении был, она его видела, откуда бы ему идти? Не из Церовой же? А хоть бы и оттуда, почему он шел такой сгорбленный?
Она подошла к столу, поддержала разговор. Хорошо, что не надо было говорить о том, как к ней ходят ябедничать на Имришко и как пришлось ей нынче выгнать соседку.
Хотя еще и не было поздно, мастер поднялся: — А чего болтать попусту! Пошли спать!
Вильма вдруг вскинулась: — Господи, а вы ужинали?
Мастер с Имро переглянулись, и Вильма поняла, что не ужинали.
— А ведь я приготовила. Могли бы и сами взять.
— Запамятовали. А, и так ладно. — Мастер махнул рукой. — Не придется тебе хоть завтра кухарить.
11
Утром Имро встал как обычно, поначалу даже собрался с отцом на работу, но в последнюю минуту раздумал: — Знаешь, тата, нынче я с тобой не пойду. У тебя немного работы, управишься и без меня. В общем-то мне и нельзя столько халтурить, глядишь, еще отберут инвалидность. Лучше займусь чем-нибудь дома либо подсоблю Вильме в парке. Из парка меня не выгонят.
Мастер ушел, а следом за ним и Вильма. Имро выбрался из дому около девяти и, придя в парк к Вильме, сказал, что после завтрака, как только она ушла из дому, на него снова навалилась дрема.
— Должно быть, не выспался. Раз утром плохо вставалось, так мог бы и подольше полежать. Тут у меня работы немного, сама управлюсь. Сегодня даже готовить не надо, с вечера все осталось.
— Встал-то я вовремя, да и вставалось легко. Может, просто завтрак меня притомил, должно переел. Но я тебе помогу. Пойду только куплю сигареты. Мелочь есть у тебя?
— Нет, не взяла кошелька.
— Ну ладно. После схожу. Две-три у меня еще найдется, продержусь малость.
Он не отходил от нее, но и за работу не брался. Все только приглядывался и всякий раз, когда куда-то двигалась Вильма, двигался и он, но и там продолжал лишь стоять над ней, хотя повел речь и о саде. — В этом году помидоров завались! Нам не съесть. Пусть ты и наготовила пасты, а их все еще много, знай поспевают, а которые уже начинают и гнить. Надо бы с ними что сделать.
— Могу еще закатать.
Он какое-то время глядел, как быстро и вертко Вильма работает, потом сказал: — Ну я пошел. Пойду возьму мелочи, сбегаю за сигаретами.
Вернулся после обеда. Вильма хотела подогреть ему обед, но он покачал головой: — Я не голоден. Ведь чего-то уже ел. — Но тут же, вспомнив, что последний раз ел утром и что с тех пор прошло немало времени, добавил: — Не знаю, что со мной, вот уж несколько дней мне совсем не хочется есть.
— Надо заставить себя, — посоветовала Вильма. — Ты и вчера вечером ничего в рот не взял. Для кого, выходит, я готовлю?
Он попытался отшутиться: — Нынче, может, мне потому неохота, что я лодырничал.
— Сулился в парке помочь.
— Еще успею, до вечера времени хватит.
— Нет, не надо. Сегодня больше в парк не пойду. Оборву, пожалуй, лишние помидоры и сварю еще несколько банок пасты. — Она внимательно пригляделась к Имро. На секунду застыла. — Слушай, Имришко! Ты опять нездоров.
— С чего ты взяла? Я уже сколько не лежал! Да и чувствую себя неплохо.
— Вид у тебя неважный. Я еще вчера заметила. Утром и вечером. Вечером, правда, успокоилась — поглядела на тебя за столом, вроде и цвет лица был хороший. Сегодня выглядишь хуже. Тебе не плохо, в самом деле?
— Есть неохота. А все остальное — в порядке. Ничего, завтра тебе помогу. И в парке подсоблю.
Но и на другой день Имро не помог Вильме. Не помог ей и в последующие дни, хотя порывался. Снова стал прихварывать, но не признавался в этом. Всякий день вставал вместе с Вильмой и мастером, всегда собирался что-то делать, но эти его благие порывы обычно ограничивались одними речами, работать хотелось ему лишь до завтрака. Если после завтрака его не смаривал сон, он возился с чем-то возле дома или шел с Вильмой в парк, отыскивал там скамейку и сидел на ней, дремал и видел сны, хотя глаза у него были открыты. День пробегал — он и не замечал как.
Иногда отправлялся на прогулку. Случалось, и Вильму тянул за собой, хотя знал, что ей некогда, сердился, если она ему намекала на это, уверял, что у нее достаточно времени; возможно, даже неосознанно, но иной раз звал ее потому, что как бы злился или просто по-доброму завидовал, что Вильма работает, может работать, а он нет. А поздней звал уже потому, что не хотел идти на прогулку один. Не то чтобы уж очень боялся одиночества, он вообще его не боялся, но тяготился тем, что бездельничает, а досужему человеку, если он раньше — пусть и давно — привык работать, в однообразные, без конца сменяющиеся досужие дни бывает иногда тоскливо. Тоски никто не любит, тем паче мастеровой человек, привыкший работать и получавший от этого радость. Он раздумывает об этом и прогуливаясь по парку, где растет множество всяких цветов и декоративных растений. А если этот человек плотник и в парке не спит — тогда лучше ему из парка бежать. Только куда бежать? Домой или в бо́льший парк. В поле или в лес. Однако в лесу средь деревьев ему в голову лезет сразу столько мыслей, что лучше и не пытаться их высказать. А высказать лишь каждую вторую либо третью — что толку даром выставить себя на посмешище. И ведь для кого, как не для близкого, станешь посмешищем? Вильма понятливая, отзывчивая, все более отзывчивая и рассудительная — разве мы хоть раз были несправедливы к ней? Она, пожалуй, потому теперь еще отзывчивей, что и Имро стал откровеннее, словно бы хочет выговориться. Вильма знает толк и в деревьях. Знает, что и деревья живут своей жизнью. У них, должно быть, и нервы. Разумеется, не такие, как у людей, ни даже как у иных, совсем обычных, наипростейших тварей, это всего лишь какие-то водяные пути, по которым к листьям поднимаются соки, а в них различные живительные вещества. А можно иначе. Если угодно, и наоборот. Вперед и назад. Если хотите, можно начать и от листьев. От листьев до черешка, от черешка к веточке. От веточки к стволу, от ствола к корням. Но все равно это нервы или сосуды, свистки или дудочки. Нет, мы вовсе и не сравниваем деревья с людьми. Но Вильма знает, что такое сердцевина и камбий, знает и что такое годичные кольца, и что эти кольца есть у любого куста, только они у него так густо уложены, что их нельзя сосчитать. А у деревьев — можно. Однако все ли знают, что бывают годы, когда у деревьев и, конечно же, у кустов прибавляется не один, а целых два годичных кольца? Лишь зоркий глаз подмечает, как тесно некоторые кольца уложены. Они так тесно сплетаются друг с дружкой, что иные деревья до обидного неказисты, мелкорослы, но что из того? Дерево есть дерево. Все ли знают, сколько дерево высасывает и испаряет воды и сколько выдыхает кислорода? Сколько за день, за неделю, за месяц, сколько за долгие годы? Ведь летом дорогого стоят и палые и даже трухлявые листья, даже тот листовой настил, из-под которого по весне или в начале лета выглядывает гриб или проклевывается сиреневый колокольчик, а осенью шуршащие и жужжащие осы, отходящие к зимнему сну, шушукаются над ним, то ли на ветке дерева, то ли в стволе или в земле, шушукаются, может, и о том, как вырабатывается сероватая бумага и чего только на этой бумаге нельзя написать…
Прогулки Имро все короче. В конце концов он прохаживается только по деревне, радуясь тому, что из иных дворов все еще доносится запах сливового повидла. Сколько было слив! Что, если со временем деревенские тетушки или мамы — все эти Вильмы, Штефки, Геленки — окажутся слишком занятыми или запамятуют купить медный таз, а может, просто поленятся собирать сливы и затем терпеливо варить их в медном тазу — ведь дети тогда, пожалуй, и не узнают, что такое настоящее сливовое повидло!
Но Вильма в этот год не варила повидла, недосуг было. Опять хлопотала вокруг Имришко. День ото дня ему становилось хуже, но в постель он не ложился, из последних сил стараясь убедить Вильму и мастера, что ему совсем не плохо. Вскоре, однако, он перестал выходить и на прогулки, а только все собирался идти. Бывало, так целый день и прособирается. Хотелось ему снова повидать Ранинца, может, и Габчову Марту, и Доминко, которому Ранинец посулил когда-то медаль. Даже две медали. Хотелось взглянуть и на тот лесок, куда он хаживал в детстве искать дубинники, и уже о ту пору тропинка приводила его почти к самому имению, к тому сосняку, в котором по молодым деревцам стекала смола, стоило только протянуть палец, взять одну, две капли, положить в рот и сразу бежать к заутрене. И летом бывали веселые, чисто рождественские, заутрени. Поглядеть бы и на березки. Ах ты черт, и их скрутил ревматизм! А как славно было бы пойти в обратную сторону, взглянуть на Три холма или на гребень, на Багна или Багенца. Дьявольщина, пожалуй, туда ему и не взобраться. Ни на горку, ни на Колиграмы, ни к Вчелину или Цвику, ни к Грабовке, ни на Малую Куклу, где меж дубовой рощей и молодым дубняком росли мелконькие деревца; там однажды на рождество на заснеженной тропке повстречал он того старикана метельщика. Имро уже не хочется идти даже к соседям, хотя они варили, а может, и варят повидло.
— Наверняка варят, — сказала Вильма. — Такой дух стоит. Я бы сбегала к ним попросить, да намедни повздорила немного с соседкой. И хотя мы уж поладили, за повидлом идти не насмелюсь.
— Чего ж, я к ним зайду.
Соседка и сама принесла повидла. Но Имришко оно не понравилось. Ему уже ничего не нравилось. Он сам себе дивился, но вместе с тем и успокаивал себя, словно бы хотел и Вильму в том же уверить: — Не пойму, что со мной. Сам себе не рад, но скоро все пройдет. Как чуть распогодится, увидишь, Вильма, стану шустрый как рыбка.
— Родной мой, будешь вот так печалиться и есть мало — порядочной рыбки из тебя не получится. Ты даже этой сливовой кашицы, даже этого сладенького киселька, нисколечко не отведал. А ведь как любил его!
— Не волнуйся, Вильмушка. Вот увидишь, еще буду как рыбка.
Но погода день ото дня ухудшалась, с погодой становилось хуже и Имро. Выпали туманы, потом дожди, наконец и из дому почти нельзя было выйти. Целые дни он простаивал или просиживал в кухне и непрестанно курил. Вильма на него то и дело прикрикивала: — Уже опять сигарета во рту? Если тебе плохо, чего бесперечь куришь?
— Курить-то мне охота.
— Не курил бы столько, у тебя и аппетит был бы. Попробуй, хоть несколько дней не дыми.
— Надо больно! Если перестану курить, что у меня останется?
Бывало, и мастер его одергивал, но Вильме с глазу на глаз говорил:
— Если ему курево по душе, значит, не так уж и худо ему.
Но Имро внезапно подхватил грипп, у него начался жар, и он слег. Вильма только и делала, что варила ему чай — пусть всегда будет свежий и горячий, — подсовывала еще и таблетки, но температура не спадала. Днем его колотил озноб, а ночью он так потел, что сырела не только подушка, но и перина.
Наконец мастер решил: — Вильмушка, ничего не поделаешь, давай-ка звать лекаря.
Пришел доктор, похмыкал и начал умствовать: — Голубушка, чему удивляетесь? Погода! Опять осень, сами знаете. Выпишем таблетки, дадим даже двойную дозу, осень надо как-нибудь обхитрить.
— Пан доктор, а поможет? Только таблетки?
— Сделаем и уколы. — Доктор роется в сумке. — Шприц имеется! Ага! Вот и порядок! Молодой человек, спустите штаны, не смущайтесь за свой телескоп. Так! Готово! Стерва, немного пощипывает, но помогает. Теперь будете спать. И вы, милочка, выспитесь. Увидите, два дня он будет у вас спать, как голубок…
Через два дня Имро отвезли в больницу.
12
В больнице сперва говорили, что Имро долго там не продержат. Но проходил день за днем, лучше ему не становилось, а если и да, так это была одна видимость: Имро по-прежнему лихорадило, хотя грипп и воспаление легких прошли или по крайней мере должны были уже пройти. Он страшно исхудал и ослаб, курил все меньше и меньше, но и это не помогало.
Вильма ходила к нему почти всякий день. Если она не могла, наведывался мастер, а иногда Агнешка и ее мать, приехали проведать его и братья. Бывало, Вильма с сестрой и матерью приходят одновременно, и тогда все о чем-то шушукаются у Имровой постели, а то и вслух разговорятся: — Ну что с тобой, Имришко? Доколе тут будешь? Сколько тебе вот так еще валяться?
— Думаете, мне это в радость? Нечего было мне сюда и ехать! Сперва-то говорили, пробуду здесь две недели, а вот уже рождество на носу. А доктора, похоже, даже не знают, что со мной. Все время на мне что-то испытывают. Должно быть, какие-то новые уколы. Меня от этих их уколов только смех разбирает.
— Имришко, держись! Надо потерпеть! И докторам надо верить! Небось знают, что делают.
— Пожалуй, не всегда знают. Я и зубы потерял, хотя на зубы не жаловался. Враз три у меня вырвали, один совсем здоровый. Останься я дома, давно бы все прошло.
— И пройдет, как же. Ты должен встать на ноги! — У его постели всегда шумит больше всех теща, Вильмина и Агнешкина мать. — Твой отец уже старый, постарше меня, в нашей семье даже настоящего мужика, заступника, нету.
— Ничего, я встану.
— Имришко, ты и сам поднатужься! Слушайся докторов! Мы ведь одни бабоньки да ребятня. Я тоже стара, и у меня тоже нет никакого заступника, потому как и мой мужик некогда спятил, только не в горы подался, не в Святой Крест, не в этот Жиар над Гроном, а к черту-дьяволу в Америку. Агнешка была толковая, ей бы только учиться, но, как отец укатил, не то что на ученье — вообще ни на что денег не стало; горемычная Вильма, поди, еще лучше могла бы учиться, да у нее даже цельного букваря не было — одни такие странички, она все разравнивала их, разравнивала, да ведь ежели в букваре, а потом уже и в хрестоматии чего не хватает, что разровняешь? Страниц-то прибавлялось, а ей их все не хватало. И как она, бедняжечка, плакала, а я зачастую не могла даже конопушечки ей утереть, слезыньки погладить, ведь этих страничек ей все не хватало, до слез не хватало, а я иной раз с печали и на ее печаль глядеть не могла. Сама с ними билась, потом одну за другой замуж отдала. Не скажу, что плохо вышли. Штефан, хоть и серьезный был, развеселил наш дом, а вместе с этой веселостью зазвенела у нас и кронка. Имришко, ты и вообразить не можешь, так нам эта кронка нужна была! Штефан помог мне, и впрямь Штефанко помог нам! Пускай это его и Агнешкина была крона, всегда от нее и мне перепадал какой грошик, а уж я-то знала, знала, куда его деть, перепадало и моей конопушечке, чтобы она могла краше и веселей улыбаться, если и не этим недостающим страничкам, так хоть какому рогалику, когда-когда и рогалику, или хотя бы большему куску хлеба. Штефанкиными стараниями у нас и вправду прибавилось хлебушка. Только и у него, у горемычного, был свой крест, и он нес его, ошибался и не ошибался, ну как и положено жандарму, был он словацкий жандарм, в последний год и он сидел голодом, но по-прежнему был заботливый, обо всех думал, холод не холод, разодрались у него башмаки, но словацкие власти, особенно под конец войны, уже и на него стали скупиться. И он там, горемыка, в этом своем Святом Кресте, в словацком городишке, который по-другому теперь называется, хоть он и впрямь нашел там свой крест, лежит там в земле, и вода затекает ему в дырявые башмаки. Назови хоть сто, хоть тысячу раз этот городок по-другому, для него он навсегда останется Святым Крестом — у него там этот крестик навеки. Словацкий жандармишко! И ты поднялся, а потом все хоронился, зачастую не зная сам от кого, хотел быть со всеми в ладу, ан не всегда так получается, хотел себя показать, повыставляться своей формой и башмаками, да ведь они по земле топают, их, может, и не заметит никто, а уж коль ты погиб, кто теперь спросит, где ты лежишь? А и спросили бы, а и нашлось бы тебе на памятник, как ты теперь откликнешься, кому откликнешься, если тебя и по имени-то не назовут, а только село или городок упомянут, откуда тебе знать, что и тебя поминают? Штефанко, жандарм словацкий, покойся с миром в Жиаре над Гроном, середь словацких гор в земле словацкой! Даже на могилу к нему сходить некогда. Агнешка с Вильмой туда всего-то два раза и наведались, Агнешка взяла венок, а Вильма ворох незабудок. Если кто поливал, глядишь, Штефанова могила еще голубеет. Будто не могли ему, бедняге, и этот крестик там оставить? А что такое крест? Просто тесина на тесине, или плаха, к плахе прилаженная, столбик с поперечиной связанный, но если у тебя нет креста, что поставишь? И то сказать, могут быть всякие кресты. У Гитлера был крюкастый крест, с загнутыми концами, он и гнул всех в крюк, хотя потом и его закрючили. А у нас был прямой двухплечный крест, но Гитлер лапу на него наложил. Есть еще Петров крест, на котором святой Петр висел вниз головой. Сердечный, он принял еще горшую смерть, чем сам Иисус. А у православных, говорят, на кресте опущенное плечико. Гитлерище думал, что он им его выровняет, ан не выровнял. Дали ему по рукам! С крюкастым крестом на все остальные кресты не попрешь. Но крест есть крест, всегда это только крест, как и Святой Крест над Гроном. Может, там когда-то перекрещивались дороги, и люди, если их было много, там всегда расходились, как в той песне: и каждый пошел своей стороной… А когда потом по горам, по лесам шли назад, наверное, радовались, что крест остался крестом и что там они все повстречались. У звездочетов и моряков есть Южный и Северный крест, а раз он у них есть, то есть и у нас, даром что мы в этих звездах не разбираемся, знаем о них меньше, чем звездочеты. Но если кто и не может отыскать в небе дорожку, это не значит, что из-за него мы станем Северный и Южный крест называть по-другому. Бедный Штефанко! Зачем было этот городок переименовывать?! Несчастный, он бы теперь и не знал, где погиб. Крестик надо было ему оставить, если бы этот крест и не был святым, он бы сам себе его освятил. Если человек погибает и на веки вечные местечко себе где вылеживает и смотрит на белый свет уже только сквозь незабудки, он ли, скажи, не заслуживает уважения? Мы с Агнешкой постоянно об этом толкуем. А ты, Имришко, не можешь, не можешь столько лежать, столько хворать, ты наш заступник. Разве Вильмушка не наждалась тебя вдоволь? Когда ты был в горах, она все ночи напролет не спала, а утром бывала усталая, разбитая, заплаканная и сонная, потому что не могла героя — ведь мужчины герои — дождаться. Мужчины герои, каждый хочет глядеть героем. Только каково бабонькам, Имришко, скажи, каково потом бабонькам, кто их заметит, который герой? Тот, что уже лежит под голубым околком? Сынок мой, хочешь, скажу тебе, кто герой. И Вильма — герой! Она еще и теперь из-за тебя мается. И Агнешка! А скольким женщинам нужна была крона, и никогда у них не было цельной ночи, чтоб выспаться. А иначе-то откуда на хлеб взять, ежели день не давал на него. Напрасно просили они боженьку, когда боженька есть, а когда его нету, частенько они сами делались боженькой, не раз и я была боженькой, да таким незадачливым, что хваталась в отчаянии за голову! Женщины здесь ждали героя и посейчас еще ждут, они все это время сторожили постель, сторожили ее и пустую, чтобы герою было где отдохнуть. Крепись, герой! Возьми себя в руки, Имришко, докуда Вильме тебя дожидаться? И женщинам нужен заступник, и им нужно какого признанья дождаться, нельзя только вечно, вечно ждать героев или служить им, женщины хотят обыкновенных мужчин, не солдат. И если за обычными, самыми обычными женщинами справедливый мужчина не признает геройства, значит, на свете нет ни героев, ни справедливости…
13
На рождество его отпустили домой, но лишь на несколько дней. На Новый год его опять отвезли в больницу, и все было по-прежнему. Имро увядал и увядал. Посещения стали его утомлять. Доктора только и делали, что похмыкивали над ним.
Вильма стала ходить к нему еще усерднее. Теперь уже и впрямь не пропускала ни единого дня. Она снова стала той давешней заботливой Вильмой, которая, если нужно, могла бы всю ночь глаз не смыкать, могла бы, дозволь ей доктора, просиживать у постели Имришко целыми сутками. Но часто не позволяют ей на него даже взглянуть, уже в коридоре говорят: — Имришко спит.
И когда Вильма едет из больницы домой, люди в автобусе, а главное, в Околичном, узнают всегда по ее лицу, лучше или хуже Имришко.
Но все равно иные расспрашивают: — Как ему? Как Имришко?
— Почем мне знать. Вроде бы так же.
Иногда расспрашивают о нем и такие, которых Вильма не знает. А кто сразу заявляет: — Мы знакомы с Имришко. И мастера знаем. Когда-то они амбар у нас ставили. И крышу стелили.
— Ой, это, верно, давно было!
— Не так уж и давно. С войны не так много времени прошло. Толковые были плотники! Ловко с кровлей справлялись.
Однажды спросила про Имришко и Штефка. Встретилась с Вильмой в городе на автобусной остановке. Знали они друг дружку еще с девичества, ведь Церовая и Околичное — соседние деревни. На остановке было немного народу, и все чужие, незнакомые. Вильма не виделась со Штефкой давно, скорей всего, она бы даже не признала ее, не заговори с ней Штефка сама. — Извини, Вильма, мне муж сказал, что Имро опять плохо. Наверно, ты от него. Как ему?
А Вильма и рада, что есть с кем поговорить об Имришко. — Неважно… господи, даже не знаю, оправится ли. Ему все хуже и хуже.
— И даже в больнице не полегчало?! А доктора на что? — негодует Штефка. — Отчего не помогут, коль он в их руках? Могли бы и больше заботиться о нем.
— Заботятся, да что толку.
— Послушай, Вильмушка, — голос у Штефки мягчеет, — ты не рассердишься, если я его навещу? Мы же знакомы с ним. Он ходил к нам, когда мы жили в имении, они с мастером сарай там делали. И мой муж его полюбил. Часто его вспоминает. Иногда и я бы его в больнице проведала.
— Доктора, по правде сказать, не советуют, но он, наверно, обрадуется. Иной раз говорит — все ему безразличны, а придет кто, всегда радуется.
И Штефка пошла его навестить. Имро очень удивился. Долго, правда, она там не была. Принесла ему компоту и пирожных «наполеон».
А потом еще как-то пришла и в этот раз встретилась с Вильмой. Вильма была довольна, что Штефка сдержала обещание. И не скрыла этого.
А Имро, заметив, что они мирно беседуют, ничего не сказал, только снова поблагодарил Штефку за гостинцы. Для долгого разговора и времени не оставалось. В палату вошла сестра и предупредила, что часы посещений кончаются. Да они и сами видели, что у Имришко, хоть он и перемогает себя, слипаются глаза.
В коридоре Штефка обняла Вильму: — Не сердись, что я правда пришла. Я тоже рада, что с тобой встретилась. Мне и тебя хотелось утешить, ты тоже исстрадалась. Знаю, каково тебе. Побереги себя, Вильмушка. Еще на автобусной остановке я заметила, до чего ты умучена.
Они глядели друг на друга, и у обеих от слез блестели глаза.
А как-то раз — с Имришко все было без перемен — мастер шепнул Вильме: — Вильмушка, знаешь что? Пожалуй-ка, лучше его домой взять. Тут ему не помогут.
— А что главный скажет? Не разрешит, должно.
— Чего там — не разрешит! Здесь все равно ничего ему не делают. Только зря мучают. Он и сам домой наладился. Суют ему одни таблетки, а их и дома можно глотать. И уколы ему какой-нибудь коновал может делать, да и сделает, коль получит за это. Небось не раз получал!
— Ей-богу, не знаю. — Вильма все не решалась.
— Положись на меня, — подбодрял ее мастер. — С главным я потолкую.
Но главный врач не возражал. — Что ж, попробуем. Может, дома ему станет лучше. Перемена подчас пользительна. Иные люди, если долго в больнице, совсем падают духом. Перестают в себя верить. Думают, что все кончено, и свыкаются с этим. На худой конец снова его привезете. Для него место всегда найдется.
14
И снова Имришко дома. Поникший, совсем поникший. Ничто его не занимает, ничто не волнует, возможно, он ни о чем даже не думает. Если человек не ест, вряд ли ему хочется думать.
Вильма его обихаживает. Чем безучастнее Имришко, тем расторопней она. Возможно, ему и жить не хотелось бы, если бы Вильма поминутно не тормошила его. Когда Имро один, он или спит, или глядит, глядит в окно на облака… на облака.
Возможно, и в голове у него проносятся тучи. Да в самом ли деле я равнодушен? Хочется ли мне жить? Или нет? Устал я. Неужто мне так важна жизнь? Сколько мне довелось увидеть в жизни людей, увидеть и как они умирают. Как гибнут. Как гибнут и хорошие люди. Жить? Умереть? Что это? Что такое жизнь и что такое смерть? Все та же меняющаяся земля. Она может сжаться, но и расшириться. Умеет сбиться в одну-единую точку и ударить с такой силой, что и не почувствуешь. Ты прах и в прах обратишься! Церовский причетник, Габчо и Онофрей, Мигалкович и Ранинец, Фашунг и Кулих, мой отец да и некий Карчимарчик. И во мне, во мне тоже осталось что-то от Карчимарчика, от них от всех. И я Карчимарчик. Возможно, во мне осталось зернышко маку, которое поднес Карчимарчик, Матей Карчимарчик или Йозеф Мак[94]. Но если жизнь важна, значит, важна каждая жизнь. Зачем тогда эта бойня, откуда право убивать? Что я хотел? И что сделал? Разве я хотел быть героем? Я хотел работать. Проклятье, почему мне не дали покоя?! А если я не мастер и не работаю, так зачем живу? Разве только затем, что жизнь есть жизнь? Так почему именно моя жизнь? Если жизнь есть жизнь, так и смерть есть смерть. Тогда зачем? Зачем я здесь? Почему именно я не умираю, когда умерло столько мужественных, честных людей, столько всяких честных Якубов и Матеев? Почему именно я должен здесь крючиться и быть обузой для всех, мучить честных и полезных людей? Почему тогда бежал я, а не дал возможности бежать тому цыгану, цыгану-надпоручику, или церовскому причетнику Якубу, этому смелому человеку, оставившему на руках у жены семерых нужных жизни детей? Кроме тех нескольких крыш, что я сделал, верней, помогал отцу сделать, я ничего не совершил. Я воевал, но не был солдатом. Не умею быть солдатом. Черт возьми, я же мастеровой. Был им, а солдатом быть не умею. А если я не солдат, так зачем все это? Я ведь уже и не мастеровой, давно не мастеровой. Вильма и то гораздо полезней меня, сколько она уже сумела сделать для жизни. Скольким детям дала помидор или грушу, скольких детей, чужих детей, помогла вынянчить, хоть и своих не заимела. Ни одного. Скольким честным матерям досталось на долю выхаживать своих и чужих детей, ибо мужчин этой земли всегда приходил пинать в пах какой-нибудь поганец… И женщины, женщины этой земли всегда были мужественны. И когда сотрясались лачуги и мужчины-воины брались за оружие, женщины умели не дрогнуть, а годы спустя прямо, а кто и дерзко смотреть истории в глаза. Да, и дерзко. В Вифлееме и в Турце, в Прешове, в Сталинграде и в Банска-Бистрице, в Варшаве и в Токайике[95]. И в Токайике. Там, где сгрудились, собственно тоже сбились воедино, все мужчины деревни. Словаки и русины, униаты и лютеране, православные и безбожники должны были сбиться в страхе перед немецкими автоматами, умереть, умереть и застыть. И стоять там мертвыми, застывшими более месяца, но не как восклицательный знак, а как горб, как нечто такое, чего человек и тридцать лет спустя не в силах ни проглотить, ни прожевать, ни даже тащить на спине…
Прошло сретенье. Мастер вдруг повеселел: — Вильма, ну не говорил я тебе, что февраль здоровый месяц? Погляди, как Имро стал уплетать. Наверняка скоро и меня обгонять станет.
А вот уж и день святого Матея, льды ломаются, в речках и ручьях гремят и сшибаются «тутаи». В Околичном да и в Церовой весенний лед называют «тутай».
15
Допустим, снова весна. Земля обсохла. Оживает. Солнце дразнит ее. Все начинает бродить в ней и кипеть. Шевелятся семена. Травы, кусты, деревья пьют из ее родников, и она дрожит; дрожит и извивается, оглаживает корни и корешки, нежно касается их и щедро им себя предлагает; по струнам, капиллярам и дудочкам ударяют тонюсенькие тоны, что поздней зазвучат, заплачут в искривленных трубочках и трубках, загудят в изогнутых рогах, заревут, загрохочут в тромбонах, загремят в могучем стволе. Звуковой монумент! Грохочущий столб! Громадная деревянная туба! Зацветшая басовая фанфара! Слышите? Вы слышите, как она разветвляется? Она гудит, трубит, трещит, врезается, отзывается в трубках, поет, стонет и плачет в свирелях, свистит во флейтах и сирингах, свистит, шипит, пищит и острыми иголочками прокалывается аж в самое неслышимость, ибо хочет приманить и колибри, равно и других птах небесных, а потом сказать: милости просим!
Копошатся насекомые. Переваливаются с боку на бок на ослабевших лапках. Распрямляют надкрылья, шевелят усиками. Лезут. Пробуют. Идет дело! Пробуют и лапкой топнуть. Перевертывают зернышко, авось что-нибудь под ним да найдется. Ничего под ним не было? Кто знает?! Возможно, мы не заметили. Тогда пошли дальше! Можем и взмыть. Дождевой червь расширяет свой тоннель; иногда чуть высунется из него, но тут же вновь втянется — боится вылезть на солнышко. Пчелы и шмели учуяли ракиту. Жаворонки прилетают. В самочке созревает яичко, и самец хлопочет, куда бы его положить.
И люди копошатся. Возятся с землей. Кое-кто и преклоняет колени, стараясь ее размельчить, взрыхлить. Иной ласков с землей, а кто прямо-таки неистовствует, все из нее силком вышибает. Неистовствуя, пригребая все к рукам, он готов весь шар земной проглотить, но и этого ему было бы мало.
А есть и такие, что любят землю, но не знают, чего хотят от нее, чего можно хотеть. Они обычно толкуют об игре: дескать, хотят играть, играть и с землей и, возможно, всю жизнь, но не знают, как это делается. Они думают, что земля должна играть с ними, должна даром кормить их и радовать. Они толкуют об игре, а не знают в ней толку; отнимают у этого слова смысл и содержание. Игривы в общем-то и телята. Однако они не хотят на всю жизнь оставаться телятами! А иные только портят игру, но доказать им это почти невозможно: они настолько хитры, что умеют и защищаться, такие ловкачи и хитрюги беспрестанно твердят, что игрой может быть что угодно: и кувырок на траве, и буханье по кастрюле, и бренчанье по натянутой бечеве. Слушаешь их и думаешь, что перед тобой дурни, однако это не обязательно дурни, это могут быть хитрецы и лентяи. Дураки и лентяи не умеют играть, они только портят игру. Если кто-нибудь принесет в оркестр горшок, значит ли это, что прибавился новый музыкант? А там — кто знает? Добро пожаловать! Но иной портит горшок лишь потому, что не хотел упражняться на скрипке. Н-да, кто-то просто играет или поигрывает, кто-то умеет и заработать игрой, кто-то может всего себя ей отдать, а кто-то просто тонет в игре, сам становится игрой, игра в нем и вокруг него, он все и вся способен развеселить и заставить играть, он всюду и всех оделяет, и, чем он щедрей и обильней отвешивает, тем он богаче. Можно об этом и по-другому сказать! Кто любит яблоки, кто и яблоню, а кто умеет яблоню и посадить. А иной умеет посадить хорошую яблоню на хорошем месте, потому как и из плохого места умеет сделать хорошее.
И Вильма умеет играть. Имришко же скоро опять выздоровеет. Так почему не играть? Она научилась. Научилась и ждать, а это в игре очень важно. Человек учится ждать с самого рождения. До этого его ждали другие. И как родится, сразу же начинает вести игру дальше, и ведет ее все смелей и сознательней: он творит игру. Сперва он учится есть, смеяться, плакать, лепетать и даже говорить. Он радуется каждому слову и любым пустяковинам, не зная еще, что поздней они станут гораздо значительней и что это и есть, собственно, правила игры. Он продолжает учиться. Начинает ходить в школу, за хорошее чтение от отца получает орехи. Вот те на, минуту назад были яблоки, теперь уже орехи! А почему нет? Поговорим об орехах! Со временем ребенок открывает, когда и где орехи можно найти, и однажды, отправившись на поиски, их приносит. И так из года в год: орехов все прибавляется, хотя они и убывают, однако с каждым годом их все прибавляется. В один прекрасный день человек приносит столько орехов, что и не знает, куда их девать, несколько штук сажает, чтобы стало их еще больше, чтобы ими порадовать и других отцов, и других детей, чтобы и учитель был доволен, что все дети хорошо умеют считать, чтобы от этого получали радость и такие дети, которых бросили отцы, даже поубегали в Америку. Если человек умеет считать, хорошо считать, так он уже и ждет иначе: он ждет так, словно только его-то и ждали; такой человек становится творцом, а настоящий творец всегда спешит, но не потому, что боится времени — его лишь маленькие души страшатся, время не может человека обидеть, и у творца нет ощущения, что оно его обижает, скорей ему кажется, что он сам пожиратель времени и в силах его одолеть, что он живет и будет жить дольше одной обыкновенной человеческой жизни, ибо он знает меру времени и свои возможности. В нем есть прошлое и настоящее, он сам перерастает себя, зная, что такое брать, но и что такое отдавать, он знает жизнь и знает, что она может быть долгой, красивой и богатой, и каждый, даже тот, у кого нет детей, может сделать ее еще богаче и краше.
Если бы так действительно было! Но именно те, кто больше всего рвется к богатству, не понимают, не желают понять, что лишь тогда человек становится подлинным богачом и множится богатство мира, когда кто-то в один прекрасный день перестает считать свои орехи или считает их только ради того, чтобы отдать другим. Разве не тот самый богатый, кто отдает игре больше всего? Кто не отдает ничего, тот не может быть партнером в игре; как бы ни старался он втянуть нас в свою игру, мы не должны соглашаться. Кто вложил в игру все, тот победил уже в самом начале.
Ах да, мы же хотели говорить о Вильме! А может, и о мастере. О ком раньше? Или нам пора закругляться?
16
Мастер все веселей. Каждое утро напевает или насвистывает. Имришко как-никак поправляется, что же может нам испортить веселость?
Но однажды — для такого-то дела, пожалуй, мастеру и не надо быть мастером — он помогал соседу сколачивать и ставить ограду в саду. Не помогал, сам ее делал, сосед возле него лишь попивал да приглядывался, иной раз и мастеру наливал — коль хочешь ограду хорошую, надо ее заслужить, — и вдруг, видать оттого, что слишком часто они опрокидывали рюмки, ему примерещилось, что у мастера слишком часто сгибаются гвозди.
— Слышь, сосед! — осклабился Кулих, ибо это был он, прогоревший обувной мастер. — Кажись, гвозди тебе кланяются. Неужто они тебя так уважают? Или ветер дует и так их клонит?
— И дует и клонит. — Мастер-плотник не давал себя сбить с толку. — Но они и кланяются. Отчего бы им не поклониться?
— Ведь всего-то ветерок, — скалил зубы Кулих.
— Ветерок? Ну и что с того? Ведь я мастер не чета тебе. У меня гвоздь и при ветерке согнется. Сними сапог, пускай твой сапог ветерок согнет! Ветер тебе в него даже не плюнет.
— Ну уж, ну уж! Сапог-то я смастерю. Ты бы моему сапогу, ей-ей, подивился.
— Как бы не так! Я подивлюсь, лишь когда у меня от сапога стелька отвалится.
— Да знаешь ли ты, приятель, что такое стелька?
— Как не знать. Но знаю и кто такой Батя, а тот постарался, чтобы другим уж не надо было этого знать. Нынче в башмаке или в сапоге, считай, и стелек-то нету.
— Болван! А что там?
— Да ничего. Теперь уже только башмак либо только сапог. Стельку можешь одному своему дурковатому сыну показывать.
— А ты что будешь показывать? — Кулих, надувшись, выпятил губы.
— Да хоть ограду, — спокойно ответил мастер. — И твою ограду. На собственной ограде тебе покажу, как гвозди мне по-прежнему кланяются.
— Ну уж, ну уж, тю-тю-тю-тю! — опять надулся Кулих. — Не кланяются, а только гнутся.
— Тю-тю-тю-тю, ну и гнутся. Похоже, гвозди у тебя завалящие. Либо ты поддал лишку. Все видишь вкривь и вкось.
— Точно, поддал. И тебя вкривь и вкось вижу. Ей-же-ей, из тебя стал уже только кривой и горбатый пес либо черт. Такую псину да и такого хренового черта я, кажись, сроду не видел.
— Осел, я же кланяюсь. Пошто ветер мне дует? Я хочу и тебе, сапожнику глупому, поклониться, потому как и ты черт, и ты уже порядком горбатишься. Ей-богу, как скапутишься и отвалишь в подвал, где будут черные ангелы твой сапог делить, стельку уж я себе выпрошу…
Неожиданно прибегает Вильма и перепуганным голосом сообщает:
— Тата, скорей пойдемте! Имришко страшно плохо!
Мастер откидывает молоток и бежит домой.
Имро лежал на кровати, хрипел и, тараща глаза, задыхался, не в силах перевести дух.
— За доктором! Живо за доктором! Беги, Вильмушка!
— Нет, я не пойду! Я здесь останусь!
— Ты иди! Кому-то надо идти! Вильмушка, скорей доктора! Господи Иисусе Христе! Я тоже не пойду! Беги к соседям! Быстро за доктором! Сосед! Господи боже, лучше к соседу я сам пойду. Сосед, сосед, соседушка родимый, Христом-богом прошу, сбегай за доктором!
— Бегу, уже бегу, соседушка! И чтоб враз шел, чтоб враз! И что вы меня… велеть, чтоб захватил с собой что?
— Так, так, сосед, и чтоб бежал, чтоб только быстрей бежал! — Мастер толкает соседа вперед себя. — Скажи, Кулишко, пускай бежит к нам и пускай все возьмет, пускай с собой все возьмет! Кулишко дорогой, беги, Кулишко, беги, соседушка, никогда тебе этого не забуду…
Мастер бежит назад. Снова подбегает к Имровой постели: — Как тебе, Имришко?! Сынок ты мой дорогой, что нам делать! Как тебе помочь?
Вильма и мастер вне себя от отчаяния, они всполошенно мечутся по дому. Что делать, что делать? Мастер хватается за голову: — Господи, что же ты не пришла раньше сказать!
— Как же, раньше, — плачет Вильма, — это враз и случилось. Вдруг захрипел. Я помочь хотела ему. Имришко! — Она снова склонилась над ним. — Хоть скажи что! Богом прошу, скажи нам, Имришко, как, как помочь тебе.
И тут его стало рвать кровью. У Вильмы вмиг оказалось в руках полотенце. Одной рукой она держала Имро за плечи, другой обирала кровь со рта, но крови все прибывало.
А мастер причитал над ним, но и сердился: — Бог ты мой, кровью рвет! Где доктор! Где доктор! Имришко наш, сын мой..! А я еще выпил! — злился он на себя. — Вильмушка, что с ним, хоть ты скажи! Что с ним творится?
Но Вильма не могла даже слез утереть. — Имришко! — Она приняла со рта у него уже второе полотенце, а его все еще рвет. Плохо, совсем, совсем плохо! Где доктор?!
Вдруг ему полегчало. Он стал хоть и с трудом, но все же ровнее дышать. — Ну скажи, скажи, Имришко? Ну как? Лучше чуток? Отпустило? Чего бы ты хотел? Имришко, скажи! Все тебе принесу, только скажи, скажи нам, сынок мой, чем тебе послужить?
— Я… Я… уж я… не знаю. — Он так страшно глядит на них и тяжело дышит. — Я… Я… воды..!
— Воды, Вильмушка! — Мастер подхватывает это слово и мигом бежит во двор, видя, что у Вильмы все руки в крови. Воды, воды. В колодце вода! Уже у колодца он обнаруживает, что забыл взять ведро, но тут же его осеняет, что вода есть и в кухне в ведре, и он бегом назад. — Живо, кружку! Господи, Вильмушка, кружку давай! — Вот он уже нашел кружку, бежит с ней к постели. — Кружка! Вода! Имришко! Вода в кружке, водичка в ней!
Но Имро вдруг выпрямился, хотел вроде и руки простереть, но в тот же миг его откинуло назад, раз-другой он еще шевельнул руками, потряс и чуть подергал периной, и больше уже ничего.
Мастер и Вильма с минуту глядели друг на друга, но, когда эта минута слишком затянулась, мастер, как-то сразу сгорбившись, сказал глухим голосом: — Аминь, Вильмушка! Пускай ему, сыну моему, господь бог простит все прегрешения!
Он посмотрел на постель, потом на Вильму и потихоньку пошел прочь, на пороге остановился, схватившись за дверную притолоку, и вдруг — к горлу подступили рыдания, он стал задыхаться, рыдания вместе с кашлем рвались наружу… Крепко держась за дверь, он хрипло заголосил…
А когда все выкашлял, когда ему наконец чуть полегчало, он, опустив руки и плечи, привалился спиной к дверной раме и помочился.
Тем временем вышла и Вильма. Глаза у нее еще блестели от слез, но лицо уже немного обсохло, она остановилась в двух шагах от мастера, протянув вперед руки, словно хотела кому-то показать, что они у нее снова чистехонькие, она словно бы и сама этому дивилась, но сказать ей было уже нечего…
А мастер загляделся на колодец. Из насоса еще скапывает вода. Припоздала, водичка!
У колодца окол, что против других околов и околков иначе, краше голубеет, потому как всегда свежий, достает ему воды и тогда, когда он не просит. — Гляди-ка, Вильма, разрастается! — Мастер потихоньку поводит головой. — И для Имришко будет с него на околок!
ВИНЦЕНТ ШИКУЛА И ЕГО ТРИЛОГИЯ
«Все, что я написал, — о родине. Это моя главная, единственная и самая дорогая тема. Другой темы мне не нужно…»
В. ШикулаПрозаик Винцент Шикула (род. в 1936 г.) в современной словацкой литературе занимает особое место. Он принадлежит к наиболее ярким писателям среднего поколения, определившим основной процесс развития словацкой литературы в 70-е годы. Его книги вызывают живой читательский интерес — у него на родине и за рубежом — и постоянный отклик литературной критики.
В литературу Шикула вошел в 1964 году двумя книгами: «Не аплодируйте на концертах!» и «Может, я построю себе бунгало». Первая книга, лирический дневник солдатских будней, привлекла к себе внимание своеобразной художественной концепцией и жизненной философией. Уже здесь автор обнаружил редкий дар — описание внешней реальности насыщать напряженным внутренним динамизмом. Восемнадцать прозаических произведений книги, в жанровом отношении трудно определимых, тематически и формально неброских — о ценностях «малого гуманизма» в современной жизни, то есть о человечности в непроявленных жизненных ситуациях, во взаимоотношениях людей. Под лупой прозы Шикулы этот гуманизм обретает новый смысл. Вторая книга — возвращение в пору детства, к истокам непреходящего и сокровенного. Такие рассказы, как «Мандуля», «Дорога», «Падали груши», подтвердили основной принцип его повествования, устремленного к тем «мелочам» жизни, которые обычно ускользают из поля зрения, а на деле часто выражают социальное в человеческом бытии. Так в прозе Шикулы утверждается мир человеческих отношений, а следовательно, мир — в широком смысле — социальный. Атмосфера легкой грусти и лирической ностальгии характерна для его рассказов, построенных на едва обозначенном, незавершенном сюжете. Резкую контрастность драматических столкновений писатель обычно, создавая образ, приглушает. Легкий полунамек, непроизвольность, а то и случайность преобладают в его творческой манере. Шикула неподражаем там, где его слово «легко», как бы мимолетно, где писатель не «выжимает» некую правду из самого слова, а лишь пользуется им, чтобы обозначить взятое из жизни, характерное, и в этом характерном, поданном непринужденно, словно мимоходом, открывает истинно человеческое, познавая таким образом изобразительную силу слова. Шикула ищет чистоту простых человеческих ценностей: непосредственного жеста, обычного понимания и сочувствия, хотя и не идет к этим ценностям напрямик, а тем более — не допускает сентимента. Не удивительно поэтому, что в его мире столь большая роль отведена детству.
Пожалуй, вполне закономерно, что год спустя писатель опубликовал повесть для детей «У пана лесничего на шляпе кисточка» (1965). Эта книга — тонкое проникновение в хрупкий мир детства, в мир первых мальчишеских впечатлений первоклассника накануне второй мировой войны. Затем последовала еще одна книга на тему детства: «Каникулы с дядюшкой Рафаэлем» (1966), прочно вошедшая в основной фонд словацкой детской литературы. Это впечатляющий образ детства на пороге отрочества, делающий близкими и понятными истоки шикуловского мироощущения. История двенадцатилетнего Винцента, играющего в деревенском духовом оркестре и открывающего для себя удивительный мир музыки благодаря дружбе со старым музыкантом Рафаэлем, явно автобиографична. Писатель блестяще воспроизводит комические моменты детской психологии. Впоследствии четко обозначится, что своеобразный юмор и, условно говоря, «детский» аспект характерны для творчества Шикулы вообще.
«Симбиоз мира детей и мира взрослых в книгах Шикулы, — замечает известный словацкий критик Станислав Шматлак, — столь же естествен, сколь и детское ви́дение в его книгах для взрослых».
В том же 1966 году выходит повесть «С Розаркой», которая по праву считается лучшей в творчестве первого периода. В повести своеобразно раскрыта тема преодоления человеком одиночества и замкнутости, разработанная писателем не только метафорически и символически, но затрагивающая и сферу психиатрии. Пожалуй, можно сказать, что здесь автор подал свою тему как бы наоборот, изобразив трагедию взрослой девушки, простодушной, непосредственной и незащищенной, духовное развитие которой осталось на уровне ребенка. Несомненно, метафора в этом произведении имеет и более широкий смысл.
1966 год был для молодого писателя необычайно продуктивным: тогда же вышла повесть «Не на каждом пригорке трактиры стоят», изображающая судьбы словацкого «босячества», людей общественного дна — такие герои будут постоянно появляться на страницах произведений Шикулы. Это сложная проза, скомпонованная по принципу монтажа. Первый период творчества Винцента Шикулы завершает книга рассказов «Воздух» (1968). Здесь в художественном миропонимании автора более определенно намечается движение от субъективного к объективному, границы повествования расширяются, создавая возможность конфронтации со временем и эпохой.
Шикула обогатил развитие словацкой прозы шестидесятых годов разработкой этической проблематики, многими художественными инновациями, обретая свою неповторимую манеру изображения, свое понимание общественных связей, в которых главное место отводится взаимопониманию людей. Именно поэтому художественный мир Шикулы строится на устремлении человека к человеку. Герой его рассказов раскрывается преимущественно через других людей, через свои социальные связи. Отношения человеческие — в центре его прозы. Ощущается это во всем: прежде всего в повествовании, в репликах, в монологе, диалоге, являющихся основным знаком и функцией человеческой деятельности, которая требует присутствия другого человека, отношений между Я и Ты, ибо основной закон жизни — закон коммуникации. Поэтому и герой Шикулы, мир, созданный писателем, имеют диалогическую, то есть диалектическую структуру.
Повествовательность и с формальной точки зрения составляет основной принцип поэтики писателя. Исключительно динамичное повествование становится функциональным инструментом рассказчика, субъективной формой эпической интеграции в прозе Шикулы. Повествование у Шикулы буквально вибрирует увлеченностью человеком, его напряженным бытием, а проникновенное понимание широких социальных связей дает писателю возможность создавать новые, все более значимые художественные произведения. Свидетельство тому — романическая трилогия «Мастера» (1976), «Герань» (1977) и «Вильма» (1979). В трилогии писатель воплотил свою большую тему, к которой готовился всем своим предшествующим творчеством: тему простого народа Словакии и его места в истории. И тему эту он воплотил с такой последовательностью, о какой мы уже давно не встречались в нашей литературе.
Почти на протяжении сорока лет словацкая проза разрабатывает тему второй мировой войны и Словацкого национального восстания. В литературе постоянно происходит процесс углубления художественной правды об этом ключевом событии словацкой новейшей истории, оставившем неизгладимый след в жизни нескольких поколений словацкого народа, во всех его политических и духовных проявлениях. Особый вклад в художественный образ Восстания внесли писатели, которые сами прошли через горнило войны, через опыт партизанской борьбы. Литература и время, отделяющее нас от событий тех лет, убедительно подтверждают, что такое сложное социальное явление, как Восстание, неисчерпаемо. К полной правде о Восстании литература постоянно лишь приближается, открывая в этой теме все новые и новые черты. Временная дистанция позволяет нам понять, насколько велики были трагические жертвы, о которых мы не смеем забывать даже в День Победы, ибо без такого осмысления не может быть правды о Восстании. У этой темы существует своя логика развития — ведь она есть у страны, которая ее породила.
Шикула, трилогия которого, несомненно, обогатила художественную литературу о Восстании, использует и комические элементы в изображении уходящей эпохи, и трагические аспекты в изображении судеб повстанцев. Временно́е расстояние, все более отделяющее нас от событий Восстания, заставляет видеть многие проблемы в новом свете, зачастую более глубоко. Такова, в частности, проблема создания широкого Национального фронта, который формировали коммунисты, стараясь объединить все здоровые силы народа; такова и проблема участия в нем широких народных слоев — простых солдат Восстания, обыкновенных крестьян из словацких деревень и поселков, всех тех бесчисленных карчимарчиков и гульданов, что несли эстафету поколений и своими деяниями наводили мосты между мирами, эпохами, временами. Шикула прослеживает «внутреннее спонтанное участие широких народных масс», закладывавших фундамент Восстания, о котором Густав Гусак говорил так:
«Восстание, как и любая народная революционная акция, стало возможным лишь при активном участии, поддержке и инициативе широких слоев народа».
Именно такова отправная точка художественного осмысления темы в трилогии В. Шикулы.
Сюжетный костяк трилогии сравнительно несложен. Действие происходит в деревне (условной) Околичное в пору второй мировой войны, в которую вассальное «Словацкое государство» вступило на стороне фашистской Германии. Война как таковая еще не всколыхнула этот мир. Социально верно, хотя и предельно нетрадиционно воссозданная картина жизни простого словацкого люда, отраженная в судьбе семьи мастера-плотника Гульдана и трех его сыновей, не воспроизводит в точности канвы исторических событий. Привычный образ эпохи несколько «смещен», он схвачен как бы «сбоку». Шикулу интересуют здесь прежде всего специфические черты времени, его масштабность в смысле исторической достоверности, корней, которые связывают его с прошлым и будущим. Писатель обращается к конфликтам, противоречиям, обозначившимся в кипении и неурядицах эпохи и интересующим его прежде всего как определенный опыт, непосредственно связанный с прошлым и настоящим, то есть с тем, что умножает и обогащает жизнь, что глубоко запечатлевается в душах и мыслях людей. Когда в прошлом и настоящем закладывается то насущное, что становится необходимым сегодня.
В первой книге трилогии нет персонажей, наделенных зрелым классовым сознанием. Писателя интересуют не сложившиеся герои, осознающие свои классовые интересы, а прежде всего несознательная крестьянская масса и процессы, способствовавшие становлению такого сознания. Время действия первой книги трилогии приурочено к периоду, когда борьба между Советской Армией и фашистскими ордами достигла наивысшего напряжения. Именно под влиянием этих событий в Словакии созревают силы антифашистского Сопротивления, возглавляемого коммунистами, и, следовательно, возникает общественная ситуация, рождающая реальную возможность активного действия, борьбы.
Западнословацкая деревня, изображенная в трилогии, находилась в стороне от основного русла исторического развития тогдашней Словакии. Определенные политические и географические причины крайне ограничили возможности революционного общественного движения. Этот узкий мирок, отягощенный религиозными традициями (в «Мастерах» о них сказано немало — им посвящены многочисленные эпизоды и главы, например строительство костела, роспись нового храма библейскими сценами и т. д.), всегда сторонился политики, которая представлялась ему «господской затеей», игрой «сильных мира сего», никогда не приносившей людям ничего хорошего. («А что до правительства, — говорит церовский крестьянин, — то должен вам сказать, оно смердит больше всего, вот потому-то я до сих пор от любого правительства нос воротил и ворочу».) Большинство жителей просто не думали, что возможны какие-нибудь социальные перемены, надеялись «обойти» войну, охватившую весь мир, укрыться от нее — как обещали деревенские пророки-священники — в костелах. Сомнения одолевали в основном только тех, чьи сыновья остались на полях Восточного фронта (коллаборационистское правительство, как известно, посылало словацких солдат на братоубийственную войну против Советского Союза). Писатель хорошо знает эту «отсталость», «несознательность» своих героев, их взгляд на мир, их мышление, позицию. Именно поэтому он изображает рождение антифашистского Сопротивления на окраине страны, на периферии общественной жизни, среди тех, кто долго оставался лишь зрителем.
Эти вопросы автор рассматривает в то же время с учетом не только конкретной ситуации в Словакии периода войны, но и нашей национальной история вообще. Ведь в течение долгих веков игнорировались национальные права словаков, более того, отрицалось их право на собственную историю. Авторские раздумья об унизительном чувстве исторической вторичности нации приобретают особое значение именно в контексте общенародного выступления словаков против фашизма. Кардинальный вопрос, который Шикула разрабатывает в художественных образах, гласит: кто же принадлежит истории? Те, кто создает страну, кто поддерживает жизнь в ней, то есть трудовой люд — мастера, или те, кто в этой жизни благоденствует — господа, чьи псевдоисторические деяния попадают в официальные учебники истории?
Марксистско-ленинское положение о том, что только массы своим трудом и борьбой творят историю и что революция начинается лишь тогда, когда массы берут дело революции в свои руки, когда они становятся субъектом исторического процесса, помогает нам осмыслить суть трилогии. Концепция Шикулы строится на исследовании тех «медленных» социальных процессов, в ходе которых каждодневные дела и проблемы «маленьких» людей обретают большую историческую значимость и приводят этих людей к масштабным политическим решениям. В романе прослежен процесс формирования самосознания массы простых деревенских жителей, освобождения от пассивности, забитости, отчуждения от истории и постепенного понимания собственных возможностей. Это процесс затяжной, исполненный сомнений, требующий, как известно, определенного толчка. Такой толчок могут дать лишь сознательные силы, несущие революционность в массы. О присутствии таких сил в деревне Околичное («Мастера») говорится мало, отрывочно. О их действиях мы узнаем главным образом в заключительной части первой книги, когда в решительную минуту на сцену открыто выступают жестянщик Карчимарчик, батраки Онофрей, Ранинец, Вишвадер и ведут людей на Восстание. Такое «частичное» изображение борьбы народа допустимо, конечно, только в том случае, если в поле зрения художника постоянно ощущается диалектическая связь этого ограниченного фрагмента с общественной и, более того, интернациональной целостностью, в их взаимозависимости и взаимообусловленности. Если в литературе речь заходит об одном полюсе, хотя бы в подтексте, то обязательно должен быть ощутим и другой.
Взгляд художника обращен прежде всего к человеку, к его истории. Шикула никогда не воспринимал человека абстрактно, а в трилогии еще более явственно подчеркнул его социальные и общественные связи. Но выбирает он главным образом те социальные факторы, которые создают «лицо» человека, поэтому так подробно в его книге описаны профессии. Хвала простому народу, хвала мастерам, их созидательному труду, труду во имя людей — это, надо признать, самые прекрасные партии произведения. А самая идея мастера, мастерства обусловливает еще один важнейший аспект книги. В мастерстве — воплощение принципиальной сущности родной земли, мастерство — определяющий образ жизни словаков, ее творцов. Во имя этого, во имя созидательных усилий народа писатель ведет своих героев на борьбу за новый мир, за прогресс, то есть ведет к сознательному социальному творчеству, именно в нем полагая нравственный смысл Восстания.
Если полифония, многоголосье, в «Мастерах» целиком сосредоточена на разработке вышеназванной темы — народ в истории — и лишь подводит к теме Восстания, то вторая книга трилогии, «Герань», уже непосредственно касается событий Восстания — с августа 1944 года вплоть до освобождения Словакии Советской Армией. Внимание художника и здесь сосредоточено главным образом на отношениях людей, на моральной проблематике. В конкретных, тщательно детализованных образах раскрывается процесс кристаллизации партизанской солидарности, в которой писатель видит прототип новой социальной морали — так художественно осмыслен в книге нравственный завет Восстания будущему.
Действие «Герани» строится на контрапунктическом звучании двух главных тем: в деревне и в горах, в деревне Околичное и на полях сражений Восстания (с этой темой связана история партизанского отряда, в котором находится младший сын плотника Гульдана Имрих; в романе есть еще один, побочный, план: письма жандарма Штефана, свояка Имриха, своей жене Агнешке, в них рассказывается о противоречивых судьбах словацкой жандармерии в Восстании). Сюжетный параллелизм в структуре книги создает возможность конфронтации разных судеб: тех, кто остался дома, и тех, кто должен был покинуть дом и уйти в горы, чтобы воевать. Эта конфронтация осуществляется по большей части во второстепенных, боковых, опосредованных эпизодах, позициях и взглядах, отсюда широкий диапазон авторской концепции исторического значения Словацкого национального восстания: в сложный, противоречивый процесс прямо или косвенно был втянут весь народ, процесс этот отразил и инерцию старого в людях, и ломку старого, становление новых форм сознания и самосознания.
Теме Восстания и войны посвящена и последняя книга — «Вильма», но подается эта тема в ином ракурсе: здесь писателю важны последствия войны, ее гибельное вторжение в жизнь человека, все то разрушительное, что она с собой несет. В книге действуют те же персонажи: Имрих, Вильма, старый мастер Гульдан и мальчик Рудко, которому здесь отводится роль повествователя. Автор, таким образом, и в этой части сохраняет основную стилистическую структуру трилогии; он исходит из ви́дения подростка, из его манеры общаться, говорить со взрослыми, из его восприятия мира — так и этот образ органично вписывается в структуру всей трилогии. Рудко прежде всего свидетель, свидетель автора. Но свидетель, который несет свою ответственность. И его ответственность — нечто неизмеримо большее, нежели только он сам, — в этой ответственности сконцентрирован весь опыт, через который прошли простые словаки, их скромный трагический героизм.
Сломленным возвращается с войны Имрих. Его послевоенная жизнь — лишь затянувшаяся смерть, которая в конце концов побеждает его. Обычно литература расстается со своими героями сразу же после их взлета, их падение уже, как правило, не занимает ее. Зачем, скажем, навязывать читателю образ человека больного, угасающего? Лупа шикуловской прозы, которая избегает всего крикливо драматичного, в «Вильме» задерживается на тех трудных, горьких моментах в жизни партизана, которые пока что интересовали мало кого из художников. Шикула создает образ партизана, исчерпавшего свои силы в бою. Его время принадлежит уже иному измерению — времени истории. А время его молодой жены Вильмы — это время неисполненного настоящего, время долгого ожидания, постоянно возвращающего ее в прошлое. Оно выражено в парадоксе: «…что у меня за жизнь! Он был в горах, а я там по сю пору!» Писателю удалось с необыкновенной художественной проникновенностью изобразить мучительную борьбу этой женщины за полноценную жизнь, ее нравственную силу, помогающую противостоять нелегкой доле, на которую обрекла ее неизлечимая болезнь, а потом и смерть мужа. Писатель окружает свою героиню (и здесь мы снова сталкиваемся с внутренней символикой, присущей прозе Шикулы) цветами и детьми в парке, за которым она ухаживает и который после войны становится достоянием всей деревни. Вильма — основной персонаж заключительного романа трилогии. В этом образе Шикула воплотил идею прекрасного, ненадуманного героизма жен словацких партизан, которым довелось противоборствовать самой истории и о которых так впечатляюще говорит мать Вильмы в своем заключительном монологе:
«Мужчины — герои, каждый хочет глядеть героем. Только каково бабонькам, Имришко, скажи, каково потом бабонькам, кто их заметит, который герой? Сынок мой, хочешь скажу тебе, кто герой. И Вильма — герой! Она еще и теперь из-за тебя мается».
Каждая национальная литература обладает правом сказать свое слово о человечности, о гуманизме. Потребность воспользоваться этим правом проявляется главным образом тогда, когда народ оказывается втянутым в историческое событие, затрагивающее и судьбы иных народов. Это дает литературе новые параметры. Литература, черпающая из этих источников, глубоко народна, она повествует о всечеловеческом — в ней присутствует человек во всей своей полноте, в ней — его поступки, мысли и чувства. Трилогия Винцента Шикулы открывает читателю черты великого и значимого в судьбе людей, которые оказались способными заплатить за свою Родину великую плату и потому победили.
Шикула создал богатую, разнообразную и живую романическую структуру, использующую самые разнообразные формальные возможности этого динамичного жанра. Его трилогия — истинная сокровищница стилистических приемов, самых разнообразных способов воплощения жизненного опыта в художественном слове. Это произведение высокой эпической культуры, базирующейся на давних местных речевых, главным образом народных, традициях. Литература здесь — чуткая выразительница народного опыта, народных элементов, импульсов, их историко-социальной, жизненной, идейной, языковой специфики, глубоко осознанной народности, нового отношения к ней, к ее традиционной красоте. Конечно, трилогия во многом строится на принципах предшествующей прозы художника: скупые сюжетные средства, углубленное проникновение в действительность, предпочтительное внимание к человеку из народа, постоянный интерес к миру детства. Все эти особенности еще более ярко раскрываются в трилогии благодаря активной позиции рассказчика, организующей всю структуру повествования. Если «Мастера» — роман повествователя, где Шикула выступает в двух ипостасях, искусно «смешивая» функции рассказчика и свое авторское отношение к нему и к героям, то в двух последующих книгах он передает это право другому герою — деревенскому мальчику Рудко, хотя ни в одной из частей трилогии типы повествования не выдерживаются в едином ключе. Шикула — автор и повествователь — отверг немало традиционных приемов старого и нового романа, но одно осталось у него незыблемым — его повествование реалистично, оно объемлет огромный мир человеческих отношений, воплощая его в разнообразных формах: от эпических до неэпических жанров. В трилогии все подчинено типу повествования, оно во многом определяет особенности живых, полнокровных характеров и то многоголосное народное звучание (главным образом, в «Мастерах»), которое порой приглушает даже голос самого рассказчика.
Историко-философская проблематика в трилогии — это и тема и предмет раздумий, а порой и мудрствований героев; она явственна в комментарии повествователя и выражается в основном а стилизации, в духе народной (мнимо наивной) идеологии, поскольку повествователь Шикулы, так же как и его герои из народа прежде всего приверженцы этой идеологии. Шикула ясно видит историческую перспективу, он тщательно, детально выписывает малые жизненные явления, но столь же внимателен к крупным общественным категориям, он легко переходит от индивидуальных масштабов к историческим и социальным, проницает глубины жизни в поисках правды человеческих отношений. Человек у него не бессознательный исполнитель велений истории, его человек стремится стать равноправным ее партнером.
Шикула раскрывает внутренний мир своих персонажей без всякого крена в излишнюю психологизацию; они проявляют себя в действии и прежде всего в рассказе — в речи, в разговоре. Его персонажи, на наш взгляд, — это новая индивидуализация коллективного героя родной земли, ее безымянного люда, чья неписаная история воскрешается на страницах трилогии. В той же мере, в какой автор ценит эту историю, он ценит и своего коллективного героя. Писатель — строитель и выбирает в конкретной действительности материал, необходимый для его романической структуры. Но одновременно он и критик, поскольку никакой отбор невозможен без дифференциации. В родном народе он видит не только мастеров, но и бездельников, подлинную человечность с ее социальным, классовым инстинктом и волей, но и зыбкую уступчивость и двойственность беззащитного, спасающегося от беды человека. Однако в писательской концепции и интерпретации все эти люди не существуют вне времени, вне истории, они не бегут, не увертываются от ее настигающей колесницы. Шикула выводит на сцену народ, с которым ведет диалог многовековая история. Народ выступает наследником и продолжателем культурных традиций, в истории он познает самого себя и потому не проявляет своей исторической воли, пока не найдет для нее твердой почвы. Мастерство в понимании Шикулы есть проявление всесилия человеческих способностей не только в ходе преображения материального мира, но и в процессе созидания собственной истории. Участие в Восстании — это необходимость, обусловленная не столько общегуманными, сколько социальными, а следовательно, и политическими соображениями, и потому представляет собой конкретное претворение в жизнь глубинного смысла истории словацкого народа. Народные массы открывают для себя в условиях антифашистской борьбы революционную социальную перспективу, которая является не только естественным выражением жизненных устремлений народа, но и свидетельством его способности воспринимать самые прогрессивные тенденции нашей эпохи.
Уже сам широкий круг проблем, предложенный книгой, говорит о том, что картина народной жизни вовсе не видится ее автору как некая изящная идиллия, некий прототип замкнутой в себе гармонической родины. Родина у Шикулы — это отнюдь не ограниченная территория, отличающаяся лишь местным колоритом и ценностями, лишенными общественной значимости и причастности всему остальному миру, у нее своя «сердцевина», свой «край», своя «высота» («самолучший дом только тот, где ты родился, где твоя родина… родина — это расходящийся круг, у которого есть своя сердцевина… у родины высота… если бы понял ее, ты понял бы и сердцевину и тогда бы уже не бежал, не предал бы своей родины и не надругался бы над чужой; у кого есть родной дом, тот повсюду дома, любая родина его привечает… родина с родиной всегда заодно…»). Шикуловское отношение к исторически ограниченному образу родины обусловлено этой диалектикой: родина — мир. («Мы давно должны были думать о мире, больше тревожиться за него и друг друга учить, что нужно себя уважать, себя и других…») Шикула касается, казалось бы, лишь «сердцевины», а держит он в поле зрения всю родину — до самого ее «края».
С необычайной чуткостью и точностью художник живописал деревенскую жизнь, золотую, но и горькую пору далекого детства, его вкус и запах, его неповторимую атмосферу. Колорит детства удался ему еще и потому, что в качестве рассказчика выступает в трилогии и мальчик Рудко, в чьем восприятии, по-детски наивно, воссоздается почти все, что происходит в Околичном в период войны и после нее. Это сообщает повествованию особый настрой, все основные его компоненты модифицируются в диалектической взаимосвязи комического и трагического.
Авторская раскованность, свободное отношение к материалу выявляется и в других стилистических аспектах повествования. В словацкой литературе редко встречаются произведения, пронизанные стихией народного юмора, веселости. Она, скорее, склонна к аскетизму письма, аскетизму духа. Современной нашей литературе прежде всего недостает для этого остраненности. «Веселость», легкость произведения Шикулы выразительно определяют всю его тональность, общее звучание. Шикула умело сочетает смешное с ощущением глубокой причастности; о серьезном он предпочитает говорить с улыбкой, с грациозной иронией. Сфера смеха, как сфера остраненности и одновременно причастности, гармонично входит в его художественный замысел. Каким действенным художественным инструментом становится смех в руках такого мастера, как Шикула, превосходно видно в картине строительства церовского костела, этой эпической метафоры словацкого theatrum mundi[96], воплощающей государственно-политическую концепцию того времени и реальность этого «островка порядка»: посреди рушившегося мира строится новый костел, который должен стать единственным укрытием от железной лавины войны.
Смех Шикулы — это не смех сатирика (сатирик редко бывает веселым), он определен той исходно теплой человеческой атмосферой, которая свойственна его художническому миру. Юмор — не только средство выражения, но и форма отражения целостности жизни. При этом надо сказать, что для Шикулы юмор не единственная панацея от всех бед, достойная человека. Шикула слишком ясно сознает суть юмора, чтобы ограничиться только им, чтобы отказаться от диалектической игры субъективного и объективного, веселого и серьезного, а подчас и трагичного. Он отлично видит двуединую направленность юмора: как только смех отзвучит, мы вновь оказываемся лицом к лицу с реальностью бытия, из которого вышли. Отлично сознавая сущность закона равновесия, Шикула не впадает в односторонность комического или трагического. С какой чуткостью и тонкостью, например, уравновешивает он драматическую напряженность своей книги с ее в общем-то светлой, а подчас и иронической интонацией.
Этот освобождающий смех является составным элементом глубокой связи писателя с народным миром; его ухмылки, подковырки, насмешки сродни народному характеру, народному гротескному реализму, фамильярной грубости, игре. Шикула вводит нелитературную речевую стихию, используя различные сферы народного языка. Поскольку все происходящее в мире для писателя существует преимущественно в слове, он в народной среде ищет свойственные ей словесные формы выражения, жесты. На этом исходном материале он и строит свою трилогию — на этой народности, на ее раскованности, доступности, на многообразии и гибкости ее словаря и синтаксиса, на ее импровизационности, живописности, сочности, широте, метафоричности, на ее жизненности. Мастер многоликого изображения жизни художественным словом, Шикула один из тех словацких писателей, книги которых относятся к выдающимся образцам нашей словесной культуры.
Произведение Шикулы прекрасно прежде всего тем, что все происходящее в нем — от жизни и для жизни; оно с лихвой возвращает жизни то, что взяло у нее. В нем нет концовок, которые бы ставили последнюю точку. Автор предоставляет читателю широкий простор для воображения, для дальнейших раздумий над судьбами мира, над его проблемами. Он смотрит на мир глазами живописца, сосредоточиваясь всегда только на определенной части его многообразной совокупности. В этих акварельных теплых красках, где доминирует голубой цвет и нет резких контрастов, мы находим не только частицу родной земли, но и самих себя.
ВИНЦЕНТ ШАБИК,
Братислава
Примечания
1
Болельщик, советчик при игре в карты, шахматы. — Здесь и далее примечания переводчика.
(обратно)2
Деревня Биксард в Западной Словакии в прошлом славилась производством извести.
(обратно)3
Батя — создатель обувного концерна в буржуазной Чехословакии.
(обратно)4
То есть до образования в 1918 г. буржуазной Чехословацкой республики.
(обратно)5
Намек на то положение Словакии в системе венгерского государства, когда в парламенте было всего лишь два словацких депутата (до 1918 г.).
(обратно)6
14 марта 1939 г. сепаратисты — «людаки» — при поддержке Гитлера провозгласили так называемое «самостоятельное Словацкое государство». В тот же день войска фашистской Германии пересекли границу Чехословакии и оккупировали Чехию и Моравию.
(обратно)7
Ты старый хрыч (венг.).
(обратно)8
Плевал я на твой уговор. Так копытом тебя лягну — стены аж задрожат! (венг.)
(обратно)9
Старая кочерыжка! Сожру тебя со всеми потрохами (венг.).
(обратно)10
День поминовения усопших.
(обратно)11
В Словакии существовало поверье, что 6 декабря святой Микулаш разносит детям подарки.
(обратно)12
Способный, толковый человек, умелец (словац.).
(обратно)13
Городок в Восточной Словакии, неподалеку от границы с Польшей.
(обратно)14
Под селом Липовец Винницкой области словацкие части во вторую мировую войну понесли крупные потери.
(обратно)15
Помощник, сподручный (словац. устар.).
(обратно)16
По словацкому обычаю, веточкой розмарина украшают молодоженов на свадьбе.
(обратно)17
Насквозь (нем.).
(обратно)18
Низший офицерский чин в турецкой армии XVII—XIX вв.
(обратно)19
Старший овчар (словац.).
(обратно)20
Словацкий народный деревянный духовой инструмент.
(обратно)21
Соратник легендарного словацкого разбойника Яношика, защитника бедных и угнетенных.
(обратно)22
Золотая римская монета (лат.).
(обратно)23
Итальянская мелкая монета.
(обратно)24
Искусство войны (нем.).
(обратно)25
Тотальная мобилизация (нем.).
(обратно)26
Все голоса и инструменты оркестра сразу (итал.).
(обратно)27
Перекличка хора и священника в католическом богослужении.
(обратно)28
Прислужничество в католической церкви.
(обратно)29
Город в Средней Словакии, далее упоминаются города и районы Западной Словакии.
(обратно)30
Музыкальный инструмент, состоящий из множества дудочек различной величины.
(обратно)31
26 декабря, следующий день после рождества.
(обратно)32
Свечка, которую зажигают во время грозы.
(обратно)33
В годы фашистской оккупации Чехия и Моравия были объявлены протекторатом Германии.
(обратно)34
Бенеш Эдуард (1884—1948) — президент Чехословакии, в годы немецкой оккупации страны возглавлял чехословацкую буржуазную эмиграцию в Лондоне.
(обратно)35
Широкие полотняные штаны.
(обратно)36
Гардисты — словацкие фашисты.
(обратно)37
Река в Италии; здесь в конце первой мировой войны имели место волнения среди солдат чехословацкого полка, входившего в состав австро-венгерской армии.
(обратно)38
Расстрел в августе 1944 г. немецкой миссии во главе с генералом Отто, возвращавшейся из Румынии в Германию через Мартин, явился одной из первых акций Словацкого национального восстания.
(обратно)39
Защита, оборона (нем.).
(обратно)40
Словацкая национальная кожаная обувь типа чувяков.
(обратно)41
Гора в Западной Словакии, так же как и Брадло.
(обратно)42
Административно-территориальная единица в старой Венгрии, в состав которой входила Словакия.
(обратно)43
Свастика (нем.).
(обратно)44
Салат из маринованных овощей.
(обратно)45
«Аист» (нем.) — тип немецкого самолета.
(обратно)46
Перефразированный лозунг словацких гардистов: «За бога и за народ!»
(обратно)47
Мой господин (нем.).
(обратно)48
Да, да (нем.).
(обратно)49
Глинковская словацкая народная партия — клерикально-фашистская партия, названная так по имени своего основателя словацкого священника Андрея Глинки.
(обратно)50
Перечисляются названия опер, вальсов, шлягеров, музыкальных инструментов: «Так поступают все женщины» (итал.), «Поэт и крестьянин», «Лили Марлен», «Привет, дружище», «Сердце колотится бум-бум», «Легкая кавалерия» (нем.), скрипка, виола (итал.).
(обратно)51
Внимание! (нем.)
(обратно)52
Гражданская противовоздушная оборона.
(обратно)53
Посмотри-ка! Вот чудесный Вифлеем! Но где Иисус? (нем.)
(обратно)54
Иисус? Не знаю (нем.).
(обратно)55
Не знал я, что ты и есть Иисус! (нем.)
(обратно)56
Черт возьми! (чешск.)
(обратно)57
Бог мой (искаж. нем.).
(обратно)58
Город в Чехии.
(обратно)59
Богемия и Моравия (нем.).
(обратно)60
Да, да, меня зовут Гельмут. Ты знаешь меня? В чем дело? (нем.)
(обратно)61
Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum (лат.) — Иисус Назарянин, царь иудейский.
(обратно)62
Да нет!.. Я жду INRI (нем.).
(обратно)63
Спасибо (нем.).
(обратно)64
Проходи! (нем.)
(обратно)65
Прочь! (нем.)
(обратно)66
Пошел, пошел! (нем.)
(обратно)67
О бог мой! И здесь тоже партизан! (нем.)
(обратно)68
Или это маленький дьявол? (нем.)
(обратно)69
Грязнуля! (нем.)
(обратно)70
Пасхальный обряд, при котором обливают друг друга водой и хлещут прутьями.
(обратно)71
Католический обряд, совершаемый в страстную субботу: жгут ивовые ветки, соль и проч.
(обратно)72
Иудейский первосвященник, якобы судивший Христа.
(обратно)73
Ах, господин Гульдан! Как поживаете? (нем.)
(обратно)74
Спасибо! Хорошо, хорошо (нем.).
(обратно)75
Хорошо? А я ужасно себя чувствую (нем.).
(обратно)76
Ужасно. Я устал. Ужасно устал. Я солдат. Я это знаю. Но я уже очень устал (нем.).
(обратно)77
Очень устал, очень (нем.).
(обратно)78
Да, да. Но это ничего не значит! Как вы поживаете, господин Гульдан? (нем.)
(обратно)79
Я вышел просто на прогулку (нем.).
(обратно)80
Все ужасно (нем.).
(обратно)81
Церковь. Христос и «Стояла Мать» (начальные слова молитвы).
(обратно)82
К черту! (нем.)
(обратно)83
Проходи, проходи! (нем.)
(обратно)84
Масарик Томаш Гарриг (1850—1937) — первый президент Чехословакии.
(обратно)85
Конечно! (нем.)
(обратно)86
Начальные слова католических молитв.
(обратно)87
Слава в вышних господу (лат.).
(обратно)88
Особые конфеты, которые вешаются на рождественскую елку.
(обратно)89
Заупокойная католическая молитва.
(обратно)90
В Словакии так говорят о весенних ночных заморозках.
(обратно)91
«Камо грядеши» (лат.), роман Г. Сенкевича (1846—1919).
(обратно)92
Кисуца — район Оравы.
(обратно)93
Дьявол в поэзии (лат.).
(обратно)94
Герой одноименного романа крупного словацкого писателя П. Цигера-Гронского (1890—1960).
(обратно)95
Словацкая деревня, мужское население которой было полностью уничтожено фашистами во время Словацкого национального восстания.
(обратно)96
Сцена мира (лат.).
(обратно)




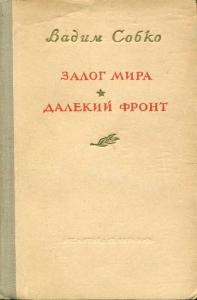
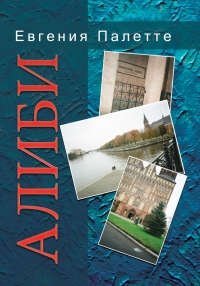

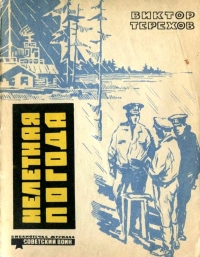

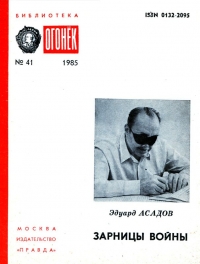

Комментарии к книге «Мастера. Герань. Вильма», Винцент Шикула
Всего 0 комментариев