Геннадий Ананьев Орлий клёкот Роман (книга вторая)
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Михаил Богусловский с досадливым недоумением смотрел на умолкнувшую трубку, осмысливая, чем обернется для него короткая фраза: «К вам выехал следователь по поводу расстрела группы перебежчиков. Будьте на месте».
«Расстрел?.. Перебежчики?.. Опять чья-то рука нацелилась! Черным вороном висит кто-то надо мной. Злой рок!..»
Он уже стал забывать подробности того неравного боя, ибо прошло с того дня две недели, а каждый день поступали в отряд десятки сообщений о стычках нарядов то с белоказаками, то с хунхузами, но чаще с японо-маньчжурскими солдатами, а каждая стычка — это либо раненые, либо погибшие. В это же время просочился через границу партизанский отряд, зажатый карателями. Попросил временного политического убежища, оружия попросил и боеприпасов. Но пойди разберись, все ли в том отряде патриоты своей страны, не нашпигован ли он японской агентурой и, вообще, не игра ли это японской разведки? Коварна она, ох как коварна!
Последние же несколько дней все внимание и его, начальника отряда, и всего штаба было приковано к острову Барковый, на который вдруг ни с того ни с сего начали высаживаться усиленные наряды с маньчжурского пограничного кордона. Выбили раз, выбили второй — все одно неймется. Уперлись: их, видите ли, остров, и все тут. А сегодня на рассвете к кордону подошло несколько японских военных катеров, набитых до отказа солдатами. Только что доложил Богусловский об этом начальнику войск округа и, получив приказ лично организовать отпор провокаторам, распорядился срочно готовить к выезду эскадрон с пулеметным взводом маневренной группы, сам же, надев ревнаган и саблю, собрался было идти к месту сбора эскадрона, и вот этот непонятный звонок.
«Какой расстрел?! Коновода потерял там! Геройский пограничник!..»
…Они ехали вдвоем на стыковую с соседним отрядом заставу по любимой Михаилом тропе. Ее «подарил» Богусловскому бельчатник за вечерним самоваром. Правило было у начальника отряда: если приезжал на заставу, стоявшую при селе, непременно шел к таежникам. И не командиром шел, а учеником-«почемучкой». На стыковой заставе он тоже побывал у всех охотников, и вот один из них при третьей лишь встрече, когда уже чаевничали, как старые знакомые, расщедрился:
— Ты, паря, когда домой сготовишься, покличь меня. Выведу на мандрык. Никому не сказывал о нем. Позалук держу там, припасы охотничьи. Напрямки к Лобану выведет мандрык.
Сразу оценил «подарок» Богусловский. Уссури на этом участке, словно споткнувшись о высокую каменистую сопку, так ловко кем-то окрещенную, изгибается дугой и только пытается распрямиться, как на пути ее встает еще одна сопка — Убиенная. Несколько застав на той многокилометровой излучине, и последняя — стыковая. Путь по берегу от заставы к заставе нелегкий и долгий — резерв в случае чего на фланговые быстро не перебросишь. Пытались Убиенную горячие головы на рысях брать, да скоро поняли, что Убиенная, она и есть Убиенная. Да и Лобан не блины у тещи. Падей крутобоких тоже в достатке. Трудно, короче говоря, маневрировать силами и средствами. И вот он, выход, — тропа-хорда между концами дуги.
Не спешит, однако, благодарить радостно щедрого хозяина. Не принято в тайге это. Уважение потеряешь. Выспрашивает, как и положено:
«— Сопок много?»
«— Откуль? Мандрык — что тебе долонь».
«— Развилки есть?»
«— Нет, заблудки не случится. Прямиком».
И верно, прямой и ровной оказалась тропа, да еще вчетверо короче береговой. Рысь, правда, несколько раз когтила на деревьях, готовая к прыжку, но своевременный выстрел всякий раз отпугивал ее.
У охотничьей избушки, приютившейся возле студеного ключа на небольшой поляне, где охотник хранил немудреные продукты, дробь и порох, покормили коней, перекусили сами и, оставив добрую часть припасов в избушке, тронулись дальше. Не успели оглянуться, и вот тебе — Лобан.
Впоследствии рысь от тропы отпугнули, вырубили кое-где ельник, выкорчевали валуны — и пускай коня рысью, а то даже галопом, если нужда заставит. Избушку подновили и оберегали пуще глаза, всегда она в исправности держалась: дрова сухие со спичками и продукты наличествовали в ней постоянно. А когда появилась семья медвежья поблизости, смастерили запор, медведям неподвластный. Освоили, что называется, тропу пограничники полностью, и много доброй службы она сослужила. Оттого и любил Богусловский ее.
Не торопил в тот раз коня Богусловский, ибо ни обстановка того не требовала, ни душевное состояние. Вот уже несколько месяцев этот фланг отряда вел себя тихо и мирно. Ни одной вооруженной провокации, ни одного нарушения границы. Всем — и штабу отряда, и командованию комендатуры, и заставам — было ясно, что затишье это как штиль перед бурей, но, когда грянет гром, никто не ведал; и одна виделась в той обстановке задача — не снижать боеготовности, не позволять людям расслабляться. Вот и Богусловский ехал, чтобы «встряхнуть» фланговые заставы. Планы тревог и учебных поисков детально отработал начальник штаба, который предложил провести их неожиданно, даже коменданта участка предварительно не знакомить с ними. Богусловский согласился и, направляясь на стык, в комендатуру не заехал и даже не позвонил.
Внезапные проверки в округе не только не осуждались, но всячески поощрялись, поэтому Богусловский даже не думал, что поступает не как положено. Не мог он и предположить, что станет все это одним из главных пунктов в обвинительном заключении, ехал поэтому по глухой таежной тропе не обремененный никакими думами и заботами, что бывает у пограничников весьма редко, оттого замечал и белок, пугливо вспархивающих на вершины стройных сосен, затем с пугливым любопытством — что за чудища такие? — взирающих вниз; замечал и бесшумную, но упорную, стенка на стенку, битву малинника с багульником, которая шла почти на каждой мало-мальски светлой поляне, и величественность кедрачей, расталкивающих могучими ветвями-плечами не только березы, но и своих собратьев — сосны, ели и лиственницы. Богусловскому всегда нравились эти уверенные в себе деревья, хотя и вызывали двоякое чувство: кедр казался ему образцом того, как следует бороться за свое место на земле, но он всегда жалел чахлые деревца, задавленные жестоким эгоизмом красавца-могуты. И вспоминал отца, который частенько говаривал: «В жизни всегда так: либо тебя давят, либо ты давишь. Посередочке не удержишься. Примнут».
Да и на себе он это испытал куда как с лихвой. В Казахстане чуть не подмяли. Кто вот только? По сей день он так и не знает.
Вспоминать о тех позорных днях Богусловскому не хотелось, чтобы не вспугнуть душевную покойность, так уместную в этой безмятежной, обласканной солнцем тайге, но вряд ли ему удалось бы оттолкнуть начинавшие невольно наседать воспоминания, если бы из густого ерника, щетиной спрессовавшего тропу, совершенно беззвучно и оттого пугающе неожиданно не вышел здоровенный рогач и не встал набыченно, готовый к смертельной схватке. Богусловский натянул повод, и на какое-то мгновение взгляды их, человека — удивленный, сохатого — гневный, скрестились. Оторопь взяла Богусловского, рука его потянулась к ревнагану, но даже не расстегнула кобуры: с поразительной быстротой дерзкая гневность во взгляде рогача уступила место удивлению, а затем и страху — сохатый мгновенно, словно не был так велик ростом, скакнул вправо и исчез в ернике.
«— Ошибся, — хмыкнул коновод. — Посчитал нас самцами, на лосиху, мол, зариться начнут».
Курьезность случившегося развеселила Богусловского, и он пустил коня рысью.
Меньше километра до охотничьей избушки. Совсем скоро выедут они на поляну, сорока встретит стрекотом, да таким захлебистым, будто соскучилась и теперь хочет высыпать на головы долгожданных гостей все таежные новости сразу; а на взгорке у малинника медведи насторожатся и, покосившись сердито, уйдут неспешно в тайгу. Богусловский рысил навстречу предполагаемой идиллии, не подозревая даже, что на сей раз предвкушаемый покойный отдых обернется трагедией. И первым предупреждающим сигналом к тому послужил донесшийся от поляны сорочий стрекот.
Богусловский резко осадил коня, поднял руку, чтобы и коновод замер. Тишина. Но вот вновь сорока застрекотала неумолчно и, как показалось начальнику отряда, упрямясь. Словно кто-то отпугивал ее, а она сердилась на это.
«— Не волки ли? Должно, задрали гурана на поляне, — сдавливая до предельной глухоты голос, высказался коновод. — Уж шибко захлебывается белобока. Из-за медведей так не станет тайгу полошить».
«— Возможно, волки… И все же… Слезай!»
Снял с луки карабин, достал из переметки подсумок и, приладив его на ремень, распорядился:
«— Сведи коней с тропы и жди, пока не вернусь».
«— А то мне бы сподручней. Я мигом», — предложил коновод, но Богусловский вроде бы и не услышал, пощупал, в кобуре ли ревнаган, и, свернув с тропы, бесшумно заскользил меж деревьев к поляне.
То, что увидел он, когда выполз, лавируя между кустами багульника, на опушку, крепко озаботило Богусловского: четверо крепких мужиков разморенно привалились к заплечным мешкам, в каких обычно носят продукты и огнезапас охотники; двое стояли с топорами в руках у поленницы, собираясь, видимо, колоть дрова; еще один ковшиком черпал из родника воду, наполняя ведро. Ружья и мелкокалиберные винтовки, особенно любимые бельчатниками, стояли, прислоненные к стене избушки, плотным рядком. Артель, и артель охотничья, прибывшая к своему стану. Только для чего у каждого маузер через плечо?
«Из тыла? Или граница нарушена?..»
Отполз от опушки и поспешил к коноводу.
«— Положение хуже губернаторского. Их семеро, нас — двое, а задерживать необходимо. Батуем коней».
Распределил Богусловский свои наличные силы так: коновод выдвигается правее тропы на опушку и изготавливается, выбрав хорошую позицию, к бою; сам же Богусловский обходит поляну и поднимается на взгорок, к малиннику. Оттуда и предложит нарушителям сложить оружие.
«— Если дойдет до боя, чаще меняй позиции. Создавай впечатление, что несколько нас человек, — посоветовал Богусловский коноводу. — С поляны, главное, не выпустить никого, иначе уйдут».
«— Верно. Никак нельзя упускать, — согласился коновод, загоняя патрон в патронник. — Вдвоем не погоняешься по тайге…»
В этом и заключалась вся сложность ситуации: до заставы, если полевым галопом скакать, не менее двух часов; выстрелов, если бой начнется, на границе не услышат — короче говоря, на себя только расчет. Голубя бы послать с донесением, да не взял он голубей: тропа тыльная, ровная, на ней никогда ничего неожиданного не случалось. Беспечность, надежда на авось — как теперь это ни называй, дела не поправишь.
«— Пошли, — скомандовал коноводу. И добавил: — Пока я не вступлю в переговоры, себя ни в коем случае не демаскируй. Понял?»
«— Как не понять! Тогда, считай, пропали мы».
Когда Богусловский, обойдя поляну, выполз на взгорок, он увидел почти не изменившуюся картину: четверо все еще продолжали возлежать на заплечных мешках; под навесом у поленницы, уже нарубив изрядно дров, дымили самокрутками двое, и только тот, что набирал прежде воду, находился в избушке. Похоже, растапливал печь, ибо из трубы начинал куриться дымок.
«Один — ничего. Хорошо, что остальные на виду».
Богусловский поднялся во весь рост. Карабин на изготовку. Крикнул зычно:
«— Предлагаю оружие сложить, самим отойти на десять шагов и лечь лицом вниз!»
Словно вихрем бросило на землю всех шестерых. И маузеры уже в руках. Богусловский упал и откатился, а пули прошили малинник в том месте, где он стоял.
Из домика выскочил седьмой и, споткнувшись, осел медленно к порогу.
«Молодцом! — похвалил Богусловский коновода. — Одним меньше!»
Но услышали остальные выстрел со спины, трое из них развернулись, но не стали стрелять безвестно куда. Расползаются пошире и ждут выстрела с опушки, чтобы наверняка бить.
И тройка, что против него, Богусловского, осталась, тоже больше не стреляет. Тоже ждет верной цели.
А у Богусловского позиция неважная. С трудом видна поляна, но, чтобы выстрелить прицельно, бугорок мешает. На него не выползешь: сразу увидят. Но и не лежать же здесь без дела? Решил рискнуть: вернуться на прежнее место, откуда поляна как на ладони. А после выстрела вновь сюда откатиться.
Медленно, чтобы не обозначить своего места шевелением веток, выполз Богусловский из ямки, выделил того, кто ловчее лег на мушку, и, нажав спусковой крючок, покатился в ямку. Зацокали пули, перекусывая ветки малинника, а Богусловский в полной безопасности считает выстрелы.
Двое только против него остались. Начало хорошее. Только бы не увлекся коновод, не демаскировал себя в горячке боя. Хотя не новичок, не первый год на границе. И все же позиция у него похуже. Отсюда, сверху, сподручней бить, да и ямка так кстати подвернулась…
Теперь влево решил проползти Богусловский. И коноводу помочь.
Удачным оказался и второй выстрел. Теперь четверо против двоих.
Ошибался Богусловский: коновод тоже скосил одного, когда тот попытался, стремительно вскочив, убежать в лес. Только и сам не уберегся: впилась пуля в руку повыше локтя. В голову предназначалась, да чуть-чуть занизилась.
Хоть и терпимая рана, особенно когда перетянул ремнем руку, но меткости той не жди. Да и позицию менять теперь несподручно. Один выход: чаще стрелять, прижимая бандитов к земле, привлекать на себя огонь, чтобы начальнику отряда вольней было действовать.
Богусловский сразу, как только коновод зачастил с выстрелами, понял, что ранен тот. Пренебрегая опасностью, поспешил влево (повтор действий чаще всего оправдан своей нелогичностью) и выстрелил. Откатывался в ямку под злобный мат раненого и угрозу его хриплую:
— Кишки выпущу!
Михаил и до этого не сомневался, как стали бы лютовать враги, попади он им в руки. Подумать и то страшно.
Вновь пополз влево — еще один повтор. На этот раз более удачный. Замолк навечно еще один нарушитель.
Изменили, однако же, тактику оставшиеся в живых бандиты — открыли огонь все по коноводу, который стрелял с одной точки. И успел он после этого огрызнуться только двумя выстрелами. Пустыми выстрелами…
Один остался Богусловский. Против двоих здоровых и одного раненого. Любая оплошность, и — конец. Хорошо, если сразу смерть. А если ранение? Похолодело все внутри от одной мысли об этом.
«Дерзну еще раз, потом менять позицию придется…»
И вновь покрался влево. Понимая, что взгляды тех, кто лежит на поляне, впились сейчас в малинник и вправо и влево от ямки. Еще метр, еще полметра…
«Что на рожон лезть?! Метров на тридцать в сторону — верней будет…»
Пополз по тропе, промятой в малиннике медведями, вначале в тыл, а затем почти по самой опушке малинника подкрался к краю поляны.
И в самом деле, неподвижно лежали нарушители с примкнутыми к кобурам маузерами и не сводили глаз с того места, откуда он стрелял прежде. Боясь, чтобы не почувствовали нарушители его взгляда, он в то же время тщательно, как, бывало, делал на стрельбище, когда хотел переубедить незадачливого пограничника, что не винтовка плохо пристреляна, а мастерство подводит, выцеливал ближайшего к нему врага.
Выстрел и — моментальный рывок в тыл. В мертвое от пуль пространство, а затем стремительный бег по медвежьей тропе через малинник и вновь улиточное продвижение к огневой позиции, совершенно новой, на левом краю малинника.
И какая удача: валун, вросший в землю! Прекрасное укрытие. Справа можно один выстрел сделать и слева — один.
Оглядел поляну. Убитые на ней и раненый. Похоже, обессилел вконец — тужится поднять голову, но она клюет траву.
«Отвоевался! Но где последний?!»
Не видно его. Пока, выходит, менял он, Богусловский, позицию, нарушитель где-то укрылся. Но, возможно, уходит? Посчитал заплечные мешки и ружья — все на месте. Налегке не уйдет никуда. А что, если с тыла подкрадывается? Нет, нельзя в неведении лежать.
Медленно, будто только-только появился здесь и теперь пытается оглядеться, стал раздвигать ветки малинника. Но только рука и ствол карабина из-за валуна высунуты.
Шевельнул едва заметней веточку, и тут же хлестнул выстрел. Из-за поленницы. Цевье — в щепки.
«Ого!..»
Вмиг родилось решение: выпустил карабин, тряхнул головой, чтобы фуражка тоже упала, и замер. Обрадованно отметил, что и ствол из зарослей на самую малость торчит, и фуражка, скользнув между веток, ткнулась козырьком в землю, будто не с головы сброшена, а вместе с головой поникшей успокоилась.
Еще один выстрел из-за поленницы. В самый центр зеленого круга. Но не упала фуражка: удержали ее веточки. Удержали.
«Должен теперь поверить. Должен!» — боясь даже дышать в полную грудь, думал Богусловский. Сейчас он даже готов был молиться и богу и черту, чтобы только поверил нарушитель, чтобы вышел из-за укрытия.
«Должен поверить! Должен!»
Извелся Богусловский, находясь как бы в остановившемся времени и во власти остановившейся мысли: «Должен! Должен!»
Резко выброшена рука из-за поленницы, и грохнул выстрел. Вновь пуля пронзила фуражку. И тоже почти в центре.
«Ого!..»
Снова остановилось время. Снова в голове одна и та же мысль: «Должен поверить! Должен!»
Вынул из кобуры наган, осмотрел, полон ли магазин, и, прикрывая телом, чтобы заглушить щелчок, взвел курок.
Ждать стало немного легче.
Появился наконец долгожданный. Высок, могуч, что тебе кедр многолетний. Окладистая рыжая борода щетинисто развевалась, золотисто перемигиваясь с солнцем. А взгляд строгий к фуражке зеленой и к стволу карабина прикован, сам же, словно пружина сжатая, пулю опередив, скакнет за поленницу.
«Рано! — убеждал, стиснув зубы, сам себя Богусловский. — Рано! Не спеши!»
Не торопился и нарушитель делать первого шага. Предчувствовал, видимо, беду. Но безмолвно все вокруг, только в центре поляны раненый силится поднять голову да от порога избушки доносится глухой стон… Решился наконец бородач, пересилил себя: вначале опасливо, а затем все уверенней и уверенней пошагал к раненому товарищу своему.
«Рано! Рано! — сдерживал себя Богусловский предельным усилием воли. — Потащит раненого к избушке, тогда…»
А бородач вовсе не собирался возиться с раненым товарищем. Подошел к нему сбоку и, переложив маузер в левую руку, перекрестился размашисто: «Прости душу грешную», выстрелил ему в голову и перекрестившись еще раз, повернулся к избушке, чтобы убить и второго раненого.
Никаких свидетелей. Пусть пограничники ищут ветра в тайге.
Вскинул Богусловский ревнаган, подвел мушку под лопатку, но почувствовал, что дрогнула рука. Подложил под нее кулак левой руки как упор. Целился так, как никогда в жизни не целился. Спусковой крючок нажимал опасливей (не дернуть бы ненароком) новичка-солдата, впервые получившего боевой патрон.
Выстрел. Вздрогнула спина, выгнулась. Еще выстрел, еще, еще… Рухнул бородач, но Богусловский для верности, вновь выцеливши тщательно, выстрелил еще один раз. Теперь можно и встать. А сил нет. Не ноги и руки, а студень подтаивающий. Не голова, а гиря двухпудовая. Не поднимешь.
Несколько минут лежал в забытьи Богусловский, а когда очнулся, вскочил, укоряя себя за слабость. Ему казалось, что проспал он долго и коновод, если не убит, а только ранен, потерял много крови за это время, да и тот, раненый, что стонал у порога избушки, тоже мертв. А он нужен живым. Для допроса нужен, чтобы выяснить, что за пришельцы, какова цель и каков маршрут. А что не новички они в тайге, Богусловский понял сразу же, как увидел их.
Пересиливая отвратительную мелкую дрожь в ногах и руках, начал торопливо спускаться со взгорка, не отрывая взгляда от раненого. Что у того на уме? Вдруг хватит сил вскинуть маузер?
Нет, бездвижен. Только стонет глухо. Беспамятно стонет, слишком уж однотонно.
Спустился на поляну и почти подошел к избушке, как вдруг вздрогнул от неожиданного стрекота. Громкого, торопливого. И увидел ее — тараторку. Сидит на коньке избушки и мелет о чем-то своем, заветном, сорочьем. Снял фуражку Богусловский и поклонился спасительнице.
Не их, пограничников, она предупреждала о появлении людей, а таежный мир. Ей все равно, пограничник ли появился на поляне, нарушитель ли, или охотник: человек есть человек, опасней волка он, от него трудно укрыться, от него убегать и улетать нужно побыстрее и подальше. Но, может, и пограничникам все же давала сорока знать о чужих, баловали же ее солдаты, когда на привалах отдыхали, вкусными вещами.
Поясно поклонился Богусловский сороке.
Подошел затем к раненому нарушителю. Плох совсем. Ключица перебита, и шея зацеплена. Лицо небритое, щетинистое, без единой кровинки, а пальцы рук уже синюшные…
Размежились веки раненого, почувствовавшего, видимо, взгляд. Бесцветный у него взгляд, потусторонний. Но вот затрепетал в нем страх, и захрипел раненый:
«— Не стреляй, вашеблагородь. Подневольный я».
«— Сейчас помогу, — торопливо успокоил Богусловский. — Потерпи чуточку».
Вынул из кобуры раненого маузер (береженого бог бережет) и поспешил через поляну туда, откуда сделал свои последние выстрелы коновод.
Он был мертв. Голова прострелена дважды. Ему помощь была уже не нужна.
«Что ж ты за дерево не укрылся? На себя принял огонь! Жить бы тебе да жить…»
Надел фуражку и побежал к сбатованным коням, чтобы взять из переметок перевязочные пакеты.
Вернулся к избушке вместе с конями. Привязал их к коновязи и — к раненому. Поднял того, чтобы ловчее было бинтовать, к себе на колено и, сдвинув рваные концы раны, придавил тампоном. Казак застонал, открыл испуганные глаза, но сразу же успокоился и всю остальную перевязку крепился.
Перевязав раненого и уложив его на топчан в избушке, Богусловский зачерпнул ковш ключевой воды и поднес его к губам раненого, тоже уже начавшим синеть. Жадно, хотя лицо его исказила боль, выглотал казак весь ковш, вздохнул умиротворенно и, казалось, вновь потерял сознание.
Но это было не так. Он притворялся. Он все слышал, душа его была полна благодарности красному командиру за человеческую чуткость, с какой он, белоказак, покинувший станицу свою невесть для чего, многие годы не встречался, но никак ум его не мог постичь того, что сердоболен не товарищ, а враг, который сам же ранил его, но и спас от Кырена. Тот поднимал уже маузер. Не перекрестившись поднимал (это сейчас казаком воспринималось с особенной обидой), не как на своего дружка Газимурова. Словно не человек перед ним, а пес паршивый, потерявший нюх. Нет, он еще не решил, рассказать ли все, что знает, пограничному командиру, либо притвориться вовсе несведущим. Приказали, дескать, вот и пошел. Куда денешься? Убьют, коли воспротивишься. А куда и зачем вел их Кырен — бог его знает. За расспросы, дескать, по головке не погладили бы…
Богусловский же встревожен. Мимолетно мелькнул упрек, что опрометчиво поступил, затаскивая сюда раненого без предварительного опроса. Узнать хотя бы, откуда пришли. Из тыла или из-за границы. И в каком месте переходили. Но не мог так поступить он, язык не повернулся бы спрашивать. Вот теперь, когда все возможное сделано, чтобы облегчить боль, чтобы укрепить жизнь, — теперь иное дело. Но теперь, похоже, поздно!
«Юзом как-то все вышло… Но, может, очнется все же. Кровь остановлена. Лежит удобно и покойно».
Неприкаянно на душе у Богусловского. Во всем безделен. Остается только одно — ждать. Ждать, пока не очнется раненый. Ждать, пока не приедут сюда пограничники. Казак пусть в память войдет, все равно не транспортабелен, а оставить его одного здесь не оставишь. Через три часа (прибыв на заставу, Богусловский должен был сразу позвонить начальнику штаба) начальник штаба, не дождавшись звонка, поднимет тревогу и пошлет по тропе кого-либо из комендатуры. К вечеру лишь прибудут пограничники. Долго ждать. Раненый бы очнулся! Да дотерпел бы до квалифицированной помощи.
Казак тем временем решал трудную для себя задачу. Открыл наконец глаза. Удивительно осмысленный взгляд. И вопрос удивил Богусловского:
«— Ты, паря, подстрелил меня?»
«— Нет. Коновод. У меня рука верней», — ответил Богусловский. Ответил искренне, не думая о том, как воспримет его раненый и что станет этот ответ последней гирькой на весах сомнения. А вышло, что понравился казаку прямотой своей.
«— Спрашивай, паря, что знать желаешь…»
«— Откуда пришли?»
«— Из Маньчжурии. Бродом до острова, Подлобаньем называл его есаул наш Кырен, с него — вниз полверсты, а тогда уж — на сей берег. Брюхо едва замочили…»
Слыхом не слыхивал об этом броде начальник отряда. Выходит, прекрасно знающие местность нарушители. Из этих самых, стало быть, краев.
А раненый продолжал, трудно дыша:
«— Мандрыком — сюда. Бросовый мандрык. Не ходил если — не сыщешь».
«Найдем. Обязательно найдем», — упрямо подумал Богусловский и спросил:
«— Куда и зачем шли?»
«— В Хабаровск шли. Зачем? Вот тот, Кырен, есаул, все знал. И Газимуров, которого Кырен добил. Услышал я раз меж ними разговор. Кырен ему: ты, дескать, если что со мной, в Усть-Лиманку не ходи. Прежде — в Хабаровск. Повидаешь, наставлял, Ткача…»
«— Кого-кого?! Ткача?! А где встреча — не говорили?» — со слишком поспешной заинтересованностью спросил Богусловский и тут же пожалел, что прервал раненого. Замолчал тот и глаза смежил.
«Все! Испортил! Замкнется в себе!»
И впрямь, не открывал глаза казак. Лежал бездвижно. Долго лежал. Богусловский уже не единожды упрекнул себя за совершенно ненужную поспешность — состояние раненого улучшилось, а времени с избытком. Решил: если заговорит, больше не перебивать. Лишь когда все расскажет, тогда и про Ткача спросить, не знает ли каких подробностей, и про Усть-Лиманку, где она и что там делать Газимуров намеревался…
Только минут через несколько открыл глаза казак и тем же грудным, с хрипом голосом ответил:
«— Называл Кырен улицу, только вишь, паря, запамятовал я. Дырявая голова. Что из ваших он — это уж точно. И еще серчал Кырен, что в Усть-Лиманку Газимурову ехать. Так и сказывал: «Не барыня какая, каво сама в Хабаровск не едет…» Больше, паря, никаво не ведаю. Кырен да Газимуров — те все знали, а мы — подневольные. Мы для них — что скотина бессловесная. Маузер на живого нацеливал. Христопродавец!..»
«— А можно, я несколько вопросов задам? Не трудно говорить?»
«— Печет, паря, шею шибко. А спросить? Отчего же нельзя? Можно. Если по-людски».
«— Кто Кырена и Газимурова, как ты их называешь, провожал?»
«— Дружок ихний. Афанасием кличут. Борода — что тебе грабарка. Азойный. Сказывали, из наших — забайкальский казак. Еще сказывали, кордонил в Туркестане прежде, при царском режиме… А в тот день, когда нас, подневольных, собрали, благородие приходил. Я на часах стоял, видел его. Ноги бабьи, жирные, а лицо куничье. Недонюхал будто чего-то. Важный, однако. Как пришел, так все место себе загреб. Другим повернуться негде. Кырен и Газимуров после ругали его крепко. Мстит он им, видишь ли, за прошлое, покойно жить не дает, гоняет через границу. Грозились: отольются, дескать, ему слезки. А вот как звать-величать того благородия, не ведаю…»
Гулко забилось сердце Богусловского, всплыли явственно, будто не минуло двадцати с лишним лет, салонные споры, особенно неприязненные в последний вечер перед штурмом Зимнего. В кресле сидит Левонтьев-старший, а кажется, что во всех углах салона. Даже дочери своей любимой Анне мешает спеть песню, жениху посвященную. Рядом с отцом-генералом — сын его Дмитрий, остроносый, с прозрачными ноздрями, которые ни на миг не остаются в покое, словно подкатывается чих, да никак не может осилить какой-то барьер. Великой заботой о судьбе России озабочены отец и сын. Великой салонной заботой, без четкого определения своего места в той самой судьбе, о которой могли они часами переливать из пустого в порожнее. И каждый раз, когда он, Михаил, пытался убедить их, что место патриота России с народом, они насмешничали. Вот они, насмешки те, куда завели.
Богусловскому хотелось сейчас выскочить из избушки и упрятаться подальше в тайге от вдруг навалившейся новости. Дмитрий Левонтьев послал связных к Владимиру Ткачу. Вот как разлетелись вдребезги казавшиеся добрыми прежние отношения между старинными пограничными семьями. Теперь уже не обычное для всяких приятельских семей стремление обойти друг друга в благополучии, не случайные или преднамеренные, но все же пустячные размолвки, вполне неизбежные в жизни, — теперь настоящая дуэль. Вражда.
Знал Михаил, что старший брат Анны в стане врагов, воспринимал факт этот как весьма неприятный, но абстрактный. Когда ему попытались было поставить в вину, что женат на сестре изменника Родины, он возмутился несказанно. А вот теперь абстракция оборачивается конкретностью. Едва не осталась Анна вдовою. Главное же действующее в том лицо — братец ее…
А Ткач? Владимир Иосифович! Как убеждал, что принял революцию! Как просил, чтобы взяли штурмовать Зимний! Правда, воришкой оказался. Вором! Зря тогда не отправил его под арест. А еще руки Анны домогался. Вот уж осчастливил бы ее…
Но, возможно, не с Владимиром Ткачом встреча? Может, это случайно совпавшая кличка резидента?
«Выстрелил бы раньше в рыжебородого — не гадал бы сейчас. Тот раненый, Газимуров, прояснил бы кое-что. Ишь ты: «Рано! Рано!» Поздно оказалось!»
Казнил себя Богусловский безжалостно. Обвинял даже в том, в чем не был грешен. Теперь та выдержка, тот расчет холодный, что позволили победить, казались ему самой настоящей трусостью.
Что ж, человеку свойственно заблуждение.
Долго молчал раненый казак, потом застонал с метрономной однотонностью и ритмичностью. Смочил тогда Богусловский сложенный в несколько слоев бинт и приложил к пылавшему жаром лбу. Раненый выдавил сквозь стон:
«— Пить».
Поднес ковш к губам, приподняв раненому голову, но тот никак не мог открыть рта — не слушались синюшные губы. Помог Богусловский осторожно. Жадный глоток, стон успокоенный, потягота судорожная, и — ничего больше не нужно человеку. Ничего…
Вечерело. Богусловский, начавший сомневаться, приедут ли до темноты пограничники, решил занести в избушку оружие и ношу нарушителей и их самих собрать к избушке, чтобы, если придется коротать ночь одному, уберечь трупы от росомах, воронья и другой пакостной живности. Вынес для начала из избушки умершего казака, пошел после этого за коноводом.
Особняком его уложил, у самого родника, чтобы сохранней оставался в прохладе.
Успел все сделать, что намечал, и, когда, занеся последний заплечный мешок в избушку, опустился обмягший (от физической усталости и, главное, от душевной) на ступеньки у порога, услышал едва различимый топот копыт, который быстро приближался. Смахнул из-за спины карабин и — к углу избушки. Патрон на всякий случай загнал в патронник.
Излишняя предосторожность. Свои. Комендант с отделением пограничников влетел рысью размашистой на поляну. Лихо, но беспечно. Впрочем, все всегда по тропе этой беспечно ездили…
Из штаба комендатуры доложил Богусловский по телефону начальнику войск и о бое, и об исповеди раненого казака.
«— Из наших кто-то, говорит? — переспросил недоверчиво начальник войск. — Задачку ты задал! Ты понимаешь, что это такое?!»
Да, он понимал. Подозрение на каждого. И все же в письменном донесении оставил страшное для пограничников обвинение. Он верил раненому, его искренней предсмертной исповеди…
Как это было давно! Целых две недели назад. И надо же — следствие.
Зашипел репродуктор, нелепым черным кругом торчавший над дверью, наплыли мелодичные куранты с отдаленно врывавшимися в паузы автомобильными гудками — заговорила Москва. Нет, не горделивые сообщения со строек, из цехов, с полей колхозных, не полные тревожности международные дела — радиослушателям предлагалась политическая сатира. Лихо перелились аккорды, и два игривых голоса принялись, перебивая друг друга, подтрунивать над злодейкой акулой, которая набралась дерзости напасть на соседа кита. В припеве зазвучал монолог самой злодейки:
Съем половину кита я И буду, наверно, сыта я…— Ну, братцы мои! — воскликнул Богусловский. — С ног все на голову! Допоемся!
Скверное настроение Богусловского от этого монолога-припева еще больше испортилось. К возмущению по поводу только что состоявшегося разговора по телефону добавилось возмущение нелепостью мысли, заложенной в монологе.
«Разлюли малина! — сердился Богусловский. — Пусть они друг друга глотают, а мы тут мирно да тихо, не выводя бронепоезд с запасного пути… Как можно воспитывать такое настроение?!»
Нет, сейчас он, взвинченный и наглостью японо-маньчжурских вояк, которые никак не отступались от острова Барковый, и столь же наглым требованием следователя никуда не выезжать до его приезда, хотя тот знал, что предстоит бой за остров, не мог снисходительно относиться к эстрадной сатире. Сейчас он мог рассуждать только с прямолинейной категоричностью. И он сейчас как бы вступил в спор с теми неизвестными ему певцами; он, сердясь, убеждал их, что не столько для захвата Китая напала на него Япония — ей наш Дальний Восток спать не дает. И в восемнадцатом году главной целью Квантунской армии, которая тогда была введена в Маньчжурию, были Приморье, Приамурье, Забайкалье и Сибирь. Место дислокации Квантунской армии так и называлось тогда: североманьчжурский плацдарм. Семенова и Калмыкова взяли квантунцы себе в подручные. Да и милитаристы китайские, из сторонников Чжан Цзолиня, не отказывали в помощи: плавсредства обязались поставить для форсирования Амура, охранять эшелоны японцев, разрешив им следовать по построенной Россией Китайско-Восточной железной дороге, продовольствовали японские войска, а число их немалое было — шестьдесят тысяч. Да мало ли чем помогали, надеясь, видимо, что не обойдут их при дележе добычи. Думали, как в девятьсот пятом, поживиться.
Спала веками на своих благодатных островах Япония, поморы же вольные, ушкуйники да купцы русские тем временем Курилы, Аляску, Калифорнию огоревали. А как обихаживать стали, тут желающих — хоть пруд пруди…
Ну Калифорнию — ту хитростью откусили: продала Штатам землю русскую Российско-Американская торговая компания. Аляска таким же манером отошла. А на Курилах клинки скрестились. Головина ни за что ни про что пленили. Заливом Измены — так и зовется тот залив, где были японцами попраны всякие нормы человеческого общения.
И на Сахалин права заявлять стали, когда доказал Невельской, что он не полуостров, а остров. Так это же восемнадцатый век! Прежде, значит, не нужен был, теперь — давай, и все тут!
Нет, не насытится «злодейка акула», проглотив Маньчжурию. Аппетит у нее только разгорелся. Тем более что многие из правителей китайских и тайно и явно поощряют «злодейку». На Восток России они глазами хозяев смотрят.
«Тут своя каша. Веками ее варили — попробуй теперь расхлебать, — думал Богусловский, осуждая неизвестных и известных ему дипломатов и воевод за медлительность и нерешительность в обустройстве земель, Хабаровым обжитых. — Отдали Албазинский уезд, от Амура отступились. Полтораста лет бездействовали. А снова начать, когда цинцы за эти годы успели себя убедить, что Приамурье — их земля, много трудней оказалось».
Отбили бы сразу, как считал Богусловский, Албазин, послав добрую поддержку коменданту его, Толбузину, поостыли бы захватчики. И на переговоры в Нерчинск мог бы енисейский воевода князь Щербатый покрепче отряд послать. А вышло что: у окольничьего Федора Алексеевича Головина пятьсот человек, а у маньчжуров — более десяти тысяч. Да и Головин сам либо робким неумехой оказался, либо иные кроме письменных инструкции имел.
А потом что творилось? Расследование бы хорошее провести, чтобы истину знать. Только некогда, да и некому. Вроде бы правильно сказал Николай I: «Где раз поднят русский флаг, он уже спускаться не должен». А на деле все иначе получалось. Невельской на свой страх и риск идет к устью Амура. И доносит, что пусто оно, нет там никого, кроме аборигенов. Его же чуть ли не под суд за это. По своей же русской земле ходить запрещалось! Он дальше, к корейской границе, — ему предписывают прекратить самовольство. Он определяет, где проходит Хинганский хребет (наконец-то!), и предлагает, исходя из Нерчинского договора, выставить там посты и начать заселение долины реки Уссури — ему опять кулак под нос. Так в конце концов и оттеснили великого патриота на задворки…
Особенно рьяно отмахивались от своей земли министр иностранных дел граф Нессельроде и военный министр граф Чернышев. Многие историки единодушны, что Нессельроде был бездарен, только сомнительны для Михаила Богусловского были те оценки. Бездарность ли одна руководила поступками министра иностранных дел? Знал Михаил, что «русский» граф был отпрыском того графского рода, один из которых носил имя Франц-Карл-Александр Нессельроде-Эрегсгофен. А этот род повязан кровно с Гоцфельдтами, князьями-французами. Не тут ли собака зарыта?
Прежде, пока не развернулась Амурская экспедиция, Охотским морем почти не интересовались мировые державы. Лаперуз побывал там, английский мореплаватель Браутон, и — всё. Заключили они, что Сахалин — полуостров, что гаваней удобных Охотское море не имеет, а берег дик и ненаселен, что делать там цивилизованному миру нечего, и больше не активничали. Но стоило только Невельскому с товарищами своими опровергнуть «открытия» авторитетнейших мореплавателей, как потянулись туда и американцы, и французы, и англичане. Откуда им становились известны открытия Амурской экспедиции, если донесения Невельского ни в журналах и газетах не публиковались, ни в сборниках не издавались? Гадать да думать только остается.
Отстояли тогда край свой усилиями патриотов — и дворян, и простолюдинов. Вышло только наперекосяк. Вроде бы не обжили его в союзе с аборигенами, а захватили чужое. И уж ничего не изменить, не поправить — ох как нелегко меняется сложившееся понятие! С тех пор Китай и Япония — в позе обиженных, а Россия стала без вины виноватой. Винтовками да пушками приходилось ей правоту свою утверждать. И кровью русской.
Вот теперь вновь подоспела пора встать стеной за землю свою. За советскую землю, народную. И не убаюкивать себя, что вцепились соседушки друг другу в гриву и не до нас им. Оскал их все одно в нашу сторону. Вот и нужно бить по зубам.
«И крепко! Чтобы скулы трещали! — гневно рассуждал Богусловский. — Как в двадцать девятом на КВЖД. А то: «Буду сыта я. Буду сыта!..»
И вдруг похолодело внутри у него, а на лбу — испарина. Он сделал, как ему показалось, страшное открытие: кому-то не интересно, чтобы кулак бьющий был крепок и смел; кому-то интересно, чтобы при замахе огляд имелся — не осудили бы, не обвинили бы в самочинстве.
Кто-то убаюкивающую песенку благословил на эстраду, кто-то здесь хватает за руку, за справедливо карающую руку — вот тебе и сомнения, вот тебе и робость душевная. Но если даже не робость, то хотя бы отвлечение сил на доказательство очевидных истин.
То, что не дано ему было осмыслить в одиночной камере алма-атинской тюрьмы, то уразумел он теперь…
Нет, по масштабам содеянного для Родины своей он не приравнивал себя к Невельскому, Бошняку, Орлову, Чихачеву и к другим мужественным офицерам, кто вопреки вожжам и окрикам верно делал нужное для России дело, но, оценивая все, что с ним происходило и происходит, он проводил принципиальную аналогию.
Его, честно делающего свое нелегкое дело, вот уже вторично отдают под следствие. И вновь, вдуматься если серьезно в суть звонка, он лишен права выезда. Он снова арестован.
«Нет! Не выйдет! Не возьмете голыми руками! — угрожая кому-то неведомому, сжал кулаки Богусловский. — Не только во мне дело. В принципе дело: смело ли бить врага или оглядываться, не осудят ли ненароком. Не выйдет!»
Песенку, которая игриво лилась из черного круга, Богусловский уже не воспринимал вовсе; он даже не сразу осмыслил доклад дежурного, который, постучав, как положено, в дверь, вошел затем в кабинет и вскинул руку к фуражке:
— Эскадрон к выезду готов. Взвод станковых пулеметов — на тачанках.
Ответил машинально:
— Хорошо. Свободны.
Не совсем поняв ответ, дежурный все же сделал положенный поворот и вышел из кабинета. И только тогда Богусловский вполне осознал, что не полемика с неведомыми вредителями дела сейчас от него требуется, а действие. Ему надлежит решить, выполнять ли распоряжение следователя или ехать с эскадроном.
Он стукнул ладонью по столу, как бы ставя точку своим размышлениям, и упрямо поднялся. Он понимал, сколь сложны окажутся последствия его действий, но шел уверенно. И никто не мог бы определить, как бурно мечется его душа.
— Са-ади-ись! За мной — ма-арш!
ГЛАВА ВТОРАЯ
Вроде бы вел Богусловский эскадрон аллюром на пределе лошадиных возможностей, а надо же — опоздал немного. Бой на Барковом начался. И что самое неприятное, инициатива — у японо-маньчжуров. Высадили они десант не с внешней стороны острова, где отделение пограничников заставы и небольшой резерв комендатуры приготовились встретить провокаторов, а ввели катера в протоку с тыльной стороны. Двух зайцев тем самым убили: пограничникам пришлось спешно перестраивать оборону, оставив удобную, заранее подготовленную позицию, что поставило их в трудное положение; но самое неприятное было в том, что пограничники на острове оказались отрезанными от берега — не мог теперь начальник заставы переправить через протоку, на что он рассчитывал, подкрепление.
— Не держать же на острове весь личный состав! — оправдывался теперь он перед Богусловским. — Участок без охраны не оставишь.
Все верно. Могло быть и так: шум вокруг острова подняли для отвода глаз, чтобы в ином месте безопасно переправить агента, а то и крупную шпионско-диверсионную группу. Это учитывал и он, начальник отряда. Коменданту этого участка еще несколько дней назад приказал на всех заставах усилить охрану границы.
— Ошибки в ваших действиях нет, — подбодрил начальника заставы Богусловский. — А вот выправлять положение нужно немедленно. Каков ваш план?
— Выход, думаю, один: пулеметами с берега ударить по катерам и под прикрытием огня переправить эскадрон через протоку.
— Нет, подобные действия ожидаемы японо-маньчжурами. Кровопролитны для нас.
— Тогда лодками. Рыбацкими. На внешний берег.
— Это уже выход, — проговорил Богусловский, вглядываясь в схему, которую прекрасно знал, но, как каждый командир, он тоже имел привычку перед принятием окончательного решения «советоваться» с картами и схемами. — Это — выход. Но… Тоже лобовой. Тут бы что похитрей. — И спросил ободрившимся голосом: — Японские катера вот здесь, говорите, в излучине? Хорошо. Почти вплотную можно подгрести незамеченными. Так поступим, — прикрыв ладонью остров, приказным тоном продолжил Богусловский. — Основной десант на лодках высадим на остров, четырьмя лодками обойдем остров и атакуем катера. Отобрать четырехвесельные, обложить борта по носу вещевыми мешками с песком. Людей немного. По пять человек. Два станковых и два ручных пулемета. Я сам поведу группу захвата катеров. А с берега завяжем с катерами огневую дуэль. Для отвода глаз.
— Разрешите мне? Я лучше знаю местность, — предложил начальник заставы, но Богусловский недовольно и резко бросил в ответ:
— Нет!
Затем, после паузы малой, спросил, уже не столь резко:
— А охрану участка кому поручим? То-то. Вы за ненарушимость границы на своем участке сейчас особенно ответственны. Ясно? Ну и хорошо тогда, коль ясно.
Через несколько минут отделение мангрупповцев с ручным пулеметом скакало по тропе к протоке, чтобы повернуть огонь пулеметов с японских катеров на себя и хоть в малой мере помочь оборонявшимся на острове пограничникам; лодки с десантом на остров поочередно отчаливали от берега, и весла сразу же во всю силу начинали вспарывать встречную воду; рыбаки сельские, свободные от службы пограничники заставы и группа захвата катеров передавали, словно ведра с водой на пожаре, вещевые мешки с песком на лодки, где их укладывали по бортам выше скамеек, сооружая одновременно из паел и вещмешков удобные гнезда для пулеметов; спешили все, ибо подстегивала их доносившаяся от острова густая стрельба.
Все четыре лодки отошли от берега одновременно и гуськом потянулись вверх по течению. Вначале было навалились гребцы на весла, но Богусловский попридержал их пыл:
— Пусть десант ввяжется в бой. Не спешите.
Чуть-чуть укоротили гребок пограничники, но прошла минута-другая, и вновь с предельной силой лопатили воду весла. Богусловский и сам готов был как можно скорее броситься на помощь сражавшимся пограничникам, но он был командир и действовать сломя голову не имел права. Не только о том, чтобы поразить врага, думал Богусловский, но и о том еще, чтобы поражение это надолго утихомирило провокаторов. И не любой ценой, а малой кровью победить. Потому он, вопреки настроению подчиненных, понимая, что они подневольно выполнят приказ, повторил его сердито:
— Не спешите! Я же сказал!
Плавный изгиб реки, и — вот он, остров. Последняя лодка десанта нырнула в кустистый заливчик. Метров триста бежать пограничникам для охвата подковой японо-маньчжуров. Можно бы и навалиться на весла, в самый раз будет, да только берег, что за протокой, молчит.
И тут «дегтярь» заработал. А следом — трескучий залп.
— Давай, ребята! — возбужденно скомандовал Богусловский. — Давай!
Вздулись бугристо спины гребцов, гнутся крепкие весла, воронками лихими крутится за веслами вода, тяжелый нос лодки настырно пашет встречные струи. Все стремительней и стремительней бег лодок. Вот и остров позади. Еще немного, еще… Крутой разворот, и теперь не цугом, а в шеренгу выстроилась четверка, пулеметчики ленты и диски поправляют, дыхание успокаивают, готовые нажать гашетки и спусковые крючки, едва лишь покажутся катера. Остальные пограничники винтовки мостят на вещевые мешки, чтобы с упора бить, без промаха. На веслах всего по одному человеку. Удерживают лодки носом к врагу.
Течение быстро вносило лодки в протоку, вот они уже на уровне мыса, за которым стояли, уткнувшись носом в берег, японские катера. Миг на оценку обстановки, миг на выбор цели, и Богусловский — он сам приладился за «максимом» — нажал на гашетку.
Один за другим завалились на палубу японские пулеметчики с переднего катера, стрелявшие по берегу. С фронта их защищал бронированный щит, и они были неуязвимы; сами же вели прицельный огонь, а с фланга — целься только верно да нажимай на гашетку плавно.
Носовой пулемет дальнего катера развернулся, загородившись от лодок щитами, и заплескались веером пули по протоке, защелкали о борта; второй, со среднего катера, тоже повернул ствол на плывущие лодки и тоже заструился дымком, разбрасываясь пулями, но поперхнулся тут же и замолчал, а следом смолк и тот, с дальнего катера, — прикончили пулеметчиков меткими винтовочными выстрелами пограничники с берега, перед которыми, повернув пулеметы к лодкам, японцы оказались незащищенными.
Не ждали японцы такой атаки на катера — кроме пулеметчиков, мотористов и командиров, никого не оставили на них. Мотористы, естественно, даже не поняли, что произошло на палубе, а все три командира, пытавшиеся выскочить из рубок к пулеметам, повалились на палубы, не сделав и нескольких шагов.
— На весла! Живей! — крикнул Богусловский. — К катерам!
Маневр своевременный, ибо тревожно-громкий крик японского офицера будто магнитом выхватил из густой цепи, наседавшей на пограничников, добрую ее часть и она понеслась к катерам, устрашающе крича и стреляя. Пули неприцельные, шальные, оттого не такие вредные, и не ради того, чтобы спрятаться от них, приказал взяться за весла своим бойцам Богусловский — нужно было во что бы то ни стало оказаться на катерах раньше этой стремительно несущейся и истошно орущей толпы. Иначе — все, иначе — смерть.
Борьба за секунды, за метры. За жизнь борьба!
Еще не ткнулась в корму катера лодка Богусловского, а он, выбросив руки вперед, ухватился за фальшборт и перебросил себя, как на вольтижировке через коня, на палубу и рванулся к носовому пулемету, вовсе не думая укрываться от пуль, хоть и шальных, неприцельных, но летевших напористо и плотно, словно изголодавшаяся пчелиная семья за вдруг обнаруженным нектаром. Богусловскому было некогда в тот миг думать об опасности, он видел перед собой носовой пулемет с нерасстрелянной лентой, к которому тоже почти уже подбегали японские солдаты, но им еще нужно осилить несколько метров до трапа, еще взбежать по трапу, а он, Богусловский, одолел уже большую часть палубы.
Остановиться хотя бы одному из японцев, и — бей почти в упор, пока еще не укрылся за броню. Враз изменится тогда ситуация не в пользу пограничников. Бой принять никто из них пока еще не готов. Но бегут солдаты, японские и маньчжурские, во всю прыть, торопятся сделать свои последние в жизни шаги, и нет им времени хотя бы на миг один взглянуть на себя со стороны. Стихия! Страшная, всеподавляющая.
А в спешке пограничников много ли проку? Лодки с ручными пулеметами левофланговые — им еще до катеров подгребать несколько метров. С ними, конечно, легче было бы управиться, а поднять «максимы» на борт катеров с лодок — дело не зряшное, да их еще от кормы к носу катить нужно. Тоже минуты. Куда разумней повыпрыгивать бы на каждый катер по двое и — к носовым пулеметам, как Богусловский. И что, если не умеешь из них стрелять — винтовка в руках есть. По трапу все, кучей, самураи не побегут — вот и бей первых, выигрывай для своих пулеметчиков секунды и минуты. Но властвует и над пограничниками стихия, подстегивает их с неразумной лихорадочностью.
Прут дуриком и японцы с маньчжурами, и пограничники, стремясь лишь к одному — опередить; и только Богусловский действует среди этой поглотившей всех бездумно-лихорадочной стихии осмысленно и расчетливо. Еще шаг, и — рукоятки пулемета зажаты в ладонях. Неловко, низковато, но до того ли?.. Ссутулившись, повел очередью Богусловский, словно косарь первый рядок намеченного загона, плеснул на трапы соседних катеров, куда уже вбегали самые прыткие японцы, прошелся еще разок по всему фронту и тогда только, оглянувшись, крикнул:
— Стрелки! Быстрей!
Не время объяснять, как важен сейчас прицельный огонь винтовок, пока не подкатят станкачи, пока не вставят ленты. Надеялся, что поймут без разжевывания. Должны понять! Слишком высокая ставка. На кону — жизнь! Не удержать долго ему одному три трапа. Не удержать. Да и лента пулеметная слишком торопится. Вот-вот кончится.
Возликовал душой: «Молодцы!» — услышав слева выстрел, второй, третий… И пошло, пошло — умеют пограничники стрелять часто и метко.
Вот уже и «максим» повел, отплевываясь, тупым рылом, вот второй «максим» заработал. А следом и ручные пулеметы вплели в общий шум свои голоса…
— Молодцы! — кричал Богусловский, достреливая последние сантиметры японской пулеметной ленты. — Конец вам! Конец!
Предопределен захватом катеров исход боя — это верно. До конца, однако, ой как далеко: упорен японский солдат, к тому же самолюбив неимоверно, себя считает если не сверхчеловеком, то уж, во всяком случае, более разумным, более храбрым — так воспитан с пеленок. Не менее упорны и маньчжуры, правда, по-иному упорны — послушностью упорны, которая кажется бездумно-автоматической. Не бросит оружие маньчжур, если ему велено стрелять. Умирая даже, нажмет на спусковой крючок. Бесцельно может выстрелить, в небо, но все же выстрелит.
Преждевременным, если вспомнить об этом, был, выходит, ликующий крик души Богусловского. И верно: дальнейшие события развивались по логике боя, когда противостоят друг другу храбрые и умелые бойцы, каждый из которых считает, что бьется за святое дело. Японцы с маньчжурами отступили без паники и образовали кольцевую оборону. Огонь их стал реже, но прицельней и расчетливей. Самые меткие пули посылались пулеметчикам. Один «дегтярь» смолк, следом за ним и второй, и только «максимы» продолжали свой уверенный говорок.
Никто из стрелков не кинулся к ручным пулеметам, чтобы заменить своих товарищей, и не оттого что струсили. Нет, если бы японцы кинулись в атаку, каждый бы из пограничников, не боясь смертельной опасности, лег бы за пулемет, но гибнуть бесцельно никто из них не намеревался, поэтому они не покидали бронированных укрытий. Более того, они начали «изучать» японские пулеметы, ослабив тем самым ответный огонь вражеской цепи.
Замолчал «максим» на соседнем с Богусловским катере. Нет, не убит пулеметчик, не ранен — ленту меняет. А вражеская цепь ожила. Пошла в наступление короткими перебежками. Смелее и смелее. Да, для них сейчас самое главное — катера вернуть. Любой ценой.
«Спровоцировать атаку? — подумалось Богусловскому. — Верно, спровоцировать». — И крикнул:
— Пулеметчикам прекратить огонь! Только винтовочный — редкий!
Своевременно прозвучала команда. На среднем катере японский пулемет уже был «понят» (принцип действия у всех систем почти одинаков), и уже, поплевав на ладони, взялся пограничник за рукоятки, да и на дальнем катере к тому же дело двигалось. А начни стрелять катерные пулеметы — подумали бы японцы, прежде чем кидаться в атаку.
Исход, конечно, виден: японцам некуда деваться, но спровоцированная атака приблизит конец боя, а значит, меньше погибнет пограничников. Риск, однако же, есть. Полезут сломя голову — ничем вдруг не остановишь. Маловато на катерах пограничников. Маловато. Заманчиво вызвать отделение с берега, но нет, пусть останется резерв.
Молчат пулеметы, редки и винтовочные выстрелы с катеров по приближающейся цепи, но не поднимаются в атаку японцы: то ползут, то стремительно и коротко перебегают. Все ближе и ближе цепь. Не время ли?
«Поднимутся, — убеждал себя Богусловский. — Должны подняться!»
Уж метров двадцать до катеров, а те только огрызаются винтовочными выстрелами. Еще на пять метров сокращено расстояние, и тут гортанный крик взметнул цепь… Нажимая на спуск, Богусловский крикнул истошно:
— Огонь!
Отступили, кто остался жив, к своим, и вновь началась дуэль. Ну чего бы вроде сопротивляться после таких потерь? Так нет, сузили только фронт цепи круговой, и видно было — не возьмешь их без атаки, без рукопашной. Кровопролитно, но и затягивать бой нет никакого смысла, ибо вполне может подойти к японцам подкрепление. На это, похоже, и рассчитывают провокаторы. Хотя и нет на японо-маньчжурском посту катеров, но, возможно, спешит уже с других постов помощь…
Правда, и наших два катера тоже должны подойти вот-вот. Давно уже высланы. Нужно ли, однако, разжигать конфликт, втягивая в него все новые и новые силы? Далеко так может зайти. Да, лучше — атаковать.
Прошипела зеленая ракета, и вот уже отделение мангруппы на четырех лодках — их еще загодя приготовил начальник заставы, прекрасно замаскировав, — пересекает протоку правее и левее катеров и, рассекая ивняк, упирается в берег острова. Выдерживает паузу Богусловский, чтобы подобрались пограничники поближе к вражеской цепи, затем командует:
— Две красного дыма!
Это значит, что по первой ракете — огонь со всех видов оружия. Максимальный огонь. А когда распушит красное облачко вторая ракета — рывок в атаку. При огневой поддержке, на какое-то время, пока не опасно для своих, с катеров.
Сошлись две упрямые силы, сшиблись в смертной круговерти. Да не долго пыжились японцы и маньчжуры — покрепче русский солдат, посноровистей, к тому же он свою, советскую, землю обороняет от алчности наглой, оттого и злей, оттого и решительней. Вот и угомонился вскоре бой. Задымили самокрутками и «Севером» всласть, без спешки пограничники, подставили потные лица ветру нежному, речному. Еще не время считать раны, считать потери — каждый своей жизнью наслаждается, не думая ни о чем. Полной мерой ощущает жизнь.
Через несколько минут и бинты в ход пойдут, и появятся слова искренние, полные сочувствия, и фальшиво-успокоительные: «Ничего, обойдется! Походим еще в наряды», а бережные руки поднимут самых израненных и перенесут в удобное место, поближе к берегу, чтобы поскорее погрузить на катера, как только они причалят. Только через несколько минут живые и здоровые начнут исполнять печальный свой долг, но не перестанут и тогда радоваться жизни, хотя скорбь властно навалится на них.
Труден бой, но не менее трудно после боя. Не каждый себе в этом признается, но каждый пограничник испытал на себе это многократно…
Комэска и взводные подошли к Богусловскому, который устало спустился по трапу на берег, и остановились подле него. Они не поздравляли друг друга с победой — они молчали, осмысливая шаг за шагом весь бой, от начала и до конца, чтобы оценить, для себя, для своей совести, все ли сделано так, как надо, и можно ли было выиграть схватку с еще меньшей кровью.
— Спасибо, товарищи, — прервал наконец молчание Богусловский. — Спасибо. Списки отличившихся представить мне сегодня же. — И поднял предостерегающе руку, уловив далекий перестук катерных двигателей. Прислушался. Точно. Сверху идут. Должно быть, свои. А если японцы? Береженного коня зверь в поле не бьет.
— К бою, товарищи.
Пограничные катера подошли. Начальник войск округа Оккер, два военврача с ним и взвод станковых пулеметов. На полчаса раньше бы этот взвод, тогда в самый раз, а теперь — обуза. Застава — она не резиновая, но всех и накормить нужно, и спать уложить. Вот врачи, они кстати. Очень кстати.
Положенным условным докладом встречает Богусловский начальника войск, но тот прерывает:
— Без доклада вижу: молодцы. Внушительный урок самураям. Весьма, батенька мой, внушительный.
Подошел к раненым, возле которых уже хлопотали врачи, изучающе посмотрел на каждого, словно стараясь запомнить эти отрешенно-терпеливые лица, эти покусанные до крови губы, эти упрямые жгуты на скулах. Молвил, вздохнув:
— Не убереглись, сынки. Не убереглись. Поставят вас врачи в строй непременно, но наперед зарубите себе на носу: под вражескую пулю себя подставить — дело нехитрое, а нужно, победив, живым и невредимым остаться. В этом главный смысл ратного труда.
Перемолвился с ранеными еще десятком фраз, предназначались которые для убеждения раненых, что ради святого дела пролита их кровь, затем, пожелав им быстрого излечения, пригласил Богусловского на катер.
— Тут, Михаил Семеонович, без нас теперь управятся, ты же мне расскажешь, как баталию эту победную провел… Потом о делах твоих потолкуем. По-семейному потолкуем.
Будто иголкой кольнуло в сердце Михаилу Богусловскому это «по-семейному». Их нынешние отношения были далеки от тех, которые сложились в Жаркенте. Там проблемы службы они могли запросто обсуждать дома за чашкой чая, говорить свое мнение совершенно откровенно, не стесняясь того, что мнение это может быть воспринято с обидой; там радость и боль одной семьи становились общими — то была истинная солдатская дружба, красивая простотой своей и искренностью.
Когда по навету, истоков которого и по сей день Богусловский не представлял, его обвинили чуть ли не в измене Родине, Оккер сделал все, чтобы обелить его имя. А когда уезжал на Дальний Восток принимать под команду округ, настоял на том, чтобы его, Богусловского, назначили начальником отряда. Поздравляя с назначением, сказал тогда:
«— Не ради дружбы сделал я это, но ради истины. Ты патриот! Ты знающий службу и думающий пограничник. Ты уважаешь подчиненных. Запомни: это не подачка — по чести и совести ты достоин этой должности».
«Запомнил» — не то слово. Это врезалось в сознание, вдохновило, стало поддержкой в трудные минуты, каких в жизни командиров-пограничников ох как немало.
Несколько лет отряд Богусловского числился в передовых, и все чаще окружные офицеры проговаривались, будто невзначай, по-дружески, что предстоит ему повышение. Увы, намеки оставалась намеками, повышение по неведомым Богусловскому причинам не выходило, а когда сравнительно успокоилась казахстанская граница, обеднела стычками с белоказаками и басмачами, когда все, кто стремился откочевать за кордон со своими несметными отарами овец, конскими табунами, многочисленными женами и верными нукерами, откочевали либо погибли при переходе границы; когда оставшиеся на своей родной земле взялись обихаживать ее — вот тогда получил Богусловский предписание о переводе на ту же должность на Дальний Восток. Объяснение сему простое: там нужнее его, Богусловского, опыт, знание и завидное оперативно-войсковое мышление.
Анна весьма обрадовалась переводу, предвкушая встречу с подругой своей Ларисой Карловной; доволен был и сам Михаил Богусловский, что вновь окажется под началом человека, которому верил безгранично и, главное, который был вместе с братом до последнего его вздоха; и даже сын, давно забывший бы добрых дядю и тетю, если бы родители не питали его память частыми воспоминаниями, — даже их Владик расшалился на радостях настолько, что пришлось родителям строжиться, хотя это и противно было их душевному состоянию.
Оккеры встретили Богусловских на вокзале и повезли к себе домой. Ни о какой гостинице и слушать не хотели. Увы, в тот первый вечер появился в их прежней искренней дружбе едва заметный раскол. Но если мужчины отошли лишь на небольшую дистанцию, что вытекало из естественного положения дел, ибо Владимир Васильевич в новой своей должности уже стал привыкать к покровительственной манере общения, к фальшиво-панибратскому «батенька мой», к непререкаемости тех истин, которые он глаголил, то между женщинами щель пролегла весьма глубокая, края которой никакими крюками не стянешь. Причина? Самая обыденная, но самая живучая в людской среде. Имя ее — зависть. Сколько из-за нее, проклятущей, людей погублено, сколько судеб покалечено!
На сей раз, правда, дело так далеко не зашло. Лариса Карловна не объявила войны Анне, наоборот, она была приветлива в обращении с ней, она ласкала Владика более нежно, чем свою дочь Вику, но иногда была не в силах сдержать завистливой холодности во взгляде. Владлен, который был старше Виктории всего на два года, выглядел по сравнению с ней настоящим богатырем: высок, сбит, фигурист, пухлощек и румян, что тебе девица красная. Вика же казалась в своем дорогом кружевном платьице замарашкой некормленой, загнанной и забитой, и только в глазах ее поблескивали шаловливые бесенята, что говорило о ее здоровье, об естественном ходе развития ее организма. Да, Вика проигрывала по сравнению с Владиком, а для матери, любой, самой воспитанной, самой доброй, это — не ложка меда к чаю.
Но главное все же было в том, что Анна Павлантьевна лишь чуточку пополнела, отчего фигура ее стала еще более привлекательной, еще более женственной, лицо ее сохранило свою прежнюю свежесть, будто не калило его нещадно степное щедрое солнце, а Лариса Карловна, напротив, сильно сдала: лицо стало еще более тяжелое, под глазами дряблые морщинки, хотя и тщательно запудренные, но все равно заметные; да и фигурой она проигрывала, ибо слишком пополнела и раздалась в бедрах, отчего и походка стала не столь легкой, как прежде, — такое женщины замечают сразу, и мало кому из них удается подавить зависть. Возможно, даже безотчетную.
Прошли наконец те несколько дней, которые нужны были Богусловскому для знакомства с обстановкой в округе, с офицерами штаба, окончились вечерние чаепития на манер тех, жаркентских, только с натянутой радушностью; позади и беседы о том, как ему, Богусловскому, начинать дела. На вокзал Оккеры поехали проводить Богусловских всей семьей. Лариса Карловна, повторяясь многократно, приглашала Анну Павлантьевну с Владиком чаще приезжать в гости, как к себе домой, а Владимир Васильевич напутствовал:
«— Помни, полагаюсь на тебя с большой надеждой. У прежнего все юзом шло, ты же, батенька мой, думаю, не подведешь меня, коли дружбою дорожишь…»
Много после тех проводов приходилось встречаться Богусловскому и Оккеру по разным поводам, в различных обстоятельствах, ни разу, однако, не предлагал Оккер по-семейному побеседовать.
«Вот так, ни за что ни про что, не стал бы делать вольт начальник войск… Не стал бы… — размышлял Богусловский, шагая, чуть отстав, за Оккером. И ошпарил душу внезапный вывод: — Худы не только мои дела, но и его. Дружбу прежнюю вменят ему в вину. И то, что Ларису Карловну от напраслины огородил. Что ж, будем искать выход вместе. Или он о себе больше станет печься?»
Совершенно несправедливо думал Богусловский об Оккере. Его тревожные дни и бессонные ночи остались уже позади. Действительно, следователь Мэлов, тот самый, что когда-то вел дело Ларисы Карловны, затем возбудил следствие против Михаила Богусловского, но вынужден был прекратить его и, в виде наказания, был переведен на Дальний Восток, приглашал начальника войск округа к себе. Беседа шла о Богусловском, и Оккер понял, что следователя интересуют подробности доклада Богусловского о, как тот выразился, «расправе с патриотами». Не было, казалось, резона скрывать от следователя ничего, но Оккер не рассказал о содержании разговора Богусловского с раненым нарушителем. Удержало то, что следователь отчего-то пытался затушевать свою в том заинтересованность. Колесил вокруг да около, а прямо так и не спросил.
Более часа длилась беседа. Подытожил ее Мэлов так:
«— Я знаю, что начальник отряда ваш друг, в прошлом сделал услугу вашей жене, тогда еще невесте, а стало быть, и вам. Хочу поэтому предупредить вас: любое действие ваше, направленное на затруднение следствия по делу преступного самоуправства, мы вправе расценивать как соучастие в преступлении. В ближайшие дни я попрошу вас письменно объясниться по поводу вашей сомнительной дружбы с преступником…»
Как удержался, чтобы не нагрубить следователю, Оккер, он даже самому себе не мог потом объяснить. Возможно, цинизм сказанного привел его в шоковое состояние, лишил способности на какое-то время и мыслить, и сопротивляться?
Вернувшись в свой кабинет, Оккер тут же позвонил по прямому проводу в Москву. Доложил обо всем без утайки, но был краток, лаконичен (опасность заставила собраться, а надежда на помощь придавала силы) и убедителен.
«— Хорошо, будем разбираться», — неопределенно сказали на том конце провода, и связь прервалась. У начальника войск округа даже не спросили, какова оперативная обстановка.
Надежда испарилась, как пустынный мираж, и Оккер, боевой командир, умевший даже в смертельно опасных ситуациях поступать согласно обстоятельствам и осмысленному расчету, командир, который сам не боялся ни пуль, ни клинка и учил подчиненных своих храбрости и лихости в борьбе с врагами, — этот командир под бременем непривычной ему опасности оказался совершенно беспомощным. В подсумках его не оказалось ни одного патрона.
Вызвав ординарца, он попросил:
«— Машину, пожалуйста. Поскорее. — И добавил глухо: — Домой поеду».
Ни ординарца, ни тем более водителя нисколько не удивило, что командир, обычно возвращавшийся домой очень поздно, уезжал из штаба средь бела дня. Рассуждали в общем-то верно: раз едет, стало быть, требуется. И хмурость его объяснили по-своему: ЧП где-нибудь, япошки снова набедокурили. Никто ничего у него не спросил, и Оккер посчитал, что держит себя в руках, не показывает вида подчиненным, что растерян. Рассчитывал, что и дома жена не заметит его душевного смятения. Приготовился соврать, если Лариса спросит, отчего рано, что выдалось свободное время. Лариса, однако, сразу же, как только открыла ему дверь, почувствовала совершенную необычность состояния мужа. Дрогнуло и у нее сердце. Она привычно пропустила его в прихожую, но не задала обычного вопроса: «Как прошел день?» — не осталась стоять в сторонке, ожидая, пока муж повесит мундир, а затем переобуется в мягкие шлепанцы; она подошла к нему, сама сняла фуражку, отерла ладонью пот со лба и начала расстегивать мундир. Это было так непривычно для Владимира Васильевича, так неожиданно, что он даже отшатнулся, но Лариса мягко положила руки на плечи, притянула его к себе, поцеловала и попросила:
«— Не упрямься».
Впервые за все годы их совместной жизни Лариса помогла мужу раздеться и, не понимая того, еще более усугубляла его тревогу, еще более обезоруживала его, делала его еще более беспомощным.
Лариса всегда была сдержанна с ним. Она, не понимая того, обкрадывала и его, и еще больше самое себя, но так уж сложилась их жизнь. Поначалу она не делала того, что считала оскорблением ее любви к товарищу Климентьеву, под грузом душевной раны, нанесенной Андреем Левонтьевым, а затем, когда рана уже затянулась и перестала кровоточить, под грузом самоубеждения, что она не вправе хоть чем-либо запятнать свою первую и единственную любовь. Владимира Оккера поначалу это сильно угнетало, но он надеялся, что со временем Лариса изменится, а после привык к сложившимся меж ними отношениям, не представляя даже, что они могут быть у мужа с женой иными — более нежными, более пылкими и более чуткими…
— Пойдем в гостиную. Приляг на диван, а я сварю кофе.
Она положила ему под голову думку и, поцеловав: «Лежи, я сейчас», поспешила на кухню, оставив его удивляться столь необычному ее обращению.
На душе кошки скребут. Он уехал из управления, чтобы остаться одному, и вот — он один. Пустота вокруг. Безжизненность. Не для него она, и он с нетерпением ждал, когда Лариса позовет в столовую, и думал, имеет ли он право рассказать о дамокловом мече, так неожиданно нависшем и над Богусловским, и над ним самим, и не находил верного решения.
Вошла Лариса с подносом, и гостиная наполнилась бодрящим ароматом. Оккер хотел было подняться, но Лариса опередила:
«— Лежи, я подам».
Он пил кофе, а она перебирала пальцами его волосы, разглаживала морщины на лбу и у глаз, а когда он похвалил кофе, она благодарно поцеловала его.
Владимир Васильевич не спешил допивать кофе, растягивал блаженство. Прежде, бывало, он вот так же цедил сквозь пальцы волосы Ларисы, разглаживал морщинки, и, хотя для нее все это было приятно, он видел это, она, однако же, сдерживала ответные ласки. Сегодня же они поменялись ролями. Ему тоже хотелось обнять жену, прижаться головой к ее пышной груди, но он продолжал пить мелкими глоточками кофе, как привык в Средней Азии пить чай из пиал.
И на следующий день Лариса была чуткой и нежной. И на следующий… И, вконец разморенный не испытанными прежде ее ласками, он разоткровенничался. Рассказывал, а сам боялся, что она расстроится, вспомнит о том времени, когда сама была под следствием, вспомнит все и вернется ее прежняя сдержанность; он никак не хотел потерять того, что так неожиданно обрел, но продолжал свой печальный рассказ.
Реакция Ларисы Карловны тоже оказалась неожиданной. Ни грамма печали. Только возмущение.
«— А, этот Мэлов, значит?! Тогда все понятно! — зло заговорила Лариса. — Почему ты, Володя, прежде мне не сказал о нем?! Я бы Сталину письмо написала. Либо его перевели бы отсюда, либо нас. Я сегодня же напишу…»
«— Не спеши, подождем решения. Я тебя очень прошу».
«— Хорошо. Но не попадись ему на крючок. Ни в коем случае никаких письменных свидетельств. Он хочет, чтобы ты отрекся от Богусловского. Он предателем тебя сделать хочет! Эка фрукт! А тебе не кукситься, а бороться нужно. Действовать!»
«— Нет, чести я не запятнаю. Что бы ни случилось! И отрешусь от непротивления злу. Непременно!»
Лариса Карловна была совершенно искренней, так заботясь о Богусловских. Возникшая зависть к Анне и Владику притупилась, но, даже будь она по-прежнему острой, иначе бы Лариса Карловна не поступила, ибо речь шла не о красоте бедер и бюста — речь шла о судьбе. А Лариса Карловна помнила все, что сделали для нее Богусловские. И искренность Ларисы, ее настойчивость для того душевного состояния Владимира Васильевича имели весьма серьезный вес. Даже решающий. На следующий же день Оккер начал активное противодействие Мэлову. Он попросил начальника штаба отряда донести лично ему рапортом о том, кем и когда был разработан план внезапных проверок и согласно ли утвержденному плану выезжал на стыковую заставу начальник отряда. Письменного рапорта, тоже лично ему, потребовал Оккер и от коменданта участка, который первым прибыл к месту боя и все видел своими глазами. Он не сказал о предстоящем следствии, но предупредил, как важна в рапортах скрупулезная точность. Своего начальника штаба он попросил подготовить справку об указаниях штаба округа по проведению внезапных проверок.
Документы, которые Оккер собрал, не оставляли сомнения в том, что Богусловский действовал верно, не афишируя своего выезда. Никакой тайной преднамеренности у того не было, никакого злого умысла. Это немного успокоило, по Оккер понимал прекрасно: все решит ответный звонок из Москвы. И его судьбу, и судьбу Богусловского.
Только после нескольких тревожных дней и бессонных ночей раздался долгожданный звонок. Первые слова ободряющие: «Работайте спокойно…» А дальше — засека, которую не враз осилишь: Мэлову не мешать, но и не содействовать, личного объяснения письменно не давать. Резко отказываться, однако, не стоит. Лучше всего — обещать и оправдываться за невыполнение обещания занятостью чрезмерной. С Богусловским контакт минимальный. Информировать об этом телефонном разговоре его ни в коем случае не следует. И вообще, никаких советов, как вести себя со следователем, не давать.
Не стал возражать против последней рекомендации, хотя был с ней не согласен. А когда рассказал об этом Ларисе и та определила такую позицию улиточной, решил он раскрыть Богусловскому почти все карты. Искал лишь повода для поездки в отряд. И вот — Барковый. Никто не мог теперь упрекнуть его в преднамеренном контакте с Богусловским.
…Они уже подошли к трапу, как вдруг Оккер обернулся, остановившись, и сказал твердо:
— Нет. На катер не пойдем. Рассказывай и показывай. Так будет понятней.
«Не хочет, чтобы кто-либо вдруг услышал случайно разговор… — со все больше укрепляющейся неприязнью к бывшему другу подумал Богусловский. — Эка напуган. Не боец за правду! Не помощник!»
Начал с подчеркнутой официальностью:
— Выезжая сюда, я ослушался следователя. Он позвонил мне тут же, после вашего приказа возглавить операцию…
— Постой, постой. Тебе он велел не покидать отряда?!
Для Оккера было неожиданно и оскорбительно услышать о том, что следствие Мэлов начал, не оповестив его, начальника войск округа. Мэлов, правда, не подчинялся ему, но элементарная субординация предполагала информацию. Оттого и не сдержал столь поспешного вопроса Оккер. Богусловский же расценил его по своему разумению. Ответил, едва подавляя раздражение:
— Решение о выезде я принял сам. Возможные обвинения полностью приму на свой счет!..
— Эка, батенька мой. Спасибо за пощечину. Ну да, может, и заслужил. Только вряд ли. — Вздохнув, сказал примирительно: — Ладно, поставим все на свои места, только послушаю я вначале доклад твой о бое.
Скупым военным языком докладывал Богусловский, а Оккер понимал, с каким смелым риском действовал тот и как ловко были захвачены японские катера, что в конечном счете принесло столь внушительную победу: трофеи, пленные, но, главное, хороший урок преподан провокаторам.
— Молодец, Михаил Семеонович! Одно слово — молодец! На орден представлю! Красного Знамени — не меньше! — И, поглядев в сторону Хабаровска, молвил злорадно: — Посмотрим, как Лазаря петь станешь! Посмотрим! — И вновь к Богусловскому: — А случись у тебя осечка — трудновато бы пришлось. Усугубил бы и без того…
— Повторяю, я вполне осознанно выехал сюда с эскадроном. Я не собираюсь, сложа руки на груди, взирать молчаливо на свершающееся зло. Преднамеренное зло! Я не баран, приготовленный на заклание!
— Похвальна, конечно, твоя решимость. Иного я и не предполагал. Только понять ты должен: обвинения сфабрикованы очень серьезные. Не перебивай. Не бычься. Послушай. Мэлов мне предложил письменно отречься от тебя. Иначе, мол… И вот, как на духу: труса спраздновал было. Чем бы все окончилось, не могу сказать, если бы не Лариса. Молодец она. Силу вдохнула. И знаешь, Михаил Семеонович, лаской взяла. Иной теперь стала, — не удержался Оккер, чтобы не поделиться радостью с другом, — совсем иной! Счастлив я теперь вдвойне: тебя не потерял, себя уважать не перестал, ее будто вновь обрел. Сегодня мне практически ничего не грозит, а тебе… — И приостановил речь. Не забывалась настоятельная просьба Москвы не вмешиваться в ход следствия. Ни на миг не забывалась. И о последствиях думал. Какие они могут оказаться? Решился все же на совершенно откровенный разговор: — Все, что я тебе скажу, только для твоего пользования. Нигде, ни при каких обстоятельствах…
— Клянусь честью!
— Верю без клятвы, — прервал Богусловского Оккер. — Сказал в порядке предупреждения. Так вот… Тебя обвиняют в действиях, кои можно квалифицировать как измену. Значит, так: несколько месяцев назад сосед твой задержал перебежчика, который даже со мной не пожелал беседовать. А суть вот в чем: в приграничных городах закордона есть, по словам того перебежчика, большая «партийная организация», подпольная, естественно, и руководит ею Ко Бем Чен…
— Постойте, постойте! Я слышал эту фамилию. До революции еще слышал. Он разработал интересную систему быстрой доставки шпионской информации. Как пример это нам приводили.
— Верно. Имел он в девятьсот пятом подряд на поставку фуража и продовольствия японской дивизии, не помню номера, но главное его занятие — шпионаж. Агентура его под видом торговцев разъезжала в местах дислокации русских войск, собирая нужные японцам сведения. Доставлял их Ко Бем Чен с фантастической быстротой с помощью постов связи, кои имел он через пять-шесть километров, с несколькими скороходами на каждом. Уложится гонец в определенное нормой время — получает десять иен. Доставит на соседний пост донесение раньше — получай за каждую минуту в два раза больше. Но и сам Ко Бем Чен не оставался в накладе, как показало время, от такой щедрости. После войны — он видный промышленник. Дружбы с японцами не порвал, а недавно ездил в Токио. Старик, а не побоялся дальней дороги. Не попусту же? Мы имеем данные, что встречался старик там с полковником Кавамодой — начальником советского сектора генерального штаба ихнего. Не исключено, что имел встречи и с представителями «Черного дракона». Не тебе объяснять значение тех встреч…
— Да, «Черный дракон» — это непосредственно против нас. Шпионаж и диверсия.
— Таков руководитель так называемой «партийной организации». Ищет выходы на нашу территорию. Постоянные, надежные выходы. Просит открыть школу, где бы могли обучаться, как они говорят, «проверенные коммунисты».
— Ого! Наглость высочайшая. Не удосужились даже имени своего резидента сменить.
— Самонадеянность чрезмерная, это уж точно. Состряпали легенду, что бежал, дескать, из японской тюрьмы политический заключенный, профессиональный революционер; предполагают, что клюнем мы, что никто не станет заглядывать в архивы царской контрразведки. Но я все это рассказал не для критики просчета японской разведки, а для того, чтобы ты понял, как чудовищно по своей сути обвинение в твой адрес и как оно вместе с тем весомо. Тебя, короче говоря, обвиняют в расстреле посланцев Ко Бем Чена. Сделал ты это, чтобы осложнить и запутать начавшуюся игру с японской разведкой. И вопрос поставлен так: не причастна ли к этому расстрелу сама японская разведка? Теперь понятно, какие у тебя трудности впереди? Видимо, в самое ближайшее время тебя отстранят от должности…
— Но я же докладывал вам, Владимир Васильевич, о признании раненого. Я буду бороться за правду!
— Только без горячки. Моя просьба, если хочешь — приказ: ни устно, ни письменно следователю об этом не сообщать. Мы продолжаем поиск. Не только у нас — во всем городе нет человека с фамилией Ткач. Скорее всего, это кличка.
— Но, быть может, прежняя фамилия. Мэлов, допустим. Не мог он быть до революции Мэловым?
— Бездонен этот путь. Где и когда менял он свою фамилию? И единожды ли менял?
— Знавал я Ткача. Дружны были наши семьи: Левонтъевы, Богусловские и Ткачи. Самый младший из Ткачей, Владимир Иосифович, штурмовал Зимний. Камеи потом хотел вынести, да попался. Посмотреть бы на Мэлова.
— Идея верная. Я подумаю, как ее осуществить. Ну а раз уж ты сам заговорил о прежней дружбе с Левонтьевыми, открою, что второе, не менее тяжелое обвинение, — твоя женитьба на сестре эмигранта-белогвардейца, сестре ярого антисоветчика.
— Бедная Анна! Что я ей обо всем этом скажу?!
— К ней Лариса моя собирается. Вместе с Викой.
«Это прекрасно», — хотел сказать Михаил Богусловский, но сдержал восклицание: к ним подходил командир эскадрона, а ему совершенно ни к чему знать хоть частицу разговора начальника отряда с начальником войск.
Комэска сам не мог решить, что делать с убитыми японцами и маньчжурами. Спросил:
— Может, передадим?
— Заманчиво, — как бы рассуждая сам с собой, заговорил Оккер. — Пусть бы солдаты ихние полюбовались, что ждет их на нашей земле. Очень заманчиво. Они, однако же, перевернуть все с ног на голову могут, обвинят нас бог знает в каких грехах… Лучше похоронить здесь, на острове. — И уже решительно, как приказ: — В одну могилу всех! Да простят нам их матери и жены — не мы вояк этих сюда звали. Не мы!
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Еще несколько недель назад Мэлову представлялось, что дела его идут без сучка без задоринки. Все следственные дела, какие он начинал, оканчивались так, как задумывались, и им были довольны. Неудача с Богусловским в Казахстане ему давно уже простилась, хотя последствия той неудачи ощутимы и по сей день. По чьей-то воле (взглянуть бы на того человека, кто спас его, Мэлова, и сделал вечным рабом) выхватили его буквально из костра, на котором он сгорел бы в два счета. Ловко, как казалось Мэлову, подстроил он Богусловскому ловушку. Одно было нехорошо — не мог сам вести следствие, поэтому поручил одному из своих подчиненных, самому, как думалось Мэлову, доверчивому и податливому. Поначалу так и вышло: поверил тот и показаниям казака-перебежчика, который искренне был убежден в том, что, сколько волка ни корми, он все равно в лес смотрит, и, когда Мэлов подсунул ему мысль, не по приказу ли Богусловского кормили коней размоченным овсом и сеном, чтобы обезножили они, казак даже обрадовался: «И у меня такая думка свербилась!»
Показания тот казак давал старательно, с душой, по его получалось, что из экспедиции убрали его, потому как боялись, что может помешать злому делу. И по поводу Васина тоже сомнение высказал, будто и тот мог продаться.
И выходило, не будь его, казака-перебежчика, не дотянули бы ученые до конца маршрута, умыкнули бы их.
Поверил следователь искренности доносчика, начал дело с возмущением: «Ишь ты, в пограничные войска пролезли! Не выйдет! Очистим!» — но, еще когда находился в отряде, стал требовать бывшего урядника Васина, которого Мэлов не смог поколебать, поэтому под предлогом недоверия настоял, чтобы перевели его в другой отряд, в хозяйственное подразделение. Согласиться на вызов Васина Мэлов не мог, но не мог и уговорить следователя отказаться от такой мысли…
Туго затягивался узел. Оставалось одно — убрать следователя, свалив затем всю вину на Богусловского. Но наивный с виду следователь оказался чрезмерно проницательным. Не удалась засада и в дороге, не удалась и возле дома. Усугубило все предписание из Москвы о прекращении следствия. Это был провал. Теперь уже полный. Мэлов уже видел себя в тюремной камере, понимая, сколь суровой будет расплата. Нет, не из-за Богусловского, здесь зло еще не совершено, припомнятся другие дела, которые он вел сам…
А вместо тюрьмы — Москва. Его привезли в приличную гостиницу и поместили в хороший номер, сразу же предупредив, что ждать решения судьбы придется несколько дней, но все образуется при условии, конечно, если он поведет себя благоразумно.
Не поняв, о каком благоразумии сказано, он тем не менее не пытался даже делать какие-либо предположения, философски заключив: «Жизнь подскажет», и спокойно ожидал более конкретного и, стало быть, более делового разговора.
Вспомнили о нем только через неделю. Приехавший за ним юрист услужливо открыл дверцу эмки, и, пошныряв вначале по узеньким переулкам, покатила легковушка, к удивлению и недоумению Мэлова, за город, а через час, протиснувшись сквозь густой лес по узкому щебеночному отвилку, вырулила на берег озера, где стоял старинной постройки теремок, окруженный глухим тесовым забором.
В том теремке, у ярко пылавшего камина, хотя вечер был теплым, Мэлов узнал, в чем состояло его будущее «благоразумие». Хозяин теремка, назвавшись Трофимом Юрьевичем, предложил поудобней устраиваться в кресле, сразу предупредив:
«— Если жарко — потерпите. Камин — моя болезнь».
Подождав, пока Мэлов усядется в просторное и мягкое кресло и станет готовым слушать серьезную речь, заговорил с сухой официальностью:
«— Если бы тот человек, кому вы обязаны спасением своим, не знал наверное, что вы получили дореволюционное юридическое образование, он бы не поверил. Все ваши дела уязвимы. Легко уязвимы. Попади они в руки мало-мальски знающего ревизора, и… Остается надеяться, что, пока мы живы, они не увидят света божьего. Впрочем, пыль архивную всегда можно смести мягкой щеткой…»
«— Я готов выслушать ваши рекомендации, — вполне поняв, что собеседник стращает не ради словца красного, перебил Мэлов. — Мои стремления и мои поступки не безошибочны, но искренность их…»
«— Не сомневаюсь, — остановил недовольно хозяин. — Не сомневается и проявивший заботу о вас. Оттого вы — здесь. Но вы оговорились: не рекомендации, а условия. Выполнение коих непременно. Первое и главное — полная координация своих действий с интересами общими. У вас во взгляде вопрос? Вы забыли житейскую мудрость: много будешь знать — скоро состаришься».
Не церемонился с гостем хозяин, хлестал наотмашь, вовсе не заботясь о том, больно или нет собеседнику. Но самым обидным оказался финал беседы:
«— Знать будете только одного человека. Серьезных поручений никто вам не даст — не рассчитывайте. Этого добиваются делом. А пока самое большое — почтовый ящик. И повторяю, больше никаких глупых следственных дел. Никаких! Запомните! Зарубите себе на носу. Больше я вас не задерживаю…»
Снизошел, подал на прощание руку. Но с кресла не поднялся.
Проглотил Мэлов обиду, ибо хотел жить. И уже в гостиничном номере, поразмыслив, пришел к выводу, что новое его положение даже лучше: не одному думать и решать — меньше, стало быть, риска.
Дальше все шло, как и должно было идти при перемещении по должности: беседы в кабинетах кадровиков, у начальства, ознакомление с обстановкой и — путь. Долгий-долгий. Почти через всю Россию, всю Сибирь.
Времени для раздумий хоть отбавляй. И когда Мэлов подъезжал к Хабаровску, то те его московские, гостиничные уверенность и спокойность выветрились, словно миражная призрачность. От всего виденного за многие дни пути у Мэлова осталось такое впечатление, будто вся Россия, а следом за ней и Сибирь, отличавшаяся прежде раздумчивой медлительностью, засуетились, спешат, подхватившись, сделать недоделанное веками, перестроить веками мешавшее вот этой вольной суете, теперь не только позволительной, но и всячески поощряемой. Проснулась великая Русь, зарысила орловской размашистой рысью по дороге истории, и какая рука может осадить бег вольный, кто в силе передернуть закушенные удила?! Он, Мэлов, своими комариными укусами? Либо тот, самодовольный, чванливый интеллигентишка, не видящий ничего, кроме каминного костерка?
Нет, не запылать великому очистительному пожару от каминного огня!
Сомнения, однако, остаются сомнениями, откровения — откровениями, а жизнь — жизнью. И коли назвался груздем — полезай в кузовок. С желанием или помимо воли, это уже, как говорится, несущественные мелочи, которые никого не волнуют. Первое, что Мэлов сделал в Хабаровске, нашел удобный особнячок в тихой окраинной улочке и сообщил, как было договорено, в Москву свой новый адрес.
Каждый вечер ждал, что кто-то придет к нему и, назвав пароль, потребует каких-то действий; но проходили недели, тянулись месяцы, а никто не тревожил его. Мэлов, облюбовав уже нескольких краскомов, мыслящих, ищущих и поэтому уязвимых, готовил на них досье, однако предпринимать что-либо самостоятельно не решался. Порой ему думалось, будто о нем забыли вовсе, и тогда лелеялась надежда на совершенно спокойное житье; но чаще представлялось, что тот «каминный ментор» отмахнулся от него, как от писклявого комара, и это порождало даже обидные мысли. Сгладилось со временем впечатление, оставленное поездкой через страну, смикшировалась острота чувств и противоречий, и Мэлов костерок каминный видел теперь в ином масштабе, значительном, угрожающем. Сколько таких каминов по пригородам в глухих дачах у лесных озер, думал он, которые пока пылают в одиночку, но которые в конце концов сольются, и пойдет пластать, как здесь говорят, верховой пал, от которого нет спасения. Мэлов не хотел сгореть в том огне, ему представлялось лучшим погреть озябшие руки, любуясь лишь заревом и сознавая, что и его, Мэлова, немалая доля в том пожаре…
Противоречивым тем мыслям и надеждам поставил точку утренний визит простодушного толстячка в модной косоворотке. И хотя верхние пуговицы рубашки были расстегнуты да и сам ворот был низок и мягок, он, казалось, безжалостно теснил рыхлую шею, создавая неловкость хозяину; толстячок, однако же, будто вовсе не реагировал на ту неловкость, лицо его было покойно и благодушно, голос мягкий и ровный.
«— В самые ближайшие дни прибудут к вам гости. Двое. Казаки. Для вас они — Есаул и Елтыш. Вот этот конвертик — для них. Спрячьте его, спрячьте до ухода на службу. Чтобы никто, кроме вас, не ведал. Когда посетят — дадите знать. Вот на это окошечко — герань. Расстарайтесь обзавестись геранью. Если чайком попотчуете — не откажусь. Только уж без кухарки. Сами не сочтите за труд…»
Обещанные «самые ближайшие дни» затянулись на добрые две недели. И каждый вечер — полный тревоги. Издергался Мэлов, даже на работе сослуживцы заметили его неспокойность душевную, то один, то другой участливо осведомлялись, не захворал ли. И как ни пытался Мэлов взять себя в руки, ничего из этого не выходило.
Наконец пожаловали. Оторопь взяла, как вошли. Словно клещами сдавил руку Елтыш, по виду и впрямь похожий на неподступный, в сучковатых наростах комель. Еще внушительней — Есаул. Один взгляд чего стоит. Так и сверлит, так и гвоздит. Когда готовился Мэлов к встрече гостей, репетировал хозяйскую холодность и высокомерие, предполагая вести разговор примерно так, как велся с ним в подмосковной даче у камина. Но вдруг безотчетно вернулась манера робко притрагиваться подушечками пальцев к усам перед тем, как что-то спросить либо что-то посоветовать.
А гости или сразу раскусили состояние хозяина, или знали, что не велика птица, поэтому вели себя беспардонно. Особенно Есаул. Развалился в кресле, словно придавив его своим могуществом, и приказывает:
«— Давай, паря, пошустрей, что передать нам велено. Век тут вековать негоже нам. Пошустрей давай…»
Посмотрел сомнительно на тощий конверт, который торопливо принес Мэлов, спросил с недоверчивой сердитостью:
«— Все, что ли, паря? Не оболясишь?»
Встанет сейчас и — хрясть кулаком между глаз для острастки. Съежился Мэлов, ответил торопливо:
«— Ничего больше не велено. Как на духу…»
«— Из-за вот этой филькиной грамотки мандрычили да еланили? — все еще делая вид, что не вполне верит хозяину, сердито вопрошал Есаул сам себя. — Экое пустодельство!»
«— Важность документа не в его объеме», — попытался возразить, потрогав пальцами усы, Мэлов, но Есаул грубо оборвал его:
«— Чево пустое, паря, молоть? По зряшнему делу меня Левонтьев не пошлет…»
«— Левонтьев?!»
«— А ты думал, мне, есаулу Кырену, шавка какая велела?»
«— Прошу, передайте, вернувшись, привет от Ткача».
«— Погляди на него — Ткач! — с явной издевкой бросил, как бы призывая в свидетели напарника своего, Есаул. — Чево горболысь такая наткать может? Плодуха без мужика нагуляла, не иначе… Ну не серчай, передам твой поклон. Передам, бог даст, если выйдет годяво все».
«— А где вы намерены переходить обратно?»
«— Эко — шустёр! Мы — в пути, ты тут гвалт подымешь!»
«— Я к тому, чтобы посоветовать, — притрагиваясь к усам, возразил Мэлов. — Я же в курсе, где охрана слабее».
«— Советчик, глянь-ко! Горболысь ты и в делах наших. Одно слово — горболысь».
Оплевав смачно и оставив три ружейных патрона, ушли ходоки. Так гадко на душе у Мэлова, швырнуть бы позеленелые гильзы с непонятным зарядом в сортир, а следом и горшок с геранью, но нет, перемогает себя страхом за возможную расплату, несет на подоконник герань, хотя темень на улице и сделать это можно утром; прячет и перепрятывает патроны не единожды и только после этого тушит лампу.
Смежил глаза — и, как наяву, рыжая лопатистая борода, глаза волчьи. Дрожь по телу. Вскочить бы, зажечь лампу, но и этого нельзя делать: поздний свет в окне может вызвать подозрение. Велики у страха глаза. Спит улочка без задних ног, никто не видел ушедших от Мэлова гостей, никому нет дела до того, горит ли у него лампа либо не горит — в каждом доме своя забота, свои житейские проблемы. Но не случайно родилась поговорка: на воре и шапка горит. Совсем не случайно.
Промучавшись ночь без сна, пошел на службу. Старался не выходить из своего кабинета, не приглашал подчиненных, сославшись на срочную работу. Прополз с горем пополам день, пора и домой. А желания никакого. Тоска и страх перед наступающей ночью.
Прокоротал ее в тревоге, затем еще одну да еще и, только когда уверился, что все обошлось, как Есаул сказал, «годяво» — хорошо обошлось, тогда успокоился.
Когда второй раз пожаловали гости, спокойней чувствовал себя Мэлов. К тому же и Есаул, и Елтыш вели себя смирней, уважительней. Подействовало, что Левонтьев послал ответный привет да еще обещание написать личное письмо.
Правда, письмо от Дмитрия Левонтьева получил Мэлов не в следующее посещение казаков, а лишь через год. Передал вначале Есаул несколько «заряженных» шифровками металлических гильз, а затем отдельно одну подал, поясняя:
«— Его благородие наказывали, чтобы в собстве́нные руки. Ответ, наказывали, чтобы тут же. Письмом. Словами тоже ладно. Не уйдем, стало быть, паря, мы, не получивши ответа».
«— Ждите, раз вам велено. Я прочту прежде».
Не стал при них разряжать патрон, ушел в кабинет, достал неторопливо пинцет, наслаждаясь тем, что те двое хамов-казаков смирно станут сидеть, сколько ему, Мэлову, захочется, аккуратно вынул рулончиком свернутое послание и, начав только читать, присвистнул от изумления. Совершенно неожиданная и на первый взгляд нелепейшая просьба: выяснить, живы ли на заимке возле Усть-Лиманки Ерофей Кузьмин, его дочь Акулина и кого, девочку или мальчика, она родила, жив и здоров ли ребенок.
«Леший бы меня туда понес, в эту Усть-Лиманку. За целый отпуск не обернешься. И чего ради? — И вновь присвистнул невольно, начиная догадываться, с чем связана эта необычная просьба. — Вспомнил на чужбине грехи свои! Ну ничего, помучайся! Воротили нос Левонтьевы, когда породниться хотел. Воротили! Петр Богусловский им милей. Где он теперь?! Теперь о Ткаче вспомнили. Нет уж, выкусить извольте. Буберы в услужении у Левонтьевых не хаживали…»
Более получаса сидел за своим письменным столом Мэлов, то распаляя себя, то успокаивая, но более того тешась тем, что безропотно ждут казаки в горнице и пикнуть не смеют. И только когда самому надоело бесцельное сидение, поднялся со стула.
Независимо вышел, уверенно. Сказал, словно снизойти изволил:
«— Передайте Дмитрию, все постараюся сделать, как он просил. Ради дружбы старинной нашей. Так, слово в слово, и передайте. Запомнили?»
«— Али алаги в бо́шках у нас?» — недовольно буркнул Елтыш, а Есаул промолчал, лишь смерил Мэлова усмешливым пристальным взглядом. Ничего, дескать, покуражься-покуражься, а там поглядим, как жизнь повернет.
Лелеял то свое малое и минутное превосходство над посланцами Левонтьева Мэлов, дул из него мыльный пузырь до самой новой встречи. Смелость оттого даже обрел, укрепился в мысли, что в Усть-Лиманку ездить не следует.
«Нашел мальчика на побегушках! — осуждал Дмитрия Мэлов. — Не было того, чтобы Ткачи в слугах ходили у Левонтьевых, и не будет!»
Казакам наглым решил, как придут, место свое указать, свой шесток. Припас даже первую фразу, не один раз повторив ее, чтобы подобающе звучала. Этой фразой и встретил гостей:
«— Проходите на кухню и ждите. У меня важная встреча. Я вернусь через час. Кухарка подаст чай…»
«— Глянь-ко, Елтыш, на него, — с презрительной усмешкой бросил Есаул. — Мелкодав мелкодавом, а в азойные метит. Не оболясить ли удумал?»
Подошел вплотную все с той же не сердитой, а презрительной усмешкой, положил руки на плечи, мягко, вроде бы собираясь похлопать снисходительно шалуна-шутника, во вдруг напружинились пальцы, сграбастав рубашку и кожу под ней, и приподнял Есаул Мэлова, обезумевшего от боли и, особенно, от страха, ибо взгляд Есаула стал тоже жестким, прожигающим до пят. «Не проводишь кухарку, чтобы задами, — и ей, и тебе крышка! Иди!»
Дальше все шло привычным порядком. Мэлов услужливо притрагивался пальчиками к усам, гости, развалясь в креслах, слушали его с брезгливой снисходительностью. Или повелевали.
Но вот вопрос:
«— В Усть-Лиманке побывал ли, паря?»
«— Побывал, побывал! — скороговоркой выпалил Мэлов. — В порядке разведки…»
Угрожающе поднялся Есаул, глаза его вспыхнули гневом, а Мэлов съежился, пугаясь телесной боли, которая была во сто крат ему неприятней душевной, залепетал прытко, что баба прибитая:
«— Бес попутал. Истинный крест — бес на грех толкнул. Все сделаю. Все-все…»
«— Оболясишь еще — жилы вытяну!»
Либо беспредельно дорог Есаулу Левонтьев, коль скоро так печется о его просьбе, либо сам придавлен жерновом, в любой момент который может крутнуться, перемолов в пыль и прах. И хотя Мэлов со злорадством предполагал только вторую причину, все равно это не избавляло его от необходимости ехать в бездорожную глухомань.
Но, предвидя трудности пути, не думал он вовсе, что возникнет иное препятствие, преодолеть которое ему удастся лишь с великой силой.
Началось с того, что Мэлова, едва живого от усталости, не впустили в дом. Поначалу дотошно выпытывал Кузьмин, старик-бородач, как у подследственного, цель приезда, а когда уже, казалось, все разъяснилось, когда бородачу не о чем было больше спрашивать, он совершенно неожиданно для Мэлова бросил грубо:
«— Шлюх не держу! Не грешен!»
Дверь захлопнулась, щелкнул засов, прошлепали старческие шаги в сенцах, удаляясь, и стало тихо-тихо. В пору выть от досады. Десять трудных суток, и — пустопорожний итог.
Спустился с крыльца Мэлов и насильно зашагал обратно в Усть-Лиманку, где ему в сельсовете, подозрительно поначалу оглядев, указали путь к заимке Ерофея Кузьмина. Ему не хотелось больше встречаться с председателем сельсовета, таким же, как Елтыш с Есаулом, как Кузьмин, бородатым, с такой же дремучей подозрительностью во взгляде; он с великой радостью нанял бы возницу, с кем попутно приехал из Тюмени, и махнул бы на все рукой, но он был неволен, ибо помнил злое обещание Есаула.
«— Али не пустили? — сочувственным вопросом встретил Мэлова председатель и сам же ответил: — Семейцы, что с них возьмешь? — И спросил без обиняков: — Ответь, как на духу, каво у Ермача делать тебе? Кулак он. Супротивник нашей власти. Али и ты из ихней породы?»
Пот прошиб Мэлова. Второй раз человека встретил, а в корень уже вгляделся. В атаку придется идти, чтобы не укрепился в своей мысли председатель. Ответил возмущенно:
«— Я — Зимний штурмовал!»
«— Раз штурмовал, значит, ладно, — вовсе, казалось, не воспринял значимости сказанного председатель. — Я говорю, к Ермачу-то чего навострился?»
«— Я — следователь! И не вправе быть с вами откровенным».
«— Следователь, говоришь? — все с той же недоверчивостью, в которую, правда, вплелись нотки радости, протянул председатель. — Тогда и впрямь нужда в нем есть. Много кровушки пролито по его вине. Нет, он сам не бандитил, сын его, Никита, вроде бы тоже в сторонке, только так я мыслю: они главные заводилы…»
Будто треснул ледовый панцирь и хлынула набухшая вешняя вода, истосковавшаяся по вольному берегу под студеной тяжестью: об оружии, неведомо откуда появившемся, заговорил председатель, о том, как Петра Пришлого, ученика тракториста, чуть не убили, а потом так замордовали парня, что утек куда-то; о том заговорил, что и после, как Колчака турнули, легче не стало, бандитят кулаки, житья не дают и даже ему, председателю сельсовета, кого народ поставил на пост, смертью грозят. Он говорил долго и основательно, предполагая, как сеятель, что в добрую землю бросает семена, и даже не подозревал, какие мысли и какие планы зреют в голове его гостя.
Мэлов же, слушая внимательно, искал себе выгоду. Первое, к какому скорому выводу пришел, — следует сейчас же переубедить председателя, что не поручено ему, Мэлову, расследовать жизнь и дела Ерофея Кузьмина, объяснить ему о юридической несостоятельности подозрений без фактов. И второй вывод: председателя следует убрать. Каким образом, Мэлов пока даже не думал — только вынес приговор.
«— Я себе так определил: иль дознаюсь правды, иль голову перед сельчанами склоню; плохой, дескать, председатель, меняйте. Теперь, слава богу, помощь есть…»
«— Нет, я вам не помощник, хотя полностью на вашей стороне. Но у меня иное предписание. И потом, подозрения ваши не могут являться юридическим основанием для начала следствия, а тем более ареста Кузьминых. Когда появятся факты, вот тогда — прокурору их. А сейчас скажите, где могу я найти Акулину Ерофеевну Кузьмину? В доме отца, похоже, ее нет».
«— Выгнал. Принесла поблудка — вот и выгнал. В Тюмени теперь… На станции. Буфетчица».
«— А кто отец ребенка — не известно?» — спросил Мэлов с профессиональной четкостью, как будто вел допрос.
«— За ноги-то не держали. Шила только в мешке не утаишь. Сказывали, будто Петр Пришлый. За то, мол, и смолили его. За то и грозили смертью. Могет быть, и впрямь парень грешен, бедовым был, только, я думаю, не потому мордовали Петра. Гуртил парней да девчат вокруг себя в коммуне. Кулакам он — что тебе бельмо в глазу».
Мэлова совершенно не интересовало, согласен или не согласен председатель с молвой; он понял одно: о Левонтьеве в Усть-Лиманке ничего не знают, его пребывание на заимке Кузьминых осталось тайной, и это упрощало дело.
«Сын коммунара. Прекрасная легенда. Еще лучше — сын погибшего в классовой борьбе коммунара!..»
И как Мэлов обрадовался, когда председатель дал ему эту желаемую легенду прямо в руки!
«— Кулачье что удумали? Написали в газету, что погиб, мол, Петр-тракторист…»
Читал об этом Мэлов в «Комсомольской правде». Бойко написано было, вдохновляюще: «…не запугать комсомольцев огнем кулацким, на смену погибшего встанут тысячи…»
«Сын сгоревшего тракториста. Превосходно!»
Ничто его больше не держало в этом медвежьем углу, и утром выехал он на сельсоветской подводе в Тюмень. Не близок путь, но, как ни тянулись таежные версты, пришел им все же конец.
Остановил лошадей возница на привокзальной площади, в ряду таких же натруженных бричек, и без всякой дипломатии попросил:
«— Мерзавчик бы перед обратной дорогой пропустить? Как, мил человек? Я мигом в кооператив…»
Мэлов даже обрадовался просьбе: проще состоится знакомство с Акулиной.
«— Пойдемте в буфет. Там и закуска есть».
«— Можно, благословясь».
Нелюдно в буфете и чисто. На столах — пепельницы, пол крашеный, не затоптанный, без окурков и плевков. Удивило это Мэлова, привыкшего видеть привокзальные буфеты иными: толкотня, дым коромыслом, пыльный, зашарканный пол, раскосмаченная буфетчица в переднике не первой свежести, озабоченная лишь тем, как бы не просчитаться, как бы не ушел кто, не расплатившись. А здесь чинно сидят за столами немногие посетители, а хозяйки даже не видно. Не сторожит зорко.
Возница, которого пропустил вперед себя Мэлов, остановился у порога в нерешительности, кашлянул в кулак робко и Мэлова, пытавшегося пройти вперед, предупредил:
«— Погодь. Позовет когда. Строга Акулина наша».
Еще раз кашлянул, переступая с ноги на ногу. Решился наконец позвать:
«— Акулина Ерофеевна!»
Отозвалась на зов сразу. Вышла в зал, удивив и покорив Мэлова необычной для буфетчицы нарядностью и пригожестью: передник белоснежный и промережен кружевно по краям; розовая шелковая кофта дышит свежестью и, кажется, гордится тем, что прикрывает собой статное тело и пышные, упругие груди; ловко облегает в меру полные бедра узкая, едва прикрывающая колени юбка, а сафьяновые сапожки, немного бледней кофточки, подчеркивают стройность и крепость ног; взгляд же молодой женщины, чувствовавшей, что она хороша собой, что нравится мужчинам, вовсе не был сердитым. Смотрел на буфетчицу Мэлов и не мог понять робости возницы, но отчего-то начал робеть и сам, хотя хозяйка буфета пригласила почти ласково:
«— Милости прошу. Будьте как дома».
Пока она ходила за водкой и закуской, Мэлов попросил возницу:
«— Хотелось бы денек-другой пожить в городе. Попроси землячку свою, не приютит ли?»
«— Тебя? — хмыкнул возница, потом посерьезнел: — Строга. Не признает нас, усть-лиманских, обиду держит».
Но после третьего стакана смилостивился. Поставила буфетчица еще один графинчик водки, мяса заливного с хреном, а он ей:
«— Пустила бы, Акулина Ерофеевна, поквартировать человека. Смирный, обходительный».
«— Отчего не пустить, — весело отозвалась Акулина, — если попросят».
«— Очень даже прошу, Акулина Ерофеевна, — склонив в поклоне голову, отозвался Мэлов. — На несколько деньков…»
Так и оказался он наконец у цели своей поездки. И только переступил порог, как увидел холеной полноты мальчика, опрятно одетого, чистенького, как и сама мать, и, несмотря на малолетство, очень похожего на Дмитрия Левонтьева. Тут, как говорится, без всякой ошибки: волосенки жиденькие, нос острый, с прозрачными ноздрями, вспученными, будто мальчишка едва сдерживал чих, а ноги тоже левонтьевские — непропорционально полные.
«— Звать-величать тебя как? — присаживаясь на корточки перед мальчиком и не придавая значения враждебной недоверчивости во взгляде, ласково спросил Мэлов. — Ну, смелей, дядя не укусит тебя».
«— Дима».
«— Молодец, Дмитрий! Богатырь!»
Для первого знакомства, посчитал Мэлов, вполне этого достаточно. И для мальчика, и для себя. Теперь он утвердился в своей догадке: плод греховной связи — вот он, налицо. Однако спешить с рассказом о своей миссии Мэлов не собирался. Обдумать, считал, все нужно, взвесить каждое слово, чтобы без сучка без задоринки исполнить угрозой навязанное дело. Жилы свои он очень жалел.
Вышло все же не по его расчету. Неожиданно все вышло.
Попили чаю, отправила Акулина Ерофеевна сына в боковушку, повелев спать, а сама смотрит на Мэлова оценивающе и размышляет вполголоса:
«— Тут ли, у печи, на лавке постелить либо в кровать пустить? А что? Не велик сам, дак в корню крепок. Бывают, сказывают, такие…»
Мэлова обожгла такая бесцеремонность, ему не желанны были обноски Дмитрия Левонтьева, но тогда нужно было встать и уйти. А как быть с жилами, которые грозил повытянуть Есаул? Вот и остался сидеть Мэлов, терпеливо ожидая, пока хозяйка решит, как ей поступить, а потом, когда определилась и ушла в свою комнату стелить постель, ее зова.
Вышла. Величавая. Позвала. Как тогда, в буфете:
«— Милости прошу. Разобрана кровать. Ложись».
Сама принялась убирать со стола посуду и перемывать ее, достав из печи чугун с горячей водой.
Долго она не приходила. Мэлов уже было решил, что передумала и постелила себе на лавке, смежил уже глаза, пытаясь отключиться от всего, что кучно и изобильно навалилось на него в один день, и сон уже начал подбираться к нему, но в это самое время дверная занавеска откинулась, в спальню вошла с будничным спокойствием Акулина и начала раздеваться без всякой спешки, без признаков стеснения, аккуратно вешая на вешалку либо укладывая на венский стул, что стоял у окошка, свои одежды. А когда сняла все, подошла и встала у изголовья кровати. Гордая собой. Спросила игриво:
«— Иль доводилось таких вот баб встречать?»
Мэлов, совершенно не кривя душой, мог сознаться, что не встречал. Вольно или невольно, но он не мог не любоваться ладной фигурой молодой женщины, когда она была в одеждах, теперь же он не мог оторвать от Акулины взгляда; он, еще не дотронувшись до нее, уже ощущал упругость ее тела, гладкость шелковистой кожи, гибкость талии, холодность розовых сосков, венчавших тугие груди. Он просто обязан был ответить искренне, но промолчал, не желая выдавать своего волнения.
А Акулина не унималась. Грациозно, словно прошла школу соблазна у светских модниц, провела ладонями по бедрам:
«— Гляди — какая!»
Повернулась, потушила лампу, висевшую на стене над спинкой кровати, и хозяйкой легла к Мэлову.
А когда они уже натешились, когда уже рассветать начало, спросил ее, предполагая, что не первый он после Дмитрия и не последний, ради праздного любопытства:
«— Не опасаетесь, Акулина Ерофеевна, еще обрести ребеночка?»
«— Не бойся, глупенький, на алименты не подам, — по-своему поняв вопрос, но не осерчав, а благодушно улыбнувшись, ответила она. — Повитух у нас — как собак нерезаных».
И тут осенило его повернуть разговор в нужное ему русло. Спросил с ухмылкой:
«— Чего же тогда от Дмитрия Левонтьева не убереглись?»
Приподнялась Акулина с подушки и впилась насупленным взглядом в Мэлова. Ответила с вызовом:
«— Любимый был, оттого и понесла! Мужниной женой обещался сделать! Обманывал, вышло. Кобелился. И все одно — люб. Ласковый, обходительный. А чубчик какой пригожий».
Непредсказуем ход логического мышления у женщин. Мэлов рассчитывал, что Акулина забросает его вопросами: где Дмитрий? жив ли? откуда ему, Мэлову, ведомо сокровенное? Даст таким образом нить для продолжения задуманного им разговора, а она вон как отреагировала!
«Неужто вовсе не спросит?..»
Откинулась на подушку Акулина, вздохнула горестно и выдавила с надрывом:
«— Брошенка! Любой пальцем ткнет! — Вновь вздохнула и наконец явно через силу задала с нетерпением ожидаемый Мэловым вопрос: — Живой, выходит, кобель бесстыжий?»
«— Жив. Только далеко. С Семеновым ушел тогда. Просит о тебе позаботиться. О сыне тоже. Выучить его просит, на дорогу вывести».
«— Ишь ты, чего удумал! Пока пеленала дитя да кусок хлеба черствого слезами размачивала, никому дела не было, а теперь вспомнил, кобель, отобрать кормильца собрался! Выкусит пусть! Обо мне позаботиться просит? Когда стрелочницей мантулила, заботился бы. Мне теперь его забота без нужды. И сына в школу не хуже других снаряжу, и в люди, бог даст здоровья, выведу. — И изменила тон. Гордость зазвучала. Гордость за дерзкую мечту: — На машиниста выучу. Ничего не пожалею».
«— Видите ли, Акулина Ерофеевна, ваш предел устремлений — паровоз. И это, вы считаете, достойно дворянина? Ребенок двух крепких корней и — машинист? Его будущее должно быть иным — прекрасным, значительным!»
«— Вон как машинисты, погляжу я, живут — как сыр в масле…»
«— Но они — простолюдины! Я же, с моими возможностями, выведу вашего Диму в интеллигенцию. Не заштатную, поверьте мне. Достойную дворянина».
Нет, в то утро Мэлову не удалось услышать так нужное ему слово «да». Убеждал он ее еще одно утро, еще и еще, но отпуск не бесконечен, и он вынужден был сказать ей:
«— Завтра я уезжаю, так и не убедив вас. Теряете вы свое счастье…»
«— Давно я согласная. Только чистенький ты, пригожий, терёзвый, вот и держала возле себя. Обрыдла пьянь грубая, ой обрыдла!..»
Крик оскорбленной души, крик опошленного тела, которое природа лепила лелеючи для возвышенной любви. Сжалось сердце Мэлова. Сжалось и от жалости к великолепной женщине, и от радости, что просьба Дмитрия Левонтьева будет выполнена, оттого и не уловил Мэлов, что сулит ему это исповедание. Думал вдохновенно: «Поставлю казаков-наглецов на свое место! Теперь они не пикнут против!»
Так все и вышло. Дмитрия Пришлого устроил Мэлов в лучший интернат города, как сына сожженного кулаками тракториста. Чтобы не возникли сомнения, разыскал газету и показал ее воспитателям. Психологический трюк сработал: никто не спросил про мать, про то, где и как жил до этого мальчик, — всех возмутила жестокость кулаков-мироедов. Мэлова заверили:
«— Мы заменим ему родителей!»
«— Уверен в этом, — покровительственно принял заверение Мэлов. — Я в свою очередь тоже не оставлю его без внимания. По долгу гражданина! Я штурмовал Зимний ради счастья всех обездоленных, и идеал этот я пронесу через всю жизнь!»
У кого из воспитателей не дрогнет сердце после таких слов?
С той поры и началось все ладиться у Мэлова. Есаул с Елтышом стали послушней кутят. Она даже согласились навести людей на председателя сельсовета в Усть-Лиманке и сдержали слово. Мальчик рос, в каждый свой отпуск Акулина приезжала к Мэлову, и тогда он отпускал кухарку и брал на несколько дней Диму из интерната, не говоря, конечно, о том, что приехала его мать. Воспитатели вообще не знали, жива ли мать у Димы, ибо, наученный Мэловым, он твердил, что не помнит ее вовсе. В такие дни в доме у Мэлова собиралось что-то вроде семьи, и жилось ему весело.
Душевный покой обрел Мэлов еще и потому, что разрешали ему все чаще и чаще начинать следственные дела и, что особенно удовлетворяло и радовало, финалы всех начинаемых дел оканчивались всегда без осечки, как и задумывались. У Мэлова даже лелеялась мысль, что переведут его в Москву. Но время шло, намеки были, а предписание не приходило. Это обижало его, но не очень расстраивало: жить хорошо можно и вдали от столицы. Спокойней даже, с меньшим риском. Тем более что ходоки от Левонтьева стали совсем редкими.
Даже когда приехал Оккер, Мэлов не особенно опечалился. Только поаккуратней повел дела.
Внес некоторую заботу приезд Богусловского, так как нужно было избегать с ним встреч. Но и это не составило особого труда: в отряд к Богусловскому он не ездил, а если съезжались начальники отрядов в округ на совещание, он выписывал себе командировку. Но, не встречаясь с Богусловским, он искал повода, чтобы вновь возвести на него какую-либо напраслину.
И совсем окрылился Мэлов, когда устроил Дмитрия Пришлого в Москве, на рабфаке медицинского института, передав его на попечение своих шефов.
А тут известие: Левонтьев предполагает послать ходоков в Усть-Лиманку за Акулиной Ерофеевной (она помирилась с отцом и жила у него), ибо надоело ему холостяцкое мимолетное счастье. Известил Мэлова об этом все тот же нестареющий добрячок-толстячок. Просто так известил, без какой-либо просьбы о содействии этому предприятию. Догадывался, видимо, о их близости.
Несерьезно вроде бы относился Мэлов к редким встречам с Акулиной, а надо же — кольнуло сердце. И решил вызвать ее к себе и здесь передать ходокам закордонным.
«Пусть уж после меня Левонтьев берет!..»
Теперь-то он понимал, что зря это сделал, поддался чувству, не поразмыслив как следует. Узнавши, что Есаул с Елтышом убиты и за ней, естественно, не придут, заупрямилась Акулина, ни в какую не желает возвращаться домой. Стоит на своем: буду ждать сватов от Дмитрия Левонтьева, пришлет других, раз решился взять в жены. Не выгонишь, стало быть.
А до нее ли, коль непонятно, чем закончится дело Богусловского? Чувствует, что не так идет, как хотелось бы, не всё под контролем. Задумывалось прекрасно — сразу двух зайцев убить: Богусловского прихлопнуть, но, главное, подмять Оккера, держать его в страхе. Теперь, однако же, самому приходится опасаться. И не просто интуиция подсказывает. Беспокоят факты. Отчего не дает письменного показания Оккер? Некогда? Да, обстановка весьма сложная. Но только ли в этом причина? Отчего появилась комиссия? Проверка боеготовности? Но ожидали ее много позже.
Смущало и то, что комиссию возглавляет Трибчевский. Нет, они не виделись прежде, но Мэлов был наслышан об этом офицере — умен, талантлив, с прекрасной карьерой. И хотя карьеру сулили ему до революции, не обошла она его и теперь. Наоборот, как на опаре поднялся. Начальники такого ранга приезжают обычно в конце проверок, чтобы выслушать доклады и подвести итоги. А тут вместе со всеми приехал. Случайно ли?
Вполне возможно, напрасно Мэлов нагоняет на себя страху. Как и тогда, в первый приход посланцев Левонтьева. Может быть. Но как ни убеждай себя, глаза у страха всегда велики.
Вообще-то Мэлова кондрашка бы хватила, узнай он о том разговоре, который вели Трибчевский и Оккер.
— Нет, Юрий Викторович, я совершенно отметаю обвинение. Богусловский — один из лучших моих начальников отряда. Я собирался брать его к себе начальником штаба.
— Не могу не верить вам, Владимир Васильевич. К тому же Богусловские — потомственные пограничники. Семеон Иннокентьевич, не смотри что в отставке, на каждый зов откликается. Петр, младший из них, геройски погиб. Иннокентий сложил голову… А что жена Михаила Семеоновича — Левонтьева, тоже благородно. Бросили ее и отец, и братья.
— Ставить нужно вопрос о прекращении следствия и о наказании Мэлова. Подозрительно прыток.
— Нет. Егозить нам нет резона. Пусть все идет своим порядком. Следствию не мешать. Пусть отстраняют от должности. Представление к ордену Красного Знамени отправить сегодня же. Прохождение его я возьму под свой контроль. Одно непременнейшее условие: информация о ходе игры с Бем Ченом полностью должна быть Мэлову перекрыта. Несете личную ответственность.
— Трудно будет.
— Не те слова. Я принимаю только один ответ: «Будет исполнено».
Долго еще говорили наделенные большой властью и обремененные не меньшей ответственностью командиры о делах в округе, о частых пограничных конфликтах и истоках, их порождающих, о новых фактах (здесь разговор шел особо заинтересованно и подробно) в игре с Ко Бем Ченом. И когда все, что намеревался Трибчевский расспросить у Оккера, он расспросил, только тогда наконец сказал то, что должен был сказать давно:
— Что ж, пойдемте к Мэлову?
— Возможно, его пригласить? Не промахнуться бы?
— Ничего, сходим сами. Ничем мы не грешим. Он нам не подчинен. Пусть думает, что считаемся с ним. Если же у него возникнут сомнения — это даже лучше. Пусть терзается. Только одно прошу: никаких фактов ему в руки. Никаких! А начнет к ним путь торить, мы его и схватим за руку. И еще прошу — отбросьте мысль о встрече Богусловского с Мэловым. Что она даст? Узнаем, допустим, что Мэлов — это Ткач. А что изменится? Арестовать не арестуешь, фактов нет, а дело испортишь. Важно ведь не столько ему руки укоротить, важнее узнать, кому он прислуживает…
Итог первой беседы с Мэловым оказался именно таким, какой и предполагал Трибчевский: Мэлов был выведен из равновесия совершенно. Нет, не оттого, что командиры столь высокого ранга не стали приглашать его, а пожаловали к нему в кабинет сами. Это даже возвысило его в своих глазах. Обеспокоило и заставило лихорадочно анализировать все свои дела, выискивая возможную оплошность, другое — стремление Трибчевского скрыть безразличие к докладу о ходе следствия по делу начальника отряда Богусловского. Вроде бы и вопросы задавал Трибчевский, и слушал внимательно, и даже упрекнул Оккера за то, что тот все еще не дал письменного объяснения следователю, вроде бы и логично шел разговор, но осталось у Мэлова такое ощущение, что все Трибчевскому известно и, более того, воспринимается им как суета никчемная, как мыльный пузырь, который, сколь бы великим ни раздули его, непременно лопнет. И когда, поблагодарив за информацию, командиры ушли, Мэлов почувствовал себя глупым котенком, под нос которого вместо мыши подсунули бумажный бантик на ниточке: забавляйся, выпускай коготки, а мы потешимся.
Домой Мэлов шел как клуша, окунутая в воду: нахохленный, сердитый, ненавидящий всех, распаляющий свою ненависть, особенно к Богусловским — Михаилу и Анне. Единожды мелькнувшую разумную мысль, не спустить ли на тормозах дело Богусловского, пока не поздно, он гневно отбросил как что-то гадкое. Перед его глазами вставали сцены, одна омерзительней другой.
Вот он в гостиной Левонтьевых, огромной и пустой. Ждет Анну. Унизительно долго. Затем — отказ. Как удар хлыстом:
«— Я вовсе не люблю вас. Вы мне даже неприятны».
Еще один визит. Столь же никчемный. Новый безжалостный ответ:
«— Я люблю Петю. Верность ему сохраню вечно…»
«Вечно! А Михаил позвал — пошла! В берлогах живет! Нет, не будет вам счастья! И сыну вашему тоже! «Сын предателя» — веригу эту не сбросить ему всю жизнь!»
Вот всплыл в возбужденной памяти насмешливый разговор накануне штурма Зимнего. И ненависть к Богусловскому еще более нагнеталась. Даже благородная доброта Богусловского расценивалась Мэловым сейчас по иному реестру:
«Отпустил с презрением. Не побоялся. В грош не поставил!.. Ничего, сочтемся!»
Нет, он не мог перестать преследовать Богусловского, это было сверх его силы. Тем более что, как ему казалось, в следственном деле нет уязвимости. Немалый вес имела и поддержка «подмосковного дачника», давшего «добро» на начало следствия.
«Завтра подготовлю представление об отстранении от должности и о невыезде с территории отряда…»
Шаг Мэлова стал бодрее, хмурость сошла с лица. Увы, совсем на немного. Лишь только Акулина открыла ему дверь, он понял: сейчас произойдет что-то необычное. Она, как всегда, помогла ему раздеться, подала шлепанцы. Упрекнула, что ужин перестоял. И это тоже говаривалось прежде. Но сегодня Акулина добавила:
— Не успел, бедненький, к сроку докопать ямку…
— Акулина, о чем ты?
— Эка, о чем! — лукаво глядя на Мэлова, хмыкнула Акулина. — Ладно, пошли ужинать.
Какой там ужин! Вопросы лезут в голову один за другим. Какой финт надумала крутануть?! Сына потребовать обратно? Для отца ли блага какие? Или предать? Тогда путь ей один — в Амур!
Ужин окончен. Тарелки убраны. На столе — самовар, уютно попыхивающий паром. Подала чай, едрено, до деготной черноты, заваренный, варенье облепиховое пододвинула, подождала, пока он сахар размешает и отхлебнет с наслаждением глоточек, тогда и заговорила ультимативно:
— Так я постановила. Ждать сватов от Дмитрия не стану. Бери меня в жены ты. Не больно люб ты мне, но как ласкала, так всегда буду…
— Акулина Ерофеевна, мои планы иные. Я не намерен…
— Намерен, не намерен — пустое это. Ты про Мурку песню слыхал? Как она малину ихнюю раскрыла? Твоя-то погуще будет. С меня-то какой спрос? Ну убьешь, дак собачья жизнь мила ли?
Вот так. Совсем неожиданная задачка. Решай ее, товарищ Мэлов. Ответа всего два. Либо сегодня же ночью, когда заснет она, утомленная, подушку — на голову, либо через несколько дней — свадьба. А потом полная от жены зависимость: угождать не станешь — донесет тут же. Какой из этих ответов верный? Решай, товарищ Мэлов.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Анна не отступалась, и, как ни отнекивался Михаил, сдался все же, сделав последнюю попытку хотя бы оттянуть время:
— Может, завтра? Грибы по росе лучше собирать, а теперь уже подсушило.
Нет, он был не против похода за грибами, ему просто сегодня нездоровилось, он провалялся в постели дольше обычного, хотя сна, как всегда, не было, вот и капризничал. Анна же стояла на своем:
— Завтра, бог даст, еще пойдем. У нас сушеных совсем мало.
— Владик со школы придет, а нас нет…
— Успеем вернуться. К обеду у меня все приготовлено — не волнуйся.
— Хорошо, коль ты так настаиваешь.
Не с большим желанием пошел он в кладовую за грибными корзинами. Начались сборы, и отступила на какое-то время утомительная безжизненность безмолвных комнат.
Михаил знал, что грибов насолено много, хватит на всю зиму; что и сушеных девать уже некуда, но, попререкавшись для порядка, шел все же в лес, чтобы убить несколько часов бессмысленного времени. Он делал вид, что не замечает маленького обмана жены, понимая и принимая его благородную цель.
«А грибы кончатся, ягоды пройдут — тогда что придумает?..»
Михаил Богусловский был благодарен Анне за ее вдруг проявившуюся непоседливость и домовитую хозяйственность. Она с удивительным упорством уводила Михаила в лес то по ягоды, а затем вместе они перебирали их, варили варенье и сиропы, то за грибами, которые потом тоже обрабатывали вдвоем. Так проходил день до обеда, до прихода из школы Владика, после чего квартира оживала, ибо ни родители, ни сын не хотели показывать друг другу своей встревоженности и грусти. Для Владика это было более естественно, ибо детская душа не может долго быть в одном состоянии, и, возвращаясь из школы, обиженный иногда до слез насмешками бывших своих товарищей или подчеркнутой холодностью учителей, он вначале насильничал над собой, стараясь не причинить боли отцу и матери, а вскоре и в самом деле забывался, искренне и беспечно шутил и смеялся. Михаила даже тревожило такое беспечное состояние сына (не эгоист ли бессердечный растет?), но это не мешало ему отходить душой в эти послеобеденные часы.
Но вот уроки все сделаны, раскручена пружина граммофона, выключен приемник, и — впереди долгая, заполненная мыслями ночь. Нет, Михаил Богусловский не изменил своему решению бороться со злом, воплотить, однако, это решение пока не мог, находясь уже третий месяц не только в полной изоляции, но и в полном неведении. Бывшие подчиненные его, все как один, вежливо козыряли ему, а если останавливались, то на самое малое время, чтобы лишь спросить о здоровье, и тут же, сославшись на необходимость спешить, торопливо покидали его. Даже начальник штаба, кто прежде с искренним, казалось, почтением относился к Богусловскому, всего один раз за все время побывал у Богусловских дома. И то от чая отказался.
Не приехала и Лариса Карловна с Викой, как обещал Владимир Васильевич, не приходило от Оккеров никакой весточки, словно забыли те вовсе о своих друзьях, отмахнулись от них.
Самое же неприятное было в том, что ему не предъявили официально никакого обвинения, следователь, побывавший в отряде дважды, с ним не беседовал, оттого Михаил считал невозможным писать рапорт в Москву, Да и что, в самом деле, он напишет? Его отстранили, чтобы разобраться, вот и разбираются. Страшного в этом вроде бы ничего нет. Паникером, опасался, могут назвать: пожара нет — для чего же начинать колокольный всполох?
Она-то, эта вот беспомощность, эта невозможность действовать, особенно угнетала. Выходило, судьба его, честь его полностью зависели от какого-то неведомого, нависшего над ним черным вороном Мэлова, да еще от того, пришлет ли Ко Бем Чен посланцев, не заподозрит ли, что его раскусили.
Приход посланцев, как считал Богусловский, полностью отметет обвинение, но время шло — Ко Бем Чен не давал о себе знать, и Михаил иногда даже думал, что и в самом деле среди уничтоженных им нарушителей мог быть посланец хитрого разведчика. А если это так — ничто не спасет его, Богусловского.
«Нет. Не может быть! — убеждал себя, слово за словом вспоминая предсмертную исповедь казака-нарушителя. — Не может быть!»
Утром вставал он совершенно уставшим от монотонного скольжения одних и тех же мыслей, и все вновь повторялось: Анна, с припудренными синими кругами под глазами (тоже не от крепкого сна), начинает поторапливать с завтраком, чтобы затем идти в лес. Она не отступала от этого правила ни на один день.
«А пройдут грибы — тогда что?»
Не предполагал Богусловский, что Анна тоже думала об этом. Только не праздно, как он. Она нашла занятие, она даже позаботилась об этом занятии: три удочки и перемет были уже приготовлены для них и до времени лежали на вещевом складе. Она уже наметила день, когда позовет мужчин на рыбалку. Но откуда было Михаилу, занятому лишь своими мыслями, все это знать? Он, оказавшись в безделье, страшился, что лишится даже этого, бесцельного по его оценке, занятия.
Когда они вышли к своим любимым бугристым полянам с редкими пушистыми сосенками, Анна распорядилась:
— Только, Миша, белые берем. Подосиновики синеют при сушке.
Еще одна уловка, чтобы продлить время сбора.
Но, знай они, какую телеграмму в тот самый момент принимают на узле связи, побросали бы свои корзинки и припустились домой. Анна, однако же, стремилась лишь к одному — вернуться домой ко времени прихода из школы Владлена, оттого специально привередничала, осматривала каждый найденный Михаилом гриб с пристрастием, находя самые никчемные изъяны. Особенно доставалось крупным грибам.
— Что с него, Миша, проку? Стар вовсе. Вот ножка какая грубая и волокнистая.
Михаил Богусловский, соглашавшийся несколько раз выбросить в траву свои удачные, по его понятиям, находки, начал затем, серчая, препираться, но Анна тут же предприняла контрмеры, сказала с мягкой улыбкой:
— Не перечь, Миша, я не каприза ради. Отдельно для подливов хочу насушить, а рассчитала я так: сегодня и завтра пособираем, и — хватит. Послезавтра, в выходной, идем все вместе на рыбалку…
— Куда?
— На рыбалку. Удочки нам уже припасли. Перемет связали. Я у Аксакова прочла о рыбной ловле, и так захотелось самой ощутить радость! Тебе тоже должно понравиться с удочкой…
Ну как тут серчать станешь? Придирчивей самой Анны стал отбирать грибы Михаил, и к урочному часу они даже не успели заполнить обе корзины, чего, собственно, и добивалась Анна: грибов у них уже предостаточно припасено, а день, считай, прошел. И Миша просветлел лицом, покойно идет, не хмурится, не гнетут его трудные мысли…
И вдруг екнуло ее чуткое сердце: издали увидела она на крыльце их дома начальника штаба. Стоит, явно их поджидая.
— Миша, к тебе, похоже.
Вмиг насупился Михаил. Понял: необходимость привела гостя, нужда какая-то. Но шагу не прибавил.
Чем ближе, однако, подходил к дому, тем отчетливей ему становилось видно, что начальник штаба пришел с доброй вестью. Но было той воровато-испуганной позы и тех частых оглядов (не осудит ли кто встречу? не расценит ли по-своему?), к которым Богусловский начал уже привыкать. Сегодня гость стоял на крыльце спокойно и смело и не был, похоже, угнетаем предстоящим разговором. Это предвещало добрые новости, и Богусловский весь был теперь устремлен вперед, к ожидавшей его приятности, но продолжал идти с вялой неторопливостью. Анну, которая заспешила, одернул:
— Не нужно. Успеем.
Начальник штаба, спустившись с крыльца, пошел навстречу. Тоже размеренно. Вскинул руку к козырьку и официально доложил:
— Получена телеграмма: «Начальнику отряда Богусловскому прибыть в Москву для получения ордена». С выездом велено поспешить. Разрешите идти?
И все. Строго и точно.
— Спасибо. Идите.
Как противен оказался бы Богусловскому начальник штаба, начни он изъявлять радость, поздравлять с наградой, вымучивая искренность. Официальностью же своей обрел он снисходительное понимание. Нет, прежнее уважение вряд ли когда вернется (трусам можно сочувствовать, их можно понимать, но уважать их все же нельзя), по неприязненность отступит, оставив место равнодушному отношению.
Проводив взглядом начальника штаба, Богусловский повернулся к Анне, и будто ошпарили его сердце кипятком: Анна беззвучно рыдала и так же беззвучно что-то говорила, шевеля посиневшими губами.
— Анна! Анна!
Она прижалась к нему, содрогаясь в рыдании, и запричитала:
— Слава богу, Миша! Слава богу!
Ничего не ответил ей Михаил, ибо понимал, что лишь лучик блеснул. Когда б ему сообщили о прекращении следствия и восстановлении в должности, тогда можно было бы кого угодно благодарить. А пока? Пока он повел Анну, как ослабевшую больную, в дом, не мешая ее радости и думая о том, как тяжело придется ей одной, особенно до обеда, пока Владик в школе. Он был вполне уверен, что прежние приятельницы ее не вдруг решатся захаживать запросто в их дом, повременят, приглядятся.
Предложил решительно:
— Поедем вместе. Втроем. Отца порадуем.
— Владик учится, — ответила Анна, пересиливая неутихающие рыдания. — Пропустит много.
— Наверстает. Не на год же уедем…
— Не от мира сего ты у меня, Миша, — успокаиваясь и даже вяло улыбаясь, молвила Анна. — Где деньги у нас — подумал? Спасибо начальник тыла заботился. И Оккеры не оставили. Мне сказывали, будто из партийной суммы нам выделяли деньги оплачивать продукты, а я думаю, Владимир Васильевич с Ларисой так свое благотворительство укрывали, боясь обидеть. А поездка, Миша, немалых денег стоит. Поезжай один. Мы будем ждать. А Семеону Иннокентьевичу я грибов да варенья упакую.
Это неожиданное признание Анны устыдило Михаила (он действительно о бытовых проблемах вовсе не думал), но и переполнило великою благодарностью судьбе за посланное ему непеременчивое счастье.
«Милая! Смогу ли я быть достойным доброты и чуткости твоей?!»
В комнату ворвался Владлен, расплескивая радость. Бросил портфель на диван и повис отцу на шею.
— Ура! Пусть теперь кто заикнется! Пусть попробуют!
Если не звонкая пощечина, то урок назидательный налицо. Перемалывая в себе обиду свою, оскорбленную честь свою, не подумал он даже, что и сыну, может быть, совсем нелегко живется, что его тоже могут избегать и наверняка избегают. Он, беспокоясь, не растет ли сын эгоистом, сам оказался эгоистом.
— Извини, сын, за горе, тебе причиненное.
— Папа, ты же в том не виновен!
— Я не о том, Владик. О себе я больше думал — не о вас с мамой. Понимаешь?
Не мог понять отрок отца. Он же не знал ночных его мыслей, однообразно-пустопорожних. Все, что делает отец, сыну представлялось значительным и совершенно правильным. Он любил отца, он верил ему и поступки свои оценивал отцовскими мерками. И вдруг отец винится… Непостижимо.
Тот вечер — их называют редкостными и берегут в памяти многие годы даже в самых дружных семьях — стал вечером еще большего узнавания самих себя, стал вечером душевного очищения. Оттого и уезжал Михаил Богусловский на следующий день со спокойным сердцем.
Долгий путь с надоевшим донельзя колесным перестуком и скрипом расшатанного вагона, на какие-то часы скрашенный чудесными байкальскими видами и копченым омулем на редких здесь остановках, ветхой величавостью Урала, где на каждой станции местные умельцы, столь же кряжистые и бородатые, как и сами горы, достойно торговали изящной работы шкатулками, бусами, брошами и заколками, с бойкими привокзальными рынками с великим множеством жареных до янтарной привлекательности кур и вареной картошки. Михаил Богусловский, ограниченный в деньгах, не мог жить полнокровной жизнью обычных пассажиров курьерского, которые без меры покупали и омуля, и кур, и картошку, нужные и совсем никчемные поделки из малахита. Он вынужден был сдерживать себя, но прохаживаться по бойким перронным базарчикам прохаживался, как и весь вагонный люд, отдыхая от вагонного однообразия.
Всегда и всему, однако же, приходит конец. Лихо пересчитавший стыки рельс и стрелки, курьерский сбавил прыть в пригороде столицы и принялся плутать в рельсовой паутине, с трудом, казалось, определяя нужную колею, а то пронзительно гудел, будто просил поводыря.
Припыхтел наконец к перрону с не очень густо снующими встречающими, и Михаил сразу же увидел своего отца. Стоял тот, как всегда, спокойно, уверенный, что точно рассчитал место остановки нужного вагона. Он был верен себе: не мельтешить, ничем не показывать беспокойства, все загодя предусмотреть, но на фоне других, суетившихся, семенивших вслед за вагонами или навстречу им, сталкивающихся, недовольно поругивающихся, выглядел он беспечным, неведомо для какой цели здесь оказавшимся.
К такой выдержке и такому спокойному расчету во всем, в самых мелких мелочах, Михаил еще не приучил себя в полной мере, хотя отцовскую манеру жизни считал для себя примерной. Вот и сейчас любовался отцом, к которому медленно приближались двери вагона.
Обнялись и расцеловались, как и положено; затем Богусловский-старший, положив руки на плечи своему сыну, отстранил его и, не скрывая гордости, заговорил:
— Смотри ты, каков был, таков и есть, а выходит — тот, да не тот. Сам начальник войск машину за ним посылает! Молодчина, блюдешь честь фамилии.
— Не совсем, отец. Не все ладно. Юзом у меня получается.
— Уведомлен. Юрий Викторович Трибчевский сказывал. Только, мыслю, позади печаль-беда…
— Так ли уж позади? Жить под дамокловым мечом ой как неловко. Порасскажу дома.
В машине они помалкивали. Вести праздную беседу им не хотелось и не моглось, договаривать же недоговоренное на перроне они не считали удобным при незнакомом вовсе шофере. Михаил делал вид, что весь поглощен разглядыванием улиц, на самом же деле все, что он видел, словно проскальзывало мимо его сознания: он боролся с собой, пытаясь осилить острую жалость к отцу, пытаясь обрести хотя бы внешнюю беспечность, но никак не мог пересилить себя. Помогая отцу, по-стариковски неловко садившемуся в машину, он ощутил студенистую дряблость некогда полного и тренированного тела. А когда они сели и шофер нажал на акселератор, Михаил глянул на отца, собираясь что-то спросить, увидел тощие, морщинистые складки, пустопорожними мешочками свисавшие по обе стороны подбородка, — комок подкатил к горлу, и Михаил поспешил отвернуться, чтобы отец не заметил его состояния и не расстроился. Он старался успокоить себя, но вопреки этому желанию все более и более расстраивался, казня и себя за то, что отец так стремительно сдал…
Часто ли он писал отцу? Если бы не Анна, больше одного письма в год не уходило бы. Не распахнул душу отцу ни при первом следствии, ни при втором, и отец, пользуясь лишь слухами да скупой информацией командования погранвойск, которое и само-то знало о деле лишь в общих чертах, мучился в догадках, искал пути, чтобы помочь сыну, но не находил возможности вмешаться в ход следствия, что наверняка угнетало его несказанно. Михаил сейчас понимал, сколько тревожных дум передумал отец, как исстрадался, и оттого еще более жалел отца и ругал себя:
«Эгоист! Бездушный, черствый эгоист!..»
Легковушка подрулила к новому многоэтажному дому добротной кирпичной кладки; лифтерша, румяная сонливая толстуха, услужливо нажала кнопку нужного этажа, и вот уже Богусловский-старший, отомкнув дверь, впустил сына в просторную прихожую. Молвил успокоенно:
— Дома, слава богу.
— Ты извини, отец, за все горести, тебе причиненные. Зачерствел я сердцем. Чувствовал свою только обиду, ее только и нес в душе. Анну, святую женщину, сына и тебя, родителя своего, не принял в сопереживатели. Казню себя теперь…
— Понимание вины — путь к исцелению. Позволь, однако же, усомниться в полноте анализа действий твоих и мыслей твоих. Сужу по твоему ответу на перроне.
— Не улавливаю точек соприкосновения?
— Отчего же? Отделить себя от близких обидами своими — никудышнее дело, однако же родные понять и простить в состоянии, а общество? Если эгоизм вселюдской, если для всех — камень за пазухой, тогда уж, извини, тогда и ты обуза для других.
— Круто. Но верно ли? Меня произвольно мытарят, а я — благодарствую нижайше? Не вторую ли щеку подставлять?!
— Не следует. Но понять суть, отделить зло от добра — тут только твой разум и твое сердце тебе подсказчики. Сам, признайся, частенько произносил: идет суровая классовая борьба? А как самого она коснулась, тут все слова верные из головы выветрились. Кто-то с кем-то борется, а нам, видите ли, произвол чинят…
Старик, что называется, пылил. Откуда-то брались у него резкие слова, столь непривычные Михаилу, ибо отец всегда был мягок, даже когда на чем-то настаивал. Поначалу Богусловский-младший не перечил отцу, чтобы не подливать масла в огонь и дать старику успокоиться, а уж потом, весомо, как он предполагал, высказать все наболевшее, думанное-передуманное в бессонные часы. Но чем больше отец говорил, тем отчетливей виделась Михаилу накипность собственных мыслей, собственных оценок. Слишком, однако, прочно обосновались они в сознании, чтобы вот так, сразу, уступить свое место. И хотя выталкивать их из памяти совершенно и безвозвратно придется ему многие годы, уже теперь он не мог перечить отцу, усилиями которого совершалась первая малая подвижка.
Продолжалась та подвижка и на следующий день. Нет, отец больше не наседал, не повторял сказанного, он просто предложил прогуляться:
— Пойдем, сынок, по тем местам, где заса́дил ты с чекистами. Поглядишь на мир, ради которого ратничал, ради которого Иннокентий и Петя головы сложили. Поглядишь, не напрасно ли?
Обидно Михаилу слушать такое: «Уж совсем в нехристи записал», — но не поперечил отцу. Кивнул согласно:
— Хорошо. Можно, с Кулишек начнем?
Они шли к Зарядью деловым, неспешным, но ходким шагом, как когда-то ходили в Высшую пограничную школу. Только чувства их сегодня были иными. Тогда довольство и даже радость за нужность стране переполняли их, теперь же, хотя они не теряли веры в свою нужность людям, но относились к ней без прежней приподнятости. Да как же могло быть иначе, если один из них — уже пенсионер, а второй — без должности, хотя и представлен к награде? Кроме того, среди озабоченно спешивших по каким-то делам людей они испытывали даже неловкость за праздность и старались придать лицам тоже деловую сосредоточенность.
Михаил узнавал и не узнавал улицы и переулки, по которым они шли к Зарядью: те же дома, иные даже более обшарпанные и более неухоженные, чем прежде, и все же выглядели они иначе, не отпугивающе пасмурно, а благодушно, довольные тем, что надежно стоят на своих фундаментах. Михаил не пытался понять причину такого изменения, да, видимо, бесполезным было бы подобное занятие, ибо причина перемены была в нем самом, в его восприятии окружающего. Тогда он ходил на встречу с врагом, мог видеть его в каждом прохожем, мог ждать рокового выстрела из любого окна; теперь же виделись Михаилу лишь светлая нарядность москвичей, ажурность тюлевых и яркость сатиновых занавесок, теперь он не оберегал от разнослойной контры Москву, а просто прогуливался по ней.
Миновав крикливое многолюдье торговых рядов, вышли к Кулишкам, и неуютно стало на душе Михаила Богусловского: хотя церкви, с которыми он шел повидаться, почти все стояли с многопудовой основательностью, с едва заметной обветшалостью, но выглядели они убогими сиротами, оттого что на обшарпанных дверях висели массивные амбарные замки, окна заколочены почерневшим от времени горбылем, крестоносные маковки отсечены, а колокольни скелетно зияли пустотой. И все те воспоминания о засадных часах на колокольне Всех Святых, о разговоре с чекистом, безоглядно уверенным в исторической правильности всего того, что делалось в те трудные годы, о церковниках, злобствующих не только в проповедях на Советскую власть, — все те воспоминания, которые еще при подходе к Кулишкам начинали наплывать все властнее, мгновенно исчезли.
«Для чего все это? Для чего? Кому от этого польза?..»
Не первый раз он видел брошенные храмы, с черными глазницами выбитых окон, с ветвистой лебедой, а иногда даже с сосенками и березками на просевших крышах, и недоумевал, отчего с таким легким сердцем люди губят великолепие, рожденное гигантским трудом и великим творчеством предков своих, но то были мысли вообще. Сейчас же перед ним стояла запущенная церковь, которая, как он считал, должна была сохраняться для истории: отсюда готовился удар по Кремлю, здесь, защищая люд московский, защищая сердце новой власти, погиб смелый и честный человек, здесь едва не погиб и он, Богусловский. И сегодня двери этой церкви следовало бы держать широко раскрытыми не для преклонения плосколицым святым, совершенно незнаемым простым русским обывателем и совершенно безразличным ему, а для поклона тем, кто победил кощунство церковнослужителей, проповедовавших с амвонов: «Не убий!» и устраивавших на колокольнях пулеметные гнезда; проповедовавших смиренную заботу о братьях во Христе и укрывавших сотни пудов муки в тайных подвалах, маскируя входы гробом господним, в то время как даже смиренные прихожане пухли и умирали от голода. Церковь эта, думал Богусловский, должна была бы стать символом русской ратной удали (возведена в честь победы на поле Куликовом), символом мужества первых чекистов обновленной России и одновременно символом лютого коварства священнослужителей.
Не думал в тот миг Михаил Богусловский, что многие заброшенные и порушенные храмы имели не меньшее право быть подобными агитаторами, что у иных церквей и монастырей еще более интересная и трагичная судьба…
— О чем, сын, взгрустнул?
— Засаду вспомнил. Вот на этой колокольне. Едва жив остался…
Постояли еще немного молча, затем направились на Красную площадь и только, миновав храм Василия Блаженного, опустошенный внутри, с хмурыми провалами окон, вышли на Лобное место, как из Спасских ворот вышагала смена на пост к Мавзолею, чеканя удивительно ритмичный шаг. Михаил замер в изумлении, любуясь выправкой постовых и разводящего, слаженностью их действий. Не могло не дрогнуть сердце солдата при виде такого отточенного мастерства, и Михаил привороженно смотрел на смену часовых, не видя вовсе, что отец его, достав платочек, промокнул глаза.
Толпа скрыла от них ритуал передачи поста, но они не спешили уходить, поджидая, пока станут возвращаться сменившиеся.
Как изменчиво настроение человека! Только что Михаил грустил — теперь же грусть отступила совершенно незаметно, будто ее и не было вовсе, теперь Михаил с гордостью думал о том, что во всем, что происходит на центральной площади страны, есть и его прямая причастность. Узнай бы об этом люди, представлялось Михаилу, поклонились бы ему поясно. Не ему лично, а его поколению.
Вернулись они домой затемно, многое посмотрев и о многом поговорив. На следующий день, тоже вольный, Богусловский-младший намеревался встретиться со «своими» гляциологами, поэтому, несмотря на непривычную усталость и позднее время, позвонил профессору. Увы, его в городе не оказалось. Не было дома и Лектровского. На всякий случай, не надеясь уже на удачу, позвонил Комарнину, и почти сразу же телефон ответил:
— Я слушаю.
Уверенный басок. Совершенно, как показалось Богусловскому, незнакомый. Решил уточнить:
— Квартира Комарнина? Да? Мне бы хотелось поговорить с Константином Павловичем…
— Я слушаю.
Михаил Богусловский представился, и как подменили Комарнина: в голосе — радость, слова сыплются, обгоняя друг друга. Куда делась его прежняя молчаливая импозантность! За несколько минут Михаил узнал, что и он, Комарнин, и Максим Максимович Лектровский — кандидаты наук, почти доктора (сомнений нет, что защита докторских тоже пройдет успешно), что Андрей Лаврентьевич, их предтеча, уже не профессор, но академик и что все трое будут несказанно рады встрече с боевым, как он выразился, пограничником.
— Утром я заеду за вами и отвезу на дачу Андрея Лаврентьевича. И Лектровских дача соседствует. Их я сегодня оповещу, — закончил отчет-скороговорку Комарнин. — В девять ноль-ноль я — у вас.
Специально для него, пограничника, эти «ноль-ноль», чтобы подчеркнуть, что по сей день не забыта армейская дисциплина, хотя и подчинялся Комарнин ей совсем малый срок.
Легковушка и в самом деле подкатила к подъезду точно — ни минутой раньше, ни минутой позже. Комарнин порывисто обнял Богусловского, словно закадычного друга, по которому несказанно соскучился.
Дорогой они вспоминали экспедицию, Комарнин интересовался судьбой Сакена, судьбой Васина и других пограничников, Михаил рассказывал все, что знал, а машина бежала и бежала по шоссе с редкими трехтонками и полуторками и вот уже свернула на узкую, стрелой рассекавшую густой лес дорожку. И хотя шофер сбросил скорость, деревья набегали стремительно и, хлеща ветками низкое еще солнце, проносились мелькающим частоколом за стеклами. Михаил смотрел завороженно на все это, потеряв совершенно интерес к тому, что говорил Комарнин, и тот, поняв состояние гостя, замолчал.
Стали попадаться отвилки вправо и влево, еще более узкие, на одну машину, и каждый из них оканчивался зеленой лужайкой перед двухэтажным домом, либо строгим, либо изящным, а то и крикливо-пестрым, даже с разнаряженными петухами на маковке.
— Дачи наши, — пояснил Комарнин. — Прекрасные условия для научной работы.
Переехали по дамбе большой пруд и свернули к большому двухэтажному дому строгой кирпичной кладки, но облагороженному колоннадой и верандой, по фигурным переплетениям рам которой змеились хмель и вьюны.
— Дача Андрея Лаврентьевича. А вот и сам хозяин.
В самом деле, на террасу вышел старик в белой кепке, в бежевой чесучовой толстовке и в бежевых же мягких брюках. Приглядевшись к подъезжавшей машине, проворно заспешил вниз, на полянку, и, как только шофер, притормозив, остановился, старик-академик обнажил свою бритую, поблескивающую мягким загаром голову и поклонился. Столько торжественного благородства, столько искренней уважительности было в том поклоне, что Михаил Богусловский даже растерялся.
— Не по чину честь…
— Для нас, батенька мой, вы — святы. Чем дальше отдаляемся от экспедиции, тем более осознаем, сколь опасной была она для нас. Покинули бы мы бренный мир, не прояви вы расчетливого мужества.
Не вдруг нашелся Михаил, что ответить, да никто и не ждал от него ответа. Тем более — возражений. Убежденность ученых в его спасительной миссии была гранитно-твердой.
Академик повел Михаила Богусловского в дом, и начались воспоминания, уже проговоренные в машине, но теперь только более основательные.
— Вы знаете, Михаил Семеонович, когда признал я вашу правоту? Когда от Хан-Тегри по ущелью поехали. Более того, вывод мой был категоричней вашего: не только преждевременно мы экспедировались, но и наспех. Да-да, не возражайте. Только теперь, уверен, подошло время. Я настаиваю, чтобы ученики мои отправились по тому же маршруту до защиты докторских следующей весной. Они колебались, но в итоге — согласились. Под силу теперь пустить в хозяйственный оборот колоссальные водные ресурсы ледников. Свидетельства тому — Большой Ферганский канал, Северный Ферганский канал. Грандиозные народные стройки. Я уже вижу новое гигантское ирригационное сооружение — Большой Алма-атинский канал…
— Да, теперь мирно в горах и степи, — согласился Богусловский. — Время ратных батыров уступает место батырам труда.
— Именно так. Точно подмечено. Сегодня на повестке дня — труд. Вдохновенный свободный труд! И мы сегодня не вправе сидеть в кабинетах. Наше место там, в гуще созидающего народа. Сейчас мы приступили к отработке маршрута, и ваш приезд весьма и весьма кстати: советы ваши могут стать решающими.
«Вот она, главная причина бурной радости Комарнина…» — кольнула догадка Михаила Богусловского, но это не помешало ему ответить с готовностью:
— Я, верно, теперь служу не там, однако сочту за честь…
Влетел в комнату Лектровский. Радостный. Бросил на свободное кресло, как совершенно лишнюю вещь, как обузу, свернутый трубкой лист бумаги и порывисто обнял Михаила…
Почти слово в слово и так же пафосно повторил Лектровский сказанное на лужайке академиком, так же, как и он, поклонился Богусловскому поясно и добавил:
— Помните всегда: мы ваши и вечные должники, и вечные надежнейшие друзья. Радость разделим, беду отведем скопно! Сегодня вы просто обязаны сказать, кто распростер над вами черное воронье крыло, и мы обсудим план противодействия.
— Не знаю, — ответил Михаил. — Совершенно не знаю.
— Плохо.
— Чего ж хорошего! Только, вероятней всего, основа — не личность, а классовая борьба, — повторил Михаил слова отца. — Она — не фраза, она — реальность.
— Но волю класса выполняют реальные люди, — не унимался Лектровский. — Реальные! С ними и следует скрещивать клинки. Я готов встать плечом к плечу с вами, и мы победим, как победили смерть в тяншанском ущелье!
— Благодарю. Если возникнет нужда, я непременно обращусь…
— Вот и ладно, — молвил, как бы ставя подпись под договором двух сторон, академик. — Вот и отменно. А теперь прошу к столу.
После чая из пузатого самовара Лектровский принес схему предстоящей экспедиции, которую он прежде так небрежно бросил на свободное кресло, аккуратно развернул ее, и все склонились над ней, вначале молча изучая ее, а уж затем принялись обмениваться мнениями. И решающим всякий раз становился совет Богусловского.
Они говорили о сроках, они мечтали о реальном воплощении в жизнь их ученого труда, и никто из них не проявил трезвости, не сказал смело, что и на сей раз экспедиция несвоевременна и, стало быть, бесцельна. Да, они больно переживали за Испанию, они каждый день читали и слышали о фашизме, они знали, что Европа содрогается под гусеницами гитлеровских танков, они понимали и агрессивную суть фашизма, и главную направленность его агрессивности, но, понимая все это, каждый из них продолжал жить так, как привык жить, делал то, что привык делать, планировал свое будущее без всякого учета фашистской угрозы.
Да разве только вот эти ученые и увлекшийся их идеей пограничник считали, что время ратных богатырей миновало, уступив место богатырям труда? Обыватель, он всегда остается самим собой. Если вечером под впечатлением прочитанного об очередной наглости фашистских молодчиков он растревожит свою душу нерадостными картинами будущего да так запечалится, что не вдруг уснет, то утром вновь поспешит к своему рабочему месту, в свой кабинет, в свою лабораторию или мастерскую решать привычные производственные и житейские дела, вовсе не соизмеряя их с тревожностью обстановки.
Богусловский просто не мог по роду своей службы жить обывательски, он только увлекся и забылся на какое-то время, о чем станет вспоминать со стыдом уже на следующий день.
Утром за ним и за отцом заехала машина начальника войск и повезла их в Кремль, В тот самый Кремль, спасая который он едва не поплатился жизнью. Прежде Богусловский никогда не бывал в Кремле, все ему было внове, все покоряло фундаментальностью, поразительной гармонией и изящным величием — такое чудо мысли и рук могла создать лишь великая страна, ее великий народ.
— Гордись, сын мой, честью, тебе оказанной! — хотя и негромко, но с взволнованной торжественностью проговорил отец. — Но и цени!
Нет, Михаил в те минуты не мог ни гордиться, ни оценить важности момента. Он, как и все, ждал начала церемонии, представляя себе ее ход мысленно, как первоклашка перед вызовом к доске, повторял слова, которые надлежало ему сказать после получения ордена: «Служу делу рабочего класса!» Он почти не воспринимал реальности происходящего, не воспринял и слова отца, хотя тот повторил:
— Какой почет! Гордись, что возвеличил имя наше — Богусловских!
Зал взорвался аплодисментами, когда отворилась боковая дверь и к хрупкому столику, на котором аккуратными стопками высились коробочки с орденами и медалями, а к каждой стопке прижимались орденские книжки и удостоверения, подошел тот, кому предстояло вручать награды собравшимся. Он мягко улыбнулся от сознания приятности и важности своей миссии, и эта добрая улыбка высокого правительственного человека будто подстегивала собравшихся на торжество, и они хлопали в ладоши с заразительным восторгом. Но едва лишь, подняв руку, высокий правительственный человек, посерьезнев лицом, сказал первые слова: «Сегодня набатно звучит страшное слово — война!» — сразу же напряженно и тихо стало в зале, только что восторженно сиявшие лицами краскомы посуровели.
— Фашизм топчет Европу. Империалисты всех мастей пытаются прощупать прочность наших границ, крепость нашей Красной Армии. Они получают достойный отпор. Мужество красноармейцев и краскомов беспредельно…
Зал было зааплодировал, но, подчиняясь поднятой руке, сразу же затих.
— Но даже среди военных людей еще много благодушествующих. Сегодня, когда важно порох держать сухим, беспечности не место, ибо фашизм не только бряцает оружием, но и пускает его в ход. Безжалостно пускает и коварно. Отмобилизованные дивизии гитлеровцев уже близко от наших границ…
Михаил жадно впитывал слова оратора, который с суровой будничностью говорил о грозовых раскатах войны, неумолимо надвигающихся на нашу страну и с запада, и с востока, но вместе с тем он, словно со стороны, оценивал свое поведение, не словесное, а конкретное, действенное, в последние годы. Нет, он не благодушествовал, он бдителен был сам и воспитывал бдительность у подчиненных; бороться, однако, со злом (хотя он и сделал для себя верный вывод, что зло то имеет конкретную цель — выбить из седла самых опытных, самых умных краскомов) не бросился с азартом верящего в свою правоту. Он по сей день не знает, кто дважды пытался посадить его в тюрьму. Сейчас он вполне был согласен с Лектровским, считая его слова «Волю класса выполняют реальные люди. Реальные! С ними и следует скрещивать клинки» совершенно точными.
Слова точные. А дела? Ученые собираются в экспедицию, совершенно не думая о полной ее ненужности и на этот раз…
«Я тоже хорош! — корил себя Михаил. — «Время батыров труда»! «Время не меча, а мира»! Когда наступит оно, такое время?!»
Угрызение совести он в тот день испытал еще раз в кабинете начальника войск, сразу же после награждения. Будто подглядел тот мысли Богусловского, будто знал, что было сказано в Кремле.
— Мы говорим о бдительности много и убедительно, но в то же время миримся с попытками дискредитации честных командиров, с подрывом тем самым нашей боеготовности. Только недооценкой сложности момента можно это квалифицировать. Инерция, привычки, устоявшиеся понятия — все следует ломать решительно каждому советскому человеку, а пограничнику — особенно…
Михаил понимал, что начальник войск говорит все это не только для него одного, а и для всех начальников отделов и служб, кто собрался в кабинете поздравить его, орденоносца, но, понимая это, воспринимал все же слова начальника как упрек в свой адрес и оттого сидел потупленно. Он даже не вдруг осознал, что начальник войск подошел, продолжая говорить, к нему. Встрепенулся и, встав резко, принял стойку «смирно», лишь когда в упор прозвучал ему адресованный вопрос:
— Разве можно вешать нос в такой торжественный день? Обида гложет, что не приостановили следствие?
— Нет. Теперь уже — нет. Отец урок преподал. Прежде подобные мысли угнетали.
— Благодарю. Честность — самое, пожалуй, благородное качество человека вообще, пограничника же в особенности. — Сделал малую паузу и спросил: — Как вы, Михаил Семеонович, смотрите на просьбу Владимира Васильевича Оккера назначить вас к нему начальником штаба?
— Совершенно отрицательно, — без раздумья ответил Богусловский. — Я хотел бы вернуться в свой отряд.
— Но сможете ли вы по-прежнему непредвзято относиться к подчиненным? Иные ведь недостойно вели себя…
— Они раскрыли сущность свою, прежде тщательно скрываемую. Естественно, учитывать это я просто обязан. Но мстить… Нет, до такого не опущусь.
— Что ж, тогда, как говорится, в добрый путь.
До него еще оставалось несколько дней, не очень колготных и все же не совсем свободных. Ему предстояли встречи на заводах и в школах, нужно было ему побывать в отделах и службах управления. Мало ли забот у начальника отряда, приехавшего из периферии в центр? И все же выкроил Михаил полный день и поехал вместе с отцом на дачу к академику, тем более что там их ждали.
Программу дня объявил Лектровский:
— Рыбалка, затем уха, приготовленная Андреем Лаврентьевичем. Все необходимое уже доставлено к месту лова. В путь, друзья мои!
Четверть часа шли они по сдавленному лесом проселку, с мягкой травой и маслятами на обочинах; но вот деревья расступились, пропуская путников на вольный заливной луг с травой по пояс, не тронутой в урочное время крестьянской косой, оттого жесткой, отягощенной, как женщина на сносях, созревающими семенами. Луг этот пересекала ровной стежкой тропинка, затем она, прошмыгнув между могуче разбросавшими вольные ветви двумя вербами, разветвлялась и шла вдоль густого ивняка, выкидывая в проплешины отвилки.
— Вот она, неспешная, как древняя Русь, но обильная рыбой и раками! — с пафосом произнес Лектровский. — Сегодня она выделит и нам малую толику…
Она уже «выделила». Когда отвилок тропы вывел их на уютную прибрежную поляну, кружевно охваченную кустарником, Михаил увидел приготовленные бамбуковые удочки с крепкими, из конского хвоста лесками, рядом с которыми в жестяных банках дожидались своего часа навозные черви, а в стеклянных — пареная пшеница. У маленькой дощатой пристаньки вяло пошевеливалась подталкиваемая сонными водоворотами темного омута плоскодонка со свежей рыбьей чешуей на поелах и привязанным к уключине садком, в котором нервничали, пытаясь освободиться из плена, крупные рыбины.
— Зачем же неводом? — проворчал академик, адресуя невесть кому свое недовольство. — И удочками наловим. — Потом распорядился, повеселевши: — Садок воспримем как НЗ. Святотатство готовить уху из рыбы, не выуженной своими руками.
Разобрав удочки и наживку, разошлись по берегу, выбирая, каждый по своему разумению, самые поклевистые места, но вскоре на разных концах омута образовались пары: академик с Богусловским-старшим, Комарнин с Михаилом, лишь Лектровский челночил между ними, не задерживаясь надолго ни у одной пары. Подойдет, весело нарушив мерное течение беседы, забросит лихо удочку между бездвижными поплавками и подтрунивает:
— Для сна вполне достаточно ночи. Погляжу на вас — самому спать хочется.
Дрогнет поплавок у Лектровского едва приметно, затем медленно, будто кто-то осторожно подсовывает под него спину, поднимется из воды и ляжет на бок — Лектровский уже не шутит, не улыбается снисходительно, он сжат пружинно, взгляд его прикован к поплавку. Вот тот вяло, будто спросонок, перевалится с боку на бок, поскользит по воде поначалу плавно, но уже через миг стремительно взбурлит воду. Хлестко дернет Лектровский удилище, потом мягко подведет серебристо мечущегося на крючке подлещика к берегу.
— На хлеб ловите! На хлеб! Заснете с червями да пшеницей, — торжествующе провозгласит Лектровский, насадит притихшего, смирившегося со своей судьбой подлещика на кукан и весело пошагает к другой паре.
Михаил, однако же, не менял наживки. Он выбрал именно распарившееся пшеничное зерно, старательно, как можно глубже, надел его на крючок и был уверен, что голавль непременно соблазнится на любимое лакомство, когда наступит время его клева. Он терпеливо ждал того времени. Комарнин тоже не слушал своего товарища — продолжал ловить на червей и хотя не часто, но таскал окуней и ершиков, приговаривая всякий раз: «Один ершок, и тот — в горшок. Навар отменный в ухе», — прерывая тем самым на малое время исповедь двух вдруг почувствовавших душевное родство молодых людей.
Нацепив рыбку на кукан, продолжал:
— Экспедиция давешняя для меня — школа. Тут ни добавить, ни убавить. Но самых запомнившихся уроков — два…
Поплавок резко нырнул под воду, леска струнно натянулась, и Комарнин выхватил из воды крупного окуня-горбуна. Сказал, довольный:
— Вроде начинается настоящий клев.
Забросил удочку, сменив червя, и продолжил:
— Там, в расщелке, где казалось все безысходным, сказал ты мне, как равному, все без утайки. Поверил мне, взял меня в союзники. Оголенной откровенностью взял. По сей день помню те слова: «Перспектива остаться здесь навечно и меня не устраивает. Да и никто к этому не стремится. Но выход для нас один: победа. А она может свершиться только нашими руками. Всех нас. Всех. И самое важное: нужно верить, что доживешь до победы. Верить и бороться за эту веру», — и не только помню, но и руководствуюсь ими. Четкая цель, вера в торжество ее и максимум усилий, а если необходимо, то и борьба за победу. Главная при этом надежда на себя, но и на единомышленников, которые становятся ими лишь тогда, когда знают не только конечную цель, но и преграды на пути к той цели — знают, таким образом, все, без утайки. И еще, что я перенял, взял, если хочешь, в жизненное кредо, так это принципиальность, твою безбоязненность говорить свое мнение. Хлопотно это, беспокойно — только правда всегда в конце концов побеждает. Вот ты говорил о никчемности той нашей экспедиции, много перетерпел оттого, но, как показало время, ты был прав. Урок для многих…
— Увы, — грустно прервал Комарнина Михаил, — даже для себя не извлек я ничего.
— Как это? Не улавливаю мысли.
— С какой верой в нужность предприятия обсуждали мы планы новой экспедиции, но она тоже несвоевременна и, следовательно, бесцельна. В Кремле я это понял. Понял и — устыдился своей близорукости. Война идет. Меч навис над миром. Только я не предполагал вести об этом разговор. К слову вырвалось. Верней будет, если сами сможете переосмыслить ситуацию.
— Да, задачка. Есть простор раздумьям…
Поплавок Михаила колыхнулся чуточку и тут же побежал, как мальчишка-шалун, вприпрыжку к берегу. Моментально забыто все, о чем только что говорилось, что казалось таким значительным.
Комарнин преобразился:
— Подсекай! Подсекай!
Взметнул Михаил удилище, оно согнулось и задрожало от упругой тяжести. До звона натянулась леска.
— Подводи. Подводи к берегу. Я — подсадчиком! — Это уже Лектровский со своей помощью, чтобы не оказаться в стороне.
Хотя и многолюдно для одной рыбы, но не сорвалась она с крючка, оказалась в запущенных под жабры пальцах Лектровского. Крутобокий, крупный голавль замирал на мгновение, собираясь с силой или раздумывая, как ловчее выскользнуть из жестких пальцев, потом туго изгибался, стремясь рвануться вверх, но без пользы для себя, тогда вновь обвисал, чтобы вдруг неожиданно взбунтоваться. Михаил смотрел на пойманного красавца и будто чувствовал упругую силу крупного рыбьего тела, и оттого невольная обида копилась на Лектровского, завладевшего чужой добычей.
«Сейчас отдаст, — успокаивал себя Богусловский. — Сейчас…»
Увы, Лектровский, забыв о своей удочке, потрусил к старикам с голавлем в руках, бросив уже на ходу:
— Порадую Андрея Лаврентьевича!
— Вот так всегда, — осуждающе сказал Комарнин. — Всегда кстати появляется. Ловок.
Промолчал Михаил. Да и что ответить? Вроде бы дружны. Со стороны кажется — водой не разольешь. А гляди ты — не все ладно. Но не ему, Богусловскому, судить да рядить их трудности. Он гость. Гость на рыбалке.
Посоветовал Комарнину:
— Переходи, Константин, на пшеницу. Похоже, клев начался.
Пока Комарнин менял наживку, Богусловский подсек еще одного голавля. Такого же крупного. С ним тоже посуетились изрядно, прежде чем оказался он на кукане. Когда же Комарнин и Богусловский одновременно не зевнули поклевок и каждый вынужден был управляться сам, то поняли они, что ловчее одному справляться с пойманной рыбой, и дело пошло споро.
Но не сбили еще вдоволь они охотку, еще азарт не притупился, как услышали требовательное:
— Довольно! Сматывай удочки! Пора разводить костер.
Уху готовить Андрей Лаврентьевич не дозволил никому. Поддерживать огонь в костре — пожалуйста. Остальное все — сам. Единственного снисхождения удостоился Лектровский, которому было разрешено почистить и помыть картофель и лук.
— В том героической памяти распадке я уяснил себе аксиому: человек просто обязан уметь все, что от него может потребоваться в любой жизненной ситуации. Теперь я даже шорницкое дело познал, сапоги тачаю. Готовлю же частенько сам, отпуская вовсе кухарку… И что ни говорите, во всем этом есть своя прелесть, — изливал душу Андрей Лаврентьевич Богусловским, — есть даже стимулирующее начало мыслительной работе, ибо сам процесс приготовления пищи — процесс творческий. Вот, к примеру, уха. Сколько рецептов?..
— Не счесть, — бойко ввернул Лектровский. — Никак не счесть.
— Ибо не счесть числа готовящих уху, — вдохновенно подхватил академик и начал, проворно разделывая рыбу, рассказывать самые, на его взгляд, популярные рецепты, но которые, тоже на его взгляд, не приемлемы в голом виде, без необходимой корректировки. Лектровский, не первый раз, видимо, слышавший подобные откровения своего учителя, подливал в нужный момент масла в огонь. Комарнин лукаво ухмылялся после каждой реплики Лектровского, но в разговор не вмешивался, как не вмешивались и Богусловские, с интересом узнавая для себя много нового из рассказа академика.
Отцедил Андрей Лаврентьевич окушков с ершиками, бросил в таган картошку, лук и различных специй без меры и командует костровым — Константину с Михаилом:
— Жарче! Жарче огонь!
Посуше да потоньше, чтобы спорей огонь был, подбрасывают костровые сучья под таган, добиваясь, чтобы ключом забурлила юшка, и лишь когда белопенная шапка поднялась в тагане, источая аппетитный аромат петрушки, укропа, моркови, лука и перца, — только тогда в эту клокочущую бурность академик начал опускать крупные рыбьи куски, покрикивая:
— Огня! Огня жарче!
А когда, как определил академик, уха поспела, он, хотя все теснились подле костра, постучал поварешкой по миске и прокричал, точно копируя свой призыв во время боя в расщелке:
— Обее-е-дать! Обее-е-дать!
Столь же комично и точно прозвучало это приглашение, но никто даже не улыбнулся: годы не стерли в памяти смертельную опасность тех дней.
Пауза от неловкой шутки затянулась. Первым нашелся Лектровский, открывший отдушину для дискуссии, соответствующей возникшему настроению:
— И что людям не живется в мире и покое? Все норовят друг другу диктовать нормы нравственности и права, применяя в качестве убедительнейшего аргумента оружие. И все это ради одной цели — ради собственного благополучия. Но можно же бескровно, в здоровом соревновании…
— Утопия, — снисходительно, хмыкнув, возразил Комарнин. — Даже у нас с тобой, а дружба наша кровью скреплена, и то самые различные понятия о здоровом начале соревнования…
Лектровский никак не отреагировал на реплику друга, видимо привычную. Он продолжал свою мысль:
— С басмачеством покончили. Китайцы КВЖД прибрать намерились — утихомирили их, так теперь — японцы. И каждый со своей правдой, со своими притязаниями. А чтобы весомей звучало, водят перед носом стволами винтовочными и пулеметными, угрожая агрессией. И пойдут. Навалятся скопно, как в гражданскую, пока мы не окрепли до мужей могутных…
— Не осмелятся япошки, — проверяя тщательно чистоту мисок, возразил академик. — Наглость их от малосильности и связанности. Квантунская армия ихняя по Приморью и Дальнему Востоку гуляла прежде оттого, что союзников много имела. Ну а теперь? Ей свои бока не помяли бы. С американцами лада нет? Нет. Кулак занес над квантунцами и Китай. Он не мог не оценить добрых дел наших по налаживанию равноправных отношений, а не навязанных царизмом в результате кабальных договоров. Дипломаты они были никудышными, а у русских — какой опыт?!
— С вашего позволения, Андрей Лаврентьевич, я по-солдатски прямо, — прервал академика Богусловский-старший. — Без обиняков, так сказать. Вы, смею утверждать, считаете гляциологию наукой, дилетанту непосильной. Согласны? Вот и отменно. Хотите, однако же, либо не хотите, но дипломатия, особенно дипломатия порубежной черты, — ой какая наука! Здесь дилетант не только не полезен, но и весьма вреден. С легкостью неимоверной разрушит он то, что возводилось веками. Помню, в году девятнадцатом в «Известиях» стали появляться статьи… Треску в них много, а вреда, дальнего, не видного вот так вдруг, еще больше. Фамилию того щелкопера по сей день помню, сколь сильно возмутил он меня. Виленский. А в скобочках следом — Сибиряков. Похоже, вы, Андрей Лаврентьевич, ему вторите, его трескотню верхоглядскую за истину приняли и усвоили. Только не так все. Китайцы дипломаты и хитрые, и коварные были всегда, во все века. К тому же и дальновидные. Никто не кабалил Китая. Худо ему, прижмут немцы, англичане либо французы — он к России ластится. Поспокойней ему — тут же спину покажет. Без стыда без совести. Так вот и теперь. Только не верю, что Маньчжоу-го возникло без ведома и поощрения китайских правителей. Ширма это. А за ширмой — сделка. Жаль, не все это понимают. Аукнется с годами близорукость наша. Ох как аукнется!..
Михаил слушал отца и диву давался: отец будто подслушал его мысли, не единожды возмущавшие его, бросавшие без огляда в горячий спор.
«Что ответит академик? Похоже, ему нечем крыть…»
Но в диалог вновь втиснулся Лектровский и ловко, как умелый табунщик уводит от грозящей опасности и успокаивает перепуганно пластающих лошадей, повернул разговор в иное русло:
— Именно так. Я бы еще добавил: сознательная близорукость. И что особенно возмутительно, так это — выбивание из седла честного защитника. Вроде бы один человек страдает — краском Богусловский, но если вдуматься — крепкий клин в монолит патриотического духа… Я повторяю: мы не вправе почивать на лаврах, не уяснив, кто распростер черное крыло над нашим другом Михаилом Семеоновичем, кто подгрызает корни могучего народного единства. Помогите нам, дорогой Михаил Семеонович. Вы просто обязаны это сделать!
— Уверяю еще раз: неведом мне злой демон.
— Раскуйте память, фантазируйте, предполагайте на первый взгляд невероятное, и вы приблизитесь к цели.
— Одна догадка не выходит у меня из головы. Вернусь — непременно встречусь с одним человеком. Посмотрю на него… Мэлов его фамилия.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Человек, говорят, предполагает, а что в мире ведется, того не миновать. И так повернула жизнь свое колесо, что никак не выходило ни в скором, ни в далеком будущем встречи Михаила Богусловского с Владимиром Мэловым. Но откуда было Михаилу знать, что почти сразу же, как в округ пришло известие о его, Михаила Богусловского, награждении, Мэлов был срочно вызван в Москву и тут же, спешно сдав дела, уехал из Хабаровска. И вот теперь, в тот самый момент, когда академик принялся разливать уху, на этой же самой речке, только ниже по течению, километрах в пяти, на такой же уютной полянке, под запашистую тройную монастырскую уху решалась фактически его, Михаила Богусловского, судьба. Оттуда начинался ее роковой финал, пока еще невидимо-далекий.
Впрочем, этого не могли предположить даже сами участники пикника — Мэлов, его жена Акулина и устроитель того пикника Трофим Юрьевич. Тот самый Трофим Юрьевич, который несколько лет назад принимал Мэлова на подмосковной даче, где разговор был и трудным, и обнадеживающим.
Мэлов, когда его вызвали в Москву, предполагал, что подобный разговор вновь состоится, и, возможно, на той же даче; он понимал, что его не погладят по головке, но все же учтут старания и не отмахнутся совершенно, предложат в конце концов новое место. Он был даже рад предполагаемому переводу, ибо избавит он его от многих неприятностей. Вышло, однако же, не совсем так, как мыслилось Мэлову. Нескладно все сложилось.
Встретили его с женой вежливо у подножки вагона. Подхватили чемоданы и — к машине.
— Номер в гостинице заказан и оплачен, — учтиво сообщили ему, а затем столь же мягко повелели: — Визиты полностью должны быть исключены. Полностью. Кому нужно — о вашем приезде знают. Когда потребуется, вам поступят нужные распоряжения. Пока отдыхайте.
Номер оказался великолепным: просторный холл, обставленный под гостиную, кабинет и роскошная спальня. Акулина все никак не могла налюбоваться дородными кроватями, игриво поблескивавшими розовыми атласными покрывалами и накидушками; но долго она не могла оставаться среди этой невиданной ею прежде красоты, она возвращалась в холл и принималась разглядывать хрусталь и фарфор в буфете, поглаживая его зеркальной полировки бока, потом вновь спешила в спальню, восхищалась ее убранством, поглаживала холодный атлас и даже щупала мягкость матрасов. Более всего, однако ж, ее удивила и обрадовала ванная комната, она даже взвизгнула от восторга от стен, блестевших мраморной чистотой, от сверкавших никелем кранов — она позвала мужа и, расспросив, для каких надобностей какой кран, тут же принялась разоблачаться. Потом попросила его:
— Посторожи. А то, не дай бог, ошпарюсь. И спину потрешь.
Весело и беспечно прошел их первый московский вечер. И день следующий тоже провели они в блаженстве. Лишь к вечеру шевельнулось беспокойство в душе у Владимира Мэлова, но он сразу же отмахнулся.
«Подыскивают место. Не так скоро это…»
На ужин вновь спустились в ресторан, пили, слушали певицу, танцевали. В номер вернулись возбужденно-счастливые, особенно Акулина, до безумия радостная, что и ей жизнь позволила прикоснуться к возвышенной культуре, к миру, прежде недоступному, заманчиво влекущему и желаемому. Когда не ты подаешь закуску на столик, а тебе ее несут с уважением и учтивостью.
Проснулись они поздно. Акулина тут же пошлепала босыми ногами в ванную, а Владимир еще какое-то время беспечно нежился в постели, вовсе не думая об истинном своем положении, о возможном последствии вызова в Москву, совершенно непредсказуемом, но, наверное, не радостном…
После завтрака, пока Акулина отсчитывала деньги, сколько взять с собой, он, уютно устроившись в кресле, раскрыл газету.
— Ты, Володечка, потом почитаешь, а сейчас пойдем. Пораньше — лучше. Не к шапочному же разбору заявляться в магазины — разберут все.
— В Москве никогда не разберут. Это же — столица, — ответил он, не отрываясь от газеты. — Все, что есть сегодня, будет и завтра. Побудем сегодня дома.
Он не стал ей объяснять, что сегодня, он был в этом уверен, за ним приедут либо позвонят справиться, нет ли в чем нужды. Он никогда не говорил ей ничего о своих делах, не делился своими мыслями, ибо считал ее совершенно неспособной понять все тонкости служебных взаимоотношений. Она была для него просто женщиной, к которой все более и более привыкал и даже скучал по которой, когда выезжал, бывало, на несколько дней в командировку. Ему нравилась ее непосредственность и откровенность в любви, он старался отвечать ей тем же, на этом и держался их семейный лад. Но то, что услышал в ответ, удивило его. Не так проста и наивна, как виделось ему, эта женщина из глухой заимки.
— В магазинах не убудет — это истинно. Да мы с тобой, Володечка мой, останемся ли тут? Опростоволосился ты — вот и не жалуют тебя. Не серчали бы — вчерась уже навестили. Коль не быть им, так и не будут, хоть жданки все прожди, а если нужен станешь — разыщут. Не томи себя, собирайся. Прежде, когда дело затеял, мозговать нужно было. А то и меня не отправил, и ненавистника своего выпустил из рук. Ну меня — ладно. Мил мне Дмитрий, не скрываю, только и тут с тобой, слава богу, устроилась пока что, а за прогляд в деле — не погладят тебя по головке. Поверь моему слову. Только теперь не одному тебе мозговать придется, я сбочку тоже пособлю. Только не теперь, теперь не томи себя, пошли.
Эка — «не томи себя»! Он еще не томил. А она, ишь ты, все по полочкам разложила. И все к месту. Только зря вслух свои мысли высказала. Дали безжалостные слова ее толчок сомнениям и беспокойным мыслям.
Но не упрекнул Владимир Иосифович жену, повторил спокойно:
— Нет сегодня желания никуда ехать.
— Оставайся один, — не скрывая недовольства, ответила она, поправила перед зеркалом челку и зацокала каблучками к выходу.
Ее уход не очень и огорчил Мэлова: ему все равно нужно было собраться с мыслями, подготовиться к предстоящему разговору. Странно, однако же, получалось: тишина, никто не мешает думать, а не думается, хоть ты тресни. Постепенно и беспокойство стало одолевать. И не мудрено: бежит время, а никого нет. Все большую значимость обретают ехидненькие, липкие слова жены: «…вот и не жалуют тебя…»
Негодовать можешь, ругать можешь эту деревенскую бабенку, а согласиться вынужден. Не жалуют. Не оправдал доверия.
Он так и не прочитал ни одной заметки в газете, вставал, ходил по холлу, вновь садился в кресло, заслоняясь от реальности газетой, разглядывал пятнистые полосы, но не сосредоточивался ни на одном заголовке. Потом прошел в спальню, прилег, не снимая с кровати покрывала, и устремил взор в потолок. Бездумно лежал, отрешенно. Долго лежал, до самого прихода Акулины.
Ее стук в дверь он принял за стук долгожданного «коллеги», заспешил через холл, но у порога стояла Акулина, беззаботная, раскрасневшаяся от усталости и обилия впечатлений, довольная покупками, и радость Мэлова мигом иссякла.
— Ты еще не обедал? — спросила она, проходя энергично в холл. — Молодец! Ополоснусь сейчас, а то взопрела вся, обновку покажу, — лукаво улыбнулась, — тогда спустимся в ресторан.
«Эка, «спустимся в ресторан», — передразнил он неприязненно. — Аристократка».
Угрюмо он наблюдал, как жена его, свалив свертки на кресло, принялась стягивать тугое, в талию, платье.
— Помоги же, — с капризной настойчивостью попросила она, и он неохотно повиновался.
Из ванной она вышла нагая, пышущая довольством и женским здоровьем. Венера и та преклонилась бы перед ее статностью. Но то, что еще вчера так покоряло Мэлова, развеивало его трудные мысли, отгоняло усталость, сейчас вся эта вызывающе смелая женская красота показалась ему пошлой. И не оттого что вдруг он перестал видеть прекрасное, — просто он теперь, после утренней искренности Акулины, смотрел на нее другими глазами.
С того самого момента, когда в убогой комнатке пристанционного домика спросила она, гордясь собой: «Иль доводилось таких баб встречать?» — он не переставал испытывать влекущее волнение при виде ее лелейно приготовленной природою статности и прощал ее откровенное стремление устроить жизнь за счет красоты своего тела, за счет пылкого темперамента. Когда же она женила его, Мэлова, на себе, то, как ему виделось, совершенно не интересовалась, как творится семейный достаток: был бы он ласков с ней, остальное все — трын-трава. Только, оказывается, играла она в женскую беспечность, все видела, все взвешивала, и сказанное ею утром, как теперь понимал Владимир Иосифович, лишь малая часть того, что она знает и что понимает по-своему, с деревенской точностью и категоричностью.
Хитрила, выходит? Да, именно — хитрила. Когда он приходил домой особенно утомленный или расстроенный неурядицами, Акулина с особенной гордостью демонстрировала привлекательность своего стана. Вот и теперь хитрит. Вышла нагишом вроде бы обыденно, привычно, а не протерлась полотенцем насухо, оставила пупырышки воды, понимая, что красят они упругое, шелковистое ее тело.
«Разве ж это плохо? — думалось Мэлову. — Не во зло хитрость — в добро…»
Но угрюмость не сходила с его лица. Упрямая обида на утреннюю откровенность жены не проходила.
Акулина вроде не замечала состояния мужа; она, развернув небольшой сверток, начала приспосабливать кружевной лифчик. Попросила игриво:
— Застегни.
— Зачем это добро тебе? Не носила прежде и не носи.
— Ты только посмотри, как руке приятен шелк, как глазу радостен — не наглядишься!
— Шелк, он и есть шелк…
Акулина развернула комбинацию, долго любовалась ею, поворачивая на вытянутых руках. Восхитилась:
— Думала ли отродясь, что рубашку под стать царевниной доведется иметь. Дух захватывает…
— Безделицу такую, знать бы мне твои думки прежде, я и в Хабаровске расстарался бы купить.
Стрельнула взглядом, будто ледяшками обсыпала. И тут же, вроде и не было презрительной холодности, надела комбинацию и, огладив ее, спросила, уверенная в своей неотразимости:
— Иль плоха я в ней, Володенька?
Мэлов пожал плечами. Не отошел душой, не согнал угрюмости с лица, не подействовали обычные ее нехитрые уловки на него. И не обида утренняя, которую забыл бы он, а ледянистый взгляд, хоть и мимолетно брошенный, укрепил упрямство его.
Она в свою очередь оскорбилась. Пуще своего благоверного оскорбилась. Побросала в шифоньер оставшиеся нетронутыми свертки, выбрала самое простенькое платье и, не поправив прически, потребовала, серчая:
— Пошли вниз. Голодная я совсем.
В тот вечер он впервые в жизни напился на манер ломового извозчика, которому нежданно-негаданно выпал фарт. Акулина едва довела его до номера. Еще пуще прежнего осерчала, только выговора делать пьяному не стала, а, напротив, как с дитем неразумным тютюнькалась, пока не угомонился ее благоверный.
И следующий день — весь на нервах. Вечером — ресторанная отдушина. Правда, больше не позволил он себе так распоясываться, как накануне. Сбил грусть-тоску одной да другой рюмочкой, и — довольно. Потанцевали даже они с Акулиной. Отмякли в музыке и танце мысли Мэлова, и, что днем казалось ему серьезным и сложным, теперь виделось зряшним беспокойством.
Прошел, однако же, вечер, прошла ночь, и трудная дума вновь отяжелила голову. Свернуться бы, как в детстве, калачиком и не высовывать носа из-под одеяла, не смотреть на свет белый, несправедливый и злобный.
Ко всему прочему Акулина ушла, принарядившись. Даже на завтрак его не позвала. Тут всякой мрачной фантазии простор без горизонта, без удержу. Но сколько ни лежи, а вставать нужно. Побриться, привести себя в надлежащий вид. Должны же когда-нибудь за ним прийти. Не в образе же опустившегося, потерявшего себя человека представать перед «коллегами».
Своевременно, как оказалось, он закончил утренний туалет и только собрался было пройти в буфет, надев уже туфли, как в дверь постучали.
Гости были донельзя официальны. Прошли в холл, но не присели. Чуть ли не по стойке «смирно» передали то, что им велено передать.
— Трофим Юрьевич лично собирается побеседовать. На даче. Вам, кажется, приходилось там бывать. Выезд завтра. В десять утра. Вещи заберите все. Расчет — не ваша забота.
Никаких эмоций на лицах. Постные они, вялые и непроницаемые. Поклоны головные: «Честь имеем», — как по команде, вымуштрованный четкий поворот и шаг размеренный к выходу.
После такого визита первое, о чем должен был подумать Мэлов, — плохи его дела. А он возликовал душой. Не отмахнулись! Будет работа! Сам Трофим Юрьевич!
Вспомнить бы ему тот первый разговор, пренебрежительный, высокомерный, как с провинившимся слугой, да представить себе в полной мере предстоящий, так нет, совсем иное в голове, совсем иные оценки и прошлой встречи, и предстоящей.
Да, не зря, видно, говорят: знал бы где упасть — соломки бы постелил. А Мэлов даже и мысли не держал о соломке — направился, проводив гостей, энергично в буфет и не чаю попросил, а коньяку. Радость распирала его, он хотел сейчас же, сразу, рассказать Акулине о приглашении и очень жалел, что ее не было рядом. В тихий номер он вернуться просто не мог — ему хотелось солнца, хотелось движения, ощущения полноты жизни, и он вышел на улицу.
Мэлов наслаждался толчеей, суматошной спешкой прохожих, но сам вышагивал неторопливо, благосклонно принимая толчки в бока и благодушно кивая, если толкнувший в устремленности своей успевал извиниться, — Мэлов даже втиснулся в переполненный трамвай и ехал долго, зажатый распаренными телами, слушал, как взрывались из ничего перепалки, до удивления злые и оскорбительные. Но не возмущала его несдержанность людская, ему все равно было уютно и ловко в этой смятой, нервной толпе. Потом он оказался в кафе, пил пахучий коньяк, затем снова шел, неведомо зачем и куда. В гостиницу вернулся, когда уже день клонился к вечеру. Утолил жажду подвигаться, теперь ему хотелось поскорей плюхнуться в мягкое, просторное кресло и смежить в дреме глаза, а Акулине открыть не сразу, что их ждет завтра.
Вошел в вестибюль, а там — Акулина. Сидит пригорюнившаяся. К ней поспешил:
— Отчего здесь?
— Тебя жду. Ни дежурную не предупредил, ни записки не оставил. Всякое передумала. Извелась душой.
— Срочно вызвали, — совершенно непроизвольно соврал он и тут же добавил: — Завтра утром мы приглашены в гости. Поедем на подмосковную дачу. Бывал я уже там. Рай настоящий.
— Что же это за рай такой? Гляди, не заманили бы.
В номер когда вошли, тут же опять за свое:
— Я, Володечка, останусь здесь. Ты уж сам в тот рай поезжай.
Как ей объяснить, что выбора нет, что с вещами велено ехать и что никто их уже не станет держать здесь, в гостинице. Не станут, и все тут. Хитрит Мэлов, изворачивается:
— Со мной многие сегодня беседовали, из кабинета в кабинет водили. Место дадут, только не сразу. Вот и решили, чтобы на даче мы пожили. Лес, река…
— Невидаль какая — лес! Сибирских комаров кормил-кормил, теперь российских захотелось? От красоты такой, — обвела глазом холл, — не подневольно если, кто ж поедет?
Вот так. Все на свое место поставила. Но это даже хорошо. Поедет, стало быть, не будет больше упрямиться.
И в самом деле, Акулина, пополоскавшись вволю в ванне, принялась собираться в дорогу. Неспешно и аккуратно. Спать они легли, что называется, на чемоданах. Хоть по тревоге поднимай.
Утром машина немного запоздала, и они сидели в холле бездельно и молча, терпеливо ожидая стука в дверь. А когда он наконец раздался, вскочили оба и, почувствовав неловкость от своей торопливости, улыбнулись друг другу понимающе. Мэлов приободрился и, вновь накинув маску безмятежной уверенности, открыл гостям дверь:
— Прошу.
Как и на вокзале, чемоданы к машине им помогли вынести, в машину, однако же, никто не сел, оставили их наедине с водителем, и это немного смутило Мэлова. Прежде, когда его в первый приезд везли на дачу, с ним ехал коллега, который не давал скучать, рассказывая новости столичного юридического мира. Теперь, выходит, его упорно оберегают от контакта с коллегами. Отчего? Опасаются, чтобы не выдал им какой информации? Какой? Кто ответит? Во всяком случае, не шофер. С ним много не наговоришь. Молчун. От природы ли?
А дорога вроде бы та, но вроде бы и не та. Лес так же густ, березы так же белыми штрихами веселят темную хмурость сосновой тесности, но чего-то не хватает глазу, чтобы признать прежнюю дорогу на дачу. Вот и подбирается ледяшкой лютой к сердцу тоска. Ну а чтобы совсем не скиснуть, сравнивает, втягивая в разговор и Акулину, подмосковный лес с тайгой сибирской. Только односложны ответы жены, неохотны. В ее душу тоже, видать, холод вцепился.
Выскочили из леса неожиданно, впереди — просторный заливной луг и речка, уходящая далеко-далеко, куда глаз хватает, параллелями кустов. Посветлели лицами и супруги Мэловы, будто вдохнули грудью спокойную синь неба да ласковый цвет буйного разнотравья, по которому еще не прошла с безжалостным стрекотом сенокосилка.
Недолго простор этот тешил своей вольностью, машина вновь свернула в лес, а дорога совсем скоро выбежала на небольшую поляну, яркую, солнечную, в конце которой, на самой опушке, выглядывала из-за высокого тесового забора островерхая крыша, и, хотя забор был выкрашен в зеленый цвет, чтобы вписался в зелень поляны, выглядел он, однако же, нелепицей в этой природной уютности.
Дача, конечно, была не та, на которой бывал прежде Мэлов.
Миновав поляну, легковушка остановилась у ворот, но не посигналила. Шофер вышел и постучал в калитку, удивив и озадачив тем самым и без того встревоженного Мэлова.
«Без лишнего шума?..»
Заворчала собака за забором в ответ на стук. Не залаяла, а только заворчала. Выходит, и она приучена охранять тихо.
Больше шофер не стучал, но и не вернулся на свое место, а спокойно чего-то ждал. Не редкий, стало быть, он гость, отработано взаимопонимание.
Приоткрылась калитка, вышагала из нее первой крупнющая овчарка и вперила огненные глаза в шофера, словно определяя, не сделает ли человек в кожаной куртке чего плохого и ей, и хозяину. Вильнув вяло хвостом, вернулась во двор, и только тогда появился с таким же, как и у его верного пса, недоверчиво-злым взглядом нечесаный мужчина, поздоровался с шофером, о чем-то поговорил с ним, но открывать ворота «цербер» пошел лишь после того, как внимательно прочитал переданную шофером записку.
Для чего было заезжать машине во двор — Мэлов не понял. Она остановилась на вымощенной мелким коричневым камнем площадке сразу же у ворот и дальше не могла сделать ни шагу. От площадки до дачи (красивый резной терем всего на три-четыре комнаты) тянулась меж густых роз узкая дорожка, щедро посыпанная сеяным речным песком. Шофер больше не выходил из машины, он лишь кивнул молча попрощавшимся с ним супругам, подождал, когда Мэлов с хранителем дачи вынут из багажника и салона вещи, и тут же дал задний ход.
Сразу, не теряя ни минуты, «цербер» принялся запирать ворота и калитку, а в это время гостей бесцеремонно обнюхивала овчарка. Лишь после того как ворота были надежно заперты, а Владимир Иосифович и Акулина Ерофеевна обнюханы, состоялось своеобразное знакомство. Сердито оглядывая гостей, «цербер» изрек:
— Служу я здесь. Хозяин Ивашкой зовет, для вас я — Иван Иванович. О вас мне ведомо все, и звать как и величать. Кухарить, — взгляд на Акулину, — станешь сама, убираться тоже. Нянек нету. А ты, — взгляд на Владимира Иосифовича, — в огороде и саду пособишь.
— Какие мы помощники?! — с наигранным недоумением воскликнул Мэлов. — К тому же мы не намерены здесь долго задерживаться.
— А тебя никто не спросит. Пока не дозволят, и не вздумай помыслить исчезнуть. Исчезнуть отсюда невозможно! Кол себе на голове затеши!
И как бы подчеркивая угрозу хозяина, внушительно зарычала овчарка.
Помолчали. Гости, ошеломленные резкостью тона, Иван Иванович, довольный тем, что сбил спесь с чистоплюев. Продолжил мирно, даже уважительно:
— В дом пошлите. Комната вам приготовленная. И обед ждет.
Какой там обед, если куриный бульон и тот в горле застревает! Делать, однако, нечего. Оскорбиться может Иван Иванович, решив, что брезгуют гости, осерчает еще, а это сподручно ли?
— Сегодня ничем не неволю, — расщедрился Иван Иванович к концу обеда. — Отдыхайте с дороги. А утром — каждый за свое дело. Вот так.
И ушел, оставив их убирать со стола и мыть посуду.
Перепахала ночь межи сна и дум, навалила все скопом на Мэлова, оттого встал он разбитый вовсе, а голова — словно колокол на исходе звона. Пригожесть утра, безветренного, солнечного, в перекликах птах, нисколько его не приголубила. Хотелось ему не подчиниться Ивану Ивановичу, возмутиться и оттолкнуть мотыгу, которую тот подавал с рисованным почтением, но не осмелился, взял, серчая и на себя, и на Ивана-цербера, и на всех, кто так вот хамски с ним поступает. Не он ли старался, не щадя живота своего? Сколько дел удачных провел, на одном осекся, и — опала.
Не думал Мэлов, каково было тем, кого он подводил под статью. Не их ли слезы отливаются? Да, не каждому дано трезво оценивать содеянное собой, тем более — сострадать.
— Картошку кучил? — спросил Иван Иванович. — Нет? Научу. Спасибо еще скажешь: умение, оно — не за спиной носить. Пошли.
Миновали сад с кроличьими клетками и вольно гулявшими индюками и курами. Иван Иванович открыл калитку в огород, плотно отгороженный от сада плетнем, чтобы не случилось потравы. Плетень — на манер хохлацких.
— Хоть силы у тебя — соплей перешибить, а придется тебе все тут протяпать, травку изничтожить, а картошку еще и окучить. Иди сюда, гляди, как кучить и полоть.
Много ли ума нужно, чтобы понять нехитрую науку? Привычка да сила нужны. Еще и желание. У Мэлова ни того, ни другого, ни особенно третьего днем с огнем не сыщешь. Делать, однако, нечего, коли сразу не поставил «цербера» на свое место. Хочешь не хочешь, а тяпай, гнись в три погибели за каждой травинкой, а то и на колени становись, как на молебствие. К обеду устал Мэлов изрядно, поразмыслив, однако, пока шел на зов Акулины через сад, а затем мыл руки, решил: лучше работа, чем безделье. От тоски и дум с ума можно сойти, а за прополкой да окучкой время быстрей летит. И на душе покойней — перед чарами земли все отступает.
— Притомился? — с участливой усмешкой спросил Иван Иванович и сам же ответил: — Знамо дело — с непривычки. — И добавил убежденно: — Ничего, втянешься.
Ушат холодной воды — на голову и ледяшку — в сердце. По наивности либо по расчету? Не все ли равно. Главное, не день, не два, выходит, ждать решения судьбы. Хоть и зверский аппетит натяпкал Мэлов, но снова кусок поперек горла стоит.
На Акулину, похоже было, нисколько не подействовала откровенность Ивана Ивановича. Она вроде бы не услышала рокового: «Ничего, втянешься», — хлопотала шустро у обеденного стола, приглашая, как взаправдашняя хозяйка-хлебосолка, отведать, что бог послал.
Обед закончился благодушным дозволением не идти Мэлову в огород.
— С гулькин нос окучил, да уж ладно на первый раз. Отдыхай. И ты, — взгляд на Акулину, — не суетись. К вечеру самовар поставишь, и ладно будет.
— Вот уж, не надорвалась! — подлаживаясь к тону Ивана Ивановича, возразила Акулина Ерофеевна. — По ягоды бы сейчас. Небось их здесь — хоть косой коси.
— Ишь ты, чего удумала! Так я тебя и пущу.
— Иль не в тайге я росла-жила? Так уж и заплутаюсь? — удивилась Акулина, вроде бы не понимая иной вовсе опаски Ивана Ивановича. — Лес, как я углядела, что пасынок. Не ядреный лес.
— Верно, — согласился благодушно Иван Иванович, — хоть и кустист лес, не в стать сибирскому. Не заплутаешь, но пускать не велено.
— Вместе пойдемте. Все.
— Меня увольте, — хмуро бросил Владимир Иосифович. — Да и тебе, Акулина, не советую. Не время…
— Самый раз, — вновь, будто не понимая истинного смысла сказанного, возразила Акулина. — По грибы, верно, на рассвете сподручней, а ягодам — солнце любо. Ну, а если нет желания, сиди дома, мы с Иваном Ивановичем пособираем.
Не слова уговорили Ивана Ивановича, а взгляд Акулины. Многое тот взгляд обещал.
Мэлова же он скребнул по сердцу. Но что делать — не устраивать же сцену ревности? И к кому ревновать, к сторожу? Верно, в теле мужик, крепок, по всему видно, но ведь — мужик. Грязный, неухоженный. Портки, похоже, так ни разу и не стираны, хоть и век свой доживают.
Червячок все же остался и давай подтачивать. Неспешно, не больно, но — чувствительно. И чем дальше, тем старательней и упрямей. Мэлов, чтобы отвлечься, обошел поначалу дом, подолгу и со вниманием рассматривая резьбу неведомого мастера, словно собирался все это сохранить в памяти для потомства. Не дом, а великолепная сказка. Умно здесь собраны были, воедино и ловко подогнаны и древняя архитектура, и новая, взаимообразно переметнувшаяся из каменной в деревянную. Над косящатыми окнами, и без того парадными, красовались еще и волюты, но не выглядели они инородно, ибо резаны были они еще и по завиткам той же кружевной резьбой, какая украшала и причелину, и полотенце, и шелом. А фронтонный пояс да и другие подзоры повторяли завитки волют. Объединял все это разностилье еще и опоясывающий всю крышу лоток, округлые бока которого красовались полным букетом всех рисунков резьбы. Шатровая крыша, крытая деревянной черепицей-лемехом и окруженная каскадом бочек, что само по себе уже необычно и привлекательно, имела еще и ярусы, которые оканчивались главкой, на манер церковной. Зодчий, сотворивший всю эту прелесть, ничего не маскировал, не затушевывал — смотри, как прекрасно дерево, как выразительно от природы пластикой, объемом, фактурой и цветом, а моя роль скромна: высветлить богатство природное разумом человеческим, фантазией людской.
И хотя Мэлов не мог вовсе отвлечься, избавиться от гнетущих мыслей, хотя червячок ревности грыз и грыз душу, не переставая, но уже не так упрямо и раздольно — красота рукотворная их временного с женой тревожного убежища не могла не отвлечь от горькой реальности. Но теремок невелик, и пришло время, когда даже перед самим собой неловко стало изображать знатока и любителя русского народного зодчества, пора было идти в сад.
Сад как сад. Деревья, побеленные по пояс и обкопанные кругло, ветви согбенно кряхтят под тяжестью красноликой ноши. Но Мэлов не просто окидывает взором десяток соток земли, а останавливается возле каждой яблони, рассматривает ее, пытается даже определить сорт, сравнивая не совсем еще созревшие плоды с теми, что приходилось ему брать с ваз. Знания его, однако, были не ахти какие, и он просто убивал время долгим стоянием у яблонь, предвкушая еще после осмотра сада понаблюдать за кроликами, поведение которых для него вообще было «темный лес».
Но все вдруг перемешалось, его стройный план нарушился сразу же, как только он оказался вблизи забора, вдоль которого в густом, неразборном переплетении стоял обильно отягощенный плодами малинник с втиснутыми в него кустами черной и красной смородины, тоже жаждущими сбора. Вся его убогая хитрость отвлечься улетучилась мгновенно. Застонав от невыносимой тоски, повалился он на траву и стал злобно рвать и кусать ее. Весь мир для него сейчас был сплошным злом, и Мэлов проклинал не только тех, кто мучил его, но и все человечество, вовсе не думая, что в том человечестве были люди, а иные еще и есть, кто, быть может, вот так же проклинал весь свет, не понимая, что проклинать следовало только одного человека — Мэлова. И еще его укромных покровителей и хозяев. О своих жертвах он не вспоминал — он только себя считал жертвой.
И даже вечером, когда состоится у него разговор с Акулиной и та скажет: «Бог тебя, Володечка, за грехи твои наказывает, за зряшно души загубленные», — не оглянется трезво назад, а еще больше озлится на свою жену и попутно на все людское племя.
Уловит чутьем своим женским Акулина настроение мужа и не станет больше ни словом, ни жестом перечить, а начнет ластиться, будто не пробежала меж ними черная кошка в образе Ивана Ивановича, и добьется своего: скандала не состоится, мир будет восстановлен. Эфемерный, до завтрашнего обеда, но все-таки — мир.
Убедил себя Мэлов, что ревность его беспочвенна, что ничего у Акулины не могло быть с этим нечесаным мужланом, иначе не была бы она так ласкова и пылка, и утром собрался на огород с охотою, работал прилежно, за что получил благодарность от «цербера». С веселым настроением сел за стол и опешил, когда услышал от Акулины:
— Вот помою посуду, и пойдем, Иван Иванович, как обещано, за черникой.
— Не поспела она еще на кочкарнике. Сыро там. Эт я на опосля обещал. А ежели желательно нынче, так землянику поищем. Поздновато, верно, но малость какую спромыслим.
Вот и все. Даже не глянули на Мэлова, не позвали его хотя бы для приличия.
«Ничего! — подумал озлобленно Мэлов, — погляжу я, какая земляника у вас на уме! Выведу на чистую воду!»
Он и впрямь решил последить за Иваном Ивановичем и Акулиной. Заперев за ними калитку и переждав короткое время, чтобы зашли они в лес, но недалеко углубились, взялся за засов и — тут же услышал глухое рычание. Он и не слышал, как подошла к нему овчарка и встала за спиной. Мэлов оглянулся, но не отнял руки от засова, и пес еще откровенней оскалил зубы.
— Ну, чего ты? — попытался убедить собаку Мэлов. — Не бежать же я намерился? Вернусь.
Но собака перестала скалиться и рычать лишь после того, как оставил он в покое засов калитки. Мэлову, таким образом, предписывалось одно: ждать возвращения жены, чтобы, теперь уже не поддаваясь на ее ласки, объясниться с нею решительно.
Но только он начал было после ужина уже, когда остались наедине, сердито выговаривать ей, она обрезала его:
— Не о том ты, Владимир-солнышко. Не о том. Завтра приедет сам. Твой Трофим Юрьевич. Так вот, на рыбалку с ним не соглашайся — в речке сом-людоед. Настырничать станет, когда уж некуда будет деваться, тогда я напрошусь. Ты, похоже, мимо ушей пропустил, что пора мне самой о судьбе нашей обеспокоиться. А что баба может? У нее одна сила. От меня не убудет, тебе тоже вдоволь останется. Иль не знал прежде, что тисканная я, брошенка? Не побрезговал. Чего теперь измором себя изводишь?
Нет, не воспринимал оскорбительности ее слов Мэлов, слышал их и не слышал будто — молотком в голову било: сом-людоед, сом-людоед, сом-людоед…
Не до ревности, когда вдруг с ясностью непостижимой поймешь, что нет для тебя больше жизни, о ней уже позаботились, все продумали, все предусмотрели. Оттого и тихо на даче, собака даже не гавкнет. Не первый приговоренный коротает здесь свои последние денечки, наслаждаясь красотой великого искусства. Насмешка? Нет, цинизм! Жестокость!
Вроде бы и не так длинна ночь в разгаре лета, а если она последняя в жизни, чем ее тягостную долготу измеришь? Акулина успокаивала: ничего, мол, вывернемся, утро вечера мудренее. Сам себя Мэлов пытался убедить, что обойдется все, образуется, но стоило ему представить, как тянут его за ногу в омут, — дыхание перехватывало. Уж и трусом себя обзывал, и другими непотребными словами, а все равно никак не мог отделаться от физического ощущения того, чего еще не произошло и могло вовсе не случиться.
Утром — синяки под глазами. «Цербер» участливо интересуется, едва утаивая насмешку, не захворал ли случаем, не поврачевать ли липовым цветом аль малиной сушеной либо медком? С превеликим удовольствием плюнул бы Мэлов в пучеглазую, заросшую морду, да смелостью природа не одарила. Завязал, как всегда, узелок лютый на память, чтобы расплатиться, если случай выпадет, тем и удовлетворился. Сердито, и этого, посчитал, вполне достаточно, прошел к столу и, изображая блаженное удовольствие, на самом же деле через великую силу выпил два стакана крепкого чая, отчего и в самом деле на какое-то время взбодрился. И если бы Трофим Юрьевич подоспел к этому часу, Мэлов говорил бы с ним не так робко и путанно, как вечером, когда совершенно извелся, ожидаючи, совсем оробел и пал духом.
Не думал Мэлов, что такое его состояние ему же невыгодно; оно вызовет брезгливость у Трофима Юрьевича, и примет тот окончательное решение: упрятать концы в воду.
А схема отработана. Услышал он как-то, в одной из своих заграничных поездок, о фирме, которая заключала контракты с теми, кто намерен был покинуть грешный мир, и выполняет свое обязательство с великим искусством: все поначалу делает, чтобы вернуть человеку жизнелюбие, и клиент лишается жизни лишь тогда, когда потребует разорвать контракт. Ложится спать умиротворенный, получивший обещание быть назавтра отпущенным, чтобы больше уже никогда не проснуться. Трофиму Юрьевичу показалось это классикой, достойной всяческого почитания. Его не смутил плагиат. Он только внес поправки с учетом своих целей и своих возможностей. Так появились сказка-терем, рыбалка с патриаршей ухой, купание хмельное, веселое и нежданно-негаданно — сом-людоед.
Все это определил Трофим Юрьевич проделать и с Мэловым, не зная вовсе о предательстве своего верного слуги. Правда, Трофим Юрьевич почувствовал сразу же необычную настороженность гостя, но отнес это на счет «стреляного воробья», которого «на мякине не проведешь», и потому стал действовать с большей хитростью. Нарушая свою же схему, учинил Мэлову допрос. С пристрастием:
— Почему мы не были информированы о всех ваших встречах с посланцами из-за кордона?!
— Помилуйте, без приказа я не принимал никого…
— Мне докладывали иное! Кому же прикажете верить? Ложь подсудна всегда, а в нашем деле кара за ложь предельно высока!
— Я совершенно искренен во всем. Клянусь!
Мэлов мог бы и не клясться. Трофим Юрьевич и сам знал, что гость грешен лишь в одном — в неудаче. Непредсказуемы ее последствия, опасны, оттого и следует упрятать концы в воду, но, цепляясь за слова, Трофим Юрьевич довел Мэлова до седьмого пота и только после этого стал постепенно отступать, соглашаться с доводами допрашиваемого, и настал момент, когда он, ловко имитируя искренность, признал нападки свои и подозрение свое напраслиной.
— Предлагаю, чтобы худого не осталось на душе, мировую. По рюмке доброго французского коньяку. Для полного извинения организую я завтра уху. Уверяю, Владимир Иосифович, ничего подобного вы не едали.
Эко, ловок! Теперь, не согласишься если, обиду, значит, затаил. А такое — негоже. Да и смелости у Мэлова на такое не наскребется. Еще и сомнения тут как тут со своей услужливостью: права ли Акулина? Никак Трофим Юрьевич не выглядит палачом. Прежде, при первой встрече, холоден был, даже брезглив, теперь же, хоть и сердито начал разговор, но держится как равный с равным. Нет, стало быть, в мыслях худого. Запугал «цербер» Акулину. А та — его, Мэлова.
— Не рады вы, Владимир Иосифович, гляжу я. Напрасно, напрасно.
— Да нет, Трофим Юрьевич, напротив. Рад. Одно заботит: когда на новое место службы?
— Отдых в тягость? Похвально, похвально. Не смущайтесь, однако же, определится судьба. Непременно.
Будто елей на лоб. Стиснутость душевная, страх гнетущий — все отступило. Не возликовалось, правда, но покойность обретена.
«Слава богу. Поскорей бы только…»
Когда они вышли к столу, Акулина удивилась изменению, какое случилось с мужем.
«Работу, никак, дали?..»
Но виду не подала. Со стороны казалось, что она озабочена одним-единственным — угодить мужчинам закусками, и эти ее вдохновенные хлопоты у стола вызвали довольную улыбку у Трофима Юрьевича. Когда, приехав, увидел ее первый раз, то определил проницательным взглядом своим: «Хороша чертовски, но хитрая, бестия. Осложнить может все». Теперь же подумал совсем противоположное: «Курица. Создана, чтобы топтали». И он продолжил ту же игру, что вел и с Мэловым, без всякой поправки, время от времени только льстил Акулине, с приторной слащавостью то расхваливая ее красоту: «Годков двадцать сбросить — увел бы, Владимир Иосифович, жену вашу. Уж не обессудьте, счастливчик, увел бы непременно», — то ее кулинарные способности.
«Чего тебе, чистоплюйчик, утруждать себя, соблазнять — сама окручу тебя. Дай срок, — думала Акулина, радуясь не столько его словам, сколько взгляду, который после каждой рюмки становился все маслянистей. — Ничего, много краль в Москве, сама видела, только и я своего не упущу».
Принимала она за чистую правду и похвалу приготовленному ею ужину. Всякого, должно, повидал, всякого поедал, а гляди ты — нравится. Чуть не вырвалось у нее гордое: «Не один год в буфете при станции работала», но сдержалась Акулина по деревенской своей осторожности. Она напускала на себя смущенность, будто никогда подобного ничего не слышала, и еще заботливей следила, чтобы у Трофима Юрьевича пустой тарелка не оставалась ни на миг. То, что Мэлов, видя все это, начинал нервничать, ее нисколько не беспокоило.
А мысли Трофима Юрьевича текли по своему направлению. Он определил и Акулину пригласить на уху. Пусть все произойдет на ее глазах. А потом — сочувствие горю, подчеркнутое внимание, и она покорится неизбежности. Когда же надоест, можно будет пристроить. Только, чтобы под рукой осталась. Не отпускать же богиню снова в сибирскую деревню! Он даже представлял себе, как все это произойдет и как станет он ночь за ночью наставлять ее, робкую, неумелую, вот с такими пылающими от смущения щеками, на путь вольной, раскованной любви, и не было у него ни капельки сомнения, что он заблуждается, оценивая Акулину.
Налиты очередные рюмки. Трофим Юрьевич поднялся.
— Прошу слова, — парадно произнес он, подчеркивая важность того самого слова, которое он просит, и более обращаясь к Акулине, чтобы та была особенно внимательна. — Я пью за полное понимание друг друга. Мы можем, мы должны оставаться друзьями, ибо мы делаем одно величайшего значения дело. Когда одному трудно, друзья просто обязаны подать ему руку помощи. Я протягиваю ее. — Он и в самом деле протянул Мэлову руку для пожатия. — В самый короткий срок я преодолею все препоны, развею сомнения, и вы, дорогой Владимир Иосифович, вновь станете нашим полноправным коллегой. А завтрашний день, он у меня свободен, я посвящаю вам, дорогие Владимир и Акулина. Я обещаю вам божественную уху!
Мэлов растрогался, едва сдержался, чтобы не поцеловать руку Трофиму Юрьевичу, но в чоканье вложил все свое подобострастие. В этот миг он совершенно уверился, что Иван-цербер либо что-то напутал, либо специально нагнал страху, имея на то личный интерес.
Акулина видела все, она поняла хитрость хозяина дачи, поняла душевное состояние мужа, хотя казалась еще более смущенной от столь щедрого приглашения. Щеки ее пылали, сидела она с опущенной головой и вроде тем только была занята, что глядела на свои пальцы, которыми перебирала кружевную оборку фартука. Лишь изредка она поднимала голову и робко и благодарно заглядывала в глаза Трофиму Юрьевичу, а поймав его ответный взгляд, вновь, словно ошпарившись, опускала очи долу. Мысли же ее не были ни робкими, ни благодарными.
«Вроде бог умом не обидел, — думала она о муже, — а надо же — глуп как пробка. Кошак слепой. — И зло о хозяине дачи: — Ничего, поглядим еще, чья возьмет. Покрасуйся пока, покобелись…»
А Трофим Юрьевич, любуясь эффектом своего тоста, праздновал победу. Мысли шаловливо рисовали близкое блаженство:
«Поплачешь завтра, порыдаешь, а успокоишься у меня на груди…»
Так и разошлись они, каждый со своими мыслями, со своей оценкой предстоящего утра, предстоящей «божественной» ухи.
Утро выдалось тихое, солнечное, и пышнотравный заливной луг усыпанно искрился росинками, будто небо уронило на травы всю свою звездную кисею, но не задело речки, и та дымилась призрачным паром, который вяло обнимал кусты, тянулся к веткам деревьев, но обжигался о солнечную яркость и растворялся в лазоревой бездонности.
— Чем хороша жизнь, Владимир Иосифович?! — воскликнул Трофим Юрьевич. — Вот таким блаженством! Мимолетным, но — вечным.
Мэлов не поддержал искреннего этого вопроса, ибо не до любования было ему. Хмельной восторг прошел, чему поспособствовала немало Акулина ночным воспитательным разговором. Мэлову эта утренняя пригожесть казалась злой насмешкой судьбы, предопределившей последние часы жизни так остро почувствовать холодность зияющей впереди бездны.
Акулина тоже промолчала. Она была занята своим делом: репетировала мысленно каждый жест, каждое слово своего поведения у реки.
Но Трофим Юрьевич и не нуждался в поддержке своих чувств, он впитывал душой неповторимость восходных минут и ни о чем больше не думал. Да ему и не нужно было о чем-либо думать и заботиться: Иван Иванович все организовал, все доведет до предопределенного конца.
Пока они узкой тропкой пересекали луг, речка очистилась от тумана и теперь грела на солнце озябшие свои струи, наслаждаясь вольной наготой. И так тихо и блаженно было все окрест, что люди непроизвольно стали мягче ступать на росную траву и долго никто из них не осмеливался произнести слова.
Сделал это, по праву хозяина, Трофим Юрьевич:
— Пора за удочки. Клев упустим.
Он выбрал самую легкую удочку (они лежали на росной траве рядом с деревянным причалом) и подал ее Акулине:
— Рекомендую здесь ловить, с причала. Левей лодки. Подкормлена здесь рыба. А мы, Владимир Иосифович, вот к тому омутку пойдем. Там покрупнее берет.
И в самом деле: только они забросили удочки, как тут же поплавки побежали, подпрыгивая, вверх по течению. Подсечка — и два крупных подлещика засеребрились, лопоча хвостами по воде.
— С почином, Владимир Иосифович! — поздравил Мэлова Трофим Юрьевич, довольный не столько пойманной рыбой, сколько резко изменившимся настроением гостя. Из напружиненного настороженностью, причины которой Трофим Юрьевич никак не мог понять, Мэлов стал сосредоточенно-внимательным. Захватил его азарт, захватил.
— И вас тоже, — довольно ответил Мэлов, забрасывая вновь удочку.
Снова — подлещик. Крупный. Потом третий, четвертый, и тут к ним подошла Акулина и тоном избалованной капризницы принялась упрекать мужчин за то, что указали ей плохое место.
— Ершишки там с пальчик берут, и — все. У вас вон как споро!
Шикнул на нее Мэлов, но Акулина не унялась, продолжала громко:
— Я рядышком. Вот тут. Я не помешаю.
Чу́ток подлещик. Очень чу́ток. Ушла стайка. Мэлов сокрушенно вздохнул:
— Придется менять место.
— Ничего, перегодим малое время, и, если Акулина Ерофеевна не станет больше шуметь, вернется рыба, — успокоил Трофим Юрьевич.
Не вернулись подлещики, но окуни, голавли и плотвичка в самом деле вскоре начали клевать.
Солнце тем временем взбиралось по небосклону все выше и выше, начало уже припекать, и росная прохлада сменилась сухой жарой. Трофим Юрьевич разулся поначалу, а вскоре снял с себя все, оставшись в зеброобразных плавках, нелепо обтягивавших его костистые бедра.
— Прекрасно! Солнечные ванны! Раздевайтесь и вы, Владимир Иосифович. Когда еще такое блаженство выпадет?
— Рубашку, если что? А дальше… Я — в кальсонах. Привычка, знаете ли…
— А купаться как? — искренне недоумевая, спросил Трофим Юрьевич. — Вы многое потеряете. Только мы вам не дадим. Так, в одежде, и мокнем. Как, Акулина Ерофеевна?
— С великим моим удовольствием. Только не теперь. Пусть еще пожарчеет. А то озябнет чего доброго. Захворает еще.
— Резонно. А я до ухи все же искупнусь. Аппетитней она пойдет.
— И я тоже, — с готовностью отозвалась Акулина и смахнула платье.
На ней не было купального костюма — только лифчик, которым она хвалилась перед Мэловым в гостинице, и кружевные панталончики, тоже нежно-белые, но она не смутилась этим, напротив, погладила шелк лифчика, изящно покоившегося на ее тугих небольших грудях, расправила помятые кружева панталончиков и спросила Трофима Юрьевича озорно:
— Много ли в Москве таких фигуристых?
Мэлова будто дрючком по темечку огрели: Акулина поступала точно так же, как поступала с ним в пристанционном домишке, но теперь ее чары имеют другой адрес. И это при муже?! Открыто?! А Трофим Юрьевич?! Гадюкой на воробья глядит. Проглотить готов! Ну, ничего, ничего!..
И действительно, ничего он этой угрозой изменить не мог. В таких положениях действовать нужно, а не угрожать мысленно.
А Акулина даже глаз не скосила в сторону мужа, глядит вызывающе на Трофима Юрьевича и продолжает допытываться:
— В самом деле, много ли? Поглядела я — попадаются. Только, по моему взгляду, красоту они свою для себя холят, а не для мужиков. Не зря же их кралями зовут. Крадут, выходит, счастье у мужиков. И у себя тоже. Иль не права я?
Ответа не стала слушать, ответ вовсе ей был не нужен. Оставив недоуменного Трофима Юрьевича с его словами и его мыслями, весело перебежала к причалу и прыгнула шумно в воду.
— Озябнете! — повторил ее же слово Трофим Юрьевич. — Пригрело бы солнышко еще немного…
— Я — не озябну. Я — воду согрею.
Когда Акулина подплыла обратно к причалу, Трофим Юрьевич поспешил туда же, чтобы подать ей руку. А Мэлов делал вид, что не спускает глаз с поплавка, чтобы, не дай бог, не упустить поклевки.
Появился Иван Иванович с ведром и объемистой сумкой. Доложил недовольно Трофиму Юрьевичу:
— Две козюльки в ведре. Заснутые они были. Совести нет у людей, только деньги дерут.
— Ничего. Я не просил крупной стерляди, — благодушно ответствовал Трофим Юрьевич, не спуская глаз с Акулины, которая блаженно «просушивала» махровым полотенцем лифчик и панталончики. — Чем, дорогой Иван Иванович, мельче белорыбица, тем она вкусней. — И к Акулине: — Позвольте помочь. Спину… Не простыли бы…
А Иван Иванович сверлил исподлобья и Акулину, и своего хозяина, выкладывая с безразличной отрешенностью на расстеленную клеенку лоснящуюся жиром курицу, свежий укроп, петрушку, лук, еще какие-то сушеные специи, тарелки и миски. Опорожнив сумку, спросил угрюмо:
— Ну, я пошел, что ли?
— Не забудь только: все — по плану.
— Не девка. Память есть.
Даже не глянул на своего верного слугу Трофим Юрьевич, увлеченно гладя спину Акулине пушистым полотенцем.
— Вот теперь отменно, — удовлетворенно проговорил он, как бы прощупывая ладонью спину, не осталось ли где мокроты, затем спохватился, позвал Мэлова: — Клев, Владимир Иосифович, прошел. Идите, уху станем готовить. Оставляйте удочку.
Уху готовить Трофим Юрьевич взялся сам, доверив Мэлову лишь костер, а Акулине — чистку пойманной в реке рыбы. Стерлядь, принесенную Иваном Ивановичем, обрабатывал сам, пристроившись на причале рядом с Акулиной.
Мэлов, разжигая костер, старался не оглядываться и не слушать их мягкого воркования, в которое вдруг врывался беспечно-глупый смех Акулины. Он раздувал и раздувал пламя.
Но вот рыба выпотрошена, промыта, уложена в двойную марлю и опущена в кипящую воду.
— Жарче огонь, Владимир Иосифович! Жарче! — весело понукал Мэлова Трофим Юрьевич. — Ключом белокипенным нужно чтобы…
Добрых полчаса бурлил котел.
— Вот теперь пора, — вроде бы убеждая самого себя, заключил Трофим Юрьевич, но повременил еще немного, прежде чем вынул марлю с разварившейся рыбой и бросил ее к костру.
— Травки теперь побольше, перчика да соли… И — курицу.
Еще более получаса жаркого костра — и Трофим Юрьевич командует:
— Марлю с рыбой — на огонь!
Утихло, зашипев, пламя, зачадила, подсыхая и обугливаясь, рыба, а Трофим Юрьевич доволен. Вынул курицу и, положив в догадливо подставленную Акулиной миску, принялся аккуратно опускать в наваристый бульон куски стерляди. Не забывает и Мэлову приказывать:
— Разгреби рыбу, чтобы не вспыхнул огонь. С дымком нужно, с дымком. В этом — весь вкус!
Вкус и в самом деле оказался бесподобный. Действительно, божественная уха. Даже Мэлов, кому было вовсе не до ухи, и то не мог не крякнуть от удовольствия, отхлебнув первую ложку. А когда вторая да третья рюмки были опрокинуты, за ушами только затрещало у мужчин. Обо всем забыли. И только Акулина не увлеклась едой, не отступилась от своего задуманного. Все старалась пододвинуть принесенную Иваном Ивановичем закуску поближе к Трофиму Юрьевичу и, вроде невзначай, то прикоснется едва ощутимо грудью к его голому плечу, то прошелестит по щеке выдохом порывистым, а прядкой волос щекотнет ухо. Увлечен коньяком и ухой Трофим Юрьевич, но и прикосновения, не нечаянные, он понимал это, волнуют, горячат кровь, путают мысли.
Мэлов опустошил миску, добавки просит. Налила Акулина ему доверху. Трофим Юрьевич подает. Но, взяв миску, не спешит она к котлу. Смотрит на него повлажневшими глазами и выдыхает с капризной томностью:
— А я на лодке хочу. Покатайте, Трофим Юрьевич.
Не по его сценарию это. Не предполагал он такого поворота, оттого и не мог вот так, сразу, предсказать его последствия, но все в этой женщине дышало предвкушением близкого блаженства, все влекло неудержимо, и он не стал противиться.
Поднимаясь, на Мэлова даже не посмотрел. Не от совестливости, а оттого, что совершенно забыл о нем, прилип взглядом к Акулине и шел за ней, как бычок на веревочке.
Акулина тоже вела себя так, словно были они с Трофимом Юрьевичем на берегу одни. Прижалась к нему, когда он помогал ей сесть в лодку, трепещуще, вроде бы невольно, от избытка чувств, не подвластных разуму, а отстранилась нехотя, через силу и не вдруг. И только когда устроилась на сиденье, когда Трофим Юрьевич отвязал и оттолкнул лодку, обернулась к мужу:
— Не скучай, Володечка. Мы скоро. Потом вместе покупаемся.
Болью отозвалось Мэлову это извинение жены. И намек ее, что творится все это ради него. Он налил полную рюмку коньяка, выпил залпом, налил еще одну, еще, но хмель не брал его, ум оставался ясным, сердце тоскливо ныло. Откупорил вторую бутылку, хлестал коньяк без всякой закуски, пока не посоловел, отупевши. Он даже задремал над миской остывшей ухи.
Пробудил его беспечный смех Акулины, которой сдержанно вторил Трофим Юрьевич. Все ближе и ближе смех, а вот и лодка. Выскользнула на вольность омута и мягко ткнулась в причал.
— Славно мы покатались, Владимир Иосифович, славно! Заодно и выкупались. А вы что кукситесь? Давайте в воду. Освежитесь, а уж потом — еще по одной.
— Неловко мне. В кальсонах я.
— Бог с вами тогда, коли не хотите. Давайте уху подогреем.
Подала Акулина разогретую, пышущую неотразимым ароматом уху; Трофим Юрьевич налил рюмки и, торжественно покхыкав, начал тост:
— Давайте выпьем за то, что существуем на свете мы. Существуем и будем существовать. Да-да, Владимир Иосифович, будем!
С неспешной значительностью осушил он рюмку, хлебнул несколько ложек ухи и продолжил, уже буднично:
— Поступим так… Завтра к вам приедет фотограф, снимет вас на паспорт. Ему и отдадите заявление с просьбой обменять фамилии. Думаю, подойдет — Лодочниковы. Отчего? Это отразит истину, ибо решение мое созрело в лодке. Квартиру вы получите не коммунальную. Приличную квартиру. Ради нее. — Трофим Юрьевич кивнул в сторону Акулины. — Не создана она для коммунальных дрязг. Вы, Владимир Иосифович, станете адвокатом. Один принцип должен руководить вами — полное безразличие к тем людям, кому в самом деле нужна защита. При неясности обстоятельств консультируйтесь со мной. Но не лично. Наши встречи должны быть почти исключены. Посредником между нами пусть станет Акулина Ерофеевна.
Вот так, пнул в неизвестность, оставив живым, с постоянной за то оплатой. Мучительной для Мэлова, но — теперь уже ясно — неизбежной. Путь один; чтобы изменить его — в омут головой, сому в пасть.
У Мэлова от этой мысли дух захватило, и стало ему зябко, будто не солнце припекало, а студеным ветерком обдает. Выпил, не чокаясь, рюмку свою и склонился над ухой. Думку думал: объясниться с Акулиной или вести себя так, словно ничего не случилось? Покатались на лодке — ну и что тут особенного? Заговоришь — обрежет еще в ответ: не постельная, мол, баба, а жена тебе — чего же ты к встречному-поперечному ревнуешь?!
Если говорить честно, такой ответ хоть как-то успокоил бы Мэлова.
До самой ночи не решил ничего Мэлов и, возможно, промолчал бы, если бы чуть сдержанней повела бы себя Акулина. А она ничуть не изменилась, такая же доверчивая и ласковая. А Мэлов строгость напустил на себя. Вот она первой и заговорила:
— Иль ревнуешь? Глупенький ты, Володенька.
— Ты вела себя сегодня по меньшей мере…
— Себя кори за то, а не меня. Не огородил меня, не уберег. А я, тебя жалеючи, ластилась к костлявому плюгавцу. А так лучше — тебя бы он утопил и меня лапал руками своими волосатыми?! Лучше? Теперь вот в Москве жить станем. Сына моего в академию медицинскую переведет. Фамилию ему совсем чужую даст, чтоб уж совсем от прошлого уйти. Пришлый-то — пришлый, а как станут дознаваться всерьез…
— Ты воспитана в семье староверов, где мораль и нравственность незыблемо соблюдаются. Люди на костры шли за право оставаться чистыми перед совестью своей…
— Ты бы мне о том там, в Сибири, когда к тебе первый раз легла, вспомнил. Теперь-то что о том говорить? — Вздохнула не жалостно, словно так, для порядка, и продолжила: — Когда меня, Володечка, воспитывали, верила я всему и блюла все, а когда оставил дворянчик, дружок твой давешний, брюхатой меня, разуверилась. Аввакум рече: «Все то у Христа тово света наделено для человека, чтоб, упокоясь, хвалу богу воздавал…» Ради того и сгорел, бедненький. А люди-то что? Поумнели? Суетны люди. Скачут, яко козлы, раздуваются, яко пузыри, гневаются, яко рыси, на чужую красоту зарятся, яко жеребцы, лукавят, яко бесы. Спросится с них, мой отец говорил, в день судный. Долго только ждать того дня — не каждому посильно. Ты же побоялся купаться. Не любо тебе, что в судный день за душу твою спросится с козла волосатого. Самому хочется жить. Вот и не смей корить меня за дело доброе: сыну дорогу открыла, семью спасла, тебе не изменяючи. Да-да, — повела мягко по нахмуренному лбу, разглаживая морщины, поцеловала нежно в губы. — Не изменница я, люб ты мне, и все тут. Лезет козел волосатый, а я тебя представляю. А вот ты, Володечка, изменил мне…
— Откуда у тебя такие мысли?! Чист я.
— Иль не видела я, как ты других баб оглядываешь? А что Матвей-апостол про Христов наказ сказывал: «А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем…» И бабы такие есть. Ни с кем чужим не спала, а прелюбодейка. Оттого с мужем — что тебе лягушка. Много их таких, Володечка. А я, Володечка, не такая, не изменю тебе никогда, не опасайся.
Ошеломила Акулина Мэлова совершенно неожиданным для него суждением. Сколько лет помалкивала и вот — раскрывается. Что ни день, то новость. Переваривая в голове теперь ее убийственную логику, отрицай или принимай ее, это твое дело, но подчиниться ей придется, если не желаешь сому в пасть.
Пять недель прожили еще на даче Мэловы. Пять раз выходили на рыбалку, пять раз уезжала на лодке Акулина с Трофимом Юрьевичем, даже если случалось прохладно, пять раз оставался Мэлов с миской монастырской ухи и бутылкой коньяка, но больше ни разу не упрекал Акулину, а делал вид, что все идет пристойно. Не менялась к нему и она, что было для Мэлова особенно унизительно. Но вот наконец новые паспорта и ордер на квартиру получены. Не стало больше Мэловых. Растворились в Москве. Большая она — для всех в ней места хватает.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Трудный меж ними шел разговор. Потом, когда каждый из них станет вспоминать его и осмысливать без горячности, то с удивлением откроет для себя, что ничего подобного с ними прежде не происходило. Нет, и прежде никогда они не заглядывали друг другу в рот, и, если понимания разнились, выходил спор, порой довольно долгий, до тех пор, пока либо один из них не убеждал другого, либо жизнь не расставляла все по полочкам.
Потом они извинятся друг перед другом, начальник войск округа и начальник штаба; более того, они пообещают друг другу больше никогда не взвинчивать ни себя, ни подчиненных, а, напротив, быть примером сдержанности и спокойствия при самых сложных ситуациях. Но это произойдет через несколько дней. Теперь же, было похоже, они потеряли контроль над собой.
— Я, Владимир Васильевич, повторяю! — парируя угрюмым, упрямым взглядом гневные молнии своего начальника, твердил Богусловский. — Я повторяю: начальник заставы принципиально прав!
— Мальчишка! — кипел Оккер. — Хулиган!
— Нет! Он — муж! Он — честный воин!
— Но мы же отдали приказ на провокации не поддаваться! Огня не открывать! Неужели тебе, начальник штаба, не ведомо, каковы последствия невыполнения приказа в военное время?! Или ты забыл, что идет война?! Или не понимаешь, какой катастрофой может обернуться минометный залп?!
Не забыл Михаил Семеонович о войне. Занозой впилась она в сердце. О ней и думы беспрестанные. Трудные думы. Молчал о них Богусловский даже дома. Не оттого, что опасался осуждения, хотя и это удерживало, но главное было в том, что он пока не мог сам себе толком ответить, что же произошло, отчего так нескладно началась война. Неожиданно напали фашисты? Внезапно? Но уже несколько лет не сходило с уст каждого слово — фашизм. И виделся в этом слове ужас новой войны. И в Кремле (он хранил в памяти как святыню тот волнующий ритуал награждения) без обиняков было сказано об агрессивности фашизма, о необходимости быть готовыми малой кровью и могучим ударом разгромить врага на его же территории, если он осмелится напасть.
Отчего слова не подтвердились делами? Не попусту же они говорились? Выходит, что-то не получилось по-желаемому, что-то не так, как нужно, сложилось…
Он пытался найти истину, вовсе не предполагая, что стремится к невозможному, что ее, ту истину, будут искать годы и даже десятилетия, но так и не определится единая для всех истина — многие останутся при своем мнении, чаще всего совершенно ложном. И неудивительно — такие великие трагедии народов видятся во всей наготе только через века.
Но если бы даже не было у него тоски, не было тревожных и противоречивых раздумий, разве не давала о себе знать война ежеминутно, ежечасно стремительностью событий на границе, и прежде не дремавшей? Не умолкал телефон в его, начальника штаба округа, кабинете. Из отрядов с гневом докладывали о провокациях японцев, с первого же часа войны ставших намного наглей, предлагали планы контрмер, которые отрезвили бы квантунцев, но ответ получали один: «Не поддаваться на провокации. Огня не открывать».
Звучало обычно в трубке угнетенно-вялое: «Ясно», по Богусловский понимал, каким бурлит гневом командирская грудь, что достается на бобы и ему, «перестраховщику», и это тоже угнетало и раздражало, ибо сам он тоже считал, что, если бьют по щеке, подставлять вторую не следует. Силу уважают не только в человеке, но и в государстве. Разумную, конечно, силу, не дуроломную. И когда поступило донесение, что начальник одной из дальних застав, попросив минометы у стрелковой части, стоявшей неподалеку от заставы, уничтожил одним залпом пулемет, который японцы, совершенно не маскируя, установили на сопке и обстреливали из него не только пограничные наряды, но и саму заставу, Богусловский похвалил молодого командира:
«— Молодец!»
Оттого и вспылил начальник войск округа.
«— Если мы станем сами поощрять нарушителей приказа, дело, Михаил Семеонович, зайдет слишком далеко. Не только партийными билетами, но и головами можем поплатиться!»
«— А это разве не в счет: двое наших пограничников убито, пятеро ранено? Не в бою. А как агнецы на заклании. И если попустишь, сколько их, таких пулеметов, квантунцы по сопкам расставят! Не велика ли жертва?! О своих ли головах нам попечительствовать надлежит?!»
Слово за слово — и пошло-поехало. Вроде бы нелюди в смертной ненависти сшиблись. Ужаснулись бы, слушая себя со стороны. Но где там — пристойность отступила. Полопались нервы, натянувшиеся струнно в эти первые дни войны.
— Ваш упрек, Владимир Васильевич, по меньшей мере бестактный. Помню я о войне, понимаю сложность обстановки на нашей границе, оттого и говорю: действия начальника заставы верны. Более того, они своевременны, — начиная сдерживать себя, отвечал Богусловский. — Моя оценка такая: он предотвратил сотни новых провокаций, оградил от нелепой смерти многих, возможно сотни, пограничников.
— А вы не предполагаете других последствий: залп трех минометов станет для Японии поводом для официального объявления войны?! Какие тогда окажутся жертвы?! Не десятки, не сотни, а миллионы! Война на два гигантских фронта! Вся страна погибнуть может! Вся! Вы понимаете это?! Под трибунал начальника заставы! И вас, если станете потакать анархии!
— Мне не привыкать, — мрачно усмехнулся Богусловский. — Опыт есть. Испытано.
Ледяным компрессом на горячую голову Оккера легли те слова — он не парировал грубо: «Ну и поделом, не будете вперед отца в печку лезть!» — а принялся, сдерживая нервную дрожь в пальцах, менять местами пресс-папье и перочистку, которые покоились бездельно и не мешая никому по бокам внушительного малахитового чернильного прибора, поправлять стилизованные под русские шлемы крышки чернильниц, подравнивать цветные карандаши, тоже совершенно ненужные, но отточенные до игольчатой острости и готовые послужить хозяину в любой момент.
Богусловский тоже помалкивал. Он сдерживал готовый сорваться упрек: «Удар ниже пояса — запрещенный удар!» — он не хотел больше пустого, хотя и жаркого, спора, он винил себя, что взвинтился, и теперь подавлял свою возбужденность, чтобы начать деловое решение возникшей проблемы как можно спокойней.
— По моему приказанию начальник отряда вызвал на переговоры погранкомиссара японской стороны. Мы предъявим им протест, не ожидая ихнего. От нас будет два врача, от них — тоже два. Они произведут вскрытие убитого пограничника. Кроме того, я приказал собрать как можно больше японских пуль, а наиболее заметные места их падения, особенно у дозорной тропы и на самой заставе, обозначить. Мы пригласим представителей сопредельной погранстражи, если они станут отрицать факт обстрела нашей территории.
— Разумно. Только ты, Михаил Семеонович, — переходя на обычное для них обращение, возразил Оккер, — не забывай, что и они предъявят вещественные доказательства. Пулемет и пулеметчики уничтожены нашими минами.
— Мина — не пуля. Она разрывается на мелкие осколки, а они, Владимир Васильевич, у всех мин одинаковые.
— Что ж, ни пуха тебе…
По обычному своему правилу Богусловский заехал на часок домой. Здесь было все неизменно, как и до войны; так же, как обычно, встретила его Анна в прихожей, только сегодня не светилось ее лицо приветливостью, а когда узнала она, что едет Михаил к японцам в гости, наполнились ее глаза слезами.
— Полно, Аннушка! Не крокодилу же в пасть.
— Прошло все, Миша. Извини. Невольно. Трудно все, тревожно…
Так уж себе определила Анна Павлантьевна, чтобы, провожая мужа даже в самую пустячную поездку, ничем не расстраивать его. А если опасность предвиделась, тут она ни жестом, ни взглядом не выдаст своей озабоченности, своей тревоги. Проводит когда, тогда и взгрустнет. И вдруг вот не совладала с собой.
— Все прошло. Все ладно станется.
— Владик наш где?
— В школу ушел. У них тоже забота — как фронту помочь.
Все эти дни Анна думала о том, как поступить с Владиком. Она была тверда в том, что сама не уедет отсюда, не оставит Михаила, но рисковать сыном не хотела. Сегодня вечером она предполагала поговорить о своих планах с Михаилом, но вот он уезжает, и, верная своему принципу, она решила перенести разговор на потом, когда муж вернется. И без того она расстроила его своими слезами.
Не ведала она того, что сын ее не в школе, что все ребята из его девятого «б» — в военкомате. Не просят, а требуют отправки на фронт.
— Давно ушел. Вот-вот должен вернуться, — предположила она. — Может, даже успеет до твоего отъезда.
Не дождался Владлена отец, оттягивал выезд, насколько мог, но настало время брать саквояж.
— Заедешь в школу?
— Зачем? Через три, самое большое — через четыре дня я вернусь. Не скучайте.
— Храни тебя бог…
Она оставалась верной себе. Ее нисколько не смущало, что Михаил давно уже коммунист, она продолжала по старинке только так благословлять его в трудную дорогу и суеверно считала это благословение панацеей от всех бед.
Михаил Богусловский, как и рассчитывал, управился за три дня. Устал до изнеможения, перебарывая упрямую непонятливость и наглое возмущение, вроде бы искреннее (мастера японцы играть заданную роль), и все же переупрямил, напустив на себя еще большее упрямое тугодумие, еще хватче цепляясь за пустячные на первый взгляд оговорки противной стороны. Итог встречи оказался таким: никто ни в кого не стрелял… Но последнее слово осталось за Михаилом Богусловским. Ввернул он на прощание, что, дескать, и впредь советские пограничники таким же решительным образом станут предотвращать все конфликты, чтобы мир царил на границе.
Побледнели щеки у японского офицера, улыбку слащавую он, однако же, удержал на холеном лице. Вот так. Проглотил. Богусловскому виделось в этом доброе предзнаменование: не настроены пока что японцы на войну. Не забыли, видать, Хасана и Халхин-Гола. Побаиваются.
С этих своих выводов и начал доклад Богусловский начальнику войск. А тот недоволен.
— Выходит, здесь разлюли малина будет? Вот их сколько, кто так же считает. — Оккер раскрыл пухлую папку: — Вот они, рапорта. Твоя оценка стратегической обстановки развязывает и нам с тобой руки…
— Такой мысли у меня не было. Да, я готов хоть сейчас на фронт, и мой опыт, смею надеяться, не окажется там лишним. Но рапорта я не подам, ибо мне ясно одно: оголять границу здесь нельзя. Нельзя и отдавать ее в руки малоопытных. И это будет до тех пор, пока не попятятся фашисты. Да, подписали японцы Апрельский пакт о нейтралитете — верно это. Но это еще не полная гарантия мира на Дальнем Востоке. Все будет зависеть от положения на советско-германском фронте. Рапорта пишут только те, у кого берет верх душевный порыв над разумом.
Ему не было нужды отстаивать верность своих слов: оба они прекрасно знали границу — и довоенную, и сегодняшнюю. Там, на западе, горела и стонала земля, а здесь граница напряглась взведенным курком. После двадцать второго июня будто плеткой кто начал подстегивать японских строителей, возводивших укрепленные районы. Темпы работы увеличились многократно, но все равно не успевали поспевать доты и казармы за валом валившими к границе полками и дивизиями, и их размещали в домах и фанзах местных жителей, которых подчистую увозили в тыл. А разведку квантунцы повели так, словно готовились к наступлению, словно уже шла война и лишь случилось малое затишье для перегруппировки сил. В любой момент могли загрохотать орудия, и чем меньше останется здесь кадровых пограничников, тем пагубней могут оказаться последствия.
— Разумный, мыслящий командир не подаст рапорта, — продолжал Богусловский, — и мы, Владимир Васильевич, давайте возьмем на себя вину за эти рапорта. Да-да, на себя. Не научили подчиненных мыслить.
— Вполне согласен. И рад, что мы единодушны. Я так считаю: будем работать здесь. Когда мы потребуемся, нас позовут.
— Нет. Я оставляю за собой право напомнить о себе, если здесь стабилизируется обстановка.
На том и поставили точку. Перешел затем разговор на фронтовые дела. Пересказал Оккер последние сводки. Очень тревожные. Помолчали, боясь даже по-дружески высказать свои оценки происходящему.
— А вот донесения из отрядов посмотри, — подал Оккер Михаилу Богусловскому папку с шифровками. — Такие ребусы япошки подкидывают, оторопь берет. Я, правда, по всем донесениям распорядился уже, для сведения тебе, изучи.
Самое время и помолчать, пока просматривает начальник штаба шифровки, но нет, Оккер принялся тягуче пережевывать, как жвачку, недоумевающему Богусловскому все свои решения, которые были совершенно ясны ему по пометкам на бланках донесений. Только не замечал будто бы Оккер недоумения друга своего, неспешно и основательно пояснял мотивы своих приказов и распоряжений, и, понятно, Богусловский пытался раскусить, отчего Оккер тянет время, не вволю же его, выкроить бы часика два-три для отдыха после столь трудной поездки да снова засучивать рукава.
Но мысли на расстоянии не уловишь, хоть и расстояния того всего-навсего — стол. Вот и спросил напрямую:
— Что-то, Владимир Васильевич, скрываешь ты от меня?
— Не скрываю, — улыбнувшись, возразил Оккер. — Время затягиваю. Тут без тебя у тебя ЧП, можно сказать, чуть не случилось. Владлен твой в бега подался. На фронт, видите ли. Воротили. Вот-вот мне должны доложить, что доставили домой.
— Я же говорил с Анной! Веселая. Рапортовала даже, что все в полном порядке.
— Золото она у тебя. Не ко времени никогда ничем не обеспокоит.
— Приятно это, конечно, но сын мог бы пропасть…
— Как раз. Тебя оберегала, а на меня вдвоем с Ларисой моей навалились, аж хребет затрещал.
Зазвонил телефон. Послушал Оккер, поблагодарил и — Богусловскому:
— Теперь поезжай. И не дай бог проговориться, что ведома тебе тайна твоей семьи. Перед Анной будет неловко, а уж от Ларисы достанется мне тогда на орехи.
Трудно пересилить волнение, ибо шаг сделан сыном не простой, не по детской шаловливой мысли, но нужно крепиться, чтобы не подвести друга своего. Не долго, однако, пришлось Богусловскому играть роль довольного своей поездкой. Едва успел он поцеловать Анну и та, тоже скрывая свое истинное состояние, начала было по сложившемуся у них правилу расстегивать портупею, как в прихожую вошел сын. Тот не скрывал своего состояния. Насупленный вошел. Сердитый.
— Здравствуй, отец. — И без паузы: — Ты скажи мне, если я не дал слова молчать, могу я говорить?
— А что произошло?
— Ты не хочешь ответить на мой вопрос? Если он не ясен, могу повторить.
Вот даже как. Настойчивость, какой прежде не было в разговоре с отцом. Серьезное, стало быть, решение сбежать на фронт. Закусил удила. Неприятно это ему, но сдержался. Ответил обычным своим тоном Михаил Семеонович:
— Отчего же? И вопрос ясен, и ответ. Человек, Владик, если он человек, согласует свои поступки со своей совестью. И еще, сынок, есть у человека сердце. У каждого разное: отзывчивое, холодное, доброе, злое. Есть еще такое понятие, как любовь. Или, проще сказать, уважение. Уважение к окружающим тебя, к близким твоим и особенно к родным. Родные для порядочного человека — это святое…
— Но есть обстоятельства, когда все это становится мелким, никчемным…
— Не знаю таких обстоятельств.
— Как?! А война?!
— Мякина у тебя в голове. Да, война — это величайшая подлость. Подлость одного человека, подлость целой нации, подлость даже нескольких наций. Но это — подлость алчных, подлость маньяков, подлость тех, кто приписал отчего-то себе право уничтожать подобных себе пулей, петлей, а плеткой навязывать миру свое понимание мироустройства, на вершине которого должен восседать он — захватчик, властелин. И все, что он сделает — все законно и справедливо. Сегодня к этому стремятся фашисты. Только-только я вернулся от таких подлецов. Из пулемета стреляли по заставе, убивая и раня наших бойцов, и ничего, будто так и полагается, не смей противиться, раз ему, пупку пирамиды, богом предопределенному властвовать, так захотелось. До предела возмущены они, что, видите ли, кому-то не захотелось умирать бараньей смертью, наказания требовали за уничтожение пулеметчиков и пулемета. Так что же, по-твоему, на одну доску ставить нужно и наглых подлецов, и мужественных людей, которые вынуждены убивать, защищая и свои жизни, и свою честь? Достоинство свое человеческое, советское, наконец! Да, мы тоже воюем. Да, мы тоже убиваем. Более того, мы считаем, что чем больше будет убито фашистов, тем лучше. Но, поступая так, мы творим великую правду. Честно ей служим. Не поступясь совестью, весь народ поднялся…
Чуть не вырвалось у Богусловского, что и «ты, ребенок еще, а тоже подался на фронт». И не удержался бы, возбужденный нравоучительным монологом, оттого забывший про обещание Оккеру, но вдруг Анна всхлипнула сдавленно и тут же истерично зарыдала. Михаил прижал ее к груди, то содрогавшуюся в судорогах, то безвольно расслабившуюся, гладил ее по голове, но что сказать ей, как утешить — не знал. Заговорить о том, что смерть постоянно витает на границе, что сотни раз она могла сделать ее, Анну, вдовой, да все обходилось, обойдется и дальше, но сейчас эти слова виделись ему кощунственными: великое горе навалилось на всю страну, слезами и кровью истекает она, от стона содрогается, и время ли думать, обойдет или нет горе их семью?
Молчал и Владлен. Уткнул глаза в носки модных штиблет и думал свою упрямую думу. Он очень жалел мать, но борол ту жалость, продолжая стоять на своем:
«Убегу на фронт! Убегу!»
Михаил Семеонович провел жену в гостиную, усадил на диван и велел сыну:
— Валерьянки и воды. Поживей!
Тряхнул Богусловский из узкогорлого флакончика, чтобы побольше, в стакан и подал Анне:
— Выпей. Успокойся. Не так все плохо, как кажется. Пей, пей.
Безмерная доза подействовала быстро. Истерика пошла на убыль, и вот уже — вздох облегчения и виноватая улыбка.
— Переволновалась. За сына. За тебя. Последняя капля — салон петербургский вспомнила. Очень похоже ты тогда говорил. Рвался на фронт добровольцем. Слава богу, вразумил тебя Семеон Иннокентьевич.
Все вроде бы верно. Было такое: царь, отечество, святая Русь! Кто же ее защитит, если не мы, русские солдаты! И жестокая ответная реплика отца:
«— Погоди, сын мой, не ерепенься. Пусть генштаб разберется, с кем он воюет — с немцами или с Россией, а уж тогда благословлю. А так, ни за понюх табаку погибать, не пущу тебя. Плечи не развернувши, голову сложить изменникам на утеху — дело ума не требует. И прекрати псевдопатриотизм свой!»
Он тогда не понял отца. Подчинился, уважая его крепко, веря ему непререкаемо. Но уже через малое время стали появляться в газетах не только призывы сложить головы за царя и отечество. Особенно вольничала «Вечернее время». Хлесткие статьи печатала. Правда, не всегда логичные. Могут, мол, радоваться Мартов и Рязанов, что их идея интернационализма нашла себе последователей. Вольготно себя чувствуют в России оказавшиеся восприимчивыми к мартовской теории равенства и братства военнопленные немцы и австрийцы. Да и Россия гостеприимна к ним…
Удивлялся Михаил Богусловский, отчего Мартов и Рязанов повинны в том, что царский двор печется о благополучии пленных врагов? Мысли, однако, подобные статьи будоражили, особенно когда та же газета писала о положении русских военнопленных, которые мерли с голоду, влачили скотское существование.
То были первые шлепки по патриотическому духу молодого русского офицера-пограничника. За ними последовали иные, более весомые и более убедительные. Как бомбу бросил в салонную сонность на одном из вечеров Ткач, пересказав слова Гучкова: если бы нашей внутренней жизнью и жизнью нашей армии руководил германский генеральный штаб, он не создал бы ничего, кроме того, что создала русская правительственная власть… А на десерт Ткач добавил еще и слова Родзянко, который назвал деятельность царской власти планомерным и правильным изгнанием того, что могло принести пользу в смысле победы над Германией. Бурно обсуждали те обвинения думских лидеров, и не один вечер сопоставляли с положением дел на фронте (они знали больше, чем простой обыватель), и в конце концов пришли к согласию, что сказано резко, но вполне резонно. Фронт держался только на стойкости солдата русского, на самоотверженности и риске офицеров среднего и младшего звена.
А еще позже, когда его избрали нижние чины штаба погранкорпуса своим командиром да побывал он на их сходках, где давалась совершенно необычная для него оценка войны империалистической и войн вообще, поразмышляв основательно об этом, принял он большевистское понимание как истину. Совершенно искренне принял.
Теперь же, скользя памятью по тем временам, он не сдержался, хотя понимал полную для этого момента бестактность, чтобы не улыбнуться тому, с какой горячностью он отстаивал едва приобретенное, но еще не осмысленное, не познанное глубинно и оттого полунаивное понятие свое о классовой сути войн. Теперь-то он вполне мог считать себя зрелым знатоком марксистской теории войн, ибо познавал ее все послереволюционные годы и теоретически, и практически, на себе испытывая ее непререкаемую верность. И если тогда он настроен был патриотически по ошибочному восприятию крикливых лозунгов, то теперь патриотизм его был вполне осмысленным, не от настроения патриотизма. Богусловский был вполне согласен с решением сына, только обижался, что не посоветовался с отцом, но как сказать об этом Анне — пока не находил. Едва отошла она и вновь зайдется в плаче.
Она и напомнила о том поступке его отца с явным желанием, чтобы теперь он, Михаил, повторил его, запретил сыну идти на фронт до срока, отговорил, убедил. Но разве приемлемо такое? Конечно же нет. Ибо это противно его убеждениям. Он понимал, что Анна по-матерински права: отчего же посылать сына на войну, когда у него не призывной возраст? Но даже святая женская правота ее не могла изменить его твердости.
— Ты не права, Анна, сравнивая прошлое и сегодняшнее. Верно, лозунг «За царя и отечество» в сути своей был ложен, ибо царь наш был одной крови с кайзером, а самой войне предопределено было повыкосить народ, чтобы не бунтовал он. Ловко все это укрывалось не только официальной пропагандой, но даже церковью вкупе с прорицателями всякими. Помнишь, Де Теб что пророчила? Конец Оттоманской империи, конец Гогенцоллернов, рождение нового государства — Палестины. Иное, Анна, теперь. Совсем иное. Теперь в мертвой схватке сцепились два разных мира. И если теперь мы определим себе роль созерцателей со стороны, если мы попрячемся по углам — нас раздавят. Не Оттоманской империи судьба решается, не Палестины, а наша с тобой. Всей страны нашей судьба. И кто же, если не потомственные военные, если не патриоты…
— Понимаю я все это. Миша. Только не мужчина еще Владик, чтобы винтовку брать в руки. Не детям же воевать? Или мужи перевелись?
— Какой же я ребенок?! — воскликнул Владлен, стараясь приосаниться. — Гайдар в мои годы…
— Помолчи! — резко одернул сына Богусловский. — Ты поступил глупее самого глупого ребенка. Не по росту и словам определяется мудрость мужа, а по поступкам. Заруби себе это на носу. И еще возьми себе в святое правило: никогда не считай себя умнее родителей.
— Я и не считаю. Только, отец, война! Не могу я, комсомолец, за партой сидеть…
— А что?! Кинуться под танк головой?! Ума много не надо. Величественно, конечно, не спорю, достойно патриота, но полной победы не обретешь, не думая о большем. Против танка есть соответствующее оружие, против самолета — тоже. И нужно, чтобы оно находилось в руках умелых. Тогда сам жив останешься — а для военного, запомни, это самое главное — и врага побьешь. Одной смелостью танковые армады не остановишь. Время атак клинковых — позади. Так вот, если ты и в самом деле хочешь воевать не только для того, чтобы славно погибнуть, но и победить супостата, — сядешь за парту. В училище пойдешь.
— Но, папа!
— Никаких «но»! В училище! — оборвал сына Богусловский, вовсе не желая его слушать. — Не на один день война! Это говорю тебе я, кадровый военный!
Анна при этих словах вздохнула судорожно и потеряла сознание.
— Нашатырный спирт! — крикнул сыну Михаил Семеонович и опустился перед женой на колени, не зная, что еще предпринять, чтобы вывести ее из обморочного состояния. Да и откуда ему было знать: жена всегда владела собой и это был всего лишь второй сбой. Первый, давний, уже почти забытый, когда следователь, подпоров полы халата, начал вынимать червонцы и перстни. И вот теперь — второй обморок. А несколько минут назад — истерика. Тоже необычная для Анны. И все это из-за сына.
Он понимал ее боль, он старался всячески успокоить ее, но его самого в это время начинала исподволь грызть обида. Да, он, предлагая ей соединить жизнь, знал, что она любила Петю. Да, он никогда не осуждал ее за это даже в своих самых затаенных мыслях. Он любил ее и надеялся, что любовь его в конце концов пробудит ответное чувство. Анна и в самом деле с годами становилась нежней и заботливей, он радовался этому, любя ее еще крепче, но, как теперь выходило, он ошибался. Она лишь честно выполняла данное ему обещание, и не более того. Сердце ее освободилось от первой любви только для сына.
Он не давал устояться обиде, отбрасывал все кощунственные, как он определил их, мысли, но, увы, бессилен он был совладать с самим собой: воображение выхватывало из прошлого все больше сцены их расставаний, и долгих, и кратковременных, но которые могли стать вечными. И теперь то спокойствие, та собранность (она укладывала ему в дорогу всегда именно то, что ему было в той поездке необходимо), которые так нравились ему и так одобрялись его сослуживцами, виделись сейчас по-иному: легко быть сдержанной, если поступками твоими руководит не сердце, а только разум.
До конца жизни своей пронесет он эту никчемно появившуюся обиду, станет бороться с ней, вырывать ее из сердца, как колючку надоедливую, и хотя она постепенно станет зарастать, но нет-нет да и даст о себе знать. Но непокой душевный тот будет только его непокоем — ни Анна, ни кто-либо иной никогда о нем не узнают.
Долго Анна не приходила в нормальное состояние, и Михаил Богусловский намеревался вызвать даже врача, но она попросила:
— Не нужно, Миша. Пройдет. Я пересилю.
Слово она держать могла и, хотя не улыбалась больше так лучисто, как прежде, оставалась приветливо-покойной, доброй хозяйкой дома. Она даже несколько раз обсуждала с мужчинами, в какое училище лучше идти Владлену — в авиационное, в танковое или в артиллерийское. Но чаще всего, стоило только отцу начать рассказывать сыну о том, как двигаются его дела, она уходила на кухню или в спальню.
Не плакала больше, не противилась, и мужчины были ей весьма благодарны.
И только когда расписалась она за принесенную Владлену повестку — не сдержалась вновь. Правда, сына дома не было, а Михаил, отпаивая ее валерьянкой, убеждал:
— Слезами ничего не изменить — только сыну больно сделаешь. И тоску в душу поселишь. Ему учиться нужно будет, а он о тебе станет кручиниться, о твоих слезах вспоминать. Ты уж потерпи, осиль горе. И еще подумай: жена командира хочет удержать сына дома. Другие, значит, пусть воюют, а наш, стало быть, пусть со стороны поглядывает? И отец, скажут, потакает. Сам рапорта не пишет, сына вернул с дороги на фронт. А сказанное слово не воробей — попробуй поймать его. Чувствительны сегодня люди. Фальшивость — всегда грех, но сегодня — особенно…
Валерьянка и долгое убеждение подействовали — Анна взбодрилась и принялась, как это обычно делала для мужа, собирать саквояж сыну. Молодцом держалась и на перроне, чуть-чуть только завлажнели у нее глаза, но она быстро промокнула их платочком. И потом, когда состав отстукал по стыкам привокзальных рельс и стрелок, и даже в машине, пока ехали домой, она лишь погрустнела лицом, но даже ни разу не вздохнула, жалеючи сына. Зато дома, только лишь они вошли в прихожую, словно прорвалась плотина под нажимом шального весеннего ледохода, зашлась Анна в рыдании, приткнувшись к груди мужа.
На этот раз Михаил Семеонович не стал поить ее валерьянкой, не давал нюхать нашатырного спирта, не натирал виски уксусной эссенцией — он просто усадил ее в кресло и, посоветовав выплакаться вволю, чтобы полегчало, пошел на кухню готовить кофе. И без того на душе у него было тоскливо, а слезы Анны будто когти кошачьи по сердцу. Но терпеливо ждал он, пока жена выльет все горе свое слезами и тогда успокоится без лекарств.
Кофе поднялся шапкой, кухня наполнилась щекочущим нос ароматом, Михаил Семеонович выключил плитку, но разливать кофе не спешил. Ждал Анну. Долго ждал, уставив взгляд в заоконную синь, поначалу яркую, но все более темнеющую.
Он не заметил, как на небе появились первые звезды, он просто не видел их — так безразличен он был ко всему вокруг, к бескрайности Вселенной, к остывшему уже совсем кофе, к слезам жены. Он, спроси его в эти минуты, в эти часы, о чем его мысли, не смог бы ответить ничего вразумительного — так трудны и в то же время так неподвластны были они ему.
Он мог простоять вот так, с усталой отрешенностью, всю ночь, но длинно зазвонил телефон. Короткий звонок он мог бы сейчас даже не воспринять, но длинный — это не все ладно на границе, и рефлекс сработал безотказно.
И на Анну подействовал он, этот тревожный звонок. Уже доплакивала она остаток своих сил, всхлипывала уже с перерывами, все более расслабляясь, и вскоре задремала бы, но тут словно спружинило тело, встрепенулась она, прошагала быстро к умывальнику, ополоснула лицо холодной водой, быстро отерла его и — стоит уже подле мужа, спрашивая взглядом, собирать ли в дорогу. А Михаил молча слушает трубку. Потом приказывает:
— Высылайте машину.
— Что там, Миша? Собирать?
— Нет. Но вернусь — не знаю когда. Ложись спать. Постарайся успокоиться. Владлен наш почти год будет учиться…
Она пообещала, но Михаил Семеонович не поверил ей: он видел, впервые за прожитые вместе годы, болезненную тоску в ее глазах, ту самую тоску, какая была у нее после гибели Пети.
Лишь на следующий день Богусловский смог выкроить несколько часов, чтобы пообедать дома и отдохнуть. Анна встретила его, как обычно, в прихожей и принялась привычно помогать ему снимать, как она говорила, амуницию; но движения ее были вялы, словно тяжелая хроническая болезнь подточила ее силы, приучила к полному безразличию, отяготила думами о бренности жития.
— Пошли. Обед готов, — пригласила она мужа, но и голос показался Михаилу Семеоновичу безжизненно вялым, даже тоскливым.
Обедали они молча. Грустно обедали. Грусть та продолжалась и дальше — она вроде бы успела уже не только наполнить собою воздух квартиры, но и пропитать стены, ковры, всю мебель. Желанного отдыха, когда за короткие часы снимается нервное напряжение, не получалось, и Михаил Семеонович засобирался вскоре после обеда в штаб.
Ему нужно было время, чтобы привыкнуть к новому душевному состоянию жены и принять без волнения и боли это ее состояние; привыкнуть еще и к своей тоске по сыну, привыкнуть к не отпускающей ни на минуту тревожности, которая возникла при известии о войне и теперь постоянно подкармливалась и сообщениями об отступлении по всему фронту, о сданных городах и населенных пунктах, и растущей наглостью квантунцев. Ничего он не мог изменить в происходящем, не видел пока никакого просвета и потому решил больше бывать на работе, тем более что необходимость в этом была великая.
— Поспи немного. Я разбужу, во сколько нужно, — просяще предложила Анна, понявшая, что гонит мужа из дома. — Устал же…
— Верно, устал. Но не до отдыха, — отговорился Михаил Семеонович, не желая откровенного разговора, ибо не был готов к нему и сам. Повторил грустно: — Не до отдыха.
Работник, верно, из него, это Богусловский чувствовал, был невесть какой, а ему нужно показывать пример собранности и спокойствия, нужно решать вводные, какие будут сыпаться с границы всю ночь, быстро и верно, но, главное, терпеливо внушать людям, что нельзя горячиться, нельзя терять голову, и требовать настойчиво выдержки, выдержки и еще раз выдержки, А для этого самому нужна ой какая выдержка! Сам же он находился в таком состоянии, когда нервы в кулаке и неясно ему, сможет ли быть выдержанным, не сорвется ли? Ему просто необходим был отдых. Такой, чтобы отмякла душа.
— Давай-ка на Амур, — попросил он шофера, когда они почти подъезжали к управлению. — Порыбачим.
Редко брал в руки удочку Богусловский, считая, что это пустое расходование времени. Нужна рыба — есть сети. Для чего их люди придумывали? Иногда, правда, Оккер все же увозил его на берег Амура в любимый затончик, и Богусловский видел, с каким азартом отдавался тот рыбалке, забывая все на свете. В надежде, что и с ним, Богусловским, произойдет подобная метаморфоза, он и ехал к затончику, правей которого в трехстах метрах стояла застава.
Но повезло Богусловскому. Хотя место было хорошо прикормлено и, как он знал, Оккер никогда не оставался здесь без улова, сегодня рыба совершенно не клевала и поплавки торчали бы бездвижно, не будь ряби от ветра, который вольно бежал по Амуру, волнуя его, а в затончик лишь завихривал.
Только от реки сюда мог пробиться ветер, ибо по всему берегу затончика подступали к самой воде дородные сосны с густым подлеском. Место было уютное, тихое, и это сейчас особенно благодатно действовало на мятущуюся душу Богусловского, То, что рыба не брала наживку, нисколько не трогало Михаила Семеоновича — он не был ни рожден рыбаком, ни воспитан им. Равнодушно он глядел на поплавки и подшучивал над шофером, который менял места, испробовал и червей, и хлеб, скатанный шариками, и тесто, замешенное на яичном белке, и перловку. Отчаявшись, принялся охотиться за стрекозами, а когда поймал несколько штук, объявил:
— Пойду на быстрину.
Богусловский остался один. Ничто не мешало ему теперь спокойно, без спешки, созерцать природу и думать. Не о вечности жизни, не о постоянстве того, что происходит в природе, — отвлеченная философская фантазия, не чуждая прежде ему, сегодня не могла определять хода его мыслей, они диктовались реальностью времени. Он, в какой уже раз, пытался все же понять, что произошло на западной границе, отчего так стремительно наступают фашисты, хотя ни одного города, ни одной деревни без боя не сдается. Но сколько бы он ни сопоставлял, ни анализировал, а вновь убеждался, как непосилен для него поиск истины: он знал только то, что положено было ему знать, а этого для понимания происходившего было очень мало.
Он вполне был уверен, что выдохнутся фашистские дивизии, особенно когда растянутся их коммуникации, Россия не будет завоевана Германией — непосильно ей это. Еще Бисмарк предупреждал своих горячеголовых политиков и генералов, чтобы никогда не нападали они на Россию. Но сколько жизней придется положить на алтарь Отечества, чтобы остановить, а затем изгнать из родной земли супостатов?
Отчего случилось такое?
В мыслях его тогда даже не могло возникнуть такого понятия, как просчет, ибо он свято, как и все довоенное поколение, верил в непогрешимость верховного руководства. Оно виделось ему неподсудным обывательскому разуму. Смущать его могли лишь частности. По его разумению, из Сибири, особенно с Приамурья и Приуссурья, не следовало бы отправлять на фронт ни одного человека. Мобилизацию провести, но, обучив тактике боя, владению оружием, оставить всех здесь. Если обезлюдеет Сибирь, если не укрепится приграничье боеспособными дивизиями — развяжутся руки у японцев, как в шестнадцатом веке у маньчжуров.
Эта параллель, которую он провел для себя уже несколько дней тому назад, когда видел уходивший на запад эшелон с боевой техникой и новобранцами, сейчас, на берегу Амура, право владеть которым отстаивала Россия многие века, виделась особенно обнаженно.
Не на ощупь пришли на Амур Поярков, а за ним и Хабаров. Торным был сюда путь, обстроен погостами да зимовьями. Легко сказать, — вышли смельчаки-первопроходцы на Амур чудом, но шли-то они не пешие, не на лодках-долбленках плыли, а на дощаниках, для которых и смола нужна, сотни пудов, и холст на паруса, десятки сотен аршин, и тысячи сажен канатов и веревок, и скобы конопатные, и мешки да бочки для провианта — да разве перечесть все, что потребно не малой артели, а большому отряду служилых людей, промышленников и купцов в экспедиции? Не то что из Москвы — даже из Якутска все это не повезешь. На берегу Байкала все это производилось, на самом Амуре…
Издревле, еще до средневековья, новгородцы от пятины своей зауральской били конные тропы в таежную глубь, а когда поморы окрестили Батюшко ледовитый крестами дубовыми, а губы удобные и устья сибирских рек обстроили становищами, туда и сухопутный путь определился. И уже оттуда, из обжитых новгородцами земель сибирских, тронулись непоседливые ушкуйные артели и не менее неугомонные, охочие до новых торговых мест купцы новгородские. Не они ли, рассказывая по простоте душевной, по праву русскому прихвастнуть — не только по необходимости, но и без нужды, заронили в души князьцов кочевных алчное желание поживиться в богатых закатной стороны землях урусских?!
И потом, когда под игом степняков-захватчиков корчилась православная Русь, Новгород откупался от Орды зауральскими золотом, сибирской пушниной да клыками моржевыми. И тогда ведом им был путь морем до самой Америки, а землею — до Камчатки. И к Амуру не заросли багульником дороги караванные.
Тихо все шло, мирно. Песцом и соболем промышляли ушкуйники в ладу с аборигенами, пашни вместе пахали. Купно отбивая набеги богдойских воинских людей, набеги маньчжуров, бывало, что и гибли либо плелись, повязанные арканами, по нескольку недель до Ивового палисада, что ограждал «породные земли» маньчжурских владык, а то и дальше — за Китайскую стену.
Насуплен Амур, бьет в сердцах белогребные волны одну о другую, будто уж в тягость ему силушка нерастраченная. Высунись сейчас на лодке на струи его тугие — замордует. А может, подобреет, почувствовав на своих плечах груз. Века прошли, как обжили его люди, вот и привык он трудиться.
«Сколько же ты крови унес в море, Амур-батюшка? — думал Михаил Богусловский. — Сколько горя ты видел? Сколько мужества? Берега твои памятниками обставить следовало бы… Но отчего за очевидное право растить здесь хлеб, обихаживать землю так трудно и долго приходится бороться?!»
Он не отделял день сегодняшний от тех, укутанных вековым забвением, ибо считал, что они едины в своей сути, с едиными корнями. Сколько раз он уже пытался осмыслить случившийся исторический парадокс, что Россия, не завоевавшая ничего в Сибири, вдруг стала считаться захватчицей. И даже признание самого китайского императора, что вдруг привалило ему от российских земель миллионы ли, ставшее со временем известным миру, не изменило ничего. Так и повесили ей ярлык «агрессора». Но, возмущаясь всем этим, Богусловский какого-то ясного вывода для себя не сделал, хотя и был он, тот правильный вывод, что называется, на кончике языка. Ведь до маньчжурских владений отсюда, с Амура, когда русские мужики вышли на его берега, было под тысячу верст, а до собственно китайских — и того больше. И чего бы полошиться маньчжурам? Непосильна была им приамурская земля, для набегов лишь предназначалась, так нет — пошли стеной ломить: «Уходите с Амура! Уходите!» Ни сам не гам, ни людям не дам.
Но причина к тому какая-то была. Без нее ничего не бывает. Без причины и прыщ на носу не вскочит, как говаривал отец-генерал.
Может, в добропорядочности российской все дело? В нежадности ее?
«Да, скорее всего, в этом… Да! Именно в этом!..»
И не только здесь, в Сибири. Поворотлив и активен был крестьянин русский, охоч до новых мест — промышленник и торговец. Не страшились они далей дальних, неизведанных, лесов глухих, нехоженых, рек строптивых да гор высоких. Шли и шли вперед, умом своим сообразительным, руками своими крепкими наживали богатства, строили города-красавцы; только зряшним оказывался часто весь тот труд: налетал степняк-кочевник, либо швед, либо пес-рыцарь, а то и свой брат-славянин с запада, и оставались после них груды развалин, кучи пепла.
Потом мсти «хазарам неразумным», которые тем временем сами богатели грабежом, Русь же подсекали, как коня боевого, косой острой под бабки. Верно, поднимал, бывало, русич свой кулак могучий — громкие победы русских известны всему миру: Куликово поле, Чудское озеро, Полтава, Бородино… А что дальше? Довольные, что отбились, возвращались ратники к пашням своим, готовые, правда, отбивать новые набеги. Ну, а если бы — вперед? С огнем и мечом пройтись по земле вражеской, проучить жестоко? Почесали бы затылки вороги, прежде чем второй раз навостриться в поход…
Засечные линии строили, оберегаясь от крымцев, но разве скудел в Кафре рынок рабов? Гнали и гнали татары русских невольников до тех пор, пока не решилась Россия разорить осиное гнездо. Вольно тогда вздохнул южный крестьянин, расцвела черноземная земля. Так бы и с тевтонцами поступить, с германцами. Были же наши стрелецкие полки в Берлине! Казаки по мостовым гарцевали на чистокровных дончаках. Отчего не оставили «вечной» памяти о себе? Чтобы от потомков к потомкам передавался наказ строжайший: России не трожь — больно сдачи дает! А мы все с миром да с добром. Вот и получается: прошло лет пяток — они снова за оружие. И гласом вопиющего в пустыне остаются разумные предостережения разумно мыслящих людей. Обыватель, он как рассуждает: ну, дескать, не завоюю ничего, но поживиться все равно поживлюсь, а прогонят — не беда: дом же не разорят.
«И здесь, на Амуре, дооборонялись, — сердясь на предков своих, имущих власть, думал Богусловский. — Все с оглядкой, все по-порядочному. Только известно испокон веку русскому человеку, что клин клином вышибают. Отчего же не поступили здесь так сразу?!»
Михаил Семеонович хорошо знал историю становления всех границ России, но каждый раз, когда получал направление на новый участок, перечитывал мемуары и очерки, изучал документы, отчеты географических обществ, даже не брезговал путеводителями, а потом и на новом месте не переставал читать и изучать, делать выписки — это для него было все равно что дышать, двигаться, жить…
Наказы царицы Софьи стольнику Ф. А. Головину, который назначен был наместником Восточной Сибири, Богусловский перечитывал несколько раз и потому хорошо помнил их, но если прежде первый наказ казался ему решительным: дипломатическим путем и «войсковым промыслом» радеть тому о безопасности жилецких людей на Амуре, восстанавливать порушенные китайцами города и остроги, то теперь он в нем видел существенный изъян — только строить и оберегать, а не наносить встречного удара.
А следующие наказы были еще хуже. Хотя обстановка в Джунгарии и Северной Монголии складывалась в пользу России, инструкции Головину поступали из Москвы совсем робкие: «Войны же и кровопролития, кроме самой явной от них недружбы и наглых поступков, не всчинять». И требование: не чинить маньчжурам зла.
«Оттого и обнаглели совершенно, — оценивал по своему пониманию обстановку той многовековой давности Богусловский. — Вместо пятисот человек, как обговорено было, подвели обманом к Нерчинску накануне переговоров почти пятнадцатитысячное войско и мощную флотилию. Раньше бы еще, на подступах к Амуру, шею намылить им, подняться по Сунгари к устью Муданьцзяна и построить крепости возле Ивового палисада, у границы их породных земель! Не полезли бы тогда. А если бы осмелились — по мордасам. Не сделали этого тогда — по сей день здесь кровь льется. Теперь вот новые хозяева выискались — японцы… И этим кулаком бы хорошим тоже — по мордасам. Еще тогда, когда к Хасану сунулись. Не только отбиваться, но и вперед двинуться! До Пекина! Оттуда дано разрешение квантунцам оккупировать Маньчжурию. Оттуда все зло!»
Нет, не принесла благодати Богусловскому рыбалка. Клев уже начался, поплавок его удочки давно уже был под водой, леска натянулась струнно, сгибая удилище, а он, пораженный случившимся откровением, продолжал наставлять и далеких предков, и недавних, как им надлежало поступать, чтобы границы России были тверды, чтобы боялись недруги могучей державы, чтобы неповадно им было лезть в ее пределы…
А от прошлого к сегодняшнему легко гать тянуть, тем более что вывод его сейчасный подтверждал и те мысли, какие родились у него на вокзале, когда смотрел он на эшелон, увозивший людей и оружие из Сибири, и ту позицию, которую отстаивал он в перепалке с Оккером, стеной стоял за решительно поступившего начальника заставы. Да, думалось ему, на рожон по пустякам лезть не стоит, но нельзя же закрывать глаза на наглость и коварство?
«Но руки-то повязаны. Попробуй не выполни приказа!»
И так, и эдак подходил он к волновавшей его проблеме, а все одно выходило: зла не чинить квантунцам и маньчжурам.
«Что же получается? Подставляй вторую щеку, если по одной хлестнут! Нет, не выход! Потакательная тактика!»
Можно закрыть глаза на приказ, взяв им с Оккером всю ответственность на себя. Владимира Васильевича убедить в конце концов удастся: не из трусливого он десятка, и то сказать — рабочий-краснопресненец! Но стоит ли брать грех на душу ради святого дела — не лучше ли открыто отстаивать свое мнение?
— Сталину нужно написать! — вырвалось у него, и он даже опешил, услышав в этой тишине свой взволнованный голос. Но так же вслух продолжил: — Доказательно написать! На фактах истории. Он поймет и одобрит.
Задал сам себе задачу. На много дней хватит.
Удочка от резкого рывка сорвалась с рогульки, резко хлестнув по воде, еще мгновение бы, и — поминай как звали, но Михаил Семеонович, очнувшись, рванулся к ней и успел схватить ее уже в воде.
Долго упрямился большущий сазан, не желая покидать свою обитель, и трудно сказать, пересилил бы его Михаил Богусловский или нет, не подоспей шофер. Он уже наловил на стрекоз рыбы изрядно, и хорошей, крупной, смотал уже удочку и, только завернув с открытого берега в затончик, увидел неловкую борьбу начальника штаба с сидящей на крючке рыбой. Припустил что было сил на помощь.
— Ого! — не мог прийти в себя от изумления и зависти шофер, когда рыба оказалась на берегу. — Фунтов десять! Не меньше! Это — фарт! Везучий, стало быть, вы, товарищ командир. Порадуется жена небось?
— Домой не повезем.
— Как это?
— Просто. Не повезем. Забирай себе. Спасибо шофера скажут за уху, — и, видя недоуменность во взгляде шофера, пояснил: — Владлен рыбу очень любил. Вот и не хочу Анну Павлантьевну расстраивать…
И одернул себя, серчая: зачем ложь? А правда была в том, что не мог он обидеть жену тем, что предпочел домашнему отдыху рыбалку. Анна и без того убита горем.
— Поехали в штаб.
Машина тронулась, и потекла прерванная мысль о письме в Москву, в Кремль. Вернулось к нему и тоскливо-встревоженное состояние, теперь еще усиленное беспокойством о сыне.
«Баловала его Анна. Маменькиным сыночком растила. Трудно придется. Ох и трудно!»
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Дмитрий Темник мучился уже вторую неделю. Он сделал все, как наставлял его Трофим Юрьевич: сдался в плен не с пустыми руками. Долго выжидал своего часа, и вот, когда немцы неожиданно и мощно пошли после малой передышки в наступление, фронт дрогнул, смешался, начал откатываться, в этой суматохе он, получив приказ эвакуироваться со своим медсанбатом, сбился с пути, плутал до ночи и, выбрав глухую лесную поляну, приказал остановиться на ночлег. Под предлогом проверки выставленных караулов сбежал к немцам и к рассвету привел их на поляну. Он не предполагал, что гитлеровцы окажутся так безжалостны. Он не был еще привычен к такой кровавой резне, к циничному и жестокому насильничанью, хотя и внушал ему Трофим Юрьевич многие годы: мсти, мсти, мсти. За поруганную честь столбовой дворянской фамилии, за мученическую смерть дяди Андрея, за канувшего в Лету дедушку-генерала. Он презирал всех раненых, поступавших в медсанбат, он презирал медицинских сестер и фельдшеров, которые так заботились о нем, своем командире, но омерзительные сцены добивания раненых и насильничанья над медсестрами немецких солдат сдавили жалостью его сердце, и чем более отдалялось то предрассветье, тем явственней виделись ему те кровавые подробности, тем острее он чувствовал свою в том роковую роль. Он уже раскаивался в содеянном, но понимал в то же время полную безвыходность своего положения.
Вернуться он не мог. Ему оставалось ждать решения своей судьбы. Гадать, как говорится, на кофейной гуще о том, что ждет его впереди.
О себе он рассказал все: и какого рода-племени, и как стал Темником, подкидышем в детском доме, об отце рассказал, о Трофиме Юрьевиче; он дал несколько московских адресов, где готовы оказать помощь немецкой армии, — он предполагал, что этого вполне достаточно, чтобы его определили на службу в какой-либо госпиталь, а если врачей у них достаточно, то в какой-либо штаб переводчиком, ибо язык немецкий он знал вполне сносно. Этого, однако, не случилось: его оставили под присмотром часового в покосившемся домишке на окраине большой деревни и, было похоже, совсем о нем забыли. Часовой относился к нему без малейшего уважения, но не грубил.
Кормили его сносно. Живи себе и живи. Но нет, если твои радужные планы не свершились, начнешь переживать! Начнешь сомневаться. Такова уж человеческая натура.
Еще через неделю его несколько раз водили на «беседы», как называли их, долгие и нудные своим однообразием и повторениями, молодой офицер-щеголь, обосновался который в кабинете председателя колхоза, а потом снова оставили в покое. Ешь, спи, мучайся содеянным злом, с тревогой думай о будущем, тем более что немецкий офицер предупредил на последней «беседе», улыбаясь добродушно: «Надеюсь, вы отдаете себе отчет, что́ с вами будет, если все сказанное вами не подтвердится? Тогда мы отнесемся к вам как к русскому шпиону. — Побарабанил пальцами по столу и добавил: — Человек — не бог. Человек — существо смертное. Одна пуля, и — «никто не узнает, где могилка моя…» Так у вас побирушки по вагонам пели в голодовки?»
У Темника холодело сердце при мысли, что немцам окажется не под силу проверка его слов и тогда начнут они пытать его либо, чтобы не рисковать, возьмут и застрелят. Всё в их власти.
Не знал он, что и столь жестокая расправа над медсанбатом на его глазах, и предупреждение немецкого офицера — звенья одной цепи, которой намерены были фашисты намертво опутать его. Страхом перед возмездием за содеянное, боязнью быть уничтоженным новыми хозяевами при малейшем их подозрении в неверности или просто в неискренности. Не предполагал он даже, что готовится ему не тихое место переводчика в штабе или в полицейском управлении, не врача, а куда более беспокойное и более важное. В Берлине, в секретных, за семью печатями, кабинетах управления полиции безопасности и СД рождался план создания Особого штаба «Россия» — Зондерштаба «Г» — для борьбы с партизанскими отрядами и советским подпольем на захваченных немцами территориях, и во всей этой еще едва начавшей двигаться телеге ему, Темнику, отведено было уже место, пусть на запятках, но все же — место. Его не посвятят полностью даже в суть его собственной роли, он станет работать, как говорят профессионалы-разведчики, «втемную», но даже для этого, как считали его новые шефы, его необходимо захватить в ежовые рукавицы.
Не кручинился бы Темник, не мучился, ожидая приговора немцев, а содрогнулся бы душой, знай он, что не только с близких, но и дальних отсюда мест бредут пленные красноармейцы к приготовленному для них офицером-щеголем загону на большом пустыре между двумя деревнями, которые строго-настрого велено не трогать. Отдана к тому же команда не сжигать еще несколько деревень в округе и даже прекратить отправку парней и девок в Германию. Никому из подчиненных офицер-щеголь не стал рассказывать, ради чего все это делается, но немецкий солдат не привык обременять себя излишней любознательностью и излишними рассуждениями — он точно и беспрекословно выполнял приказ, боясь, ко всему прочему, быть отправленным за непослушание на фронт. Затевалось большое и страшное дело, участником которого Темнику предстояло стать. Ему готовилось еще одно звено цепи, прочнее первого и еще более пропитанное кровью. Но его самого до поры держали в полном неведении.
Кормить продолжали Темника сносно. Конвоир оставался все так же безразлично-холоден, но стал иногда предлагать даже самогон. Удивляло и обескураживало Темника и то, что его не стали больше водить под конвоем через всю деревню к офицеру-щеголю, а тот сам приходил к нему. Не приезжал на машине, а приходил. Обычно после заката солнца, когда наступал комендантский час. Вел он себя по-свойски. Будто отдыхал душой в беседах с добрым товарищем.
Темник подыгрывал, как умел, платил вроде бы откровенностью за откровенность, но в действительности не расслаблялся ни на минуту, боясь подвоха. Он воспринимал вечерние беседы как допросы и после ухода офицера-щеголя долго приходил в себя, опустошенный, измотанный непосильной для него игрой, хотя школу притворства он уже проходил у Трофима Юрьевича. Но там, в академии, а потом в среде коллег все было куда проще: не жизнь стояла на кону.
Но и этим беседам не удивлялся бы Темник, не страшился бы их, знай он, что главная цель тех вечерних посещений — тренировка. Его учили скрывать свои мысли, учили лукавить, искренне защищать то, чему он совершенно противник, а хулить дорогое, заветное. Учили потому, что поняли: ученик имеет навык и — а это особенно важно — способный. Не видя толку, с ним бы не возились. Определили бы его в полицию, и — все дела.
Потянулись вяло дни за днями, проходили вечера тоскливо-бесконечные, когда не жаловал в гости офицер-щеголь, а с ним было еще трудней дождаться, когда окончится фальшивая интимность, когда вернется одиночество и можно будет снова не бояться самого себя. Темник готов уже был выть от отчаяния, он не раз уже отгонял мысль о петле на шею, которая все настойчивей и настойчивей сверлила мозг. Да он, пожалуй, и наложил бы на себя руки в один из вечеров, окажись в доме веревка, но он не нашел ее, хотя и искал, потому дожил еще до одного рокового в своей судьбе часа.
Через многие годы Темник сам себе не сможет ответить, что творилось с ним, когда офицер-щеголь объявил ему решение, как он выразился, Берлина. С подобострастием произнес он то слово, будто святое. А начал он с пространного рассуждения о топонимике фамилии Темника:
— Ваш наставник, как вы назвали его, Трофим Юрьевич или очень дальновидный, или не совсем знал истинное значение вашей новой фамилии. Темник — не только подкидыш, но и начальник войска. В Берлине определено — быть вам начальником войска. Сколь великого, все зависит от вас самого. Но вначале вас убьют… Не совсем, — довольный произведенным на собеседника эффектом, пояснил после изрядной паузы офицер-щеголь. — Вас так убьют, что вы останетесь живы. А когда рана заживет, создадите партизанский отряд…
Подождал, с улыбкой наблюдая за ошарашенным Темником, пока тот пересилит свой недоуменный испуг, и только тогда продолжил:
— Да, да, именно партизанский отряд. Для борьбы с нами, оккупантами, как окрестили нас большевики. Хотел бы вас предупредить: в Берлине доверили вам, дворянину, так что цените это. Будете исполнительным — получите после победы все блага жизни, станете непослушным — получите смерть. Я все выразил? Тогда хорошо. Давайте поужинаем.
Он крикнул караульного, и тот начал заставлять стол яствами, каких Темник давно не видел. А офицер-щеголь предупреждает:
— Нужно кушать много-много. Пить тоже много. Потом долго нужно будет быть без пищи и воды.
До наслаждения ли вкуснотой после такого напутствия? Пересиливая себя, глотал Темник янтарный окорок, а вслед за ним — курицу. Почти всю умял. А мысли прыгали, как почувствовавшие опасность блохи, от одного факта к другому. Разыгрывают убийство? А если и впрямь пуля окажется смертельной?! Но почему долго без пищи и воды? Зачем? Почему вдруг врачу командовать отрядом?! Партизанским? Откуда он возьмется? А как убивать станут? Принародно расстреляют? Мотивы? А командовать партизанским отрядом — все равно что по острию меча ходить!
Офицер-щеголь словно перехватывает мысли. Отглатывая аккуратно чай, начинает подробно объяснять, как все произойдет. Но от его рассказа даже сливки, моренные в русской печке, поперек горла встают. Ловко придумано — ничего не скажешь: кровью полит и устлан трупами будет его путь к командиру партизанского отряда.
Закончен ужин. Закончен инструктаж. Высказаны последние пожелания. Офицер-щеголь на прощание даже удостоил Темника рукопожатием.
— Доброй ночи. Утром за вами придут.
Слишком мягко сказано. Утром за ним не пришли — к нему ворвались, и, едва он успел натянуть шаровары и сапоги, его взашей вытолкали из комнаты и зашвырнули, как мешок, в кузов машины, устланный мокрым дерном. Машина тронулась, он попытался было встать, но тут же получил пинок под зад. Он даже не поверил, что это не шутка. После такой почтительности со стороны офицера-щеголя вдруг — такое. Тот вовсе не предупреждал о подобном обращении…
Еще раз попытался встать, но тут же ткнулся носом в травяную грязь.
«Сволочи!..»
Ругайся, психуй, обзывай конвоиров на любой манер, но молча, иначе неизвестно, чем может все окончиться. За ночь все могло перемениться, планы вчерашние, вполне возможно, рухнули, и теперь он отдан полностью в руки этой беспардонной солдатне. По-всякому они могут повернуть. Доложат, что пытался, дескать, сбежать, вот и прибили. Терпеть нужно, пусть это унизительно до невыносимости. И еще дрожать и от пронизывающего до костей ветра, и от страха.
Дорога свернула в лес, машина еще яростней запрыгала по ухабам и корневищам. Темника швыряло от борта к борту, а когда он близко оказывался у ног сидевших на откидной скамейке солдат, они отпихивали его сапогами, стараясь угодить в лицо. Силы уже оставили Темника, он готов уже был кинуться на своих мучителей, вцепиться одному из них в глотку — пусть добивают остальные, но одного он все же прихватит с собой на тот свет. Он даже попытался было подняться, но толчок в бок свалил его обратно на грязную траву.
Еще один план начал зреть в его голове — рвануться молниеносно через борт. А там либо конец, либо, если останутся целыми ноги, — в лес. Укроет непролазная чащоба. Надежно укроет.
Он уже напружинился, готовый к прыжку, но машина затормозила, и ему, поддав пинка, приказали:
— Встать! Вон из машины! Быстро!
Он поспешил к борту и только начал переносить ногу через него, как его со всей силой, будто защитник отбивал летевший в ворота футбольный мяч, поддели тупорылым сапогом. Темник вскрикнул от боли и мешком вывалился на дорогу. Пока он поднимался, солдатня высыпала горохом из кузова и принялась его мутузить. Били долго и старательно, расквасили нос, рассекли бровь, разбили губы, раскровянили уши. Все тело до пояса оказалось в синяках и ссадинах, зубы, однако, остались целыми, ни одного удара не пришлось ни в пах, ни в печень, потому он не терял сознания, а когда кто-то из конвоиров произнес: «Достаточно» и все, отступив сразу, стали внимательно рассматривать его, будто любоваться своей работой, он с надеждой подумал, что все идет по предусмотренному плану, и немного успокоился.
Дальше они шли пешком. Километра через два вышли на более широкий проселок, по которому конвоиры гнали десяток пленных красноармейцев, раненых, избитых, обессиленных. Наградив Дмитрия Темника добрым тумаком на прощание, втолкнули его под веселый гогот к пленным. Он, безусловно, упал бы, не удержавшись на ногах, но ему подставили руки сразу несколько бойцов. Вместе, плечом к плечу, они устояли и, понукаемые конвойными, порысили по проселку дальше.
На следующем развилке строй пленных пополнился еще несколькими избитыми и измученными красноармейцами, потом еще, потом еще… В огороженный колючей проволокой загон, где уже было полно пленных, загнали их более сотни. Стало сразу тесно и душно, к тому же солнце, хотя и осеннее, начало все же припекать.
До вечера еще втолкнули за изгородь полсотни пленных, и теперь все они вынуждены были стоять, крепко прижимаясь друг к другу, ибо те, кто хоть чуть-чуть касался проволоки, получал штык в бок. Пот, запах крови и гноя — все удушливо смешалось, все напитало до предела бездвижный горячий воздух. Хоть бы маленький ветерок от леса или с поля, хотя бы глоток свежего воздуха, хоть бы чуточку прохлады!
Темник, как и все, задыхался от жары и вони, его тоже мучила жажда, но он был в более выгодном положении, ибо не ел и не пил меньше суток, тогда как у многих пленных по двое и более суток не было во рту даже макового зернышка, и оттого Темник не потерял еще способности наблюдать и думать о своем деле. А задание у него было такое — выбрать из пленных энергичного, лучше из командиров, себе в помощники. В комиссары. Только как это сделать, когда не то чтобы двинуться, а и голову особо не повернешь? Поначалу Темнику показался совершенно невыполнимым в таких условиях приказ щеголя-гитлеровца. Темник даже серчал: «Перестарались. Напихали донельзя. Посвободней бы — видней тогда…»
Но свободности не предвиделось, и он волей-неволей начал, приспосабливаясь к обстоятельствам, приглядываться к соседям. И к тем, кто рядом, и кто подальше. Многие, стоя, спали, а иные — Темник это видел как врач — потеряли уже сознание, и только стесненность не позволяла им упасть. Стоявшие рядом пленники с равнодушием воспринимали обморочное состояние соседей, и только один из них, черноволосый, низкорослый, с лицом восточного степняка, решительным, гордым, сам весь в кровоподтеках, поддерживал сразу двоих своих раненых товарищей, которые бессильно положили головы ему на плечи. В глазах темноволосого виделась Темнику и боль, и ненависть. Гневные у того были глаза. Но когда он переводил взгляд на раненых своих товарищей, особенно на белокурого краскома (Темник определил это по стрижке), на лице черноголового явственно виделись мучительные всполохи души — он, казалось, не пожалел бы себя, чтобы облегчить страдания уважаемого человека, только не знал, как это сделать.
Какое-то время черноголовый вовсе не реагировал на пристальный взгляд Темника, но вот их взгляды встретились, и тут же испарился гнев в глазах черноголового, уступив место вопросительной надежде. Темник кивнул и принялся протискиваться к раненым.
С большим трудом это ему удалось, и он представился черноголовому:
— Я — военврач. Готов сделать раненым перевязку. Но как?
— Я — Кокаскеров Рашид, — назвался черноголовый, не добавив ни своего воинского звания, ни рода войск, и это понравилось Дмитрию Темнику: не болтлив.
Услуга предложена, а дальше что? Не раздвинуть эту плотную массу, образовав нужного для работы врача места. Впрочем, это вполне устраивало Темника: он сделал первый шаг к сближению с избранным им человеком, теперь постарается находиться с ним рядом, делать вид, что тоже готов помочь раненым товарищам, но не знает, как это сделать.
Кокаскеров, однако, повернул все по-своему. Тихо, но по-командирски требовательно он попросил:
— Товарищи бойцы, нужно потесниться. И раненых, кому очень нужна перевязка, направлять сюда.
Покатилась от бойца к бойцу команда, взбадривая людей, будто ветер заколыхал истомленное жарой пшеничное поле, отягощенное тугими колосьями. Прошло немного времени, и начал постепенно рождаться круг. По сантиметру, по сантиметру… Вскоре Темник уже мог свободно начать перебинтовывать белокурого командира; сперва пересиливая себя, но потом, увлекшись (все же он был врач), стал перебинтовывать всех, кого выдвигали в круг.
Никто не стонал, хотя всем было больно, когда отдирал Темник бинты от запекшихся ран, очищал их от скопившегося гноя; все терпели, боясь привлечь внимание немцев-конвоиров. Не ведали они, что никто не помешает делать Темнику доброе дело, ибо Темник для конвоиров — лицо неприкосновенное. Только одному из них, специально натренированному, велено выстрелить в него. Но не здесь, а на околице следующего села. В него и в того, с кем Темник отстанет от строя.
Начинало уже темнеть, а Темник все разбинтовывал грязные, сбившиеся повязки, очищал раны и вновь накладывал бинты или полосы от разорванных нательных рубах, и, казалось, конца этому не будет — совершенно невредимых среди пленных было очень немного. Уж ночь подползала. Непроглядная, зябкая, а он все перебинтовывал и перебинтовывал, хотя усталость на него все более наваливалась. Но это ничего. Это даже хорошо. Ему после такой нагрузки легче будет притворяться, играть изможденного и голодного, все станет естественней и потому нисколько не вызовет подозрений. Не теперь. Сейчас он ангел-спаситель. Потом, когда, как предупреждал его офицер-щеголь, придется обводить вокруг пальца контрразведчиков.
— Все, больше не могу, — выдохнул Темник, едва устояв на ногах от головокружения. — Все…
— Еще двоих, — попросил Кокаскеров. — Все они ждут, надеются…
Не двоих перевязал еще Темник — куда как больше. Правда, все легкораненые, тяжелых он уже всех обработал, но все равно только далеко за полночь сказал ему Кокаскеров:
— Теперь — все. Рахмат тебе большой. Ложись, поспи.
— Нет, я со всеми вместе.
Его не упрашивали. Круг сдвинулся, и Темник вновь оказался плотно зажатым со всех сторон.
Сосед слева предложил:
— Положите голову на плечо. Вот так. Спите.
Какой сон в этой духоте, хотя теперь уже не жаркой, а наоборот, холодной! Вроде бы где тут ночному холоду пробиться в гущу человеческих тел, но нет — просачивался он, цепенил тело и душу…
Перед рассветом стало еще холодней. И неудивительно: дело-то к осени. Темник, безвыходно находившийся долгое время под крышей, просто не ощущал на себе осенних утренников, не привык к ним, оттого и не стал хватать гимнастерку, когда его выталкивали немцы на улицу. Теперь он корил себя за непредусмотрительность и изо всех сил старался сдержать предательскую дрожь.
Для чего он это делал? Чтобы не выглядеть белой вороной? Не вызвать подозрений? Подлость и предательство — трусливы. Не мог он даже себе представить, что никому в те часы не могла прийти мысль о возможном среди них предателе и что нужно разоблачить его и сейчас, пока не натворил он бед, придушить без лишнего шума. Спали, сберегая силы, пленники. Стоя спали. Как, бывало, в ячейках для стрельбы стоя или в окопах. Только опорой теперь не земля родная, а плечо такого же пленника, стонущего во сне.
Солнце поднялось своим веселым бочком над лесом, сыпануло в загон обильно веселые искры и не померкло, столкнувшись с несчастьем людским, с жестокостью людскою, — что ему, солнцу, если оно обогревает одинаково всех — и варваров, и палачей, и мучеников?
Теплело быстро. Темнику стало легко и приятно; какие-то минуты он безмятежно подставлял солнцу лицо, наслаждаясь теплом и светом, но вот застонал сосед, вернув Темника в реальность, и тут же, будто специально подгадав к этому моменту, заурчал в селе мотор грузовика. Не ковш, а целый ушат ледяной воды на безмятежную голову Темника. Сжалось сердце от страха, затряслось, как у зайчишки, который видит идущую по его следу лису, но не дает стрекача, выжидая — вдруг пронесет злодейку мимо. Только нет у Темника надежды даже на авось. Все обговорено, все идет по задуманному, а немцы, как он убедился уже, неохочи до самовольства: приказ для них непререкаем, они выполняют его, хоть им кол на голове теши. Так что — готовься принять пулю.
«А если не рассчитают?!»
Еще когда офицер-щеголь разъяснял, как все должно произойти, эта мысль ошпарила сердце морозом, теперь же, когда миг трагического спектакля близился к кульминации, когда до нее оставались уже не сутки с лишним, а всего несколько часов, опасение возможной случайной ошибки стало так оголенно-ясным, что ноги Темника ватно подогнулись, и если бы не плечи бойцов-соседей, упал бы он с жалобным стоном на утрамбованную сотнями ног землю.
— Что с вами, товарищ военврач?! — тревожно спросил тот же боец, который ночью предложил Темнику свое плечо. — Плохо, да?
— Смерти ему захотел?! — спокойно, с непререкаемой, однако же, жесткостью одернул бойца Кокаскеров. — Знаешь: покупаешь казан — сначала постучи по нему. Ум должен видеть дальше глаза. Понял? — Потом повысил голос, чтобы многие слышали: — Все мы здесь — красноармейцы. Бойцы! А если спросят коммунистов — все мы коммунисты. Изменнику среди нас не жить!
А Темнику безразличны слова Рашида Кокаскерова, он силится совладать с собой, но мозг выстукивает барабанно:
«Вдруг не рассчитают?! Вдруг не рассчитают?!»
Подполз к загону грузовик и заурчал, довольный полученным отдыхом; высыпала охрана, открылись ворота, и прозвучал гортанно приказ:
— Быстро выходи! Быстро!
А следом автоматная очередь. Не по плотной, правда, толпе, а над ее головами, но пленные заторопились; кто посильней и поздоровей подхватывали ослабевших раненых. Но многим помощь уже была не нужна — иные уже закоченели и падали, как только редел загон.
Строились в колонну по три. Кокаскеров теперь поддерживал белокурого, совершенно ослабевшего от потери крови, и Темника, ноги которого не слушались от страха. Только откуда было знать Рашиду истинную причину слабости врача — он считал, что тот отдал много сил, помогая раненым, и теперь сам нуждается в помощи.
— Крепись. Иначе — смерть, — едва слышно, чтобы не привлечь внимания конвоиров, говорил Кокаскеров Темнику. — Они — в упор, кто отставал.
И как бы подтверждая слова Кокаскерова, рванул тишину выстрел и разверзлось небо — автоматные очереди сцепились в сплошном грохоте… Это конвойные, прежде чем погнать пленных дальше, пошли по загону, решетя для верности тех, кто не выдержал свалившегося на их плечи мучения, не огорил последней в своей жизни ночной стужи…
То ли слова уверенного в себе человека, то ли очереди в загоне, скорее всего они, отрезвили Темника. Ему нужно дойти до околицы следующего села. И не только самому дойти, но и помочь Кокаскерову дотащить туда белокурого. Программу он себе определил еще вечером, когда перевязывал раненых: помогать сначала Кокаскерову, но ближе к деревне начать играть обессилевшего, даже упасть раз-другой, чтобы оказаться почти в хвосте колонны (он был уверен, что этот черноголовый с волевым восточным лицом не бросит их), а у самой околицы притвориться совершенно изможденным, упасть — тут и последуют выстрелы по всем троим. И вот едва не спутал он себе все карты своим же безволием, своим страхом. Конвоиры могут подумать, что он, Темник, хитрит, и тогда может прозвучать последний в его жизни выстрел. Офицер-щеголь совершенно откровенно предостерег его от непослушания.
Как, выходит, ни поворачивай, кругом — смерть. Так что брать себя в руки нужно. И шагать вместе со всеми. И когда прокричали конвойные свое лающее: «Пошел! Быстро, быстро!» — он уже вполне справился со своим страхом. Только не вдруг он выказал вернувшуюся решимость, а с нею и силу. Еще переплетал ногами добрых четверть версты, но постепенно шаг его становился тверже и тверже, а когда Кокаскеров похвалил его: «Молодец, упрямый», он ответил:
— Пропадешь иначе. Все в наших руках.
Еще несколько десятков метров «борьбы с собой», и Темник не только отказался от поддержки Кокаскерова, но и сам подставил плечо белокурому.
— Ты — джигит! — благодарно похвалил Темника Кокаскеров. — Будем с тобой братьями.
Знал бы Кокаскеров, какую судьбу готовит ему Темник, бросил бы в лицо дерзкое: «Желтая собака!» — не боясь совершенно последствий. Неведома ему самому была подлость, поступки его всегда соответствовали мыслям, поэтому и людей воспринимал по своим меркам, и хотя жизнь достаточно мяла его, испил он целые бурдюки горького, но все же не научился распознавать двуликих янусов. Вот и теперь он искренне уверился, что новый его товарищ — человек мужественный, благородный и вполне достоин того, чтобы побрататься с ним.
Темник же ликовал. Ему удалась, вопреки всем опасениям, игра совершенно, и он уже продумывал, как с такой же тонкостью доиграть маленькую, но важную сцену жизненной своей драмы.
А все опять же получилось естественно, без особых на то усилий Темника. И причиной тому стала первая очередь, донесшаяся от хвоста колонны.
«Так и в меня!» — взвихрилась мысль, и подкосились ноги. Но только на миг. Он пересилил свою слабость и остался доволен, что Кокаскеров не заметил ничего.
Прошло еще несколько минут, позади еще десятки пыльных метров, и тут еще одна очередь полоснула по тишине. Очереди стали раздаваться все чаще и чаще, потом, экономя, видимо, патроны, стреляли конвоиры в отстающих одиночными выстрелами, которые особенно обостренно воспринимал Темник.
«Вот так и меня!»
Он больше уже ни о чем не мог думать, ничего не воспринимал, он даже застонал, вторя белокурому, и едва не упал от навалившейся слабости. Колонна обтекала их, обдавая пылью, запахом гниющих ран и пота, а Темник стоял, покачиваясь, крепко вцепившись в руку белокурого.
— Дорогу осилит идущий. Надо идти. Позади — смерть, — становясь вновь между белокурым и Темником и беря их под руки, наставлял Кокаскеров. — Надо идти!
— Да-да, надо идти, — соглашался Темник. — Только вперед!
Они тронулись. Колонна все еще продолжала обтекать их, но вот кое-как они втянулись в ритм и пошагали было в такт со всеми, но тут подвернулась нога у белокурого, от резкого движения раненое плечо полохнуло болью, пронизав все тело; он даже вскрикнул от боли, но потом, пересиливая боль, попросил:
— Оставьте меня. Мне все равно — конец. А вы… Держитесь друг друга.
— Мой отец так говорил: «Нагрянула беда — наберись мужества!» Или ты слюнтяй?! Пошли!
Он был груб, Кокаскеров. Он был возмущен. Он требовал от своих новых друзей, чтобы те боролись за жизнь. И они пошли. Белокурый — превозмогая боль и слабость, Темник — обретая вновь способность мыслить и оценивать происходящее. Он даже обрадовался, увидев, что они теперь находятся почти в конце колонны. Значит, до самой деревни можно больше не сбиваться с ритма. А до нее, как он знал из рассказа офицера-щеголя, уже осталось не так и много.
Действительно, дорога вскоре повернула вправо, миновала овраг, прохладный, в густом тонкостволье орешника, приподнялась на взгорок и раскинула перед взорами обессилевших страдальцев русскую деревню, с кузницей на отшибе, с гумном вдалеке, почти у леса, с церковью в центре, когда-то красивой, но теперь с побитыми боками и свежеразвороченной маковкой. Досталось ей с избытком и пуль немецких, и снарядов, но устояла, укрыла защитников земли родимой от них. А те, похоже, не дремали: вон сколько крестов с рогатыми покровами-касками поодаль от деревенского кладбища. Как на плацу вышеренговались в парадной ровности.
Утешно это сердцу красноармейскому, взбодрилась колонна, стройней пошла, еще крепче прижали к себе обессилевших здоровые, чтобы не упал кто, не достался злобству вражескому.
А что Темнику делать? Вот уж и околица. Рукой до нее подать. На ней все должно случиться. Там пуля вопьется в его измученное тело.
Пересекли тальниковый пояс, и вот уже нет пыли под ногами, а пружинит мягко вековечная трава-мурава, не кошенная ни разу, но и в рост не пущенная: тут ее и люди на хороводах праздничных топтали, и козы, к кольям привязанные, и телята. Пацаны здесь в лапту гоняли да в клек резались… Сколько всего видела и перевидела околица! И добра, и зла. Здесь и гармоники заливались, и солдатки мимолетным своим счастьем на траве наслаждались, и девки неразумные, доверчивые горькие слезы на нее лили… И в сабельной круговерти сходились здесь заступники с ворогами, обжигая нежность травную кровью своей горячей. Под пулеметными ливнями валились на траву околичную эскадроны белопогонные в гражданскую… Забываться только все то стало. Хороводы шумные да песни бодрые звучали здесь многие годы. Пока не пришла беда. И не ведала еще околица такой ярости, с какой бились красноармейцы малым числом с фашистскими варварами… Не приходилось ей стелить свои травы под ноги пленных мужей российских, не видела она и той жестокой подлости, какая должна была вот-вот произойти.
Темник покачнулся от кружения головы, начал падать и невзначай, непроизвольно вроде бы оперся на раненое плечо белокурого, тот ойкнул от боли, побледнел и тоже едва устоял на ногах. А колонна успела обойти несколькими своими звеньями замешкавшуюся тройку и потянулась дальше по околице.
— Вперед, джигиты! — выкрикнул Рашид. — Вперед!
Но сделали они всего несколько шагов, и Дмитрий Темник вновь закачался, остановившись. На этот раз не устоял на ногах. Кокаскеров поднял его, подхватил под руку цепко, поволок вперед; сделал он это, однако, нерасчетливо для белокурого, и тот, застонав от боли, повалился на траву. Темник упал рядом, прямо на раненое плечо белокурого; Кокаскеров нагнулся, чтобы поднять их обоих, не замечая будто, что колонна уходит все дальше и дальше, что теперь ее уже не догнать, что несколько раненых уже оглядываются со страхом и жалостью на отставших, а значит, обреченных. Кокаскеров напрягался изо всех сил, стремясь поднять своих побратимов. И прозвучал выстрел. В спину Рашиду Кокаскерову. Потом еще два. В белокурого. И в Темника.
Они уже не видели, как выбегали с причитанием простоволосые бабы с буханками хлеба и совали те буханки пленным красноармейцам, а конвойные, хотя и кричали на баб, но не стреляли в них, и те, осмелев, поволокли крынки с молоком, что особенно живительно было для давно не пивших людей.
Пленные торопливо, вначале с большой опаской, хватали и хлеб, и молоко, и другую снедь, что подавали им сельские женщины, и тут же спешили проглотить все доставшееся, ибо помнили, как всего сутки назад в таких же вот деревнях автоматные очереди прошивали и берущих, и подающих. Но здесь было все почему-то иначе, потому, осмелев, как и колхозницы, пленные передавали крынки по рядам, а хлебом, холодным мясом и картошкой набивали карманы, совершенно не пытаясь осмысливать, отчего так необычно ведут себя церберы, отчего они подобрели. А истинная подоплека происходящего была такой: погонят теперь их по негоревшим селам, где вот так же станут выносить им бабы хлеб и молоко, это подкрепит их основательно, и только совершенно обессилевших от потери крови примет родная земля, а остальных погрузят в товарняк и увезут в Германию, где раздадут по имениям, чтобы выжило из них как можно больше.
Ох как далеко еще было до подготовки фашистов к борьбе, как они через несколько лет назовут, «после 12-го часа», даже самые трезвые головы вряд ли думали о возможной расплате за агрессию. Понимание это придет намного позже, но гитлеровцы тогда старались максимально обезопасить своих агентов и обеспечить полное подтверждение разработанной легенды.
Колонна пленных миновала село, бабы еще долго вздыхали, отирая слезы, старушки истово крестились, моля бога не карать столь жестоко за малые прегрешения людские, не вести дело к концу света. Те, кто помоложе, упрекали богомолок в пустобрехстве: был бы, мол, бог, позволил он разве такое зверство — извел бы под корень фашистов-нелюдей.
— Иль сами изверги-то не грешны?! Сколь вон людей безоружных погубили?! Против бога это. Только что им от бога сделается? Вон морды какие откормленные, беда одна…
— Придет и им час судный! — не сдавались старушки. — Придет!
— Не от бога. Как сполчатся мужики наши, как озлобятся да власть наша их оружием в достатке снабдит — вот тогда суд свершится. Верный суд. Народный…
Сколько бы еще пререкались молодухи со старушками, только мальчонка конопатый, босоногий взвонился бешено в угрюмые речи:
— Живы они! На околице что! Стонут!
Не вдруг поняли мальчонку — слишком уж неожиданно требовалось изменить душевное состояние. Но вот выкрик-приказ:
— Бегим, бабоньки!
Юбки захлестали по ногам, волосы затрепались на встречном ветру. Старушки и те семенили на пределе своих сил за бойкими молодицами. Только две или три из них в дома повернули. За ведрами. И еще заведующая медпунктом Рая Пелипей, месяца за два до войны направленная сюда после фельдшерско-акушерской школы, побежала в обратную сторону, за бинтами и йодом. Рослая и тощая, длинноногая, как богомол, она легко неслась по травной улице с непроветренным еще запахом пота, крови и гноя. Быстро вытащила из-под кровати фанерный ящик, куда упрятала она бинты и медикаменты из медпункта, схватила медицинскую сумку и, добавив туда еще несколько бинтов, побежала широкошагно к околице.
Перегнала старушек, подбежала к плотному бабьему кругу и спросила, переводя дыхание:
— Как они?
— Живы! — радостно загалдели в ответ женщины. — Живы, соколики горемычные!
— Расступись тогда. Воздух им нужен!
Подождала, пока женщины не отпятились подальше, спросила строго:
— Вот так и будем торчать? Дело делать надо. Трое носилок нужно. На жерди одеяла нашить. На овин снесем. Оберегать миром станем. Еще, женщины, нужно по дороге пройти: вдруг кто еще жив остался? В лес их сразу. Там и тень, и от глаз подальше. Мертвых похоронить нужно. По-людски чтобы…
Она не вмешивалась в распределение обязанностей, — она распорядилась и начала осматривать, сколь тяжелы раны, нужно ли перевязывать сразу или погодить до места, где можно будет обработать их по всем правилам.
«Двое — выживут, — сделала она заключение после осмотра, — а вот этот, беленький, больно плох…»
— Водицы, касатка, принесла. — Запыхавшаяся старушка поставила эмалированное ведро, почти полное хрустальной ключевой воды. — Гляжу, побегли все, а без толку. Если живы, думаю, перво-наперво воды-спасительницы им потребно.
— Молодец, бабуля, — искренне поблагодарила Рая Пелипей расчетливую старушку и, смачивая марлевую салфетку, начала протирать ею лица раненых. Потом осторожно, чтобы не поперхнулись, попоила горемык.
От села уже бежали женщины с носилками. Быстро сделали и надежно: закрепили ватные одеяла на жерди проволокой и — бегом к околице.
Пока переносили раненых на гумно, пока медсестра обрабатывала раны, прибежал посланец от женщин, ушедших по дороге. Тот самый босоногий Вовка, что всколыхнул село криком: «Живы они!..» Трет кулаком глаза, от испуга округлившиеся. Шмыгает беспрестанно носом.
— Ну, что?! — спрашивают бабы. — Что?
— Изверги! — надрывно выдавливает мальчонка, явно повторяя услышанное от женщин. — Катюги смертные. Вся дорога как на бойне.
— Живые-то есть ли?!
— Есть. Двое еще. Дышат, стонут, только беспамятны. Пошибче бы, велели сказать, их к медичке…
Заторопились бабы, подхватив носилки, а медсестра не знает, как поступить; то ли со всеми вместе бежать, оставив раненых под опекой старушек, то ли самой на гумне оставаться. Подумавши, осталась. Слишком плохи все трое, но особенно — белокурый. Полный коллапс. Кровь бы ему сейчас перелить, да как это сделаешь? Остается одно: уколы. Камфорные. В сумке санитарной, слава богу, много ампул. Приготовлены для такого случая. Да и всем остальным камфора тоже не повредит.
Не присела ни на минуту Рая Пелипей, отгоняя смерть от несчастных, а тут уже и новых несут. Госпиталь целый. Первый раз с таким пришлось столкнуться медицинской сестре. Но ничего — управилась. Все сделала как следует. С помощью сельских женщин, конечно. Те и воду таскали, и бинтов нанесли из дома в достатке, а когда потемнело, светили лампами, чтобы видней медичке было бинтовать.
— Вот и все, — наконец с облегчением выдохнула Пелипей и опустилась устало на солому.
— Как, Раиса, будут жить ли? — заспрашивали ее бабы, и она ответила вполне уверенно:
— Должны. Все. И он — тоже, — кивнула на белокурого. — Если заражения не будет…
— Подорожники бы на раны.
— Семя льняное отварить.
— Сахару нажевать…
Улыбалась снисходительно Рая Пелипей, слушая советы заботливых женщин, но пообещала:
— Попробуем все. — И добавила после малой паузы: — Когда лекарства закончатся. — Вновь пауза. Лицо посерьезнело. Продолжила иным уже тоном: — Вот что, лечить — мое дело. А вот охранять? Немцы возьмут и заглянут сюда, тогда что?
— Валом когда намедни повалили, обошли гумно — не по пути, выходит. От дороги вон даль какая! — завозражали женщины. — Ишь невидаль для немца — гумно. Гумно, оно гумно и есть, на экскурсию сюда фрицам ходить резон ли?
— Это как посмотреть, — не унималась медсестра. — На машине или на мотоцикле — рукой подать от села. Завернут посмотреть, не припрятан ли хлебушек. Береженого бог бережет. Потом будем локти кусать, если живы останемся, если все село за укрытие раненых красноармейцев спалят фашисты. О жизни бойцов подумаем давайте, о своих жизнях. Мужиков, считаю, позвать из леса стоит…
Не вдруг согласились с этим женщины. Раненых жаль — слов нет, но сынки и мужья тоже не чужая кровь. Выйдут из леса, а тут — немцы. Побьют всех. Только прямо никто об этом не говорит, а причины разные придумывают. Только без пользы все: Рая Пелипей на своем твердо стоит.
— Не властны мы без мужиков. Если ошибемся, им горе великое принесем. Да и много ли они напартизанят без села и без нас?
Хоть и долго пререкались, но пришли к согласию: послать весточку в лес. Побойчее молодух выбрали. Снарядили, будто за грибами, а вскоре разошлись по домам, определив, кому когда помогать медичке, кто молоко несет, кто меду, кто бульон куриный…
Почти все, о чем спорили женщины, Дмитрий Темник слышал. Сознание вернулось к нему, когда укладывали его на мягкую солому, покрытую ватным одеялом. Резко опустили голову, и боль пронзила все тело, но он не вскрикнул, а только выдохнул глухо стон и не открыл глаза. Он понял, что подобран, что все идет по плану, что теперь совершенно все зависит от него самого и потому ни в коей мере нельзя спешить — лучше подольше находиться в «шоковом состоянии», пусть ничего не видеть, но зато все слышать и обмозговывать услышанное. Он весьма обрадовался, когда женщины заговорили о мужчинах, укрывшихся в лесу: «Вот оно — начало. Есть отряд!» И в то же время одолевало его беспокойство: «Если отряд уже есть — есть и командир. Борьба тогда предстоит. Это — плохо». Но, размышляя и прикидывая, он убедил себя, что легче потеснить, а может, даже убрать руками немцев командира отряда, чем создавать отряд заново.
Потешно ему было слушать испуганные речи женщин, опасавшихся появления немцев-карателей: он-то знал, что долго сюда никто не пожалует. Только об этом не скажешь. Пусть трясутся от страха. Это даже — хорошо. Если унесут в лес — тоже хорошо. Только отчего пятеро живых? Похоже, немцы ему пристегнули «око недреманное». Белокурый не в счет, Рашид — тоже. А те, кого принесли позже, оба церберы, или один из них? Тут придется вычислять. Щеголь-офицер не говорил, что человек для связи будет среди пленных. Стоп… Темник помнил инструктаж в мельчайших деталях. Вот где разгадка:
«— На связь к вам выйдем сами, когда в отряде вы заработаете свой авторитет».
«— Как об этом вам станет известно?»
«— Не задавайте ребяческих вопросов…»
Все верно. «Око недреманное» здесь. Один? А вдруг оба? Знать это ему было важно, ибо, случись какая осечка, двоих обмануть будет сложнее. Но столь же сложно определить, кого из них следует остерегаться. Скорее всего — бесполезное дело. Вернее будет не ломать понапрасну голову, а считать обоих соглядатаями.
Все вроде бы встало на свои места, теперь главное — спокойствие. И уверенность. Как говаривал Трофим Юрьевич: если знаешь хоть малую толику, что против тебя замышляется, — ты хозяин положения. Все хорошо будет. Все устроится. Нахальства побольше, предложений смелых, даже дерзких, и — признают мужики-колхознички власть его над собой.
Когда темнеть начало, пришли на гумно партизаны. Темник даже глаза прощелил — так не терпелось ему увидеть «народных мстителей». Под пятьдесят почти всем, да юнцов-несмышленышей несколько. Безоружны, можно сказать. Две тулки-курковки, обрезов несколько и только одна полноценная винтовка. Со штыком. Темник рад увиденному. Таких легко будет под начало взять. Не отряд пока это, не мстители еще, а укрывшиеся на всякий случай от захватчиков в лесу. Мужицкая вековечная настороженность сработала: оглядеться, переждать.
«Пора выходить из шока, — решил Темник. — Опоздать иначе можно…»
Да, ему нужно было «обработать» в свою пользу мужиков, пока без сознания Кокаскеров. Тот, если очнется, все по-своему поведет. Оставит Темнику вторую роль. Как в загоне. Правда, там такая роль его вполне устраивала, он даже не помышлял что-либо менять. Теперь-то все будет иначе: у него, Темника, тоже есть и воля, и ум, и характер, но зачем, однако же, создавать для самого себя препятствие, усложнять и без того сложное положение борьбой за лидерство, если его можно сразу захватить.
Не думал Темник в тот момент, что новые хозяева его предусмотрели это и определили ему и его «избранным» разного достоинства выстрелы. Он поймет это, когда, почти совсем поправившись, станет сам лечить и Кокаскерова, и белокурого. Но пока он боялся опоздать, и, как только двое мужиков стали приподнимать его, чтобы переложить на носилки, он застонал и размежил глаза.
— Потерпи, казак, атаманом будешь, — добродушно, пытаясь упрятать жалость, подбодрил Темника один из партизан. — В лесу — оно покойней. Фашист в лес носа не сует.
— Потерплю, — выдавил запекшимися губами обещание Темник, — если так надо.
Понесли раненых бережно, шагая в ногу и поспешно. Уверены были, что не появятся фашисты. Даже не оставили партизаны на опушке никого для наблюдения, и Темник увидел в этом повод для того, чтобы сделать первый шаг к лидерству. Но переждал, пока не углубятся в лес партизаны и привал сделают не кратковременный, а основательный.
Это произошло перед рассветом. Небольшая поляна в пятнах березнячка. Безмятежно попискивают пичужки, просыпаясь и готовясь к трудовому дню. Блаженство! Какая тут война? Где она? Вечный мир и покой. Повалились мужики на траву, утомленно потирая руки, будто докосили загон и теперь время понежить себя в благодарность за добрую работу. Только Раиса Пелипей не расслабилась, захлопотала возле раненых, делая им уколы и поправляя повязки. Темника не стала колоть. Прошлась мягко пальцами по повязке — все на месте. Проворковала мягко и очень тихо:
— Вам камфора не нужна. Вы давно не в шоке. Давно…
Вот тебе и на! Ошарашила!
А ей вроде бы без дела ею сказанное. Она уже у других носилок. Пробегает пальцами по бинтам, отстукивает носочек ампулы с камфорой. Темник наблюдает за ней, беспечно-уверенной, легкой, и никак не может понять, что у нее на уме. Вроде бы разоблачила его, но так, чтобы никто, кроме него самого, не понял. Для чего?
«Возьмет и выдаст?!»
Путается все в голове. Вроде бы продумал уже беседу с партизанами, логично построил ее, и вот на тебе — новость. Начни сейчас говорить, а она — ляп: «Не слушайте его. Притворщик он. Или — предатель». И все. И — конец.
«Пусть будет — что будет!» — решил он и заговорил, обращаясь к мужикам:
— Кто у вас командир? Пусть подойдет.
— Ить нет его еще. Не избрали. Председатель, Акимыч наш, не пожелал. Намедни послали к секретарю райкома, он в подполье теперича, чтоб, значит, командира прислал да оружию, так он ответ дал, чтоб, значит, повременили малость. А теперь, думаем, нужды в том нет: вон сколь вас, бойцов, а может, и командиров…
— Да, я академию окончил. Если доверите — осилю.
— Как же не доверить? Доверим. Подлечись давай и — с богом.
Лучшего не услыхать. Радостно Темнику и боязно: вот сейчас медсестра скажет свое слово. Но помалкивает та, занята своим делом и вроде не слушает мужского разговора. Совсем осмелел Темник:
— С богом — не знаю. Коммунист я.
— Дык, это так, к слову.
— А лечиться, товарищи, времени нет, — вроде бы не слыша оправдания, продолжал Дмитрий Темник. — Бить и бить врага! Как Сталин сказал: земля пусть горит под ногами фашистских захватчиков.
— Оно, конечно, куда как верно. Оружие вот только бы…
— Не в одном оружии дело! В понимании момента дело. В ненависти к врагу! И еще… в бдительности! — Помолчал немного, чтобы и передохнуть, но более для того, чтобы почувствовали колхозники-партизаны значимость сказанного, и вновь заговорил, теперь уже тоном упрека: — Вот вы хотите укрыть нас от карателей. Безусловно, патриотично это. Но делаете это с беззаботной беспечностью. Откуда у вас гарантия, что немцы не нагрянут в село? Никто не уверен? То-то… А если про отряд прознают?
— Откудова? Кто скажет им? — попытался возразить один из сельчан. — И леса они пуще страха боятся…
— Говорить так, значит, не знать фашистов. Пытать начнут — не всякая женщина выдержит. А что им леса бояться, если будут знать, что оружия у вас всего ничего.
— Это уж точно, кот наплакал.
— Поступим так: вот там, на опушке, останется заслон. Пока мы не минуем новый рубеж, какой вы определите.
— У болота. Туды хода часа два.
— Значит, через два часа заслон переходит на новый рубеж. Потом на следующий…
— Дык… за болотом — дома мы. На острове.
— Хорошо. У болота станем держать постоянный пост наблюдения. Видимо, все про Ермака песню знаете? А что же тогда на ус не мотаете? Нельзя спать без охраны. «Чапаева» тоже все видели? Отчего геройский комдив погиб? Беспечность проявлена. Так вот, если уж доверяете мне командовать отрядом, уясните перво-наперво: ротозейства не допущу!
— Так мы-то что? Кто ж из нас против? Как повелишь.
— Еще одно задание: думайте все, как поступить, чтобы глаза и уши иметь среди немцев. В комендатуре. В управе.
— Райком подпольный, сказывали, обмозговал это дело, — возразил Акимыч, но Темник парировал:
— Это очень хорошо. Но вдруг связь с райкомом нарушится — тогда как? И потом… От райкома мы сможем получать данные и в то же время ему помогать.
— Дело командир говорит, — вмешалась Раиса Пелипей. — Тут судить да рядить надо ли? Польза очевидная. Я думаю…
— Кто что думает, — обрубил Темник, — я выслушаю на месте. С глазу на глаз. Вече устраивать не стану. Слишком дорога ставка: жизнь на кону. Жизнь не только того, кого пошлем, а и всего отряда. А нам побеждать надо, а не гибнуть.
Всем понравились последние слова нового командира: не верхогляд, башковитый, за таким не боязно идти, взвесит, прежде чем решать что-то. И рисковать, похоже, зря не станет. Людей оберегать будет.
А сам Темник после столь категоричного заявления ждал, как отреагирует медсестра. Оскорбится? Или нет? Возьмет да и объявит всенародно о его притворстве на гумне: «Поет Лазаря, а сам — вынюхивал!» Что тогда?! Лихорадочно решал, как вести себя тогда: ответить резко либо поднять на смех медсестру — что, мол, врача образованней? И так прикидывал он, и эдак, чтобы ловчее как-то выкрутиться, а Пелипей — ни гу-гу. Сделала укол белокурому, встала во весь свой богомольский рост, потянулась, сгоняя усталость поясничную, потом спросила мужиков-партизан:
— Не пора ли? Не близок путь…
Верно, впереди еще много верст лесных да болотных — сколько ни оттягивай время, а одолевать версты те придется. А чем скорей, тем оно и лучше. А тут еще и командир новый голос подает:
— Права медсестра. Долгие привалы не следует делать. Чем скорее раненых донесем, тем больше надежды на их выздоровление.
Кто же немощным зла желает? Поплевали, кому первым нести носилки, на ладони и — вперед. На сей раз хотя и с малым, но все же заслоном за спиной.
У болота передохнули немного подольше, затем похлюпали след в след по только им ведомому ходу. Носилки повыше поднимали, чтобы не замочить ран, иначе пиши пропало — загноятся. Из последних сил бредут мужики, но привала не сделаешь: нет местечка сухонького, топи вокруг с плесневелыми хохолками осоки и камыша на плешиво-блескучей глади.
Но вот наконец и твердь, бугром вверх поднятая. На угоре — дуб в два охвата, вольный, победивший в долгой борьбе за место под солнцем, а дальше — березняк, непомерно густой и оттого до жалости тонконогий. Кому-то здесь еще предстоит победить, кому-то пасть в борьбе. За березовым лесом — сосновый. Старый, не густой, но могучий. Твердо обосновался. Ни дуб, ни березу, что захватили пустоту полянную, не пускает к себе. Плотно застлан лес хвойным ковром — ничему, кроме гриба, не уцепиться здесь корнями…
Смотрит на все это Темник и прикидывает, что на дубе хорошо пост наблюдения соорудить, а по берегу прорыть окопы. В березняке — еще один ряд окопов, а здесь, в сосновом лесу, ячейки вразброс. Мысленно он уже перенес себя и на поляну, куда их несли и где, как ему говорили, стоял дом лесника, окольцовывал ее окопами, полосовал глубокими щелями, где могли бы партизаны укрываться «в случае авиационного налета», хотя твердо знал, что никакого налета с воздуха на их отряд не будет…
Только когда они вышли на поляну, крохотную, с притулившимся вплотную к опушке темностенным домишком и шалашами из лапника, весь его так ловко обдуманный план лопнул мыльным пузырем. Он предполагал увидеть здесь хотя бы начало работ по оборудованию базы, но ничего похожего здесь не было. Потому-то он, не дав как следует отдышаться партизанам, не став даже ожидать, пока медсестра сменит набухшие от просочившейся крови бинты, начал совещание — «партизанский круг», как он его назвал, надеясь, что он приживется и будет собираться этот круг всякий раз, когда потребуется решать что-то важное для всех.
Спросил вначале:
— Намечены ли боевые операции?
— Оружия нету. Ждем вот. Динамит тоже. Мост определили — в воздух.
— Тогда так: затвердим командование, отряда. Политрука, начальника штаба, начальника разведки, думаю, определим, когда раненых поставим на ноги. Из них определим. Начальником тыла назначим председателя колхоза. Как ваше мнение?
— Ладно будет.
— Еще вопрос. Велик ли остров и есть ли к нему еще подходы?
— Вдоль — версты три. Поперек — поменьше чуток. Болотина кругом непролазная. Была, сказывают, прежде гать супротив нынешнего хода, до земли самой шла, да утопла. Счетно, кто помнит ее. При неволе можно и по ней.
— Ясно. Так тогда поступим: два поста наблюдения оборудуем. У той тропы, по какой мы шли, и у затонувшей гати. И окопы тоже. Это — первое, с чего начнем. Сегодня же. Потом землянки станем рыть.
— Мокро, — возразил Акимыч. — Глубже метра нельзя — вода.
— Выход тогда один, — помедлив чуток, продолжил Темник, — роем до мокроты, остальное — срубами поднимаем. Для маскировки засыплем землей и хвоей. Расчет такой: землянка — на десять человек. Одна — штабная, одна — командирская. В домике — санчасть. И кухня со столовой. Согласны?
— Пригоже.
— Одновременно роем щели. Метра на полтора. Вода на дне — ничего. Бомбить, не доводись век такого, станут — в щелях спасение.
— В полицаи бы отобрать, чтобы знать, значит, что супротив нас готовят…
— Решим. Только не на кругу. Я говорил: поодиночке звать стану. Как командирская землянка готова будет, так и начну.
Он распоряжался так, чтобы поняли люди: не на один день они здесь, что предстоит им долгая борьба и к ней нужно готовиться основательно. И спешка в этой подготовке совершенно противопоказана. Ничего от нее, кроме вреда. Он и партизанский круг вел неспешно. Захватив поначалу инициативу в свои руки, он затем терпеливо выслушивал советы партизан, как лучше организовать оборону, где избы-землянки рубить, как доставку провианта надежно наладить. Он с трудом уже воспринимал суть советов, ибо сильно устал, но никого не торопил, а, выслушав, либо соглашался с предложением, либо отказывал, объясняя даже, отчего неприемлем совет. И неизвестно, как долго чесали бы партизаны языки, хвалясь своей разумностью (привычно, как на довоенном колхозном собрании), если бы не вмешалась решительно Раиса Пелипей:
— Все. Довольно. Человек только из шока вышел, а вы!.. Лопаты пора в руки брать. И топоры.
— И то верно. Баста. Покурим и — за работу, — согласился бывший председатель колхоза имени Калинина, а теперь начальник тыла партизанского отряда Акимыч. — Непочатый край ее.
Скрутили козьи ножки, поцокали кресалами и задымили всласть, продолжая все же прерванный разговор закулисно, так сказать, пока Акимыч не прихлопнул теперь уже пустомельство:
— Пошли. Пусть командир и другие раненые отдыхают. — Потом спросил медсестру: — Тебе нужен ли помощник?
— Нет, справлюсь сама.
Когда партизаны, получив от Акимыча задания, разошлись группами по своим рабочим местам, Пелипей, плотно закрыв дверь домика, где лежали раненые (вдруг кто придет в сознание и услышит их разговор?), подошла к Темнику и села рядом, прямо на землю:
— Я внимательно слушала вас. Вы начали верно. Русского мужика подчинить можно, если его споить или заставить работать. Я одобряю.
Она, медсестра, женщина, моложе его годами, а говорила с ним, военврачом, почти так же, как офицер-щеголь. Догадка не заставила себя ждать. Подумал удивленно:
«Ишь ты, как все быстро! Уже — связная. Хитрющая, бестия. Заставила поволноваться…»
Вздохнул облегченно. Теперь ему не нужно ежеминутно опасаться возможного разоблачения, не нужно гадать, отчего, поняв его состояние, не сказала людям она об этом. Теперь ему все ясно: она немка, о нем, Темнике, не все знает и принимает его тоже за немца.
«Что ж, пусть будет так».
— Я уйду для «глаза и ушей», — хмыкнула она, — из отряда первой. Пока не получите инструкций, никого никуда не посылайте. Дальше… Мы должны стать мужем и женой. По любви ли ко мне вы возьмете меня в жены, в благодарность ли за спасенную жизнь — это решать вам. И то и другое для всех не покажется обманом. Когда свадьба? Покажет время.
«Ничего себе — жена. Жердь сухостойная», — протестующе подумал Темник и в то же время вполне понимал, что Раиса Пелипей станет его женой. Никуда ему от этого не уйти. С потрохами купили его немцы, и теперь у него одна дорога — безропотное послушание.
— Я вам буду удобной женой, — заверила Раиса Пелипей. — Очень удобной…
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Сколько страниц уже исписано и порвано — одному богу известно, а письмо в Кремль не складывалось. Все, казалось, в нем было: и ратная история Приамурья, и сегодняшняя обстановка, с точным расчетом сил вражеских и наших, плотность и боеспособность населения, и совет был не оголять и без того не густые людьми Сибирь и Дальний Восток — все было в письме, но каждый раз, перечитывая его, прежде чем вложить в конверт, Богусловский с досадой понимал, какое оно тягуче-длинное и безвольно-вялое. Он рвал письмо и не брался за него неделю, а то и две, оправдывая себя, что не совсем оно продумано, не совсем выношено. В Кремль же — не своему отцу-генералу. И не думалось ему, что и вялость, и многословие — от робости перед адресатом. И еще от боязни сказать все оголенно, без огляда на то, как его послание будет оценено.
Сегодня он тоже трудно выискивал нужные слова, нужные фразы, вымучивая строку за строкой, и даже обрадовался телефонному звонку Оккера.
— Зайди, — прозвучало буднично в трубке, но Богусловский понял: что-то важное сейчас сообщит начальник войск.
Убрав недописанную страницу в сейф, Богусловский поспешил в кабинет Оккера, благо тот был рядом: разделяла начальника штаба и начальника войск всего лишь приемная комната, общая на двоих, которую управленцы окрестили, за глаза конечно, предбанником.
— Слушаю, Владимир Васильевич.
— Садись. Читай.
Оккер подал протокол допроса недавно задержанного нарушителя. Группу белогвардейцев, из которых остался жив только один, называли и террористической, и диверсионной, но, похоже, ни одно из этих названий не определяло истины. Японцы меняли тактику зуботычин. Обстреливать наряды, а тем более заставы они прекратили, особенно после ответного минометного залпа, но начали переправляться на нашу сторону и делать засады на дозорных тропах. Не очень-то фартило им и здесь. Чаще всего сами засады оказывались в руках наших пограничников. Пошли им обоснованные протесты. И тогда выпустили японцы на сцену бывших семеновцев вкупе с маньчжурами. Почти все казаки из местных, знали каждую падь, каждую елань, оттого места для засад выбирали неожиданные, к тому же были ловки и в маскировке, и в ближнем бою. Маньчжуры же выполняли в этих засадах особенно грязную роль. Как по тому анекдоту. «Дяденька, дай закурить», — цепляется за полы прохожего сопливый мальчонка. Обычная реакция нормального человека — отпихнуть нахаленка. Но именно этой реакции и ожидают укрывшиеся до времени мордобои. В миг обвинят невиновного человека во всех грехах, оберут до нитки и изобьют до полусмерти. Вот так и японцы намеревались поступить. Натолкав в приграничные районы своих войск, начали они мобилизовывать русских и маньчжуров. Кто не хотел служить квантунцам, понимая, чего ради их вооружают и формируют, — арестовывали. Для более полного привлечения всего казачьего населения Маньчжурии во многих городах создали японцы русские сыскные отделения, а в Харбине — чуть ли не правительство русского государства.
Какая корысть вроде бы от тысячи-другой бывших казаков для миллионной Квантунской армии? Велика ли сила? Нет, конечно, но на роль соглядатая за паршивым сопляком-задирой вполне сойдут. Одних же маньчжуров не пустишь — трусливы те да и разбегутся тут же, только выпусти из-под надзора. Костяком так называемых вооруженных сил Маньчжоу-го становились, таким образом, белоказаки.
Да, имелись данные в штабе округа, что японцы намерены начать войну провоцированием ряда инцидентов между СССР и Маньчжоу-го. Не Япония объявит войну, а Маньчжоу-го. Новое самостоятельное государство — союзник великой Японии. А как оставить союзника в беде? Не благородно, И казаков поддержать надлежит, ибо родину свою идут вызволять из большевистского плена. Верилось этим данным, потому что меняли в железнодорожных депо Харбина и других узловых станций вагонные скаты маньчжурской колеи на колею советскую, готовились по всей границе переправочные средства для десантирования не только пехоты, но и тяжелого вооружения; мелкие пограничные гарнизоны сведены уже в крупные, солдаты-квантунцы часто остаются по нескольку суток в окопах, все больше и больше к границе прибывает танков и артиллерии. Притаились, как мордобои-грабители, до поры до времени, высылая для затравки сопляков-попрошаек.
Такова фарисейская сущность на первый взгляд мелких, комариных будто бы укусов, очередной из которых окончился уничтожением вражеской засады и захватом одного из диверсантов.
Поупрямился тот немного и начал давать показания. Вот и позвал Оккер Богусловского, чтобы тот почитал их.
— Любопытные сведения, — как бы извиняясь за неурочность приглашения, пояснил Оккер. — Очень любопытные.
Не то слово. Не та оценка. Удручающие сведения. Даже страшные. Ко дню войскового праздника забайкальских казаков, который обычно проходил в Хайларе, японцы приурочили специальное совещание. С согласия и при поддержке начальника Главного бюро русских эмигрантов генерала Кислицына со всей территории Трехречья вызваны были сюда бывшие атаманы-семеновцы и другие видные офицеры. Каждый из них получил совершенно четкое задание. Многих назначили начальниками белогвардейских отрядов, поручив им самим и формировать их. Ну а чтобы облегчить им отбор, объявлена в Трехречье мобилизация мужчин, русских и китайцев, в возрасте от двадцати до сорока пяти лет. Бывшим же семеновцам предписано являться на сборные пункты всем поголовно, независимо от возраста.
Как утверждал задержанный на допросе, отряды эти все сформированы, все получили оружие и готовятся к войне. Нет, не к нападению на Советский Союз, а к отражению вторжения Красной Армии в пределы Маньчжоу-го. Так и сказано в протоколе допроса: во всех городах и особенно в селах люди запуганы, ждут со дня на день появления большевиков, которые станут вешать и расстреливать всех подряд.
— Трехречье — это же почти вся Маньчжурия. Всю, выходит, взбаламутили! — с возмущением воскликнул Богусловский, прочитав первые страницы показаний задержанного. — И главное — с ног на голову все поставили. Мы, видишь ли, нападаем!
— Ты читай дальше. Там еще интересней.
Вновь на самую поверхность выплыл Левонтьев со своими подручными. Начали они выбирать добровольцев для специальных групп, как их называли. Хороший кошт, авторитет: спецовеки — самые, значит, смелые и самые храбрые. За честь казачью идут на риск, чтобы вызнать, когда намечено для Красной Армии наступление. Уже создано несколько десятков таких групп. Где они сейчас — пленный не знает. Каждая группа сама по себе. Только Левонтьев и самые близкие ему люди знают.
— Языки, значит, им нужны. Ишь как дело поворачивают! Но верят же казаки! Как были беспросветно-темные, так и остались. Их понять можно. Нет, не простить, но — понять. А Левонтьева? Или не знает он истинных замыслов японских? Мы — знаем, а он-то — и подавно. Выходит, сознательно содействует захвату Сибири японцами! Где же честь?
— Честь?! Ему имение его бывшее спать не дает. На все они, левонтьевы всякие, готовы, лишь бы вернуть свое прошлое, прежнее положение господ. Не по-ихнему если что — в зубы. Помню я, не забыл и никогда не забуду, как измывался хозяин над нами, рабочими, чьими руками он мошну набивал, — с возмущением поддержал Богусловского Оккер. — А поднялась Пресня, я хоть и не мужиком еще был, а тоже с отцом — в бучу. Тут как тут жандармы и солдатня. Казаки еще. Не жалеючи стреляли. Вот этого им желательно. Такого житья. Чтоб по струнке все, чтоб — во фрунт!
— Не о том я говорю. Не оттого в недоумение прихожу. Когда бы о возврате своего имения пекся человек — иное дело. Противное оно, конечно, народу, познавшему свободу, привыкшему уже к ней, но ему оно желаемо. Он враг и поступает как враг. Его можно ненавидеть, его можно убить, но нельзя обвинять его в бесчестье. Презирать его нельзя. Бесчестен, кто Янусом двуликим предстает. Таких у нас самих изрядно еще. Притихли. Ждут своего звездного часа. Но во сто крат бесчестнее поступать по правилу: ни сам не гам, ни людям не дам. Преступно это, если по крупному счету. Преступно. Не вернут поместья господам дворянам ни фашисты, ни самураи. Лакеев из них сделают. Лизоблюдов. Хорошо это им, левонтьевым, ведомо.
— Надеются, должно быть. Во что-то доброе верят, — усомнился в точности вывода Богусловского Оккер. — Без веры как?
— Возможен лишь самообман. Чтобы подлость свою оправдать перед своей совестью, перед своей честью. Давайте, Владимир Васильевич, в прошлое глянем. Чем сильна была Россия? Единством своим в борьбе с захватчиками. А как размежевалась она меж князей, тут тебе и иго татарское. Гибли, в неволе спины гнули, пока не осмыслили: единым кулаком отбиваться надобно. Тогда и Куликово появилось. Тогда — и Угра великая. И Бородино тогда, и Чесма. Друг другу если в глотки вцепимся, — сможем ли совладать с силой темною, с ордой проклятущей?
— Параллели, Михаил Семеонович, не совместимы. Разве народ наш не поднялся от мала до велика? Тебе ли не знать: сын твой до срока ушел. Моя дочь радисткой становится. Или не видишь, как сибиряки с готовностью оружие в руки берут? Даже семейцы и те не в отказе. Это ли не показатель духа народного? А не захотели они — в тайгу подались бы. Их оттуда не выкуришь. Тех же, злобствующих антисоветчиков, кучка жалкая в сравнении с монолитом многомиллионным. Капля в море.
— Не скажи, Владимир Васильевич! Эмиграция — сила нешуточная. Особенно как фактор моральный. А в полицаи сколько подалось? Лютуют. Над своими же измываются, на утеху фашистам. Потирают те от удовольствия руки и трещат на весь мир о предателях наших. Теряется от этого наш престиж. Ох как теряется!
— Что я тебе скажу, Михаил: не рабочая у тебя закалка. Нет, не рабочая. Тебе все самому бы осмыслить, свой вывод сделать. А мы верим без прекословности всякой в торжество нашего правого дела. Да, есть у нас враги народа. Есть! Мэлов, твой преследователь, разве не жив еще? Притаился где-нибудь, принюхивается. И не только принюхивается, но и вредит. Мелко ли, крупно ли, но вредит. Да, есть у нас еще мэловы, оборотни, но не они диктуют нам свои условия. Народ в гегемонах ходит. Народ! — Побарабанил пальцами по столу, обдумывая главные слова, и решился: — Не знай я тебя много лет, мог бы подумать, что шаткая у тебя идейная закалка. Не сомневайся — очистится народ от мрази. На то он и народ!
— Не оспариваю главного утверждения, но хочу — прав ты, Владимир Васильевич — понять, отчего много предательства? Не готовы мы к этому были. Мы не только в монолит страны своей верили, но и в то, что немецкий рабочий не возьмет в руки оружие, против нас направленное. Где просчет? Где?
— Да нет просчета! Нет! Разрушит мир капитализма мозолистая рука рабочего класса. Это будет! Непременно!
Не понимали они друг друга. Оккер говорил о будущем, веря в торжество правого дела; Богусловский же оценивал сегодняшнее, пытаясь понять его. Богусловский не возражал Оккеру, да и что он мог возразить против того, во что тоже искренне верил? Но если Оккеру казалось все предельно ясным, то Михаил Богусловский на многое смотрел с сомнением, а предательство русского человека, кем бы он ни был, как бы люто ни ненавидел теперешний общественный строй России, осуждал и презирал. Что особенно удручало краскома Богусловского, так это значительность предательства. Он, имевший дело в основном с прямыми врагами, оценивал по ним всю белоэмиграцию. Бывших своих коллег, бывших товарищей.
— Как их земля носит?! Где у них честь?!
Не думал он тогда, что через два года его возмущение, его ненависть ко всему предательскому получат еще большую пищу: он станет бороться с оборотнями не заочно, через пограничную черту, а напрямую. И тогда совершенно утвердится он, с великой болью в сердце, что все те, кто потерял чувство Родины, кто не понял и не принял новой России, тот совершенно потерял честь и в конце концов стал падшим мерзавцем. И не узнает он всей правды, болезненной и сложной, не убедится он в неправоте своей. Она откроется потом, после Победы. Меньше люди станут говорить о тех, кто пошел за Власовым и Красновым (они получат свое, и — довольно им), а больше о добром, содеянном ради победы Советской России над фашизмом. Смело многие эмигранты плевали в лицо тем, кто предлагал им записываться в ряды РОА, зная, что могут получить за это пулю в затылок либо, в лучшем случае, концлагерь. Даже Деникин, этот известнейший антиреволюционер, не принял предложения фашистов встать на их сторону, а потом скрывался от ареста и расправы.
С первых же дней, как началась война, немощные старцы и старушки повытаскивали из обнищавших бюро самые дорогие фамильные драгоценности, с которыми не желали прежде, несмотря на многие лишения и даже голод, расставаться, без сожаления сдавали их в Фонд помощи Советской России. Для них она всегда оставалась Россией. Слово «Союз» никак не входило в их лексикон, да они не совсем и понимали смысл этого слова. Для них Россия, пусть даже чужая, непонятная, попала в беду, и они протягивали ей руку помощи. И не столь уж было важно, какой она была, эта рука, слабенькой или сильной, безмускульной или с добрым кулаком, — главное, далеко не все эмигранты возликовали, когда фашизм перешел советские границы. Одни пошли в РОА, другие — в ряды Сопротивления и стали его героями. Их имена узнают люди: княгиня Вера Оболенская, Кирилл Радищев — правнук Александра Радищева, Борис Вильде… Кстати, название этому патриотическому движению дал именно Вильде.
Сколько погибло известных и безвестных русских людей, сражаясь в рядах Сопротивления! Скольким были вручены советские ордена и медали!
Но до того дня, когда все это станет явью, еще было ох как далеко! А пока — реальность печальная. Пока Богусловский более ощущал противодействие белоказаков, чем помощь их. Доброжелателей встречалось единицы. Как были семеновцами, недобрая слава о которых и по сей день жива в Сибири, так и остались. Верят левонтьевым разным, идут по их указке на подлость. Пока белоэмигранты — враги. Коварные. Просвета пока не видно.
— Как могут от одной матери родиться Анна и Дмитрий? Прямая противоположность.
— Слушай, есть идея! Пусть Анна напишет ему по-родственному. Вразумит братца.
— Не смогу я ее к этому принудить. Она и так не в себе. Куксится. От письма до письма Владлена только и живет. Надломилась она. Нет прежней Анны…
— Да, — побарабанил по столу (появилась эта привычка у Оккера недавно, вместе с войной) и сказал с сожалением: — Плохо, раз так. А здорово могло получиться: откровенное мнение сестры. Выправились бы у того мозги, стал бы нашим помощником. Какая польза! Ну ладно-ладно, не загорайся возмущением. Забудем мое предложение. Забудем. — Помолчал немного, мягко, в задумчивости постукивая пальцами по зеленому сукну, и вновь встрепенулся: — Есть предложение вечер сегодня провести вместе. У нас. Отвлечет это, может быть, Анну хоть немного.
— Принимается. Только одну поправку вносит штаб: вы наши гости. Пусть похлопочет Анна, на пользу ей. К тому же по статуту хозяйки ей нельзя с постным лицом потчевать гостей.
— Командир принимает поправку. — Оккер поднял трубку и попросил телефониста: — Квартиру Богусловского. — И другим, мягким тоном: — Здравствуй, Анна Павлантьевна. Тут мы вот, два мужика, собрались, и возникла у нас мысль повечерить у вас. Как?.. Вот и отлично. Михаил пораньше на помощь приедет, а потом и мы с Ларисой. Прекрасно. Ставь тесто на пироги. — И Богусловскому, положив трубку: — Грустная. Но предложение приняла, кажется, с удовольствием. Ты давай-ка закругляй свои дела и — домой.
— Письмо я писал. Никак не складывается. Посижу еще часок-другой над ним.
— Часок? — ухмыльнулся Оккер. — Поможет он тебе, если в недели не осилил! Ты подумай, почему, как ты говоришь, не складывается. Не знаешь? А я тебе скажу. Москве враг грозит. Москве, понимаешь! Падет она — вот тогда и японцев ничто не удержит. А силенок, давай говорить откровенно, не так уж и густо здесь у нас.
— Есть логика в твоем утверждении, но мы с тобой не имеем таких данных: Япония начнет войну, как только падет Москва. У нас другие данные: Япония активно готовится к нападению. Когда? В любой момент. Согласен, выжидают японцы, приглядываются. Бока-то мы им уже мяли изрядно. Но согласись: если они будут видеть, что Сибирь и Дальний Восток безлюдны, не станет ли это главным для них фактором? Я считаю так: Москва — не главное. Кутузов оставлял ее, а чем это Наполеону обернулось, знает любой школьник. Главное — Россия. Советский Союз. А Сибирь для России — не бросовая залежная земля…
— Кутузов, Наполеон… Время, дорогой Михаил Семеонович, совсем было другое. Москва нынче — сердце Родины. Ленин в Москве! Сталин! Не переубедишь меня. Да и в Москве никого не переубедишь. Бросай, совет мой тебе. Домой поезжай прямо сейчас.
— Убежденность, даже если она в сути своей ошибочна, вещь упрямая. Ты прав. Но и я — прав. Подумаю, как соединить две правды в одну. Возможно, найду.
— Только уверен я, сегодня, за часок-другой, тебе это не удастся.
— Наверное, тут ты прав. Действительно, поеду-ка я домой.
А самому не хотелось. Долго он обманывался, принимая заботливость Анны, ее чуткость за постепенно возникшую любовь. Увы! Она так и осталась лишь верной своему слову. Теперь это он понимал со всей остротой. Проходили дни, проходили недели после того, как проводили они Владлена в училище, но Анна так и оставалась потерянно-безразличной ко всему. Нет, он не упрекал ее ни в чем. Ни заочно, ни, тем более, когда был рядом с ней. Он очень старался вести себя дома так, как будто ничего не изменилось, будто их отношения оставались прежними; он даже стал внимательней к жене, предупредительней, крепко зажав в кулак тоскливую обиду. Подольше только стал читать газеты, которые Анна к его приходу складывала стопкой на журнальный столик в гостиной.
Ну а то, что на службе стал больше проводить время, так тут все объяснимо, тут ничего не попишешь: обстановка! И похоже, Анну не особенно тревожило его отсутствие. Еще ни разу после отъезда сына не попросила она, как делала частенько прежде, поспешить на вкусный ужин, расхваливая необычность приготовленного.
Слово, однако же, сказано, и Богусловский вызвал машину. А когда ехал домой, думал еще и о том, каким для него нелегким станет это неожиданно возникшее гостевание. В газету не уткнешься, когда невмоготу. Весь вечер предстояло ему источать благодушие и довольство жизнью. Даже о сыне говорить с гордостью, хотя с поступком его он и по сей день не был согласен. В душе он лелеял мечту, что сын продолжит семейные традиции. Владлен один продолжатель рода, а значит, и дела Богусловских. Один. Что избрал он ратную стезю — это хорошо. И что на фронт рвется, тоже патриотично. Только ведь в пограничных войсках не в куклы играют, не в оловянных солдатиков, и пограничное училище было бы, по мнению Михаила Семеоновича, нисколько не хуже зенитного.
Машина остановилась, а Богусловский все еще продолжал жить своими трудными мыслями и не открыл привычно дверку, не сказал шоферу свое обычное: «Спасибо», он даже не поднял склоненной головы.
Шофер не очень-то удивился необычности поведения начальника штаба, не пытался хоть как-то понять его, он сделал для себя однозначный вывод: устает человек — и жалел его. Сидел поэтому, стараясь даже дышать потише. Пусть подремлет спокойно. И только когда прошло минут пять, тронул за плечо:
— Анна Павлантьевна скажут, что это так долго машина стоит? Обеспокоятся…
— Да-да, — встрепенулся Богусловский, будто и впрямь отключила его от мира грешного усталость. — Да-да. Спасибо. Поезжай в гараж.
Нехотя вылез из машины и без желания стал подниматься на крыльцо.
Все, что произошло дальше, и обрадовало его, и вместе с тем еще сильнее укрепило обиду, от которой он больше никогда не избавится, но о которой будет знать только он один. Отношения с Анной вернутся в прежнюю колею, совершенно привычную для них и вполне их устраивавшую. Он только хотел позвонить, но дверь отворилась: в прихожей стояла Анна, ласково-радостная. Поцеловала его, как делала это всегда прежде, и принялась расстегивать портупею. Но Михаил видел, что не возвращение его неурочное радует ее, а что-то иное, пока еще от него сокрытое. Он едва не спросил: «Что произошло?» — но сменил вопрос:
— Ну как тут без меня? Скучала?
— Скучала. Потом письмо от Владика принесли. — Вздрогнул голос невольно, хоть едва заметно, но иным стал, более душевным. — У него хорошо все. Обязательства они приняли. Да ты сам прочтешь…
Письмо было приготовлено для него. Анна положила его поверх газет. Он подумал, что она попросит прочесть письмо вслух, но Анна не сделала этого. Изучила его основательно. Сказала, словно извиняясь:
— Ты почитай, а я — на кухню. К ужину не все готово. — Улыбнулась с привычной Михаилу добротой и добавила: — Молодец наш Владик. Молодец.
Богусловский побежал глазами по строчкам. Торопливо-радостным: «Ура! Нас поддержали. Сокращен срок обучения для нашей, добровольцев, группы. Досрочный выпуск и — фронт…»
Не сходились концы с концами. Чего бы, казалось, Анне радоваться вместе с Владленом, что тот уже ранней весной окажется на фронте? Грустила непомерно, отправив в училище, где еще не свистят пули, и вдруг — резкий возврат к спокойствию и даже к радости. Не вдруг такое осмыслишь. Даже если хорошо знаешь женщину, если любишь ее все еще сильно.
А возможно, письмо стало только внешним поводом? Не может же она не понимать, что бежит из дома он, Михаил, не только из-за работы? А дома, хоть старается он не меняться, быть прежним, но невольно возникают у них молчаливые паузы. Слишком длинные. И хотя оправдывается он усталостью, но разве не поймет истинной причины умная женщина? Вот и решила, возможно, перебороть себя Анна, помня обещание быть не только верной женой, но и помощницей. А помощь ее — в заботливой поддержке, в домашнем уюте и спокойствии. А ему это сейчас ох как необходимо! На пределе сил он. И нравственных, и физических.
Мужественно, если это так. Для любящей матери — это подвиг. Поясно можно поклониться ей.
Но, вполне возможно, и впрямь она по-новому после этого письма взглянула на сына. Как мать солдата. Ей ли, воспитанной в офицерской семье, жене краскома, не понимать воинского долга мужчины в то время, когда так жестоко бьется страна за себя, за право оставаться свободной? Патриотизм россиянки, патриотизм советский воспрянул, наполнив любовь материнскую иным смыслом.
И будто специально, чтобы подтвердить именно это, второе, предположение, чтобы больше не мучился муж в догадках, Анна вышла из кухни. С гордой веселостью спросила:
— Прочитал? Видишь, какой молодец наш Владик! Ускорить выпуск — его идея. Скольких увлечь сумел, а? Группу целую! Хорошего сына воспитали мы.
— Что верно, то верно, — кивнул Михаил Семеонович, откладывая письмо и берясь за «Правду». — В ногу с народом шагает.
— А все виделся ребенком-белоручкой. Нет, он — муж… Ой, — спохватилась Анна, — не пригорели бы пирожки!
Не читалось Богусловскому. Даже сводки Совинформбюро прошмыгивали мимо сознания. Трудно разувериться в том, во что приучил себя верить. Ох и трудно! Но особенно трудно не выказывать своего душевного непокоя, и Михаил вел внутренний монолог, определяя линию своего поведения, жестко наступая себе на горло:
«Все! Никаких эмоций! Трещине нельзя давать шириться. Ты знал, на что шел, когда шагал в ее дом с предложением. Знал и — знай! Но — один. Без посторонних. Тем более — без Анны…»
Через несколько минут он, так и не прочитав ничего толком в газетах, встал и пошел на кухню. Предложил с готовностью:
— Чем тебе помочь?
— Как всегда. Колбасы и сыру порежь. И станем стол накрывать.
Проблема стола их занимала совсем мало времени, и вскоре разговор вновь пошел о сыне. Вспомнили и о его походе в военкомат, но говорили не об огорчении, какое принес он им тогда, а о настойчивости, даже упрямстве, и теперь они хвалили эти в нем нужные для мужчины черты. Они подсчитывали (хотя каждый из них сделал это не раз, особенно Анна), когда Владлен поедет на фронт, и гадали — на какой.
— Хорошо бы — на Центральный. В Москву бы заехал, дедушку бы своего навестил.
— Утопия! Непозволительная роскошь, — возразил Михаил, вовсе не предполагая, как окажется он не прав: под самую Москву попадет их сын, а перед тем, как поехать на позиции, проведет вечер и ночь с дедом своим.
Теша себя воспоминаниями о Владлене и предположениями о его будущем, они готовились к встрече гостей, которые давно, все военное время, не бывали у них. Успели все приготовить, даже осталось немного времени свободного, и Михаил с Анной еще раз стали перечитывать письмо сына, радуясь за него и гордясь им. А когда пришли Оккеры, Анна первым делом прочла им самые важные, как ей казалось, строчки из письма и так же, как говорила Михаилу, сказала и им:
— Молодец наш Владлен. Его идея. — И добавила: — Жаль, Вику не взяли с собой. И ей интересно письмо почитать.
— Вика у нас в кружке радистов. Только и разговоров: выучусь и — на фронт, — с грустью, но в то же время с заметной гордостью ответила Лариса Карловна. — Мы звали ее, так — куда там! Никак, видите ли, нельзя ни одного занятия пропустить.
— Какой же фронт?! — воскликнула Анна Павлантьевна. — Она же только в девятый класс пошла. Да и сама — тростиночка.
— Что делать? — вздохнула Лариса Карловна. — Я уж, Аннушка, крашусь. Седина вовсю пошла. А с другой стороны, подумаешь, как можно сейчас не рваться на фронт? Была бы я помоложе, пошла бы сама в разведку, как в гражданскую. Теперь, правда, тоже можно, не старуха еще, только как Володя мой без меня? Груз вон какой тянет. Так что мы с тобой, Аннушка, свою ношу несем, а дети, что ж, пусть свою несут. Не стану я держать Вику. Нет, не стану. А седина? Ее закрасить можно.
— Грустные речи ваши, женщины дорогие, — вмешался Владимир Васильевич. — Грустные. Сколько помню, мы всегда, собираясь, думаем с Михаилом Семеоновичем отрешиться от мирских забот, но ни разу не выходило по-задуманному.
— Время бурное, — улыбнулась Анна. — Время определяет заботы наши.
— Время? А может быть, мы сами? Мало ли даже сегодня, в дни величайшего испытания страны нашей, от татар какого не было, мещан разнопородных, единственная цель которых прожить тихонько да легонько, за шторой приютившись? Набьют животы чем бог послал и…
— Мы — не мещане, но тоже не святым духом питаться нам, — перевела на шутку возмущение Оккера Анна Павлантьевна. — Стол накрыт. Тут мы с Мишей вдвоем постарались.
— Колбасу и сыр небось резал? — усаживаясь за стол, с ухмылкой вопрошал Богусловского Оккер. — На большее мы с тобой не годны, но, гляди ты, женушки наши как нас возвышают одна перед другой! Что ж, закроем глаза на выдумку милую и вооружимся вилками, ибо права Аннушка: не только духовная пища нужна человеку, но и из духовки.
Тон задан. Началась пикировка между сильной и слабой частью рода человеческого; женщины не уступали, за подковырками в карман тоже не лезли, и шел вечер именно в том духе, на какой рассчитывали уставшие до чертиков от беспредельных докладов с границы, каждый из которых таил в себе взрывное начало неведомого масштаба, и нужно было думать и думать, прежде чем решиться на какие-либо ответные меры, а времени, как правило, на раздумье не было: тот, кто докладывал, ждал распоряжения немедленного. Хорошо, уютно было всем им, давно не собиравшимся вот так, запросто, за обеденным столом. Воспоминания начались. И даже то грустное, что было при их первой встрече, не воспринималось ими сейчас с грустью.
Удивительное создание природы — человек. В такую попадет ситуацию, хоть в петлю полезай, но пройдет время, и то пережитое видится ему как что-то не слишком уж существенное, даже вовсе не стоящее внимания. Сегодняшнее — это важно. Оно волнует, оно кажется значимым и серьезным, хотя, если подумать, во сто крат оно может быть мельче прежнего. Никто, однако же, не утруждает себя подобным сопоставлением. И никто даже не думает, хорошо это или плохо. Оккеры и Богусловские не были исключением: обычные люди, оттого те острые, надрывавшие тогда душу ситуации сейчас они воспринимали с улыбкой. Чуть-чуть лишь грустной.
Телефон резко и длинно зазвонил тогда, когда Оккеры, довольные, что так покойно прошел вечер, собирались уже домой. Оккер даже сказал удовлетворенно:
— Видишь, без нас, Михаил Семеонович, управляются.
— Просто нам сегодня чуточку повезло, — ответил Богусловский. — Еще бы ночь мирно поспать — совсем прекрасно было бы.
— Накличите, — с нарочитой сердитостью упрекнула мужчин Лариса Карловна. — Ой, накличите!..
Вот тут-то он и заставил всех вздрогнуть своей неожиданной пронзительной громкостью.
Владимир Васильевич опередил хозяина дома. Долго слушал, не перебивая вопросами доклад, потом, положив трубку, вздохнул:
— Да, обстановочка. Тот самый, о ком задержанный сообщил, развернулся не на шутку.
Женщины вышли, оставив мужчин одних, и Оккер пересказал доклад помначштаба. Не только вздохнешь от такого, не только затылок почешешь, но и кулаки сожмешь в ненависти гневной.
Вновь одна из левонтьевских групп пыталась захватить наряд, однако сама попала в засаду. Часть из нее погибла в перестрелке, остальные сдались. Сообщили на допросе, что Левонтьев готовит сотню казачью и маньчжуров столько же для нападения на наш берег. Переправиться они должны через день или два. Бой будут вести до первых раненых и убитых. Они могут даже не высаживаться — из лодок стрелять. Им во что бы то ни стало раненый нужен. Потом они возвратятся. Оружие побросают на стрежне в Амур, и получится — вроде бы советские пограничники обстреляли мирных жителей, убив и ранив многих. Подтвердить эту версию должны были еще и те пограничники, которых группе велено выкрасть. После, конечно, соответствующей обработки. Помирать же никому не хочется…
— Думаю, нужно опередить события. Ультиматум должен пойти от нас. Я еду в управление и докладываю в Москву. Ты… впрочем, ты пока оставайся дома. Завтра на рассвете выедешь к месту предполагаемой высадки. Подумайте там, чтобы без выстрела как-то обойтись. Без жертв, во всяком случае. Или… ни одного не выпускать обратно. Иного выхода я не вижу.
— В Москву доложить, естественно, необходимо, однако нужно и нам не ждать, а вызвать на встречу их погранкомиссара. Нам самим, не мешкая, заявить протест.
— Да, я сейчас распоряжусь о вызове. На завтра. Сам поеду. Протокол допроса предъявлю, кроки местности, где диверсанты высаживались. Гильзы стреляные и оружие. Можно и пленных держать в готовности и, если нужно будет, представить.
— Верно.
— Так и будем действовать. А теперь — спокойной ночи. Впрочем, не будет она спокойной. Анне не говори о брате. Былое быльем поросло — не вороши. Если бы письмо от нее, но ты категорически против. Оно и лучше, когда в неведении Аннушка наша.
Не стоило Оккеру предупреждать Богусловского, ибо в мыслях не держал он, что можно ей рассказать все о делах брата. О Левонтьевых давно вообще в семье не вспоминали. Ни добром, ни злом. Вроде бы и не уговаривались, а так получилось. Нет их, и — все. И не было. Оккер же словно каминными щипцами поворошил подернутые пеплом и едва тлеющие угли — огня прежнего не вызвал тем самым, но синие язычки забегали по черноте. И родился невольно вопрос:
«Прав ли я, скрывая от Анны, что Дмитрий жив?»
Нет, он и теперь не думал о полном откровении (зачем Анне все знать?), он лишь взвешивал, насколько можно приоткрыть занавес и стоит ли вообще приоткрывать. Он помогал Анне сносить на кухню посуду, а потом, перемытую, протирал полотенцем. Они попили еще кофе, обсуждая, как это бывает обычно после ухода гостей, сложился ли вечер. Все у них шло обыденно, и не видела, казалось, Анна, какое смятение в душе Михаила. Она после кофе принялась собирать его в дорогу, чтобы не тратить на это утреннее время, и он даже помогал ей, что бывало с ним редко, не подавая даже вида, как трудно ему решить вдруг возникшую из-за неосторожного предупреждения Оккера задачу.
По долгу службы он обязан был промолчать, по долгу совести, напротив, обязан сказать хотя бы о том, что жив Дмитрий. Жив ее брат.
Уж спать они легли, а он все не знал, как поступить. Никак, естественно, не мог уснуть, хотя и тихо лежал, притворяясь спящим. Но тут Анну не обманешь. Женщина чувствует, спит муж ее или нет. Спросила участливо, положив тем самым конец сомнениям:
— Что-то, Миша, неспокоен ты. Отчего? Похоже, скрытничаешь, меня оберегая.
Плохо, выходит, владел собой. Да, не обманешь женский зоркий глаз и чутье женское. Да и стоит ли это делать? Пусть будет правда. Истина пусть будет.
— Дмитрий жив. И не просто жив, а дает о себе знать весьма настойчиво.
Михаил почувствовал, как пружинно напряглась Анна. Но молчит. Ни слова, ни вздоха. Не дышит даже. Продолжил:
— Еду завтра, чтобы отбивать его провокацию. Крупную. Войной она может обернуться. Войной. Понимаешь?
Повела мягко Анна рукой по морщинам, как делала это не единожды в душевно трудные для Михаила минуты, и сказала, вроде бы даже спокойно, только слишком уж чеканя слова:
— Если так случится — прокляну его. И с тобой если, не дай бог, что — тоже прокляну. — И только тут заплакала.
До утра они не сомкнули глаз. И впервые уезжал он на серьезное боевое дело не со спокойной душой. Хотя Анна взяла себя в руки и провожала с обычной заботливостью о том, все ли собрала в дорогу, даже сказала привычное, ставшее семейным ритуалом: «Храни тебя господь», но он не мог не понимать, какая психологическая нагрузка навалилась на нее.
«Зачем рассказал? Зачем?!»
То ему казалось, что совершил он глупость и даже подлость, то он оправдывал себя, считая бесчестным оставлять в неведении жену, что жив ее брат. Пусть даже враг он, но кровь-то одна. Пусть проклянет его, но будет знать, что жив он.
«Суета сует», — отмахивался он от назойливых дум, но разве это помогало? Нет. Не выходила из головы Анна. И виделась она рыдающей. Он вновь начинал винить во всем себя, и мысли начинали новый бег по тревожному кругу, отзываясь в сердце ноющей тоской.
Оставив машину в первом на левом фланге отряде, куда только и доходила пригодная для легковушек дорога, пересел Богусловский в седло. Лошадь дали ему горячую, рвала она поводья, не желая ровной рыси, приходилось сдерживать ее, беречь силы, ибо не близок путь и нерасчетливый аллюр выбьет коня из сил. Но даже эта борьба с норовистым конем не повлияла почти нисколько на ход мыслей. Богусловский даже забывал временами, зачем и куда он едет, не думал вовсе о предстоящей операции, а она, судя по данным пленных, ожидалась далеко не простой.
Правда, была у него, видимо, надежда, что встреча с представителями японской Квантунской армии и погранкомиссаром предотвратит провокацию, оттого и позволил он себе беспрерывное и долгое душевное самоистязание. Знал бы, чем закончилась встреча с квантунцами, непременно разорвал бы заколдованный круг мыслей своих, оттеснил бы обиды свои и жалость свою в дальний угол и заставил себя думать о противодействии левонтьевской провокации. Не избавился бы вовсе ни от тревоги за Анну, ни от сомнения, ни от обиды на нее, но не властвовали бы они безраздельно.
Так оно и случилось, когда добрался Богусловский до отряда и встретивший его начальник штаба передал просьбу Оккера связаться с ним без промедления. Короткий состоялся разговор. Очень короткий. Владимир Васильевич лишь сообщил возмущенно:
— Обещали разобраться. Им, видите ли, ничего неизвестно. Ответ обещали дать через два дня. Все ясно тебе?
Да, куда уж ясней! Провокация, значит, будет либо завтра, либо послезавтра. Обязательно раньше намеченного срока повторной встречи. А он, направленный сюда специально для того, чтобы перехитрить провокаторов, совершенно не готов распоряжаться, не имеет никакого плана действий.
«Распустил нюни! — ругал он себя. — Честно? Не честно? Кому это сейчас нужно?! Людям что скажешь?!»
— Разрешите доложить наш план? — прервал уничижительные мысли Богусловского начальник штаба отряда. — Возможно, внесете поправки? Я передам командиру. Он там. Руководит работами.
— Слушаю.
— Вот здесь, в двух местах, — начальник штаба показал на схему, — наиболее вероятна высадка. Ставим ППХ погуще, но не только ракеты, а и холостые патроны. Приборы сами готовим и здесь, и снимаем одновременно с менее оперативных застав.
Богусловский сразу же оценил идею опоясать берег так называемыми приборами пограничной хитрости. Изворотливый ум русский — при нужде чего не придумает! Кому-то пришло в голову распилить чурку пополам вдоль, одну половинку вкопать в землю, вторую, с просверленной для ракеты дыркой и прикрепленным на уровне этой дырки бойком, присоединить мягкими ремешками, как шарниром, по верху соединить половинки подвижным полозком, к которому привязывалась либо суровая нитка, либо тонкая проволока. Растягивалась она на двадцать-тридцать метров в два конца. Задел человек за оттяжку, потянул, значит, полозок, и падает половинка чурки, ударяясь бойком о камень, расчетливо положенный специально для этого, — ракета летит в небо. Для наряда — сигнал, нарушитель — напуган. Побежал если дальше, глядишь, еще одну ракету в воздух поднял — совсем тогда ясно, куда путь он держит. Иногда, редко правда, такие «приборы» начинялись холостыми патронами. Эффект от этого отменный. Если нарушитель вооружен, начинает отвечать на выстрел выстрелом.
— Молодцы. Только сомнение есть: насколько эффективно? — прервал Богусловский начштаба отряда. — Они же не татями намерены, а открыто. Чем больше шума, тем лучше. Не вылезая из лодок, огонь станут вести. Отстреливаться.
— Мы первыми огонь не откроем. Тем более — когда они в лодках еще будут. В окопах сидеть станем, не высовываясь вовсе. Высадятся, думаю. Раз им велено раненых получить. А на ракеты, да еще с выстрелами, откроют, думаю, обязательно огонь. Вот пусть и стреляют. Патроны жгут. А мы тем временем по флангам, вот здесь, — вновь указка заскользила по схеме, — отрежем их от берега. Прикроем маневр дымшашками и станкпулеметами.
— Холостыми? — хотя и догадался Богусловский, но посчитал нужным уточнить.
— Да. По ленте заряжено. Маловато, конечно. Побольше бы зарядить, но… Дымшашек тоже раз-два и — обчелся.
— Поправимо это, — ответил Богусловский и попросил соединить его с начальником тыла округа.
Пока телефонисты пробивались от коммутатора к коммутатору, Богусловский продолжал слушать доклад, «прокручивая» еще и еще раз предстоящую операцию. Виделась она ему добротно продуманной, и требовалось внести лишь мелкие поправки.
— Перед окопами, значит, МЗП?
— Да, метров десять. По флангам тоже — МЗП.
— А окопы там роются? Нет! Ладно, я на месте посмотрю. Думаю, возможно ближе к берегу провести боковые ходы сообщения. И еще меня смущает: дымовая завеса. Не задымить ли нам провокаторов? По ветру.
— Отлично. Зажженные дымовые побросать к ним ближе! — воодушевленный хорошей мыслью, воскликнул начальник штаба отряда. — Так и сделаем!
Зазвонил телефон, и Богусловский, взяв трубку, начал перечислять все нужное, что срочно, эстафетой, должно быть сюда доставлено.
— К утру хорошо бы успеть, — закончил он разговор. — К утру.
Возможно, такая спешка и не была нужна, но лучше опередить события, чем опоздать. Этого правила всегда придерживался Богусловский. Закончив разговор, он встал и спросил:
— Кони готовы?
— Да. Я — с вами. Здесь останется мой заместитель. Не будете возражать?
— Не буду, — согласился после малого колебания Богусловский. — Там сейчас дела всего важнее.
Тайга стояла непроницаемо-черно и затаенно-тихо, оттого неестественно звонко цокали подковы о подмерзшую в ночном осеннем морозце тропу. Представлялось, что даже там, за Амуром, слышна рысь торопившихся коней. Так и хотелось надеть что-то мягкое на конские ноги, чтобы не пугать непроглядную бесшумность. А ведь знал Богусловский, что отсюда за Амур даже крик не долетит, даже выстрел вряд ли будет там услышан. Но что поделаешь с собой? С натурой человеческой даже сам человек не всегда совладает.
Запахло дымом, и вскоре уже искорками начал пробиваться сквозь таежную темную плотность близкий костерок — лошади порысили еще размашистей и уверенней.
— Огонь оттуда не виден? — спросил Богусловский, хотя знал, что костер этот разведен за высокой сопкой, на поляне возле обогревателя.
Их много на границе, неприметных, а с сопредельной стороны вообще невидимых. Построены вблизи удобных для нарушения границы мест, и коротают в них время от службы свободные наряды, которые иногда по обстановке высылаются прикрывать оперативные направления на несколько суток. Но сейчас здесь собралось много пограничников — не пяток или десяток, в избушке даже малой части не поместиться. Пищу же если на всех готовить, то спалить ее можно от перекала печи. Вот и развели очаг прямо на поляне. Нет у застав походных кухонь — разворачиваются, как умеют.
— Исключено, — ответил начальник штаба. — Даже от нашего берега не видно. Проверяли.
Важно, очень важно было не показать провокаторам, насколько усиленно пограничники готовятся к встрече с ними. Левонтьев не дурак конечно же. Раз посланная за «языком» группа не вернулась, значит, возможно пленение. Со всеми вероятными последствиями. Не у всех язык на замок запертым останется. Но предполагать — одно, а видеть, как готовятся, — другое. Каковы, если идти не вопреки логике, действия Левонтьева? Выбрать другое место высадки? Но вполне возможно, что специально послана и диверсионная группа, и десант направлен будет именно сюда. Ему же главное, чтобы огонь пограничники открыли, а назад должна вернуться пусть малая часть, пусть почти все, только оказалось бы несколько раненых и убитых. Потому и не станет особенно мудрствовать. А если заметит, что готовятся крепко, чтобы захлопнуть, как в мышеловку, весь десант, тогда уж подумает. И что предпримет по совету хозяев своих — неведомо. Вот и работали пограничники только ночью, а днем даже в окопах не оставались.
К окопам на той стороне уже привыкли давно, их вырыли сразу, как началась война и японцы стали наглеть. Вырыли на всех опасных направлениях, и был отработан план обороны. Совместный с частями Красной Армии. Вот теперь их и решили использовать. Но, если днем вдруг кто закурит или высунется нечаянно, могут с той стороны засечь это. Перестраховка? Возможно. Но кто от перестраховки умирал?
Так, тщательно и скрытно, готовил отряд встречу десанту в двух местах. Десантоопасных, как их называли. Красноармейцев начальник отряда привлекать к операции не захотел. На своих пограничников он вполне надеялся, а те ненароком могли что-то напутать и испортить все дело.
— Решение верно, — одобрил Богусловский, выслушав доклад начальника отряда. — Своими силами будем. — И спросил: — А там, на втором участке, кто?
— Я оттуда недавно. Сейчас боевик наш. Опытный офицер.
— Давайте так сделаем: вы — на второй участок, мы с начальником штаба вашим — здесь. Сейчас посмотрим все, потом еще раз подумаем, не упущено ли что.
Единственное, что предложил Богусловский, — вырыть для фланговых пулеметов просторные окопы. Они среди багульника, шиповника и облепихи, которыми густо обросли подножия сопок, будут совершенно незаметными, а польза от них большая: ударят, что называется, в упор и неожиданно, дав возможность с большей безопасностью окружить десант. По два пулемета велел Богусловский поставить на каждый фланг. Один с холостыми патронами, другой — с боевыми.
— Лишнее это, — возразил было начальник штаба. — Перезарядить ленту — минутное дело.
— Минута может многое решить, — недовольно одернул его Богусловский. — Итог боя должен быть один: либо все они, без оружия, даже не поцарапанные, возвращаются, либо ни один не возвращается. Это и провокаторам нужно будет объяснить. Пусть знают и думают. Не поймут — огонь на поражение.
Они разговаривали на краю поляны, разговаривали вполголоса, чтобы не нарушать общей тишины, ибо поляна даже им казалась безлюдной, хотя более десятка пограничников опутывали ее приборами пограничной хитрости, оцепляли подковно малозаметными препятствиями. Лишь иногда из темноты доносились короткие глухие фразы, и снова все стихало.
— Молодцы. Без шума работают. С маскировкой только как?
— Проинструктированы. Продумано все, — с обидой ответил начштаба. — Не новобранцы работают.
— Хорошо. День покажет. Если враг предоставит его нам.
Предоставил. После полуночи заняли пограничники все свои места, оставив у обогревателя лишь дежурных для того, чтобы приняли они цинки с холостыми патронами и дымшашками, которые, при всей спешности, подоспеть могли только к утру.
Забрезжил рассвет, просветлив восток. Тихо. Ни звука с реки. Но сидят бойцы, ждут терпеливо. Привычны им ночи без сна в секретах и засадах. И морозец осенний, чувствительный особенно в предутрии, серебром осыпающий желтизной прошитую траву, тоже им привычен. Богусловскому труднее. Избалован он уже кабинетной теплотой — не то что в первые свои пограничные годы. Но перемогает холодрыгу, не показывая вида.
Только не упрячешься от внимательного пограничного ока. Пошел эстафетно по окопу полушубок, невесть откуда взявшийся, и лег на плечи бесспросно. Что ж, спасибо за заботу…
Ясней и ясней краешек неба над тайгой между сопками, словно пучится сила неведомая, рвется наружу, но давит ее небосклон теменью своей мощной, не дает воли вольной. Но вот — прорвалось. Краешком тускло-красным пропорото небо. И хватит для начала этого, есть зацепка, какая случается, когда ворвется на крепостную стену первый из штурмующих вражеский бастион. Скользнул лучик, просверливая индевелые вершины, расцвечивая их алмазами, и тут вдруг враз сыпанул веер яркий-преяркий — успевай только зажмуриваться.
Осветилась вскоре и долинка береговая, уютно улегшаяся меж гривастых сопок. Ничего не приметил Богусловский, хотя старался разглядеть, где МЗП, где ППХ. Ловко сделано все, будто не ночью устанавливали все это, а днем, да еще и без спешки.
«Нет, просто молодцы! — хвалил пограничников Богусловский. — Оттуда даже в стереотрубу ничего не обнаружат. Теперь останется одно: ждать…»
Богусловский хотел было поблагодарить красноармейцев, сержантов и руксостав застав за умелость и сноровку в работе, повернулся лицом к начальнику штаба, но тот, словно стремясь опередить возможный вопрос, поспешно и с заметным сожалением о случившейся отсрочке высказал свое мнение. Категорично:
— Сегодня не будут. Это уж как пить дать. — И почти сразу: — В отряд предлагаю поехать. Отдохнете до вечера…
— Нет! — резко отрубил Богусловский. — В отряд не поедем. Здесь останемся.
— Но в избушке-то хоть можно вам отдохнуть?
— Можно, — согласился Богусловский. — Дождемся доклада от начальника отряда.
Посыльный со второго участка прибыл вскорости. Доложил, что и у них полнейшая тишина.
— Ладно, раз так, — кивнул Богусловский посыльному и повелел: — Людей вывести из окопов, оставив наблюдателей. Быть в постоянной готовности. Возьмите с собой пяток дымшашек и цинк холостых патронов. Всё. Возвращайтесь. А мы, — взгляд на начальника штаба отряда, — тоже покидаем окопы. Прошу, распорядитесь о наблюдателях.
И сразу, с последними словами приказа, почувствовал Богусловский расслабленность и даже вялую опустошенность. Предельная внутренняя собранность, которую он даже не замечал, ибо привычна она для пограничников в сложной обстановке, отступила, давая душе отдых. Только совсем недолго длилась эта покойность: Анна, плачущая (он словно вновь ощутил на плече теплоту ее слез, услышал явственно: «…прокляну его!»), стала перед глазами, захватила властно и без остатка чувства и мысли Михаила Семеоновича и до самого вечера, пока вновь не подошло время занимать свое место в окопе, не отступала.
А как он долог, этот день, когда от ничегонеделания не знаешь, куда себя девать. Уснуть он так и не уснул толком, хотя и старался вовсю сделать это, забыться, отрешиться от трудных мыслей, а может, и вовсе избавиться от них, но не тут-то было. Он завидовал красноармейцам, каждый из которых был чем-то занят, что-то выполнял урочное либо спал безмятежно свое положенное время, а каково ему, пусть даже не обремененному думами о жене, о ее нелюбви и о ее жертвенности, ее умении подчинить себя когда-то данному слову, — каково ему без связи даже со штабом отряда, оторванному от всех дел, за которые он в ответе? Это тебе не винтовку чистить и патроны в лентах выравнивать.
Бремя, однако же, двигалось, как и положено ему по всем сложившимся в звездном мире порядкам. День, хотел он этого или нет, торопил ли его кто или, наоборот, сдерживал ли, катился к вечеру, и темнота пришла в самое нужное время. Пора заполнять окопы. Без шума. Без лишних слов. И — тихо ждать. Вновь, вполне может статься, бесцельно.
Лишь одно короткое напутствие:
— Прошу всех предельно четко выполнять индивидуальные задания. Помните: ошибка может обернуться большим несчастьем. Не только для всех нас, но и для страны. Не забывайте этого.
Возможно, лишними были эти слова. Пограничники, чуть выпадало свободное время, когда позволительно засмолить самокрутку, тут же принимались с возмущением судить-рядить о наглой провокации, которую задумали японцы. Вывод один у всех: не оплошать. Они психологически готовы были встретить провокаторов, и это понимал Богусловский, но понимал он и всю величину той ответственности, которая лежит сейчас на всех них, на каждом из них. Оттого и посчитал нужным предупредить:
— Не забывайте это…
Любой человек, особенно же воин, меняется совершенно, если выпадает на его долю смертельно опасное дело. И мысли целенаправленны, и собранность отменная, самовольство исключено, а для пограничников такое состояние не только обычно, но и привычно, ибо жизнь их под стать фронтовой: разинешь рот — не муху сглотнешь, а пулю. Но даже и для них сегодняшняя ситуация далеко не рядовая — вот и обеспокоены все. Кому даже разрешили командиры поспать, когда отнаблюдал свое, и тем сон — не в сон.
Посветлел небосклон, где солнцу место выбираться из темени, а Амур мирно перешептывался с сонными берегами. Ни одного подозрительного шума.
— Что, и сегодня не появятся? — будто сам себя спросил Богусловский. — Нежелательно это. Утомительно ожидание. Тревожно…
— Кажись, загалдели, — прервал Богусловского стоявший рядом молодой краском. Прислушался еще немного и сказал вполне уверенно: — Рассаживаются по лодкам.
«Вот это слух! — восхитился Богусловский, ибо сам он, как ни напрягался, ничего услышать не мог. — А может, ошибается?»
Нет, без осечки вышло у краскома. Всего несколько минут прошло, а от сопредельного берега донесся скрип уключин. Частый и множественный скрип.
— Ого! Густо, похоже! — вроде бы радуясь, что будет горячее дельце, воскликнул начальник штаба отряда. — Ничего, давай-давай!
Лодки тем временем приближались довольно быстро и шумно. К скрипу уключин вскоре добавились громкие переклики гребцов и на русском, и на китайском языке, взрывы смеха, какие случаются при очень смешной остроте да когда к тому же слушающие в добром подпитии, — все походило на то, что на реку выехали люди ради праздной прогулки, бесшабашно-веселые, которым в данный момент сам черт не брат. Вполне они могут ненароком причалить и к другому берегу. Какой с них спрос? Ошиблись.
А Богусловский представлял, чем весь этот спектакль должен, по замыслу Левонтьева и его хозяев, закончиться: услышит ближний пограничный наряд шум на реке, поспешит навстречу, чтобы предупредить высадку, тут с лодок и ударят по нему из винтовок. Вполне возможно, холостыми. Ответят наши пограничники огнем — вот тебе и раненые нужные. Вот тебе и повод для ультиматума, а то и для агрессии. Чтобы, значит, безвинных оградить от огня советских пограничников.
«Мелко мыслишь, Дмитрий, — с неприязнью думал о Левонтьеве Богусловский. — Считаешь, против тебя мужики забитые из твоей бывшей вотчины стоят. Нет уже тех мужиков. Нет, и все. Распрямили они спины, просветлели разумом…»
Разве один Левонтьев жил прежним пониманием России, теперь советской, считая привычно ее сословную темность и тугодумность неизменившейся? В этом была роковая ошибка недругов российских и благо для народа ее разноплеменного, единого в ратной защите лада своего.
Подплывают лодки, а на берегу тихо. И темно пока еще. Примолк и десант. Весла опущены в растерянности: не по сценарию что-то получилось. А течение уже подхватило лодки, сносит их, лепит борта к бортам. Команда нужна, чтобы знать всем, что делать. И рявкнула она. С громким матюгом:
— Греби! Так твою перетак! На берег!
Взвизгнули уключины морозцем по коже. Затаили дыхание пограничники, сжимая винтовки. Всё. Быть бою. Для кого-то последнему в жизни. А так не хочется кровавить такой мягкий покойностью своей рассвет…
Поскребли джонки и лодки днищами отмель песчаную и сунулись носами в берег. Тут новая команда. Столь же грубо приправленная:
— Вылазь! Не волоки далеко лодки на берег, чтоб обратно не карячиться!
Послушно, уже без шуток и смеха, а молчаливым горохом посыпались на берег маньчжуры и белоказаки. И выстроились. Без всякой на то команды. Ждут стоят. А тот, что команды бросал, тоже растерян. Недоволен. Даже зол.
— Что ж эт они, сучье отродье, сундулят без прыти?! Иль уши заложило, что не слыхали нас?! — Передохнул малость и повелел: — Пошли, айда. Гутарил, паря, Левонтьев — окопы, дескать, понарыты. К ним айда.
Но только десяток шагов сделали провокаторы, как взвилась в небо ракета: кто-то наткнулся на проводок. Обратно было кинулись некоторые, но грубый окрик остановил их:
— Вперед! Эка невидаль — ракета. Пущай летит. Глядишь, прибегут вскорости сопляки зеленофуражечные…
Еще одна ракета взвилась в рассветное небо, ярко опалив его.
— Вперед, гураны трусливые!
И тут — выстрел. Хлесткий, в упор. Еще один. Тоже — в упор. Прилипли нарушители к морозной, седой от инея траве, будто кто косой по рядам их взмахнул. Зацокали холодно затворы, втискивая патроны в патронники. Но пока еще не поняли провокаторы, что к чему и в кого стрелять. Слушают.
— Что? — спросил начштаба отряда шепотом Богусловского. — Пора?
— Да, пора.
Покатилась бесшумно по окопу команда, и тут же полетели в сторону провокаторов зажженные дымовые шашки, а на флангах из окопов поднялись пулеметы.
Застучали нестройные ответные выстрелы из дымной невидности, но тут же умолкли, подчинившись зычной команде:
— Прекратить огонь!
Машинально подчинились, потому что скомандовал командир комендантского взвода отряда, специально сюда привезенный из-за зычного голоса. Достиг он своего и, не давая опомниться провокаторам, заговорил репродукторно:
— Если станете сопротивляться, всем вам — смерть! Ни один не уйдет! Жизнь и возвращение гарантируем, если сложите оружие!
От берега, справа и слева, застрочили длинноочередно пулеметы. И только смолкли, взводный продолжил:
— Стреляли холостыми. Но есть у нас и боевые ленты. Нам известен ваш план. Мы не намерены рисковать. Либо уходите все, без оружия и невредимые, либо не уходит никто!
Забубнили в удушливом дыму, пересиливая кашель. И чем длиннее пауза, тем настойчивей ропот, надрывней и чаще кашель. А из окопа знай подбрасывают новые дымовые шашки. Правда, дым уже и до окопа добирается, но это — ничего, ибо там, где шашки выплескивают дымовые клубы, куда как не сладко.
Кто-то там, в дыму, Левонтьева матюкнул, закашлявшись. На него прицыкнули грозно. Верно все: боятся расправы. Просто оружие побросать, только чем потом простота обернется? Умирать, однако же, еще страшней.
Согласились в конце концов сдаться. Крикнул старший:
— Будет окуривать! Примай от нас карабины!
Вот и все. Теперь лишь дождаться, пока додымят шашки, а затем утянет к Амуру дым, потом можно и из окопов выходить. Не всем, правда. От коварства нет гарантии, когда имеешь дело с бесчестьем.
Нормально, без осложнений прошло разоружение провокаторов. Отвели их на два десятка метров от сваленных в кучу карабинов казачьих, видавших виды еще с гражданской войны, винтовок японских, еще совсем новеньких, и разрешили сесть. Объяснили:
— Передадим вас представителям погранстражи от Маньчжоу-го и от квантунцев. Придется ждать.
И поскакал гонец в отряд с конвертом, на уголке которого поставлены три креста: предельный, значит, аллюр. За лошадь всадник не в ответе. В конверте — донесение начальнику войск. Срочное.
Скоро узнал о победе Оккер и на сопредельную сторону вызов послал, чтобы, значит, встречу ускорить, только ответ не вдруг получил. Японцы, наоборот, затягивали время. Невесть на что рассчитывали. Может, предполагали — одумается кто-то из сдавшихся в плен, ускользнет из-под охраны, переплывет Амур, вот тогда они сами смогут заговорить языком ультиматума, подкрепив его лязгом танковых гусениц. Даже поражение обернут в свою пользу. Да как еще повернут!
Только и пограничники наши не лыком же шиты. Охраняли пленных весь день очень серьезно, а на ночь переместили всех в окоп и окольцевали плотно. Мышь не прошмыгнет — не то чтобы человек. И утром, когда наконец пожаловали погранкомиссар и полковник-квантунец, построили пленных в привычный для них строй. Рядом с заиндевевшим оружием.
— Мы не хотим крови, — с паузами для переводчика заговорил Богусловский. — Мы могли бы уничтожить высланный вами десант, но не сделали этого гуманности ради. Берите их обратно. Без оружия, правда. Оружие останется у нас. Предупреждаем, однако, что впредь не будем столь милосердны. С миром в гости — милости просим. С войной — стеной встанем. Думаю, вам не хочется нового Хасана. Халхин-Гол для вас тоже вовсе не желателен. Но теперь, если случится такое, десятикратно пагубней для вас будет финал…
— Мы не имеем никакого отношения к тому, что здесь произошло, — возразил полковник. — Это — самовольная акция. Господин погранкомиссар и я сделаем нужные выводы…
— Да, сделайте, — снисходительно разрешил Богусловский, наблюдая с радостью за бессильным гневом японца, вынужденного натянуть маску холодной почтительности. — Сделайте. И еще совет вам. Совет профессионала-пограничника: несите службу лучше. Такую ораву не заметить? За такое у нас под трибунал бы отдали.
Не последовало благодарности за добрый совет. Козырнул молча полковник-квантунец и выпалил несколько сердитых фраз, уже не Богусловскому адресованных, а тем, кто сопровождал его в этой невыгодной поездке. Вроде бы подчиненные виноваты в его унижении.
Засуетились пугливо все вокруг, посеменили, подгоняемые криками, провокаторы-неудачники к лодкам и джонкам, а наши пограничники с ухмылками на лицах созерцали горделиво плоды своей победы, понимая и малую ее масштабность, и великую значимость.
Богусловский тоже, как и все, гордился свершенным, может быть более всех понимая, сколь великое дело сделано. Он анализировал еще и еще раз все, что произошло на этом пятачке дальневосточной земли, что происходило на участке всего округа в военные месяцы, и чувствовал, что подобная победа не может глобально отвести великую угрозу, которая висит над Сибирью, а значит, и над всей страной. Не в состоянии они наличными силами отбить не только вторжение вражеское, но даже провокации, если совершены они будут сразу в нескольких местах да еще если станут часто повторяться.
«Нет, усиливать нужно Дальний Восток, а не оголять его, — думал упрямо он, пытаясь вывести из случившегося здесь весомый аргумент для письма в Кремль. — Везение не каждый раз будет нам сопутствовать. Сила должна быть здесь. Мощная…»
Не раз еще и не два, как считал Богусловский, придется округу противостоять подобным провокациям, а возможно, и более мощным, нужно поэтому готовиться к ним, мобилизовать все силы. Он, однако же, ошибался. Потихоньку-полегоньку наглость квантунцев станет притухать, смирней они поведут себя, а после разгрома фашистов под Москвой и вовсе обходиться начнут щипками, не решаясь на крупные пограничные конфликты.
Письмо Богусловский так и не окончит, а Оккер с удовольствием станет красоваться своей прозорливостью. Нет-нет да и скажет назидательно к случаю, а то и не совсем уместно:
— Видишь, устояла Москва, и тут потеплело. А ты — Наполеон… Кутузов! Не те времена. Битвы не те. Классовые они сегодня. И роль Москвы в этих битвах иная.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Отсиживаться в безделье за болотами, как понимал Дмитрий Темник, становилось предельно опасно. Акимыч, начальник тыла, ходил за болота, в «мир», как шутили в отряде, связал с подпольным райкомом Раису Пелипей, получил оружие, боеприпасы и даже взрывчатку. Все это уже перенесено в отряд, распределено между партизанами. Не всем хватило, но несколько групп вооружены полностью. Начальник штаба отряда Рашид Кокаскеров, занимаясь с ними денно и нощно, докладывал уже не раз, что они готовы к выходу на операцию, но Темник всякий раз отвечал:
— К боям готовим людей. Не с глупцами-неумехами им придется иметь дело. Это, дорогой Рашид, вопрос жизни. А мы с тобой за жизнь бойцов-партизан в полном ответе. Они нам верят, и мы не имеем права…
— Мой отец говорил: чтобы убить зверя, надо идти по его следу. Только коркак садится в засаду. Что такое коркак? Так наш народ называет трусов. Я не хочу носить непристойное мужчине имя.
— Меня тоже не прельщает столь яркий ярлык. Но я посмею поперечить мудрости твоего отца: на след зверя нужно вставать, когда уверен в себе. Пока бойцы, товарищ Кокаскеров, не готовы к боям.
Темник говорил сухо и жестко, но не выказывая, что оскорблен. Даже по глазам нельзя было понять состояния его души. А она клокотала. Не только от ненависти к этому самоуверенному командиру, лидерство для которого — состояние естественное, но совсем противное целям Темника, а и от понимания того, что слова начальника штаба вполне соответствуют настроению всего отряда. Темник ненавидел сейчас не только Кокаскерова, всех мужиков-партизан, но и Пелипей, бабу, которой вынужден подчиняться и которая медлит с сигналом о начале действий отряда; ненавидел он и того фашиста-щеголя, который так ловко загнал его на этот комариный остров, окруженный гнилыми болотами; главное же, что бесило Темника, — полное свое бессилие. Он не мог выхватить револьвер и всадить пулю за пулей весь барабан в это спокойное, уверенное лицо Кокаскерова. Не мог он и командовать в отряде по своему разумению. Он, командир по форме, спеленут фактически, словно грудничок. Повелела Пелипей внедрить к полицаям двух-трех человек — он в тот же день отправил их через болота. Разрешила взорвать мост, который прежде намечали к взрыву партизаны, — послал группу во главе с Кокаскеровым. Запретила что-либо дальше делать — держит людей, хотя успешный взрыв моста окрылил партизан и они не хотят больше только рыть окопы, обустраивать землянки, приводить в «божеский вид», как они назвали, тропу отхода. Партизаны хотели воевать, а командир вынужден искать повод для их сдерживания. Не скроешь это ни от кого, как ни хитри, как ни изворачивайся. Запротестуют и мужики, привыкшие к вековой послушности. Кокаскеров подольет масла в огонь. Он и станет командиром. Тогда ему, Темнику, конец.
Куда ни кинь, выходило — всюду клин.
«Еще два дня, и вышлю группу на свой риск. Двум смертям не бывать», — решился наконец Темник и немного успокоился.
Вошел в командирскую землянку комиссар отряда Иван Воловиков.
«Белокурого еще не хватало, — досадливо подумалось Темнику. — Сейчас тоже начнет. Спелись!»
Окрестив там, в загоне, набитом пленными, раненого политрука белокурым, Темник продолжал мысленно так его и называть, хотя уже знал и фамилию, и имя комиссара отряда. Верно, Темник не ошибся тогда, что белокурый из племени политруков. Он так и отрекомендовался, когда пришел в себя и понял, что у партизан: «Политрук Воловиков».
Темнику этого было очень мало. Ему хотелось знать все и о настырном начальнике штаба, который тоже о себе доложил после излечения сдержанно: «Начальник заставы» и больше ничего не рассказывал, и об удивительно мягком в обращении с людьми, вопреки своей фамилии, комиссаре. Оттого Темник старался как-то расположить их к себе, исподволь, словно случилось это само собой, подвести их отношения к совершенной откровенности. Сценарии таких исповедей, непременно, как виделось Темнику, вечерних, он уже представлял себе точно, продумывая до мельчайших деталей и свои «исповеди». Только все что-то мешало: то спешка при строительстве оборонительных сооружений и землянок, то дела, связанные с получением оружия, то обсуждение программы обучения партизан, а теперь вот — недовольство медлительностью самого командира.
«Нет, так не пойдет, — приглашая Воловикова садиться и готовясь слушать его, думал Темник. — Лишь дружба с ними и их полное доверие ко мне дадут мне спокойно работать. Не конфронтация…»
— Трудненько мне, командир, приходится, — вздохнув, словно и впрямь нес он на спине пятерик, заговорил комиссар. — Сердца горят у людей. Вон уж сколько времени, как оружие поступило, а дел — мост один взорван. Вшивонький мост.
— Вот-вот, мы как линяющие зайцы. Под куст забрались, — поддержал комиссара Кокаскеров.
— За что же, Рашид, осуждать зайца, который поступает разумно? Природа — превосходный учитель. Игнорировать ее уроки, значит, просто-напросто оказаться на пути вымирания, — с уверенным спокойствием в голосе парировал Темник. — Да, мы действительно в стадии линьки. Образно Кокаскеров определил. Так вот, друзья, давайте долиняем и уж тогда — вперед. Тогда мы сами, оставаясь живыми и невредимыми, станем врагам наносить ощутимые удары. Вижу и понимаю я, что происходит в отряде, но у меня нет точных разведданных, не определен еще объект удара, не уверен я и в боевой готовности наших партизан.
— Мой народ поступает так: ребенка, едва он подрастет, сажают на дикого жеребца и пускают в степь. Мудро рассуждают аксакалы: не севши на коня, не станешь джигитом.
— У русских тоже есть подобные традиции. Верно — мудрые они. Мы тоже испытаем силу выучки партизан в бою. Обязательно.
— Когда? Люди должны знать, когда их поведут в бой, — настойчиво спросил Воловиков.
Впервые он был так тверд в своем требовании. Обычно он предлагал только один раз. И если видел, что его совет не воспринят, значит, считал, не ко времени он, и отступал сразу же. Если и возвращался к нему, то спустя время, обдумав его более основательно. Сегодня комиссар с несвойственной ему настойчивостью стоял на своем неотступно: партизанам нужна ясность. Нет, он не требовал от командира раскрытия всей подготовительной работы, он настаивал лишь на определении срока первой боевой операции. И хорошо, что Темник уже решил его для себя, оттого не метались его мысли в поисках выхода, он вел себя уверенно, поддразнивая собеседников, чтобы те высказали свое мнение максимально полно. И только когда почувствовал, что спокойная беседа подошла к пределу, что вот-вот может случиться взрыв, пристукнул ладонью по столу:
— Все. Баста. Порешим так. Завтра еще раз проверим готовность обороны, затем проведем инспекцию по тактике боя и проэкзаменуем каждого партизана. На все это — два дня. Если будет все в порядке, тогда — вперед.
— Главная наша цель — бить врага. Оборона — не тактика партизан, — возразил Воловиков. — Согласен, инспектирование не помешает, все остальное — лишнее. Укрепляться можно в свободное от боевых действий время. И потом, до зимы мы гарантированы от карателей. Болото — лучшая оборонительная черта.
— Почему я, врач, рискнул принять командование партизанским отрядом? Из партизанских краев я. Из сибирских партизанских краев, — почувствовав, что после размолвки может наступить именно та атмосфера доверчивости, которая так ему нужна, начал рассказывать Темник давно уже заготовленную легенду. — Нет, сам я, как вы понимаете, не партизанил, а титьку сосал, но понаслышался в годы юности своей о многом. О победах любили трекать, как у нас говорят, а вот о поражениях — тут всегда виноватого искали. И кто виноватым оказывался? Командир. Он, дескать, не подумал об обороне. Он, дескать, не организовал охрану. У него разведки никакой не было. И, как теперь я понимаю, они были правы. Что думал командир: мандрыки еле заметные, только охотникам ведомые, — что тут окопы копать? кто сюда сунется? Только совались. Находились продажные проводники у беляков и японцев, тоже звериные тропы знающие. Обложат враги по сопкам отряд, мечется он в пади, а его, как куропаток…
— Правильно говоришь, командир! — горячо воскликнул Рашид Кокаскеров. — Не стал бы я Кокаскеровым, а был бы сыном кровососа-контрабандиста, не окажись командир-пограничник расторопой…
Темник с трудом заставил себя в меру удивиться услышанному, ибо признания такого рода даже в кругу ближайших друзей почти не делались, каждый старался «произойти» от крестьянина-бедняка или от рабочего, а тут на тебе — сын контрабандиста! Как не удивиться? Для Темника, однако, известие это имело свое значение: он сразу начал прикидывать, возможны ли шантаж и в конце концов совместная работа.
«Шефу нужно доложить — что тот скажет?» — думал с волнением Темник, продолжая слушать Кокаскерова с миной в меру удивленного человека.
А Рашид с восточной неспешностью пересказывал все, что слышал от приемного отца Кула о расколе пограничного гарнизона, о налете на оставшихся пограничников Абсеитбека, главы контрабандистов Алая и его, Рашида, отца, о полном разгроме налетчиков…
— Почему победителями вышли кокаскеры? Умный человек там был — Богусловский. Он роды у моей матери принимал. Он тоже, выходит, отец мой. Не поверил офицер Богусловский своему дружку, тоже офицеру пограничному, Левонтьеву, обезопасился.
— Начальник штаба тоже за кротовое существование, — с ухмылкой подытожил рассказ Кокаскерова Воловиков. — Удивительно!
— Нет! — воскликнул Рашид. — Я — за бои. Но с крепкой обороной базы. Командир наш мудростью равен аксакалу.
— Принимаю мнение большинства, но живу одной мыслью, одной целью — мстить! За роту свою. Все, почитай, погибли, став заслоном. Один я уцелел. Чудом. — И замолчал Воловиков, склонивши голову. Отяжелили ее грустные воспоминания.
Их полк остался фактически безоружным. Рванулся, поднятый по тревоге, марш-броском к зимним казармам, где все тяжелое оружие стояло на консервации, вся боевая техника. Несколько часов нужно, думалось, и приведены они будут в боевую готовность. Всего несколько часов! Думкам тем только не суждено было свершиться: побиты орудия и танки, искорежены бомбовым налетом, а от складов с огнезапасами одни глубоченные ямы остались. Вот и покатился полк на восток, оставляя роту за ротой на высотах…
Нет, не хотелось говорить Воловикову о мыслях своих и оценках. Вроде бы друзья боевые в землянке, но — береженого бог бережет. Так наставлял его сызмальства отец-хлебопашец, сам не уберегшийся от кулацкой пули.
Да Темник сейчас и не воспринял бы откровения Воловикова — ему впору переварить услышанное от Рашида. Левонтьев? Кто он? Дядя? Рассказывали ему, Дмитрию Темнику, что погиб один из Левонтьевых за Русь святую, оставив о себе долгую память: где проходил с отрядом казаков — крутил головы совдеповцам, как куренкам, за захват ими земли чужой…
И Рашид, выходит, уязвим. Ох как уязвим! С любого конца бери. Истинный его отец — контрабандист. Враг, стало быть, народной власти. И роды принимал офицер. Дворянин наверняка, классово чуждый элемент. Если прикинуть все как следует, можно в одну упряжку с собой впрячь. Только эту самую Пелипей уведомить нужно. Согласует она, с кем ей положено, даст «добро», вот тогда…
Темнику виделось великое облегчение в делах своих, когда будет рядом подвластное плечо.
— Да-а, судьба, — раздумчиво протянул Темник. — Отец — матерый враг. А сын…
— Мой отец — Кул! Дехканин. Чабан.
— Я не об этом, — со вздохом перебил Кокаскерова Темник, — я — о превратностях судьбы. — И почти без паузы, чтобы последнее слово осталось за ним, заговорил повелительно: — Все. Времени у нас достаточно будет впереди о себе друг другу поведать, без этого нельзя, мы должны знать друг о друге все, иначе как доверять? А теперь — пойдемте. Смотреть будем. Акимыча, товарищ Воловиков, позовите.
День предзимний короткий и промозглый. Едва хватило его, чтобы осмотреть все окопы и траншеи. Темник придирался к каждой мелочи, его настроению поддались остальные руководители отряда, и все стали сверхдотошными. Недоделок выявилась уйма. Все силы, казалось, бросить на их исправление — все равно несколько дней нужно потратить. Порешили вечером, однако же, так: неполадки все не помеха для боевых действий. Дотягивать оборону и быт улучшать станут те, у кого пока нет оружия. И если боевая выучка окажется достаточной, завтра же выслать разведку для связи с теми, кто в полицаях, и с Раисой Пелипей. Не вслепую же выходить «в мир»? Приглядели посланцы отряда, наверное, объекты для удара.
Оставшись один, Темник долго еще сидел за столом, уткнувшись взглядом в шершавый сучок, коричневым пятном выпиравший на грубо строганной серой доске, а мысли его метались в заколдованном круге, не в силах разорвать его и спокойно разобраться в том, какую роль выполняет он в хитро запутанной игре изувера-щеголя. Ему было обидно и горько сознавать, что он — простая пешка. Не того он хотел, не к такой роли готовил его московский наставник Трофим Юрьевич.
«Пешка безголосая. Пешка. Нет, так не годится. Думать нужно. Искать. Менять все…»
С этим ободряющим желанием он и уснул, успокоенный надеждой на лучшее свое положение в будущем.
Разбудили его еще до рассвета: пришел связной от Пелипей. Сообщил:
— Арестовали подпольный райком. Команда СС из отряда «Мертвая голова» прибыла в район открывать концлагерь. Она и напала на след. Ночью взяли подпольщиков. Всех до одного. Медичка предлагает освободить арестованных.
Связной начал излагать предложенный ею план налета на эсэсовцев, но Темник остановил его:
— Соберем сейчас командование отряда, тогда все и обсудим.
На какой-то миг он был ошарашен (не его ли собираются убрать?), но сменилась тревожность радостью и даже гордостью. Как же, своих не жалеют ради его, Темника, командирского авторитета! Подпольный райком отбить — дело нешуточное. После такого не возьмешь его, Темника, голыми руками.
Вечерние мысли казались ему теперь вовсе зряшными. Ничего не нужно ему менять до поры до времени. И неведомо было Темнику, что все эсэсовцы, на которых ему велено нападать, давно уже приговорены к смерти, как неблагонадежные. Но их не стали ссылать в концлагеря, не расстреляли, не увели ночью из квартир в неизвестность — им уготовили иную смерть, позорную, чтобы стала она назиданием и для других эсэсовцев, и для армейских подразделений: будь в России настороже, иначе погибнешь. В ночь налета на них партизан они напьются пьяными (им помогут в этом люди абвера), и в донесении о их гибели факт пьянки особенно будет подчеркнут.
Вторая сторона медали такова: успешный налет партизан повысит авторитет Темника и особенно Пелипей, но главное — партизанский отряд станет известен и, вполне вероятно, войдет в связь с более высокими руководителями.
Быстро собрались в командирской землянке Кокаскеров, Воловиков и Акимыч. Акимыч засмолил козью ножку и по-председательски распорядился:
— Давай теперь шпарь.
Пошпарил парень. Ловко у него все выходило: снять часового у бани, где райкомовские сидят, потом часового у дома, где сами душегубы разместились, и — в штыки их. Без выстрела если, то еще лучше. Но и стрельбу в поселке не услышат. Выселки кулацкие более чем в версте от поселка. Гранаты, те — нельзя.
— Полицаев всех собрали в районный центр, — докладывал связной. — Какая-то карательная операция готовится. А может, райкомовских когда вешать станут, чтобы смуту подавить, если что.
Задумались партизанские командиры. И долг зовет, и риск велик. Эсэсовцев тридцать, а партизаны не более двадцати человек могут снарядить. Рвались на операцию, торопили Темника, но не на такую опасную. Посильна ли для первого раза?
Темник торжествует. Он неумолим. Он — сама смелость.
— Я сам поведу отряд. Разобьем его на группы. Одна группа — к бане, две других — к дому. Освободив арестованных, она присоединяется к штурму дома. Со мной резерв — три человека. Решать нужно лишь одно: кто будет снимать часового?
— У бани сниму я, — твердо заявил Кокаскеров. — Без шума там нужно, это — раз, второе — неудачи нельзя: одна очередь охранника, и мы многих райкомовцев недосчитаемся.
— Согласен. Кому снимать часового у дома, определим на инспектировании. Если нет вопросов, до обеда «проигрываем» операцию, после обеда — выступаем. Медпункт будет домом, командирская землянка — баней.
Один, и два, и три раза «снимали» часовых, потом бесшумно подкрадывались к дому. Темник добивался максимальной согласованности действий, понимая, что ничего этого не нужно для успеха операции: исход ее предрешен, но нужно это для того, чтобы потом можно было бы сказать:
«Видите, что значит тщательная подготовка!»
На долгое время даст ему сегодняшний день право любой упрек неудачнику подкреплять собственным примером.
Обед Темник велел сделать обильным. Акимыч расщедрился, отсыпал повару гречки и дал несколько ломтей свиного сала собственного засола. Для чая выделил не «адову смесь» (хвоя, мята и зверобой), а пачку грузинского. Высшего сорта.
Перекурили, поглаживая после щедрот Акимыча пухлые животы, и принялись разбирать оружие и боеприпасы. Без шуток, сосредоточенно.
— Строиться! — крикнул начальник штаба и после небольшой паузы скомандовал властно: — Становись!
Все как в настоящей Красной Армии. По ранжиру. И чтобы грудь четвертого человека при равнении видеть. Неуклюжесть есть, что и говорить, но от силы хлебопашеской она, от сохи и косы.
— Поздравляю вас с первым боевым крещением, — осмотрев строй, заговорил Темник, но его одернули:
— Не говори гоп, пока не прыгнешь…
— Поздравляться опосля станем, как в живых возвернемся.
— Согласен, — кивнул Темник. — Только знайте: уверенность в успехе — это половина успеха. — Помолчал немного и скомандовал: — Товарищ Кокаскеров, определите головной дозор. А впереди него еще и разведгруппу. В села не заходить. Нельзя. Засекут — жизнью могут поплатиться ваши семьи.
— А после того, как дело покончим?
— Тем более. Уходить будем немедленно.
Может, кто и недоволен таким распоряжением, но не станешь же спорить? Тем более, если прикинуть трезво, прав командир: донесет какой предатель фашистам — запылают села огнем горючим.
Без происшествий миновали топи и лес. На опушке подождали, вольготно отдыхая, пока не засветятся в темноте окна домов деревенских. Вот тогда и двинулись, С еще большей осторожностью, но прытко, подгоняемые волнением и ночной студеностью.
Темник едва сдерживался, чтобы не стучать зубами от холода, который, ему казалось, проник в него всюду. Уж не только в груди, но и в животе все сжалось от озноба. Пальцы рук и ног будто во льду звонкомерзлом.
«Справней одежда нужна. Нижнее белье, телогрейка потолще, — думал Темник, шагая в ногу с Кокаскеровым, необычно серьезным. — Полушубок тоже не помешает».
Верно, конечно, все. Не ахти как греет бушлат мешковатый, преподнесенный Акимычем; только сейчас Темника не согрел бы даже тулуп романовской овцы. Отмахнулся он в первую минуту, как получил задание от Пелипей, от предательского сомнения, что не ради ли расправы с ним затеяно все. Радость и гордость тогда заслонили все, а когда зачавкала под ногами болотная тухлость, но особенно теперь, когда неумолимое время приближало миг встречи с эсэсовцами — отборными нацистами, подчинявшимися только Гиммлеру, верному псу Гитлера, — куда подевалась его уверенность в успешном исходе операции! Нет, он уже не думал, что станет похваляться, к месту, конечно, умелой организацией первой боевой вылазки, он все больше и больше анализировал свое поведение с момента «расстрела», пытаясь определить, за что может последовать расплата. Ничего вроде бы не находилось крамольного, но трусливая скованность не отступала, а мысль о том, что эта промозглая ночь может стать последней в жизни, все более настойчиво стучала в висках.
«Не нужен я им. Наверняка. Тридцать вышколенных головорезов — против мужиков… Нет, конец всему!»
В какой-то миг он хотел остановить отряд, повернуть его назад, потом увести его в новое место, в новый район и начать партизанить по-настоящему, но мурашки поползли по спине от этой дерзкой мысли. Как объяснить, почему вернулись? Поверят, конечно, если рассказать все. Но тогда — конец. Без всякого сомнения. Нет, нужно идти вперед. Где светится еще лучик надежды. Не станут же немцы рушить одним махом то, что так долго и тщательно готовили? Да и первая польза уже есть: подпольный райком захвачен.
«Отчего же тогда велено освобождать арестованных?!»
Обогнув раскидистое село, подошли к выселкам. Внушительный домина с разнокалиберными пристройками и гумном неподалеку.
Кокаскеров предлагает:
— Гумно нужно блокировать. От каждой группы по одному человеку.
— Верно. Действуй.
Растаяла в темноте жалкая группка. Что она сможет сделать, если на гумне хотя бы пяток эсэсовцев с автоматами? Ничего.
Растворилась и группа Кокаскерова, путь которой к бане, а затем и остальные группы, которым предстояло окружить дом. Тихо-тихо. Напружинился Темник до самого человеческого предела, ожидая в страхе хлесткого выстрела либо крика. Всё тогда. Не удирать же со своим смехотворным резервом? Да и куда удерешь? В бой придется бросаться. На смерть. На верную смерть.
Выскользнул из темноты связной от основных групп. Докладывает шепотом:
— Нет часового. Двери не заперты. Ставни не закрыты. Врываться в дом? Или огонь через окна?
— Только — дом. Чем меньше стрельбы наружной, тем лучше для нас. Сигнал не меняется — крик филина.
Ободрился чуток Темник. Но все равно грызет сомнение:
«На гумне, наверное, засада. Ворвутся партизаны в пустой дом и — сами в мешке!»
Вот наконец и Кокаскеров. Половину своих уже отправил к дому, блокировать на всякий случай сараи и скотный двор, с остальными ведет, словно под конвоем, райкомовцев.
Знакомиться некогда. Потом, за болотами, все это произойдет. Сейчас Темник краток и точен:
— Товарищ Кокаскеров, на гумно. Через две минуты даю сигнал.
— Ясно, — ответил Кокаскеров, но Темник по тону почувствовал, что ничего ему не ясно и что он не очень-то доволен новым заданием. Может быть, он даже и поперечил бы, но тут подал голос кто-то из райкомовцев. Скорее прохрипел, чем проговорил:
— Мы тоже готовы к бою! Просим оружие.
Настойчиво прохрипел. Приказно. Первый секретарь, значит. Только Темнику, который теперь обрел полную уверенность, не нужны ни от кого приказы. Он руководит операцией. Только он. Бросает в ответ:
— Все наличное оружие в руках партизан. Ваше оружие — страстное слово партии.
Достал револьвер из кобуры, помедлил минуту-другую и приказывает, кому определено ухать филином:
— Давай сигнал!
Без выстрелов не обошлось. Но стены из добротных лесин глушили их настолько, что даже Темник со своим резервом и райкомовцами едва их слышал. Под конец, правда, стрельба будто вдруг вырвалась наружу: где-то, видимо, высадили окно. К счастью, быстро все стихло. И вот уже связной с докладом:
— Победа! Только двое наших ранены.
— Собрать все оружие. Все боеприпасы взять. В вещмешки. Осмотреть погреб и кладовые. Продукты все тоже — в вещмешки. Возьмем с собой все, что сможем унести.
Послал за Кокаскеровым. А сам — к дому. С резервом и райкомовскими. Поторапливает:
— Живо, товарищи. Живо. До рассвета нам нужно быть в лесу.
А вот куда раненых девать? С собой? А может, в свои дома доставить? Там их укроют и выходят. Большинство на этом настаивают.
Поупрямился для порядка Темник (не все ли равно ему, куда мужики денутся, что с ними будет?), потом разрешил:
— Хорошо. Выдели, Рашид, сопровождающих. Пусть продуктов прихватят.
Через несколько минут, выслав вперед дозор, заспешил отряд через пахотные поля и овраги к лесу. Но не по прежнему маршруту шли, а иной избрали. Длиннее он намного, зато большая часть — лесом, до которого всего километров пять от выселок. Он, правда, не соединялся с ихним, большим, где укрывалась партизанская база, но было там два оврага с густым орешником, по ним вполне можно пройти из малого леса в большой незаметно даже днем.
Темник торопил:
— Шире шаг. Быстрей, мужики!
Нужды, верно, в понукании не было вовсе: все и без того рысили, хотя и навьючены были, словно ломовые лошади. Даже райкомовцы, избитые, голодные, пересиливали себя и не отставали. Всех подгонял безотчетный страх. Впервые многие из мужиков убивали. Врагов, понятное дело, но люди же они. И вот непривычность содеянного вначале, после успешного боя, безотчетно будоражила, радовала, а когда остудил их разгоряченность предутренний морозец, робость холоднозмейно подкралась к сердцам. Чудилась расплата. Неминучая. Оттого и спешили мужики-партизаны через поля, соскучившиеся по плугу, к лесу-спасителю.
Километр за километром огоревали, все нестерпимей предвкушая приятный шелест опадающих листьев под ногами и колкость разлапистого ельника, который отсечет их от опушки, укроет под сенью золотолистных берез.
Но и рассвет набирал силу. Пока, правда, не очень спешно, однако же, неотвратимо.
— Шире шаг, мужики. Шире шаг!
Успели в серости предутренней, не зрячей еще, проскользнуть в лес. Отошли от опушки сотню-другую метров, и только попалась на пути небольшая полянка — повалились обессиленно райкомовцы. Не один, не два, а все выдохлись совершенно, не в состоянии больше сделать ни шагу. Их даже вагой не поднять.
Не входил привал в план Темника, но что делать? Выслал к опушке дополнительный заслон и приказал развязывать вещмешки с продуктами.
— Шоколаду им. Плитку на двоих. Сала по кусочку. Больше ничего. Нельзя им много.
Червячка даже не заморили. До одури есть хочется освобожденным. Кто-то даже стал настаивать на добавке, но хриплый голос Первого пресек настырность:
— Командир отряда — врач. И никаких протестов чтобы я не слышал.
Сами же партизаны, на зависть подпольщикам, подкрепились основательно. Благо, было чем. Прикорнуть бы после сытного завтрака минут шестьсот, как пошутил кто-то, звавший наверняка расхожую красноармейскую прибаутку, но Темник на отдых отпустил всего ничего. Оставив на опушке поляны заслон, приказал:
— В колонну по два. Вперед!
Двинулись. Не так прытко, как по ровности полевой, но все одно — поспешно. Главное, думалось каждому, проскочить оврагами до своего леса, пока фашисты не узнали о налете их партизанском.
Один Темник знал, теперь уже без всяких сомнений, что никакой погони не будет, но он-то больше всех беспокоился и о разведке, и о надежной охране тыла, внося тем самым еще большую тревогу в сердца партизанские. И даже когда миновали овраги, Темник остановил отряд на совсем короткий привал, чтобы только подкормить еще немного райкомовцев, а то они вновь на пределе сил шагали.
На этом привале услышал Темник сказанное со вздохом:
— Подпалить бы выселки — фрицам невдогад стало бы о нашем налете.
— Дело толкуешь, — поддержало сразу несколько человек. — Только ведь скошена полоска — травку теперича не приживить.
— Отчего — не приживить? Возвернуться двоим-троим и — пустить петуха.
— Эка, возвернуться! Фашист, он тебе возвернется. Не возрадуешься.
— Нешто они спохватились? Спят, поди, еще. Шуму-то нет.
«Умно рассуждают, — оценивал разговор Темник. — Тактически грамотно. Вот тебе и мужики!»
У него у самого возникала мысль поджечь хутор, только отогнал он ее прочь, ибо не было такого приказа от Пелипей. Он хотел было вмешаться в спор, чтобы объяснить никчемность поджога, ибо не так уже трудно определить и по обгоревшим трупам, отчего они погибли, но его опередил Первый:
— Лучше всего бить фашистов, но им не попадаться живыми. Разве я так хрипел?..
— Эт уж — точно. Любо-дорого было слушать. Особенно когда с трибуны.
— Но нас еще не пытали. Забавы ради мне шею чуть не свернули. Высок, видишь ли, оказался. Запомните: оправданный риск — геройство, неоправданный — глупость. Сжигай или нет хутор, следов мы там достаточно оставили.
Молчал привал. И то сказать — Первый совет дает. Кто ж перечить станет? Непривычно. Да и чего ради быть несогласным, если по уму все?
А Темник лихорадочно ищет ход, чтобы не выпустить своей командирской власти, своего командирского авторитета. Первый — гость все же. Высокий, начальствующий, но — гость. Так нужно поставить дело. Нашелся. Быстро. Будто все так и должно было быть. Спросил строго:
— Всем ясно?! — И почти без паузы скомандовал: — Тогда, товарищи, вперед!
Часа через два, когда они уже были недалеко от болота, их насторожил гул приближающегося самолета. Все остановились, оглядывая с недоумением небо, а Кокаскеров, находившийся в конце колонны, крикнул Темнику:
— Командир, маскироваться прикажи!
— Ложись! В кусты прячься! — откликнулся Темник, ругнув себя за медлительность. Он должен быть во всем первым, тогда только его авторитет станет незыблемым. — В кусты. Быстро!
Сам он тоже нырнул в тонкоствольный подлесный орешник с еще зеленой и густой листвой, но не упал, не притаился — лишь нагнул над собой несколько веток. Внимательно вглядывался в небо.
«Рама». Совсем низко летит. И кажется, очень уж медленно. Все разглядеть могут летчики. Жди, значит, карателей.
— Спохватились, супостаты! Теперь — держись, — услышал Темник голос из кустов.
И поддержку:
— Как пить дать. Поспешать нужда есть к базе. Окопы там. Отобьемся, если что.
Доволен Темник, что об окопах, которые рыли без особой охоты, вот так вспомнили, хотя сам он знает, что никогда они не потребуются. Устраивает Темника вполне и то, что люди спешат поскорее в базу. Значит, обжились. И только начал удаляться гул разведчика — скомандовал громко:
— Вперед!
Еще несколько раз притихали в гуще подлеска, прячась от вражеского самолета-разведчика; к обеду, однако же, как и было условлено, успели. Радости и у прибывших, и у встречавших — с избытком. Пшенная каша, прилично сдобренная топленым свиным салом, давно готова — садись только за стол. Прибывшие тоже от себя пожелали угостить товарищей, принялись было развязывать вещмешки с трофейными продуктами, но Акимыч пресек безмерность:
— Трофею всю сдать на склад. И оружие, понятное дело, и продукты.
На тех, кто попытался недовольничать, цыкнул, и все примолкли.
Первый оценил хрипло:
— Дисциплина хорошая у вас. Это — хорошо.
После обеда в командирской землянке подводили итоги свершенного и решали, как жить и работать дальше. Ликовал Темник, слушая похвалы и в свой адрес, и особенно в адрес Пелипей.
Первый хрипел:
— Беречь ее нужно. Как зеницу ока. Но наладить с ней связь нужно и райкому. Чтобы смогла предупреждать и нас об опасности.
Темник соглашался, но с оговоркой: не создаст ли двойная связь угрозу провала? Первый ответил:
— Будем думать, как лучше. Сообща думать.
— Хорошо, — согласился Темник, но думать он вовсе не собирался. Он сообщит ей о предложении первого секретаря подпольного райкома и станет ждать ее решения. Вернее, не ее, а немца-щеголя.
Нужно было время Темнику и для получения инструкций, как поступить с подпольным райкомом: отпустить его либо настоять, чтобы остался в отряде. Но времени на это не было отпущено, и думал потому Темник сам. И всю обратную дорогу, прикидывая все плюсы и минусы и того и другого варианта, и сейчас, когда подошел момент обговаривать эту проблему уже конкретно. Решился. На свой страх и риск.
— Райкому подпольному предлагаю иметь главный штаб здесь. Во-первых, надежно. Полностью исключен провал, подобный случившемуся. Во-вторых, можно вполне использовать для руководства подпольщиками наши, партизанские, каналы связи…
— Мы вступили в смертельную борьбу с захватчиками, и не о безопасности личной должны быть наши мысли, — возразил Первый. — О борьбе действенной…
— Не скажите! — прервал Темник. — Чтобы бороться, нужно оставаться живым. Верно — мертвые сраму не имут, но и польза от них нулевая. Согласитесь — второй раз Пелипей может не успеть.
— Наше место — в гуще масс. А если мы погибнем, смерть наша станет еще одним призывом к борьбе, и на наше место встанут новые бойцы партии. Может быть, лучше нас.
— Не совсем согласен, — вновь возразил Темник. Он гнул свою линию упрямо. — Кто бы ни пришел на ваше место, ему будет не просто трудней, а во сто крат трудней. Когда он обретет такой же авторитет, как у вас? И давайте не сбрасывать со счетов и такой факт: когда район ему поверит, как вам? Люди привыкли идти за вами еще в довоенное время. Это очень важно, от этого не стоит отмахиваться.
Лесть подействовала, как всегда, безотказно. Первый, крупный, угловатый мужчина с мощными руками молотобойца, заметно сутулившийся, словно стеснявшийся своего роста, после темниковской тирады даже расправил плечи.
— Дело говоришь, командир. Дело. Подумаю я. Проведу райком. Оформим решение протокольно.
Темник торжествовал победу. Нет, больше ему не было нужды настаивать на своем — все теперь пойдет своим чередом. Первый останется здесь, значит, будет связь с подпольным обкомом, а возможно, с Большой землей. Но самое главное — за спиной Первого можно жить спокойно. Нужно только поставить дело так, чтобы без него, Темника, ни одна команда партизанам его отряда не давалась. Тогда он будет знать много. Очень много.
Одно беспокоит: на заседании райкома может возникнуть прямо противоположное мнение. И даже победить. А он, Темник, не в силах будет что-либо предпринять. На заседание его вряд ли позовут. Первого вполне могут переубедить райкомовцы.
Темник обдумывал все возможные ходы, чтобы добиться своего, но беспроигрышного варианта у него не складывалось. Как ни манипулируй словами, они не станут фактическим аргументом, против которого, при всем желании, не пойдешь. Одного словами можно убедить, а когда много голов — каждая думает.
Трудно, с урывками, то и дело просыпаясь, спал Темник, а утром оказалось, что все его ночные тревоги и думы были совершенно никчемными: утром прибыл от Пелипей связной. Либо она с немцем-щеголем поняла заботы Темника, либо тот, принимая решение самостоятельно, действовал в полном соответствии с планом абверовцев. Как бы там ни было, но связной сообщил именно то, что нужно, что просто было необходимо Темнику.
Выслушав его, Темник позвал Кокаскерова, Воловикова, а из райкомовских — только Первого. Тот предложил было позвать хотя бы всех секретарей, но Темник обрубил:
— Нет! В отряде только трое знают, что связной от Пелипей. Вы — четвертый. Все, больше никому не нужно знать! — Помолчал немного и спросил: — Вы можете сейчас сказать точно, что в провале райкома не виновен кто-то из ваших? Не возмущайтесь. Подумайте. Я, во всяком случае, не взял бы на себя смелость исключать такую точку зрения. А Пелипей нужна отряду. Она его глаза и уши. И для райкома нужна Пелипей. Больше нас, четверых, никому не следует ничего знать.
Не совсем доволен Первый. Привык, что его желание всегда выполняется, его советы не оспариваются, но что он, гость, спасенный от мучительной смерти вот этими людьми, мог поделать? Согласился:
— Хорошо. Пусть будет так.
Доклад связного был краток. Каратели сожгли все дома, в которых укрывались подпольщики, хозяев же, какие благоразумно, после ареста райкомовцев, не скрылись, расстреляли. Найден один из раненых партизан. Полиция безопасности пытала его, но, как выяснила Пелипей, он молчал. Партизан повешен.
— На смену уничтоженным эсэсовцам в скором времени прибудет новая группа, но не из «Мертвой головы», а из Особого отряда. Задача этих особых отрядов — охрана концлагерей. Поэтому Пелипей предполагает, что, возможно, будет у нас создан концлагерь. Имеет она и данные об этом. Только не проверены они еще. Более точно она сообщит в самое ближайшее время.
— Ну что же… Помянем погибших патриотов, — встал во весь свой богатырский рост Первый, чуть не упершись затылком в потолок землянки. — И будем жестоко мстить. А лагерь — это особая нам работа. Направление наше не стратегическое, коммуникаций важных по нашей земле не проходит — будем, значит, пленных спасать. А освобожденные пленные — это новые партизанские отряды, новые мстители. С Большой землей свяжемся, раненых и немощных туда станем отправлять. — И к Темнику: — Где определите место райкому?
— Временно, пока готовят землянку, в домике. Больных у нас нет, медпункт все равно пустует.
— Хорошо. Как временный вариант — приемлемо.
Теперь настало время конспиративных заданий Первого, на которые Темника он не пускал. Только одного райкомовца, которому предстояло держать связь с Пелипей, инструктировали они сообща — все остальные подпольщики уходили за болота в полной тайне. Ни командир отряда, ни другие руководители, никто из рядовых партизан не ведали их новых адресов, и Темник даже не пытался любопытствовать, чтобы не вызвать подозрений.
Лишь случайно подслушал он разговор двух райкомовцев. Один только что вышел от Первого, другой ждал приглашения.
— Куда?
— К отцу Дионисию. Сторожем церковным.
— Что ж, надежная крыша.
Темник, когда отправлял обратно к Пелипей ее связного, не черкнул обычного: «Скучаю. Жду встречи», а написал о своей скуке длинное письмо, словно и впрямь он смертельно истосковался по встрече с вынужденной женой.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Самовар уже давно остыл, Москва давно укуталась в ночную темень, притихла, насторожилась, а дед и внук, не замечая времени, продолжали нескончаемый разговор о войне, о фашистах, о воздушных налетах на Москву, прежде более опасных, теперь сильно ослабевших, но все еще беспокойных и разрушительных. Отвлеклись они лишь на малое время, когда пришла пора светомаскировки и Семеон Иннокентьевич, кряхтя: «Старость, внучек, не радость», поднялся со стула и пошлепал к окну, чтобы опустить черные занавески и задернуть шторы, а уж после того зажечь лампу. С жалостью смотрел Владлен на деда, которого сравнил он при встрече с пухлой периной. Теперь же ему виделось, что перинная взбитость уже заметно опадает и мягкая, просторная пижама надета дедом для того, чтобы скрыть старческую дряблость рук и живота.
«Да, старость не радость, — повторил мысленно Владлен слова деда и тут же спохватился: — Да что же это я?»
Он поспешил на помощь деду. Пышущий здоровьем и молодой силой, ловкий и быстрый.
— Я затемню, деда, все окна. Ты садись, отдыхай.
— И то верно.
Потом они снова заговорили о том, о чем в те месяцы судили да рядили всенародно, ибо открылась тогда людям полной мерой иезуитская жестокость захватчиков. Потеснили когда фашистов от Москвы и воочию увидели все, что такое фашист. Почерневшие печные трубы над кучами золы вместо статных недавно домов, повешенные колхозники на столбах, светивших всего несколько месяцев назад теплым светом электрических лампочек, забитые до отказа расстрелянными орешниковые овраги — много тогда открылось людям такого, во что они никак не хотели верить. Да, читали они в газетах, что такое фашизм, слушали радио, но западало в душу многим не предостережение, а повторяемая иногда фраза, что рабочий класс Германии скажет свое слово, как и в восемнадцатом: «Руки прочь от Советской России!»
Не хотелось верить в то, что пролетарий-немец станет стрелять в пролетария-русского, а тем более — вешать его, насильничать над ним, пытать изуверски. Никто тогда еще не знал секретных директив Гитлера, его столь же секретных речей перед верхушкой партийных функционеров, где рисовал он будущее мира, обескровленного, поверженного к ногам великой арийской расы, превращенного в концлагерь. Мало кто тогда читал у нас «Майн кампф», а еще меньше — популярные немецкие брошюрки, рассчитанные на обывательское понимание философии Ницше, Шпенглера, Шопенгауэра, из которой и заимствовал античеловеческие идеи Гитлер, создавая свою «философию», суть которой была в открытом человеконенавистничестве. Не знали еще тогда советские люди о «Генеральном плане Ост», который предусматривал часть русских уничтожить, остальных расселить в Южной Америке и Африке, украинцев большую часть переселить в Сибирь, туда же согнать белорусов, не оставив в Белоруссии ни одного из них, а евреев уничтожить всех до одного.
Не ведал еще тогда мир о гитлеровском плане «колонизации Востока», который предписывал учить детей порабощенной России лишь дорожным знакам, чтобы те не бросались под машины. Еще хранились за семью печатями в несгораемых сейфах гитлеровские приказ № 32, изданный за десять дней до нападения на нашу страну, а затем и приказ № 32 б, которые несли одну главную идею: уничтожать, уничтожать и уничтожать… Ох как много тогда еще не было известно советскому народу, вот и складывалось этакое неверие в иезуитскую жестокость фашизма. Думалось: люди же!
Не люди, вышло. Нелюди! И когда наконец осознал это народ русский, налился гневом, и уж не только из любви к святой Отчизне брали в руки мужчины и женщины оружие, но и мести ради. Поднялась страна могучая. От границ до границ…
— Воистину меч занесли над миром! — говорил, гневаясь на захватчиков, Богусловский-старший. — Окровавленный! Лютый! А рука, его держащая, без чести и совести… Рубить меченосную руку нужно. Без пощады рубить!
— Отрубим, деда! Отомстим за все!
— Так-то оно так, только пятимся шибко. Вот, слава богу, потеснили супостата, только не побег он, как француз прежде. Выходит, есть еще у него сила. Иль мы еще не поднялись купно. Иль неумехи. Скорей всего, неумехи. Я уже не единожды ходил в управление. Берите, говорю, меня обратно. Сгожусь на доброе дело. Отмахнулись. Вежливо, но отмахнулись. Потом, верно, приезжали за советом. Всякий раз я их убеждал: негоже пограничниками дыры затыкать в обороне. Полосы прифронтовой охрану наладить — это куда важней. Коварен германец. Ох как коварен! Он хоть и сломя голову прет, но разведку и диверсантов успевает вперед пускать. Пограничникам, говорю, судьбой самой определено лазутчину всю эту — под корень. Мне отвечают, что, дескать, истребительные группы создаются из пограничников, охрана тыла само, мол, собой, а истребительные группы, мол, ходят по вражеским тылам, штабы их бьют, сведения ценные собирают. Докладывают, что досталось штабам дивизии «Норд», «Северной дивизии СС», а «Голубую дивизию» полностью, дескать, деморализовали, поуничтожив изрядно солдатни ихней. Семь тысяч, сказывали. Вот, убеждают, и следует сюда основные силы бросать. А свои тылы, спрашиваю? Приказ, объясняют, НКВД СССР уже отдан. Начальники охраны войскового тыла фронтов назначены. Верно все. Только не осознали мы еще, сколь велика эта миссия и сколько сил на нее нужно тратить. И если уж в тыл фашисту идти пограничнику, так не главное, чтобы штабы громить. Войсковые разведчики для того есть. Нам следует искать шпионско-диверсионные базы и — к ногтю их.
Все, о чем говорил дед, Владлену было неинтересно. Одним диверсантом больше, одним меньше, думалось ему, что может от этого существенно измениться? Господство в воздухе, господство танков и артиллерии на земле, господство автоматического оружия и транспорта — вот что переломит хребет гаду многоголовому.
«Ворчит, нервничает, а чего ради? Мелочно, не масштабно…»
И выжидал момент, чтобы сказать об этом, но не обидев сильно, не вызвав нового потока доказательств того, что самое главное условие для победы — надежная охрана тыла.
— Забыты опыт и империалистической, — продолжал тем временем убеждать внука Богусловский-старший, — и гражданской. Будто не научил нас немец ничему…
— Видимо, ты, деда, прав. Только я другое хочу сказать. Верно, ракета с земли — целеуказатель. Один лазутчик свел огромные усилия многих насмарку. Демаскировал объект бомбометания. Но, деда, если бы навстречу фашистам поднялись наши истребители да на земле бы зенитки заговорили хором — какой она, ракета, имела бы вес? Не оснасти Москву противовоздушными средствами, что бы от нее осталось? Не сидели бы мы, деда, сегодня за самоваром…
— Изрядно палили — ничего не скажешь. Все небо в веснушках дымных. Прожекторы полосуют. А бомбардировщики летят себе и летят. И ухом не ведут. Пока истребители наши вертлявые не появятся. Нагляделся я на все это. Ох как нагляделся! В бомбоубежище ни разу не спускался и дома не отсиживался. Как тревогу объявят, я — на улицу. Поначалу ругались на меня, потом привыкли. Досталось, внучек, Москве. И фугаски сотнями летели, и зажигательные. Тех особенно много. И вот тут — паника. Да-да. Я человек военный и знаю, что такое паника. Что бы от Москвы осталось, не ведаю, не назначь Сталин комендантом пограничника. Заметь — пограничника. Генерала Синилова. Чтобы порядок навел. Быстро он паникеров вражеских — а они смуту начали, чтобы, значит, валом снежным она катилась, — да ракетчиков повыловил, лазутчине всякой мигом голову своротил. Оттого, внук, и выдюжила столица наша.
Дед стоял на своем, и Владлен больше не возражал ему, хотя недоумевал: как может военный человек не понимать главного? И неведомо было тогда молодому лейтенанту, что это их разногласие, мирное, без обиды, микроскопическое, не только злободневно, но и масштабно. В самых высоких кругах зрело понимание того, что те, кто умело водил полки в сабельные атаки в годы гражданской войны, отстал и тактически, и стратегически, что время требует их немедленной замены и что их авторитет в народе стал даже тормозом, ибо их просчеты не оспаривались, принимались все их решения на веру, без критического осмысления. А у тех, командиров гражданской, была своя логика. Железная. Танки? Нет, они, конечно, не помешают, только что танк по сравнению с бронепоездом? Силища какая! Автоматы? Не меткие вовсе, а патронов не напасешься. То ли дело — трехлинейка. У хорошего стрелка бьет без промаха. Самолеты? Штука нужная. Да их вон сколько уже понаделали! На выставках международных даже показываем. Глядите, какие мы технически мыслящие люди, побаивайтесь нас, ибо наши истребители самые быстрые и самые маневренные, наши бомбардировщики и транспортные самолеты вместительны и грузоподъемны. Мы даже десанты можем выбрасывать, чтобы малой кровью да на вражьей земле врага бить. Приезжайте на учение, смотрите на возможности наши, мотайте себе на ус. Только все это не серьезно, когда есть кавалерия. Везде она пройдет, все сокрушит. Чем остановишь сабельную лаву? То-то!
Они заблуждались честно, без злого умысла. Они, сами порядочные, даже не предполагали, что тактические новинки, показанные военным атташе на маневрах, тут же берутся на вооружение агрессорами, а на выставках, особенно когда показывался И-17, меньше было зевак, больше — специалистов. Это уж потом выяснилось, что «мессеры» фашистские куда как схожи с нашими истребителями. Но не себя обвинили авторитеты гражданской войны, а конструктора. И даже новый его истребитель И-185, лучший в мире, не пустили в серию, ничего в том дурного не видя. Ну одним больше самолетом, одним меньше — что изменится? У нас их и так больше двадцати типов. А для острастки, остальным в назидание — наказать конструктора не грех. Чтобы другие не разбазаривали своих изобретений. Хотя и это пустое все. Кавалерию пестовать нужно. Пехоту. Они — царицы полей. Вот их тактическое применение нужно держать в тайне. В полной тайне…
Даже когда поперли танковые клинья захватчиков, когда стали рушиться города и укрепрайоны от бомбовых ударов, даже тогда не все поняли свои ошибки, цеплялись за старое, давя своим авторитетом все новое, так нужное для победы над сильным и опытным врагом. Но подспудный конфликт молодого со старым подошел к последней грани последней черты, и вот-вот должен был произойти крутой перелом. Причем открытый. Резкий, решительный. В то, однако же, время, когда спорили Богусловский-внук с дедом, не взорвалась еще звонкой бомбой пьеса Корнейчука «Фронт», хлестнувшая наотмашь по заскорузлости тактического и стратегического мышления. В тот вечер старый и юный Богусловские не считали, что разногласия их столь серьезны. Случись этот разговор немного позже, внук наступал бы решительней, а сейчас он, не желая обижать дедушку-генерала и даже сомневаясь (дед как-никак вон сколько лет в генералах) в своих выводах, вообще перестал перечить.
Дед же не унимался. Его будто кто-то подхлестывал:
— Вот так же и в управлении рассуждают, как ты. Молодо-зелено. Вроде заводных игрушек: «Техника, техника…» Оснастить ею, дескать, погранполки — вот главное. И даже истребительным группам, говорят, хорошо бы придать танки и артиллерию. Самоходную. Эка куда гнут! О функциях пограничников вовсе забывают. Не о танках и пушках думать нужно, а о тактически грамотном использовании погранвойск. Кесарю — кесарево. Только, слава богу, не одинок я, сообща и убедим…
Вон как повернул дед-генерал! Вроде бы прав. А кавалеристы, должно быть, тоже столь же логично гнут свою линию. У пехотинцев — своя логика. Нет, не у рядовых бойцов и командиров, а у тех, кому дано право решать, но кто сам в боях давным-давно не бывал и продолжает представлять их такими, какие пришлось пережить в годы своей молодости. Так думал юный командир-зенитчик, сопоставляя дедовские утверждения с теми рассказами, которые слышал от преподавателя-фронтовика в училище. Прибыл тот в училище, когда Владлену и его товарищам оставалось учиться меньше месяца. Болезненно-худой, с левой рукой на перевязи (говорили, что кисть руки отсечена, хотя сам раненый об этом помалкивал) и прихрамывающий. Досрочно настоял на выписке из госпиталя и наотрез отказался комиссоваться. Писал, говорили, письмо самому Сталину. В Кремль. На фронт не пустили, направили преподавать. Почти каждый вечер захаживал он к курсантам-выпускникам. Опустится устало на кровать (нагрузки великие не только на курсантов, но и на учителей), поудобней уложит свою в толстых бинтах руку и посидит какое-то время молча, пока не скучатся вокруг него не только выпускники, но и ребята из младших групп, стриженые, юные, дети по сути дела. Им в лапту бы еще играть, а они готовят себя к смертельным боям. Почти все добровольно пришли.
Самокрутку подадут рассказчику, тот затянется глубоко и начинает почти всегда с одной и той же фразы:
«— Погибнуть в бою — дело нехитрое. Даже если пятки смажешь, догонит тебя пуля шальная, а то и снаряд. Хитрее — выстоять. Живым остаться. Победить…»
Ему прощали это неизменное назидательное начало, ибо знали: дальше пойдет интересное. О смекалистых и храбрых, о неумехах и трусах. Причем без прикрас. Как было, так и было. Редко он давал оценки фактам. Расскажет о двух-трех боях, и — хватит. Осмысливать услышанное оставляет самим курсантам. До горячих споров у тех доходило, до обид, и, если совсем разнотык в мыслях случался, призывали в арбитры самого рассказчика. Те вечера были особенно интересны курсантам, ловили они каждое слово фронтовика, и это вполне объяснимо: они готовились воевать, они постоянно об этом думали и все, что касалось боевого опыта, всасывали в себя, словно губки, воспринимая узнанное и сердцем и разумом.
С тем, что запомнилось Владлену на одном из таких вечеров, и сравнивал он сейчас дедовские оценки и выводы. Попросили курсанты в тот вечер своего кумира рассказать о ранении. Не сразу тот согласился. Словно перебарывал себя. Опасался будто чего-то. Закурил вторую самокрутку, что случалось с ним весьма редко. Затягивается раз за разом и молчит. Тихо в казарме, сидят ожидающие курсанты и уж поругивают в душе прыткого любопыту за неуместный, как видно, вопрос.
И только когда опали губы кургузым бычком, рубанул воздух:
«— Ладно! Была не была!.. Отходили мы. Связи нет. Народу подсобралось, а орудие одно — восьмидесятипятка. Двигаемся на восток. Знаем: фашисты вот-вот нагонят. Тут я и распорядился: на высоту орудие. Она, как сторож, у дороги стоит. Окопаемся, приказываю, насколько время позволит, и — прямой наводкой по танкам или машинам. В общем, что появится первым на дороге. А как боезапас, думаю, закончим — в лес. Он сразу за высоткой. Густой. Могучий. Так вот, когда мы уже отрыли боевую позицию и начали щели для боезапаса готовить, ячейки для стрельбы стоя, появилась танкетка. Наша. Хотел я и ее на высоту, только командиры там оказались. Пехотные. Один из них, самый старший, похвалил нас и пообещал прислать подмогу. И верно: вскорости глядим — идут. Торопятся. Пограничники. Целая застава. Красноармейцы на первый взгляд как красноармейцы, только фуражки зеленые. Но когда до боя дошло, дивились мы их храбрости и умелости. Что творилось! И бомбы с неба сыпались, и снаряды с минами ливнем лились. Орудием своим мы всего-то и успели головной танк подбить да машин пяток с пехотой ихней. Не пустяк, конечно, только я о другом — остались мы лишь с винтовками и пулеметами, а высоту держали до самой темноты. Вот, думал тогда, прикрой заставу с воздуха, поддержи артогнем, ее бы с высоты той фашистам ни в жизнь не сдвинуть. А так… Полегло больше половины, остальные все, почитай, ранены. Десяток целых осталось — не больше. К ночи, когда гитлеровцы за ужин взялись, мы покинули высоту. Да что там покинули — поковыляли, поддерживая друг друга. Те, кто не ранен, впереди, в разведке, и замыкающими, чтобы, значит, заслоном встать в случае чего. Обошлось. До утра без помех двигались. А на рассвете вышли к речке. Топкая, хотя и не широкая. Не перейти нам, калекам. Пошли мост искать. Нашли. Только и он разрушен. Подрубили сваи наши, когда отходили. Что делать? Особенно тем, у кого ноги побиты? Кто-то даже предложил: «Назад по дороге давайте. Найдем удобный для обороны рубеж и — до последнего вздоха! Последний бой! Запомнят его фашисты!» Только пограничники нашли выход. Спустились в речку цепочкой и — доски на плечи. Хоть и шаткие, но мостки. И вот, пока мы переправлялись по тем мосткам, фашисты уже тут как тут. И раненные легко, и здоровые пограничники заслоном встали, нас защищая. Тех, значит, кто не то чтобы винтовку держать мог, а себя едва передвигал. Долго слышали мы тот бой. Очень долго. Фашистская артиллерия ухает, автоматы ихние строчат, а наши — одиночными. Поначалу, правда, пулемет тараторил, а потом умолк. Патроны, видать, кончились… Да, дай тем бойцам автоматы, артиллерией усиль… Трехлинейка против танков! Кем тех орлов заменишь?! Другие есть и будут, а тех — нет! Нет и не будет!
Тихо-тихо в казарме. Курсанты оторопели от такой откровенности. Им никто ни разу не говорил об отсталости в вооружении Красной Армии. Напротив, о наших самолетах, об артиллерии, о боевых кораблях и даже о танках преподаватели рассказывали с гордостью. Очень даже часто звучали слова: лучшая в мире техника, самая маневренная, самая быстрая… Да и изучали они, как им внушали, самые современные и совершенные средства обнаружения самолетов. И верно — одни радиолокаторы чего стоят. Прекрасная новинка. Система управления огнем тоже на уровне. А зенитные орудия? И скорострельные, по низким самолетам, и мощные, для больших высот. Все есть. Все сработано добротно. И самолетов разноцелевых сколько! В два раза, почитай, больше типов, чем у фашистов. Вот они — силуэты. По всем стенам. Чтобы в память врезались. Отчего же без всего этого пехота бои ведет? Не все понятно курсантам. И боязно им. За себя, за любимого учителя своего. Не паникует ли? А они слушают паникера. Спросить с него могут по жестким меркам. И с них тоже. Война!
Большинство из тех, кто сидел в тот вечер в казарме, так и не поймут всего, что происходило в тот первый период войны, — не доживут до мая сорок пятого. Но даже и тем, кто вернется домой победителем, пропахав по-пластунски пол-Европы, не сразу доступной станет истина. И все же поворот в их понимании происходившего на фронте произошел именно в тот вечер, хотя споров по поводу услышанного не было. Опасались — вдруг что лишнее скажешь. А думать — думали. И спорили каждый сам с собой, где он полновластный хозяин своим мыслям, своим выводам и оценкам.
И сейчас, слушая деда, Владлен возвращался к тем думам, к тем выводам из внутреннего спора, и выходило, что хоть и генерал его дедушка, а явно не в духе времени хлопочет, отстаивая свою точку зрения.
Решил еще раз возразить:
— Как началась война, я, деда, на фронт поехал. Вернули. Обида грызет, а отец и говорит: какую ты, неуч, пользу там принесешь? И в училище тоже так нас настраивали. Моральный фактор очень важен, слов нет, но война нынешняя не война винтовок и пулеметов. Вот и следует вносить коррективы в военную стратегию, в тактику… Нам один преподаватель так говорил: основы войскового боя пересматривать нужно, уходить от традиционного понимания роли родов войск.
— Молодые вы да ранние, как я погляжу. Моду хотите диктовать. Переучиваетесь. Проку только от того, как выходит, не слишком много. Жидок навар. Встали бы, как отцы да деды наши, стеной — повернул бы несолоно хлебавши фашист. Пятки бы только смазал. Веками армия опыт накапливала, и плевать на него никому права не дано. Тем более — желторотым!
Не прятал сердитости и обиды Богусловский-старший, и снова внук удивлялся — не таким представлял он себе дедушку, потомственного военного, о ком в доме у них говорилось только с почтением. Не сходились концы с концами. Обывательски дед подходит к важнейшему вопросу времени, не как кадровый военный.
«Да, старость не радость!»
Больше Владлен не стал перечить, и вскоре беседа их приняла вполне спокойный и мирный характер. Внук рассказывал о новых противовоздушных средствах, дед слушал с интересом, но нет-нет да и бросал реплики-сомнения:
— Так уж метки новинки? Будут небось палить по-прежнему в божий свет, как в копеечку, а бомбы все одно достанут Москву…
— Теперь я, деда, ее прикрою, — отшучивался Владлен. — Ни одного стервятника не пропущу сюда.
— Ну-ну, дай-то бог.
Не случайно, однако же, бытует в народе присказка: на бога надейся, а сам не плошай. Но Владлен оплошал. Утром, простившись с дедом, отправился он согласно предписанию в штаб Московской зоны ПВО, где тут же получил назначение и совет добираться в часть на попутных машинах.
— На КПП у Можайской дороги посадят. Машин много там. Вопросы?
— Все ясно, — ответствовал лейтенант Богусловский и, браво козырнув, вышел из кабинета, хотя вопросы у Владлена, естественно, были: где тот самый КПП, который проявит о нем заботу, где начало Можайской дороги? Но стеснительно спросить, если только что на заботливый вопрос: «Где ночь коротал?» — ответил: «У дедушки».
Вышел на крыльцо, оглядел небо, заполненное серым бесцветьем, чтобы определить запад, куда ему предстоял путь, но услышал громкое:
— Куда направили, лейтенант?
Наматывая и разматывая цепочку с ключом зажигания, стоял у обшарпанной полуторки замасленный шофер в артиллерийской фуражке, демонстрируя свое явное превосходство над молодым лейтенантиком и вольготной позой, и формой обращения к старшему по званию, и тем, что, ожидая ответа, не перестал забавляться цепочкой, и особенно взглядом, каким обычно одаривают неумех желторотых. Шофер держался хозяином, который волен творить добро, но волен и не творить.
«Эка наглец!»
Иная субординация внушена была лейтенанту в училище, она становилась ему привычной, просто даже необходимой, и вдруг — такая покровительственная фамильярность! Первым желанием Владлена было желание отчитать бойца-шофера, напомнить ему устав, но он сдержался, прикинув:
«Вдруг на фронте обыденней все? Без чинов?»
— Так куда, лейтенант?
Владлен назвал условное наименование хозяйства, еще не зная, уточнять или нет номер полка, но боец уже радушно, даже с явной радостью, пригласил Богусловского:
— Наш, значит. Прошу в кабину. Считай, повезло тебе, лейтенант. До Нового Ерусалима легко доберемся, дальше по шоссе тоже ничего, а вот до нас… Дорога — черт ногу сломит. С другим бы пришлось тебе потолкать и попотеть с лопатой, а со мной — как по маслу. Ефрейтор я. Иванов. Звать тоже Иваном. Как удобней, лейтенант, так и зови.
Неловко чувствовал себя Владлен, ибо обязан был, по долгу старшего, одернуть ефрейтора, приказать ему обращаться по-уставному, но не делал этого, подчиняясь, вопреки своей воле, нахальной развязности. Только в разговор с шофером не втягивался, хотя тот и пытался выспросить у лейтенанта его довоенную биографию, чему в училище учили и легко ли туда попасть.
Успокоился в конце концов ефрейтор, заключив пророчески:
— Молчунам, лейтенант, несладко в зенитчиках. Самолеты, они не часто над головами. Без разговоров душевных со скуки сдохнешь.
— Душевный разговор возможен между друзьями. Так мне представляется.
— Может, ты и прав. Только как это можно, чтобы зенитчик зенитчику не друг?..
Первый контрольно-пропускной пункт. Лейтенант Богусловский начал было доставать удостоверение и предписание, но шофер остановил его и, открыв дверцу, крикнул подходившему контролеру:
— Здравствуй, старшина! Груз у меня — штатный. Пассажир один. Зенитчик. К нам.
Пожилой старшина, в ватнике, из ополченцев должно быть, козырнул в ответ и приказал открыть шлагбаум.
Пропустили их и на втором шлагбауме, тоже козырнув уважительно, и на третьем. Владлен спросил, не утерпев:
— Всех, что ли, так — на слово?
— Ишь ты, всех… За всю Русь не ручаюсь, а по трассе слух обо мне идет. Покольцевал я тут. Туда — снаряды и патроны, оттуда — раненых. ЗИСы, бывало, на рамы садились, а я буксовать почти не буксовал. Талант. А его, лейтенант, уважают.
«Неведома скромность, — с неприязнью заключил Богусловский. — Нахальством себе цену набил. Со всеми покровительственно на «ты», вот и уступают».
Но вывод тот продержался у Владлена лишь до поворота с Можайского шоссе. Шофер остановил машину, неспешно обошел ее, приседая и рассматривая, все ли на своих местах под днищем, затем начал подспускать шины. Делал он это тоже без спешки, расчетливо: надавит чуток на ниппель и — пинок сильный по скату, второй, третий, еще надавит на ниппель, еще… И только когда определит он с помощью пинка, что упругость стала такой, какая должна быть, тогда переходит к следующему колесу.
Чудно, кажется Богусловскому, ведет себя шофер Иван Иванов. Сколько он видел, все шофера перед трудной дорогой проверяют скаты, чтобы поднакачать их, а этот осадил их наполовину. Расплющились, едва обода до земли не достают.
— Ну что, лейтенант, вперед! Благословясь, как отец мой, покойный, говаривал.
«Да как же тут ехать?!» — чуть не вырвалось у Владлена. Крутой спуск с шоссе и сразу — узкий, едва втиснуться машине, коридор в метровом снегу, уже заметно подтаявшем, потяжелевшем, а сама колея тоже не подарок: в ямах и колдобинах. До леса, где снега поменьше, около километра. Здесь бы верхом или, куда ни шло, на бричке. Но на полуторке?!
Машина тем временем, поскрипывая облезлой щелястой кабиной и покряхтывая мотором, сползла в коридор, потом подпрыгнула на первой ухабине и, вроде бы осерчав, заурчала грозно и, рыская носом меж высоких сосулистых стенок, поползла вперед, то ровно, то рывками, пробуксовывая с надрывным воем. Лес все ближе и ближе. Вот он — спаситель. Шофер сбросил газ и, остановив машину, вздохнул облегченно:
— Теперь дома, считай.
Владлен отер ладонью вспотевший лоб, и шофер не преминул пустить шпильку:
— Я крутил — у тебя спина взопрела? Ну остудись чуток, да начнем качать. Диски иначе погнем на корнях.
Качали по очереди. Иван Иванов время от времени пинал покрышку, комментируя: «Еще малость», и, только когда сапог упруго отскакивал от ската, шофер, сделав еще несколько качков для верности, изрекал:
— Теперь — в самый раз. Переходим, лейтенант, на следующий.
Владлен незаметно для себя перестал бычиться на вальяжность Иванова в обращении; «прокручивая» только что проделанный путь, он все более и более проникался уважением к этому на вид нахалистому бойцу.
«И колеса, должно, не попусту спускал, — думал лейтенант Богусловский, старательно работая насосом. — Мастер своего дела».
— Сомневаешься небось, для чего на скаты, почитай, посадил, а теперь до предела накачиваем? — будто уловил мысли Владлена Иванов. — Ну-ну, не гляди так. Все спрашивали. Это ты чего-то дичишься. Так вот: не знаю в точности — для чего. Отец научил. Сказывал, снег цепляет лучше, когда мягче колесо. И по грязи тоже лучше. Семейный опыт, можно сказать. — И поднял палец, замерев. Потом кивнул: — Точно, летят. Застрянь мы с тобой на поле, крышка бы нам была. Как пить дать — крышка. Для фашиста машина — ох какая цель!..
Вскоре и Владлен услышал гул летящих самолетов. Знал он его, этот наплывающий гул. В училище приучали к нему. Робел поначалу от его враждебной необычности, но потом попривык, а вот теперь вновь почувствовал себя неуютно. Поежился невольно. И тут же — колкость. А может, заботливость? Своеобразная. Как знать!
— Не дрейфь, лейтенант. В сторонке мы. Шальная может шарахнуть, это верно. Только не будет ничего: везучий я. А если воевать торопишься, то, скажу тебе, зря вовсе. До отвала насытишься. Часом раньше — часом позже… Так что — не дрейфь.
Делает вид Владлен, будто не понял, что последними словами подсластил шофер горечь насмешки. А что делать, если и впрямь съежилась, леденея, душа?
А гул приближается. Грозно давит к земле. Едва ноги держат.
Вздрогнул Владлен от близкого выстрела восьмидесятипятки, еще вздрогнул, еще и, себе на удивление, почувствовал, как расправляются плечи, а взгляд не тревожно выискивает, посыпятся или нет с неба бомбы, а жадно ждет удара снаряда в фашистский самолет.
Увы, белые розы разрывов пятнали небо то выше бомбардировщиков, то ниже, а те летели, даже не пытаясь менять ни курса, ни высоты. И вдруг:
— Ур-ра-а!
Невольно вырвалось у Владлена в тот самый миг, как клюнул носом один из бомбардировщиков и полетел вниз догонять отбитое крыло. Детским восторгом пела душа Владлена.
— Ура-а!
Еще один самолет, задымив, начал заваливаться. Задергались остальные, расползаясь по небу, и тут завыла, выбивая холодный пот, брошенная фашистами пустодонная бочка, а за нею, словно коршуны на добычу, ринулось в пике дружными тройками десятка два машин. Четко, отлаженно, как на параде. Закаруселили, не мешая друг другу и не давая передохнуть земле ни на миг. Уж не взрывалась она бомбами, не клацала крупнокалиберными пулями, а стоном стонала. Непрерывным, надрывным. Вновь заныла душа у Владлена от одной мысли о том, что творится на боевых позициях зенитчиков: открыты они, будто на ладони, всем пулям и всем осколкам. Владлен какое-то время ничего не слышал, кроме непрерывных бомбовых разрывов, даже не сразу осознал, что зенитные орудия даже не снизили темпа стрельбы, а им на помощь пришли пулеметы, вплетая свой многоствольный говор в общий гул боя. Владлен даже удивился, увидев, как загорелся в небе бомбардировщик и почти одновременно не вырулил из пике, прошитый пулеметной очередью, еще один фашист. Владлену показалось, что упадет он прямо на них, но он почему-то не испугался этого, а с равнодушием смотрел, как стремительно приближается к ним тупорылая махина.
Спасли деревья. Подмяв десяток вековых сосен, самолет полыхнул огнем. Ослепительным, жарким. Взрыв взвихрил снег с натруженных сосновых лап, и те облегченно и радостно закивали — и оттого что остались живы, и оттого что тяжелый весенний снег не станет больше отягощать их.
Шофер поднял слетевшую фуражку, отряхнул ее от снега и молвил довольно:
— Сказал же я, лейтенант, что минует нас шальное. Еще сотенка метров и — похоронка. Тебе-то особенно обидно: ни капли не повоевавши, погибнуть…
Слова эти, брошенные с беспечной веселостью, потрясли Владлена куда больше, чем сам бой зенитчиков с вражескими самолетами, чем вот этот близкий шальной взрыв, едва не доставшийся на их долю. Выходит, что нелепая случайность правит на войне. Смерти нет дела, ловкий ты и умелый воин или недотепа и трус, — махает косой без разбора и без устали. А в училище им внушали, что смелого да умелого боятся и пуля и штык… Отец тоже наставлял: без умения не осилишь врага, толку от смерти бесцельной мало, целым и невредимым остаться — вот мастерство. Врага уничтожать — вот обязанность солдатская… Как иронически воспринимались Владленом все те наставления! Каким беспомощным показался он себе после первого крещения! Не боем. Созерцанием боя.
«Кто я есть? Никто! Я — раб случайности. Она — всемогущий фактор на войне! Только она!»
Он так был подавлен этим своим открытием, что воспринимал теперь происходящее вокруг как потустороннее, не живое, пролетающее мимо. Скажи ему в тот момент кто-либо, тот же, допустим, шофер, что не первый он так думает и не последний, что поначалу почти все паникуют от кажущейся безысходности, но потом привыкают к ней, приспосабливаются и даже отводят, предвидя ее, всякую роковую случайность, — скажи все это Владлену, он не то чтобы не поверил, он просто бы не воспринял сейчас ничего реально.
Он наблюдал за продолжавшейся дуэлью зенитчиков со штурмующими их самолетами, он слышал, как все новые и новые зенитные батареи там, ближе к Москве, открывали огонь, а гул вражеских бомбардировщиков, несмотря ни на что, все удалялся на восток, и, значит, все ближе фашисты были к цели, и это удручало его. Он даже представил себе, как спешат сейчас одни москвичи к станциям метро, чтобы укрыться от бомбежки, другие же, вооруженные длинными щипцами, на манер каминных, только массивней, торопятся занять свои боевые посты, чтобы сбрасывать с крыш заводских цехов и жилых домов зажигательные бомбы. Он вполне разделял гнев шофера: «Где же истребки?! Прорвутся ведь стервятники!» — и радость его, когда появились наконец наши самолеты, частью закружившиеся в лихих виражах с вражескими истребителями прикрытия, частью навалившиеся на упрямые бомбардировщики, и те, не выдержав еще большего упрямства наших асов, пустились наутек. Но все это воспринималось Владленом через главную свою мысль, через главное свое открытие: кому-то суждено уйти в небытие без всякого на то желания, но исходя из логики боя, а кому-то — совершенно случайно, от шальной пули, от шального снаряда…
Он еще не знал, что через каких-то полчаса получит он реальное подтверждение своему выводу. Поковыляв по корявой дороге остаток пути, выехали они на лесную опушку, но не сияющую зеркально в лучах закатного солнца настовой своей чистотой, а всю истерзанную бомбами, исполосованную глубокими щелями и траншеями, начинались которые от орудийных позиций и тянулись, местами почти примыкая друг к дружке, к лесу, где меж деревьев бугрились землянки с тройными бревенчатыми потолками. Поодаль от одной из таких землянок стояли понурившиеся зенитчики возле убитых, приготовленных к похоронам товарищей.
— Вот так после каждого налета, — грустно проговорил Иванов, снял фуражку и добавил: — Пойдем, лейтенант, проводим в последний путь. Тебе они неизвестны, а мне… Сколько я им снарядов подвез! И даже подносил. Крепкие мужики.
Владлен не стал вслед за Ивановым протискиваться к убитым, он остановился у плотной стены из согбенных спин в шинелях, в ватниках, в полушубках и замер, не решаясь потревожить их скорбное безмолвие. Подойти туда, где стоял комбат, без доклада тому о своем прибытии лейтенант считал невозможным, а доклад представлялся ему полнейшей нелепицей в такое время, вот он и стоял вроде бы со всеми вместе, но в то же время будто один, ибо не было у него той скорби, которая господствовала у отрытой уже братской могилы.
Прозвучал залп, второй, третий, и тут стоявший впереди Владлена боец сказал, ни к кому не обращаясь, а просто выплескивая свою боль, свою тоску:
— Так по-глупому погибнуть. Шальной, а в самый висок угодил. Лучший наводчик…
Кто из них, кого опускали сейчас осторожно в могилу, лучший наводчик, Владлен не знал; не мог он и представить себе, по какой такой глупости тот оказался убитым, но то, что шальной осколок оборвал человеку жизнь, этого было достаточно, чтобы вновь реальность потеряла для Владлена всякий смысл, а всеподавляющая мысль о беспомощности человека на войне и подвластного лишь роковой случайности праздновала полную свою власть.
Позже Владлен узнал подробности гибели наводчика. Раненый, тот лежал в санитарной землянке, а когда начался бой, не выдержал, поднялся и проковылял, опираясь на плечо санитара, в траншею, чтобы, как он настаивал, перед отъездом в госпиталь поглядеть на работу своего сменщика и посоветовать ему, если что не так, как поправить дело. Долго смотрел молча, потом похвалил: «Молодцом!» — и согласился уже вернуться в землянку, но вдруг обмяк в момент, даже не ойкнув: крупный и сильный осколок прошил висок. И в самом деле — роковая смерть. Но она не только еще раз убедила Владлена в верности его суждений, но и повлияла на его судьбу.
Сразу же после похорон лейтенант Богусловский доложил комбату по всей уставной форме и подал предписание. Тот взял осторожно, чтобы не загрязнить выпачканными в земле руками, но не успел даже развернуть его, как увидел торопливо идущего связного.
— «Редуты» засекли цель, — доложил тот обыденно. — Курс на Москву.
— Что ж их прорвало?! — И пояснил Богусловскому: — Они все больше ночью, татями, а тут — днем. Еще и вот — вечером. Что ж, встречать нужно. — Помолчал, что-то прикидывая в уме, потом спросил: — Наводчиком сможешь?
— Смогу. Только…
— Вот и ладно будет, — словно услышал комбат лишь первое слово. — Вот и хорошо. Ребята — огонь. А наводчик — вон там, — указал пальцем в сторону братской могилы. — Двоих сегодня потеряли. Двоих… Так что пошли, познакомлю с расчетом. — Пошагал размашисто к траншее, бросив уже на ходу связному: — К бою объявляй.
Когда, бывало, в училище проносилось: «К бою!» — летели на учебные позиции курсанты сломя голову, а здесь и командир не спешит, и расчеты, не торопясь, поспешают по траншеям к орудиям. Удивительно молодому лейтенанту, непонятно. А спросить неловко. Отчего? Субординация? Или боязнь попасть впросак? Неуч, дескать, приехал. Только комбат — тертый калач, знает мысли новичка. Поясняет, остановившись перед спуском в нужную им траншею-луч:
— РУСы наши на линии Вязьма — Ржев. Неблизко от нас, сам понимаешь. А радиолокационные установки на сколько ловят?
— РУС-два на сто двадцать километров.
— Верно. Знаешь. Так вот, их, эти километры, пролететь нужно. Истребки наши, кроме того, поперек дороги фашистам встанут. Тоже — задержка. Так что добрый час в нашем распоряжении. Для чего говорю? Чтобы не мельтешил. Бойцы, они мастаки оценки давать. Имей это в виду. Понял? Вот и ладно.
Обескуражен Владлен. Он не единожды «проигрывал» и первую встречу с подчиненными, и свою роль в первом бою, отрабатывая, шлифуя точные команды, представляя себя спокойно-сдержанным, — он жил этой мечтой все дни после присвоения звания, и только первый бой, который пришлось ему созерцать издали, оттеснил его мечту, а вот теперь она возродилась, вызвав недоумение и даже обиду. Но перечить комбату Владлен не посмел.
А комбат, то и дело останавливаясь, продолжал наставлять молодого лейтенанта, говорил нужные вещи, но совершенно лишние, ибо нельзя загодя наполнить карманы рецептами от всех недугов, никогда не расписать жизнь, не разложить ее по полочкам. Если есть у человека ум, человек найдется в любой обстановке. А ум как деньги: либо они есть, либо их нет. Одно отличие — взаймы ума не возьмешь. Но тогда и советы бесполезны.
Подошли к котловану. Расчет уже у орудия. Все на своих местах. И наводчик есть.
«Что? Вторым?» — недоумевал Владлен, вопросительно глядя на комбата. А тот, подавив невольную ухмылку, выслушал доклад командира орудия и представил бойцам Богусловского:
— Ваш новый командир взвода. Будет. Когда? Сам скажет. Пока — второй наводчик.
Вот так. Непрост командир батареи. Ишь ты — экзамен затеял! Ничего, после боя в командирской землянке можно будет поговорить об этом. Он, Богусловский, — лейтенант. Его учили прекрасные преподаватели.
Каким наивным покажется ему это возмущение, когда начнется бой, но особенно, когда он окончится!
— Ну, что? С богом, как говорят, — кивнул комбат и пошагал по траншее к своему КП.
Ему еще предстояло многое сделать до появления фашистских самолетов. Не то что Богусловскому. Здесь всего ничего: опробовать сиденье, ручки поворотного механизма и, на всякий случай, оптический прибор для прямой наводки. Минуты какие-то. А что дальше? Девать себя некуда. Хоть бы скорее бой, чтобы избавиться от внимательных, словно рентгеновских, взглядов командира орудия и расчета. Сказать бы им что-то, но что́ скажешь? Бой пройдет, вот тогда… Если еще самолет будет сбит…
Вот наконец долгожданный гул. Нудный, волновой. И команда:
— Орудие к бою!
Все уж и так на своих местах, но положена команда, значит, положена.
Ровно и мощно идут бомбардировщики. Потрепали их наши истребители, но, как всегда, не остановили. Сдвинули стервятники свои ряды, заполнив бреши, и — вперед. На Москву. Фюрер повелел сровнять ее с землей. А воля фюрера — воля нации.
— Огонь!
Заговорила басовито лесная поляна, и тут же отвалил десяток пикирующих бомбардировщиков от строя и понесся вниз. Затявкали захлебисто мелкокалиберки, а минуту спустя затарахтели и счетверенные пулеметные установки, кинжаля полосу перед налетчиками. Ухнула одна бомба, другая, и сжался Владлен от мысли, что вот сейчас упадет следующая рядом и — всё. Либо осколок шальной — в висок. Нет, он делал свое, положенное вроде бы исправно, но безотчетно. Он ни разу даже не задал себе вопроса, куда летят его снаряды. Он не видел, были ли сбиты фашистские самолеты другими орудиями или пулеметами — перед его глазами маячили лишь воющие, беспрерывным колесом пикирующие бомбардировщики. Ему слышались лишь разрывы бомб и градный стук врезающихся в землю осколков, хотя стрелял он по высоким самолетам, чтобы остановить их, не пустить дальше, а затем, когда это не удавалось, вдогонку, пока не принимала их на себя следующая противовоздушная полоса.
Бой затихая. Штурмующие позиции зенитчиков бомбардировщики тоже уходили один за другим на запад, на отдых, подгоняемые захлебистым тявканьем малокалиберок, а Богусловский продолжал ждать либо фашистской бомбы, последней, роковой, либо фашистского осколка.
— Все! Шабаш, братцы! Горючки тю-тю у энтих, — громко известил наводчик и еще радостней добавил: — Счастливый вы, товарищ лейтенант: никого из расчета даже не царапнуло! С таким командиром можно…
— Не командир я пока. Бой мимо меня прошел.
Нечасто командиры вот так, от сердца, говорят о себе подчиненным. Хоть трусит иной, но бодрится: храбрец, и все тут. Только разве от бойцов упрячешь бравостью поджатый хвост души?
— Верно, — согласился вполне серьезно наводчик. — Не все ладом выходило у вас. — И вполне искренне поддержал: — Но для первого, скажу честно, боя — больше чем сносно.
— Может быть, может быть… — опустошенно согласился Владлен, не находя сил подняться с сиденья.
Он бы так и сидел, неведомо сколько, не встрепени его сердитый девичий голос:
— Что, братцы-товарищи, мазали? Мы корректируем, а вы — ноль внимания! Приборы, что ли, испортились?
Владлен увидел вначале глаза. Возмущенные, сердитые, но не злые. Доброта как бы просачивалась через сердитость. И лицо, по-русски пухлощекое, тоже казалось приветливо-радушным. И уж совсем диссонировали с сердитым голосом льняные завитушки, опушком взвихренные по низу легонько сдвинутой набекрень шапки. Особенное же впечатление произвела на Владлена неуловимая элегантность девушки, хотя были на ней грубая стеганка, даже великоватая, такая же грубая синяя юбка до колен, кирзовые сапоги, и все же казенно-бездушная эта одежда не безобразила девушку, которая к тому же держалась очень уверенно.
С любопытством и каким-то непонятным еще самому восторгом смотрел Владлен на девушку, и ему очень не хотелось признаваться ей в трусости, но и кривить душой он тоже не мог. Поколебавшись, признался:
— Наверное, я во всем виноват. Первый раз в бою. Ну и…
Он грустно и виновато улыбался. Не как командир. А как школьник в учительской на разборе поведения.
— Так это вы — наш новый командир? Да?
— Пока нет. Вот когда вы перестанете серчать на мою плохую стрельбу, тогда… А зовут меня Владленом. — Поправился тут же: — Лейтенант Богусловский.
— А я — приборщица. Ефрейтор Чернуцкая. — И добавила: — Лида. Лида Чернуцкая.
Уловил Владлен Богусловский еще большую теплоту в искристых глазах девушки и смущенность. Зарделись и пухлые щеки. Но это вполне естественное состояние девушки, ибо говорила она с незнакомым юношей, красивым, чуть старше себя. Тронуло сердце Владлена, потеплело оно, и не понял молодой лейтенант в тот миг, что переступил он порог в иной мир — мир любви. Не вдруг тот новый мир станет безраздельным властелином его сердца и его разума — пройдут дни, пройдут недели, но первый лучик уже поманил в неведомое, волнующее, и он, этот лучик, больше никогда не ускользнет, не померкнет, даже в бою. На него поглядывая, станет Владлен подавлять робость души, стараться выполнять свои обязанности отменно, чтобы похвалила после боя Лида Чернуцкая.
Не так сразу такое свершилось. Но когда их орудие сбило самолет, она прибежала после отбоя и расцеловала наводчиков. Обоих. Владлену показалось, однако, что сделано это было ради него. Слишком уж пылали ее щеки.
После того боя он сказал комбату:
— Я готов принять взвод.
— Верно, готов. С богом.
Теперь лейтенант Богусловский и ефрейтор Чернуцкая чаще бывали вместе. Особенно им нравились ночные бои. Нет, для зенитчиков они не были боями, хотя все расчеты находились на своих местах, но действовали только одни прожектористы. Начиналось все, как обычно, с доклада радиолокаторщиков от Вязьмы: «Летят». Поволынят чуток противовоздушники в землянках, спешить-то еще нет нужды, портянки раз да другой перемотают, чтобы ловко и тепло было ноге, хотя пути всего ничего, к тому же торный он, на ощупь каждая неровность окопного дна известна; ушанки тоже не просто нахлобучат, а подровняют на голове, чтобы от бровей положенное расстояние осталось и звездочка по центру легла, — вот тогда, застегнув на все крючки полушубки и подтянувшись ремнем, выбирались бойцы под морозный звездный купол, шли к своим орудиям и ждали, когда там, впереди, начнет нарастать гул и резанут по небу прожекторы, зашарят меж звезд, то стремительно перескакивая с небосклона на небосклон, то по-черепашьи высвечивая метр за метром. И вдруг словно вздрогнет какой-нибудь из лучей, обхватив блеском своим фашиста, — тут уж крутись он, не крутись, но не унырнуть ему в темноту бездонную: как примагничены лучи. Передают один прожектор другому по трассе, пока «ястребок» наш не вынырнет на стервятника из темноты, не прошьет огненной очередью.
В такие моменты Лида переставала даже дышать, и Владлену становилось жаль ее, так близко к сердцу принимавшую чужое горе, чужую смерть. Не выдержал как-то, привлек ее к себе, прижал, отгораживая от жестокой реальности:
— Ничего не поделаешь — война…
Она не отстранилась, но Владлен не почувствовал ответной доверчивости. Так, словно к стенке прислонилась. Задето самолюбие. Владлен даже не хотел в следующую ночь быть рядом с ней, но она подошла к нему сама, и только начали прожекторы высвечивать фашистов — она прижалась к нему, прошептав повинно:
— Жутко боюсь. Сейчас их — из темноты…
— Глупенькая. Они же — фашисты.
— Я не о том. Мне не их жаль. Невест и жен ихних. Любимы они. А может, и сами любят?
Воистину женская логика! Как серчала в тот первый раз на него, Владлена, за плохую стрельбу, за то, что не сбит ни один самолет, но там разве не могли быть любящие и любимые? Нет, она не укладывалась в сознании Владлена как сентиментальная пацифистка. Она — из добровольцев. Сама пошла убивать. Защищаясь, убивать. Выходит, понимает все правильно. Патриотка, выходит. Отчего же вдруг жалеет врагов-захватчиков?
«Сама кого-то ждет? Беспокоится о ком-то?» — подумалось Владлену, и тоскливо стало ему вдруг рядом с этой уже, можно сказать, любимой девушкой.
Обнимать ее и знать, что она думает о другом, — такое Владлену казалось нелепицей, и он спросил прямо:
— Ты сама ждешь? Ты боишься за своего любимого?
Лида молчала, но Владлен почувствовал, как она, расслабленная, робкая, вдруг напряглась отчужденно. Он спросил еще настойчивей:
— У тебя есть кто?
— Не знаю. Похоже, да.
— Кто?
— Ты…
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Все шло, по пониманию Дмитрия Темника, прекрасно. Сам он матерел и, даже не замечая этого, стал стеснять всех, где бы ни находился. Если проводил совещание в своей землянке, казалось, будто он один чувствует себя вольно, все же остальные плотнятся у сырых стенок, тесно всем остальным. Если подходил к костру, какие любили мужики-партизаны разводить недалеко от базы на кургузой полянке, то словно нависал, прессуя его, над уютным молчаливым кружком. Если проходил чинно, с чувством достоинства по базе ради инспекции или просто ради общения с рядовыми бойцами, коих в отряде набиралось все больше и больше, всем становилось тесно. И только когда Темник уходил «в мир», к Пелипей, все вздыхали облегченно. Не замечал Дмитрий Темник, что становится неудобен ближним своим, но, если бы ему кто и сказал об этом, он, наверное, ответил бы теми же словами, какие бросил отец его, Дмитрий Левонтьев, брату своему Андрею в далекой, прокаленной солнцем азиатской пустыне: «Было бы мне ловко — остальные потерпят…»
И то сказать, сколько добра он сделал этим вот мужикам, которые, если бы не он, давно бы догнивали, кого где пуля засадная застала. А так — почти все живы. Все операции прошли так, что, как они сами оценивают, лучшего и желать не следует, А счет операциям солидный.
И только сам Темник знал, что гибли от пуль партизан лишь те, кто становился неугодным либо рейху, либо шефу-щеголю, а взрывы на рельсах не причиняли особого зла, ибо разрушения быстро немцами устранялись. Но то, что ведомо было командиру партизанского отряда, оставалось тайной за семью замками для всех остальных. Оттого и рос авторитет Темника, оттого и прощали ему высокомерие. Даже порывистый Рашид Кокаскеров, поначалу пытавшийся вносить поправки в предлагаемые командиром планы, теперь соглашался с ним безоговорочно.
Темник диктовал, но делал это, стараясь не изменять им же самим заведенный порядок проводить «совет тройки» перед каждой операцией. И хотя ему наперед был известен каждый ее этап, он выслушивал всех и, если хоть что-то могло вписаться в тот план, который получен от Пелипей, он без жадности хвалил такое предложение и принимал его. Иногда вместе с Воловиковым и Кокаскеровым приглашал он и Акимыча, а на все последние совещания и Первого, с которым, как казалось Темнику, сумел он установить нужные ему отношения.
На первом же совещании, куда пригласил его Темник, Первый пытался лидировать, к чему он привык за многие годы. Привык, чтобы ему не возражали. Темника это, однако же, не устраивало, но и идти на прямой конфликт он не имел ни права, ни возможности: ему нужна была связь с Большой землей — так велела Пелипей, передавая постоянно, что шеф ради такой связи готов идти даже на жертвы. И Темник старался немного сбить, не отлучив вовсе от дел отряда, лидерские привычки Первого. Не сразу это ему удалось. Только зимой.
Выпал уже первый снег, когда эсэсовцы пригнали партию заключенных на облюбованное для концлагеря место и те начали рубить бараки. Лес, благо, под боком. Первый тут же предлагает совершить налет на охрану и всех заключенных освободить. Темник, естественно, против. Не может же он действовать без команды шефа? Прислали еще одну партию. Вновь тот же спор. Темник стоит на своем: в лесу лежит снег, как ни петляй, эсэсовцы со следа не собьются. Весны Темник предлагал дождаться.
«— А люди пусть гибнут по нашей медлительности?! — упрямился Первый. — Не отсиживаться нам нужно, а действовать».
«— А мы и действуем, — спокойно возражал Темник. — Действуем».
Верно, действовать отряду шеф-щеголь дозволял. Подбрасывали партизанам и опальных карателей, и взрывы мостов, не очень нужных, и железнодорожного полотна (далеко для этого приходилось ходить) позволялись, но налеты на концлагерь были запрещены до особого указания. Как понимал Темник, до тех пор, пока не будет уверенности, что освобожденные могут быть переправлены за линию фронта. Темник, как ему казалось, проникал в замыслы шефа-щеголя, понимал их; они вполне его устраивали, и он послушно исполнял их, надеясь в будущем, после войны, получить за это приличное место на иерархических насестах. Первый же толкал на ослушание. Особенно настойчивым стал он в рождественские морозы. От райкомовцев шли связные, и каждый их приход подливал масла в огонь, ибо их сообщения были однообразно-тревожны: пленные гибнут в недостроенных бараках от холода. Просьба высказывалась тоже одна: уничтожить немецкий гарнизон и освободить заключенных. И пока пригонят новую партию, новый отряд «мертвоголовых», морозы спадут, строительство концлагеря пойдет без таких великих жертв.
«— Райком может взять операцию на себя, объединив усилия нескольких отрядов, — доказывал Первый. — Люди гибнут! Люди! И мы не вправе быть безразличными!»
Что ему ответить? Не долговечны, мол, морозы. Дескать, после рождества цыган уже шубу продает. А так и хотелось сказать, что раньше вам, партейцам, о людях думать нужно было. Да и им самим, людям, свой ум тоже иметь не мешало бы. Тут, в этом концлагере, капля в море. Добрая уж половина России трупами устлана, а скоро и остальная успокоится, грешная, под танками Великого рейха. И тебе, функционеру районного звена, не велик срок отпущен людей баламутить. И мужиков-партизан, кто тебя слушает, один конец ждет — смерть. Если, конечно, не одумаются.
Только не скажешь ничего этого до времени. Пока нужно играть с Первым и с другими в прятки.
В данный конкретный момент предстояло Темнику переупрямить Первого во что бы то ни стало, чтобы не вызвать недовольства шефа-щеголя и конечно же Пелипей.
Первый, однако же, твердо стоял на своем. Его начали поддерживать. Вначале Воловиков, а затем и Кокаскеров. Только Акимыч соглашался, что не худо бы повременить до чернотропа. Но после того, как Первый в горячке полемики бросил Акимычу: «Вот уж не думал, что труслив ты! Знал бы — никогда не рекомендовал бы в председатели», — тот стал на совещаниях помалкивать. Не против, но и не за. А один, как известно, в поле не воин. И Темник сдался, заявив, что сам он умывает руки, часть отряда для операции выделит, но не больше.
Пелипей конечно же была предупреждена, и все окончилось трагически. Эсэсовцы, как только партизаны, считая, что они нападают внезапно, кинулись в атаку, открыли огонь из пулеметов и автоматов не только по атакующим, но и по баракам. Не вдруг поняли партизаны трагичность своего положения. Им бы отступить, не мешкая, а они продолжали лететь вперед и натыкались на нули.
Остатки выделенной из отряда группы пришли на второй день, приволокли на пулеметных волокушах и там, в лесу, спешно сделанных санях раненых. Среди них был и Иван Воловиков. Изрешеченный пулями, без сознания, пергаментно-белый от потери крови. Ничто, казалось, его уже не может спасти, и тогда Первый запросил самолет. Он, что оказалось совершенно неожиданным для Темника, давно уже имел связь с Большой землей, но держал это в полном секрете, работал сам на рации, которая стояла в его землянке и о которой Темник ничего не знал.
«Ну жук! — возмущался Темник. — Поиграй-поиграй в тайну! Кто последним в нее играть будет — вот главное!»
Пока, однако же, ничего поделать Темник не мог. Не пускают к рации, значит, не пускают. Не лезть же лбом вперед…
Самолет прилетел в условленную ночь. Ткнулся на приготовленную спешно площадку. Привез взрывчатку, огнеприпасы и… радиста. Совсем мальчишку. Поразмыслил над всем, что произошло за последние дни, Темник и вполне остался доволен. Связь есть. Пацана-связиста можно легко переиграть. Юность доверчива! Первый основательно подорвал свой авторитет, и теперь можно было решительно стоять на своем: хватит, дескать, нам одной самодеятельности.
Матерел Темник, спокойно делал свое дело и вовсе не думал, что Первый все более и более ему не доверяет, что собирается он проверить и его, Темника, и Пелипей. А началось это недоверие после провала операции, когда долгими бессонными ночами анализировал Первый весь ход подготовки к операции и пришел к твердому выводу: фашистов кто-то предупредил. Но не вдруг подозрение упало на Темника. Да и трудно даже подумать, что фактически убитый фашистами человек мог служить им. Шли дни, проходили недели, зима пятилась, как ей и положено, на весну глядя. Первый, поставивший райкомовцам задачу выявить провокатора, нервничал, ибо никакой ясности не появлялось; он уже начинал сомневаться, правилен ли его вывод, но, как ни крутил, все сходилось к одному: фашистам дали знать. Кто?
Ошеломил его один факт. Собственно, не факт, а фраза. Приговорили в отряде к смертной казни двоих полицаев. Зверствовали неимоверно. Инициатором суда был Темник. Он и председательствовал на суде. Для подготовки к исполнению приговора собрал Темник совещание. Обычный совет отряда, только без Воловикова, комиссара отряда. Помянули добрым словом отправленного на Большую землю, уверили себя, что вы́ходят его врачи и вернется он. Затем Темник, как обычно, стал выслушивать мнения Кокаскерова, Акимыча и Первого, взвешивал все «за» и «против», что-то отвергал, с чем-то соглашался — все шло положенным на совещании порядком. И вот план принят. Днем решено расстрелять извергов-полицаев. И не в их домах, а предварительно вывести их на улицу. Пусть хоть кто-нибудь да увидит. Пойдет тогда слух от деревни к деревне о мстителях.
— Не рискованно ли? — спросил Первый. — Может, лучше ночью? Потерять можем людей из-за предателей. А факт расстрела будет широко обнародован. Райком постарается.
— Все будет в порядке, — самоуверенно бросил Темник. И будто осек себя. Так показалось Первому.
А подозрению только появиться, оно о себе дальше само позаботится, не отступится — отмахивайся от него сколько тебе хочется. Грех даже подозревать столько пережившего человека в чем-то враждебном, а то, что отряд без больших потерь действует, разве плохо? Конечно не плохо. Но…
Мстители и в самом деле приговор привели в исполнение без всяких осложнений. Никто их не преследовал. Вроде бы Темник заранее знал исход дела. Или вот… На базу ни разу даже не пытались фашисты посылать карателей. Болото мешает? Другие отряды тоже не на «ладошках видных» места выбирали, а им уже приходилось единоборствовать с эсэсовцами. Один отряд базу вынужден сменить. Только и теперь непокойно ему. Потому как — активен. Правда, там и объектов побольше, там оживленней. А здесь? Впрочем, и Темник не бездельничает. Не отсиживается за болотом. Ну а если вдуматься серьезно — щепки одни. Значительного ничего отряд не сделал. Но их-то, райкомовцев, от мучений и смерти спас…
Трудно обвинить человека. Очень трудно.
И, быть может, избавился бы Первый от навалившейся на него подозрительности, будь Темник хоть чуточку осторожней. Но нет, заматерел он. Многое себе позволял. Даже Пелипей стал навещать довольно часто. Даже перестал объяснять, что, дескать, для корректировки действий, для отработки очередных операций. Один к тому же стал ходить. Без охраны. Много раз даже ночевать оставался. Великий риск.
Отчего и ему, и Пелипей все это с рук сходило? Словно не было глаз у фашистов в каждом селе…
Не знал ничего этого Темник, не ведал, уверенно себя держал, готовя главную, как он говорил, операцию отряда — освобождение всех заключенных из концлагеря. Одно было непривычно: план ему на этот раз не разработали. Пелипей предложила Темнику, чтобы он сам выбрал вариант. Оставалось одно: посоветоваться не формально, а взаправду. Пригласил одного Кокаскерова.
— Очередной объект наших действий — концлагерь, — официально, давая сразу почувствовать, что он приказывает и, значит, не склонен к совещательной полемике, заговорил Темник. — Ты водил туда людей и на себе почувствовал, чем может окончиться неподготовленная операция. Две недели тебе сроку. Отбирай для разведки любых партизан, иди сам в разведку — любые твои действия одобрю, но через две недели должен быть ясный план наших действий. — И добавил уже доверительно: — Пелипей никак не может найти выхода на концлагерь. Как слепые поэтому мы.
— Что ж, идущий и пески одолеет, — ответил Рашид. — Сегодня я и пойду с твоего согласия.
Не возвращался он несколько дней, и даже Темник, знавший, что разведчикам вреда фашисты не станут причинять, не будут их попросту замечать, заволновался. Что взбредет в голову щеголю-шефу? Может, он, Темник, стал уже не нужен?
В целости вернулся Рашид. Глаза у всей группы квелые, веки будто колтун отяготил. К тому же и не в настроении. Пообедали, однако же, с превеликим аппетитом, а потом спали по двойной норме пожарников. Но едва протерли глаза — вновь пошагали через болото.
— Бедолаги, — посочувствовал Акимыч. — Пятерик взвалить и то легче.
Темник тут же шпильку в бок Первому.
— Трудно без информации. Отряд не имеет пока там своего человека, а от райкома помощи — ноль без палочки.
Промолчал Первый, проглотил неприятную пилюлю. Да и как иначе? И в самом деле, ничего у райкомовцев не выходит. Двоим уже задание дано, а дело на месте топчется. Впустили бы эсэсовцы полицаев в охрану — другое дело. Если же быть честным до конца перед собой, его все это время больше интересовал вопрос, кто провалил первую операцию. Основные усилия на разрешение этой загадки направлялись. Зряшнее, может, подозрение? Ложная, может быть, посылка? Но, если даже не ложная, фактов пока нет, и, стало быть, живи и продолжай борьбу с захватчиками рядом с теми, кого подозреваешь.
Предложил:
— Мое мнение: объединить усилия всех отрядов…
— Мы уже сыты, — ухмыльнулся Темник. — Терять боевых товарищей?! Избавьте. Пусть никто к концлагерю не суется! Мы сами!..
— Позиция удельного князька! — сердито отвечал Первый. — Не партийный это подход к делу!
Это уже серьезно. Шаг назад необходим. Только не вдруг. Можно немного поершиться.
— А проливать кровь бесцельно — партийно?
— У нас великая цель — освобождение Родины от фашистской чумы! Ради этого…
— Мы говорим о разных вещах. Я утверждаю: сломя голову бросаться на врага бессмысленно. Не самим нам гибнуть, а его бить нужно. И не следует, — с ухмылкой закончил он, — недомыслие наше, плохую нашу организацию прикрывать величием цели. Народ верит нам, и никто не дает нам права пренебрежительно относиться к нему, не жалеть его, не беречь! — Помолчал немного и закончил уже примирительно: — А насчет объединения? Нужно подумать. Я подумаю.
Оставил последнее слово за собой. Никого он не должен пускать к концлагерю, такой он имеет приказ и сделает все, чтобы выполнить его. Ну а помощь других отрядов? Может, от нее не следует отказываться? Только в своих руках бразды правления держать.
«Впрочем, пусть Пелипей с шефом решают…»
Через день от нее прибыл связной. Сообщил: случайно удалось узнать, что охрану концлагеря собираются усилить, увеличив вдвое гарнизон. Темнику ясно: торопят его. Позвал Акимыча. И Первого пригласил. Заставил связного повторить сообщение Пелипей.
— Они усиливаются — нам тоже нелишне стянуть людей в кулак, — заговорил Первый, когда связной вышел из землянки и Темник, как обычно, предложил высказывать свои соображения. — Я только в этом вижу положительное решение вопроса…
Да, Первый упрямо гнул свою линию, и Темник понимал, что не отступится он, ибо разумность удара крупной группой очевидна. Задачка, в общем, для него, Темника, весьма сложная. Если шеф не даст согласия, выхода, без ослушания, практически нет. Темник решил направить со связным свои соображения по этому поводу, но не вдруг же ответ вернется, нужно поэтому выиграть время.
Ответил решительно:
— Не об этом пока речь. Сейчас нам нужно немедленно готовить операцию. Пока эсэсовцев не добавилось. Поднимем весь отряд. Только охрану оставим. И, естественно, вас, — кивнул Первому Темник. — Рисковать партийной головой района я не имею права. Тем более, что операция не ахти какая. Все. Совещание окончено.
Акимыч крякнул недовольно, но смолчал. У него, видимо, имелся какой-то свой резон, но, если его не хотят слушать, значит, не нужен он вовсе.
Не настаивал на своем и Первый. Подчинился. Разумно, подумал он, поспешить, а сбор сводного отряда займет много времени.
Темник доволен, что отступился Первый. Понимал — не насовсем. Оттяжка вышла, и то слава богу. Велел построить отряд. С оружием, как по тревоге.
Прошел вдоль строя. Посмотрел у нескольких партизан винтовки и автоматы, не ржавые ли. Нет, блюдут порядок мужики. Именно мужики. Одет кто во что, оружие разнокалиберное. Какие, кажется, вояки из них? Но видел Темник их в деле. Зло дерутся. Не страшатся немцев. Не раз и не два лезли ему предательские мысли: посильно ли Германии подмять Россию? Именно подмять. Согласных с фашистами мало. Ох как мало! А тех, кто противится по-всякому, с оружием ли, молча ли протестует — землю не пашет, скот не растит, хотя и сам голоден, — таких несметно. Вот этих бы всех вояк сейчас из пулемета! Всю ленту выпустил бы!
А строй хмурость командирскую по-своему воспринимает. Неприятные вести, похоже, получил. Бой, похоже, предстоит. Каратели, может, навострились сюда.
Заговорил наконец командир. Громко и властно:
— Великое милосердие нам предопределено. Как только вернется начальник штаба Кокаскеров, выступаем на операцию. Освобождать концлагерь. Всем отрядом пойдем. Лишь одно отделение оставим для охраны базы. Готовиться начнем теперь же. Больше пота в учении — меньше крови в бою.
И началось. Прохаживаются меж землянок Темник с Акимычем, а партизаны незаметно окольцовывают лагерь, сосредоточиваются для броска. Молниеносного, стремительного. И вот почти все готово, но тут Акимыч кликнет кого-либо из мужиков, колхозников своих бывших:
— Чего винтовку выпялил? Не ветка она — видать ее.
Шевелится подлесок — уходят партизаны на дальнюю поляну выслушивать упрек и назидание Темника.
— Сколько погибло в прошлый раз? То-то. Ящериц незаметней стать надлежит. Ясно?
Уж куда как ясно! Только уж больно зорок Акимыч. Всем это ведомо. С давних пор. Еще с довоенных лет. Появится, бывало, на току и сразу все непорядки видит: кто ни шатко ни валко работает, только видимость хлопотности создает, кто по зерну топчется, перелопачивая его, а кто и впрямь как для себя делает — таких похвалит, нерадивцев же в краску вгонит. Такой он, Акимыч. Немца-фашиста что не провести! А смоги Акимычу на глаз не попасться…
Раза четыре до обеда повторяли маневр. Пообедав, сызнова начали. До семи потов ползали. Под вечер сжалился Темник, объявил отбой, пообещал продолжить учебу завтра.
Но завтра выпало иное. Еще рассвет в силу не вошел, а они, подкрепившись поплотней, чавкали по болоту след в след за Кокаскеровым, возбужденные предстоящим боем. План им уже объявили: на гарнизон отряд не нападает — все произойдет в лесу, куда каждый день пригоняют заключенных рубить лес для бараков, но больше на вывоз. В концлагере только больные остаются и почти весь гарнизон, При лесорубах же охрана невеликая — пять эсэсовцев: устанавливают они четыре пулемета по углам делянки, а один, с автоматом, подбадривает стеком заготовителей. Чуть кто замешкается — удар. Так с самого утра и до вечера. Перерыв на обед в два часа. Задача у партизан такая: переночевав в лесу, окружить делянку еще до прихода заключенных. И сразу же, утром, начать операцию. И хотя до лагеря далеко и гарнизон фашистский, кроме одного постового, будет спать, лучше провести ее тихо. Пулеметчиков — ножами. И только того, со стеком, — снайперской пулей. До полудня, когда приезжают повозки с баландой для заключенных, освобожденные уже подойдут к болоту.
Всем виделась легкая и быстрая операция без большой опасности, оттого так возбужденно-бодро двигался отряд, замыкал цепочку которого сам Темник. Он тоже, казалось, поддался общему настроению, мысли его, однако, были ох как далеки от тех, которые бодрили партизан. Темник никак не мог отмахнуться от вечернего разговора, который случился вскорости после ужина. Пошел он по нужде, и тут к нему словно прилепился красноармеец. Один из спасенных сельскими бабами. Повелел едва слышно:
— Оставьте меня на базе. Предлог найдите любой. За секретарем необходимо присмотреть. И еще совет: оглядывайтесь почаще на свои дела.
И растворился в сумеречной размытости. Будто почудилось все это Темнику. А говорок приглушенный звучал в ушах, сердце билось непокойно, тревога вползала в душу. Выходит, поступал он как-то не так, совершил какую-то промашку. И чем все это неведомое обернется? Да вроде бы нет никакой промашки. Все ладом. А в мозгу сверление: «…оглядывайтесь почаще на свои дела».
Чем больше он осмысливал то, что произошло на тропе к уборной, тем больше признавался себе, что действительно перестал оглядываться назад. Он уже начал совсем забывать, что неспроста еще двое отставших от колонны военнопленных оставлены фашистами в живых. А оно-то вон как оборачивается! Рядовой, а диктует. И знает, выходит, больше его, Темника.
«За секретарем необходимо присмотреть…»
Вот тебе и раз! А ему, Темнику, думалось, что все с Первым в полном порядке. Под контролем тот. Спесь сбита с него.
«Что-то не то!..»
А что? Разберись попробуй, если не все тебе известно. Если даже здесь, в отряде, за твоей спиной идет своя работа, вовсе тебе не видимая, если тебе не доверяют полностью и водят тебя за нос.
Темник и в самом деле не знал многого. Никто ему не доложил, что перед ужином пришел к Первому связной от райкомовца — церковного сторожа. Всего несколько минут длилась их беседа в землянке Первого, затем связной поспешил в столовую. Подал свою чашку без очереди.
— Невтерпеж, — беззлобно подначили мужики-партизаны связного. — Оголодал, что ли, аль назад топать неволя?
И тут же совет-просьба:
— Передохнул бы ночку, порассказал нам, чем мир живет-дышит. Бабы как наши?
— Куда! — отмахнулся связной. — Завтрава Первый к батюшке навострился. Неладно у них что-то там. Прознали они аль догадываются о предательстве.
— О ком они? Кто враг — он в полицаи пошел…
— Мне-то вовсе неведомо. Иль они мне что лишнего скажут? Конспирация!
— Тогда ты благочинному поклонись от нас, пусть у бога победу вымаливает, а мы подсобим автоматами, — на полном будто серьезе советовали партизаны, лукаво перестреливаясь взглядами. — Автоматная очередь молитве большое подспорье.
Не прятал связной тайны, ему доведенной. Да и от кого прятать? От сельчан своих, с кем столько штофов опорожнено, столько поту соленого пролито да и кровушки в гражданскую и в схватках с кулацкими бандами? Только зря он все это делал…
Тут как раз разведка вернулась. Вскоре Темник нарядил связного к Пелипей. Срочно. На ночь глядя. Но тот все же позволил себе выкурить самокрутку с бывшим красноармейцем. Они давно уже сдружились. Если выдавался отдых связному, вместе всегда были, а перед уходом обязательно подымят на пенечках. Все молча больше. А потом уж — в путь.
Вскоре после сегодняшней самокрутки и поднырнул к Темнику с просьбой своей забытый им «глаз шефа».
Самого главного, с чего, собственно, и образовалась странная просьба, Темник тоже не знал. Раиса Пелипей побывала у священника. Нет, не на исповеди. В доме побывала. Ходила по просьбе шефа. Чтобы предупредить, как будто своя, об опасности. Недовольны, дескать, немецкие власти его проповедями, возмущают они людей на непослушание. Вызнала, дескать, что намерены арестовать его. Вроде бы вполне оправданная миссия, да что-то лишнее сказала Пелипей, допустила какую-то оплошность, вот и возникло у священника, а особенно у церковного сторожа подозрение. Послали они срочно связного к Первому. Предупредить бы его, чтобы никому ни гу-гу, да невдомек. Каждому, считали, известно, что не в оловянные солдатики игра идет и нужно ли о конспирации много говорить. Раз связной, значит, связной. Кому велено что передать, тому и передавай, иным всем, клещами пусть вытягивают, ни слова. Вышло же вон как. Плохо вышло. Не предупредили — вот и распустил язык.
Ни одна сторона из всего случившегося пока ясного для себя вывода не сделала, но «глаз шефа» решил на всякий случай не допустить встречи попа с секретарем райкома. Канет он в Лету, и — все. Если не успеет засада — один справится. Живым, может, тогда не удастся взять, но болото укроет грех. Если же дело пойдет по его предложению, тогда… Тогда шефу карты в руки.
Как бы вольно дышалось Темнику, знай он все это! А он мучился мыслями. Шагал, однако же, бодро за длинной партизанской цепочкой.
Вот наконец твердая земля и прекрасной густоты подлесок. Хоть дивизию прячь. А партизаны еще осторожней стали, посылая дозоры не только вперед и в бока, но и тыл не оставляли без пригляда. И только когда спустились в непролазно-хмурый овраг и, выставив охранение, расположились на отдых, напряжение спало. Тут уж никакой неожиданной засады фашист не устроит.
Блаженность, однако, постепенно уступала утомительности — от ничегонеделания, от ожидания ночи. А мысли всякие в голове, когда руки не заняты. Иные партизаны даже сетовать начали: для чего, дескать, так задолго из базы вывели? Обложит ненароком фашист, как медведя в берлоге, — куда деваться? Тут много не навоюешь. Вспоминать стали не ко времени ту зимнюю операцию, о погибших заговорили, как о живых. Темник же доволен: пусть тревожатся, пусть души наизнанку выворачивают, а пройдет операция хорошо — авторитета ему еще добавится.
Ночь подошла. Не летняя еще — особенно не разоспишься. Костерок бы, только не велено даже курить. Дым есть дым. Его в кулаке не укроешь. И с каким удовольствием пошагали партизаны к месту засады, когда поступила на то команда! Потом каждый так себя упрятывал в кустах, чтобы сорока и та не затараторила бы, появись она поблизости.
Почти для всех партизан лежанием в кустах так и закончилась операция. Едва заря уступила место солнечной ясности, как запылила колонна заключенных и вскоре уже разошлась по делянке. Вот уже застучали топоры, завжикали двуручные пилы, запонукал горластый эсэсовец, прохаживаясь по спинам и головам заготовителей стеком под одобрительные восклики других охранников. Потом четверка эсэсовцев, вскинув пулеметы на плечи, разошлась по своим углам, вовсе не думая, что это их последние шаги в жизни.
Дальше все произошло по плану Рашида Кокаскерова. Даже партизаны не видели и не слышали, как разведчики порешили пулеметчиков, и для всех совершенно неожиданно хлестнул одиночный выстрел, от которого ткнулся носом в грязный мох эсэсовец-понукатель. Распрямились узники, оторвавшись от работы, а потом попадали, прижимаясь к поваленным деревьям, чтобы укрыться от пулеметных очередей, что глядят зловеще стволами по углам делянки. Но летят мгновения, вековечно долгие, а тихо вокруг. Только поодаль птахи свиристят.
Самые смелые начали поднимать головы, озираясь тревожно и удивленно. Что произошло? Чудо — и все тут! А вот и явь: Темник с Кокаскеровым вышли из лесу на делянку.
— Вставайте. Вы свободны. Без шума всем построиться и сюда, в лес. Пойдем на партизанскую базу. Быстро пойдем. Очень быстро!
Кто-то крикнул было «ура», но на него цыкнули и с лихорадочной спешностью, еще не веря счастью и боясь выстрелов в спину, бросились в лес, который укроет от лихой пули, от злого взгляда, от ненавистного стека.
Всяким виделся и видится русскому человеку лес. В нем, фантазией взрощенный, царствовал леший; в нем избушки мучились на курьих ножках, укрывая за своими бревенчатыми стенами злых или добрых колдуний; здесь вольничал Соловей-разбойник — гроза богатеев нечестных; у леса отвоевывать приходилось мужику-славянину земли пахотные; но лес обогревал, из леса строили дома и терема, в лесу ломали веники для парных бань, а самое главное — лес укрывал от степняков-налетчиков, помог выстоять в иговое лихолетье да так и остался в нашем понимании спасителем. В лесах же скопила Русь силы против татар-извергов. Французы тоже испытали на себе силу партизанскую, укрывал которую до срока лес. И вот теперь, когда застонала земля советская под игом чудища многоголового и многозевого, лес приютил в чащобах своих мстителей, патриотов земли вольной.
Вот теперь и для тех, кому судьба вдруг подарила право вздохнуть свободно, лес-спаситель был в первый момент самым желанным убежищем. Но человек всегда остается человеком. Через сотню-другую метров обессиленные дистрофики уже откровенно досадовали на то, что корни деревьев цепляются за ноги, низкие сучья бьют по лицу, рвут ветхие, полуистлевшие одежды, а кустарник непролазной стеной встает на пути, — им нужно скорее уходить, им надо убегать, лес же мешает, лес выматывает силы.
Многие бы, забыв от бессильной отчаянности обо всем на свете, остались бы лежать в ерниках, если бы не партизанская помощь. Отряд двигался позади освобожденных, и каждого, кто падал в изнеможении, партизаны подхватывали и сноровисто, словно изюбри, прошмыгивали липкую еловую густоту. Теперь-то они полной мерой осознали, для чего вывел их командир загодя и дал вдоволь отдыха.
И еще одна предусмотрительность, на сей раз Акимыча, оказалась весьма кстати — нарезанное небольшими кусочками свиное сало. Как неприкосновенный запас выдали его партизанам, и вот теперь без остановки, ибо им нужно было очень спешить, подкреплялись те сами и подкармливали освобожденных.
Подрысили наконец к болоту. Темник оставил заслон, остальным приказал, не дав даже малого времени на отдых, двигаться вперед с максимальной быстротой. Сам же, замкнув теперь уже совсем длинную цепь, с трудом передвигавшуюся в вязкой жиже, беспрестанно торопил людей:
— Шире шаг! Поспешите!
Только как это сделать? Почти у каждого партизана подопечный. Сами тоже из сил выбиваться начали, но не бросишь же горемык-заморышей! Не тяжелые они — кожа да кости, но в долгом пути и соломина гирей кажется.
Сухой остров на пути. Где без малого год назад отдыхали мужики-партизаны, когда несли на носилках и его, Темника, и других пострелянных военнопленных. В самую пору вспомнить о том и тоже дать привал, ибо, если каратели идут по следу, пока их держать станет заслон, минуют они второе болото. А там — окопы. Там — пулеметы. Да еще и целое отделение совершенно не уставших бойцов. Увы, Темник поступил вопреки логике, не позволил даже остановиться. Оставленный здесь небольшой заслон предупредил:
— Смотрите не засните. Жизнь всех нас в ваших руках.
Нет, он не лукавил. Он не знал, каковы планы шефа-щеголя. Не продолжит ли тот игру еще дальше? Нельзя же вовсе оставить партизан без преследования — на живульку иначе все будет стегано. Правда, времени для того, чтобы освобожденные не попали под пули, будет достаточно, но зачем прохлаждаться? Вперед! Ему же прямо было предложено действовать осторожней — зачем же вызывать подозрения медлительностью? Пусть торопятся. Пусть спотыкаются.
— Шире шаг!
Доволоклись наконец до базы. Темник, хотя мог бы, как и все остальные, повалиться на пухлую землю, принялся распоряжаться. Акимыча с оставшимся для охраны отделением послал в помощь второму заслону и велел, проверив там все основательно и проинструктировав, возвращаться назад.
— Первый заслон пусть тоже на острове останется. Если что — слали бы спешно донесение.
— Услышим выстрелы, случись они, и без того.
— Выстрелы выстрелами, а донесение ясность полную внесет. Знать будем, нужна ли им помощь.
К кашеварам затем поспешил, чтобы поскорей ужин готовили, хотя видел, что спят все и только пушкой можно их разбудить. Но не мужики-партизаны и освобожденные его беспокоили (пусть хоть с голоду подохнут все) — он авторитета своего ради старался. И пыль в глаза Первому пускал.
Но что-то тот не спешил встречать победителей.
«Сеанс связи, что ли?..»
Но нет, не вышел и через четверть часа. На пороге его землянки появился радист-юнец, а самого не видно. Не сам же переговоры ведет?
Не выдержал, хотя очень хотелось, чтобы не с докладом идти, а быть встреченным почтенно и уважительно, направил стопы свои к райкомовской землянке.
— Где сам? — протягивая руку связисту, спросил Темник, ожидая скорее не ответа, а уважительного приглашения: заходите, дескать, в землянке он.
Связист, однако, не только не пригласил, но даже не посторонился. Ответил совершенно спокойно:
— Ушел он. Вскорости после вас. Без него выходил на связь. Через два часа очередной сеанс, вот и жду. Подойдет, надеюсь.
— А если не успеет? — без всякого пока еще расчета поинтересовался Темник и тут же, не ожидая ответа, добавил, ибо возник у него план, пока еще не совсем четкий, но уже видимый: — Мы не пустые пришли. Без помощи никак не обойтись. Оружие. Боезапас. Питание, наконец. Селам непосильно столько нахлебников…
А мысль уже прокручивает вчерашний тайный разговор на темной тропинке. Выходит, «глаз шефа» знал то, что проглядел он, Темник. Чем для него теперь обернется этот просчет? Упреком? Выволочкой? Или… Что-то наваливаются неприятности в последние дни одна за другой. Плохо. Думать нужно. Думать. И действовать не только расчетливей, но и, главное, смелей. Пусть не раба в нем, Темнике, видит шеф-щеголь, а мужа. Воина. Смелого. Даже дерзкого. И первым самостоятельным шагом пусть станет его разговор с руководством за линией фронта. Пусть там закрепится его имя — имя командира партизанского отряда.
Но тут ушат холодной воды приостановил его смелые прожекты. Связист парировал спокойно:
— Без хозяина не могу принимать никаких донесений.
— Что ж, подождем самого, — согласно кивнул Темник и спросил: — А позвать Кокаскерова можешь?
— Конечно. Только в землянку, прошу, не входите.
Зряшное предупреждение. Темник вовсе не собирался нарушать те строгие правила, которыми руководствуется присланный из центра радист: зачем ему, командиру партизанского отряда, действовать примитивно? Он избрал другой путь. Он поведет дело так, что радист сам позовет его в землянку. И приглашение Кокаскерова — первый к тому шаг. Темник считал, что оставленных в заслоне людей вполне достаточно, но решил при радисте дать задание начальнику штаба отобрать срочно и послать для усиления заслона еще группу партизан с двумя пулеметами, поставив им, кроме того, задачу поскорее привести, если он появится, на базу Первого.
Ответил радисту:
— Не беспокойся. Постерегу, пока сходишь.
Основательно принялся инструктировать Темник Рашида Кокаскерова, как действовать, объединив силы первого и второго заслонов, особенно настойчиво повторял, что, если случится нападение, слал бы спешно связного, и это даже удивило Кокаскерова: что он, ребенок несмышленый? Попытался даже остановить Темника:
— Все ясно. Веревка хороша длинная, слово — короткое.
— Особенно прошу поторопить секретаря райкома, — словно не слыша реплики начальника штаба, продолжал Темник. — Выдели сопровождающего. Объясни: отряд втрое увеличился, нужны продукты, оружие нужно, рекомендации нужны. Как поступить с освобожденными? Здесь всех не разместишь, да мы тут и своими силами фашистам спать не даем. — Самодовольство зазвучало в этих последних словах. — Туда, за линию фронта, выход срочно необходим, а без хозяина вот он, — кивнул на радиста, — не может этого сделать. Инструкция…
— Дело делать — советчиков много находится. — Не отдавая отчета, Кокаскеров лил воду на мельницу Темника. — Жизнь по параграфам инструкций не рассуешь!
— Так-то оно так, но… Ты, главное, поторопи Первого. Положение может сложиться критическое.
Камень брошен. Не поднял вроде бы он волны, кольцами разбегающейся по водной ровности, радиста вроде бы не тронул разговор двух командиров, но это только так казалось. Потом, когда нажим Темника станет основательным, умело разыгранная сцена эта окажется далеко не последним фактором, повлиявшим на уступчивость радиста. Но до того времени еще далеко, к тому же Темник хорошо понимал, что в ближайший сеанс связи стать хозяином радиограммы ему не удастся, если не нависнет угроза разгрома базы. А этого, как он знал, не будет, поэтому, сделав свой первый шаг, решил он хорошенько выспаться. Наказал, однако же, радисту:
— Как секретарь райкома придет, меня сразу буди. Обязательно. И если случится что — тоже. Не жалей.
Не удалось Темнику даже заснуть. Только стянул сапоги и свалился на топчан, чувствуя полную немоготу, которая оттеснила в едва проглядную даль все мысли и переживания, и тут в землянку вошел радист:
— К вам связной. Первый раз его вижу.
— От кого?
— Мне это знать не положено.
«Вышколен, — подумал Темник, чувствуя, как расслабленность улетучивается и как вновь обретает он способность действовать. — Вот тебе и молод. Не даст связи без Первого».
Повелел:
— Пропусти. И сам побудь у входа.
От Пелипей связной. Из тех, кто втемную использовался. Жил в деревне, землю пахал, скот растил, будто и войны нет и не фашист хозяин. Без видимого недовольства, даже с охотой сдавал все, что требовали от него оккупационные власти, не саботировал, но и для партизан у него всегда припасены бывали продукты. И роль связного охотно выполнял. На этот раз принес устное сообщение и письмо. Семейное письмо. Тоска в нем, что врозь приходится им так долго жить. Связной не был посвящен ни во что, он вполне верил, что служит делу священной борьбы с захватчиками, и, попади он в руки полиции, любые бы выдержал пытки, а сами фашисты ничего не смогли бы, по его мнению, понять, от кого письмо, кому и когда писано. А Темник только развернул его, пробежал по строкам и — все понял. Остался, правда, спокоен. Спросил:
— Какие новости?
— Очень плохие. Каратели готовятся. Полицаи в основном, но и эсэсовцы есть. Самолеты еще запросили. Бомбить, стало быть, базу станут.
— Когда начало операции?
— На рассвете завтра.
— Назад, выходит, не успеешь. Что ж, с нами будешь. Только в бой не лезь. Не дай бог кто из полицаев тебя заприметит. Ты нам как воздух нужен. Без пятнышка. Мужиком-хозяйчиком, кому любая власть сподручна. Понял? Отдыхай иди.
Подождал, пока связной покинет землянку, и попросил радиста:
— Нужно выходить на связь.
— Сеанс пропущен. И потом…
— Я все понимаю, но и ты пойми обстановку. Мне нужно получить инструктаж, что делать с освобожденными. Оружие, наконец, нужно! Сейчас они же — толпа. По экстренному каналу выходи.
— На обычный канал мне хозяин без его разрешения запретил выходить, а экстренный… Нет, увольте!
— Твое упрямство может дорого нам обойтись!
Вышел решительно из землянки. Пусть думает. Последняя фраза в любом споре гвоздем вбивается в сознание. От природы так у человека.
С великим трудом пробуждались уставшие партизаны, а бывших узников команда «Подъем!» встрепенула будто острым шилом. Повскакивали и озираются испуганно: не вдруг привыкнут они к свободе, в новинку она им. Обмякли затем, вспомнив о свалившемся с неба счастье, и стоят, ожидая, чего ради сон прерван. И партизаны подниматься начали. По-мужицки, неспешно. Пули не свистят, чего ж прыть выказывать? Не скакуны они.
— Стройся! — командует Темник. — Освобожденные — на левый фланг.
А фланг этот внушительней правого. Только не бойцы они без оружия. Обуза — вот кто они. Всем это понятно. Но Темник именно с этого начал:
— Душ у нас добавилось изрядно, но силы то же, а нам предстоит бой. Каратели на нас изготовились. Утром заявятся. Самолеты еще вызваны. Ворчали вы, наверное, когда велел я маскировать лагерь, а не зря, выходит. Поступим сейчас так: начальник тыла Акимыч еще раз маскировку землянок и траншей проверит. Все освобожденные — в его распоряжение. Остальные — в распоряжение начальника штаба. Мой резерв — десять человек с двумя пулеметами.
На остров, к Кокаскерову, повел партизан сам. Велел все собрать, во что можно набивать землю: мешки, матрасовки, плащи, телогрейки и даже исподнее, у кого запасное есть. Глубокие окопы рыть нет уже времени, а куль земляной — защита добрая от пуль и осколков. Правда, от бомб — тут как бог распорядится, но бомб много ли будет, а пули, известное дело, роем полетят. Автоматы — скороговористые штуки.
Вернулся к полуночи. Зажег коптилку и — за письмо. Теперь уже основательно. Каждую фразу перечитывал, стараясь ничего не упускать. И страшно стало от понимания того, что едва не разоблачил его и Пелипей секретарь райкома. Убрали всех: священника, сторожа и, конечно, секретаря райкома. Не вернется в отряд и «глаз шефа». Доброе дело сделал он и получил повышение.
Вполне понятным Темнику становился строгий приказ Первого не выходить на связь с центром без его личного распоряжения. Его, Темника, опасался Первый. Его подозревал. Верхоглядел, выходит, он, Темник, не все учитывал. И еще неведомо, чем этот срыв окончится? Если шеф-щеголь предположит, что подозрения секретаря райкома известны многим, он либо всех их уберет, либо…
«А не грядет ли расплата?! Самолеты вызваны!..»
Нет, не до сна ему теперь было. Во всем он видел опасность, даже в том, что послан к нему не верный им связной, а болванчик. Приберегли того, своего.
«Все! Конец!..»
Так и не смежил глаз Темник, с замиранием сердца ожидая начала стрельбы или самолетного гула. Они, самолеты, и исполнят волю шефа. Не верил даже письму, где Пелипей сообщала, что с рассветом начнут наступление каратели, а самолеты прилетят значительно позже. Но, когда в им же установленное время дежурный, постучав для успокоения совести, вошел в землянку, Темник не вскочил, а прикинулся спящим, заставив трясти его за плечо. Логично все: переутомился. Поднял наконец голову и, будто войдя в реальность, быстро вскочил и начал одеваться. Приказал торопливо:
— Подъем всем. Живо! Акимыч пусть уводит освобожденных к старой гати. Если что — первыми уходить станут. Остальным — в окопы. Боеприпасы все рассредоточить по окопам и траншеям. Впрочем, постройте отряд.
Вышел на поляну, повременив чуток. Подождал, пока не успокоятся шеренги, и повторил все то, что приказал дежурному. Закончил просьбой-предупреждением:
— От нас зависят жизни — и наша, и освобожденных. Все делать нужно быстро и точно. Стоять насмерть, если нужда определит. Всё! По местам.
Не сразу повел Акимыч бывших военнопленных к тыльному болоту, вначале заставил разносить боеприпасы по окопам и траншеям, к пулеметным гнездам и, лишь когда опустела вовсе землянка-склад, скомандовал:
— Ну, с богом! Пошли.
Еще два часа, непонятно долгих, беспокойных, в жуткой тишине. Хотя какая вроде бы тишина в лесу — заливаются птахи неумолчные, да только не слышит их Темник, уши его туда, где заслон, нацелены. А там — тихо. Солнце уже пригревает, ласкает нахмуренно-озабоченное лицо, только зря старается: не тепло и ласка видятся Темнику сейчас, а только факт, что день грядет, а там, впереди, тихо.
Наконец застрекотало вроде бы. Точно. Винтовки хлопают. Пулеметы, кажется, тоже затараторили. Утихло потом все. Добрых полчаса прошло, прежде чем вновь ожил остров засадный. Вот уже и гранаты заухали. Это плохо. Близко, выходит, подошли каратели.
Вновь замолкло все. Неужто смяли заслон?! Через час здесь тогда будут. Нет, вновь ожили автоматы, винтовки и пулеметы.
«Слава богу!..»
Орудие надрывно кашлянуло в дальней дали — голову даже втянул Темник. Взрыв. Там, где заслон.
«Слава богу!..»
Еще. Еще. Еще. И самолеты летят. Над базой разворачиваются. Сейчас бомбами сыпанут, и — всё! Нет, уходят. К заслону. Туда начали швырять щедрые пригоршни смертоносных гостинцев. Даже здесь почувствовалось, как ходуном заходила болотами подточенная земля. Но Темник не о тех думает, кто оказался на ладошке перед налетевшим с воздуха врагом, для кого лишь одна защита — болотная податливость земли, которая как бы засасывает бомбы, ослабляя тем самым их убойность; он снова обдумывает разговор с радистом и выжидает подходящий момент для того разговора. Намерения у Темника одни — драматизируя ситуацию до предела, напугать молодого парня как можно сильнее и в конце концов дожать.
На очередной заход пошли самолеты. Сейчас вновь сыпанут. Темнику как раз этого и надо. Поспешил к радисту и разговор начинает с места в карьер:
— Ты молод, еще не представляешь себе, что такое людская ненависть, и я бы не хотел, чтобы ты познал ее. Но, похоже, тебе этого хочется. Не возражай! Верно — принимать решение тебе, только послушай прежде. Слышишь — бомбы рвутся. Это люди гибнут! А если они погибнут все? Да, мы встанем здесь второй стеной! Но сколько нас? Да, Акимыч уведет по болотной топи тех, кого мы освободили и защитим ценой своей жизни, а дальше что? Они вновь окажутся у фашистов в лапах! Ты не знаешь, что такое плен, — я знаю! Не приведи господи!
Молчит радист. Не перечит. В этом уже надежда. Темник еще жмет:
— Мы не знаем даже, где секретарь. Вдруг у фашистов. И выдал все.
— Не может быть! Он такой сильный!
— Может. Все может. Он здесь сильный. А там? Там, молодой человек, пытают. Пытают!
Самолеты, заходя на новый круг, вновь пролетели над базой с прерывисто-жутким гулом. Сейчас сыпанут! Нет! Слава богу, мимо. К острову ушли, где заслон.
Осерчал вовсе Темник. Отчитывает радиста:
— Когда я требовал замаскировать базу, сомневались многие: зачем, зачем?.. Не убеди я людей, не заставь — теперь бы щепки одни от всего этого остались. Упрямство, когда нет военного опыта, пагубно.
— Наверное, вы правы. Но давайте так… Я вызову от имени хозяина?
Нет, не устраивала подобная уступка Темника. Завтра утихнет все, и снова его не впустит этот юнец в землянку. Не годится такое.
Упрекнул:
— Врать — самое наиподлейшее дело в жизни. Нет секретаря райкома, значит — нет. Доложи об этом. Доложи и что обстановка критическая. Получи разрешение передавать мои донесения. Пока не вернется Первый.
— Ладно. Вызываю по экстренному каналу.
Для тех, кто принимал радиограмму, Темник был известен. Секретарь райкома передавал, в каком партизанском отряде он обосновался, поэтому согласие на связь с ним поступило сразу, а затем последовало и решение: освобожденными пополнить партизанские отряды района. После того как будут отбиты каратели, прилетит самолет с оружием, боеприпасами и продуктами. Раненых и больных он заберет.
Ликует Темник. Есть связь! Есть! Его фамилия там, в центре! Теперь, если что, а сводки не очень утешительные, на шефа-щеголя можно махнуть рукой. С Пелипей, правда, как быть? Жена как-никак. Вдовцом остаться? Видно будет. Сделано главное: есть связь. Только не пошли бы полицаи и эсэсовцы дальше острова, не смяли бы заслон.
Откуда знать было Темнику, что все шло по плану, прежде разработанному фашистами: он, Темник, работал не столько на сегодняшний, сколько на завтрашний день. И сам он нужен был им не только сегодня, но и «после 12-го часа».
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Празднично начался день для Владлена и Лиды, празднично и закончился. Все сложилось удачно до неправдоподобности. Еще накануне выползла на небо черная туча, ворча сердито на испепеленную жарой степь, а та в ответ взвихривала непроглядную едкую пыль, словно старалась вымолить у тучи снисхождения и благодати. Снизошла туча, сжалилась, полилась струйно на иссохшую землю, раскатисто хохоча и вспыхивая радостью за щедрость свою. Едва зенитчики успели зачехлить орудия до ливня, а потом долго стояли под дождевыми потоками, наслаждаясь долгожданной прохладой. Миновала гроза, громовые раскаты уже утихли где-то за горизонтом, но не обласкало солнце досыта напоенную и выкупанную степь, небо так и не прояснилось, нудная серость нависла от горизонта до горизонта, и заморосил нудный дождик, словно осень наступила.
Радостен он для зенитчиков. Ох как радостен! Полное они имели право расслабиться, не боясь проглядеть фашистские бомбардировщики. И молят все, чтобы не только вечер моросил дождь, но и ночь. Пусть даже и следующий день — чем дольше, тем лучше.
Только у комбата свое есть по такому случаю желание: ему солнце подавай, чтобы проселки высушило. С утра еще ушли три машины за снарядами и патронами, а по грязи вряд ли смогут пробиться к хутору, обложенному со всех сторон степью. Но небо соблаговолило ублажить не комбата, а всех остальных, хотя они не командиры и уважения, стало быть, достойны меньшего. Не понять было утром, где кончается степь, где начинается небо — все слилось в серое однообразие. И никаких звуков. Безмолвный дождик. Промозглый.
Комбат сокрушается:
— Боезапас на нуле без малого. А ну налетят?..
— Куда им! — успокаивают его «старики». — Не бывало еще такого, чтобы в тучах фашист летал. Белоручка он. Хотя и вояка.
— Так-то оно так, — соглашался комбат, — только неспокойно на душе, когда запас мал.
— Пробьются. Особенно Иванов. Он как по маслу по этакой слякоти…
Все так и вышло. Огорил ефрейтор Иванов грязюку, привез снаряды и патроны, опередив всех, но главное — почту доставил. Потому и спешил. Богусловскому первому вручил письмо.
— От родителей. С Дальнего Востока, — сообщил он и еще постоял рядом, наблюдая, как тот поспешно вскрывал конверт. Вздохнув, добавил: — Не терпится узнать, благословили аль нет?
Теплилась у самого мысль: вдруг упрямство проявят.
Если Иванов упрямства того ждал с тайной надеждой, то Богусловский просто боялся его. Истосковался он, ожидая родительского благословения. Все передумал. Недобрые даже мысли в голову лезли, обидные. Вот и разрывал лихорадочно конверт.
После того ночного объяснения в любви их с Лидой водой не разлить. Чуть свободен час — вместе уже. Еле-еле расстанутся после отбоя, чтобы в своих землянках продолжать думать друг о друге. Уж ни для кого на батарее не секрет их любовь, но ни разу никто их не вышучивал, не позубоскалил никто. Видели: чисто и всерьез. Не просто фронтовой романчик командира с подчиненной, какие часто встречаются. Война, дескать, все спишет. Нет, здесь так, будто мирное время. Комбат даже не выдержал, посоветовал им жениться официально, чтобы, значит, лейтенант Богусловский подал, как положено, рапорт. Владлен рад такому приказу, да и Лида не перечит — только, как она определила, после совета с родителями.
«— У меня дедушка в Москве, — обрадованно сообщил Владлен, будто совершенную новость, хотя рассказывал о нем не единожды. А с ее родителями он вроде бы давно был знаком, привык к ним, так много наслушавшись ласковых Лидиных рассказов о них. — Поедем к твоим и к дедушке!»
«— Хорошо».
В Москву повез их ефрейтор Иванов. По той же самой дороге, по которой вез растерявшегося лейтенанта. Но и он не тот, да и дорога иная, не втиснутая в обтаявший снег, узкая и колдобистая, — теперь за опушкой стелилась она до самого шоссе посеревшим от сухости полотном, отороченным яркой желтизны мехом из мать-и-мачехи. Завораживает.
Выпрыгнул Владлен из машины, нащипал споро букетик и подает Лиде:
«— Цвет любви!»
«— Да. У древних так он почитался…»
Прижала к губам букетик и примолкла, вовсе не внимая тому, о чем балаболил почти без умолку Иванов. Тщетно и Владлен пытался втянуть ее в разговор. И только когда миновали последний перед въездом в Москву контрольный пункт, спросила ефрейтора Иванова:
«— Староконюшенный не по пути?»
«— Крюк невелик. Только не пустят через Садовое. У Бородинского моста высажу. Лады?»
«— Лады, — с улыбкой согласилась Лида. — Другого выхода нет».
С почтением вступил Владлен на мост. Нет, он в тот миг вовсе не думал о том, что по нему проезжал Кутузов после Бородина, шли русские молодцы-солдаты, сломившие наполеоновское войско на Бородинском поле, что по нему проходили красногвардейцы-рабочие бить беляков, защищать свою власть, а в ноябре сорок первого суровые колонны, сбив ногу, но не потеряв равнения, двигались и двигались на запад, чтобы бить смертным боем фашистов, — нет, Владлен был занят вовсе иным: он пытался представить отца и мать невесты, искал верный тон разговора с ними, воображая самые неожиданные варианты, но собранность, чувство причастности к великому, к ратной истории России (он же тоже защитник Москвы) жило в нем и волновало его независимо от его сиюминутных мыслей.
Лида тоже молчала, и Владлена удивляла та уверенность, с какой шла она домой за родительским благословением, вовсе не зная, дома ли они. Писем, как знал Владлен, она не получала, а другой связи в то время не существовало.
Он долго не решался спросить об этом Лиду, но в конце концов осмелился:
«— Ты думаешь, дома твои отец и мать? А вдруг…»
«— Дома, — с поразившей Владлена грустью ответила она. — Дома. — Вздохнула, еще больше озадачив Владлена, но через малую паузу, словно не было у нее никакой грусти, не было никакого вопроса, заговорила тоном учителя или экскурсовода: — Любуйся. Смоленская площадь. Возникла она, скорее всего, когда вернула Русь в свое лоно Смоленск, вызволив его из рук ливонцев. А может, позже, когда стал он щитом Москвы от захватчиков с Запада. Каждая улица Москвы — наша с тобой история, наша древность…»
Древностью здесь вовсе не пахло. Будто инкубаторские близнецы, коробки с ровными рядами однообразных окон никак не могли претендовать на древность. Они и строились-то, видимо, тогда, когда возникло многоголовое и многоликое чиновничество, которому по карману были лишь меблированные комнаты. И теперь в них, видимо, живут те же люди, только называются они иначе — совслужащими. Все это не древность.
Дома старинной кладки, после наполеоновского горения, стали попадаться позже, на более старых улочках и переулках Москвы, по которым Лида вела, петляя, Владлена. Он шел послушно рядом, вовсе не думая, что к Лидиному дому есть совсем короткий путь, но она медлит, оттягивая трудные для себя, да и для Владлена, как она разумно считала, минуты.
Привела все же суженого Лида к своему дому. Толстостенный, с мощным фундаментом из нарочито грубо обработанного гранита. Основательно стоит. Внушительно.
«Купца-первогильдийца, должно быть», — определил Владлен, но, когда вошел в вестибюль, изменил свой скороспелый вывод: даже намека здесь не было на купеческую безвкусную основательность. Наоборот, царила здесь изящная гармония мрамора, гипса, гранита, дуба и потемневшей при непригляде меди. И странное дело: темная, местами с прозеленью медь эта нисколько не создавала впечатления запущенности.
«— До войны здесь у нас было так прекрасно, так весело! Танцы под патефон, игры разные. Для мужчин — шахматный столик. Старинный, мраморный».
Промокнула платочком повлажневшие глаза и решительно пошагала по ступеням, позвав требовательно Владлена:
«— Пошли».
Никак Владлен не мог себе представить, что в этом тихом-тихом доме есть кто-либо живой, есть родители Лиды и они встретят их радостными восклицаниями. Не верилось в это. Противоестественным сейчас прозвучал бы здесь любой громкий, а тем более радостный голос. И чем выше они поднимались, тем все более неуверенно чувствовал себя Владлен, продолжая все так же приноравливать свой шаг к Лидиному. Вопросов не задавал.
Остановилась Лида у обитой темно-коричневой кожей двери, поглядела на звонок, еще более погрустнев лицом, достала ключ и, отперев дверь, пригласила:
«— Входи».
Темно и тихо. Застойный тлен. Давно не жилая квартира. Какие тут родители?!
А Лида, посторонив его, растерявшегося, озадаченного, прошла в комнату, отдернула тяжелые бархатные шторы, а затем и черную светомаскировочную занавеску — косые лучи резанули затхлую тишину комнаты, высветив белесую пыль на зеркальной мебели, на картинах и на портретах молодых мужчины и женщины, висевших, словно иконы, в переднем углу в толстых багетовых рамках.
Лида подошла к портретам и встала, низко склонив голову:
«— Здравствуйте».
Всего мог ожидать Владлен — только не этого. Мистика! Никак не решался переступить порог комнаты и ждал, не покличет ли его Лида.
Не зовет. Стоит согбенная, до боли жалкая. Не Лида вовсе, а совсем иная девушка, бесформенно-сырая. Комок к горлу подступил у Владлена. Осторожно, чтобы не топать каблуками тяжелых яловых сапог, подошел Владлен к Лиде. Положил руку на плечо. Она повернула голову, грустные глаза ее вспыхнули светлостью, прижалась к нему с такой же робостью, как прижималась на позиции, когда выныривал из темной темени наш истребитель и прошивал смертельной очередью фашистский самолет, закрещенный прожекторными лучами. Как и тогда, теперь тоже пугливо вздрагивала.
Молчали. Владлен успокаивающе поглаживал Лидино плечо, смотрел на портреты ее родителей — не изучал, как делал бы это зрелый мужчина, а просто смотрел, вовсе не пытаясь понять ни их характеров, ни их интеллекта; он понял лишь одно — что отец Лады из высшего начсостава, а мать — женщина интеллигентная, и этого ему было вполне достаточно. Спросил только:
«— Где они?»
«— Отец — в Испании. Никогда не вернется. Мама не пережила известия. Сердце», — ответила Лида и будто поперхнулась вздохом, закашляла и зарыдала.
Владлен подхватил ее на руки, уложил на обитый золотистым бархатом диван, не зная вовсе, как успокоить ее. Стал целовать.
Утихла Лида так же вдруг, как и разревелась, и Владлен, в какой уже раз, подумал, даже с завистью: «Волевая!»
Потом они вновь прикрыли окно светомаскировочной занавеской, хотя делать этого не нужно было вовсе — света в квартире некому зажигать, задернули тяжелую штору и только после этого покинули негостеприимную квартиру. И чем дальше от нее уходили, тем спокойней становилась Лида, все чаще одаривая Владлена любящим светлым взглядом, успокаивая его. Владлен понимал ее: она давно пережила горе, свыклась с ним, и возврат к прошлому не может теперь быть слишком болезненным. Он понимал это, но на душе у него от этого понимания не становилось легче: он-то впервые соприкоснулся с трагедией, которая прямо-таки потрясла его, а он никак не мог прийти в себя, вновь и вновь, от начала и до конца, переживал все услышанное и увиденное. Жалость к любимой такая, хоть вой.
Лида поняла, должно быть, состояние Владлена и начала рассказывать о родителях, чтобы отвлечь его внимание:
«— Хорошие они у меня. Особенно отец. Мать на руках носил. Никогда грустным я его не видела. Счастливой была мать. Любая женщина, если умная и чуткая, конечно, будет счастливой с таким спутником жизни…»
«— Кто он был у тебя?»
«— Начальник. Крупный начальник. О работе никогда не говорил. Занавес приоткрыл дядя. Я в разведку собиралась. Чтобы к немцам в тыл. Языком их в совершенстве владею. А дядя мне: по стопам отца?! Похвально, говорит, только нет тебе моего разрешения. Ты, говорит, одна от всего нашего рода. Ты, говорит, должна жить. Дядя, старший брат папы, в нашем же доме жил, двумя этажами выше. В эвакуации сейчас. С наркоматом своим. Нет у них детей, вот он и опекает меня. Совсем ослушаться не смогла я дядю, не в школу радисток пошла — в ПВО. И благодарю судьбу за это: не встретился бы ты иначе».
Отходил душой Владлен, слушая Лиду. Сам тоже о родителях стал рассказывать. И о дедушке-генерале, к которому лежал их путь. Отходчива молодость. Переменчива. Вскоре их заботило только одно: как встретит их старый, заслуженный человек, согласится ли на родство с вовсе ему незнакомым кланом, благословит ли? Старорежимный дед со старорежимным пониманием семьи.
Лида уже представляла, по рассказам Владлена, Семеона Иннокентьевича, но, когда увидела его, почувствовала себя неловко: перед ней, молодой, ладной, здоровой и сильной, стоял совершенный старик, и лишь с великой фантазией можно было представить его респектабельным генералом. Да что Лида — Владлен, видевший деда не так уж и давно, тоже глядел на него с жалостью. Богусловский-старший, как его привычно называли в их семье, сейчас походил на пятерик, который опорожнили почти полностью, но не дали осесть, вот и обвис он тощими, жалкими складками, — только взгляд деда оставался по-прежнему достойным, внушающим уважение.
Приветливо и без тени смущения (он-то привык к себе и не видит себя глазами молодых, оттого и не удручен своим состоянием) приглашает жданных гостей Богусловский-старший:
«— Проходите, проходите. Здравствуй, внучек! И ты, Лида, здравствуй! Ишь ты, кровь с молоком. Война не война. А ты, Владлен, истинно муж. Я уж тут, как сумел, стол накрыл».
Вот тебе раз! Не писал же он, Владлен, ничего деду о Лиде. Да и о том, что приедет сегодня, известия не послал. Думал еще: вдруг дед по какой-нибудь надобности выйдет из дома — ждать придется. Ключа у него не было. Кто-то оповестил, выходит. Не Иван ли Иванов?
«— Шофер-ефрейтор заглянул, — продолжал Богусловский-старший, снимая тем самым все вопросы, — продуктов гору приволок. И о тебе, Лида, рассказал. Так ладно, словно сам свататься намерен».
«— Не равнодушен он, Семеон Иннокентьевич, ко мне, — просто, без рисовки, пояснила Лида. — Он признался мне. Прежде, когда еще Владлена не было. Иванов — отличный парень. Но…»
Богусловский-старший был покорен окончательно и бесповоротно и откровенностью девушки, и, что особенно важно, обыденностью тона, словно говорила она о чем-то постороннем, вовсе ее не волнующем, значит, безразличен ей тот молодой человек, значит, любит она только Владлена и станет вполне ему верной спутницей — такой вывод сделал старый человек, много проживший и повидавший на своем веку. Потеплел его взгляд, уважительней стал.
Совершенно по-иному отреагировал на откровение Лиды Владлен. Ревность возмутила его: Иванов знал о гибели Лидиного отца, а он, жених, — нет. Получается, Лида была откровенней не с ним, Владленом. Отчего?
Совсем немного мучился этим вопросом Владлен — Лида, словно угадавшая его мысли, продолжила:
«— Письмо он дяде отвозил, тот ему и рассказал о сиротстве моем. Тогда Иван у дяди руки моей попросил».
Все просто. Все буднично. Нет, она без всякого волнения рассказывала обо всем, потому вскоре Владлен совершенно успокоился и, видя доброе расположение деда к Лиде, уверился, что получит от него благословение и сегодня же отпразднуют они помолвку, благо, стол действительно был изобилен.
Богусловский-старший, однако же, разочаровал внука:
«— Ладная пара, думаю, из вас получится. Поздравить — поздравлю от чистого сердца, а коль скоро вам благословение нужно, пишите письмо матери с отцом. Ну и я от себя отпишу…»
Лида согласилась без колебания:
«— Верно. Подождем ответа».
«— Лида! Война же!».
«— Если нам суждено погибнуть и если есть рай, мы там с тобой станем жить вечно. А пока живы — подождем. Да, Владик, подождем».
И они ждали. Сошел уже снег, их батарею перебросили на юг, в донские степи, ниже Медведицы, и определили позицию недалеко от одинокого хутора. Поначалу жизнь текла непривычно спокойно, потом фашистские самолеты стали чаще и чаще полосовать небо, и пошла прежняя горячка. Смерть витала рядом, а письмо все еще кочевало по сложным почтовым трассам, и вот только сегодня Владлен прочитал долгожданное: «Твой выбор — наш выбор. Желаем вам, дети, счастья…»
Лида рада не меньше Владлена. Она уже не раз жалела о своем решительном слове ждать благословения, она даже Владлену сказала об этом в один из вечеров, когда их, как часто это делали зенитчики, оставили в землянке одних, но тут же, чтобы он не принял ее признания за слабость, за отказ от своего решения, повторила: слово дано — надо его держать. Сегодня они могут устроить пир, тем более что само небо предоставляет такую возможность.
— Идем к комбату! — лучась радостью, предложил Владлен Лиде. — Сейчас и объявим!
— Да. Пошли.
Они не дошли до землянки комбата и увидели его, спешившего им навстречу. Взъерошенный какой-то — куда подевалась его степенность! Он даже не заметил возбужденности у Владлена и Лиды. Заговорил, не сдерживая эмоций:
— Кричи «ура»! Батарею принимать тебе велено. У меня. Я — на полк. На наш. Это особенно хорошо. Все свои, всех знаю. И меня знают. Сегодня к исходу дня велено отбыть.
Радость на радость, воспринять бы это с ликованием, а Владлен погрустнел. И Лида сникла. Только когда комбат понял, что шли они к нему, и догадался, с какой целью, спросил:
— Свадьбу играть намерены?
— Да. Только вот… Проводы.
— Объединим. По мне слез лить не следует. На повышение иду. Вот и не будет на нашем празднике грусти.
И в самом деле, не было вовсе грусти: гармонь, гитара, балалайка и мандолина почти не умолкали. Патефону играть времени выделено было совсем мало. Иванов заражал всех своей неудержимой веселостью, солировал на гитаре, дирижировал оркестром, плясал, сыпля прибаутками, и только один раз заволокла печаль светлые очи его, когда пригласил Лиду на танго:
— Прошу. Не заревнует суженый твой, надеюсь? — Пригладил пятерней вихрастый чуб, щелкнул каблуками в полупоклоне, а взгляд вновь уже задиристо-весел, чело безмятежно-светлое. — Прошу.
Хоть и долог день летний, только летят минуты и часы стремительно, когда беспечен ты и счастлив. Подошла пора комбату прощаться. Поднял он кружку, и все притихли.
— Одно у меня желание: живите дружно пока в моей, теперь уже по праву вашей землянке, потом в других, в какие фронтовая судьба забросит, но самое главное — доживите до победы. Деток нарожайте. Сынов. Только пусть минет их военная профессия. Строителями пусть станут. Созидателями. Мир настанет на земле! Как славно будет!
Сомкнулись фронтовые кружки. Порывисто, страстно. Да, они вполне верили, что наступит великий мир — стоит только одолеть фашизм.
Блажен, кто верует, — так разумно говаривали в седую старину предки наши. И то верно: разве до анализа будущего было им, фронтовикам? Они верили в разум, они, сами убивавшие, не принимали великого кровопролития ради бредовых идей кучки маньяков. Фашизм им представлялся исторической нелепицей, случайной и жестокой нелепицей, против которой поднялось на земле все разумное, и даже то, что так называемый второй фронт все еще не открыт, они воспринимали без заметной досады, соглашаясь с теми оправдательными доводами, какие измышлялись союзниками, — не ведали они, что зловещий гриб Хиросимы насторожит мир, разделит его еще более резко на Восток и Запад, а военная профессия, хотя и не будет столь необходимой и популярной, останется все же весьма нужной стране еще многие десятилетия. Но они верили в послевоенный безмятежный мир искренне, оттого так дружно сдвинули фронтовые кружки с разведенным спиртом. Им жадно хотелось мира, за который безмерно лилась людская кровь.
А еще им хотелось, особенно молодой чете Богусловских, чтобы дождь не прекращался хотя бы до утра. И вслух об этом сказал ефрейтор Иванов, как бы приземлив тем самым вселенский тост теперь уже прежнего комбата:
— Говорят: все, что начинается в дождь, благодатно. Пусть он продолжает моросить.
В руку, как говорится, тост. Не вызвездилось небо до самой ночи, ничто не предвещало изменения погоды к лучшему. Хорошо вроде бы все складывалось. Увы, не прошла ни для молодого комбата с юной женой спокойно ночь, ни для всей батареи, и многим из зенитчиков так и не суждено было увидеть бездонное южное небо и ощутить степную приятную жаркость. Но не небо стало тому виной, а земля.
Что мог знать командир зенитного взвода или даже командир зенитной батареи о положении на фронте? Не очень много. Что создан Сталинградский фронт — известно. Что, как ни старались 62-я и 64-я армии удержаться на реках Чир и Цимля, им это не удалось, оттянулись они за Дон и вроде бы прочно встали — это им тоже известно. Знали еще, что у гитлеровцев самолетов — тьма-тьмущая и они, зенитчики, здесь для того, чтобы на так называемом внешнем обводе оборонять воздух Сталинграда. Но неведомо было ни взводному, ни комбату, что фашисты закончили уже переброску с кавказского направления на сталинградское танковой армии и передовые части ее уже вышли к Котельниковскому, угрожая прорваться к городу, а чтобы этого не произошло, срочно усиливалась оборона юго-восточного направления, готов уже был приказ о создании целого фронта — не знали они, что им, зенитчикам, придется сойтись лоб в лоб с вражеской колонной. И не по приказу свыше сделают они это, а по долгу солдатскому, по велению чести.
Приказ Владлену Богусловскому поступил иной: срочно сниматься с позиции и двигаться к Сталинграду форсированным маршем, На восточную окраину. Для отражения налетов с воздуха на переправу «номер один». Он поступил вскоре после того, как проводили Владлен с Лидой комбата (в пути тот еще был, не принял еще полк) и вернулись в землянку, теперь уже свою, где все уже было прибрано, и ждала их первая брачная ночь.
Увы, землянка так и осталась для них чужой, неприютной. Последнюю свою службу сослужила — собрала под свою крышу командиров взводов и старшину.
Богусловский был краток:
— Приказано сниматься. На сборы — час. Маршрут: Сталинград. Вопросы?
Много их, вопросов разных, только к чему воду в ступе толочь. Велено если, — стало быть, так нужно. Там, в штабах верхних, знают, как силы наличные расставить. Избыток был бы в них — не так перетасовывали бы. А тут, чтобы и овцы целы были, и волки сыты. Поднимаются взводные и — к выходу. И вот тут как раз доклад поступил от передовых постов наблюдения: по дороге к хутору двигается колонна гитлеровцев. Две танкетки и три грузовика с пехотой. В час по чайной ложке, правда, буксуя в грязи, но не останавливаются. Вдали, кроме того, слышен гул танков.
— Да-а, закавыка… — растерянно протянул молодой комбат, но тут же решительно заключил: — Придется встречать! — И к взводным: — Как думаете, командиры?
Думать мог каждый по-разному, но кто же станет перечить комбату, коль скоро тот врага бить предлагает? Скажи «нет» — в трусах ходить станешь.
— Наблюдателей и разведку срочно снимем. Все орудия — на прямую наводку. Небо пока безопасно. Пулеметы — тоже все по наземным целям. Решение наше докладываю в штаб полка.
Там знали о наступлении немцев с юго-запада, оттого и менял боевые позиции полк так спешно, но то, что передовые немецкие колонны вырвались так далеко вперед, для них явилось полной неожиданностью. И решение молодого комбата озадачило. Погибнет батарея. Как пить дать — погибнет. А это значит — реже станет зенитный щит над переправами через Волгу, так сейчас нужными, но отменить решение комбата полковое руководство не осмеливалось. Командирам, особенно такого ранга, хорошо было известно, что многие подразделения и даже части не рискуют обороняться в степи, откатываются, как только начинает прижимать фашист. Оправдывают свои действия тем, что у Волги стеной встанут. И определение этому появилось: «текучесть бойцов от линии фронта». Мягкое, обтекаемое определение, из донесений для большого начальства, видимо, взятое, но низы-то знали, что не так обтекаема и безобидна подобная «текучесть». От нее до паники — один шаг. А тут добровольно люди готовятся к бою. Как не поддержать?
За гибель батареи, однако, по головке тоже не погладят. Что важней для обороны Сталинграда: героическая гибель зенитной батареи или она сама, действующая, прикрывающая одну из переправ, — вот в чем вопрос, в чем закавыка. А комбат на связи. Ждет слова поддержки. Оперативней соображать нужно.
Ответственность берет на себя комиссар, ибо нет еще командира полка, начальник же штаба колеблется. Приказывает:
— До последнего снаряда держитесь, до последнего патрона. Постараюсь направить помощь.
— Спасибо, — совсем по-домашнему ответил Богусловский, вполне понимая, что не так долго протянется бой, чтобы успела поддержка. С воздуха? Вон небо какое! Степью? Утопия!
Готовность к фатальному исходу чести воинской ради — это, конечно же, похвально, но для чего же прежде времени похоронный марш играть? Кто скажет, что будет через миг, а не то чтобы через час.
В землянку вошел ефрейтор Иванов. Лише лихого фуражка сдвинута на затылок.
— Деловое предложение есть: взорвать мостик…
— Какой?
Богуславский не ездил по степной дороге, что шла от хутора, как Иванов, оттого и вопрос задал. Ему с боевой позиции степь казалась бесконечно ровной — глазу не за что зацепиться. Хутор и сады вокруг него — что пятно родимое на голости тельной.
— Да тот, что через овражек болотный. Он по сухоте и то не очень для техники проходим, а нынче там и пехоте, должно, по самые пупки. Вот и рвану его. Иль не видели? — На «вы» перешел. Комбат как-никак. — Километр всего.
— Мысль дельная. Сколько тебе в помощь?
— Никого. Сам. Мин дюжину в кузов и — на мост. А там…
— Ты что надумал, Ваня?! Иначе как-то бы?
— Не надежно иначе. Заметят если фрицы, что минируем, — впустую все. А так — в лоб. Вернусь небось. Ну а если что… Тебя ради, Лида. Не время тебе гибнуть. Детишек нужно рожать.
— Нет-нет, ты непременно возвращайся. Осиротеет без тебя батарея. И я так привыкла к тебе…
— Как выйдет. Помирать никому охоты нет. А суждено если, сына Иваном назовите.
Лида подошла к нему и нежно, как мудрая мать, поцеловала Ивана. У самой в глазах слезы. И доброта с жалостью перемешанная.
Да, если выполнит задуманное ефрейтор Иванов, бой может и не скоротечно пойти. Их на батарее всего ничего, но и фашистов нетучно. Оттянется время похоронного марша.
Вот уже доложили взводные, что готовы вести огонь по наземным целям, но не сложили зенитчики руки, ожидаючи врага, принялись соединять меж собой щели, создавая единую систему обороны, хоть и темень запеленала степь. Притерпелись к ней. Торопятся, поглядывая на запад, не сверкнут ли фары немецких машин.
Но темна и тиха степь, и уже заговорили меж собой зенитчики, вполголоса правда, не ошиблись ли, дескать, разведчики и наблюдатели. Радостно, конечно, если так. Позубоскалят тогда над ребятами, и — баста. Подуют на мозоли и вновь примутся за свое привычное — небо веснушить, крылья подрубать громоголосым стервятникам. Но и иное представляется: утром подкатят. Они, далекие от понимания законов передовой, слышали все же, что немецкая пехота не воюет по ночам. Поспят вволю, позавтракают, а уж тогда подкатят: встречайте гостей. Вот и продолжают торопко копать бойцы, сопят старательно, но нет-нет да и разгибает спину то один, то другой. Не от усталости. К степи прислушиваются. В степь зоркие взгляды бросают, в непроглядную, а то и в столь же непроглядное небо: не мигнет ли где звездочка, отыскав разрыв в плотности тучной?
Все в ажуре. Моросит беспрестанно, звезд нигде не появляется — затянуто, значит, небо, нелетное оно, а степь тоже успокаивающе тиха.
Богусловский, склонившийся к мысли, что до утра немцы не подойдут, дал команду старшине подобрать группу бойцов в помощь ефрейтору Иванову. До утра они успеют взорвать мостик и вернуться. Группа эта собиралась, и комбат решил, отправив ее, распорядиться, чтобы отдохнули пару часов бойцы перед боем, но ни взрывники не ушли к мостику, ни передышки зенитчикам не вышло. Передовое вражеское подразделение спешно двигалось и в ночи без сна и отдыха, и вскоре на батарее увидели короткие, от фар до земли, острошильные полоски света, услышали рокот моторов.
Медленно приближалась колонна, но — приближалась. Зенитчики заработали спорей: чем глубже окопы и сообщения между ними, тем больше шансов не попасть под шальную пулю, под шальной осколок. А судя по всему, часок им еще отпущен. Знали все, что Иванов увел свою машину к мосту, но не верили в возможную от того длительную задержку. Не река вольная, безмостая поперек встанет, не Дон. Дон, его и то перешагнули, а тут — низинка плюгавая. Пройдут.
Какой спрос с артиллеристов — не шофера́ они, оттого и не ведают, о чем судачат, о чем мысли держат. У Иванова же — точный расчет: не станет моста — не пробьется ни одна машина через низину, пока дождь; вот и притаил машину свою за осокой, высокой от добротной влажности, по самый пояс. Ждет, когда миг его настанет. И так, и эдак прикидывает, чтобы, значит, и мостик взорвать, и живым остаться, но хлипко все получается. Самое точное — рвануть машину, когда танкетка на мост уже вползет. И — в лоб ей. Куда она денется? Спятиться не успеет, а по тормозам если — польза ей от того совсем малая: все одно знатный таран получится, полыхнет все, щепки от мостика останутся. А пока очухаются от перепуга, пока сунуться в низину попытаются (на это рассчитывал Иванов) да поймут, что непроходима она, утро подоспеет. Тогда с батареи не дадут мост восстановить. Не только из орудий достанут, но даже из пулеметов. А там… Должна поддержка подоспеть. Доложено же в верхи. К Сталинграду идут. Неужели нет резервов перекрыть им дорогу? Есть! Как не быть!
«Останется доброокая любовь моя жить! Должна остаться!..»
Для батареи взрыв на мостике прозвучал окончательным сигналом готовности к бою. Все заняли свои расчетные места, взводные доложили о полной готовности вести огонь, и Богусловский, не зная, что предпринимать в дальнейшим, велел передать по окопам и на позиции орудий и пулеметов, чтобы не курили, не разговаривали громко, не стучали.
— Если сейчас пойдет колонна по дороге — подпустим совсем близко. Фактор неожиданности многое даст нам. К тому же огонь автоматов убойней с близкого расстояния.
Сам подумал с тоской: «Много ли их, автоматчиков? Гулькин нос».
И еще подумал: верно ли поступил, оставив людей на явную гибель? Воспользовался правом командира распоряжаться их судьбами и жизнью, но разумно ли? Что сможет одна батарея? Прихлопнут ее, как комара. Возможно, сняться? Пока немцы мост наводят, батарея далеко уйдет. Доложено же в полк, а полк — дальше. Примут, кому положено по штату, надлежащие меры. И взводные еще не ушли, ждут, когда он, комбат, скажет привычное: «Выполняйте!» А он им возьми и — другое: «Будем отходить!» Как воспримут? Струсил — расценят. Пустил на явную смерть любимца батареи, и все на том. Хотя, вполне возможно, обрадуются его новому решению. Только не покажут этого. А Лида? Она осудит, это уж точно. За Иванова не простит.
Когтями острыми скребануло по сердцу, когда представил он не любящую доброту во взгляде жены, а осуждение и, быть может, даже презрение. Добавил решительно:
— Настраивайте людей на стойкость. Обороняться будем до подмоги. Или — до последнего снаряда, до последнего человека. И вот еще что… У орудий оставьте минимум. Чем больше у нас будет автоматчиков, тем лучше. Все. Выполняйте!
Присел на топчан, когда взводные ушли. Так захотелось побыть совсем одному. Уверенность обрести, убедить себя окончательно в верности и нужности своих действий. Но думы-то о другом первенствуют. О том, что не удалось счастье первой брачной ночи, не стала вот эта землянка их с Лидой первым совместным приютом и еще совсем не ясно, что ожидает их завтра, когда наступит утро, когда придет день. Он заставлял себя, насилуя, думать о завтрашнем бое, но ничего поделать с собой не мог: всем виновным и безвинным доставалось от него за столь неуместное осложнение обстановки, за то, что смогли фашисты прорвать фронт и ринуться в степь, к Сталинграду.
«Труса празднуют! Труса!»
И не важно было ему, кто и когда струсил и струсил ли вообще, — важно Владлену одно: жизнь семьи, еще не успевшей начаться, висит по чьей-то вине на волоске. Вот она — роковая случайность! Не шальная пуля, не безразборный осколок — совсем иное, но столь же неотвратимо-жестокое.
Понял он вскоре, что не место здесь, в землянке, искать покоя и силы духа. К бойцам нужно идти, на позиции. Там хочешь не хочешь, а нюни не распустишь. Лампу прикрутил до самой малой тусклости и вышел в темень, прикрыв за собой дверь. Но уже через несколько десятков шагов остановился, не зная, как поступать дальше, ибо услышал он разговор о себе. Не решался и подойти к разговаривающим бойцам, стыдился и подслушивать. Стоял в нерешительности. И неловко ему, и радостно.
— Что тебе кремень. Стоять, говорит, будем, и — баста.
— Лидуха тож не отстает: бить, говорит, фашистов следует.
— Им бы миловаться, а они — вон как!
— Уберечь их нужно, мужики. Живота не пожалеть.
— Иначе-то как же? Иначе нельзя. Совесть в могилу сведет, если недоглядим или, не приведи господь, драпанем. Ежели ни одного из нас не останется, тогда… Тогда обессуда не будет.
— Не панихидь. Фрицы пусть гибнут, а не мы. Иван вот возвернется, расскажет, много ли их там.
— Сложил головушку свою буйную Иван. Нас ради. Командира да жинки его ради…
— Не панихидь. Живого хоронишь!
Не вытерпел больше Богусловский, шагнул, задев специально плечом за борт траншеи — зашуршали, осыпаясь, крошки земляные, еще не успевшие намокнуть от мороси. Притихли бойцы, повернув голову на звук шагов: хоть и известно, что чужому здесь не оказаться, да кто его знает, автомат лучше на изготовку, а палец — на спусковой крючок.
— Вроде как о нас с Лидой беседа? — подойдя к зенитчикам, спросил комбат. — Благодарю вас от себя и от Лиды, только мы — не главное на данный момент. Фашиста задержать здесь нужно, а кто жив останется, кому смерть суждена — разве ведомо? В одном я уверен: никто из нас не дрогнет. Если погибать придется — геройски погибнем. Дорого жизнь отдадим. Не прав я?
— Как это так — не прав! Вестимо дело — спины казать вражине не станем. Только не о том мы. Сколько в батарее приборщиц? То-то. Неужто Лиде в окоп? Вот мы и говорим: жинка ваша пусть санбат организует. В землянке какой. Раненый случится — перебинтует. Глядишь, спасен боец. Гангрена минует…
— Дельный совет. Только как ее из окопа выпроводить? Не пойдет. Заупрямится.
— Иль не командир ты?
Командир, конечно. Решил: санпункт — в землянке комбата. Накат попрочней. Простору поменьше, правда, но если все вынести… Так планировал он, пока не встал рядом с Лидой, прижавшейся к борту траншеи и устремившей взгляд в темную даль. Даже не повернула головы, не почувствовала, что он рядом. Такого еще не бывало.
— Лида.
Молчок. Никакого внимания. Вся в себе. Или там, у моста.
— Лида.
Руку положил на плечо. Жесткое, чужое. Вздрагивает мелко, будто ознобилась.
— Лида!
Властно повернул к себе и придавил к груди. И приказно:
— Перестань! Словами бойцов скажу, какие только-только слышал: не панихидь. Живого хоронишь…
— Не живой он, Владик. Ради нас. Проку много ли? Следом и — наш черед. Неладно все вышло.
— Чему быть, того не миновать. Ты вот что… Давай слезы вытри и — готовь медпункт. Все из комбатовской землянки (не сказал из нашей) вынести, на пол плащ-палатки настелить, поверх — одеяла. Бинты готовь. Возьми еще у старшины чистое белье. Если что — на бинты тоже пойдет. До утра в помощь тебе выделю бойцов…
— Я буду рядом с тобой! Чтоб пуля одна, снаряд один!
Владлен порывисто поцеловал Лиду, потом еще, еще, затем отстранил:
— Это я как муж. Потому, что люблю тебя. А как командир… Постой-постой! Моторы заработали…
Да, из темени, все еще густотертой, поползло ровное урчание вхолостую работающих моторов. Прогревают для верности. Не асфальт впереди. Но вот напряглись, сдвигая с места застоявшие колеса, и вновь ровное, только более решительное урчание. Едут. Нашли обход. Значит, через десяток минут начнется бой. В темноте. Это плохо. Стой! Прожекторы! Поцеловал еще раз Лиду и бросился к прожектористам. Но, не сделав и десятка шагов, остановился: там, в низинке, забуксовала машина. Мотор визжал от натуги, но, похоже, без всякой ощутимой пользы. Владлен даже представил, как зарываются колеса в податливую черную трясину.
Вернулся к Лиде. Будто не было перерыва в их разговоре.
— Так вот, как муж я от души благодарю тебя за любовь жертвенную, но как командир приказываю: до рассвета медпункт должен быть оборудован. Помощники-бойцы в твое распоряжение поступят через несколько минут. Иди, Лида. Мне нужно с подчиненными поговорить перед боем, еще раз все взвесить. Чтобы не погибнуть, а победить. Иди.
Там, за мостом, вытащили, похоже, машину и притихли. Новое место ищут. А дождь моросит. Хорошо!
Успел побывать Богусловский только у прожектористов, объяснить им свой замысел, если колонна фашистов одолеет лощинку, как там, за лощинкой, вновь заурчали моторы.
«Нашли проход?!»
Стоял в окопе, как и другие зенитчики, слушая уверенное движение машин. По звуку похоже — параллельно лощинке идут. Но вот спуск начался. И… отлично-то как забуксовала! Отлично! Слушать любо-дорого.
Не вдруг выволокли из мягкости черноземной машину, возились долго, потом притихли, как и первый раз. Будто нет никого в слепи, спит она в мирном покое. До утра оставили переправу? Отдых устроят себе? Для зенитчиков звукомаскировка тогда — самое что ни на есть главное.
Только не угомонились гитлеровцы. Еще раз сунулся вражеский авангард в ловушку, но и на сей раз безрезультатно. Вернулся тогда к мостику. Не пережидать, однако, темени. Фары включили.
— Не угостить ли, а, комбат?
Вполне приемлемое предложение. До рассвета все равно фашисты с мостом не управятся, а при свете фактор неожиданности пропадет — все равно батарею увидят. Не иголка же в стоге сена. Первыми и огонь могут открыть. Но и спешить нужды нет. Хорошо выделить и — одним залпом. Чтоб не успели точно определить боевые позиции орудий.
«Пусть начнут работу. Тогда сразу и по мосту, и по машинам…»
Распределил цели между взводами. Предупредил командиров:
— Без пристрелки. Один залп. Максимум точности. Максимум! Пулеметы — по одной длинной очереди. Не увлекаться. Чтоб не засекли.
Все на своих местах, все готовы выполнить команду комбата быстро и точно, но Богусловский не спешит, понимая состояние зенитчиков, бойцов и командиров, дает им время успокоиться.
А немцы мельтешат в свете фар, как воронье, накинувшееся на добычу. Танкетку, которую таранил своим ЗИЛом ефрейтор Иванов и погиб (теперь это уже ни у кого не вызывало сомнений), приспосабливают вместо опоры. Работа двигается. Хотя и медленно, но — двигается. Не остановить, если до рассвета еще наладят мосток.
— Огонь! — скомандовал Богусловский и раскрыл пошире рот, чтобы не оглохнуть от дружного залпа.
Не в небо, по летящей в высотной безбрежности цели. Здесь все бездвижно, да еще и рядом вовсе: захочешь промазать — не получится.
— Молодцы! — радостно крикнул Богусловский. — Так их!
Прошлась запоздалая пулеметная очередь по тем, кто еще оставался на мосту, не поняв видимо, откуда страшная напасть: машины — в воздух, осколки и пули секут, но по инстинкту самосохранения, по-солдатски отмуштрованно посыпались фрицы с моста вниз, лишь малая часть задержалась, их-то, не стерпев, и покосил пулеметчик. Не всех, верно. Спасла спасительная темень, прикрыла остатки фашистского разведывательного подразделения. Стало в степи тихо-тихо. Потом раненые застонали…
Ждет Богусловский ответного огня, но нет его — каюк, значит, танкеткам, их пушки не заговорят больше. А пулеметы? Не могло их не остаться. Помалкивают, однако же, гитлеровцы. Не засекли, выходит, хотя и припозднилась одна пулеметная установка.
Прошла минута, другая, третья, и успокоенность Богусловского начала сменяться новой тревогой — тревогой неведения. Тихо там, перед лощинкой. Стоны раненых — это просто стоны. Проклятия — тоже не действие. Что живые предпримут? Пойдут по дороге вперед? Или цепью — в наступление? Может, все же до утра дожидаться станут?
«Что гадать — контрмеры нужны», — думал Богусловский, но какие — не мог решить и послал за взводными посыльного, предупредив:
— Тихо только. Очень тихо.
Фактор внезапности Богусловский снова ставил на первое место.
Наверное, посмеялся бы пехотный командир тому, как командует боем Богусловский, но не смог бы не признать разумности принимаемых решений. Верно, нет сноровки и знаний у Богусловского командовать наземным боем, вот и дергает взводных по делу и без дела, теряя на это уйму времени. То и спасает, что враг малочисленный, получил к тому же неожиданно увесистую оплеуху и в себя прийти не может. Вот и позволительно Богусловскому транжирить время.
Ждет Богусловский взводных, нисколько не сомневаясь в нужности своего приказа, а сам обдумывает, кому, куда и сколько людей выделять для разведки и засад у дороги и на склонах лощинки. Но, пока те собрались, все переиначил.
— Силы распылять не будем. Оставим по одному наблюдателю у орудий, остальным — спать. Да-да, прямо в окопах и ходах сообщения. Предупредите наблюдателей, сколь велика их ответственность. Смотреть в оба и, главное, слушать в оба. Выполняйте.
Довольный собой (заботливый и предусмотрительный), пошел он проверить готовность медпункта, не признаваясь даже себе, что главное для него сейчас было не то, сколько бинтов приготовила Лида, а она сама — ее глаза, ее улыбка (он уже видел ее, эту робко-ласковую улыбку, приготовленную ему), ее губы, целующие по-девичьи несмело, — он жил моментом встречи, хотя и думал о бинтах, о транспорте для раненых, без чего, начнись бой, никак не обойтись.
Лида, лихо козырнув, начала было докладывать, как выполняется приказ комбата, но не осилила уставной обязанности, прижалась к нему, обдав ласковой добротой, и выдохнула:
— Все, Владик, приготовлено. Только страшно подумать: вместе сколько провоевали и вдруг — бинтовать! Как выдержать?!
— Разве милосердие страшно? — удивился искренне Владлен, не понимая глубинной сути мыслей и переживаний жены. — Жизнь спасти боевому товарищу — это же свято!
— Я не о том. Вдруг — пуля в живот. Бинтовать, зная, что не жилец он… А ему это не скажешь, вида показать нельзя…
Привычно все для зенитчиков, когда они делают свою работу. И погибают привычно. Мужественно. Не хоронятся по щелям от авиабомб, хотя щели вот они, рядом. Оттого и нет почти раненых. Что от орудия останется, угоди на позицию бомба? Теперь же все необычное предстоит, вот и пугает не одну, видно, Лиду неведомое. Ему тоже жутко становится, когда один со своими мыслями остается. Благо, забот много и совсем мало времени для хлюпистых мыслей.
— Не миновать того, чему быть, Лида.
— Я не могу осуждать тебя. Я просто так…
— Вот и ладно. Побудем немного вместе, а то рассвет скоро.
Да он уже начался. Просто не вглядывались они в горизонт, не до него им, а там утро сделало свой первый шажок. По-детски неуверенный. Но прочерчена первая полосочка по огрузлому от туч небу. Ничто теперь не в состоянии остановить свет. Рассеять, притушить — возможно, но остановить — нет. И не заметили прижавшиеся друг к другу влюбленные муж и жена, как посветлело вокруг и стали уже различимы в моросящей серости непривычно опущенные долу длинноствольные зенитки.
«Пора! — замирая перед неизвестностью, подумал Богусловский, продолжая млеть от близости любимой. — Пора!»
Пересилил себя, отстранился.
— Верю, наш час настанет. Верь, Лида, и ты. Вера движет людьми. Силы им дает.
— Да! Я буду верить. Буду ждать и надеяться!
Говорили они это все друг другу оттого, что не знали, о чем больше говорить, но они не чувствовали безграничной наивности диалога; они поймут это после, даже не когда окончится для них бой, а значительно позже — когда для них окончится война. В партизанском отряде, куда приведет их неожиданное и горькое горе.
Как и предполагали зенитчики, гитлеровцы, как только посветлело, пошли в наступление. Не видно было, как одолевают они раскисшую лощинку, но на склон выходили ровной цепью. Держа автоматы «на товсь», засеменили в направлении хутора.
— Пулеметы! Огонь!
Хорошо прошлись очереди. Остановилась цепь и, будто подгоняемая арапником, схлынула в лощину. Поторопился с командой Богусловский: подальше бы от лощинки отпустил — очереди побольше бы подсекли врагов. Но и то, что вышло, ладно. Хорошо прикурить дали фрицам, и, по логике вещей, не должны бы немцы больше наступать, пока не подтянутся им в помощь танки либо артиллерия. Не так обучены они, чтобы на рожон лезть. А отчаянной храбрости им у русских заимствовать нужно. И то сказать, чего ради под пули сломя голову нестись: кому тогда богатства российские достанутся, ради которых выползли они из-под пуховых одеял и оставили без пригляду пышногрудых своих фрау? Нет, не полезут на жгучие пули захватчики, ждать станут, чтобы снарядами и минами разметать тех, кто им поперек дороги встал, а уж тогда — вперед. Наигрывая на губных гармошках бодрящие марши.
Но именно это промедление и погубило передовую группу, а затем позволило остановить и основной танковый клин. Дело в том, что одному из пограничных полков, которые охраняли тылы фронта, приказано было форсированным маршем двигаться к той же самой переправе, к которой должна была переместиться и батарея Богусловского. Маршрут полка лежал через хутор, и полк появился бы здесь еще прошлым вечером, но задержался по дороге, останавливая отбившихся от своих частей и разбираясь, как потом будет сказано в донесении, с «текучестью бойцов от линии фронта в тыл». До батальона уже было собрано красноармейцев и командиров, и теперь они, вновь обретя организованность, двигались вместе с пограничниками к Сталинграду. Пулеметные очереди батареи пограничники услышали и выслали вперед разведку.
В это же время навстречу прорвавшим фронт немецким частям спешно двигались мотомеханизированные полки и дивизии вновь созданного фронта, чтобы встречным боем остановить врага, не пропустить его к Сталинграду. И заминка, случившаяся у немцев перед батареей Богусловского, позволила на этом направлении выиграть время, которое в столь резко осложнившейся ситуации на сталинградском направлении было куда дороже золота.
Когда разведка погранполка, почти полная застава, подошла к позиции зенитной батареи, гул танков со степи уже был слышен, и начальник заставы сразу же, как выслушал Богусловского, решил атаковать и уничтожить фашистов в лощине.
— Они — как нож у горла. Сколько можете выделить людей? — спросил у Богусловского. — Но так, чтобы орудия не оголять?
— Слезы.
— И то ладно.
Распоряжался начальник заставы, такой же юный, как и Богусловский, спокойно, совершенно уверенный в себе и в тех, кем командовал. Ни разу он не повысил голос, а все двигалось именно так, как он хотел, все исполнялось мигом. Одно отделение, пополненное зенитчиками, неспешной цепью пошло прямо на лощину, остальные, разделенные поровну, стремительно бросились вправо и влево. Для флангового удара.
Чудно́ Богусловскому, что пограничники — а он еще в училище слышал о их храбрости и умелости — сближаются с врагом вовсе не таясь. Бравада? Кому она нужна? Кого удивлять? Зенитчиков? Так и они не в норах во время боя отсиживаются. Странно!
Нет, не собирались пограничники никого удивлять. Просто они были готовы каждый миг плюхнуться на землю, сразу же открыв огонь, а пока враг позволяет, можно не ползти по-пластунски. Так быстрей и неожиданней. А что фашисты ждут свои танки, а потому не идут в контратаку — это пограничники поняли сразу же. Вот и учли естественную в таком положении беспечность.
Близко. Совсем близко. Еще шагов с десяток, и можно гранаты в ход пускать. И вот тогда только вынесся из лощины испуганно-призывной крик, и в один миг сыпанули автоматы смерть; но и пограничники не лыком шиты. Их словно косой по ногам. И с ответным огнем тоже не задержались. А вот зенитчики, хоть и предупреждены были, не больно молниеносно припали к земле-спасительнице. Вот и поплатились. Сколько? Ясно стало, как перебежками да по-пластунски устремились вперед атакующие: пятеро бездвижных. Убиты? Или только ранены?
Лида уже с медицинской сумкой из окопа выпрыгнула, но ей наперерез кинулось сразу несколько зенитчиков, подсекли подножкой и сами повалились рядом.
— Куда тебя несет?! Иль мужиков нет раненых доставить?! Ползи назад! Ползком. В землянке жди…
Оттаяло у Владлена захолодевшее сердце. И себя ругает, что прозевал Лиду, бездумно кинувшуюся под шальные пули, и бойцам благодарен за опеку, пусть грубую, но великочеловеческую.
Крикнул им:
— К орудиям! Назад!
Что решат минуты? Уверен был комбат в победной концовке боя. Вот-вот полетят гранаты в фашистов, да и с флангов ударят пограничники. Их пока ничто не сдерживает, да и не хватит фрицев на три фронта. Они, скорее всего, еще не видят фланговой угрозы — смерти своей не видят.
Хорошо все завершилось. Ловко. Прошло лишь несколько минут, и в лощине все стихло. Раненых уже несут. И за лопатами пограничники отрядили: там, на склоне лощины, намерены они рыть окопы. Какие успеют. Нельзя лощинку оставлять без догляду. И минометы враг здесь разместит в безопасности от пуль, и пехоту сосредоточит для атаки. От помощи зенитчиков категорически отказались. Начальник заставы передал:
— У орудий и пулеметов их место. К стрельбе готовиться. К меткой стрельбе.
Оставшихся невредимыми зенитчиков тоже отправил на позиции батареи. Не мешкая.
Раненых трое. Один — надо же так предчувствовать Лиде! — в живот. Подносчик снарядов. Пожилой уже боец. Детей четверо дома. Часто он Лиде показывал письма от своей жены, статностью ее хвастался, хотя на фотографии виделась обычная обремененная трудом и детьми женщина. Стонет раненый сквозь стиснутые зубы, желваки на скулах жгутятся, в глазах тоска предсмертная: понимает, что кончается его путь жизненный — ни снарядной тяжести ему больше не ощущать, не радоваться сбитым фашистским бомбардировщикам, гордясь к тому своей причастностью, ни жены не ласкать, ни деткам не складывать былины складные. А Лида хлопочет возле него. Спокойная такая. Будто ничего страшного вовсе нет.
— Что ж не убереглись, Никита Федосеевич? Теперь вот — госпиталь на неделю-другую. А то и месяц. А оттуда, может, в другую батарею направят.
— Не направят, — выдохнул решительно раненый. — Не посмеют.
— И то верно. К своим. Как в родной дом. Одно утешно — на побывку могут отпустить. Дома побываете….
Отступила тоска, потеплел взгляд у бойца — работяги войны. Даже улыбнулся Лиде. И видимо, поблагодарил бы ее сердечно, да боль сковала зубы.
Окончила Лида бинтовать, попросила:
— Потерпите, Никита Федосеевич, пока помощь не подоспеет. Сразу тогда — в госпиталь. Я руки помою и вернусь.
Верно — с рук ей нужно было смыть кровь, но ради этого она не оставила бы сейчас раненого, посидела бы еще с ним — она просто не могла уже владеть собой, силы ее иссякли, их хватило только для того, чтобы спокойно выйти из землянки. И тут ее будто отнесло ветром подальше от нее и бросило на разбухший от мокроты чернозем да так ушибло, что бездвижной оставалась она многие минуты. Не вдруг прорвались сквозь окаменевшую душу слезы, но, когда обрели свободу, разгулялись безудержно.
Богусловскому скоро доложили, что жена его в истерике; кинулся он к ней, а она ничего не воспринимает, бьется, будто в падучей:
— Не могу! Не могу! Не могу!..
— Товарищ Чернуцкая! — крикнул Владлен. — Прекратите!
Метнулся недоуменный взгляд, сжалась Лида испуганно: «Чернуцкая?!» Нервы в комок. Но все же спросила:
— Как? Чернуцкая?!
— Ты — сестра милосердия! Пойми. К тому же — жена комбата. Верить тебе бойцы должны, как сестре, как матери. Верить, что в силах ты помочь. А ты?!
— Никиту Федосеевича я обиходила и обнадежила. Он поверил мне. Поверил!
— А они? — Богусловский махнул в сторону орудий и пулеметов. — Им ложь, хоть и благородную, выказала без стеснения! Кто тебе из них теперь поверит? Иль, думаешь, больше не будет раненых?!
— Ты прав, Владик. Расквасилась я, прости. — Достала платочек и принялась промокать глаза. — Пойду я, ждут раненые.
— Нет. Останешься пока со мной. В окопе. Совсем успокоишься, тогда — к раненым.
Мог бы и не делать такого приказа, но предлог есть побыть хоть чуток вместе, как же от такого откажешься. Тем более, танки вот-вот на выстрел выйдут, и кому ведомо, чем предстоящая дуэль окончится? Прежде, как сказал бы ефрейтор Иванов, семечки были, а впереди — что надо.
Лида поняла мужа и рада. Самой тоже не очень хочется от него уходить. Стоит рядом с Владленом и смотрит в степь ненавистную, ждет, когда рокот дальний в танки ползучие оборотится. Но и к раненым тоже нужно. Ждут они. Решилась.
— Пойду я. Береги себя.
— Лида!
— Хорошо-хорошо. Верим в наше счастье!
Помаленьку, перемогая себя, пошла к комбатовской землянке, а Владлен тоже едва сдерживал себя, чтобы не броситься за нею. Увидит ли ее еще? Обнимет ли?
«Верим в наше счастье…»
Трудно сказать, верил ли он в возможное счастье в данный момент. Похоже, нет. Скорее всего, убеждал себя, что верит.
Появились танки. Выползли из мокрой серой ровности. Один, два, три… Негусто. Всего — шесть. За ними — грузовики. Тех побольше. Не главное, выходит, направление. Или не успели еще перегруппировать силы после прорыва.
«А полк вот-вот подойдет. Удержимся!»
Тянется время. Медленно ползут вражеские машины. Сближаются, однако. Вот уж и пора огонь по ним открывать. Не по танкам, а по машинам. Пехоту чтобы высадить. Пусть помесят грязь — не так прытко в атаку полезут.
Передал команду взводным:
— Огонь по машинам. Двумя снарядами.
Далековато. Почти все мимо. Один лишь снаряд зацепил грузовик. Но как и ожидал Богусловский, остановились грузовики и пехота посыпалась на землю. Вторые выстрелы тоже мало пользы принесли — заставили только попятиться грузовики, а танки — перестраиваться из колонны в цепь.
Еще выиграно время. Степь не дорога. Взбухла, перепоенная. Хоть и гусеницы у танков, но и им не до прыти. На пределе мощностей своих тянут, расшвыривая ошметья жирного чернозема. К тому же пехота за спиной. Ее скорость тоже со счетов не сбросишь.
Смотрит неотрывно Богусловский на танки, определяя, когда время подтянется из орудий по ним ударить, и не видит, что подходят уже пограничные заставы, а редкие машины и обоз укрываются в хуторе. Оглянулся обрадованно, когда ординарец сообщил:
— Пограничники!..
Ни одного, правда, орудия, но есть, особенно у «утекших с линии фронта», противотанковые ружья. Невелика корысть от них, но кое-какая польза может оказаться. Пошел Богусловский встречать командира пограничного полка. Хозяин как-никак. Да нужно и обстановку доложить.
Только что докладывать, когда и так все видно: еще пяток комконервных минут, и — схлестнутся орудия. Тут уж кто метче и сноровистей. Калибр примерно один, у зенитчиков даже чуток выше, и скорострельность почти равная. Потом пулеметы заговорят. Следом автоматная пора подоспеет. Потом… Гранаты в ход пойдут. Приклады и штыки. Бой до последнего будет, ибо у немцев укрытия вовсе нет, чтобы, если что, перегруппироваться, а полк тоже — на ладошке. Одна застава успела, правда, на малость самую в землю врыться, а остальным как? Резерв, тот можно в хуторе и у зенитчиков держать, но основной бой вести открыто, едва успев окопчики для стрельбы лежа подготовить.
Коротки и четки приказы командира полка, заставы немедля растекаются по определенным им местам без сутолоки. Богусловского, далекого от пехоты, все это привлекало своей организованностью и толковостью. Когда он подошел к командиру полка, моложавому майору, возле того оставался лишь штаб и чуть поодаль стоял внушительный строй неприкаянно ожидавших своей доли в предстоящем бою красноармейцев.
Майор жестом остановил Богусловского, вскинувшего руку к козырьку и начавшего было доклад, чтобы не прерывал тот разговора с начальником штаба:
— Остановленных — в стыки между заставами и батальонами. Малыми группами. Подчинить нашим командирам. Пусть учатся воевать. — Повернулся теперь к Богусловскому: — Обстановка мне вполне ясна. Руководство боем беру на себя. Моя фамилия — Заваров. Майор Заваров. Ваша задача — танки. На какую дистанцию можно вести убойный огонь?
— Скоро начнем, — ответил Богусловский и, словно оправдываясь, добавил: — Медленно очень двигаются. Грязь.
— Так это же прекрасно! Если бы остановились, вовсе отменно стало бы, — улыбнувшись, пошутил Заваров. — А вы так и не представились.
— Старший лейтенант Богусловский…
— Постой-постой… Какое отношение к начальнику штаба войск округа?..
— Он мой отец.
— Неисповедимы пути. От пограничного дерева — ветка артиллериста. Удивлен. И не одобряю. Ну да пустое сегодня говорить об этом. Поспеши на свой КП. Будем живы — обмозгуем.
Они остались живы. Хотя многих своих подчиненных не досчитались. И неудивительно: все — и враг, и они сами — как на выставке выставлены. Бей друг друга, сколько душа позволит. Кто метче да посноровистей, тот и в выгоде.
Артиллерийская дуэль прошла в пользу зенитчиков. Одно орудие потеряли, но подбили два танка. Остальные доползли до лощинки и — вниз. И тут же зарылись по брюхо в трясине. Ни тебе вперед, ни тебе назад. Но выход фрицы нашли: давай поливать из пулеметов и плеваться снарядами. Неподвижные огневые точки образовались. Бронированные. Безбоязненные. Зенитчики не достанут в мертвом пространстве, гранаты не долетят, а противотанковые ружья — не великий враг. Особенно если обезлюдить эти самые ПТРы пулеметными очередями.
— Готовь, лейтенант, пулеметы, — командует Богусловскому майор Заваров. — Осадишь фрицев.
Хитрое решение, как оценил комбат, принял майор-пограничник: отступить от лощины, вроде бы не в состоянии противостоять мощным огневым точкам, в какие обратились танки, — на самом же деле пограничники должны были отползти всего на пару десятков метров, и, как только немецкая пехота выбежит из лощины, зенитные пулеметы пройдутся по ней длинными очередями и умолкнут, чтобы пограничников не побить, которые рванутся в контратаку и на вражеских плечах достанут танки. Здорово задумано! Ничего не скажешь. Только не получилось по этому хитрому плану: у немцев тоже головы не мякиной набиты. Отступить фашисты отступили, но пограничников к танкам не пропустили. Все началось сначала.
Так и тянулось до самого вечера: начнут атаку немцы — пулеметы зенитчиков и полковые осадят их; кинется погранполк вперед — из танков встретят его, заставят попятиться. Уж как ни старался полк выбить немцев из лощинки, вполне понимая, что, как только наступит ночь, подтянут они минометы туда, вот тогда — держись.
— Ночью будем атаковать, — передал майор Заваров в батальоны. — Пока же, не теряя времени, окапываться. Быть, однако, в готовности встретить фрицев огнем, если полезут.
Да, окопы теперь были просто необходимы: облака начали расползаться, как истлевшая одежда в руках старьевщика, солнце нет-нет да и бросит горячий пучок на напитую по самое горло землю, и степь задымит привычной летней теплынью. Жди, выходит, самолеты. Нужно, стало быть, половину орудий и пулеметных установок вновь задирать стволами в небо. Это, конечно, остудит пыл вражеских штурмовиков, если они появятся, но и окопы не помешают. Бомбы, они ведь и есть бомбы.
Только зря они старались, зря суетились. Ни окопы им не понадобились, ни зенитки заряжать не пришлось: на исходе дня с востока поначалу донесся гул, потом показались тридцатьчетверки, облепленные пехотинцами. И вот уже танки, ссыпав пехоту перед позицией батареи, выползли к лощине и, сами маневрируя, начали расстреливать бездвижные вражеские танки, пока те не замолчали. Тогда пошел в атаку пограничный полк, поддержанный десантом.
Подошла вскоре новая колонна. Танков несколько и ЗИСы. Подполковник с ними и еще несколько офицеров — штаб, видимо. Распорядился полковник уверенно, явно имея на то полномочия:
— Пограничники — по своему маршруту. Ночью снимется и зенитная батарея. Раненых забирайте с собой. Убитых похороним мы.
Вот так все и окончилось. Судьба и Богусловскому, и Заварову подарила жизнь, но обмозговать, почему сын потомственного пограничника стал зенитчиком, не отпустила времени. На потом перенесла.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Да, майор Заваров настырно, совершенно не скрывая своих намерений, обращал в пограничную веру сбившегося, как он говаривал, с верного пути отпрыска известной в пограничных войсках фамилии. Благо, пока что и времени у них для этого хватало. Не так чтобы с избытком, но в достатке. Фашисты бомбили переправу не ежечасно, даже иногда сутками не тревожили, войск с левого берега переправлялось тоже негусто, вот и выпадали свободными даже целые часы. Заваров, как правило, приходил в гости к Богусловским, которые разместились в просторном подвале подрубленного уже бомбами трехэтажного дома, немного правее которого стояла зенитная батарея. Уступили им этот подвал пограничники, которые прибыли к переправе раньше, но не захватили лучших кусочков. Наоборот, штаб полка вполне компетентно выбрал место для позиции батареи, определил для каждого взвода жилье в подвалах трехэтажных домов, которые, подобно неусыпным сторожам, высились перед крутым спуском к переправе, а затем и выделил людей, чтобы отрыть ходы сообщения от жилья к орудиям и щели для хранения боезапаса. Вышло так, что породнившиеся в неожиданном бою два вовсе различных рода войск продолжали дружить, помогая друг другу во всем, коротая досуг вместе.
Пример тому показывали командиры. Заваров подолгу засиживался у Богусловских, и это нравилось всем, но, главное, нравилось Лиде. Она хозяйка. Она с удовольствием кормила мужчин чем… нет, не бог одарил, а старшина порадовал и слушала бесконечно интересные, как ей казалось, разговоры. Когда мужчины петушились, она тоже понимала их: молодые, но уже командиры, привыкшие уже повелевать, а значит, иметь свое мнение и упрямиться, если оно подхватывается не вдруг…
Но в один из таких вечеров произошла серьезная размолвка. Начался, как обычно, горячий разговор, без враждебности, правда, о том, что в то время было еще спорным и важным для всех — вести ли войну по опыту войны гражданской, по тактике и стратегии уважаемых безмерно, но так же безмерно отставших (вслух об этом не говорили тогда, боясь оскорбить народных кумиров) либо отречься от всего без огляда и искать что-то новое, современное. Владлен Богусловский, ратуя за смелую тактическую и стратегическую мысль, за техническую оснащенность максимально полно всей армии, всех родов войск, обращался к военной истории прошлого.
— Отчего Мамая побили?! — горячился он. — Стрельцов кучно поставили, а стрела от самострела летела на триста метров. Технический перевес. Отчего Иван Третий от ига татарского отбился?! Артиллерию против них выставил! Технический перевес! И тактический тоже: послал десант по Волге вниз, по тылам татарским гулять. Казань Иван Грозный и Астрахань взял отчего? Да у него две тысячи орудий было. Две тысячи!
— А что? У нас меньше, что ли? Эка — две тысячи пушчонок, как наши ПТРы…
— При чем тут — у нас! Века разные. Нищие мы в сравнении с армией Грозного. Но не в этом только дело. Тактические приемы русской армии той поры обгоняли европейские на сотню лет: массированный огонь артиллерии, артподготовка, как бы мы ее теперь назвали и что немец теперь делает всегда, контрмины, полевое, наконец, применение артиллерии! На лафеты пушки поставлены впервые у нас. А что все это дало? В Ливонскую войну русские столько крепостей взяли, ни одной армии прежде даже не снилось. Ливонскому ордену полный разгром был учинен…
— Да, понимание вопроса! Выходит, моральный дух армии, советский патриотизм, цели и задачи войны — со счетов! Тебя послушать, так и революции бы мы не совершили, и гражданскую бы профукали: у них танки английские, самолеты, а у нас — трехлинейка да сабля. А как били беляков?! Кони и тачанки, если на них советский боец сидит, — силища великая. А границу как мы обороняли Советской страны своей? Мангруппа моя, бывало, в Забайкалье птицей летит. Никакие ей преграды не существовали…
И принимался рассказывать о каком-либо бое с хунхузами или диверсантами, которые пытались клинком и пулей пробить себе дорогу из-за кордона. Заваров, отстаивая свою точку зрения, в сущности, совершенно не понимал несравнимости стычек на границе с боями великой войны не на жизнь, а на смерть. В упрямстве своем Заваров, как считал Владлен, был схож с генералом Богусловским, но если с дедом Владлен осторожничал, перечить очень-то воздерживался, то с Заваровым был много смелей. Сказывалась малая разница в возрасте — что десяток годов для молодости? — и, пожалуй, самое главное, Богусловский теперь был больше уверен в своей правоте. «Фронт» Корнейчука подравнял мозги тем, у кого они были заломлены набекрень.
— Меня отец в зенитное определил. Знаете, Игнат Степанович, что он мне сказал? «Не пущу на героическое заклание!» И в училище преподаватель-фронтовик говорил: с бутылкой на танк — геройство, конечно, но кому это нужно? Герои-то гибнут. Особенно он заставу жалел, которая их отход прикрыла собой. А теперь вот каково! Воздух весь в руках фашистов. Зенитками одними не огородить ни переправы, ни Сталинграда. Видим же мы это, понимаем. Город рушится. И похоже — главных налетов еще не было.
— Я твоего отца уважаю. Толковый начальник штаба. Ни одного скоропалительного решения не принял и приказы его всегда взвешенны. Я мангруппой под его началом командовал. По рапорту здесь. Отец твой поддержал меня. Потому еще и личное уважение имею… И преподаватель твой училищный тоже, возможно, умный человек… Только я, смею утверждать, много своими глазами видел. А наслышался сколько! Вывод, считаю, делать могу. Верный вывод: главная причина того, что мы временно отступаем, — вероломное нападение Германии. Сталин это сказал! Отсюда все беды. Второе! Отсутствие опыта ведения войны! Только старые кадры умеют воевать. А много ли их? Пограничники одни готовы были к войне. Служба у нас такая. Боевая служба. И вот гляди: заставы против полков, против дивизий стояли! Да не час, не два — многие сутки. А комендатуры и отряды в контрнаступление ходили. Перемышль отбили. И держали бы, не получи приказа на отход. Десант в Румынию высадили. Приличное время на вражеской территории бои вели. Красные флаги там развевались по селам. В Карелии тоже контрнаступали. А вооружение какое? Винтовки, пулеметы, гранаты. В умелых руках это оружие — сила…
С последним аргументом Богусловский не вполне был согласен, перечить, однако же, не стал (он еще плохо знал майора и учитывал еще, к какому наркомату тот принадлежал), но сами факты были убедительны и на весах понимания происходящего основательно перетягивали на свою сторону.
— «Правда» как о нас сказала? Как львы дрались! Сколько пограничников за первые дни войны удостоены знания Героя! Героя! За так Золотую Звезду не выдадут! Нет, я не был среди тех, первых. Я принял полк после выхода его из харьковского окружения. Прорыва, я бы сказал. Несколько человек всего от полка осталось. И Знамя вынесли. Земной поклон им, живым и погибшим. Скольким сотням, даже тысячам красноармейцев спасли они жизнь, частью полка стеной став в арьергарде, а частью — в авангарде. Разведку вели. Атаковали дерзко. Аэродром вражеский захватили и пожгли самолеты, чтобы не бомбили колонны выходящих из окружения войск. В руках у них тоже были лишь винтовки, автоматы, пулеметы и гранаты. А техника, за которую ты ратуешь, обузой стала. Веригами непосильными. А если бы так умелы были армейские полки, дивизии?! То-то. Фашист, не шагнувши к нам, пятки бы смазал. Аж до Берлина без остановки бы драпал…
Нет, Богусловский, как и сотни тысяч других советских командиров и бойцов, не знал тогда еще всего героического трагизма, слава и боль которого откроется блескучими гранями еще нескоро, даже не в первые послевоенные годы, а позже, когда те немногие, пережившие первые часы, дни, недели и оставшиеся в живых, осознают в долгих своих раздумьях святой свой долг поведать народу о погибших его героях, когда проникнутся этой же идеей журналисты, а следом за ними и писатели, — вот тогда раскроется великий героизм бойца-пограничника, увидится и не менее великий недогляд тех, кто решал его судьбу. Конечно, заставы не сдержали и не могли сдержать вражеские полки и тем более дивизии; у каждой заставы оставляли фашисты роту либо батальон с несколькими орудиями. Невелики для наступающей армады такие малые отключения, но велика была нравственная сторона пограничного подвига — тогда, в первые часы войны, гитлеровская армия поняла, не отдавая, возможно, себе полной мерой в этом отчета, что легкой прогулки по российской земле не получится. Да и так называемый план «после 24 часов» появился на свет именно после первых пограничных боев.
Не мог знать тогда Владлен Богусловский всего этого, а тем более осмыслить все, что сделали пограничные войска в первые дни, недели и месяцы войны, но он чувствовал, что Заваров явно приукрашивает события, возводит в степень любой мелкий в масштабах безмерного фронта факт, наделяя его великой значительностью. А у Богусловского уже было полное понимание целей пограничной охраны и ее боевых средств. И получалось, что Заваров своим погранчванством, как определил Богусловский, достигал явно противоположное тому, ради чего старался. Более того, Владлен довольно часто ставил майора в тупик наивными на первый взгляд вопросами.
Но сегодня его вопрос, хотя и заданный с наивной простотой, заставил бы задуматься не только Заварова.
— Я читал у отца первый пограничный устав. При Иване Грозном он писан. Это реликвия наша семейная. Какая главная задача ставилась перед сторожей? Увидеть врага и с максимальной скоростью оповестить ближайших воевод. Оповестить, заметьте. В бой не вступая. А дальше? Дальше вести супостата. Разведкой, как бы мы сейчас сказали, заниматься. Фланги полков оберегать. Не боем, однако. Разведкой опять же. Устанавливать, куда двигается противник. Чтобы воеводы, а бой им вести, могли верно распределить свои силы.
— Ну и ну! Я б такую, с позволения сказать, реликвию в печь выбросил. Или в музей бы отдал. На видное место пусть повесят, чтоб посмеялись мы все от души. Эко ловкачи! Удумали для себя роль. А царь, не разобравшись, до́лжно, подмахнул бумажку. Впрочем, для того времени — дело понятное. Понятием Родина не пахло тогда. Платили деньги — служил. Не перетруживаясь.
— Не скажите! Смог же народ иго сбросить? Смог. От Речи Посполитой оборонился? Да. Немцев и шведов побил на Балтике? Не враз, но побил. Наполеона прогнал…
— Не аргументы. Против ярма иноземного поднимались, когда уж совсем невмоготу. Хоть и постылая жизнь под царем и помещиком, но не в рабах. Вот в семнадцатом — тут все верно: сказал во весь голос свое слово народ. Жизней не жалеючи, бился. Если бы по-твоему, так никогда не завоевать бы победы. Схоронись за кустом и гляди, как враг шагает?! Нет, ни пяди земли не должны мы отдавать без боя. Ни пяди! Когда попадались мне, которые пятки смазывали — нет, дескать, где зацепиться в обороне, степь, дескать, вот за Волгой упремся, через Волгу не пропустим, — мне плюнуть им в лицо хотелось. А будь моя воля — и пули не пожалел бы. Куда бежим?! Когда остановимся?! Не по кустикам выглядывая, а грудью встанем, как и положено советскому воину. Родину он защищает! Родину вольную свою!
Обидно слушать Богусловскому напраслину. Не о том он говорил, не за драптактику ратовал; но и возразить хотелось, защищая пехотинцев: что они против танковых клиньев поделают с бутылками да ПТРами? Сам же Заваров видел, что всего-навсего одна батарея, к тому же зенитная, придержала врага. Танки остановились, а с пехотой легче управляться. А ну если фронт ощетинится орудиями, если воздух заполнят наши ястребки да бомбовозы, если танки силушкой своей навалятся? У самого робкого поприбавится смелости.
Только не стал он ничего этого говорить, — похоже, и так лишнее сказано. Вроде бы человек хороший, этот навязывающийся в духовные отцы майор, но все же — энкаведешник. Одно его слово — и прослывешь паникером. Еще и поклонником старорежимья. Куда как привлекательно! А какой разговор семейный без откровенности? Запаха тогда семейности даже не станет.
Лида еще пыталась хоть как-то степлить холодок, возникший, как ей понималось, вот так вдруг, беспричинно, но не артистка она и не дано ей, значит, упрятать за наигранным радушием свою огорченность искреннюю, без осуждения одного и другого, ибо не понимала она глубинной сути различия в оценке происходящего. Ей представлялись все противоречия пустячными, вовсе не важными, чтобы вдруг насторожиться в отношениях друг к другу. Нет, не под силу было ее молодому женскому уму распознать в словах командира полка трагическую ортодоксальность, которой уготована еще долгая роль топтальщика всего, что связано с доброй российской ратной, да и не только ратной, традицией, пусть даже разумной и очень полезной — ей виделась всего-навсего частность — так или не так использовала Россия пограничную охрану, а не тенденция — все, что за чертой прошлого, все антинародно. Ничего не было и не могло быть в отсталой царско-самодержавной стране, а русские люди — лентяи и недоумки, от коих и ждать-то ничего нельзя было. Что подал Запад — тем и жили. И будто шоры у ортодоксов на глазах — не хотят замечать, что на дореволюционном в основном оборудовании работают заводы и фабрики страны и долго еще будут работать. Очень долго.
Не по ней подобные головоломки, хотя не раз видела она в своем доме, как горячились отец и дядя, осуждая каких-то бездумных леваков, так их, неведомых ей людей, называл дядя, которые предлагали разрушить все уцелевшее от разрушительной гражданской войны, чтобы создать все новое, пролетарское. Тогда ей жаль было только кукол, старинных, от бабушки пришедших, теперь же — уютных посиделок, где все трое отдыхали, как ей виделось, душой и телом. Она хотела, чтобы ничего не менялось в этой уютности. Но что она могла поделать?
Разошлись они не сразу. Допили чай, продолжая разговор, только теперь уже иной: о предстоящих налетах, о дополнительных мерах по сохранению от них боезапаса и людей. Тут они были едины во мнениях, и, когда майор Заваров прощался с хозяином, все будто бы сладилось, улеглось.
Но это были их последние семейные посиделки. Ни Богусловский больше не приглашал командира полка, ни Заваров не напрашивался в гости, а тем более не заходил, как бывало прежде, без приглашения, просто на огонек.
— Не пойму, что вы не поделили? — недоумевала Лида, которой приятно было чувствовать себя хозяйкой дома, хлебосольной, доброй.
— И в самом деле, одно дело делаем, переправу оберегаем, — соглашался Богусловский. — Майор Заваров — человек честный. Без фальши. Все так. Но он искренне верит, что вполне можно сидеть на срубленном суку да еще и на дереве без корней. Переубедить я его, сейчас во всяком случае, не смогу, да и до этого ли теперь? Бить фашистов нужно.
Она пожимала плечами, думая украдкой от Владлена:
«Может, Владик прав. Резон только в чем: была ли армия российская разумно устроена, не была ли, разве от этого кому поплохеет?»
Она была такой же, как миллионы иных советских людей, над кем не довлела семейная традиция с глубокими корнями в ратное прошлое, и потому школьную естественную упрощенность истории воспринимала как истину, а не как трамплин для прыжка в неведомые глубины, как начало познаний, как толчок к осмыслению прошлого, через которое только можно уверенно взглянуть в будущее. Все это понимание придет к ней позже, когда вволю послушает она Богусловского-старшего в долгие зимние вечера, когда сама прочитает и первый пограничный устав XVI века, вначале лишь для того, чтобы не обидеть деда-генерала, но потом захватит ее новизна познаний, и станет она читать уже без внешнего нажима, а по потребности души все о российской армии, которая, особенно до Смутного времени, опережала западноевропейские по вооружению, организации и тактике на полсотню, а то и на сто лет. И поймет она тогда, что негоже, отсекая опыт предков, начинать все с нуля, двигаться ощупью в непролазной чащобе неведомого. Тогда она поймет, отчего ее Владик так неоправданно, как ей думалось теперь, стал избегать встреч с приятным во всех отношениях человеком.
Теперь же она просто смирилась, имея перед собой пример матери, которая никогда не упрямилась, предлагая то или иное свое мнение, а всегда, соглашаясь или нет с действиями мужа, поступала в соответствии с его желанием.
Никакой размолвки у молодой четы в те дни не случилось, и шли дни чередой, не очень-то легкие, но все же терпимые, хотя налеты вражеской авиации становились все упорней и зенитчикам по нескольку раз в сутки приходилось играть в открытую со смертью. Появились раненые, но теперь не Лида ими занималась — их сразу же переправляли на левый берег. Тем более что переправа работала исправно: ни в один из причалов прямого попадания не угодило (отменная работа зенитной батареи), а мелкие повреждения исправлялись быстро. С фронта доходили то тревожные, то ободряющие слухи. Командир полка, возможно, знал больше, но он все время был занят либо специально демонстрировал занятость; во всяком случае, они, кроме специальных информаций, связанных с их непосредственным взаимодействием, ничем больше не обменивались. Заваров даже поздравил Богусловского строго официально, когда узнал, что награжден тот Красной Звездой за бой у хутора и присвоено ему звание старший лейтенант. Только Лиду — ей выпала медаль «За боевые заслуги» — поздравил без сдержанности. Искренне.
Вот так два вполне преданных своему делу командира, но отступившихся друг от друга на расстояние, встретили ужасный августовский день, превративший многоэтажные кварталы Сталинграда в горящие руины.
Не неожиданно налетели фашисты. И город был предупрежден, и особенно все зенитные батареи. Они встретили и первую, и вторую, и третью волну дружным огнем, патронов и снарядов у них было в достатке, но уж больно много вертелось в небе фашистов. Они, казалось, вовсе даже не замечали высева из своих стай. Это была настоящая психическая атака, когда идут пьяные и благословленные священником на героическую смерть ровные ряды, смыкаясь тут же, как упадет кто-либо, подсеченный пулей, — ровно и без конца двигается масса на окопы, внушая своим бесстрашием страх обороняющимся. А когда такое происходит в воздухе, когда беспрестанный гул взрывов не может заглушить рева выгребающих из пике бомбардировщиков, когда бомбы, может, и не так густо, но все же падают и на позиции зенитной батареи, когда, сколько ни сбивай самолетов, стая их не редеет — тут у самого храброго душа не очень-то уютно станет себя чувствовать.
И все же Богусловский руководил боем батареи вполне прилично. Впрочем, ему можно было бы сейчас просто наблюдать, подмечая все хорошее и все плохое в действиях взводных, командиров орудий и пулеметных установок, чтобы после боя сделать полный расклад по полочкам и каждому воздать по заслуженной серьге, ибо все для зенитчиков привычно до автоматизма, а великое множество фашистских самолетов расчетами не очень-то воспринимается: они видят свой кусочек неба и прорежают именно его, как это делали вчера, позавчера — во всех пережитых схватках. Оттого они действовали уверенно, вселяя уверенность и в своего командира.
Еще один подбитый фашист плюхнулся в Волгу, но бомба, пущенная им за миг до встречи с роковым снарядом, оказалась роковой и для орудия. В фильмах показывают такое: два врага, стреляя друг в друга, падают разом, ставя точку в затянувшемся донельзя сюжете сценария, а тут — вот она, явь. Только и остались в живых подносчики снарядов.
Постояли они, прижимая к груди те самые снаряды, которые должны были лететь во врага, поглядели обалдело на то место, куда так торопились и где теперь скособоченно завалилась в воронку длинноствольная пушка, и поспешили, подстегнутые приказом взводного, к соседнему расчету, который даже, быть может, не заметил случившегося.
Недосуг!
Вскоре разметало пулеметную установку. Потом еще одно орудие замолкло: поранило наводчиков. И первого и второго сразу. Богусловский кинулся к орудию, забыв, что он комбат, что ему как-никак, а нужно руководить боем.
Наравне со взводным оказался он у орудия, и вновь заплевало оно в небо басовитой смертью.
Все забыл Богусловский — для него не существовало ничего вокруг, кроме механизмов наводки и вражеских машин: в них, только в них посылал он снаряд за снарядом, совершенно потеряв чувство времени, чувство реальности. Много раз ему виделось, что бомба летит прямо на него, но всякий раз она ухала в стороне, иногда совсем близко, но осколки благополучно пролетали мимо.
«Верим в свое счастье!» — как заклинание повторял в такие моменты Богусловский и продолжал стрелять.
Всему, как это обычно бывает, приходит конец. Ухнула где-то наверху, среди домов, последняя бомба, улепетнул последний вражеский самолет, лавируя между мохнатыми пучками взрывов для него предназначенных снарядов, и вот тогда только Богусловский осознал полной мерой, что произошло с городом: он стонал, он рыдал, он корчился в пожарище, зловонно чадя жирными клубами дыма; только тогда метнул он испуганный взгляд на землянку приборщиков, отходя душой: цела! И, гневаясь до отчаянной ненависти на фашистов за порушенный город, за сотни невинно и нелепо погибших и покалеченных мужчин цивильных, женщин и детишек безгрешных вовсе за дела отцов своих, он одновременно радовался тому, что цела землянка, из которой — он торопил этот миг — выбежит сейчас Лида. Его Лида!
Ему бы встать и самому поспешить к землянке, но усталость накрепко привалила его к жесткому и неудобному сиденью наводчика. И даже когда Владлен увидел Лиду, подняться ей навстречу не смог.
А ее вроде бы не коснулась даже самой малостью усталость. Радость неудержимая, без упрята, щедрая: жив ее любимый! Жив! Будто несет ее крутым воздушным потоком по ходу сообщения, вот только крылья размахнуть во всю ширь мешают бугристые сыпучие стенки.
— Какое счастье! — прижала она податливую голову Владлена, так и не вставшего с железного сиденья, к животу. — Уж не чаяла…
— Лида! — хоть и не очень сердито, но все же весьма строго для такого момента прервал ее Владлен. — Лида!
— Верила, Владик, в наше счастье. Верила! Только творилось вокруг такое!..
Велик ли миг блаженства на фронте? Хоронить нужно убитых, отправлять на левый берег раненых, нужно приводить в порядок орудийные позиции, щели и ходы сообщения. Недосуг свой радостью радоваться. Да и подчиненные не дадут. Командиры взводов уже спешат доложить о сбитых самолетах, об израсходованных боеприпасах, о потерях, спешат получить новые указания. И пограничники все, кто не на причале, кто отсиживался в щелях и подвалах, тоже спешат к батарее, чтобы выразить свое восхищение, а заодно и помочь в восстановительных работах. Им-то, пограничникам, почти без дела пришлось пережидать налет, только одна застава оставалась охранять причалы от возможной, под шумок, диверсии. Ей, безусловно, немного досталось, остальные же живы и здоровы и совсем неуставшие. В момент батарейную позицию в порядок приведут. Тем более что есть распоряжение командира полка.
Что ж, спасибо ему огромное. Обидно только, что сам не идет. Не перегружен делами. Переправа примолкла пока. В себя приходит. Причина, значит, одна: не хочет с поклонником старорежимного говорить. Опасается. Богусловского не обижает его позиция — разве он один такой? Если бы один! И все же досадно, как могут люди отметать все прошлое, не зная его вовсе и не пытаясь даже познать? Проведена черта. За той чертой нет ничего доброго, заслуживающего внимания. Слепота. Национальная слепота!
Но разве он, Богусловский, может хоть что-то изменить в этом традиционном для страны подходе к истории. Конечно же нет. Большое для этого потребуется время. Не хватит жизни одного человека, одного поколения. И все же оно, то время, придет. Интеллигенция вначале пробудится, затем уж и остальная мыслящая часть нации. Появится новая традиция, и громче всех о важности корней в историческом древе станут глаголить нынешние ортодоксы. Попробуй кто-либо им в ту пору возразить — тут же пришпилят ярлык Ивана, родства не помнящего.
Ждать того времени Богусловский смысла не видел, поэтому переборол себя и сам сделал первый шаг к социально-бытовому, как он определил, примирению. Когда привели на батарее все в должный порядок и образовался спокойный перерыв, заявился он на КП погранполка.
— Благодарю вас, Игнат Семенович, от имени всех зенитчиков и от себя лично за действенную помощь. Лида и я просим вас в наш шалаш.
— Принимаю приглашение. Как не принять! Глядел я на твоих — душа радовалась! Можно простить даже твои призывы по кустикам в прятки играть. Заслужил.
— Так мы ждем, — не стал перечить Богусловский, — пока затишье. Не ровен час, вновь нагрянут.
— Без передышки не нагрянут. У них — режим. А я — сейчас. Доложит комбат с левого берега, есть ли у них от бомбежек потери или разрушения, и — иду.
Мог бы Богусловский и подождать майора Заварова, но не стал. Хотелось осмыслить свое с этим прямолинейным пограничником поведение. Отстаивать свое понимание происходящего, как ему думалось, совершенно бесполезно и даже небезопасно. Пока все эти словесные баталии — просто межсобойчик, но, не ровен час, доложит командир полка по команде. Долгом своим почтет. И для пользы дела. Чтобы сын уважаемого пограничного начальника не сбился с истинного пути патриота, не завяз в болоте космополитизма и не подвел бы тем самым своего папашу. Но и за правду стоять нужно. Отец на это всегда наставлял.
Что ж, думать нужно, как открыть глаза командиру полка, хоть чуть-чуть расшевелить душу, раззадорить любознательность. И пусть не сейчас, не вдруг прильнет он благосклонно к ратному прошлому России, пусть это случится потом, после войны (да теперь и не до книг, особенно серьезных), но, чтобы дерево выросло, как говаривал дед-генерал, его надлежит посадить. И чем скорее, тем лучше. Богусловский шагал устало к своему подвалу и думал, думал, думал. И как в сказке — придумал. Он станет пересказывать то, что слышал от отца, от матери, от деда. Именно эти рассказы пробудили у него самого, отрока, когда в голове довольно и ветра и мякины, желание потянуться к серьезной книге. К истории потянуться. А Заваров далеко не отрок. Да и не похоже, что уже оплыл он жиром безразличия. Официален он — верно, но откуда ему было получить больше того, что дали школа и училище?
«Именно так поступлю. Без споров. Просто о семье…»
О многом, видимо, подумал и Заваров, ибо за столом они не ершились, как прежде, не топорщили гребешки, как драчливые петушки, а вели беседу чинно, словно философы одной школы, которые вполне согласны, что Земля состоит из земли и воды и все это кружится и летит в безвоздушность. Заваров, хотя и не мог вот так, сразу, забыть недавние сравнительные оценки Богусловского, но решил не напоминать о них; он вел беседу сдержанно, как бы отдаляя себя, не допуская до сердечного сближения, как прежде было, с этим непонятным молодым командиром отчаянной храбрости, но с завихрениями в голове.
«Боец в деле, — оценивал Заваров Богусловского. — Тут он в отца пошел. А мысли — не того. С крамольцей они».
Свой приход в землянку он считал смелым шагом, ибо понимал, что, если Богусловский еще с кем-либо о своей позиции станет говорить и это получит огласку, упрека ему, Заварову, командиру полка, старшему по званию, не миновать. Все это и накладывало отпечаток на его поведение. Нет, острых вопросов они касаться не станут. Тормознет он, Заваров, Богусловского, если тот вдруг заговорит о своем. Так думал майор Заваров, но не так поступал. Слушал. Еще как слушал!
А началось все с похвалы. Принимая от Лиды кружку с чаем, Заваров изрек:
— Я уже ему, Владлену Михайловичу, сказал все, что думал о бое, а теперь повторю: боевой у тебя муж. Повезло тебе, Лидия батьковна. Орел. Одно слово — орел! — И добавил еще: — В ратном деле весь в отца.
— И не только, — возразил Владлен. — И в деда. Еще и в прадеда. Предки мои дальние тот устав, который вам так не понравился, писали. Кровью. Сто́рожи, они только против войска вражеского не вставали, чтоб, значит, не погибнуть без смысла, попусту, а воеводу оповестить, а что касается сакм — гоняли. Их так и звали: сакмагоны.
И начал рассказывать, не спеша, не перескакивая из века в век, а идя по ним от события к событию, и уж не предки его, Богусловского, оказывались в центре повествования, а вся ратная Русь. И о засечных линиях, возведенных от татарских набегов на южной окраине государства, и о летнем стоянии полков, из года в год, из десятилетия в десятилетие, на Оке, готовых в любой миг схватиться в смертном бое с крымчаками и ногаями. И выходило все так, что не беспечна была Россия, не в лапти ратники обувались, не вилами да косами врага встречали.
— Вот так и мужали предки мои. Чины добывали.
— Дворяне, выходит?! Чем хвастаешь?
— Ратные мы. Служилые.
— То-то. Дворяне все там, по ту сторону границы.
— Верно. Много их там. Не одно десятилетие они вражиться будут. — Это он не свои слова, а отцовские повторил. — Поколения сменятся, а вражда не пройдет. Убудет, это верно, но не исчезнет.
— Исчезнет! Фашиста разгромим — кто тогда против нас пикнет? То-то. — Помолчал многозначительно, затем спросил вполне серьезно, чтобы, видимо, вовсе развеять всякое сомнение: — Революция когда шла, где твой родитель находился?
— Трое братьев их было. Двое сложили головы за Советскую власть. Один, дядя Петя, — в Финляндии. Дядя Дмитрий — в Туркестане. Отец только жив остался. Но не оттого, что в скорлупе просидел. Зимний он штурмовал. А потом — с басмачами. Можно сказать, у истоков пограничных войск Республики. Дед тоже не в стороне был. Молодых краскомов учил. Богусловских не в чем упрекнуть!
— Выходит так: боевая семья. Отчего же у тебя в голове мешанина? Учись у родителя верности мысли и помни: отец за сына в ответе. Это я взял и промолчал, а другой на моем месте? Пятно на семью…
Как хотелось самому младшему из Богусловских бросить резко этому в общем-то симпатичному и знающему свое дело майору в лицо все то, о чем думалось ему, когда слушал он покровительственное назидание.
«Снисходительно по плечу похлопывает. По какому праву?!»
Начал вместо этого спокойный пересказ того, о чем рассказывала ему мать долгими вечерами, когда отца не было дома, о геройской, как она всегда называла, гибели Петра Семеоновича. Он знал все до мельчайшей подробности о последних неделях его службы, о том, что происходило тогда в Финляндии и отчего все это происходило, — мать теми рассказами многое заронила в юную душу Владлена, расшевелила любознательность, которая у него в общем-то была от природы, но дремала под спудом обычных школьных программ, и потянулся тогда Владлен к знанию.
— Самой трагичной, но и самой поучительной была гибель младшего моего дяди. До последней возможности он отстреливался вместе с председателем полкового комитета на колокольне церкви. Там и сгорели они. А причина тому одна: не пожелали те, кому положено это делать, заглянуть на сотню-другую в предреволюционные годы. Нет-нет, я не стану обобщать, а тем более крамольничать. Только факты…
Поджался весь Заваров, и понять его можно: он был твердо убежден, что все дореволюционное, в том числе и армия, ничего путного не представляли из себя, иначе отчего бы тогда народу нужда приспичила подниматься на бой кровавый, на святой и правый бой? Он не хотел быть даже участником разговора, который бы ставил под сомнение его точку зрения, вполне к тому же совпадающую с общепринятой, и даже обещание ничего не обобщать не очень-то успокаивало его. Но постепенно, слушая пересказ Богусловского о том, как по незнанию своему, по безграмотности своей, но, главное, из-за уверенности в себе, чрезмерной, ни на чем не основанной, ответственных лиц был выпущен в Германию Маннергейм, Заваров загорелся любопытством, а когда Богусловский начал рисовать картину совещания полкового комитета и полковых командиров, Заваров уже не замечал, что рассказчик преподносит факты специально так, чтобы показать, как упрямство одного человека, мало знающего и не желающего ничего знать, привело к большим потерям в пограничном полку.
— Мы в России, твердил тот, а Россия, она и есть Россия. Кого опасаться? Прикажут если, тогда — дело иное. А подумать ума не хватило: Россия ли она — Финляндия? Давно, еще Александром Первым, дарована ей автономия. Правящий ее класс уже созрел для полного отхода от России, и Ленин, верный марксистскому лозунгу о праве наций на самоопределение, уже принял просьбу Финляндии о полном государственном отделении. Было бы учтено это на совещании, полк оказался бы вне опасности. А так…
Владлен Богусловский, то и дело прерываясь, как делала и его мать, начал рассказывать о злоключениях пограничного полка, о последних минутах героической жизни совсем еще юного дяди Пети, и получалось у него так, словно он сам видел и обманный маневр пограничников, который позволил им вырваться из окружения, и встречу с щуцкоровской дивизией; будто он сам присутствовал при разговоре начальника штаба полка с председателем полкового комитета, а потом стрелял до последней человеческой возможности в окруживших горящую церковь врагов — он что-то, естественно, добавлял от себя, но фактически тогда случившегося в его рассказе было больше, чем фантазии. Заваров слушал, не перебивая, а Лида вовсе забыла об обязанностях хозяйки.
— Вот так. Предревкома жизнью расплатился за верхоглядство. Но добро бы — только своей, — грустно закончил Богусловский, понимая, что Заваров сразу же возразит, ибо поймет переносное значение рассказанного примера.
Вопрос, однако, прозвучал совершенно в иной плоскости:
— Откуда такие любопытные подробности? Вроде исповеди очевидца?
— Пересказ, вернее будет, очевидца. Бывшего начальника штаба полка Трибчевского.
— Ого! Боевая у него биография. Знаю. Посылали его устанавливать Советскую власть где-то в Семиречье. Сказывают, показал себя отменно. Вернулся потом в пограничные войска. Теперь — в верхах. Что, знаком с ним?
— Матери все это он рассказывал. Когда отец в Джаркенте еще служил. Отец мой Зимний штурмовал. Нижние чины Штаба пограничного корпуса избрали его своим командиром. После штурма возглавил он охрану Зимнего. Расхитили бы иначе…
— Рабочие да мужики не стали бы мараться, — возразил Заваров. — Не для того власть свергали.
— Вполне может быть. Только в Петрограде, видимо, кроме честных людей и иные всякие жили. Отцу с ними пришлось бороться. И там, и особенно в Москве. Чекисты брали на облавы и в засады. Ну, а потом — граница. В Туркестане. Где второй мой дядя погиб. Собой пожертвовал ради спасения коммуны. Нет, Богусловские ничем себя не запятнали.
— По тебе это видно. Смелый. Решительный! — И словно спохватившись, не зря ли восхваляет, вновь начал пенять: — Только не могу в толк взять, отчего не по стопам отца шагаешь? Лихо вы отбивались, слов нет, но с пограничниками я бы вас в один ряд не поставил. Наземный бой вести вы неумехи. Но вам простительно, а пехоте? А полевой артиллерии? А танкам? Я уже говорил, что только пограничники оказались вполне готовыми вести грамотно и сноровисто бой. Нет-нет, это не погранчванство. Вот скажи, не погибли бы вы там, у хутора, не подоспей мы? А вот заставы, малочисленные тоже, без орудий даже, по скольку дней держались?! Ко всему пограничник готов, потому как школа у него. Возьми меня: в каких переделках не побывал? Что ни день — мангруппе: «К бою!» Взводным я был в ней, эскадронным, потом только начальником стал. Все ступени прошел. Мы всегда малым числом били. Кто, скажи мне, может таким похвалиться в старорежимное время? Потому как дух у нас крепок! Еще, учти, в гражданской войне поднаторели.
— Верно. Очень верно, — уже не переча, а поддакивая Заварову, продолжил Владлен. — Только я добавил бы: вековой опыт обороны границ Отечества. Он тоже унаследован. Там, где ваша мангруппа с хунхузами и чириками сшибалась, ох как давно неспокойно. Вы, Игнат Семенович, не читали ли часом Бабкова?
— Какого Бабкова?
— Генерала. Он границу с Китаем разграничивал…
— Царский, что ли, генерал? Таких не читаю!
— Зря, между прочим. Он оголенно говорит о причине спора на границе. Она — в алчности богдыханской. Вылезли те из-за «ивового палисада» на сотни верст вперед, караулы поставили и завопили: «Наша земля!» Потом и этим не довольствовались, видя попустительство Российское. Вперед еще принялись временные караулы выдвигать. Приучать местных к себе. Постепенно, но настойчиво. Вот тут Россия и уперлась. Сколько смелости потребовалось, сколько мужества и дипломатам, чтобы хитрость маньчжуров отвести, и казакам, чтобы отбить вооруженный натиск. Упущенное наверстывали. Казаков-то тоже негусто было. Вот и приходилось сотне против нескольких тысяч. Побеждали. Еще как побеждали! Не пропал, думаю я, тот опыт воинский, народом обретенный. Народ, он из поколения в поколение передает все ему нужное, все ценное, и тут мы с вами, Игнат Семенович, бессильны что-либо изменить. Мы можем не признавать этого, можем открещиваться, но изменить — нет! Не можем.
— Чудно́ все это… Утверждаешь, что из рода в род — лучшее, надежней, а отчего в пограничники не пошел?
— Отец так порешил…
Заваров не услышал ответа. Он продолжал свою мысль без паузы:
— И в другом чудно́: новое что-то. Непонятное. Вроде бы и не по-большевистски, а не враждебно.
— Отчего же не по-большевистски? Орден Суворова, орден Кутузова, орден Александра Невского — это что, не по-большевистски?!
— Ну они — единицы. Остальное все — мракобесие. Не нам у них учиться. Пусть у нас учатся, как врага бить. У нас!
— Не единицы, Игнат Семенович, далеко не единицы. Тысячи. Многие тысячи. Блестяща ратная история Руси, а она не единицами делалась.
Владлен вел разговор. Он держал нить его в своих руках. Не его обращали в пограничную веру, а он навязывал свою. Нет, не веру. Убеждение свое. Рискуя репутацией, да и не только ею, он подбрасывал и подбрасывал поленья, чтобы разгорелся едва затлевший очаг познания. А что язычки, хотя и крошечные, начали лизать сухостойные коряги, Богусловский понял, ибо не вражился больше строго Заваров, возражения его носили, скорее, раздумчивый характер…
Не вдруг, не сразу меняется привычное понимание мира, много передумает человек, если он наделен этой способностью, много познает, прежде чем постигнет истину. Его истину, не навязанную, а им самим открытую. Только даст ли судьба человеку на все это время? У войны свои законы. Что для нее судьба человеческая?
Заварову будет это отпущено. Они с Богусловским о многом еще переговорят. Их встречи станут взаимообогащающими и потому желанными. Но станет это нескоро. К тому времени и сам Богусловский о многом будет судить осторожней, ибо знания перешагнут юношескую нахватанность и обретут глубинную зрелость. К тому времени и Заваров отрешится от своей ортодоксальности, и не только от познанного, но и под влиянием общественного мнения, под влиянием родившейся в народе жадности к истории. Отсчет же душевного перерождения Заварова так и пойдет от этой вот смелой, даже рискованной беседы, которая так и не окончилась: влетел посыльный от дежурного и бросил короткое:
— Воздух! Летят!
Здесь — это не Подмосковье. Здесь не было времени демонстрировать спокойность и выдержанность комбату: не давал враг много времени — аэродромы его под носом. Потому и сдуло как ветром Владлена и Лиду. А следом и Заварова. Его не ожидал бой, но он решил перебежать до начала бомбежки на свой КП.
Налет оказался долгим и настырным. Потеря (какое мягкое, обтекаемое слово, за которым укрыты великие человеческие трагедии!) понесли обе стороны. Без устали и без робости делали свое дело зенитчики: несколько вражеских самолетов, вздыбив вольную волжскую гордость, упокоились на дне великой русской реки, на берег которой так упорно рвались; два самолета, рассыпавшись от удара о землю и взрыва горючего и несброшенных бомб, жирно чадили между домами своими останками; несколько штурмовиков, оставив за собой дымные полосы, покособочили в степь, и что было с ними дальше — неведомо зенитчикам. Вроде бы много сбито, радоваться бы бойцам, только суровы и виновато-молчаливы они, ибо не уберегли от бомб причалы, корабли и баржи, к ним ошвартованные, да и в батарее есть не только раненые, но и убитые.
Едва успели зенитчики похоронить своих товарищей, фашисты вновь тут как тут. И снова поражающая настойчивость: волна за волной. Густо, непрерывно. Изматывает и нервы, и силы. Они в воздухе меняют друг друга, а зенитчиков кто сменит?
На следующий день еще трудней стало. Гитлеровцы оборудовали аэродром в степи совсем близко, расчеты не успевали изготовиться к бою после доклада с постов, и Богусловский отдает приказ: отдыхать, принимать пищу, не покидая орудий и приборов. Он позволил расчищать щели и ходы сообщения только у орудийных позиций и для подноса боеприпасов. Это для экономии сил. Есть же им предел у человека.
По всему чувствовалось, что враг вот-вот появится здесь, в Сталинграде, а, кроме пограничного полка и зенитной батареи, у переправы никого нет. А все, что перевозили с левого берега пароходы и баржи, все поглощала степь. В эти дни с Заваровым Богусловский встречался урывками — не до чаепитий было, тем более не до бесед: пограничники готовились к серьезной обороне, зарывались в землю на пустырях между домами, а в самих домах готовили огневые точки. Блуждающие, как они их называли. Работали пограничники без устали, понимая, что только хорошо организованная оборона поможет отстоять переправу от фашистов, когда они появятся здесь. А что появятся, ни у кого уже не было сомнений. Гитлеровцы вновь прорвали фронт и вышли на оперативный простор, оставив наши обороняющиеся части у себя за спиной. Захватчики рвались к городу, обходя узлы сопротивления, которые спешно готовились на их пути. Они, вполне возможно, знали, что серьезных сил в Сталинграде нет, и захватить его рассчитывали без особых усилий.
Очередной просчет! Все верно; так получилось, что советские дивизии отстали от гитлеровцев — в самом Сталинграде находились лишь части НКВД да несколько пограничных полков, и действительно, если сбросить со счетов морально-политический фактор, если не учитывать готовности бойцов и командиров дивизии НКВД умереть, но Сталинград удержать до подхода крупных армейских сил, то можно было вполне предвкушать парадный марш по улицам дымившегося развалинами города. Но…
«За Волгой земли для нас нет!» — сказали те, кому пришлось в малом числе встретить вражеские полчища в Сталинграде, и не вышло парада. Зубами цеплялись энкаведевцы за каждый дом, за каждую улицу, а им в помощь подходили и подходили народные ополченцы. Только стрелковое оружие было у них в руках, а против танков — только гранаты и бутылки с зажигательной смесью, но они смогли задержать вражеское наступление. Ценой многих-многих жизней. И тогда немецкие передовые части, перегруппировавшись, направили основные свои силы на захват переправ. Всю тяжесть этого удара приняли на себя пограничники, в руках у которых тоже были лишь винтовки и автоматы.
Разведка погранполка донесла: противник занял железнодорожную станцию Сталинград-1 и теперь движется к переправе. Перед ним — никого. И чтобы сбить темп наступления, разведчики вступили в бой. Дерзость такая дала какой-то выигрыш во времени: немцы посчитали, что не пара отделений перед ними (а огонь пограничники вели метко), и не полезли на рожон. Дождались танков и самоходок. Пока те пришли, пока обстреливали развалины, откуда встречали пехотинцев смертоносные, хотя и редкие пули, время шло.
Всего лишь на полчаса задержала разведка немцев, не великое вроде бы дело — что полчаса для хода и исхода великого сражения, если учесть еще, что произошла задержка наступления всего на нескольких десятках метров фронта; но здесь полчаса, еще где-то полчаса-час, и ход битвы меняется, она становится тягучей, начинает впитывать в себя резервы с обеих сторон.
Гитлеровцы первыми подтянули резервы. Волга — вот она, рядом. Еще один нажим, и переправа в руках. Зенитные орудия, захватив, тоже можно пустить в дело: обстреливать причалы на противоположном берегу. Их задача казалась им не столь трудной. Пограничники же пока надеялись только на самих себя, понимали трудность боя, но они твердо знали: переправу нужно удержать. Коса, как говорится, нашла на камень. Тем более, что камень вскоре покрепчал: майор Заваров проявил самовольство, подчинив себе минометную батарею, которой надлежало проследовать после переправы в чье-то распоряжение.
— Победим — спишется. Ну, а если что… Не с кого будет спрашивать. За Волгу не отступим!
Полегче обороняющимся стало, как мины полетели во вражеские скопища. Полегче. У фрица пока только пехота да танки с самоходками, снарядами из орудий не достанешь минбатареи, за бугорком устроившейся, а атаки пехотинцев пока захлебываются. Метко бьют пограничники. Ох как был прав фюрер, приказавший солдат в зеленых фуражках в плен не брать.
Пограничники об этом приказе тоже знали, потому никак не входило в их расчет подпускать к себе фашистов, тем более оказываться в их власти.
Вскоре Заваров разжился еще и крупнокалиберными пулеметами. Великая сила. Только, похоже, дело вот-вот до рукопашных дойдет, где уж ни минометы, ни крупнокалиберные пулеметы не помогут. Упрямы фашисты. Настырничают. А сил у них все прибывает и прибывает. Если еще и минометы подтянут — совсем тогда плохо придется.
Четвертый час боя на исходе. Заваров все чаще поглядывает на Волгу: когда забугрятся на ней корабли и баржи? Нет. Течет она с пристойной ее званию величавостью и течет. Верит наверняка, что в обиду ее не дадут.
Она имеет на это полное право. Много она потрудилась, чтобы стать не Итилем, а Волгою-матушкой, великой рекою русской. И боевые корабли ушкуйников, щитами от стрел татарских упасаемых, несла на крутой волне к берегу, чтобы высыпали на кровавую сечу богатыри земли новогородской. Потом и московскую рать, стрельцов и казаков-сакмагонов донесла на вольной стремнине до самого сердца татарской земли, и пошла гулять молодецкая силушка по степи, пока поганые не припустились от Угры-реки спасать добро, прежде у русских награбленное, и рабов своих, тоже из Руси угнанных. Так все тогда обернулось для России ловко, что не помышляли уж больше татары об ясаке. Вздохнула Русь. Не полногрудно, нет еще, но с великим облегчением.
Лиха беда — начало. Вот и подошел срок нести реке-матушке пищали да ядерный запас к ним аж под самый под Астрахань. Ни одного корабля не потопила она, служа службу добрую стрелецким полкам и казачьим ватагам. А сколько потом добра перевезла она за многие века на своих плечах — одному богу известно! Благодарен был ей за это народ русский, лелеял, оберегал от врагов. Как Волгою стала она — ни одна нога супостата не поганила ее берега…
Неужто свершится постыдное?!
Наседают гитлеровцы. То одна застава сойдется в рукопашную, то другая. Заваров едва успевает затыкать дыры своим резервом. И уже нет у него лютой злости (не пустить фашиста к Волге — и все тут!), и виною тому не только вражеская оголтелость и сила, а, скорее, одиночество. Да, полк стоит насмерть, но нужно ли это кому? Будто вымерло все вокруг, вроде бы на том, левом, берегу тоже никого. При такой ситуации конец один — гибель.
«Орудия бы сейчас. Танки! — думал Заваров, совсем забыв о своих убеждениях, что техника — обуза. — Самолеты нужны! Ох как нужны!»
Нет, он не думал об отступлении. За Волгой земли для него и для всех бойцов и командиров пограничного полка нет. Но к Волге-то гитлеровцы прорвутся. Как пить дать — прорвутся. Захватят переправы! Что тогда?!
И вновь посылал из обмелевшего донельзя резерва группу бойцов выручать заставу, схватившуюся на фланге в рукопашной.
Вдруг долгожданное и радостное:
— Левый берег на связи!
Потом едва понятное, с треском и хрипом, но такое родное:
— До двадцати двух ноль-ноль держитесь. Во что бы то ни стало…
Какие могут быть сомнения. Раз велено, значит, — будет выполнено. К тому же и времени всего ничего. Четыре часа всего. Семечки. Разве привыкать пограничникам? Была бы цель ясной. Теперь она есть. Теперь комиссар не по телефону, нет, а бегом — в ближайший батальон. Потом в следующий, потом еще… Объяснит бойцам задачу. Особенно коммунистам и комсомольцам свое мобилизующее слово скажет, и удвоятся силы полка. Так было. Так будет.
Еще одна атака гитлеровцев. Они давно в рост не ходят, спесь с них уже сбита, но от этого нисколько не легче. Осаживать, когда валом валят, хотя и беспрестанно плюющимися автоматными очередями, куда сподручней, чем встречать ловко перебегающих от укрытия к укрытию. Туго становилось полку. Совсем туго. А отступать нельзя. Теперь уже не только потому, что клятва дана, теперь ради жизни тех, кто должен к двадцати двум ноль-ноль ошвартоваться у причалов либо просто выскрестись носом на прибрежное мелководье. Прорвись немцы через боевые порядки полка, сколько красноармейцев не коснутся ногой правобережной тверди?!
И зенитная батарея погибнет. С командиром вместе, крепким парнем, хотя и мозги у него набекрень. И жена его, красавица, не познает счастья материнства.
Прислушивается к звукам боя Заваров, чутко прислушивается. Да, он верит донесениям, как не верить комбатам, испытанным в боях, опытным, но и сам не плошает. Вот на левом фланге первого батальона пошли в ход гранаты. В штыки, значит, сойдутся. Или минует? Пронесло. Вновь винтовки и автоматы заговорили. Заваров облегченно вздохнул.
Но вот в центре обороны похужело. Гитлеровцы прорвались в дом, из которого и по зенитной батарее можно стрелять, и по причалам. Смяли обороняющуюся там заставу. Нет, еще не выбросили ее из дома, еще в нем идет бой, но медлить с помощью никак нельзя.
— Батарею! — требует Заваров. И уже в трубку: — Владлен, — первый раз так, по-дружески, — Владлен, всех, кого можешь, в дом над тобой. Готовы, говоришь? Отменно! Сам поведешь? Добро. Там и встретимся.
Заваров тоже решил сам вести остатки своего резерва. Дальше влиять на ход боя ничем он уже не мог, а уступить гитлеровцам дом над спуском к реке, погубить, значит, все дело, расписаться, значит, в том, что приказ держаться до двадцати двух ноль-ноль полк выполнить не в состоянии: причалы окажутся под огнем автоматов, а если установят фашисты крупнокалиберные пулеметы, встретят огнем переправляющиеся подразделения еще далеко до берега. Нет, он не мог рисковать, хотя понимал, что рискует великим — потерей управления полком. О себе и говорить нечего: в самое пекло лезет. Без права возврата, если успех не сладится. Гоже ли это командиру полка?
Гоже. Когда надо. Спросил Богусловского:
— Кого за себя оставил? Ясно. Передай ему: если мы дом не отобьем, пулеметными установками — по окнам. Только это спасет батарею и обеспечит переправу…
Не внес Заваров своим мизерным резервом серьезных изменений в схватке за дом. Вроде бы сразу дрогнули немцы, осталось всего несколько комнат очистить, но подоспела и им поддержка, не в пример заваровской, солидная, и вновь туго стало пограничникам. Не удержать дома. Никак не удержать.
— Отходить на второй этаж! — передал приказ Заваров. — Блокировать лестничные клетки.
Выход, конечно. Позволит этот маневр сохранить людей, посопротивляться еще, выиграв какое-то время. Не до двадцати двух ноль-ноль, нет. До положенного часа дом не удержать. Никак не удержать. Заварова даже сомнение взяло: зря полез сюда. Мог бы как-то, находясь на КП полка, повлиять на ход боя, на левый берег, в конце концов, позвонить, поторопить с переправой красноармейцев. Своему батальону, наконец, приказать переправиться с левого берега. Нарушить приказ вышестоящий, взять на себя ответственность. Минометы же и крупнокалиберные пулеметы захватил. Чужие. А тут — свой батальон.
«Раньше думать нужно было! — ругал он себя. — Раньше!»
Что верно, то верно. Дорогой недогляд, дорогая нерешительность! Для всех, кто здесь, со второго этажа путь только на третий. А дальше? Ему-то, командиру, поделом, раз в храбрость поиграть захотелось, а заставы жаль. И зенитчиков тоже. Комбата особенно. Остудить бы ушатом холодной воды его командирскую браваду, велеть бы батареей командовать, а не в рукопашную спешить, так нет: «Добро. Там встретимся…» Нашел место для встречи!
Реже стреляют пограничники. Патроны берегут. Автоматчики, те умудряются даже одиночные отсекать. Нужда научит есть калачи. А фашистов на первом этаже полным-полно. Выплескивают автоматные очереди вверх без передышки. Толку, верно, от такой стрельбы совсем нет, а если вниз пущена граната — ощутимо косит. Жаль только, что не особенно раскидаешься ими: счетно осталось их у каждого.
Вот-вот фрицы начнут штурм второго этажа. Сразу по всем лестничным пролетам. Так считал Заваров, ставя себя на место врага.
«Устоять! Во что бы то ни стало!» — убеждал себя Заваров. Это же повторял он, делая смотр не слишком обильному войску своему, для чего пробивался от секции к секции сквозь проломы в стенах, еще от бомбежек образовавшиеся. Ему нравилось, как пограничники разместились над лестничными пролетами, сами в укрытиях, а стрелять могут вниз прицельно. Не так-то легко придется штурмующим. И все же посильно им, считал Заваров, одолеть межэтажье. Посильно!
В одной из групп встретил Богусловского. Не комбата в данный момент, а рядового бойца, изготовившегося к стрельбе из автомата. Под правой рукой лежат три приготовленных гранаты. Остаток.
— До последнего будем стоять, старшой? Как твой дядя на колокольне?
— Не дойдет до такого. Я верю в свое счастье!
— Ну-ну. Дай-то бог.
Не бог дал, а старшие командиры. Раскусили в дивизии НКВД намерения гитлеровцев и, как ни тяжело было самим, послали по одной роте, усиленной сотней ополченцев, к каждой переправе. И когда посланная к первой переправе рота с ополченцами подошла к КП пограничного полка, начальник связи (он только один оставался на командном пункте и главной задачей своей видел поторопить с переправой левый берег) обрадовался несказанно и сразу же направил всю прибывшую силу к дому, где застрял командир полка.
Совсем неожиданно как для немцев, так и для приготовившихся к трудным минутам боя пограничников, полетели в окна и проломы гранаты и с черных ходов влетела, сыпля автоматными очередями, рота энкаведевцев. Ополченцы тем временем обтекли дом с обеих сторон, чтобы, как им была поставлена задача, бить по отступающим фашистам. Не допустить вместе с тем и подкрепления, если немцы станут бросать в бой новые силы.
Со второго этажа, поняв, что подоспела помощь, ринулась застава в рукопашную, и немцы, которые, придя в себя, начали было отбиваться от энкаведевцев, сломались.
Еще бой продолжался, еще небольшие группы фашистов отбивались, укрывшись в комнатах, а Заваров уже, взяв с собой два взвода и зенитчиков, поспешил на КП полка. Оставшимся в доме (теперь их — сила) приказал стоять насмерть, до двадцати двух ноль-ноль не отступать ни на шаг и немцев в дом не пускать.
На КП Заварова ждала новая радость: батальон полка, оставив только одну заставу для охраны левобережных причалов, переправляется на помощь. Буксиры с баржами вот-вот подойдут.
Да, Заваров уже видел их по дороге на командный пункт и даже подумал: «Не к нам ли?» Вышло, что к ним. Целый батальон. Сила!
«С таким резервом против черта устоять можно!»
Устояли. Как ни давили фашисты, сколько резервов ни бросали — а они у них тоже, видимо, ограниченными оказались, — пограничники не дрогнули. У Заварова даже возникла мыслишка, не предпринять ли контрудар, но вовремя одумался он, не стал рисковать и бросать людей под пули. Так и оборонялись. До самых двадцати двух ноль-ноль. И встретили с радушием хлебосольных хозяев свою смену. Все отдали. И окопы, и ходы сообщения, которых особенно много осталось от зенитной батареи, и крупнокалиберные пулеметы, временно подчиненные волею Заварова пограничному полку, и даже минометную батарею. Сами же позаставно снимались с обороняемых позиций и в такой же последовательности переправлялись на левый берег.
Командир полка майор Заваров уходил последним, вместе с двумя заставами, которые оставлял он, чтобы помогли они погрузиться на баржи зенитной батарее, коей тоже было велено перебазироваться на левобережье.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Михаил Семеонович едва сдерживал себя, чтобы не понукнуть шофера, который, как ему казалось, ехал сегодня медленней обычного, словно по гололеду, хотя дорога и была уже укатана санями и, особенно на поворотах, отглажена полозьями юзом скользящих розвальней; но конский навоз густо протаял на дневном солнцепеке, и шоферу не было нужды бояться заноса. Богусловскому хотелось поскорей поделиться распиравшей его радостью с Анной, но и на сей раз не изменил он своему правилу и не навязывал шоферу свою волю. Ему видней: он за баранкой.
А шофер тоже спешил. Не оттого, конечно, что понимал состояние своего «хозяина», ибо он сам тоже находился в радостном возбуждении после только что услышанной новости.
Еще с обеда среди шоферов начсостава прошел слушок: поступил приказ формировать пограничную дивизию для фронта. Но подобные известия возникали уже и прежде, поэтому не особенно верилось очередной байке, полученной «из верных источников», от писарей. И вот, когда начальник штаба, устроившись, как обычно, поудобней на заднем сиденье, сказал привычное: «Поехали домой», шофер осмелился задать вопрос:
«— Правда, что дивизия формироваться начнет?»
«— А ты поедешь со мной?» — вопросом на вопрос ответил Богусловский, и шофер возликовал.
Да как же это он не поедет?! Как можно сомнение держать на этот счет?! Ему хотелось петь, ему хотелось выпалить все волнующее своему очень уважаемому «хозяину», но он продолжал молча вести машину. Он же мужчина, и не ему нюниться в платочек.
Тормознул у подъезда, подождал, пока не впустит «хозяина» дверь, понимая теперь его нетерпеливость и его возбужденность и разделяя вполне его радость. Развернул поспешно легковушку и покатил в роту, представляя, какой там сейчас разговор, и предвкушая реакцию шоферов на его пересказ беседы с «хозяином».
«Повоюем! Ох и повоюем!»
С этими же мыслями, что наконец-то пришел и его черед бить фашистов, шагнул в прихожую Михаил Семеонович.
— Великолепнейшая новость! — целуя привычно жену и позволяя ей расстегивать портупею, восклицал Богусловский: — Радостная! Формируем дивизию! Для фронта!
— А у меня тоже радость для тебя, — не улавливая еще сути мужниного сообщения, отвечала Анна, лучась вся улыбкой. — Письмо от Лидушки с Владиком. Живы. И, как я поняла, что-то у них назревает доброе. Не личное. На фронте.
— Назревает, Аннушка моя, назревает. А скоро и я сыну на помощь двинусь.
Вот теперь только дошел смысл сказанного прежде Михаилом. И вихрем закружились мысли о неизбежных переменах в улаженном их быте, о непременной разлуке, об еще большей опасности, в какую попадет ее муж. Анна, обмякшая, прижалась к мужниной груди и грустно вздохнула.
— Ну, будет, будет, — погладил он ее по голове. — Ты же сама разделяла мое стремление ехать на фронт.
— Верно. Только все это неожиданно. Вот так. Вдруг.
— Не вдруг. Грядет великое. Такое, что япошек тоже отрезвит совершенно.
Слишком смелое предвидение. Совершенно сбить спесь с алчной милитаристской клики может только их полный разгром. Пока же они сами праздновали победу. За Перл-Харбором последовали Гонконг, Малайя, Бирма, Голландская Индия, Филиппины и Соломоновы острова, Таиланд… Точили японцы зубы уже и на Австралию, и на Индию. Даже на сами Соединенные Штаты Америки. Совместно, конечно, с Германией. И безусловно, после того, как будет поставлен на колени Советский Союз.
Пучилась Квантунская армия. Ждала благоприятного момента, как это было определено на императорской конференции в Токио еще 2 июня 1941 года. А момент тот был уже совсем близок — Сталинград. Знало наше правительство об агрессивных намерениях Японии, и, хотя фронт требовал все свежие и свежие силы, все же находило оно и людей, и технику для Дальнего Востока. Большие резервы там держало. Давно уже не перебрасывались отсюда на фронт крупные соединения. Давно. К этому привыкли и жили здесь по законам фронтовым, в ожидании тайфуна, в готовности встретить его достойно. И вот — приказ. О формировании целой дивизии только из пограничников. Значит, вздохнулось свободней. Значит, не такой уж реальной стала угроза вторжения Квантунской армии в наши земли. Только вряд ли можно говорить о полном отрезвлении японской военщины. Нескоро оно, отрезвление, наступит. И доживет ли он, Богусловский, до того благодатного дня?
— Это же, Анна, здорово! — продолжал Богусловский, потерявший в тот вечер реальность мышления.
Едва успел Михаил Семеонович, не прекращая свои возбужденно-радостные рассуждения, переоблачиться в домашнее, как нагрянули Оккеры. Без приглашения и предупреждения. Не с радостью, а с тревогой своей. Через несколько дней их дочь уезжала на фронт, никак не желая остаться здесь, хотя ее распределили в укрепрайон совсем недалеко от Хабаровска.
— Добилась своего, — с заметной гордостью, промокая набухшие слезами глаза, говорила Лариса Карловна. — Добилась…
Владимир Васильевич относился к поступку дочери тоже двойственно: он и расстроился, ибо уже знал до этого, куда направлялась Виктория, привык к этому, и вдруг — такое; но он не мог и не гордиться дочерью, понимая, какая настойчивость потребовалась от хрупкой девчонки для того, чтобы добиться своего; только все эти его личные переживания отступали от главного — Оккера угнетали мысли о той сложности, какая наступит после отправления дивизии на фронт. Уедут лучшие и самые опытные пограничники, а взамен придет несмышленая молодежь, да и то не сразу; японцы же, вполне возможно, прознают, что заставы обезлюдят, и как пить дать усилят провокации. Белоказаки тоже полезут. У хунхузов наглости прибавится. Жалел Оккер и начальника штаба. Надежного работника и не менее надежного друга.
Вот с такими, совсем не схожими, настроениями сели за стол, наспех сервированный к чаю. Каждому хотелось высказать свое, сокровенное, но каждый понимал состояние остальных, опасался, не случилась бы неловкость от его назойливости, оттого разговор за столом поначалу не ладился. Свела же в одно русло все их разнополосные состояния главная, всех одинаково волнующая тема — положение дел на фронте. Уместным тут оказался и разговор о скором отъезде Виктории, и письмо Владлена пришлось ко времени, тем более что когда внимательно в него вчитались, то поняли: под Сталинградом готовится крепкий по фашистам удар.
— Вот и пособишь, Михаил Семеонович, сыну. И то верно: пора расправить русскую грудь. Пора. Сколько же можно пятиться? Со времен татар такого урона не несли мы. Пора, одно слово. Иль вовсе неумехи мы да трусы, чтоб, значит, немцу, битому-перебитому прежде, спины казать?! — заговорил вдохновенно Оккер. — Все на фронт рвутся! Вся Советская страна. Вон дочь моя, пигалица пигалицей, а туда же! Неужто не переломим хребет зверюге, навалившись всенародным гуртом?!
— Брусиловский расчет и брусиловская великая смелость нужны, — возражая Оккеру, перебил его Богусловский. — Энтузиазм масс — важный фактор, только к нему, энтузиазму, хорошо бы приложить умелое стратегическое и даже тактическое мышление. Артиллерия мощная нужна. «Катюши» нужны не по счету. Авиация… Без современной техники, без новаторского использования такой техники мы так и будем только отмахиваться да стоять насмерть. Как мне видится, прорыв нужен. Брусиловский прорыв. Только еще лучше скоординированный. Все фронты должны на него работать.
— И куда же ты намерен прорываться? — шутливо спросил Оккер. — К Черному морю?
— Именно — туда! Отсечь кавказскую группировку врага от Сталинградской и бить их частями…
Богусловский развивал свой стратегический план разгрома фашистов, как он назвал, на первоначальном этапе, в котором много было маниловской фантазии, но немало и доброго, верного. Оккер то возражал, то соглашался, и было похоже, будто им поручено разработать план предстоящего под Сталинградом наступления. Они забыли про чай, про свои семейные огорчения и радости, они думали за страну и ничего необычного в том не было. Тогда в любом уголке огромной нашей державы, в каждой квартире, даже в каждой хатенке, затерявшейся где-то в глубинке, едва собирались мужчины, как начинались разговоры о фронте, и все в тех разговорах были стратегами. Ну а что тогда говорить о среде военной, кадровой, профессиональной? Да, нация искала Невского, Донского, Нахимова, Суворова, Кутузова, Брусилова, Чапаева, в конце концов. Искала упорно. На всех уровнях.
И нация нашла. Но только она пока что не знала этого. Ленинград, а затем Москва уже выделили нового полководца, но песни армия все еще пела о тех красивых победах, которые в один миг совершатся, когда их в бой пошлет товарищ Сталин и первый маршал в бой их поведет, хотя каждому красноармейцу, даже самому малограмотному, вполне виделась фальшивость ничем не оправдавших себя на деле бравых посулов и радужных надежд. Поймет нация о своей находке после Сталинградской наступательной операции, которая взбодрит приунывшие города и села во всей нашей стране, но которая еще и удивит мир: почти на коленях стояла загадочная нация, и вдруг — такое! Зауважали ее еще больше, почтительней стали принимать наших дипломатов, а ряды антифашистов после Сталинграда многолюдели и стальнели.
Круто изменятся после Сталинградской победы разговоры в квартирах и домах необъятной нашей Отчизны — не стратегами-советчиками станут люди, а восторженными почитателями того, что свершилось, но еще более того, что — теперь было уже видно — свершится.
«— В Берлине конец войне! В Берлине», — теперь уже с полной уверенностью станут повторять официальные постулаты все наши люди.
Но пока приоритет держали стратеги, разрабатывающие для успокоения самих себя великие планы разгрома захватчиков. Не составляли исключение и Оккер с Богусловским. Правда, их стратегические разработки выглядели вполне реально. Особенно идея Богусловского о расчленении сталинградской и кавказской группировок врага.
Потом, когда война уже останется за чертой десятилетий и перейдет в разряд истории, в тиши ученых кабинетов родится даже что-то вроде обвинения: недодуман заключительный этап Сталинградского сражения, что позволило немецкому командованию вывести войска с Кавказа без спешки и, значит, без потерь. Теоретикам, безусловно, видней, только стоит ли забывать мудрость народную, которая бьет не в бровь, а в глаз: по осени и баба умною становится?
Видимо, по одежке вытягивали ножки. В этом вполне убедился Богусловский, испытавший на себе, как еще силен был в тот период войны немец. Всего через три месяца убедился. В февральские вьюжные дни сорок третьего.
Один за другим подходили эшелоны стрелковой дивизии. Спешно выгружались автомашины, орудия, минометы и — вперед! Им предстоял двухсоткилометровый бросок до Дмитровск-Орловского и наступление. Им предстояло гнать на запад фрицев, продолжая общее наступление, начатое еще в октябре и принесшее великую победу — полный разгром и пленение сталинградской группировки вражеских войск. Ввод новых сил (целая армия пограничных и внутренних войск) позволит, как считал командующий Центральным фронтом Рокоссовский, поддержать темп наступления его фронта, которое уже все чаще и чаще пробуксовывало. Немцы уже начали приходить в себя и не только обороняться, но даже осмеливались контрнаступать.
«Перед пограничниками не устоят!» — твердили горячие головы, предвкушая новые за то награды и повышения в чинах и званиях.
Не чинов, правда, ради, но и Богусловский в первые часы и даже первые дни после получения приказа вполне разделял приподнятость духа всех:
— С корабля — на бал! Сразу и проверим себя, чего стоим.
Он отправлял и отправлял колонны людей и техники в свистящую круговерть, принимал новые составы, потому не видел, что сталось на марше с колоннами, не знал их менявшегося душевного состояния. Пока он был занят только тем, чтобы поскорее уходили за город роты, батальоны и полки, не задерживались бы, не создавали сумятицы на станции и в городе. Ему даже не оставалось времени хотя бы мельком осмотреть город, где, как ему думалось, проливали кровь его пращуры, обороняя украины русские, и где теперь он, их потомок, поведет полки на врагов.
Столько ратной силы было у его знатных пращуров! Они не воеводили в крупных сечах, они исполняли свою службу, службу сакмагонов, дозорили на засеках и, если лихо наваливалось, лазутили, обеспечивая воевод сведениями о противнике. Случись хоть часок-другой досуговых, о многом бы поразмышлял тогда Богусловский, но дивизии передали приказ фронта еще на дальнем подходе к Ельцу, и в штабном вагоне главенство захватила карта. Над ней колдовали, чтобы можно было всем «прочитать» замысел командира и уточнить свои задачи, и едва успели до подхода к Ельцу сделать все нужное в таких случаях и провести совещание с командирами и штабами полков. Потом навалилась выгрузка — тут обо всем забудешь, родную мать не вспомнишь.
Вольно мыслям его стало, когда он догонял передовые колонны, вначале на машине, а затем, оставив ее, на лошади. Трудно все он воспринимал, очень трудно: оставленные в сугробах автомашины, орудийные прицепы бездвижно и угрюмо чернели на девственной белизне, взывая к помощи. А чем он мог помочь? Он уже начинал понимать, что происходит что-то не совсем разумное, что нужно фронту изменить решение; он даже сказал об этом комдиву, но тот только осерчал. Сам он уже докладывал по команде подобные же сомнения, но ему твердо сказали:
— Выполнять приказ! — И добавили, играя на самолюбии: — Пограничники на фронте показали себя мужественными и исполнительными бойцами. Ваша дивизия не вправе вносить в это поправки.
Вот так. Вперед, стало быть. От села к селу, которые все еще не могли прийти в себя от короткой, но жестокой оккупации. Орудия — на руках. Минометы — на спинах. Вперед, по пояс в снегу.
Богусловский, как и все старшие командиры, поначалу ехал верхом, стараясь не вмешиваться в действия ротных или батальонных, когда те руководили, иногда неумело, протягиванием орудий сквозь заносы; делал он это вроде бы в полном соответствии с армейским укладом, но это было противно его натуре: раз он не мог ничем помочь бойцам как командир, место, значит, его в орудийных постромках.
— Эка работенка! — упрекнул его комдив. — И лет тебе не двадцать пять, и силы тебе на иное дело беречь надлежит.
Ответил твердо:
— Иное теперь мне не под силу.
Хотелось еще добавить расхожую фразу, что не бог, дескать, и не волен командовать небесной канцелярией, которая в такой неудачный момент распорядилась быть на данном участке земли метели; хотелось также добавить, что тем более не наделен полномочиями пустить впереди колонн хотя бы несколько танков, чтобы пробивали они дорогу, а еще лучше — бульдозеры или грейдеры, тогда бы и машины не пришлось бросать и двигались бы полки куда проворней; только не сказал Богусловский ничего этого, ибо понимал никчемность и даже нелепость и шутки, и сетования. Комдив не хуже его, Богусловского, все понимает.
Убедился в справедливости упрека комдива, в никчемности перетаскивания вместе с бойцами орудий через заносы Богусловский только к вечеру, когда посыпались доклады от полковых штабов о том, что график движения нарушен, поэтому требуются уточнения, нужен другой график, реальный, пусть на пределе возможных сил, но все же — реальный, а ему, Богусловскому, уже не до графиков, ему бы поспать, уткнув нос в ворот полушубка, как это делают рядовые бойцы, не обремененные никакими заботами. Их покормили, им определили места отдыха в сарае, в землянке, а кому повезло — в избе, и они отключились от всего на свете до самой команды «Подъем». Как сейчас хотелось Богусловскому сказаться на их месте, чтобы вот так же, по-молодому здорово и беспечно, отдаться сладостному сну! Увы, ему нужно думать не только о себе. К тому же в весьма непривычных условиях: штабные командиры по примеру своего начальника тоже впряглись в орудийные лямки, и штаб оказался рассыпанным. Никто даже не позаботился о помещении для штаба, где бы можно было спокойно поколдовать над картой, готовя для командира дивизии новые данные о движении и доклад в штаб армии.
«Каждому свое! — досадовал на собственное мальчишество Богусловский. — Каждому свое!»
В ту ночь, однако, заснуть Богусловскому не удалось совсем по иной причине.
Командир батальона, в одном из взводов которого Богусловский мял снег, распорядился оставить дом для штаба дивизии, вполне верно полагая, что штабные командиры потянутся на ночь глядя к своему начальнику, но Богусловский не принял, как он посчитал, щедрой жертвы. Штаб он уже решил не созывать на ночь под единую крышу, а новый график и положенный доклад в верха отработать завтра, когда полки двинутся в путь и станут свободными дома́, поэтому согласился лишь на комнатку в доме.
— Боковушку какую-нибудь. Для меня с ординарцем и для вас, командование батальона. Вместе заночуем.
Приказ начальника для подчиненного — закон. Тем более такой приказ. И когда Богусловский с командирами, его сопровождавшими, подошел к небольшому, на три комнатки, дому, тот уже сладко похрапывал. Спали даже в сенях, оставив лишь узкую пустоту для прохода.
Осторожно, чтобы ненароком не наступить кому-либо на ноги, прошли командиры в отведенную им комнатку, крошечную, с одним оконцем, задернутым ситцевой в мелких цветочках занавеской; таким же ситцем устлана была никелированная кровать, занимавшая всю правую стенку; с занавеской и покрывалом гармонировали обои, такие же дешевенькие и такие же яркие; отделяла от других комнат эту крошечную убогость беленая русская печка, к которой была приставлена широкая лавка, а верх печки тоже был задернут цветастой занавеской. Печка, явно перетопленная, дышала жаром, и Богусловский, радуясь теплу и не замечая застойной духоты, которая пропитала, казалось, и стены, и занавески, сбросил полушубок и, даже не выбив из воротника набившийся в него снег (высохнет у печки), положил его на лавку и блаженно, до хруста в суставах, потянулся.
— Прошу к столу, — экономя отпущенное на отдых время, пригласил командиров ординарец комбата. — Прошу.
Стол уставлен был основательно: консервные банки, вскрытые уже, призывно манили жирностью; хлеб, нарезанный щедрой рукой, без нормы, аппетитно коричневел шершавыми корочками; кружки, наполненные фронтовыми стограммами, источали дразнящий водочный аромат, а на самой середине стола, главенствуя и затмевая все своей внушительностью, бугрился большой черный чугун с вареной в мундире картошкой, от которой, когда ординарец открыл крышку, пошел по комнате ядреный, так привычный каждому русскому человеку дух, что у всех потекли слюнки.
— Хозяйка расстаралась, — пояснил ординарец. — И красноармейцам наварила и вот — нам…
— А где сама? — спросил Богусловский. — Что ж ее не позвали к столу?
— Звали. Стесняется, должно. На печи вон.
— Чего стесняться? Давай зови. Как без хозяйки? — настаивал Богусловский. — Нам стесняться нужно, если без хозяйки.
На печи сдавленно зарыдали, и, как поняли гости, в два голоса, и Богусловский сам поднялся из-за стола, встал на лавку, откинул занавеску и, всмотревшись в жаркую темность, разглядел девочку и женщину. Девчонка лежала, вытянувшись, и, если бы она не всхлипывала горестно, вполне могла бы сойти за покойницу. Женщина сидела, сгорбившись по-старушечьи, и тоже всхлипывала, гладя по голове девчонку, чтобы, видимо, успокоить ее.
— Освобождение пришло — радоваться надо, а не плакать, — ляпнул Богусловский совершенно неожиданно для себя и вполне поняв задним умом нелепость сказанного, ибо не нужно быть большим психологом, чтобы понять, какое у этих женщин большое горе.
— Да мы и радуемся. Пораньше только бы свобода эта, — выдавила женщина надтреснутым старушечьим голосом и всхлипнула, явно усилием воли сдержав рыдание.
Какое-то время Богусловский растерянно молчал, никак не находя должных к такому состоянию хозяек слов. Потом попросил:
— Спускайтесь вниз. Расскажите. В силах наших если — поможем. А нет если… От исповеди тоже легчает.
— Кто ж теперь нам поможет? — вздохнула со всхлипом женщина и согласилась: — Хорошо. Повечерюю с вами. — И к девочке: — Спустимся, доченька?
Доченька зашлась в приступе отчаянного плача, и женщина-мать заскороговорила:
— Хорошо-хорошо, лежи. Уснуть постарайся. Пересиль себя. Убивайся не убивайся, пользы — чуть.
Налили и хозяйке в фронтовую кружку, она не стала капризничать, чокнулась со всеми и жадно выпила, даже не почувствовав, видимо, ядреной крепости скупо разведенного спирта. И тут же осоловела. От закуски отказалась. Свесила голову на грудь.
Безвольная расслабленность, неуемное горе не могли скрыть той обаятельности, какую обретает женщина в расцвете сил своих; лицо ее, хотя и заплаканное, утомленное, с синими кругами под глазами, оставалось все же привлекательным, а старческая согбенность не укрывала ладности по-деревенски крепкого тела. Да, налицо полный разлад духовного состояния с физическим. Отчего? Мужчины ждали ответа.
Не вдруг она поведала о своем великом позоре. Не вдруг. Стыд мешал. Обычный стыд опозоренной русской женщины. И все же решилась:
— Не плачусь, нет. Помочь вы ничем не поможете, но отомстить — отомстите. Обязаны отомстить. За надругательство мерзостное…
Не так уж и много времени жила под немцами деревня. Но память о себе фашисты оставили вечную. Десант парашютистов посыпался на пашни за околицей, никто даже не успел укрыться в недалеком от села овраге, который уводил в лес. Так себе лес, с овчину, но густой, непролазный, укрыл бы он многих. Председатель колхоза, парторг, эмтеэсовские коммунисты, кого по годам не взяли в армию, успели занять оборону в МТС. Почти все там и погибли. Председателя, хромой был еще с гражданской, израненного всего, — на виселицу. Все село согнали для устрашения.
Жмутся старики да бабы друг к другу, думка у каждого одна: «Сейчас пулеметами покосят и нас всех», — только не стали отчего-то больше зверствовать, отпустили всех по домам.
«— В домах попалят, — опасливо предполагали сельчане. — Как пить дать — попалят».
Не ведали старики с бабами, что приказано немцам не сжигать до поры деревни, чтобы, значит, в зиму не остаться в чистом поле, как случилось в Подмосковье. К российской зиме гитлеровцы уже с уважением стали относиться, побаиваться ее научились. Не тот стал фашист к зиме сорок второго. В общем, село не сожгли. Набились только в каждый дом, как тараканы. Пили шнапс, требовали самогону, но явного озорства не позволяли себе. Вот в этой комнате, где сидели сейчас за столом советские командиры и слушали рассказ молодой женщины, стоял на постое немецкий офицер. Высоких чинов. И он не безобразил. Радовались деревенские, не веря в свое счастье. Самогон сварить — разве труд какой? Пускай хлещут. А если еще махорки в него сыпануть, дурь их быстро с ног валит.
Только вдруг засобирались. Быстро-быстро. Словно в убег намылились. Радость в деревне великая: вот-вот свои возвернутся! На радостях и оплошали. В лес бы податься, так нет — никому в ум не пришло. Оттого и поплатились. Целый уж день никого в деревне, а к ночи, вот они, субчики. На ночлег, значит. Тут и началось. Во всех избах стон и плач. Дедов, какие за баб было вступились, их враз порешили.
— Я дочке своей сказываю, — продолжала горестно хозяйка, — с печи не слезай, дескать, а им, немцам проклятущим, говорю, что больная, значит, она. Мол, вот я готова все перетерпеть, а дочку не трогайте, так куда там: стащили ее с печи, ну и тут вот, где вы сейчас, над обеими измывались. — Горько-горько вздохнула. — Я-то что, я понимаю нашу бабью долю, коль мужики не в силах оборонить нас, а дочка? Ей каково? Переживет ли?
Заплакала навзрыд, не стесняясь незнакомых мужчин, выплескивая переполнившее душу горе.
Командир и комиссар с кружками к хозяйке: «Выпейте! Полегчает!» — и она даже не попыталась отказаться. Стуча зубами о кружку и проливая обжигающий, с ядреным сивушным запахом спирт, едва разведенный, принялась она жадно глотать его, надеясь, видимо, утешиться, сбросить невыносимую тяжесть с сердца, и именно эта ее покорная отчаянность с особой остротой была воспринята Богусловским — он порывисто встал и, забыв вовсе, что на улице пронизывающий ветер, вышел из дома в одной гимнастерке.
«…Я понимаю нашу бабью долю, коль мужики не в силах оборонить нас», — звучало набатно в его голове, и не охлаждал его душевного пожара обжигающий морозом ветер: упрек, нет, даже не упрек, а констатацию факта этой задавленной печалью женщины Богусловский воспринял как позор всему русскому мужскому роду, но особенно — как позор всей армии.
«Как же так?! Никогда не был труслив ни русский, ни тем более советский солдат! Всегда бивали врагов! Отчего же такое?! Отчего?!»
Гамма мыслей и чувств, бурных, обидных, горячила ему голову и грудь, но постепенно все раскладывалось по своим местам, и главенство взяло то его открытие, которое сделал он еще в первые дни войны: виною всему — безместие. Нет, не вдруг случилось у него это открытие, оно исподволь созревало еще давно. Можно сказать, с самого детства. Вначале он просто слушал разговоры старших, какие часто случались в их петроградском салоне, потом, подрастая, набираясь ума и грамоты, осмеливался высказывать свои суждения. Он видел, как снисходительно улыбались старшие, слушая его; это обижало отрока, и он с еще большим жаром отстаивал свое. Шел как-то разговор о силе духа народного, где его истоки и сколь он патриотичен, Михаил соглашался не со всем, что утверждал отец и что в противовес ему приводил генерал Левонтьев, но больше ему импонировала левонтьевская точка зрения: гордость россиянина истекает из ратной славы славянского народа, и он с юношеской горячностью вмешивался в разговор:
«— Нам не нужны легенды, каких насочиняли греки и римляне, дабы возвысить свое происхождение. Слава была колыбелью Руси, а победа — вестницею бытия ее. — Михаил вовсе не стеснялся, что повторял попугайно Карамзина, а может быть, даже не замечал этого, может, бравировал этим, ибо знания его в то время зиждились не на осмыслении, а на запоминании прочитанного. — Когда историки и летописцы заговорили о славянах? Когда славяне разбили римские легионы. Царьград сколько раз преклонял колени перед русичами? Перед варварами! От Чингисхана кто Европу закрыл? Русь! Себя она тоже спасла. Да-да, монголы не осилили Русь: целые города гибли в неравной сече, но не приняли рабства. Со славою гибла Россия, и не погибла вся, устояла частично и отомстила, оправившись: Куликово поле, Угра. Да не одним татарам доставалось. Агрессия всегда наказывалась русскими. Скандинавы за алчность свою еще во времена викингов получали зуботычины от русских. А шведов кто утихомирил? Русский ратник!..»
«— Не бери за истину чужие мысли, — впервые серьезно, без снисходительности, упрекнул тогда генерал Богусловский сына, — а более того, не выуживай из них только то, что тебе по нраву. Плохо, если ты сознательно отмахнулся от оценки наших предков византийскими историками, на кои господин Карамзин тоже ссылается: храбры, но и добродушны. Пораскинь умом своим, сопоставь факты, тогда оценивай. Скажи, сын, чем оканчивались походы наших дружин на Царьград? Верно — победами. Ратными. И договорами о торговле. Не только нам, но и Константинополю выгодными. Проходило время, вновь нужда заставляла идти походом на Константинополь. А турки, когда он им мешать стал, как поступили? Или о рати татарской ты говорил. Да, побить ее побили и — «ура» давай кричать. А они, татары, оправившись, сколько еще веков злодеяли?..»
Судьба распорядилась так, что метались мысли Богусловского и горела его душа именно здесь, где лилась кровь его предков, стяжавших славу и России, и роду своему. Здесь полонила его пращура налетевшая изгоном сакма. Здесь летели с плеч казачьи головы в частых рубках с неверными, но и неверных секли бессчетно. Сколько народных сил брошено было сюда для обороны южных границ! От сох оторванные хлебопашцы рубили многоверстные засеки, ставили крепосцы и сторо́жи, копали волчьи ямы, и не оттого ли, что, отпугнув от Угры, не пошла русская рать по татарским станам с огнем и мечом? По-рыцарски благодушны? Может быть. Но кровь-то русская лилась полными реками, рынки восточные полнились русичами, полоненными в землях тульских, тверских, киевских, владимирских…
«Победим и — рады. А что́ потом — никого не волнует этот вопрос… Неужто и теперь не отомстим немцам за их злодейство?!»
Как гимн, как набат, как призыв к действию звучали слова недавно услышанной песни, которую так волнующе, до мурашек по спине, спел Бернес: «…кровь за кровь, смерть за смерть, в бой, славяне, заря впереди…» Как сплеталось это с его, Богусловского, состоянием духа, как верно отражало его умозаключение: только всепоглощающий огонь, только справедливо-безжалостный меч собьют спесь на многие века с высокомерных тевтонов!
Не один Богусловский думал тогда так, подобные желания были у многих тысяч бойцов и командиров, которые увидели воочию, что́ несет с собой фашизм, и перестали уповать на солидарность немецкого рабочего и крестьянина: они видели в каждом немце заклятого врага, и ненавистью полнились их сердца. Да попади они в те месяцы в Германию, никакие приказы, никакие кары не остепенили бы их, не отвели бы карающего их меча.
Никто тогда не думал, что все повторится, как и прежде, и что, более того, наш русский, советский солдат станет спасать гибнущих берлинцев в затопленном по приказу Гитлера метро, спасать ценой своей жизни; спасать, тоже ценой своей жизни, немецких детей и женщин — русский останется благородным рыцарем, а понятие советский сольется в западных странах, где пройдет победно наша армия, с понятием освободитель. И этим по праву станет гордиться народ наш.
Но все же зло, оставленное без должного наказания, не искорененное полностью, останется злом и будет оно висеть над нашей страной дамокловым мечом.
Но кому из тех, кто в феврале сорок третьего полнился желанием во что бы то ни стало отомстить за поруганную русскую землю, доведется дожить до этого и с великой горечью понять все это? Увы, не многим. Но в том и сила человека, что он живет надеждой, стремится к своей цели, оттого не часто всерьез задумывается о завтрашнем дне. О дне грядущем.
Вышел ординарец и набросил на запорошенные плечи Богусловского полушубок, а на растрепавшуюся от ветра голову — ушанку.
— Завтра работы много вам, — напомнил, как заботливая мать, ординарец. — Поспали бы. Чем теперь горю поможешь?
— Что верно, то верно. А работа? Как у всех она — вперед и вперед. Наверстывать упущенное.
Да, он уже твердо решил не пересматривать график движения, а, собрав совещание штаба и тыла дивизии, определить, как сподручней расчищать заносы на дорогах. В дом он вернулся, понимая полную бессмысленность торчания на ветру. К тому же он и успокаивался, ибо мысли его включились в новую работу, он уже сам начал искать возможные предложения для завтрашнего совещания. Стоило, однако, ему войти в комнатку и услышать хоть и сдержанный, но оттого не менее горестный вздох, как смятение, чувство вины, и своей, и всего мужского рода, вновь вернулись к нему. Машинально он поблагодарил ординарца, который приготовил ему постель, так же машинально укрылся полушубком, устало расправив ноги; он даже смежил глаза, собираясь уснуть, но вскоре понял, что сделать этого не удастся, потому не стал насиловать себя и дал волю мыслям.
Лишь к утру забылся Богусловский. Ушел в небытие. А вставать пришлась вместе со всеми. Усилием воли стряхнул с себя душевную вялость и велел ординарцу седлать коней. Ему следовало действовать, показывать пример бодрости, пример уверенности и настойчивости в преодолении тех препятствий, какие нагородила им стихия. Совсем не вовремя нагородила.
Ветер за ночь заметно утих, оставаясь все еще чувствительным. С неба, хотя оно, как и вчера, было плотно устлано серыми тучами, снег не падал, и лишь поземка неслась по сугробистой сельской улице, прорываясь сквозь изгороди, местами покосившиеся и порушенные, туда, за околицу, чтобы сугробиться в остистой непаханности ближних и дальних колхозных полей, будто специально для того, чтобы вволю народила хлеба застоявшаяся земля, когда разбросает по ней веерно, по-старинному, вызволенный из фашистской неволи хлебопашец.
«Развеет тучи, может, — ища в небе хоть малые прогалины, думал Богусловский. — Полегче станет».
Узнал бы кто из бывалых фронтовиков, о чем мысли начальника штаба дивизии, не удержался бы, по меньшей мере, от улыбки. А то и рассмеялся бы. Пока тучи да ветер — воздух чист от вражеской авиации. И значит, не ведает он о подходе крупного резерва, к тому же бомбить не бомбит.
Все верно. Только по непереметенным дорогам куда как спорей двигались бы полки, да и технику не пришлось бы бросать. Вот и угадай, что лучше, а что хуже.
Тракт и проселки уже жили, они двигались, и, как сразу же уловил Богусловский, не с вялой усталостью, как вчера, особенно к вечеру, а устремленно. Похоже, изменилось настроение людей за ночь. Виделось Богусловскому, что подхлестывает людей, торопит их какая-то новая сила. Определил ее с тоской в сердце:
«Месть».
Не лучшее человеческое чувство, но не в одной избе в ту ночь плакали бабы, обжигая сердца солдатские, молодые, полные мужественной силы, а раз творят нелюди зло, ответ один — месть.
Совещание Богусловский открыл просьбой:
— Прошу высказаться по вопросу ускорения темпа движения. Только, пожалуйста, конкретно и с максимальным учетом реальности.
Призыв этот не находил должного отклика до тех пор, пока не прибыл на совещание начальник тыла. В предложениях, правда, недостатка не ощущалось, и были в них добрые, рациональные зерна. Особенно приемлемым показался совет спе́шить всех командиров, кроме командования дивизии, а коней впрячь в волокуши. Сбить их из бревен не составит труда. На этом бы, пожалуй, остановились, но вот распахнулась дверь и через порог порывисто шагнул, обгоняя морозный пар, начальник тыла, статный командир в новенькой, опоясанной такими же новыми ремнями бекеше (умеют тыловики обеспечивать себя), смахнул папаху и, растирая закуржевевшие щеки и уши, заговорил густым баритоном:
— Прошу пардону за опоздание, но задержка вынужденная и радостная. Колхозницы указали нам два спрятанных в колке трактора. На себе, сказали, пахать станем, вы только гоните фашистов. Откопали мы их и теперь приводим в порядок. Делается и волокуша. Предполагаем утяжелить ее максимально и — двумя тракторами. До земли чтобы утюжить.
Вот так, сразу, сняты многие проблемы. Еще бы парочку тракторов (аппетит рождается во время еды) и пустить их обратно, к Ельцу. Технику брошенную вызволять. Только пока это — пустое желание.
Совершенный лишь тугодум не понял бы, на какую великую жертву решились женщины и какие мысли и желания двигали их благородным порывом. Богусловский сказал, как бы итожа настроения всех командиров:
— Грех нам теперь черепахами ползти. Не простится он. Женщинами святыми не простится. — Помолчал немного и добавил: — А тракторы? Их нужно будет постараться вернуть.
Совещание после радостного сообщения начальника тыла пошло споро и более дельно. Вскоре всем командирам и штабным работникам определены были роли на марше, в дело оставалось за малым — провести приказ в жизнь.
Наладилось движение в колонне, обрело стройность, словно пограничники всю свою службу только тем и занимались, что совершали марши в пургу и стужу по переметенным дорогам. Роль командиров теперь уже не стала главной, и они поспешили, обгоняя колонны, туда, где дивизии предстояло вступить в бой. Поспешили на рекогносцировку местности. Намерение одно: загодя определить задачи не только каждому полку, но и батальонам и ротам, чтобы могли те прямо с марша вступить в бой.
Поистине с корабля на бал.
Только каким станет тот бой, для кого будет звучать веселая музыка победы? Пограничникам кажется, что для них, хотя в глубине души многие поймут головотяпность содеянного, но гордость и опасение прослыть трусом и паникером удержит их от подобной оценки при свидетелях. Позже, когда станут осмысливать роль пограничных войск в годы Великой Отечественной и, естественно, проанализируют боевой путь созданной из пограничников армии, назовут его по праву героическим, боям же под Дмитровск-Орловским дадут сдержанную оценку. Более того, определят, что в тех боях понесено слишком много неоправданных жертв.
Вот так. Историки — народ безжалостный в своих суждениях. Они не вникают в психологию факта, они лишь трактуют факт. Иногда, правда, говорят и о причинах. А причин было много. И не все они могут быть поняты теми, кто на войну смотрит как на историю, кто сам не пережил того, что пережил народ и его вооруженные защитники в те очень трудные годы.
Не было в наших тогдашних полевых уставах пехоты, кавалерии, других родов войск толково разработанного оборонительного боя. Разумность его вообще отрицалась. Отчего? Доктрина. Бить врага на вражьей земле. Малой кровью, могучим ударом. И едва, особенно в первые дни и месяцы войны, собиралась мало-мальски заметная сила, как сразу же бросалась она вперед. Не вгрызалась в землю, чтобы остановить вражеские полчища, а контрнаступала. Перемышль в первые дни войны вернули, на румынскую землю целый пограничный отряд десантировался. В Карелии тоже за границу земли нашей переходили. Или печально-знаменитый петергофский десант моряков. А контрудар дивизии сибиряков под Москвой?.. И если спустя полвека о тех боях говорят не иначе, как о героических, о них пишут очерки, рассказы и даже повести с романами, то можно представить, какое влияние они имели в то, военное, время. Особенно на самих военных, отрицавших даже понятие традиционной обороны. Примерами теми вдохновлялись, и никто тогда не говорил с сожалением о полной гибели тех, кто кидался в контратаку, кто предпринимал контрнаступление. Они гибли за свободу Отчизны, и в этом была святая правда. Только в этом.
К зиме сорок второго начали уже меняться взгляды военных на ведение войны, контрнаступления начали готовиться основательно, шли к ним от обороны; но желание скорее очистить родную землю от ненавистных захватчиков подхлестнуло тогда армию, окрыленную великой сталинградской удачей, и вновь верховодной стала идея стремительных ударов по врагу, а уроки прошлого как-то сразу забылись. Фронты тогда состязались друг с другом. Центральный, которым командовал Рокоссовский, не составлял исключения. Все, что появлялось свежее, все бросалось в наступление, которое к февралю потеряло уже прежнюю подготовленность и, стало быть, обрекалось на провал.
У пограничников, ко всему прочему, была еще одна причина, которая мешала своевременно одуматься и, пусть даже не переча приказу, все же не сломя голову лезть на рожон. Название этой причины — самонадеянность. Пограничное бахвальство.
Своего сына, бежавшего было на фронт, Богусловский наставлял, что неумехам там делать нечего. Умелого врага сноровисто и бить надлежит, а вот теперь, похоже было, забыл вовсе Богусловский про то свое убеждение. Хотя трудно поверить, что девичья у него память, да и не так моментально меняются понятия у людей его возраста, не вдруг; значит, он считал подчиненных своих готовыми к серьезным боям, иначе, по своему-то характеру, наверняка попытался бы настоять на отмене приказа.
Не последнее место занимала в желании только наступать и исповедь хозяйки окраинного деревенского домика: не мог Богусловский забыть ее, представлялось ему, что там, куда их путь, вот так же измываются над беззащитными бабами немчуки поганые, а их, пограничников, наступление, стремительное, как представлялось ему, Богусловскому, и другим командирам, и даже всем бойцам, спасет многих от позора, вызволит из рабства.
Благородно все это, патриотично, только не все, что благородно, — толково. Поразмыслить бы над тем, достаточно ли мастерства у пограничников для наступательных боев с марша, с ходу? Дозоры, секреты, поиски, короткие стычки — здесь пограничники, естественно, мастера. Тем более что многие прослужили на границе лет уже по пяти, но войсковой бой — дело новое, и следовало бы вводить их в бой постепенно, обстреливая полки. Возможно, не так эффектно выглядел бы удар, но зато был бы основательным. Но самое разумное — начать с оборонительных боев.
Нет, не до подобных раздумий командирам, спешат они на рекогносцировку, понукая уставших коней.
Отмахнулся комдив от совета сделать остановку в селе, и никто ему не поперечил. Миновали село на рысях… А в нем в это время штаб зенитного полка, пользуясь нелетной погодой, собрал совещание комбатов. Обсуждали вопрос о прикрытии с воздуха марша пограничной армии в случае улучшения погоды. Увидел бы Михаил Семеонович своего сына. И непременно побывал бы в гостях у невестки. Всего лишь километра полтора пришлось бы дать кругаля ради этого. На радостях и не заметил бы их вовсе.
Прорысил мимо. Не повидался ни с сыном, ни с невесткой.
Данные о своих силах, которыми располагало командование дивизии, подтвердились: фронт остановился, наступление запнулось, кое-где даже попятилось, но приказа о переходе к обороне и ее организации не поступало. Рассчитывало командование фронта, видимо, на свежую армию, пограничную, чтобы изменить ситуацию и продолжить наступление. О немцах же представление имелось весьма смутное. А они, как вскоре выяснилось, не теряли времени зря. Намереваясь отсидеться остаток зимы в обороне, крепко укреплялись, подтягивали резервы живой силы и техники, чтобы, как потеплеет, бросить вперед, к Волге, чтобы зайти в тыл Москве и сокрушить ее. Днем и ночью зарывались фашисты в землю, педантично отрабатывали систему артиллерийско-минометного заградительного огня, накапливали боезапас и горючее.
Резервы у немцев ко времени подхода дивизии были и в далеком тылу, и близкие, готовые для выброски на любой опасный участок фронта.
Выслать бы несколько разведгрупп фашистам в тыл, чтобы добыли они «языка», тогда осмысленней принималось бы решение, но времени для этого нет, ведь приказ конкретен: наступать с ходу. Неожиданность — половина победы.
Верно. Но для полной победы нужна и вторая половина. С ней как быть? Вот тут-то и оказалась осечка.
8 марта 1943 года. Вроде бы женский праздник. Но и мужикам он не безразличен. Накануне еще политруки, как ни трудно пришлось, а пособили бойцам, кому было куда, отправить телеграммы. Это взбодрило бойцов. Никто почти не думал, что многие из этих телеграмм станут храниться в комодах, в шкафах, за иконами, а то и на стенах в рамочках долгие-долгие годы, передаваться в наследство из поколения в поколение, как драгоценность. Считали тогда все, что деморализован противник Сталинградским котлом и даже от самого малого нажима побежит. А тут не малые силы — целая армия, да еще каких орлов! Командиры кадровые, бойцы все обстреляны на границе — пулям кланяться не станут. К тому же наступление решено начать ночью. Для пограничников действовать в темноте привычно, а немец ночью спать любит. Вот и получит перцу. С нашей же стороны все бескровно сложится.
Все ждали сигнальных ракет. Зеленых. Пограничных. В окопах, отбитых у фрицев прежде, когда еще наступление шло успешно, приготовились к первому броску; в оврагах близких — резервы для развития успеха; в селах, подальше, — еще более крупные резервы. Чтобы ввести в прорыв. Напряжение великое. Но, пожалуй, более всех ждал начала наступления Богусловский, начальник штаба, ибо впервые он разработал не пограничную операцию, а войсковую. Он то и дело поглядывал на часы и томился медленностью, с какой перемещались стрелки на его «кировских». Он уже не мог долго оставаться на месте: то мерил шагами тесную комнатку, то вновь нависал над картой, «прокручивая» в своем воображении всю фабулу предстоящего боя — все у него двигалось, все наступало, стройно, точно по графику.
«А если кто опередит?..»
И уже сейчас, загодя, он продумывал возможные варианты своих решений, и, если что не получалось гладко, он отрывался от карты и ходил, ходил, ходил, пока не появлялось у него ясности, и тогда карандаш быстро набрасывал условные обозначения на карте. Пока снова не спотыкался он об неожиданную закавыку. Пять минут до ракет. Четыре минуты. Две. Одна. Нет, он не услышал хлопков ракетниц, не видел зеленых всполохов, змеино шипящих в стылой темнотище, но он, как и все там, на передовой, встрепенулся, а потом напрягся, как сеттер в стойке перед фазаньим гнездом. Он теперь ждал докладов, хотя понимал, что не вдруг они начнут поступать. Не мог, однако, не поглядывать на телефониста вопросительно.
И вот — наконец-то! Протягивает телефонист трубку:
— НШ Первого.
Ликует трубка:
— Не ожидали фрицы такого. Бегут! Пора вводить резерв первой очереди для развития успеха.
— А не рано? Если бегут, преследуйте пока своими силами. Когда немцы станут вводить резервы, тогда…
— Отдельные высоты врага ожили. Огонь интенсивный и пристрельный.
— Обходите малые очаги сопротивления. Ваша задача — наращивать темпы наступления. — И спросил: — Координаты оживших высот?
Склонился к карте, помечая синим карандашом называемые в трубку высоты, чтобы направить для их захвата резервные подразделения. А сомнение уже проклюнулось:
«А не многовато ли этих самых «оживших высот»? Многовато…»
Но это как первый звонок для тех, кто в театральном буфете. Вроде бы мимо ушей пролетает он, не портя благости вожделенной, не поторапливая пока еще.
Только и второй звонок прозвенел. Еще один доклад НШ полка, Третьего:
— Противник, панически побежавший вначале, начал предпринимать ряд контратак. Отбиваем их успешно.
— Никакой обороны. Только вперед. Подкрепление сейчас направляю вам.
Направил. Но уже с явным сомнением: нужно ли так спешить с вводом резервов? Поразмыслив, решил предложить командиру поправку к его решению:
— Резерв первой очереди введем, а со второй очередью повременим. Не такое, как мы предполагали, начало. Придержим силы, пока не появится полной ясности.
— Не станем ли потом локти кусать? Могли развить успех, а не развили.
— Возможно. Вполне возможно. И все же предлагаю не спешить. Подождем. Поглядим, как у соседей дела пойдут.
— Отменить приказ по армии? Приказ фронта?! Рокоссовского приказ?! Это, батенька мой, не в нашей власти.
— А мы и не будем отменять. Не станем только давить на полки.
Сделка с совестью. К тому же опасная. Доложит в армию комдив об этом предложении — головы не сносить. Да, Богусловский вполне понимал величину своего риска, тем более что прежде с комдивом им не приходилось тесно общаться, не мог он, значит, верить ему, как самому себе, и шел на риск вполне осознанно, ибо не видел иного разумного выхода. Если головотяпно продолжить наступление, от полков останутся рожки да ножки, и что его, Богусловского, карьера, его благополучие, жизнь его, наконец, по сравнению с жизнью сотен бойцов и командиров! Молодых, сильных, которым, если по-умному, бить и бить врага. Непозволительная расточительность — терять кадровый состав дивизии и уповать затем на молодое, едва-едва обученное пополнение.
Молчал комдив. Колебался. Очень колебался. И Богусловский, почувствовав это, попытался дожать:
— Отец мой, генерал, учил нас, братьев: не подсуден ни молве людской, ни чести, ни совести командир за погибших в сражении солдат. Командиру награды дают за победу. Жертв не считают. Но правом посылать людей на смерть командир просто обязан пользоваться осмотрительно. Чтобы остаться честным перед самим собой, чтобы не скребло душу кошачьими когтями сожаление о содеянном.
Молчал комдив. Не поднял даже головы от карты, будто не для него слова начштаба. Он все слышал, он все понял, но он сам не рабфаковец, устоялось у него понимание и своих прав, и своей ответственности за жизнь людей — не ему выслушивать нравоучения, у него своя голова на плечах.
Случилась, таким образом, совершенно противоположная реакция той, на какую надеялся Богусловский, и дело чуть вовсе не испортилось. Обида и упрямство — никудышные советчики в ответственном решении, какое предстояло принять командиру дивизии.
Еще целых несколько минут молчал комдив, сосредоточенно изучая карту. Наконец поднял голову. Взгляды их встретились. Взгляды честных командиров, честных людей.
— Будь по-твоему.
Разумность риска подтвердилась уже на следующий день, когда прояснилось небо, поднялась на крыло вражеская авиация, объявились новые фашистские части и упрямо принялись контратаковать. Те пограничные батальоны и роты, которые отбили прежде для себя удобные к обороне рубежи, оказались в большом выигрыше. Они спешно переоборудовали немецкие доты и дзоты, траншеи и встретили врага дружным огнем, сами же несли малые потери и от налетов вражеской авиации, и от артиллерийско-минометного огня. Тем же, кто оказался на распутье, туго пришлось. Артиллерию бы им в помощь, минометы подбросить, только стволов в распоряжении дивизии не великое число, но, главное, снарядов и мин счетно. А та техника, которая хоть и в малых количествах, но все же прибывала, вступала в бой неуклюже, словно с завязанными глазами, — не получалось должного взаимодействия пехоты с боевой техникой. Спасение пехоты, стало быть, в одном: штыки наперевес и — вперед. На господствующие высоты. Вчера их не осилили, сегодня, когда жареный петух клюнул во весь клюв, одолели. Усыпав, правда, склоны своими телами.
Но тем, кто прорвался сквозь ливневую смерть, кто достиг цели, стало легче. Для них и резерв оказался впору. Сковырни попробуй их теперь оттуда! Стреляют пограничники метко, пулям сами не кланяются, а штыковых ударов им ли бояться! Встала дивизия, мертвой хваткой уцепилась за отвоеванный рубеж. Никто уже не вспоминал о Дмитровск-Орловском, хотя никто наступления не отменял. Отчего и случались взаимные контратаки, после которых ничего не менялось: и фрицы и пограничники оставались при своих интересах, только снежная белизна еще больше пятнилась бездвижными бугорками.
Предать земле погибших возможности не имела ни одна, ни другая сторона.
Бесцельность подобных кровавых зуботычин становилась все более очевидной, и передан был приказ по армии: прочно удерживать занятый рубеж. Ни шагу назад.
Наконец-то!
Утихомирились и немцы. Фронт задремал. Только штабу от этого не стало спокойней: он анализировал первые бои, он готовился к новым, более умелым и, стало быть, более удачным. Прорех, какие надлежало латать, оказалось куда как много. Личная отвага и мужество не есть главное качество командира в бою — важно еще и умение руководить войсковым боем. Значит, командиров нужно учить. Пока затишье. К тому же прислали в дивизию проект нового Полевого устава, в котором уже учтен был опыт войны. Хорошее подспорье для переучивания пограничников в пехотинцев, чтобы стали они настоящими царями полей. Сутками не спал Богусловский, готовя методические разработки по всем видам боя, по организации взаимодействия с другими родами войск, которых подходило все больше и больше, уставал настолько, что даже, когда и выпадал досуг, не мог заснуть; по нескольку дней кряду не писал писем ни Анне, которая жила теперь в Москве с отцом, ни сыну с невесткой, понимая, какое беспокойство у них от его молчания, — он, привыкший к титаническим нагрузкам на границе, работал здесь, на фронте, на пределе своих сил, ибо все для него самого было во многом ново и даже непривычно.
Но удивительны эти самые пределы. Все вроде бы расписано по часам и минутам, а вдруг рождается новая идея, и, если она захватила, на ее воплощение находится и время, и силы. Богусловскому идея снайперской охоты показалась заманчивой, и он тут же принялся формировать дивизионную школу снайперов. И в самом деле, чего ради сидеть в натопленных блиндажах, словно не на фронте ты, а на отдыхе, плакаты же в это время призывают: «Папа, убей немца, или он убьет меня и маму!»
Многое сделал в те недели затишья штаб дивизии, и все это дало добрую отдачу: счет убитым гитлеровцам исчислялся вначале десятками, а потом и сотнями; дивизия хорошо подучилась и встретила июльское наступление немцев умело, лишь сжалась пружинно, а, выдержав вражеский натиск, распрямилась и вместе с другими дивизиями фронта погнала врага на запад, впервые не зимой, а летом. Только Богусловскому не пришлось жать посеянного, ему определила фронтовая судьба иную стезю. Не менее трудную, но менее видную, оттого не отмеченную всенародным признанием и почетом. Наоборот, та фронтовая работа, которой предстояло заниматься Богусловскому, вызывала у людей более неприязни, чем уважения. Кто о ней что в подробностях знал? А смотреть на нее со стороны действительно не очень увлекательно. И свершилась смена та весьма неожиданно и моментально.
Его никуда не вызывали. К нему приехали. Трибчевский и Костюков. Оба наделенные правами решать.
Встретил их Богусловский удивленно:
— Каким ветром? Если инспекция, прознали бы мы как-то, а тут полная неожиданность.
— По твою душу, — крепко пожимая руку Богусловскому, как старинному приятелю, добродушно ответил Трибчевский. — По твою душу.
— Неужто, Юрий Викторович, согрешил я что? — попытался отшутиться Богусловский, скрывая старательно возникшее недоумение и опасение. Ему никак не хотелось повторения дважды пережитого, давнего, но не забытого.
Но, кажется, нет нужды опасаться чего-то неясного: Трибчевский смотрит добро, улыбается. Постарел он. Сильно сдал. Седой совсем. Морщины у глаз одна на одной. А вот стройность почти прежняя. Едва лишь приметна нарочитость в выправке.
«Бодрится. Что ж, это правильно. Обабиться легче всего…»
— На сей раз не согрешили, — ответил за Трибчевского Костюков, поглаживая усы-колосья. — Прежде много задачек задавали…
— Простите, но мне казалось обратное!
— Ну-ну, полно, — по-отцовски остановил Богусловского Костюков. Добавил потом: — Пальца в рот не клади. Как и брат.
— Разве я похож на человека, способного откусить руку? — смягчаясь, вопрошал теперь уже без суровости во взгляде Богусловский. — Мне просто дорога честь. Незапятнанная.
— И нам дорога, — вмешался Трибчевский. — Вы, похоже, не знакомы. Прохор Прохорович Костюков. Потомственный, как и мы, Михаил Семеонович, пограничник. Только из рядовых казаков. С легкой руки твоего брата Иннокентия пошел в гору.
Богусловский слышал о нем. Костюков навещал отца, рассказывал тому и о дореволюционной службе Иннокентия, и о бое с контрабандистами, что случился из-за предательства поручика Левонтьева, и о совместной поездке для доклада о делах пограничных на Алае. Костюков был всегда желанным гостем у Богусловского-старшего, знал все о Михаиле, самым решительным образом вставал на его защиту в злосчастные для него дни, и вмешательство его, солидного работника Управления погранвойск, выходца из рядовых казаков, имело немалый вес.
Такой, какие довольно часто встречались Михаилу Богусловскому: грубоватое мужицкое лицо, основательная твердость осанки широкого в кости мужчины, и только усы необычные, торчат остисто пшеничными колосьями, да глаза беспечно-веселые, не соответствующие серьезности момента.
«От чрезмерной уверенности в себе», — определил Михаил Семеонович и был почти прав. Добавить бы только: от смышлености и храбрости уверенность та — не от зазнайства и верхоглядства. Оттого и выделил Иннокентий из всех выбранных перед боем в Алайском пограничном гарнизоне взводных именно его, Федора Костюкова, на вид совершенно бесшабашного молодого казака. Михаилу же Богусловскому смышленость Костюкова была еще неведома, поэтому беспечность во взоре приехавшего к нему начальника воспринимал он, по меньшей мере, недоуменно.
А Костюков, дав время Богусловскому утихомирить первое впечатление от знакомства, продолжил:
— Мы сватами приехали. Да-да. Невеста кто? Пограничные войска.
— Позвольте? Разве наша дивизия не пограничная? И потом… Я делаю то, что сегодня самое нужное и самое опасное.
— У начальника штаба войск округа, потомственного пограничника, и, простите, в голове какая-то мешанина. Ну-ну, полно, не хмурьтесь. Я говорю истину: пограничнику никогда и нигде не было, не есть и не будет легко. Служба у нас такая. Простите, что я вам, как начинающему. — И через паузу: — Самое лучшее, если вы пригласите нас почаевничать. За столом мирно да ладно побеседуем. О брате вашем порасскажу. Светлая о нем у меня память. Только не везет отчего-то таким людям. Гибнут они преждевременно. И места их часто занимает мразь недостойная. Да, жизнь…
Чай, так — чай. Пригласил Богусловский и комдива. Не сразу, конечно, но вскоре, когда делам фронтовым перемыты были все косточки, Костюков предался воспоминаниям. Интересно говорил, ничего не упуская, всему давая сегодняшнюю оценку. В расколе казаков, случившемся при обсуждении Декрета о земле, он винил не только Иннокентия Богусловского, но и себя, и других казаков-бедняков, переметнувшихся на сторону революции. Что принимаешь интуитивно, то не убедительно для других, знать нужно, за что ратуешь, тогда и бороться за свое сможешь по-умному. С нескрываемой ненавистью говорил Костюков о предательстве поручика Левонтьева (времени много прошло, а гнев и ненависть не проходят), сообщившего главе алайских контрабандистов о малочисленности оставшегося гарнизона. Но особенно подробно вспоминал Костюков, и с гордостью, о самом бое с контрабандистами, как бы высвечивая незаурядность в воинском деле Иннокентия Богусловского. О себе, о своей роли в том бою вовсе не упоминал, лукавя, быть может, а, скорее, потому, что переосмыслил многое за годы службы и понял основу основ армейской жизни: только у умного командира умны и деятельны подчиненные.
— А тот урок, который преподал Иннокентий Семеонович мне, запретив контратаку, на всю жизнь я запомнил.
И стал пересказывать слово в слово тот разговор об ответственности командира за жизнь подчиненных, который случился у ворот крепости за камнями, служившими укрытием от вражеских пуль.
Переглянулись комдив с начальником штаба, вспомнив подобный же разговор, который произошел совсем недавно, и Михаил Богусловский посчитал нужным еще раз сказать о первоисточнике нравственного урока:
— Отец многому нас научил. Высокой чести человек. Столь же высокого долга.
— Я имел честь быть представленным генералу Богусловскому. И даже тот малый срок, какой определялся прежним пониманием приличия, остался памятным, — поддержал Михаила Семеоновича Трибчевский. — Ни холодности никакой, ни тем более чванливости, какое тогда имело место в отношении с подчиненными или младшими по званию. Все просто, все натурально, все по-человечески. Образец для меня. Тем более что наслышан я был о строгости его, об упорстве, когда отстаивал свои суждения. — И к Михаилу Богусловскому: — Брат ваш точно таким бы стал командиром. Увы, погиб…
Приходилось им, еще в Семиречье, вспоминать о Петре Богусловском, но Трибчевский, будто вовсе не помня об этом, принялся рассказывать о коротком, но бурном, словно горная речка в селевой неудержимости, времени, и так выходило, что гибелью своей Петр Богусловский, хотя и явилась она результатом самонадеянности председателя полкового комитета, спас полк от полного разгрома. В прежних рассказах такой подчеркнутости Богусловский не улавливал, и он, по естественной своей привычке сравнивать и сопоставлять, начинал замечать единую и у Костюкова, и у Трибчевского заданность: возгордить его, Богусловского, принадлежностью к честной и храброй пограничной семье.
Интерес к рассказу Трибчевского Михаил Семеонович потерял, и тот, заметив это, спросил:
— Тебя не волнуют мои откровения?
— Волнуют. Но, как я понимаю, откровения не ради откровений, какие были у нас в Жаркенте. Не вижу сегодня смысла в вашей, так сказать, преамбуле к сватовству.
— Ну полно! — вмешался Костюков. — Мы же без прикрас. А вспомнить о добром примере разве грешно?
— Для меня пример братьев — каждодневный пример. А на фронт с границы я приехал совершенно осознанно, не изменяя границе, а ради восстановления ее целостности.
— Так мы и не предлагаем покидать фронт, — с явным облегчением, что разговор наконец-то принял нужное для них направление, начал пояснять Костюков. — Просто передвинуться чуточку северней и принять войска по охране тыла фронта.
— Отец тебя благословил! — подхватил Трибчевский. — Он совершенно убежден, что пограничник на фронте не должен подменять пехоту. Рейды во вражеские тылы. Разведка. И охрана тыла воюющей пехоты. Сомнительное занятие, как он доказывает, переучивать пограничников в пехотинцев.
— Да, мы с ним об этом говаривали не единожды. Архаичен он во многом, но в каких-то моментах прав.
— Вот и прекрасно, — как бы подводя итог чаепитию, довольно резюмировал Костюков. — На сборы часа два и вместе с нами — в путь. Приказ о переводе оформим позднее.
Все так неожиданно, все так несогласно с душевным настроем. Будто бежит он от опасности, бросая своих боевых товарищей. В тыл бежит, в безопасную спокойность.
Ох как он ошибался! Не думал, что сделал роковой для себя шаг.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Ну пошло, как он сказал сам себе, поехало: «1-Ц», «Штаб Антон», «Леопард», «Тигр» и прочие, прочие зашифрованные войсковые разведывательные и контрразведывательные органы, лишь в названиях которых черт ногу сломит, а их нужно не только знать, но и хорошо разбираться во всех тонкостях их работы. Одно пока ясно Богусловскому: руководят всем этим обилием террористов, диверсантов и войсковых разведчиков высокие профессионалы, к тому же они вовсе не жалеют своих людей, засылают в наши фронтовые тылы с одним и тем же заданием по несколько групп. Пусть десяток-другой погибнет, но кто-то сможет содеять зло или разведать истинные силы, противостоящие им, немцам. Проскакивают сквозь сито проверок, каким бы частым оно ни было. Во всяком случае, сводки, который ложились на стол Михаилу Семеоновичу, не всегда сообщали об успехах. Перехитряли пограничников, и те, случалось, цеплялись лишь за хвосты.
Особенно переживал Богусловский, когда узнавал, что в каком-либо из недавно освобожденных сел лилась невинная кровь вольно вздохнувших и принявшихся восстанавливать колхоз сельчан. Налетчики были к тому же в красноармейской форме или, того хуже, в форме пограничников. И командиров, даже старших, ездивших с охраной, убивали террористы, одетые в нашу, советскую, форму. Богусловский винил себя, что недодумал чего-то, не нашел нужного противоядия, винил свой штаб тоже за слабую, как тогда было принято оценивать, действенность разрабатываемых контрмер и те успехи, каких тоже насчитывалось немало по ликвидации и крупных диверсионно-разведывательных групп врага, во внимание не брал. Обезвреженный враг, он уже не враг. Сумевший обвести пограничников враг — страшный враг. Пусть десять из сотни, пусть он один, но он опасен, и его во что бы то ни стало следует захватить или уничтожить. Тогда, только тогда можно считать свою работу полезной и профессионально сделанной.
Михаил Богусловский искал оптимальные формы службы пограничных застав, батальонов и полков, требовал творческих решений от своего штаба, звонил в Москву Трибчевскому и Костюкову, интересовался, можно ли что позаимствовать нового и полезного у других начальников войск по охране тыла фронта, и зрела у него идея более оперативного, что ли, использования резервных застав. Чекистско-оперативные группы от них — вот что нужно. Искать. Настойчиво искать. По деревням и выселкам, по глухим лесным дорогам. С большим риском это сопряжено, особенно в лесу, но, как предполагал Богусловский, игра стоила свеч.
Опробовать идею Богусловский намеревался на правом фланге фронта, где местность была лесистая и где чаще всего совершались диверсии. В большинстве своем безнаказанные. Будто сквозь землю проваливались вражеские диверсионные группы. Через фронт вроде бы не уходили. Богусловский даже на передовую выслал своих людей и армейское начальство просил выставить погуще наблюдателей и днем, и особенно ночью. Причем посты усиленные. Минимум по три человека, чтобы подстраховать друг друга могли. Перекрыта передовая, а покоя нет: то на штаб какой налетят, то деревня какая заполыхает, то машина с секретными донесениями окажется разбитой. И пограничников вроде бы не в чем упрекнуть: въезды в лес перекрыты, на каждом перекрестке — контрольно-пропускной пункт, поголовная проверка документов. Только толк малый от всего этого. Задерживают диверсантов и разведчиков, но, как правило, одиночных. А деревни, которые поблизости от леса, живут в страхе; не спокойны штабы, окружают себя усиленной охраной, снимая роты с передовой; обозы с боеприпасами, продуктами и даже с ранеными натыкаются на засады — ох как тревожно здесь, как непонятна обстановка!
— Виною всему, думаю, наша пассивность. Оборонная тактика, — все уверенней говорил Богусловский.
И вот на одном из совещаний объявил:
— Мы ждем, когда в наши сети попадет враг, — в этом наша промашка. Искать врага следует, активно искать. Поеду-ка я еще раз по полкам. Начну с правого фланга. Организую оперативный поиск.
Он уже побывал во всех полках, заступив на должность, но то было первое знакомство, поэтому советовать что-либо, вносить какие-то коррективы в службу он не считал возможным, ибо понимал, что командиры полков и батальонов, начальники застав — люди тертые, свое дело знают, а он, Богусловский, скороспелым своим вмешательством может только навредить. Иное положение теперь, когда он уже поварился в этом прифронтовом котле, почувствовал, почем фунт лиха; теперь он не ученик, теперь он уже вправе признавать себя начальником.
— Готовьте машину.
По календарю шел уже второй месяц весны, ночи уже укоротились, солнце в полуденные часы начинало ласкать теплом, но снега еще лежали белым ковром — правда, только там, где не перепахали землю снаряды, мины и особенно бомбы. На тех участках и дорога колдобилась спешно заделанными воронками, но, вообще-то, ехать было приятно и неутомительно, метели давно уже откуролесили свое, дорога укатанно темнела почти идеальной ровностью и, лишь когда приходилось прижиматься к обочине, пропуская встречные машины, похрустывала под колесами зубастыми заталинами. Но и машины встречались не так уж и часто: техника и пополнение двигались в основном ночами и все больше по глухим лесным проселкам. Тракт почти пустовал, оттого и не был разбит.
Белым-бело вокруг. Пронесется изредка темноспинный перелесок в овражьей неровности, и — снова белый простор насколько глаз видит. Но вот впереди показался лес. Поначалу виделось, что перегородил он дорогу не очень высоким разноверхим «забором», но постепенно, чем ближе машина подъезжала к нему, заборная однообразность терялась, опушка становилась опушкой — и с густым подлеском, и с вольными, еще не стиснутыми лесной густотой березами да соснами, и с клиньями сугробистых полян между ними — и все это еще не весеннее, с искристостью набухших почек, но уже и не зимнее, кряхтящее под тяжестью налипшего на ветках снега; деревья, закуржавившиеся, походили пушистостью своей на белых утят-однодневок, готовых уже расправить свои крошечные крылышки.
Михаил Богусловский улыбнулся своему немножко неожиданному, но очень, как он посчитал, точному сравнению; улыбка, однако же, не долго держалась на лице, оно вновь посерьезнело. И то верно: до лесных ли красот ему сейчас, если лес этот, большой, овражистый, со множеством болотистых топей, которые, как ему рассказывали, не замерзают даже в самые студеные недели, прятал в своих недрах врагов? Весь прочесывать его невозможно, почти неосуществима и идея полного и плотного оцепления без поддержки фронта, но просить о помощи можно лишь тогда, когда знаешь, для чего она, та помощь, нужна. Пока же только предположения и догадки. А с ними в штаб фронта, а тем более к командующему не пойдешь.
Подъехали к КПП. Начальник заставы здесь. Встречает как положено. Не случайно, выходит. Не хотел Богусловский, чтобы растрезвонили по заставам о его поездке, но, выходит, кто-то оповестил. Из штаба, конечно. Кому больше?
«Дознаюсь и всыплю», — решил он, досадуя, что не удалось проверить неожиданно службу хотя бы одного контрольно-пропускного пункта.
Нет, не станет он дознаваться, для кого распоряжение начальника войск по охране тыла фронта не распоряжение. Поймет, что здесь даже сложней, чем на границе. И опасней. Поэтому играть здесь в прятки, все едино, что играть со смертью.
Да и проверит он работу КПП отменно. Лучше, как говорится, можно, но некуда.
— Ничего подозрительного за истекшие сутки не обнаружено, — доложил начальник заставы, молодой старший лейтенант, пружинно собранный. — Движение не интенсивное. Только что проехал грузовик с бойцами. Лесной дорогой направились. Храбрые.
Богусловскому ясно, что имел в виду начальник заставы. Дело в том, что КПП стоял у самого леса, в который и нырял тракт, но он не углублялся далеко в лесной массив, а лишь пересекал хордно языкоподобный выступ и вновь затем шел степью. Всего километров пятнадцать лесных, не больше, но именно на этих километрах и случались засады, поэтому последнее время трактом стали пользоваться только крупные колонны, а одиночные машины или обозы в несколько бричек объезжали лес по времянке. Намного, естественно, хуже дорога, в колдобинах и рытвинах, да и длиннее значительно, но зато безопасней. Богусловский тоже планировал ехать дальше по времянке, но доклад о грузовике с красноармейцами внес коррективы.
— Что ж, не станем тогда задерживаться. Трактом поедем. Догоним грузовик.
— Разрешите сопровождать?
— Сопровождать не нужно. Садитесь с нами. Ознакомите с обстановкой.
Уступив свое место ординарцу, Богусловский сел на заднее сиденье с начальником заставы, чтобы удобней было беседовать. Только не сразу пошла беседа по нужному начальнику войск руслу, поначалу на все вопросы следовали раздражающе однообразные ответы: «Никак нет», «Так точно». Богусловский даже осерчал:
— Мы же не оловянные солдатики. Я хочу ваше мнение услышать. Честное. Откровенное.
— Если честно — кутек я слепой, а не начальник заставы. На границе я многое мог предвидеть. Из комендатуры получал информацию, местные жители, особенно из бригады содействия, в курсе всех дел держали, а тут… Я уже на свой страх и риск начал выяснять, что к чему. Тут мне один старик подбросил мыслишку: бывших бы партизан поискать, они бы до своей базы свели. Не там ли, говорит, живут припеваючи фашистские недобитки?
— Интересная мысль. А вы доложили по команде?
— Нет. Нынче намеревался комбату донести.
— Медлить с такими фактами нельзя, учтите на будущее, — попрекнул строго Богусловский, потом спросил, переходя на прежний доброжелательный тон: — Застава может выделять поисковые группы? Для оперативного поиска?
— Туговато будет, но — возможно. Подобрать побашковитей мужиков да посноровистей, и — пойдет дело. Только, думаю, силами одних застав должного оперативного поиска не наладить. Батальоны нужно подключать. И даже полки. Одно нам, начальникам застав, ясно: повязки с глаз нужно снимать. Не дело день и ночь только и делать, что торчать у шлагбаума. Даже стыдно каждого глазами щупать. Он на передовую едет, а мы не верим ему.
— Еще один нюанс, — промолвил Богусловский, как бы обращая свое внимание на важность и серьезность услышанного. — Настораживающий нюанс.
Начальник заставы уловил по тону старшего командира, что его душевный порыв, его откровение пришлись тому отчего-то явно не по нраву. Но что делать? Сам же напросился на разговор без утайки. Да что их таить — эти сомнения почти у всех пограничников. Что прятать? Лишь единицам составляет явное удовольствие чувствовать себя хозяином положения — для всех остальных поголовная проверка обременительна. По-иному ведут себя пограничники, когда дело доходит до схватки с вражескими лазутчиками, тут не удержать никого — и злость сразу появляется, и ловкость, и смекалка. Для врагов, хотя они тоже не лыком шиты, финал всегда плачевный, а пограничников погибают единицы. Такова правда, и ничего тут не поделаешь, доволен ты или нет.
У Михаила Семеоновича иные мысли. Он еще не вполне осознал, как сильно повлияет на организацию охраны тыла фронта откровение молодого командира, но он уже вполне обоснованно досадовал на себя за то, что ни разу даже не подумал серьезно о психологическом настрое бойцов и младшего начсостава, не поговорил прежде с командирами полков, с комбатами, с начальниками застав, не предпринял никаких контрмер, чтобы повысить бдительность. Это, как он теперь считал, большая промашка, и нужно поправлять дело. Но как?
Легковушка мерно гудела мотором, колеса мягко шуршали по укатанному тракту, в машине тихо, ничто не мешает думать, но нужные мысли не приходят. Так и пульсирует: «Что-то нужно предпринять, что-то нужно…» А что?
Дорого заплатит Богусловский за нужный ответ. Кровью своей. И скажет потом себе, когда пережитое останется позади, когда верный путь борьбы с диверсантами будет найден: не было бы счастья, да несчастье помогло.
Слева промелькнул отвилок. Узкий. Лесорубы до войны еще, видимо, проложили его. Либо лесники. Отвилок и отвилок, что тут особенного, только начальник заставы крикнул, словно боясь опоздать:
— Стоп! Тормози!
Для шофера один в машине командир. Только его приказы имеют силу. Но газ на всякий случай сбросил и скорость выключил. Вдруг «сам» сдублирует команду. Но повторил приказ вновь начальник заставы. Настойчивей и торопливей крикнул:
— Да тормози ты! Тормози! — и пояснил удивленно глядевшему на него Богусловскому: — Следы машины. Свежие. Что особенно странно, их пытались заделать.
Успел за малые секунды ухватить цепкий пограничный взгляд и следы свернувшей только-только на отвилок машины, и спешные, оттого и неаккуратные, полосы поперек тех следов, не лапником прометенные, а, похоже, прикладами автоматов, — все это удивило и насторожило начальника заставы, и он вовсе забыл о субординации.
Теперь как бы оправдывался:
— Всего одна машина сюда прошла. Одна, понимаете?! Выходит, свернула?
— Дела-а, — неопределенно протянул Богусловский, соображая, как дальше поступить. Не ехать же им, четверым, в погоню за грузовиком, полным автоматчиками? Да и ошибиться мог начальник заставы. Проверить нужно. Внимательно осмотреть следы.
Приказал шоферу:
— Давай задний ход.
И именно это их спасло. Первым качнувшуюся лапу приземистой ели увидел начальник заставы. Крикнул:
— Ложись!
Примял Богусловского за спинку водительского сиденья, схватил лежавший на коленях автомат и вскинул его, готовый открыть огонь. Ординарец и водитель тоже выхватили автоматы из самодельных гнезд перед дверцами, откинули ветровое стекло и приготовились огнем ответить на огонь. Только, похоже, спаниковал начальник заставы. По молодости, может? Неловкая тишина в машине. Богусловский распрямляться было начал, но не тут-то было: крепкая рука у начальника заставы. Не осилишь. К тому же еще и приказывает твердо:
— Лежите!
Еще долгая минута прошла. Начальник заставы командует шоферу:
— Давай полегоньку задним ходом.
Но только начала легковушка пятиться, как несколько автоматных очередей полоснули по мотору, тот поперхнулся сразу же, чихнул раз-другой по инерции и заглох.
Стрелявшие укрывались под ветками ели, утонувшей в снегу на обочине, и в густом еловом ернике, начинавшемся сразу за елью; стрелять флангово им было трудно — получалось как бы в затылок друг другу, ибо машина не доехала до засады метров сто, и, если диверсанты намерились не просто попугать, а захватить машину, им следовало перестроиться, обойти машину справа и слева, частью же вернуться к отвилку и оттуда ударить в спину. Вот тогда могут прошивать они тонкие железные бока и брезентовый тент, тогда наступит финал, а пока мотор служит доброй защитой, и, стало быть, можно пока отстреливаться для проформы, сберегая патроны. Для решающего момента. Чтобы, погибая, уничтожить как можно больше диверсантов.
Поредел огонь из ерника, а потом и вовсе утих. Обходить, получается, решили.
Начальник заставы вытащил финку:
— В тенте окна проделаем.
Пропорол, вскинув руку, резким ударом пружинистый брезент, потянул нож вниз, с хрустом разрезая задубевшую на морозном ветру ткань, но Богусловский бросил жестко:
— Отставить! — потом только пояснил: — Мы не куропатки, не мишени-фанерки. Выпрыгивать и — в лес. Мы — влево, — кивнул на шофера. — Вы — вправо. Сами встречать будем.
Давно уже не приходилось ему действовать в роли рядового бойца или даже в роли младшего командира, ту прежнюю ловкость порастерял он в начальничьих креслах, у карт и схем, в приказных бумагах да на мягких сиденьях легковых автомобилей; тучность природная, от отца, еще не совсем одолела, но «штабная грудь», как подшучивал он сам над собой, округлилась заметно. Все верно, каждому овощу свое время, только для пограничника истина эта народная никак не приложима: сегодня ты командир, думающий за всех своих подчиненных, завтра, а то и сегодня в один миг окажешься в положении рядового, когда твоя ловкость, твоя храбрость, твой расчет не только спасут тебя, но и помогут тебе одолеть врага. Этого забывать не следовало бы Богусловскому никогда, но такова жизнь: человеку свойственны человеческие слабости, он быстро привыкает к комфорту и ленится тренировать себя впрок. И бывает, расплачивается за это дорогой ценой.
Вот теперь тоже чем бы закончилось десантирование из машины, окажись в ней только штабные чины, — трудно предсказать. Вроде бы все правильно сделал Богусловский, скинул, как и шофер, полушубок, открыл дверцу, нырнул вниз на дорогу, перекатился до обочины, пополз к лесу-спасителю и — забуксовал в снегу. Не ползет, а зарывается в него. Но нужда есть спешить. Уже виднеются меж деревьев диверсанты. Трудно двигаются они, снег по пояс, но двигаются, и если не найти удобного места за толстым деревом — крышка. Снег не защита от пуль и не упор для стрельбы лежа.
Хорошо, что шофер не стал помогать Богусловскому, а, ловко лавируя меж деревьев, уполз метров на десять и встал за удобным для стрельбы деревом. Будто специально сосна эта приготовила изгиб и ждала сотню лет, когда сослужит он добрую службу человеку.
«Ловко», — одобрил Богусловский позицию шофера, когда одолел наконец непослушный снег, выгребся на настовую твердость между елочками и стал искать что-либо подходящее для себя.
И еще раз похвалил шофера, теперь уже с благодарностью, который не мог не видеть трехпалой березы, снизу спаявшейся в единый ствол. Прекрасная позиция. Специально оставлена для него, Богусловского.
Ну вот, теперь они в выигрыше. Диверсанты, похоже, даже не заметили того, что их уже поджидают. Пропахивают в снегу полосы-траншеи, полушубки расстегнуты до пояса, шапки-ушанки с красноармейскими звездочками у многих даже в руках, чтобы вольней дышалось взопревшим лбам. Тем, кто в телогрейках, наших, вошедших уверенно в солдатский обиход, тем полегче, и они немного вырвались вперед. Что ж, им и первые очереди. Короткие, по две-три пули, но чтоб без промаха. Всего два магазина. Негусто. Правда, и у него, Богусловского, и у шофера по ревнагану с тремя запасными барабанами, по три гранаты, но гранаты не в счет: в таком рыхлом снегу проку от них мало. Ревнаган — другое дело. Это — полезная штука. Хотя, вполне очевидно, силы очень неравны.
«Не успел вчера письмо отправить домой. Жаль!» — подумал, понимая безнадежность положения, из которого нет победного выхода.
Не сдаваться же!
Выделил Богусловский молодца в телогрейке. Метров тридцать до него, захочешь — не промахнешься. Отсек два патрона. Ну вот и ладно. Отпакостил один на русской земле. Щелкнул еще короткой очередью, даже не слыша, что и шофер не зазевался. Еще очередь, еще. И всё. И нет никого. Малое время действовал фактор первого выстрела — втиснулись диверсанты в снег, теперь минут несколько придется ждать, пока не займут они удобные для стрельбы позиции. Поливать бы сейчас по шевелящемуся снегу, только нельзя жечь патроны с малой отдачей. Повременить лучше. Прицельно только стрелять.
Сколько людей навыдумывали всяких сказочных вещей, которые без конца выдают то, что необходимо в нужный момент: скатерть-самобранка, калита непустующая, колчан стрелоносный — каждый по своей нужде о волшебстве мечтал, как теперь Михаил Семеонович и его спутники. Им бы теперь если не магазины непустующие, так хоть барабаны нескудеющие, тогда можно постоять за себя понастойчивей и даже, чем черт не шутит, и победу одержать. Увы, сказка — не быль.
Один за другим заговорили вражеские автоматы, зацокали по березе пули, впиваясь в отмякшую уже по-весеннему кору; коротко и тоже, похоже, безрезультатно, огрызались Богусловский и шофер.
Справа примерно по такому же сценарию тарахтел бой, и наверняка до поры до времени пустобрешный.
Пустячное время прошло, а один магазин пуст. Последний остался. Всего один. Еще расчетливей нужно стрелять. Только как удержишься, когда на твоих глазах уползает большая часть диверсантов за ерник, что темнеет непроглядной густотой немного правей? Обойти, похоже, намерились. Тогда позиция у них станет намного выгодней: можно свободно маневрировать за елочной густотой, вести прицельный огонь, оставаясь почти невидимыми. Идти им навстречу? Безумство. Отчаянное безумство.
Но шофер все же кинулся к ернику. Не пополз, а прыжками. От дерева к дереву. Такое Богусловскому не под силу. Он стал прикрывать его огнем.
Благополучно шофер доскакал до ерника и нырнул в него, подминая елочки-подростки. Прошлись по укрывшим пограничника елочкам автоматные очереди, и вновь пули защелкали густо, как грозовой град, по трехпалой березе, а справа и слева чертили частые полосы, обжигая студеный снег смертельной огненностью.
Достала одна из пуль Богусловского, когда он выцелил особенно рьяного диверсанта. Сам тоже увлекся, забыв о защите. Ожгло левое предплечье жгучей болью, и поползли по озябшей руке теплые струйки, а тело обмякло в тошнотворной слабости. Но взгляд засек, откуда пущена меткая очередь. Полоснул длинной по тому месту, но тут же ругнул себя:
«Одурел?! Спокойно!»
Достал ревнаган, как в тире, приловчил его на ладони и вцепился взглядом в комель старушки-сосны, ожидая, когда высунется автоматчик, чтобы пустить в него, Богусловского, очередную щедрую очередь. Тянутся секунды, минуты тянутся, свистят вокруг пули, а Богусловский ждет. Хотя уж сомневаться начал:
«Может, достал его?»
Вдруг слух уловил далекий еще звук урчащего мотора. Нет, не одного. Две или три машины.
«Наши?!»
А вдруг диверсанты? Тогда уж одно, без выбора: стрелять, пока есть патроны, но не забыть — для себя последний. Так и хочется оглянуться, хотя совершенно ясно, что далеко еще машины. И все равно, как трудно заставить себя не шевелиться и ждать, когда хоть чуть-чуть высунется тот, особенно ненавистный.
«Кровь за кровь!»
И как чаще всего бывает, терпение вознаграждается. Посчитал диверсант, что довольно прятаться, тем более что молчит трехпалая береза после длинной очереди. Патроны, возможно, кончились, тогда особенно нет нужды укрываться за стволом. Но все еще осторожны его действия. Высунулся на полголовы, приладил автомат, чтобы осыпать пулями березу, но… нажать на спусковой крючок не успел — ткнулся головой, словно чрезмерно утомившийся, в умятый локтями снег.
Слева, в ернике, захлебисто затараторили автоматы. Не поймешь, что к чему. И у диверсантов, и у шофера автоматы наши, советские.
«Держись, — подбадривает шофера Богусловский. — Держись!»
Да, самую малость осталось продержаться, если свои едут. Машины вот они, совсем рядом.
А если не наши? Если диверсанты?
Нестерпимо хочется оглянуться: ведь оттуда, с дороги, Богусловский понимал это, он — прекрасная мишень. Но понимал он и другое: если станешь укрываться от пуль с дороги, подставишь бок под пули тем, кто за деревьями. Выход один: выцеливать до последней возможности диверсантов. Без спешки. Без промаха.
От развилки заговорил ручной пулемет, в ответ ударили пулеметы и автоматы из машин, и Богусловский возликовал. Наши! В самый раз подоспели! Нет, Михаил Семеонович не оглянулся, он определял все, что происходит за его спиной, по слуху; он продолжал стрелять, не позволяя себе расслабиться. Не первый его бой. Он — опытный солдат. Он никогда не забывал того, предназначенного ему выстрела, когда, казалось, с группой белоказаков было уже покончено. Пулеметчик закрыл тогда его своим телом. Никогда он после этого не спешил разряжать оружие или выходить из-за укрытия.
Всему свое время.
Теперь оно рвануло стремительно. Открытый «Додж» со станковыми пулеметами по бортам, объехав бездвижную легковушку Богусловского, тормознул метрах в двадцати от нее и заговорил уверенно, по-хозяйски, посылая смерть диверсантам и вправо и влево. А следом и ЗИС подключился. Сыпанул в лес пулеметами, автоматами и винтовками, да так слаженно, будто не случайно они собрались за бортами, а специально вооружены и натренированы вести бой прямо из кузова.
Так оно и было. Никогда командир пограничного полка, а подоспел именно он, не ездил без охраны. Не великая числом, она была экипирована и натренирована для противоборства с засадами: борта защищены от пуль песком и ватой, а для стрельбы из автоматов и винтовок сделаны, как в стенах старинных крепостей, прорези; но самое грозное оружие грузовика — станковые пулеметы: на кабине, на растяжках в специальном гнезде, и по всем трем бортам. Ежиком ощетинивалась охранная машина в случае опасности. Командирский «Додж» имел два пулемета. Открытый всем ветрам и морозам, он был неудобен для езды, зато очень удобен для боя. Ложись в случае встречи с врагом за ватно-песчаную защиту и поливай его свинцом.
Куда диверсантам тягаться с такой силой! Дай бог ноги. Кому посчастливилось, успел влететь в ерник, а там уже безопасней. Шальная только достать может. Но они же не станут ее ждать, а лепетнут, сколько духу хватит.
Вот теперь пора и подниматься. А сил, оказывается, нет. Совсем нет. Вытекла она с кровью. Кружится голова. Тошнит. Только нездо́рово, чтобы раненного всего-навсего в руку несли к машинам на руках. Встать нужно. Через силу.
Вцепился здоровой рукой в шершавую кору, подтянулся и поднялся. Вначале, как дитя годовалое, на колени, потом уже на ноги. Затрясло его в ознобе, будто при лихорадочном приступе, зуб на зуб не попадает. И хочется выйти на дорогу самому, и силы нет оторваться от березы-спасительницы. А колотун все сильней колотит.
Вот и командир полка прет напролом через сугробы. Разгорячен успехом. Ушанка сбита на затылок, полушубок распахнут, скуластое лицо светится лихостью. Чапаев, и Чапаев! Только ростом повыше и в кости шире. Точно соответствует своей фамилии: Комелев. Басит уже рядом, как школяра отчитывает:
— Сотню метров до смерти неминучей не доехали. Эка инкогнито! Нагайкой бы за такие выкрутасы, да нельзя — начальство. Самое что ни на есть близкое. Спасибо, надоумь пришла подчиненному, оповестил. — А сам уж финкой рукав вспарывает, кричит, оглянувшись: — Бинты быстро! — Потом вновь к Богусловскому, с той же наставительностью: — И какого рожна лесом ехать? Не тачанки бы мои, крышка вам. Сказать, кто спаситель ваш, кто звонок выдал, чтоб, значит, встретил я?
— Нет. Я благодарен ему за урок, но… Он же ослушался, и я буду вынужден наказать. Но… непосильно мне это.
— Что ж, благородно. Очень благородно. Потом, после войны, живы будем — объявлю, за кого молиться. А пока потерпите малость.
Жесткие руки. К клинку привыкшие, к рукоятке маузера, не к бинтам, только выхода нет: до медсанбата далеко, крови сколько вытечет. И так вон как набух снег розовостью под березой! Солдату все приходится в жизни делать.
Из ерника выкарабкивается шофер. Тоже в крови весь. Ухо разорвано пулей и плечо пробито. С трудом прогребается в снегу, но спешат к нему бойцы-спасители. С бинтами.
На другой стороне дело еще хуже. И ординарец, и начальник заставы тяжело ранены. Оба — в грудь. Навылет. Выносят из леса их на руках. А стреляли до последнего мига. Какая сила духа!
Тяжелораненых уместили в легковушку Богусловского, прицепив ее буксиром к машине, шофера — в кабину грузовика, а Богусловского командир полка взял к себе. Без тента «Додж», но зато в нем есть тулупы. Добрые русские тулупы, которым ни ветер нипочем, ни мороз.
Дорогой почти не разговаривали. Уткнули носы в мягкую шерсть пышных воротников, отгородившись ими от ветра, и помалкивали. А мысли и Богусловского, и Комелева крутились вокруг случившегося. И когда подошло время для обсуждения контрмер, каждый из них имел уже свою точку зрения, свои предложения.
В одном они сошлись: база диверсионно-разведывательных групп в лесу. А вот о том, как найти логово и выкурить из него врага, тут всяк мыслил по-своему. Майор Комелев стоял за сплошную проческу леса. Предлагал задействовать весь пограничный полк да еще попросить пару полков у фронта. Еще и самолетов. Особенно хороши, как он утверждал, «кукурузники». Действовать предлагал он по опыту крупного пограничного поиска: заслоны сжимают кольцо, а впереди их поисковые группы и дозоры челночат вдоль и поперек.
— Ни одна мышь не проскочит. Всех накроем! — горячился командир полка. — И конец кровавым разбоям в селах и на дорогах. Конец!
Комелев напоминал сейчас Богусловскому того пограничника, с которым встречался он в первой своей послереволюционной командировке: побольше эффекта, погромче шум, чтобы знали враги, как сильны и смелы мы. Какая цена такой операции, похоже было, Комелева не волновало вовсе. Богусловский слушал командира полка, и ему хотелось, хотя он понимал великую нелепость желания, заглянуть под гимнастерку, нет ли под ней старой, от революционных лет оставшейся тельняшки. Сколько времени прошло, а мышление то же: вперед, братушки, сметай контру! А кровь своя не в счет. И все это совершенно искренне, с полной верой в правильность своих действий.
— Все у вас? — выждав, когда выговорится командир полка, спросил Богусловский. — Если все, послушайте меня. Ваш план я принять не могу. Давайте действовать по-пограничному. Первым делом нужно найти бывших партизан…
— Они сейчас на передовой. Влились в состав Красной Армии.
— Прекрасно. Едем в штаб фронта. Да-да, не возражайте. Сейчас не время лечить царапины, полученные тем более по своей вине. Там, в штабе, решим и второй вопрос. — И спросил Комелева: — Почему прошла через КПП машина, полная диверсантов? Вы сейчас даже не вспомнили об этом. Без охраны, как вы верно утверждаете, ездить нельзя, только я еще один вывод сделал: у диверсантов и разведчиков нужно отнять наши документы.
— Когда их не будет — и документов у них не будет.
— Каламбур удачен. Только, как мне представляется, немцы спать не станут. Они засылали, засылают и будут засылать новых и новых. А мы в ответ что? Прочесывать леса? Слишком дорогое занятие. Нужна система. Вот об этом в штабе и поговорим. Как машина?
— Починили. Шофера своего отдал. Лихой. Чапаевец, одно слово.
Улыбнулся Богусловский. Не только, выходит, сам подражает легендарному комдиву, а и людей оценивает мерками своего любимца.
— У меня не тачанка. Отвыкнет.
Не очень сердечная благодарность за добрый порыв, ну да что с начальства возьмешь? Ему видней. Но все же не стерпел Комелев:
— Тачанка не тачанка, а бока против пуль защитить советую. И мой Григорий отменно все сообразит.
— Согласен. Только позже. Сейчас ехать нужно.
Не совсем уютно чувствовал себя Богусловский под конвоем двух машин — «тачанки» со страшно глядевшими во все стороны пулеметами и грузовика, на кузове которого нелепицей какой-то красовался во весь свой рост «максим». Иронично все это, трусостью попахивает, только что иное взамен придумаешь? Прав командир полка — без охраны не следует больше ездить. Играть в прятки со смертью — дело зряшное.
Первый визит не к командующему фронтом, даже не к начальнику штаба, а к войсковым разведчикам. И это оказалось весьма верным тактическим шагом. Там все поняли без лишних объяснений, все одобрили:
— Партизан бывших найдем. Идея периодической смены документов хороша. Хлопотное только это дело. К тому же утечка новых образцов не исключена. Лучше менять форму подписи и ставить условные знаки. Менять часто, через два-три дня.
— Проще и лучше, — вполне согласился Богусловский. — И еще вопрос: можем ли мы рассчитывать на помощь? Три-четыре взвода разведки?
— Подбросим. Дело общее. Возражений со стороны штаба, скорее всего, не будет.
Какое там возражение! В штабе фронта рады, что не снимать с передовой полки, не вводить резервы прежде времени в действие. Командование фронта готово было на все, чтобы избавиться от вражеских диверсионно-разведывательных групп не только потому, что небезопасны тыловые дороги, но, и это главное, чтобы не стало известно гитлеровцам о сосредоточении на ряде участков фронта крупных резервов. Они вот-вот должны были подходить, и цель их — нанесение вспомогательного удара с началом наступления на Орловско-Курском выступе. Узнает об этом немецкое командование — примет контрмеры. Поэтому за предложение Богусловского ухватились, как за ниспосланное благо. В помощь пограничникам тут же выделили группу штабных офицеров, коим предстояло разыскать и собрать возможно больше партизан, определить и подготовить разведвзводы для операции — делать, короче говоря, все, о чем попросят пограничники. На все про все — двое суток.
Готовить операцию и проводить ее взялся сам Богусловский, хотя Комелев убеждал его поручить это дело ему, командиру полка, в зоне которого лес. Не согласился начальник войск. Заявил твердо:
— Вопрос решен. Обсуждению не подлежит.
Двое мятежных суток пролетели с удивительной стремительностью. Казалось, особенно в последний перед началом операции день, что никак не уложиться в столь жесткие сроки, что придется время «Ч» переносить, но все в конце концов уладилось, все группы к определенному сроку вышли на исходные рубежи и ждали, отдыхая перед трудной и опасной дорогой, как принято извечно на Руси.
Технология операции проста: по группе — на каждую бывшую партизанскую базу. Во всех группах — проводники. Бывшие партизаны, знающие и лес, и подходы к базам как свои пять пальцев. Во всех группах — переводчики. Из разведчиков, легко владеющих немецким, которым и определялось снимать часовых. Основы же групп составляли разведчики, хаживавшие не единожды в немецкие тылы за «языками», и столь же ловкие и умелые пограничники, для кого ночь привычней дня. У всех подбитые из лосинового подбрюшья мехом лыжи-снегоходы, широкие, но короткие и очень ловкие на ноге. Охотились в здешних местах на таких прежде, потом приспособили для партизанских боевых вылазок, а вот теперь, наоборот, для быстрого и незаметного по снежной целине выхода к базам.
Богусловскому тоже приготовили лыжи, хотя он и не предполагал идти ни с одной группой. У него — связные, из бывших партизан, и резерв на всякий случай. Вдруг где осечка случится. Ну а принесли если, пусть лежат в сенцах, хлеба не просят.
Никаких сигналов. Никаких радиопереговоров. Полная тишина, но Богусловский знает: пошли группы в непроходимость лесную. Каждая по своему маршруту, по своему расчетному времени. Осторожно пошли, чтобы не встретиться прежде времени с диверсантами, если кто из них вышел на ночную «охоту». Одна цель у них, одна задача — выйти незамеченными к базам, снять часовых, перебить, лучше без шума. Всех, кто появится, брать. Если возможно, то живыми. Для получения информации.
До самого утра не сомкнул глаз Богусловский, проделав в тесноватой комнате путь нисколько не меньше того, какой осиливали боевые группы. И лишь когда солнце заявило о себе во весь свой весенний ласковый голос, прибыл первый посыльный. Доложил:
— Уничтожены все диверсанты. Потерь с нашей стороны нет.
— Молодцы! — обрадовался Богусловский доброй вести, но невольно, словно бы прибывший мог знать что-либо еще, спросил: — А как другие?
— Стрельбы не было слышно. Стало быть, и у других ладом.
Верным оказалось его умозаключение. Все группы справились с заданием. Одни ловчее, другие с жертвами со своей стороны, но диверсионные логова уничтожены. Теперь задача простая: держать там постоянные засады, чтобы никто больше не облюбовал бывших партизанских баз. Засады эти, работа оперативно-поисковых групп по всей глубине прифронтовой полосы, частая смена условленных перемен в документах — все в комплексе позволит обезопасить прифронтовые дороги, лишить немецкое командование точных разведданных.
Именно к этому стремился Богусловский, и он мог быть вполне доволен своими действиями, но он не предполагал, что возникнут и для пограничников, и для фронтовой разведки еще более благоприятные возможности, смогут они начать игру с фашистской войсковой разведкой. А узнает об этом Богусловский совсем скоро, к обеду, когда появится связной от самой небольшой боевой группы.
Поначалу ее не существовало. Но вдруг один из партизан вспомнил, что держали они коров и овец на межболотье, как он выразился. Три землянки там. Две для женщин, одна для охраны. Только от кого охранять? Глушь, куда никто чужой и шагу не сделает. Летом туда и оттуда ходили по гати, настланной еще до войны лесничеством, только замаскировали ее мхом, кочками так, что пройти по ней мог только знающий ее человек. С воздуха землянки никак не увидеть: у елок вырыты, крыши под муравейники замаскированы. Сено, что накашивали летом, тоже под елками прятали. Худо людям и скоту колхозному пришлось, комарья — тьма-тьмущая, зато масло на все другие базы отряда поступало, творог, сыр, да еще вязали женщины носки и варежки. Теплые, мягкие. Зимой посложней, но огорили одну, а во вторую свои вызволили, турнули взашей фашистов.
Не без сомнения, однако, стали готовить туда группу. Откуда, дескать, там фашисту взяться? Кто ему путь туда укажет?
Богусловский разрешил противоречия шуткой:
«— Лучше перебдим, чем недобдим».
Так вот она и получилась, та группа. Ей дальше всех путь, от нее и донесения ждали позже. Да и ждали так себе. Даже когда расчетное время вышло, особенно не беспокоились. Правда, Богусловский решил послать усиленный наряд после обеда, если донесение к тому времени не подойдет. Вдруг, считал он, случилось непредвиденное.
Нет, ничего опасного на межболотье не произошло. Проводник вывел группу точно к гати (даже зимой болото, с незамерзающими окнами, припорошенными снегом, очень опасно) и, к удивлению своему, увидел следы таких же самых, как и у них самих, лыж-снегоходов. Свежие совсем. От землянок. В темноте не разберешь, сколько человек прошло, но понятно, что не так много.
Вот тебе и «кому на межболотье быть»! Выходит, фашистам известна гать. Кто-то, выходит, выдал. Пойди теперь разберись кто. И лесники знали о ней, и охотиться кто любил, да и грибники, кто посмелей, хаживали через болото. Гадай, однако, не гадай, а теперь уже сам бог велел к землянкам идти.
— Дозор впереди пустим, — предложил старший группы, — потом уж ядро основное.
— Нелишне тыл прикрыть, — посоветовал партизан-проводник. — Иначе можем в ловушке оказаться.
— Хорошо бы, да нас всего ничего.
Порешили дозора не высылать. Заслон важнее. Риск, конечно, невероятный. Если к другим базам с любой стороны можно подобраться и, стало быть, оттуда появиться, откуда никто не ждет, то здесь одна тропа — если сидит на конце ее наблюдатель, всем тогда конец. Только кто дуром на смерть полезет? Когда уж некуда деваться, тогда другое дело, но даже и тогда человек в последний миг хоть за соломинку, да ухватится. И на отчаянный риск пойдет. На геройство. Чтобы живым остаться. От всего этого героическая смерть и выходит.
— Вот что, метров за сто до избушек свернем с гаги. Пойду передом я, а если провалюсь, пособите вылезти.
По гати шли ходко, обход занял чуть побольше времени, но у землянок оказались они все же до рассвета. Тишина, как и на болоте. Никого. Жилым, однако, пахнет. И снег изрядно поутоптан. Есть кто-то, значит, в землянках. А часового нет. Не остерегаются, выходит. Обнаглели.
Пошептались разведчики, определяя план своих действий, и порешили так: у дверей затаиться и ждать, когда кто-либо выйдет.
Дождались. Распахнулась дверь, и в исподнем, позевывая, шагнул за порог опухший ото сна увалень, по-медвежьи могучий. Еще один шаг, и — зажат рот крепкой ладонью, а под сердце вонзена финка. Не пикнул даже увалень.
Из землянки русский матерок:
— Закрывай, мать твою так, дверь. Настудишь!
— Не настудим, — ответил спокойно старший оперативной группы, входя в землянку. — Лежать! Не шевелиться!
Следом за старшим — еще двое. Затащили убитого и прикрыли за собой дверь.
Те, кто затаился у входа во вторую землянку, не пошевелились даже, будто ничего вовсе не произошло. У них своя задача. А там, за дверью, разберутся. Не впервой им сонных будить, включив фонарики. Тем более что там, за закрытыми дверями, тихо.
И правда, совсем не сопротивлялась тройка захваченных врасплох диверсантов. Лежали они, не шевелясь, под дулами автоматов, пока не зажгли разведчики лампу и не собрали в кучу оружие. Наше оружие, советское.
— Теперь — подниматься. По одному. И как на духу — кто такие?! Иначе — смерть!
Четверо было, теперь трое осталось. Двое русских, один немец. Ясно кто — охрана. Немца-радиста охраняют. Он там, в землянке своей. Выходит по нужде да за своей порцией еды. Шагу от нее не сделает, чтобы не запереть. Когда сам внутри, на засове сидит. Это один из русских все рассказывает, словно на исповеди, будто обрадовался излить душу. Чудно как-то.
Не утерпел старший от вопроса:
— Чего ж ты продался немцам?!
— Продашься, коль жить захочешь. Побыл бы ты там… Голодом морят. Собаками травят…
— Честная смерть — святая смерть!
— А-а! Что говорить? Сытый голодного не разумеет. Если радиста взять хотите живьем, ждать придется, пока не приспичит или жрать время не подойдет.
Что ж, ждать, так ждать. С докладом опоздание выходит, но ничего не попишешь. Связали крепко диверсантов и оставили двоих автоматчиков для пригляду. Команда такая: заерепенятся — очередями из автоматов успокоить. Громкая команда, без утайки от связанных. С переводом на немецкий.
Часа два прошло, пока радист соблаговолил отодвинуть засов. Вышел, тоже в исподнем, с такой же сладкой позевотой потянулся. Он не спешил. Он наслаждался жизнью. Он ее любил и был рад, что судьба забросила его в этот тихий лесной уголок. Пули не свистят, еды до отвала, а работы почти никакой. Один сеанс связи. На исходе дня. Шифровать, правда, надоедает, но с этим вполне можно мириться.
Он не сразу понял, что произошло, когда дверь с треском, словно кто-то ее со всей силой толкнул, захлопнулась, больно хлестнув его по боку и отшвырнув в сторону. Еще не пришел в себя от неожиданности, а на него уже глядят стволы автоматов. И справа, от угла дома, и слева, откуда толкнула дверь. И тут же, без долгой паузы, предложение. На чистейшем немецком языке:
— Самое благоразумное сейчас — поднять руки.
Действительно, выход один. Не на ствол же кидаться? Да он и не готов к этому. Он — радист. Он — не солдат. Его тонкие пальцы не приучены нажимать на спусковой крючок, его сознание не было нацелено на борьбу с опасностью, а тем более со смертью. Он радист, человек ценный и охраняемый. Нет, он не готов к смерти. Он поднимет руки. Пусть только вынесут ему полушубок и брюки.
— Вот и ладно, — довольный простодушностью радиста, заключил старший группы. — Глядишь, и дальше не станет перечить.
У него уже возникла мысль не рушить радиоаппаратуру и не конвоировать из леса задержанных, а, послав связного, подождать кого-либо из командиров. Глядишь, немец согласится давать ложные радиограммы. Так он и поступил. Заслон перед болотом снял, а выставил его у выхода к землянкам. Радиста связали, но в общую землянку не отвели. В его радиоземлянке сторожили. Закрывшись на засов.
По уму все сделала группа. Едва лишь узнали Богусловский, командир полка и представитель штаба фронта о плененном радисте, как сразу же стали готовить туда вторую группу пограничников, возглавить которую хотел Богусловский сам, но встретил упорное сопротивление.
— Не забывайте о ране! Что, не доверяете нам? — шел даже на такое представитель штаба фронта.
— Даже я не пойду, — вторил ему командир погранполка Комелев. — Там другой специалист нужен. Его и пошлю. Вам войсками командовать следует, а не радиста вербовать.
Что ж, видимо, правда в этом есть. Важная там игра может начаться, во многом, если она удастся, облегчится задача охраны тыла фронта, но… Пусть каждый делает свое дело. Вот держать под контролем радиоигру, если она пойдет, нужно будет постоянно, а подменять разведчиков, верно, не стоит.
Удалось подчинить себе немца-радиста, и долго морочили голову немецкому командованию на этом участке фронта ложными сведениями. И все новые группы, которые перебрасывались через линию фронта без скаредности, попадали в капкан, а донесения шли об успешном начале их диверсионно-разведывательных действий.
Но, видимо, перестарались в чем-то наши разведчики — заподозрили там, по ту сторону фронта, что-то неладное. Пустили контрольную группу. Она не знала, что ей уготована роль подсадной утки, шла на базу, как и все остальные, без утайки, была пленена, но никто из диверсантов не знал, что командир их должен был передать радисту всего два слова для радиограммы: «Лес спокоен», — командир промолчал на допросе, вот и осталось в тайне, что группа проверочная, оттого и полетело в урочный час обычное сообщение, что переход прошел благополучно.
Ответа никакого. Связь прервалась. Но и Богусловского, и штаб фронта факт этот не особенно расстроил. Передислокация сил и средств уже проведена, пополнение получено, приличное пополнение, а фашисты совершенно об этом не информированы, поэтому не особенно укрепляют фронт. Стягивают силы к Курскому выступу, там готовятся и к удару, и к контрудару. Здесь, считают, фронт останется стабильным. Поймут они свою ошибку скоро. Когда не смогут сдержать натиска советских дивизий.
Скоро и для пограничников наступит новая пора.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Фронт двинулся. Не сразу. Не вдруг. Канонадило и с той, и с нашей стороны изрядно. Танки сшиблись, и пошла потасовка. Ни фашисты, ни наши танкисты не предполагали даже, что повторяют они, хотя и в малых размерах, то же самое, что происходило в те дни на Курской дуге, вовсе еще не зная о том танковом сражении и даже не думая, как победа тридцатьчетверок там резко изменит положение здесь: наши танкисты, вдохновленные, окрыленные, нажмут через, казалось бы, силу, а дух гитлеровцев, их вера в свое преимущество и техническое, и моральное (лучшая нация в мире), даст трещинку. Попятится фашист, упрямо упираясь поначалу, а потом уж и вовсе безудержно. До нового рубежа.
Но еще до того, как вышли на оперативный простор дивизии фронта, Богусловский со своим штабом, с командирами полков и даже батальонов провел совещание. Обмозговав совершенно новые вопросы. Если бы речь шла об отступлении, то тут все ясно; и приказы нужные есть, и опыт; при обороне тоже уже начала прорисовываться какая-то стройность в действиях пограничников, а вот что делать, когда фронт пойдет вперед, тут, как говорится, напрягай извилины.
И так прикидывали, и эдак, пока, учитывая мнение большинства, Богусловский определил вдвое увеличить число оперативно-поисковых групп, сделать их крупней, боеспособней, определить им место сразу же за наступающей пехотой. Освобождает она населенный пункт, пограничники следом входят в него. Если где затаился враг, специально оставленный для диверсий, его — на чистую воду. И полицаев-предателей под одну с ним метлу. На дорогах КПП не снимать. Условные знаки в документах продолжать менять. Сократить даже периодичность смены.
Конечно, нагрузка дай бог какая, резерва почти не останется ни в батальонах, ни даже в полках, но иного, более разумного, на их взгляд, хода действий командиры не нашли и стали готовиться по задуманному регламенту. И хорошо сделали: не застало их наступление, как говорится, в летних рубашках. Пошли тут же споро донесения, каждое из которых Богусловский непременно просматривал. Ничего, однако, интересного. Единичные задержания. Но не все задержанные оказывались перевертышами, многих полицаев и старост тут же отпускали, ибо работали, как выяснялось, у фашистов по заданиям партизан. Почти все они просились в строй к пограничникам, те брали их и много от этого получили проку. Все это, конечно, хорошо, но не таких докладов ждал Богусловский. Судя по тому, сколько различных секретных служб действовало на оккупированной территории, не могли они ничего не оставить.
— Искать и искать, — твердил он без устали. — Изучать архивы с величайшей тщательностью.
Изучали, безусловно. Только мало архивов попадало пограничникам в руки. Мизер.
— Искать и искать!
Хлопотно и кровопролитно станет в прифронтовой полосе, если сумеют фашисты оставить диверсантов и агентуру в лесах, в городах, в селах. Главное, к чему стремился Богусловский всегда на границе, распознать вражеский замысел, уцепиться хотя бы за ниточку, пусть тонюсенькую, узластую, но, окажись она в руках, и узелки можно развязать, и добраться до клубка, чтобы размотать его. Но идут донесения обычные: передан в руки пограничников сельчанами предатель-полицай, обнаружена и уничтожена затаившаяся в городе диверсионная группа — все мелко, не чувствуется пока долговременная и крупная акция.
Первое донесение, на которое Богусловский обратил внимание, было вроде бы вовсе рядовым: несколько деревень совершенно целы, почти никто из женщин не пострадал.
— Немцы стороной прошли, что ли? — размышлял Богусловский вслух, как это, бывало, делал Оккер, когда он, начальник штаба, докладывал тому обстановку. Оккер как бы приглашал неспешно порассуждать вместе, и это часто приводило к верному умозаключению. Теперь Богусловский поступал так же. — Но скотину и хлеб не могли они не выгребать?
— Без сопротивления отдавали, — предположил начальник штаба, — вот и без эксцессов.
— Одно село — допустить можно. Но несколько? Не укладывается в голове. Партизан оберегали послушностью?
— Может, и партизан не было.
— Так что они, по-твоему, не советские люди?!
Помолчали. Богусловский, осуждая себя за несдержанность, начальник штаба, наоборот, виня себя в верхоглядстве.
— Вот что, — решительно определил Богусловский. — Поеду-ка я туда сам.
— Добро, — поддержал начальник штаба. — И в самом деле, на месте видней.
Отчего же не остановил он своего командира? Отчего не вызвался сам поехать? Все могло бы пойти иным путем, иным порядком.
Место своей дислокации Богусловский выбрал в районном городке, тоже отчего-то совсем целом. Тем более что там случилась подозрительная смерть — умерла Раиса Пелипей. Сообщила пограничникам об этом хозяйка дома, где квартировала покойница. С испуганным возмущением сообщила, сразу же насторожив:
— Фельшеричку отравили! Судить бы ее всенародно! А ее так, жалеючи вроде. Иль мешала кому.
— Давайте рядком все расставим, — очень спокойно, что не могло не подействовать на взволнованную женщину, предложил старший оперативной группы. — Во-первых, что за фельдшерица? Во-вторых…
— Да фельшеричка же! — удивленно пояснила женщина, которая даже не могла представить, что кто-то мог не знать ее квартирантку, бесстыже работавшую у немцев, да еще и якшавшуюся с ними не только днем, но и ночью. Весь район плевался. До войны, мол, уважительность выпячивала к колхозникам любо-дорого, а гляди ты, стервой оказалась. Пожала плечами, чувствуя, что ее не понимают. — Ну фельшеричка. Она самая! Дрыном сучкастым еще ее люди костили.
Слово за слово, и выяснила оперативная группа и кто такая фельдшерица, и что сразу же, как пришли фашисты, стала она работать в гестапо (так в народе ошибочно называли группы и команды полиции безопасности и СД), а людям ведомо, какие дела гестаповцы творили, стало быть, Пелипей не безгрешна, райком, считали, она выдала, и погибли бы все, не выручи их партизаны. Поп тоже на ее совести. Вроде бы исповедоваться приходила, а на другой день увели беднягу. Проведала, не иначе, что церковный сторож — райкомовец. Или уговаривала его с немцами заодно идти. Не согласился, выходит. Райкомовцу сразу крышка, а над попом фашисты изгалялись изрядное время. Вот и надежду лелеяли, что воздастся ей всенародно за злодейство, и смерть ее вовсе не входила в мстительные планы обывателей.
— Когда наши-то пришли, она вроде даже рада, — поясняла хозяйка дома. — Трудно, сказывала, жить было крадучись. Партизанам, вишь ли, она помогала, оттого у немцев и прислужничала. Свои же, мол, ненавидели. Всем, мол, душу не распахнешь. Вона как запела! Продажная тварь! И то сказать, раз ты партизанам помощницей была, что ж они тебя умертвили?!
Опять вопрос:
— Вы думаете, партизаны ее отравили?!
— Думать тут не приходится. Она сама сказала: от партизан, мол, весточки жду. Жди-жди, думаю себе, и к соседке на ночь ушла. Прежде я тоже сбегала, когда ночью офицерье у нее грудилось. Всего раз поглядела, хватит. По горло. Убегала от сраму. Боялась еще: одной-то вдруг мало бугаям станет и меня тоже в круг затащат. Этот раз тоже ушла. А утром вернулась, гляжу, окочурилась квартирантка моя.
После таких вводных даже не оперативный работник задумается. Неясностей — целый ворох. Только вот с чего начинать? Сохранись архив, полегче бы все было, но ни одной бумажки не осталось ни в школе, где зверствовала полиция безопасности, ни в концлагере. Одна надежда: живые люди, свидетели злодеяний. Они вполне могут дать нужную ниточку.
Еще один путь — полицаи. Не может того быть, чтобы не знали они ничего о райкомовце и попе. А их, полицаев, у оперативной группы на выяснении пятеро.
Пошли пограничные патрули от дома к дому с расспросами, а в это время в той же самой школе, где кровь еще не была смыта со стен и полов, Богусловский приступил к допросу полицаев, на что-то надеясь. Увы…
— Немцы нам не открывались, — выдавливал из себя подсыхающий сморчок с бездушными алкогольными глазами. — Мы им — что скотина бессловесная. Иди туда, арестуй того, арестуй этого. А попа — нет. Сами они. Истинный крест, сами. Не по нам, выходит, гусь.
И второй, боров откормленный, почти то же утверждает. И третий, ненавидяще сверля злыми глазами, отчего Михаил Богусловский невольно напружинился, воскликнул:
— Знатье бы, что поп Советам продался, придушил бы вот этими руками. — И вытянул растопыренные пятерни с крепкими узловатыми пальцами. — Знатье бы!
Все, больше ни слова. А взгляд еще злее. Хотел Богусловский завести его, как того гайдамака, захваченного в плен на советско-германской границе, да передумал. Похоже, он действительно, зная истинное положение дел, порешил бы попа, как, возможно, расправился не с одним и не с двумя своими бывшими знакомыми, ведя на них еще в довоенное время свое досье и копя злобу до «судного часа». И настал он, час его торжества, когда в город с трескучим шумом ворвались мотоциклисты-гитлеровцы.
— Уведите! — повелел Богусловский. — И глаз за ним!
Так выходило, что нет никакого смысла продолжать допрос. Кто из трусости, кто из ненависти к Советской власти, отобравшей землю у кулаков для бедняцких семей, кто из желания вволю пображничать и пожить властелином над себе подобными, оказались они в полицаях, но не мстителями и вольготными бражниками стали они, а злыми дворнягами, готовыми по науськиванью кусать любого, кто жил по иным меркам, святым и праведным меркам. Ничего серьезного немецкая служба безопасности не открывала прислужникам, ибо не верила им, предавшим свой народ. Ничего, получалось, не могли прояснить полицаи. И только по житейскому своему правилу не бросать дело, не окончив его, велел привести следующего полицая.
— Время дорого, — не стал ждать вопросов полицай, самоуверенный, высокий, но неуклюже сутулый мужчина. — Мне сказали, чем интересуетесь. Я сидел в темной каморке с райкомовцем. Меня подсадили к нему гестаповцы. Чтоб выведал, значит. Но мне не для них знать правду нужно было, а для второго секретаря. Да-да, второй секретарь райкома лично руководил моей работой. Может знать обо мне Акимыч, он в партизанском отряде завхозил. Председатель бывший колхоза, где я полицайничал. Только я не об этом. Еще не время мне уходить от дружков моих. Придет пора — дам знать. Хотя и страшусь Арангутана, так мы его, что прежде у вас тут был, кличем, вполне может удушить, если проведает правду, но знаю, что нужно. Глядишь, проклюнется что. Очень подозрительно все тут. Так вот, не открылся райкомовец, не поверил. Унес тайну с собой. А что знал чего-то, либо подозрение какое имел, это уж точно. После того, как, побитого и попаленного, впихнули его после четвертого либо пятого допроса, не стерпел, перекусил ночью вену. Истек кровью. Меня самого за этот недогляд чуть фашисты не отправили на тот свет, но смилостивились. Вам надо, думаю, тех искать, кто с попом сидел. Его вроде в классе держали. Вдруг кто живой остался… Все. Ведите назад. Чтоб подозрения никакого. Об этом я все рассказал Второму. А меня кличат Добровольцем. А еще — Страдальцем. Сам я хутор свой под коммуну отдал и в Красную Армию ушел. Когда вернулся, в коммуне работал. Только не обошло меня лихо, посадили. Кулак, посчитали, он и есть кулак. Перед войной отпустили за ударную работу. Вернулся домой, а тут фрицы близко. Меня и вызвали в райком. Все. Ведите.
Да, действительно нужно уводить, если не врет арестованный. И следующего вызывать. И только потом осмысливать полученную информацию. А она все такая же непонятная. Еще больше все запутывает. Без СМЕРШа не обойтись. Только и самим не резон умывать руки. Тем более, что фронт, как ни напрягался, вперед не двигался. Помощь бы малую, чтобы усилить нажим, да где ее взять? На Курск, на Орел Ставка бросает, как понимали и командиры, и бойцы, сейчас все наличные резервы. Там главная битва нынешней летней кампании, а здесь — отвлекающие удары. И цель локальная — сковать силы противника, не пустить их к Курску. В общем-то, задача эта выполнялась, и все до поры до времени были довольны. Пограничникам остановка тоже сподручна. Есть время пораскинуть умом, все ли вышло как надо во время наступления, ну и пройти бредешком по освобожденной земле, очищая ее от недобитков, от оставленной фашистами агентуры. Где это легко складывалось, где посложней, у Богусловского же пока ничего не прояснялось, хотя шел день за днем, находились все новые и новые люди, знавшие о последних днях жизни попа.
Сидел один. Вначале в классе. Кормили даже лучше, чем других арестованных. На допрос водили редко. Не били. А потом началось: перевели в школьную уборную, ни воды, ни хлеба не давали. Голод, считали, не тетка. Нечистоты священник станет есть.
Нет, не дал повода гитлеровцам торжествовать духовную победу. Умер голодной смертью. Больше месяца держался.
Такое не может не вызвать уважения. Но не только великое мужество священника покорило и удивило одновременно Богусловского, а рассказы о том, что, когда шла гражданская война, проклинал тот с амвона комиссаров-большевиков, возносил к небу хвалу царской семье, злодейски изничтоженной, и призывал паству стоять за веру христианскую, за святую Русь. Да и после гражданской не утихомирился — против колхозов шел. Едва в Сибирь не угодил. Одно спасло: слово дал не вредить впредь Советской власти. Верно, не вредил, но и пользы не приносил. Не ратовал за новую власть. Никак не ратовал. А немец подступил когда, сам дал знать в райком, что хочет встретиться с первым секретарем. Не в райкоме, не в церкви, а где-либо за городом. Явно не желал гласности.
Весьма разумная предосторожность. И, как понимал Богусловский, много пользы принес священник не только тем, что благословлял верующих на борьбу с гитлеровцами, а и тем, что вел какую-то определенную организаторскую работу. Какую? Сейчас можно было лишь догадываться, домысливая скупые факты. Связь он держал только с Первым, посыльный у них был один, а он канул как в воду вместе с Первым.
Снова — тупик. Но не это сейчас занимало Богусловского. Он понимал, что все содеянное попом узнать теперь совершенно невозможно, но одна линия имела продолжение: почему поп послал связного накануне готовящегося налета на концлагерь и почему Первый так спешно откликнулся на зов? Богусловский решил поехать и в бывший концлагерь военнопленных, а потом и в село, которое готовилось к обеду встречать партизанский отряд Темника. Партизаны намеревались еще накануне покинуть свою базу, но воспротивился Акимыч, потребовал прежде все законсервировать, часть оружия и боеприпасов схоронить в лесу на непредвиденный случай. Вдруг фашисты вернутся. Оттого и случилась задержка. Богусловскому она оказалась на руку.
Пока, однако, они ехали к концлагерю, бродили по нему, с ужасом представляя, каково пришлось военнопленным в этом специально приспособленном для страдания месте, а потом добирались к лесосеке, где военнопленные валили лес, Богусловский, хотя и разговаривал со спутниками, соглашался с тем, что и в самом деле странно близко к лесу расположен концлагерь (когда есть подозрение, все кажется странным), хотя и возмущался вместе со всеми зверством, какое творили люди, считавшие себя высшей расой, сам же все время пытался ответить себе на назойливо вцепившийся в сознание вопрос, случайно или нет, во всероссийском понимании, действие попа.
Он не забыл те сутки, которые провел на колокольне церкви Всех Святых в засаде, помнил и спор с молодым чекистом Петром Самсониным, и тогдашние мысли недоуменные о падении церковных нравов, об измене христианскому принципу «не убий», ибо пухлыми руками самих, видимо, священнослужителей оборудованы были на колокольнях церквей пулеметные гнезда, чтобы стрелять оттуда по трудовой Москве, чтобы утопить ее в крови, как спланировали заговорщики-белогвардейцы, — все это он помнил не только оттого, что в жизни случаются события, о которых человек никогда не забывает, но еще и потому, что и потом, на границе, ему приходилось сталкиваться с противодействием церкви, с ее преступлениями. Скорее, не самой церкви, а контрреволюции, слуги которой, не веря ни в бога, ни в черта, подстригались в монахи, облачались в поповские ризы и принимались верховодить в приходах. Особенно заметным было для Богусловского цепкое влияние белогвардейщины в староверческих общинах. Сами бывшие офицеры-дворяне или высокого ранга сановники жили припеваючи в глухих заимках в окружении целых гаремов черниц, а фанатиков-верующих пугали геенной огненной, которая грядет вместе с близким судом божьим, внушали им, что большевизм — предвестник этого суда, и верующие, как бараны, следовали на заклание за козлами-предателями, сжигали себя вместе с детьми либо уходили целыми семьями в стылую тайгу, чтобы отлетели их замерзшие души в рай. Богусловский внушал тогда своим подчиненным, что нельзя огульно обвинять ни православие, ни раскол во враждебности, что следует искать вдохновителей враждебности и не только судить их за преступления, но и открывать их истинное лицо, их истинные цели верующим. И видел Богусловский плоды своих усилий. Нет, конечно, староверы не сбривали бород, не пили из одной чашки с мирскими — они блюли свои догмы, почитая святость их, но они становились прилежными трудягами, которых, не довлей над атеистами чувство неприязни к верующим, вполне можно было брать в пример.
Это Богусловский видел, но он еще и читал бюллетени, получая в них информацию совершенно иного плана: церковь, особенно официальная, не прекращает тайной борьбы с большевизмом, не признает народной власти. И виделся Богусловскому парадокс: сектантство, всегда отличавшееся воинствующими протестами, сдавало позиции заметней, чем делала это официальная церковь, которая никогда не была бойцом в полном смысле этого слова. Ее генеральная позиция — примиренчество, соглашательство. Михаил Богусловский, как и все люди его круга, воспитывался в духе уважения к вере, он хорошо знал историю христианства и русской церкви, вместе с тем он не воспринимал, как малограмотный обыватель или совсем безграмотный мужик, ни сути религиозных истин, или, как их называют церковники, догм, ни религиозных формул, заповедей, которые диктуют смысл бытия, — он мыслил, сопоставлял, оценивал, особенно когда жизнь столкнула его впрямую с церковниками и сектантами, с их враждебностью.
Еще там, на Кулишках, в засаде, он пытался понять, отчего церковники в большинстве своем поднялись против новой власти. Что? Отделение от государства? Так ее лишь Петр I соединил с государством, создав Синод. И прежде этого церковная иерархия была своя, и сразу же, как возникла малейшая возможность, патриаршество она себе тут же вернула.
Отделена школа от церкви? Верно, неугодно такое святителям. Но из-за этого вряд ли пошли бы они на откровенную вражду.
Теряла церковь свое богатство? Так ей не привыкать к этому. Кто-то из святителей пытался, бывало такое, восстать против алчности князей, а позднее и царя, но дело всегда кончалось плачевно для них же самих. Никона, защищавшего земли, золото церковное и пытавшегося освободиться от опеки царя Алексея Михайловича, осудил церковный собор. Не поддержало духовенство и Арсения Мацеевича, последнего, как его стали называть историки, борца против секуляризации церковных вотчин. Екатерина II расправилась с ним, как расправлялась со всеми своими врагами, вовсе не боясь возмутить церковь.
Нет, никогда церковь не была по-настоящему бойцом, она, как видно из истории, приспособленец. А вот революцию встретила ретиво, не со свойственным ей активным противодействием. Приняла идею коммунизма за новую веру, которая выбьет у христианских пастырей и идейные вожжи? Не единожды Богусловский даже думал, что священники оттого взбунтовались, что принимают революцию не как внутреннее дело народа, а как привнесенное извне. Против, так сказать, интервенции поднялись. Как Сергий Радонежский. Как Гермоген. Но с первых же дней войны он понял, что что-то не понял, что-то недооценил, ибо с первых же дней войны все явно изменилось: с амвонов церквей, с мимбаров мечетей зазвучали проклятия фашистским захватчикам. Отмыкались замки на ларях в ризницах, и немалая толика припрятанных до лучших времен золота и дорогих каменьев добровольно отдавалась в Фонд обороны. А старообрядцы, кто считал величайшим грехом брать в руки оружие, благословляли молодых своих мужчин на ратную службу, на битву с захватчиками. Даже из Тувы, которая не была тогда в составе Союза, но где жило много русских старообрядцев, — даже оттуда они ехали на фронт, ибо считали Россию своей Родиной.
И вот еще поп захолустного районного городишки, где и прихожан-то всего ничего. Не только благословлял он прихожан своих на священную войну, но и сам был воителем. Но знал же, что, как только будет разбит фашизм, вновь все вернется на круги своя, и не принятое, не понятое, атеистическое и, значит, враждебное воцарится и на русской земле, и в его родном районном городишке.
Выходит, приняла церковь идеалы коммунизма? Ну если не вся церковь, не все священники, то хотя бы часть из них? Нет, с таким выводом Богусловский согласиться не мог. Не мог, и все тут.
А может быть, смирилась до поры до времени? Как смирялась в свое время с Синодом, с иными попытками власти подмять ее?
Нет, не мог он найти ту истину, какая показалась бы ему неоспоримой. Мало он еще прожил и повидал, чтобы судить верно о столь важном вопросе. С годами она могла бы и раскрыться, эта истина, но увы, судьба не отвела ему для этого времени…
Машина между тем подъезжала к тому месту, где пленные рубили лес и куда несколько раз партизаны делали удачные вылазки. Это меняло ход мыслей, да и вопрос, который задал ехавший с ним смершевец, требовал тоже поиска истины, и, быть может, более важной на день сегодняшний.
— Как вы думаете, отчего немцы так далеко от лагеря отвели делянку для рубки? Берегли флору и фауну возле лагеря? Или здесь лес лучше?
Лес везде одинаковый, что у самого лагеря, что здесь, за несколько километров от него. Ни там, ни здесь не мачтовый, а для наката на доты и дзоты и там, и здесь одинаково пригодный. Вот и догадывайся, чем руководствовались фашисты, гоняя ежедневно на рубку леса пленных в такую даль?
— Любому видно, место для нападения партизан отменное, — продолжал смершевец, теперь уже вроде бы отвечая на свои же вопросы, — а тем более эсэсовцам. Тертый народец. Смысл был, не иначе.
Вылезли из машины и пошли краем вырубки, все более убеждаясь, что мало здесь заботились о том, чтобы обезопаситься от внезапного нападения. Два глухих оврага, облюбованных наверняка прежде волками для логова, могли смело укрыть не только партизан, но и целый полк регулярной армии. Тут, чтобы предостеречься от нападения, нужна была солидная охрана, но ее даже после первого удачного для партизан налета не очень-то усилили.
— Эсэсовцев счетное число да полицаев пяток, — продолжал смершевец, — разве это охрана? И что удивительно, она гибла вся. Привозили новых. И пленных, и охрану. Постоянных в лагере было совсем немного.
Богусловский помалкивал. Он, не представлявший еще малое время назад, за какую важную ниточку ухватилась оперативно-поисковая группа пограничного полка, теперь начал понимать, в какую игру играла здесь немецкая разведка. А смершевец продолжал:
— Нет, не все, конечно, освобожденные партизанами, завербованы. Это — факт. Но искать придется всех. Ну и работенку вы, пограничник, нам подбросили, — вроде бы упрекнул Богусловского смершевец и тут же добавил: — И это, я вам скажу, здорово! Скольких обезвредим! А вроде бы с пустяка началось.
— Вполне возможно, и партизанский отряд подставной, — подумал вслух Богусловский. — И фельдшерица какую-то важную роль играла…
— Да, медсестра, похоже, темная лошадка. А партизанский отряд? Вряд ли. Просто не ведал, что творил. Подбрасывали ему гитлеровцы приманку — он хватал. И радовался удаче.
— А если не так. Если священник что-то узнал? — предложил свою версию Богусловский. — Передал это что-то первому секретарю или хотел передать, но это стало известно в отряде, и секретарь не дошел до явочной квартиры? Взяли и священника…
— Логика есть. Только напрашивается много логических построений, найти же нам положено одно. Верное. — И спросил: — Вы намерены быть на встрече партизанского отряда? Вот и ладно. А я повременю. Не следует мне появляться. Пока, во всяком случае.
Еще одна, роковая для Богусловского ошибка. Да и для расследования дела тоже. Увы, никто не мог даже предвидеть, какая неожиданность произойдет во время встречи партизанского отряда.
Приехал Богусловский в село, на удивление целехонькое, когда бабы, все до единой, стабунились на площадке у гумна и глядели неотрывно на лес, изнывая от нетерпения. Даже те, кому было известно, что муж погибший, тоже ждали жадно. Ждали чуда. На машину, остановившуюся рядом с толпой, никто даже не обратил внимания, и Богусловский, поняв состояние женщин, остался в салоне. Побоялся хоть чуточку нарушить духовное единство разновозрастных, но одинаково истосковавшихся по мужским сильным рукам женщин.
Время шло. Напряжение нарастало. Но вот будто из пращи швырнул в толпу мальчишка-наблюдатель радость:
— Идут! Ур-ра-ра-а-а!
Подобного прежде Богусловский не видел. Как-никак, а воспитан он был в том кругу, где извечно считалось, что простолюдие лишено возвышенных чувств и нежности, особенно на миру. Осудительно, дескать, это все. И хотя он уже встречался в жизни с фактами другого порядка, заложенные в детстве и отрочестве понятия не улетучились. До вот этого самого момента. Ничего подобного в салонном обществе произойти не могло: искренней, совершенно не скрываемой и не сдерживаемой радости и удивительной чуткой нежности.
Прошло изрядно времени, пока прижавшиеся друг к другу супружеские пары стали воспринимать реальность и потянулась цепочка к деревне, провожаемая завистливыми взглядами женщин, кому не дала судьба прижаться к любимому. К этим женщинам подошли командир партизанского отряда Темник и начальник штаба Кокаскеров. Темник поясно поклонился и молвил:
— Не судите нас, командиров, строго за гибель мужей ваших. Война.
— Да что уж… Понятное дело, — начала было сухопарая пожилая женщина, но больше она совладать с собой не могла, зарыдала, причитая.
И это было сигналом. Прорвалось горе наружу, забурлило, как река в половодье. Темник и Кокаскеров что-то говорили вдовам, но Богусловский не слышал их слов; плач осиротевших женщин подавлял все. И даже реальное восприятие происходившего. Плач мешал Богусловскому сосредоточиться, чтобы разобраться в том, отчего он сразу же, как увидел Темника, встревожился.
Как бы то ни было, но сидеть в машине было уже нетактично, и Богусловский открыл дверцу. Когда он подходил к партизанским командирам, то женщины, хотя и давило их горе, почтительно перед ним расступались. Увидели, что генерал появился. Потом та, что первой не совладала со своим горем, предложила, глотая рыдания:
— Пошли, бабы. Что уж там… Пошли.
И двинулись скученные одним горем вдовы следом за длинной цепочкой пар, каждая из которых упивалась сейчас своим счастьем. Только своим.
Темник вскинул по-военному руку к крестьянской фуражке и доложил:
— Командир партизанского отряда военврач Темник…
Поразительно! Стоит перед Богусловским дореволюционный Дмитрий Левонтьев: мясистоногий, узкоплечий, прозрачные ноздри шевелятся, словно принюхиваются к чему-то подозрительному, а стоявшему рядом крепышу с характерным восточным лицом этот самый Дмитрий Левонтьев мешал, и крепышу явно неуютно было на большой перед опушкой поляне. Чуть не вырвалось у Богусловского: «Невероятно!» — да и вырвалось бы, не будь всей той непонятности, в какой сейчас жил он, начальник войск по охране тыла фронта, не будь ведомо ему, что Дмитрий Левонтьев во вражеском лагере.
Представился Богусловский, стараясь держаться буднично, но заметил, что ноздри у Темника еще больше попрозрачнели, зашевелились еще живей, словно что-то щекотало их, хотя взгляд хозяина нисколько не изменился. Спокойный, даже, можно сказать, безразличный.
«Удивительно!..»
Зато начальник штаба буквально выплескивал радость во время доклада. Он увидел своих, пограничников. Он сразу же, с места в карьер, заговорил о своей будущей службе:
— У казахов есть обычай: пожавшие друг другу руки не могут отказать в просьбе. И я прошу вас, возьмите меня под свое начало. Согласен рядовым. Краском, побывавший в плену, плохой краском.
— Вы, как я понимаю, искупили свой позор, возьму поэтому на должность в соответствии со званием и опытом. Только и у меня просьба: служить по-пограничному.
— Так точно! — радостно выпалил Кокаскеров. — По-пограничному!
— Вот и прекрасно. А теперь давайте сразу же, до митинга, кое в чем разберемся. — И к Темнику: — Вы посылали кого-либо к Пелипей?
— Нет. После митинга и торжественного обеда, какой обещал нам Акимыч, я поеду к ней. Она моя жена.
— Тогда, должно быть, она вас и ждала. Но пришел кто-то другой.
— Что-то не пойму я вас, о чем речь? — спросил Темник настороженно, хотя, как определил Богусловский, пытался натянуть маску заботливой взволнованности.
— И я не пойму ничего. Ее нет. Ее убили.
Пауза. Долгая. Подошли к гумну. И Темник, вздохнув, заговорил грустно:
— Вот тут она вырвала нас из лап смерти. Вот его, Рашида, Ивана Воловикова, комиссаром в отряде был, пока не ранили, и меня. Еще и бойцов, каких фашисты, как и нас, не до смерти пристрелили. Я врач, и я знаю: не окажись рядом столь квалифицированной медсестры, еще к тому же храброй, наш исход был бы один — братская могила. Внешностью ее природа обделила, вот я и пожалел ее, а потом, поняв, сколь женственна она по сути своей, привязался искренне. Я был уверен, что счастье не отвернется от нас, хотя мы ходили на острие ножа. Увы… И это когда все страшное позади…
Слушая Темника, Богусловский проникался сочувствием к его искренней, как ему виделось, печали. Он даже упрекнул себя, что с первого взгляда, совершенно не зная человека, стал приглядываться к нему с подозрительностью только оттого, что человек этот похож на врага.
«Вполне возможна случайность…»
И все же разительная схожесть продолжала смущать. Ни дать ни взять — Дмитрий Левонтьев в молодости. Хочешь не хочешь, а задумаешься.
«Ладно. Расскажу смершевцу. Пусть проверяет, — решил Богусловский, чтобы хоть как-то освободить себя от навязчивой подозрительности. — У них возможности больше. И прав тоже».
Особенно утвердился в этом решении Богусловский после разговора с Темником, когда на какое-то время они остались вдвоем. Темник сразу же, чем вызвал еще большую подозрительность, спросил:
— Вы чему-то удивились, увидев меня? Мне показалось, сильно удивились.
Ответить бы неопределенно Михаилу Семеоновичу, легенду-экспромт подбросить, пусть, если не чист душой, проявляется, любопытничает и дальше, но не так поступил Богусловский, выложил карты на стол, хотя и почувствовал явную заинтересованность собеседника.
— Вам ничего не говорит фамилия — Левонтьев? Дмитрий Павлантьевич Левонтьев?
А сам в упор глядит. Чтобы малейшее изменение зафиксировать. Так же, как когда-то следователь, бросив вопрос, впивался в него, Богусловского, взглядом. Повторял он теперь то, что когда-то осуждал. И не думал, что, если Темник честен, ему будет весьма неприятен подобный поворот разговора.
Естественно как должен отреагировать человек, которому задают нелепый вопрос? Удивиться. А Темник удивился не сразу. Маска бесстрастности какое-то время оставалась, как у тугодума, на лице Темника. И наконец, словно спохватившись, Темник удивился. И спросил:
— Кто такой Левонтьев?
— Раз не знаете, значит, не знаете… Что о нем тогда говорить? — ответил Богусловский и перевел разговор снова на дела партизанского отряда. Но уже почувствовал: совершена ошибка, Темнику не в новость фамилия Левонтьева. Теперь с командира партизанского отряда глаз нельзя спускать.
«Пошлю ординарца в СМЕРШ. Пусть поспешат оттуда», — заключил Богусловский и теперь думал, каким образом, чтобы это было незаметно, вести за Темником наблюдение. Пограничников из охраны не позовешь. Подозрение — это еще не факты. Дров можно наломать.
Мысли честного человека всегда осторожны. Опасается честный человек обидеть ненароком кого-либо. Семь раз отмеряет он, прежде чем отрезать. Это ведь только гулящая свекровь снохе не верит. И часто, очень часто дорогой ценой расплачивается честный и совестливый человек. Даже жизнью.
Не думал бы Богусловский о незаметном контроле за поведением Темника, знай он его мысли. Хоть чуточку. Темные они были у Темника. Черные даже. Вызванные великим испугом.
«Знает, выходит, отца! Все, значит! Конец».
Но ему очень уж не хотелось доживать свой век в Сибири с ярлыком предателя. Возможный расстрел его тоже совершенно не устраивал. И он сразу же, без малейшего колебания, принял решение ни на шаг не отходить от пограничного генерала, чтобы тот никому не смог ничего рассказать, а при первой же возможности отравить его. Тем самым ядом, которым снабдил его, Темника, немец-щеголь на критический случай. Не для него, Темника, пусть будет этот самый критический случай, а для много знающего генерала. Никто, похоже, кроме него, не видел и не знает отца. Никто. И пусть он унесет эту тайну с собой.
«Инфаркт. Никто не виновен. А если станут все же подозревать? Кого? Весь отряд! У меня лично все в полном порядке…»
Да, форма, к которой прибегли фашисты, хотя и может вызвать у профессионалов-разведчиков какие-то вопросы, но зацепки не даст. А от медсанбата тоже никого не осталось. Нет свидетелей. Нет!
Он подбадривал себя, усилием воли демонстрируя спокойствие, беседовал с Богусловским, а сам с замиранием сердца ожидал предстоящей трагической развязки.
Она пришла совсем скоро. Богусловский с Темником не дошли еще до правления колхоза, где при фашистах была казарма для полицаев, к нему уже потянулись сельчане, созываемые Акимычем и его добровольными помощниками-пацанами.
— На митинг! — солидно покрикивал Акимыч, а ребятишки, перебегая от дома к дому, тарабанили по ставням и пискляво, словно передразнивая председателя, повторяли его призыв.
Жизнь входила в мирную колею; скоро вот так же пойдет Акимыч, как делал это до военного лихолетья, скликать колхозников то на работы, то на собрание, быть может даже серчая на ленивых; теперь же он созывал народ с явной гордостью и явным довольством, ибо во дворе правления ждали их загодя расставленные столы, на которых тощими бугорками лежал тонко нарезанный хлеб, редко, отдавая желтизной, стояли тарелки с перележалым свиным салом, зато обильно теснились бутылки с настоящей «Московской» и огромные миски с квашеной капустой, солеными грибами и мочеными яблоками. На столе начальства стояли еще банки с тушенкой. Там, за этими столами, и должен проходить по еще довоенной традиции митинг. Помпезно тогда говорились речи-тосты, смачно звякали тонкостенные стаканы, сдвинутые в тесное единство, искренне радовались тогда удачам звеньев и бригад и столь же искренне, оттого и едко, высмеивались отстающие. Теперь во дворе правления, как думалось Акимычу, будет еще веселей. Немца-варвара нет. Как не радоваться! Правда, иным, кто помоложе, завтра снова в бой, и пощадят ли их пули, неведомо, но то будет только завтра. А сегодня — великий праздник живых!
Не в первую рюмку подложил яд Темник. Когда уже охмелевшие партизаны, поднимаясь со своих мест, потянулись к командирам и у начальственного стола стало шумно и тесно, ибо каждому хотелось сказать что-то свое, от сердца, но у всех выходило похожее, хотя это никого не смущало, стаканы чокались еще и еще, а осушать их вроде бы не решались, ибо не сказано главное, самое-самое, — вот в этой-то сутолоке и опустил едва заметную горошину Темник в ополовиненную рюмку Богусловского, затем долил ее.
Никому и в голову в тот миг не пришла мысль обратить внимание на командира партизанского отряда, тянулись больше к Акимычу и Кокаскерову, стараясь чокнуться именно с ними. Забылся и Богусловский, окруженный толпой и с удовольствием наблюдавший за искренностью отношений колхозников и председателя. Этим-то и воспользовался Темник.
«Выпил бы теперь хоть один глоточек…»
Взял слово Акимыч, и все почтительно угомонились.
— Вот что могу сказать: выпьем, чтобы никогда больше фашист сюда ноги не совал. А Армии своей Красной мы пособим. Кто винтовкой, кто плугом.
Дружно крикнули «ура», и сдвинулись в тупом звяканье стаканы и кружки. Богусловский тоже поднял рюмку, почокался со всеми, кто тянулся к нему со стаканом, но пить больше не хотел. Собрался уже поставить рюмку обратно на стол, но колхозники, толпившиеся у командирского стола, да и женщины с дальних мест запротестовали:
— Нельзя не уважить тост Акимыча! Никак нельзя!
И Богусловский уважил. Отпил самую малость и — уронил рюмку…
Его перенесли, подхватив на руки, под дерево, уложили на траву, кто-то заботливо предложил:
— Подстелить бы что, остудится а то…
— Теперь-то уж чего? Душа-то теперь отошла, — ответил Акимыч, первым понявший, что генерал-пограничник скончался.
Все, однако же, ждали, что скажет их бывший командир, военный врач, который долго слушал сердце, потом попросил зеркальце и, подержав его минуту-другую у рта Богусловского, подтвердил:
— Да. Похоже, разрыв сердца.
В это самое время к правлению колхоза и подкатили машины Богусловского и контрразведки СМЕРШ. Ординарец кинулся к генералу, а смершевец, цепко фиксируя каждую мелочь, медленно подошел к совершенно опустевшим столам.
«Да, опоздал, — упрекнул он себя. — Важное звено, похоже, выбито из рук».
И бывшие партизаны, и жены ихние глядели за каждым шагом смершевца со страхом. Особенно же те, кто тостовался с партизанским командиром и генералом-пограничником. Колхозники почему-то сразу заключили, что генерала отравили, поэтому поспешно повылазили из-за столов и теперь перешептывались, сбившись в тесный кружок, а на столы, особенно на командирский, поглядывали с опаской, как на заразу. Заключение Темника «Похоже, разрыв сердца» никого не переубедило, а столь скорое появление машин (они не знали, что за смершевцем Богусловский послал давно) совершенно сбило всех с толку.
«Пронеси! — заклинал судьбу каждый. — Пронеси!»
И каждый из них был прав: подозрение может пасть на любого, и попробуй докажи свою невиновность.
Смершевцу же было ясно, что виновного, если Богусловский действительно отравлен, найти невозможно. Рюмка, из которой сделал последний в своей жизни глоток Богусловский, им уронена и, будто специально это сделано, раздавлена и затоптана. И все вроде бы естественно: в толчее, когда подхватили на руки потерявшего сознание генерала, рослого, нелегкого, до рюмки ли под ногами?
И все же он опрашивал. Старался поговорить со всеми. Он отсеивал тех, кто не подходил к командирскому столу, и круг сужался. Но ясности от этого не прибавлялось. Кто больше всех настаивал, чтобы Богусловский уважил тост? Все. А последнее слово сказано Рашидом Кокаскеровым:
«— Просьба друзей — святая просьба. Или мы не друзья?»
В общем, когда из Москвы прилетел Костюков с отцом и женой Богусловского, дать ему вразумительного разъяснения, что же здесь произошло, никто не мог.
Семеона Иннокентьевича, с неподвижным взглядом и ничего, казалось, не воспринимавшего, едва передвигавшего ноги, и Анну Павлантьевну, необычно прямую и отрешенную от всего, повели в дом Акимыча, где в довольно просторном подвале ожидал завтрашнего ритуала, какой положен был ему по чину и должности, покойник, а Костюков решил еще раз, теперь уже основательно, поговорить с сотрудником СМЕРШа и с командиром полка Комелевым.
— Пограничники, как теперь стало ясно, — рассказывал смершевец, — выявили долговременную акцию фашистской разведки. Нам теперь совершенно ясно, что всех, кого освободил партизанский отряд Темника, нужно проверять самым тщательным образом. Невероятно трудно, но… Игра, думаю, стоит свеч. Ясно и то, что партизаны заклевывали приманку, вовсе не понимая, что работали на врага. Но я не исключаю, что мог кто-то в отряде быть проводником фашистских планов. Он, этот кто-то, не из рядовых, конечно. Богусловский, похоже, разгадал или был близок к разгадке, кто этот — он. Послал он за мной ординарца, увы…
— Что показало вскрытие?
— Явный признак — разрыв сердца. Но врачи почти уверены, что отравление. Два или три глотка, и — конец. Замечу, настойчивей всех уговаривал поддержать тост начальник штаба отряда, — смершевец взглянул в записную книжку, — Рашид Кулович Кокаскеров. Из пограничников. Капитан.
— Как вы говорите? Кокаскеров? Рашид Кулович?
— Да. А что?
Не вдруг ответил Костюков. Перед ним с удивительной отчетливостью всплыли сцены того далекого дня, когда они с Иннокентием Богусловский выехали из пограничной крепости на Алае, чтобы доложить по команде, что часть казаков осталась на границе и продолжает ее охранять. Он вроде бы только-только спешно закутал надрывно возвестившего бушующий метелью мир о своем появлении мальчика в полушубок; будто вот сейчас вновь, как и тогда, замерзал в гимнастерке, торопя коня, а потом, проклиная вечный страх забитых горцев перед шариатом, взывал к человечности и совершенно не понимал, как может отец не принять погибающую на морозе дочь, как может не принять внука, совершенно безгрешного еще, не ответственного за пороки людские? Он словно вновь пережил то по-мужски гордое, но от этого не менее глубокое чувство благодарности к смелому дехканину Кулу, который позвал их к себе в дом. Да, Кул совершил подвиг. А потом еще один, когда возразил матери, что мальчик не будет рабом аллаха, не станет Абдурашидом, а будет Рашид. Костюков слышал сейчас решительные слова Кула: «Его имя — Рашид. Рашид Кокаскеров».
— Я принимал роды. На Алае. Его мать… Его приемный отец… Нет! Исключено! Кокаскеров — вне подозрений.
И рассказал Костюков печальную историю, какая случилась в первые послереволюционные месяцы на Алае. Увы, его откровения еще более насторожили смершевца.
— Значит, настоящий отец Кокаскерова — глава контрабандистов одной из долин Памира. Это усугубляет. Придется проверять особенно тщательно. Я не желаю оказаться ротозеем.
— Повторяю: Кокаскеров — вне подозрений.
— Верить можно только себе. И то не всегда. Я не стану докладывать в инстанции о вашей точке зрения, — сделав ударение на слове «не стану», смершевец как бы подчеркнул важность совершаемого послабления, — вместе с тем прошу вас так организовать дело, чтобы и Темник, и Кокаскеров направлены были в Москву. Отыщем, если он жив, и Воловикова. После похорон и возьмите их с собой. Придумайте, как это сделать, не вызвав подозрений.
— Я возьму их сопровождать гроб и родных генерала Богусловского. Здесь мы проведем лишь траурный митинг, тело же в цинковом гробу доставим в Москву. Таково желание Семеона Иннокентьевича. Я уже отдал нужные распоряжения.
— Согласен. Все естественно: врач нужен для пригляду за стариком и женщиной. Кокаскеров возьмет под начало группу пограничников. Согласен. Когда митинг?
— Ждем сына. Сегодня должен прибыть.
Владлен с Лидой приехал лишь к ночи, и похоронные церемонии решили провести утром. Тело Богусловского внесли в комнату, установили на столе, покрыв его красным сатином, и потянулись колхозники, бывшие партизаны, и колхозницы с букетиками цветов, с сосновыми и еловыми венками; несли венки и пограничники, и вскоре формалиновый запах смешался с едкой хвойной терпкостью; к тому же то одна, то другая старушка приносили свечи: «Крещеный небось, как без свечки-то?» — никто им ее противился, и вот уже церковный дух, липучий, дурманящий, притупляющий остроту восприятия происходящего, напитал комнату; а люди шли и шли, стол обрастал венками, догоравшие свечи сменялись новыми, и не было спокойной минуты, чтобы хоть на самую малость расслабиться, забыться, — нужно было принимать соболезнования, отвечая хоть что-то каждому, а им всем, и Богусловскому-старшему, и Анне Павлантьевне, и Владлену с Лидой, хотелось остаться одним, со своим семейным горем; они не понимали, они даже не пытались понять, отчего совершенно не знавшие Михаила Семеоновича люди меняли свечи, громоздили вокруг стола венки, а многие совершенно искренне плакали.
Из Богусловских плакала только Лида. Платок у нее набух от слез, а просьбы Владлена: «Тебе вредно так расстраиваться» — и теплая, мягкая рука его на плече вызывали новый прилив горечи. Но оплакивала она не Михаила Семеоновича, с которым так и не увиделась в жизни, она оплакивала горе Владлена, чувствуя всем сердцем своим его тоску, его печаль, ибо сама она испытала все это, когда получила известие о гибели отца, и потом, когда похоронила мать, — сейчас то горе, уже пережитое и с годами притупившееся, вновь обрело прежнюю злую силу, и слезы беспрестанно катились по ее пухлым щекам, непривычно бледным и оттого казавшимся дряблыми и опавшими.
Владлен же крепился. Ему, как он понимал, старшему лейтенанту, мужчине, плакать просто стыдно, и он с великим мужеством насиловал себя. Делал он это еще и потому, что отвечать на соболезнования приходилось ему, ибо ни дедушка, ни мама делать это были просто не в состоянии. Семеон Иннокентьевич совершенно обмяк, потеряв полностью представление о происходящем, машинально нюхал ватку с нашатырным спиртом, которую время от времени подносил Темник, вовсе не воспринимая его резкой пронзительности. Раз велят нюхать, значит, надо. Для чего? Чтобы не случился сердечный приступ? Но чего ради теперь жить, если нет больше ни одного сына? Ни Пети, ни Иннокентия, ни Михаила. Всего один внук. Гибнет семья Богусловских. Малый след остается от нее.
Анна Павлантьевна тоже время от времени нюхала нашатырный спирт прямо из флакона, который подавал ей Темник, и сердце ее сжималось в комок и колотилось гулко, готовое вырваться из груди при каждом взгляде на Темника: ей виделся в этом совсем незнакомом человеке Дмитрий, тот, молодой, дореволюционный, когда еще их семья, семья Левонтьевых, была большой и дружной.
«Боже, что творится? Вылитый Дмитрий!»
Она стреножила мысли и не пускала их дальше, она боялась дать вольную волю предположениям и догадкам, она цепенела, возвращая флакон, затем вновь устремляла немигающий взгляд на Михаила, не воспринимая еще сердцем его смерти, и так сидела до тех пор, пока Темник не подавал ей либо стакан с валерьянкой, либо флакон с нашатырным спиртом, — тогда все повторялось, сердце, не подвластное хозяйке, трепетало, но мысли не перескакивали запретного рубежа.
— Хорошо держится, — донеслась до ее слуха похвала кого-то из пограничных командиров. — Молодчина.
Она восприняла эту похвалу как должное.
Ни разу, сколько они прожили вместе, не провожала она со слезами Михаила, хотя иной раз знала, что ждет его бой, итог которого никогда никому не ведом. «Храни тебя бог!» — единственное, что она говорила ему. Одна мысль владела ею, одна забота: не огорчить мужа, не внести в его душу смятения, не озаботить его дополнительной заботой перед боем. Похоже было, что и теперь она пересиливала себя, чтобы не показать смятения своей души, своего горя. До конца она хотела остаться верной своему обещанию, которое дала, соглашаясь стать женою Михаила. И только один, пожалуй, Темник понимал состояние жены покойного, робел под ее торопливыми взглядами, чувствуя в них опасность для себя. С каким удовольствием он подал бы ей вместо валерьянки яд, но у него больше не было яда, но если бы даже был, то не хватило бы мужества решиться на такое.
«Пронесет, может?!»
Пронесло. И той ночью, и следующим утром, во время траурного митинга, а потом по пути в Москву. Анна Павлантьевна так и не позволила себе перешагнуть через страшную черту, хотя и трепетала она при виде Темника; Богусловский же старший совершенно не замечал сходства молодого врача с Дмитрием Левонтьевым, ибо вообще ничего не воспринимал реально, так подкосило его неожиданное горе. Ну, а все остальные, окружавшие покойника и его семью, не видели прежде Дмитрия Левонтьева, поэтому характерное принюхивание к окружающему, какое передал по наследству Дмитрий своему сыну, ничего им не говорило. И манера мешать, тоже. Удивляла только.
Но мало ли на свете встречается странных людей?
В Москве их пути разошлись. Темника отправили врачом в тыловой военный госпиталь.
Без ясной перспективы остался Кокаскеров. Костюков устроил его в гостинице и приказал ждать.
— Мое место, считаю, на фронте. Бить врага, а не ждать, — начал было недовольничать Рашид Кокаскеров, но Костюков резко осадил его:
— Я считал вас пограничником!
У Костюкова имелась идея, но он хотел заручиться поддержкой еще нескольких высоких командиров. Нет, он даже на самую малость не усомнился, что Кокаскеров честен, но все же решил подстраховаться на всякий случай, если вдруг возникнет противодействие. И сделал он это на кладбище, выступая на траурном митинге:
— Мы погрешим перед памятью безвременно погибшего нашего товарища, если не сделаем так, чтобы граница не потеряла славного рода Богусловских…
Лида заплакала еще горше, стоявшие у гроба генералы согласно закивали, и этого вполне было достаточно для Костюкова. Через день он приехал к Богусловским на квартиру и сообщил:
— Решение такое: Владлен Михайлович едет комендантом участка. На Памир. Начальником штаба к нему — Рашид Кокаскеров. И службе научит, и языку. Лидия Александровна на фронт не возвращается, но раз ехать ей с мужем нельзя, беру ее в наше управление. До декрета поработает. Только одно условие, — умастил шуткой свою серьезную речь Костюков. — Родить, Лида, ты обязана сына. Михаилом его и назовем…
— С решением по Лиде я согласен, — прервал Костюкова Владлен. — Ей неплохо будет в Москве. А со мной — тут вопрос. Я не знаю пограничной службы. Самое большое, на что я соглашусь, застава. И то не начальником.
— Но ты же — комбат!
— Батарея — не батальон. И потом… Зенитные войска не пограничные. Поймите, иначе я просто не могу.
— Ладно. Будь по-твоему. Твой начальник заставы — Кокаскеров. Поедешь к месту службы твоего дяди. В родные места Кокаскерова.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
Хотя Костюкову решение взять к себе в НКВД офицера было починно, к тому же он по прямому проводу переговорил с командующим противовоздушной обороны страны, все равно документам о переводе из одного рода войск в другой Владлена и Лидии Богусловских надлежало пройти положенные писарские инстанции, прежде чем лечь на стол для подписи уполномоченному на то командиру, а бюрократизм, он и в армии бюрократизм; дни поэтому шли чередой, Богусловских никто не тревожил, словно о них совершенно забыли. Лишь иногда заходил к ним Рашид Кокаскеров, и тогда тоскливая молчаливость, которая царила в семье Богусловских со дня похорон, немного отступала, но в конце концов разговор перекидывался на тот роковой тост, последний в жизни Михаила Семеоновича, старик Богусловский, сам же начинавший обычно расспросы, с тягостным вздохом покидал гостиную, и Кокаскеров, понимая состояние хозяев дома, спешил откланяться.
Вновь, до следующего его прихода, в доме жили молчаливо и грустно, будто тоска заполняла все комнаты, пропитала все углы. И даже гордые сообщения Совинформбюро о наших победах на фронте не влияли на настроение подавленной горем семьи. И все же перелом наступил. Толчок к этому дал очередной визит Кокаскерова и воспоминание его о первых минутах встречи с Михаилом Семеоновичем возле колхозного гумна. Все помнил Кокаскеров. Каждый жест, каждое слово, но особенно обещание Богусловского взять его в пограничные войска, восстановив в прежнем, до пленения, звании. На боевую работу взять обещал.
— Я два раза ходил в Управление, говорил там об этом и просился в войска по охране тыла, на тот самый участок фронта, где погиб генерал. Ответили: нет. Почему?! Враг, убивший уважаемого мной человека, мой враг! Я не могу сидеть здесь!
— Месть, молодой человек, штука прескверная. Добром не обернется она мстителю, — впервые за все после похорон время заговорил Богусловский-старший. — Продолжать дело славное — вот это правомерно и уважаемо. Тогда и отомстится.
Вот и все. Больше ни слова. Как и все предыдущие дни. Блеснувший было живительный лучик угас, вновь уступив место молчаливой грусти.
Молча допили чай, удерживая себя за столом приличия ради, пока не встанет старший. Но Кокаскеров на этот раз поднялся первым, не выдержав напряжения и осуждая себя за то, что напомнил лишний раз почтенной семье о горе, поклонился Семеону Иннокентьевичу и Анне Павлантьевне, приложив руку к сердцу по восточному обычаю. Сказал традиционное:
— Мир и благоденствие дому вашему.
Владлен с Лидой пошли проводить гостя, и уже на лестничной площадке Кокаскеров открыл секрет, ради которого, собственно, пришел, но не нашел удобного момента, чтобы рассказать о нем за столом.
— В Управлении мне сказали, что пошлют нас на Памир. В Алай. Где ваш дядя и Костюков спасли мою мать и меня от смерти. Я рад стать другом племянника спасителя моего, но мое место на фронте. Я сказал это. Открытому сердцу дорога открыта. Не боясь оскорбить вас, Владлен Михайлович, прошу вас: помогите мне. Ради памяти отца вашего.
Секрет, который поведал Рашид, для семьи Богусловских не был давно секретом, но Владлен не стал говорить об этом Кокаскерову. А вот просьба, честно говоря, его разочаровала. Он уже свыкся с мыслью, что станет служить с очень порядочным, как ему виделось, казахом, у которого многому можно будет поучиться. Но как отказать столь убедительной просьбе? А как ее выполнить?
— Не знаю, право, чем смогу помочь?
— Если согласится ваш дедушка. У него авторитет.
— Что ж, попробую.
Весь остаток дня и весь вечер Семеон Иннокентьевич так и не вышел из своей комнаты. В доме даже стали беспокоиться, и тогда Владлен вышел в холл и, устроившись на диване, раскрыл книгу, сам же прислушивался, не донесется ли какого звука из комнаты Старика. Потом к нему подсела Лида и, прижавшись, задремала. Не вытерпела в конце концов и Анна Павлантьевна, пришла с вязаньем и умостилась на кресле. На ее немой вопрос Владлен недоуменно пожал плечами. Тихо в комнате. Совершенно тихо.
Что бы проще, постучи и войди, но прежде не принято было в семье Богусловских входить без неотложной причины в спальню к старшим, и, когда условия позволили вернуться к тому устоявшемуся правилу, оно вновь стало неукоснительным. Нет, нельзя лишний раз беспокоить старика-генерала, напоминать ему лишний раз о его немощи, показывать, что беспокоятся о его состоянии. Он-то сам не считал себя ни больным, ни немощным. Зачем же вносить смятение в его душу? Ведь старый человек так мнителен.
Но любая тактичность, любые приличия и любая заботливость имеют свои пределы. Анна Павлантьевна определила, что свяжет еще рядок, после чего зайдет к Семеону Иннокентьевичу. Она, однако же, еще не успела докончить урока, а из спальни послышался сдержанный кашель, а немного погодя — всхлипывания. Старик наконец-то заплакал.
На цыпочках, стараясь совершенно не шуметь, Анна Павлантьевна и молодые покинули холл. Разошлись по своим комнатам успокоенные.
Утром в столовой собралась вся семья. С такой же, казалось, как и вчера тоской. Но что-то ожившее чувствовалось в каждом шаге, каждом жесте Семеона Иннокентьевича. Он даже поглядел на каждого в отдельности, впервые после похорон, и взгляды его не были безразличными, ничего не видящими. За стол, однако, сел молча, и, возможно, завтрак так и прошел бы в гнетущем безмолвии, но Владлен решился все же пересказать деду просьбу Рашида Кокаскерова.
— Жизнь не остановишь, — вздохнув тяжко, проговорил Семеон Иннокентьевич и вновь замолчал, оставив внука в недоумении. И только когда допили они кофе, когда пора было уже подниматься из-за стола, Богусловский-старший сказал решительно:
— Собирайся. Поедем через четверть часа в Управление. Мне понравился киргиз…
— Он, деда, казах, а не киргиз.
— Не в мои годы переучиваться, — с явной обидой ответил старик внуку, но тут же примирительно добавил: — Из Большой, стало быть, орды. Теперь казахами, выходит, их кличут. Ну и хорошо.
Машину за ними прислали и впрямь через четверть часа, в Управлении встретил их дежурный офицер и повел сразу же в кабинет Костюкова. И к удивлению внука и деда Богусловских, там уже находился Кокаскеров, хотя Семеон Иннокентьевич, когда говорил с Костюковым по телефону, не пояснял цели визита.
— Эка, батенька! — с добродушной ворчливостью упрекнул Костюкова старый генерал. — Все наперед предвидишь…
— Ничегошеньки я не предвидел. Раз с внуком, подумал, стало быть, о дальнейшей его службе разговор, а она вот с ним, — кивнул на Кокаскерова, — пойдет. Так решено.
— А у него на фронте душа. Пришел я ходатаем за него. О внуке не пекусь. С ним ясно все — с заставы начинать. Чтоб пограничником стать, чтоб достойно фамилию нашу нес. Попотеть в молодости нелишне. А Рашида Куловича, размышляю, не следует наперекор его душевному порыву слать на границу. Уважить можно…
— Товарищ Кокаскеров! — дождавшись, когда закончит говорить Семеон Иннокентьевич, повернулся к Рашиду Костюков. — Что вы обещали Михаилу Семеновичу? Служить по-пограничному? Вот видите. А ведете себя как купец на азиатском базаре. — И к Семеону Иннокентьевичу: — При всем к вам уважении, не могу отменить решения. Оно таково: капитан Кокаскеров — начальник заставы, старший лейтенант Богусловский — его заместитель. На Алае. Рядом с той крепостью, где служил ваш сын. Обстановка там невероятно сложная.
Костюков подошел к рельефной карте, расцвеченной синими и красными условными значками, и принялся рассказывать гостям, какие силы противостоят пограничникам Памира, и особенно Алая, где и какие случились там провокации за последнее время, какие из контрабандистских троп, забытых прежде, вновь оживились и идет по ним не только контрабанда, но и под крылышком контрабандистов агентура.
— Что я рекомендую? — подытоживая разговор, посоветовал Костюков. — Изучите, пока вам медлительностью канцелярской отпущено время, историю края, но самое главное — историю взаимоотношений с Китаем. Многое из прошлого возвращается. Очень многое. Запомните: ходить тихо, распознавать следы, лежать в секрете, организовывать, наконец, поиск нарушителей для пограничников очень важно, но важней всего быть подкованным пограничником, знать не только суть договоров и конвенций, но, если хотите, и историю их подписания, все конфликты и притязания соседа, знать во всех деталях историю дипломатии. Да-да. Именно дипломатии. — Костюков посмотрел на часы, давая понять, что время зовет его к новым делам, пожал руки молодым офицерам, а Семеона Иннокентьевича попросил: — Хотел бы пару слов без молодежи. Не возражаете?
— Какой может быть вопрос!
— Вот и ладно. — А когда Владлен Богусловский и Рашид Кокаскеров вышли из кабинета, пояснил: — При них нельзя. Для Кокаскерова — это тайна за семью печатями, внуку вашему тоже лучше оставаться в неведении. Кокаскеров подозревается, наряду с другими, в отравлении вашего сына. Я в это не верю, но нарушить приказ и отправить его на фронт не могу. Но, признаюсь, мне это даже на руку: прекрасный для Владлена Михайловича будет на первых порах учитель. Мне не рекомендовано и на границу его посылать до выяснения, но, простите, тут я волен решать. Я беру ответственность на себя. Вот так, Семеон Иннокентьевич. Мы с вами просто обязаны молодым помочь встать на ноги. На крепкие пограничные ноги. Долг в этом наш с вами. Долг перед памятью Михаила.
— Жизнь и впрямь не остановишь, — вздохнув, согласился Богусловский-старший. — Пожалуй, горюй горе, а она мимо пронесется, и станет Владлен хватать ее за запятки. Негоже такое.
Ожидавшим его молодым офицерам Семеон Иннокентьевич доложил:
— Ехать вам вместе. Не упрямьтесь, Рашид. И потом… Нельзя подчинять жизнь только своим желаниям. Иногда нужно вполне отдавать себе отчет, что обстоятельства складываются не в соответствии с желанием. Домой сейчас. И вы, Рашид, к нам.
Не пригласил, а принудил.
Доро́гой старик помалкивал и только в гостиной, когда собрались в ней все, повторил почти то же, что говорил в кабинете Костюкова. Изменив только последние слова:
— Отстанешь от жизни — хватайся тогда не хватайся за запятки, не догонишь. — И распорядился: — Заниматься станете у нас. Программу я подготовлю к завтрашнему утру. Нужные книги, если не окажутся у нас, закажем через библиотеку. Заниматься не менее двенадцати часов.
Война — трудное и опасное дело, но она приучает воюющих к беспечности. Остался жив — отлично. Каши тебе принесут, еще и сто граммов нальют. Привыкает человек к такому настолько, что уже и не мыслит себя в иной обстановке. Владлен и Рашид тоже привыкли либо быть один на один со смертью, либо бить баклуши, когда не свистят пули. И вдруг сразу — по двенадцать часов не отрываться от книг. Почти сверх человеческих сил такое, тем более что Владлен многое из того, что рекомендовал дедушка для изучения, уже читал. В библиотеке отца. Но он пересиливал себя, с одной стороны, из уважения к деду, с другой, чтобы не ставить в неловкое положение своего молодого товарища, с кем ему определено быть рядом не один, похоже, год.
Рашид тоже прилежничал. По восточному своему разумению: слово аксакала — родник мудрости.
Только аппетит, как говорится, приходит во время еды. Молодые люди увлеклись, Владлен, освежая свои знания, а Рашид, впитывая новые с жадностью пересохшей земли, на которую пустил мираб воду. И вот уже начались первые споры.
Собственно, спорами их можно назвать с натяжкой, ибо Рашид не упрямничал, как это делал у переправы в Сталинграде командир пограничного полка майор Заваров. Утверждения Владлена, что принимать историю нужно с уважением и такою, какой она была, пугали и Кокаскерова, но он, чувствуя большие знания у нового своего друга, сдавал свои позиции сравнительно легко. Хорошим к тому же помощником Владлену был Богусловский-старший. Нет, они не сговаривались. Просто, видимо, яблоко от яблони далеко не катится.
— Не согласен! — воскликнул Рашид, закончив читать сочинения архимандрита Софония и принявшись за сочинение архимандрита Палладия (оба из Российской духовной миссии в Пекине). — Ни слова о народе. О трудовых классах, кто творит историю. Ну, они ладно — духовенство, дурман для людей, но академик и профессор Васильев тоже без ума?! Ни одной верной оценки. Думать и думать нужно, где правда, где обман…
— Зачем? — спросил Владлен. — Не лучше ли просто познавать? Это очень полезно. И потом, понимать нужно, что ученые и политики прошлого ни Маркса, ни Ленина, ни Сталина не читали. У них был свой взгляд на общественные процессы.
Рашид начал было отстаивать свою точку зрения, — собственно, не свою, а привитую ему школьными учебниками, а затем в училище на уроках по истории партии, — но вмешался Богусловский-старший. Кощунственно заговорил, если взглянуть на его слова с тех канонов, какие тогда главенствовали в понимании движений и внутригосударственных и межгосударственных общественных и политических сил. Страшно кощунственно для того времени:
— История — не крапленая колода карт, чтоб тасовать ее себе в угоду. Вот так, юноши. — Он обращался специально к ним обоим, чтобы не показаться назидающим только Рашида. — Вы думаете, Горский, стяжавший авторитет ученого еще совсем молодым, не понимал сословных интересов? Не глупее вас, извините, он был. Вы возмущаетесь, что он о первых шагах Маньчжурского дома писал, о происхождении родоначальника царствующей в Китае династии Цинь, а не о народе, дескать, творце истории. Верно, народ могуч. Только извечно политику делали императоры и цари. Куда они вели народ, туда он и шел. Послушно или нет, это другой вопрос, но шел. Впрочем, большевики тоже не отрицают роли личности в истории. Даже сейчас. Даже в нашей, социалистической стране. И то верно: без лидера нельзя. Хаос будет. Великий хаос…
Старик вышел в холл, где, за неимением лишней комнаты, были натолканы в ширпотребовские стеллажи книги, долго копался, то вытаскивая, то впрессовывая на место книги и брошюры, наконец вернулся с несколькими «Ежемесячными сочинениями» Академии наук и довольно внушительной книгой.
— Вот тут, — отложил один журнал с закладками Богусловский-старший, — сочинение дипломата Захарова «Историческое обозрение народов Китая». Это чтобы вы, Рашид, не считали, будто прежде вовсе народом не интересовались. Но более советую взяться за Миллера, Григорьева, Фишера, Бабкова. Разберетесь тогда, отчего Китай требует от нас уступок и на Амуре, и особенно в Восточном Туркестане. Разберетесь, кто прав, кто виноват. Только одно скажу: Головина осуждали за леность и нерешительность, но легче всего свалить вину на стрелочника за потерю Амурского края и Даурии на многие годы. Все куда сложней. Когда прочтете все это, я дам вам, если достанет времени, еще несколько научных сочинений.
Времени не хватило. Пришлось Богусловскому-старшему пойти на жертву, как он сам выразился, и дать в дорогу из библиотеки десяток книг и журналов.
Ехали они в мягком, поэтому никто им не мешал читать и обсуждать прочитанное. Рашид уже не обвинял историков прошлого в узкоклассовости, но теперь все смелее высказывал свое отношение к тем далеким и во многом непонятным событиям. И часто оценки Рашида вполне совпадали с оценками Владлена. Вместе поэтому восхищались они тем, как твердо отстаивал интересы России посол Савва Владимирович Рагузинский, кому была поручена постановка границы западней Амура. Встал он на реке Буре, в десяти верстах от Кяхты, и заявил, что здесь станет вести переговоры, дав тем самым понять сопредельной стороне, что границу отсюда он не намерен переносить. И как ни хитрили китайцы, как ни нахальничали, притязая на край этот до самого Красноярска, Рагузинский стоял на своем. А чтобы силой не смогли одолеть, попросил подкрепления из Тобольска.
— Конечно, когда целый полк под рукой, легче разговаривать, — одобрял Рагузинского Владлен. — Не то что Головин, которого китайцы обложили со всех сторон…
— Он тоже не безджигитным был! — горячился Кокаскеров. — Ему тоже на помощь подоспел Даурский драгунский полк. С Джунгарией сговориться ему можно было бы. Галдан, ее правитель, охотно повел бы своих нукеров на китайцев. Китаец — враг джунгар. Без Галдана тоже сил хватило бы. Вот Миллер как пишет: китайцы «к воинскому делу неспособные, ибо люди подлинно невоисты». По его расчету, один российский воин стоит десятка китайских.
— Головин еще прежде струсил, когда на Албазин не пошел, а Нерчинск местом переговоров избрал. Предал, можно сказать, казаков, кровью своею которые Албазин отбивали от захватчиков…
Они судили, они считали свои оценки истинными, но как еще мало они знали о том времени того, что помогло бы им понять происходившее тогда более реально. Народ российский, не спросясь правительства, давно уже обживал Амур и Даурию, сам создавал свою вооруженную защиту, так называемые воровские полки, и этому факту патриоты России придавали великое значение. Ломоносов так и считал: могущество России прирастать Сибирью станет. Но всем ли, как русскому люду, по нраву могущество империи Российской? Вот в чем корень вопроса. Историки не располагают документами, которые могли бы подтвердить, что Головин исполнял чью-то волю; историки пляшут, как говорится, от печки, от письменных инструкций, какие Головину были даны. И они правы по-своему. Для историков фактом может быть только документ, они избегают концепций, построенных на логических сопоставлениях.
А зря!
Добрых сотню лет Русь простонародная продолжала все же заселять Приамурье на свой страх и риск, а патриоты-дворяне из правящей элиты пытались хоть как-то им помогать, только верхний эшелон власти будто шорами отгородился от реальности. И в то время, когда посольство Головина направлялось на переговоры с Китаем, в Петербурге зашоренных глаз имелось немало. Не в робости стоило, видимо, молодым людям обвинять Головина, не в том, что не понял он выгодной для России ситуации и регионе и не использовал ее, а, скорее, в том, что не хотел нажить врагов среди толпившихся у трона сановников, которые, эксплуатируя русское хлебосольство, не намеревались даже научиться хотя бы едва-едва говорить по-русски.
Не успело по молодости своей да еще из-за лихолетья, закрутившего их в кровавом водовороте, познать новое поколение многого, но молодость не мудра мудростью старцев, осторожно которые судят даже о хорошо известном, — горяча молодость, максималистски категорична. Но это, скорее всего, даже хорошо. Общество, у которого молодая поросль инертна и живет по рецептам отцов, — погибшее общество.
Оценив на свой лад все, что происходило при постановке границы в Забайкалье и на Дальнем Востоке, перекинулись молодые офицеры-пограничники наконец на главное для них направление, в районы Большой и Дикокаменной орд, на Джунгарию перенесли свой взор. Начали с «Записок» Чокана Валиханова, потом, сопоставляя карты прежние и нынешние, пытались разобраться, где проходила граница с Джунгарией и отчего не признавалась ею эта граница, и понятней час от часу становилось Владлену с Рашидом, почему китайцы не унимаются, хотя сами же подписали Пекинский и Чагучакский договоры: им, видите ли, нужно все то, на что претендовала (не имела, а только домогалась) Джунгария, которую Китай вырезал до последнего аборигена и земли которой теперь почитает своими.
И это их «открытие» подтвердил степной генерал-губернатор Бабков. Читал его прежде Владлен. По рекомендации отца. Для общего развития, как говорилось в семье, читал. На этот раз признался Рашиду:
— Знакомы мне записки генерала от инфантерии Ивана Федоровича. Умная книга. Перечитаю вместе с тобой, — они давно уже перешли на «ты», — с большим удовольствием.
Перескакивая на полевом галопе главы, где генерал описывал быт и нравы людей своего круга, их участие, пассивное или активное, в постановке границы в Семиречье и Заилийском крае, они с завидным для их возраста терпением отыскивали на карте все населенные пункты, которые называл Бабков, прочертили линию основных китайских караулов, разобрались и с линией их временных караулов, где китайцы, поощряемые английским агентом Арткинсоном, требовали определить разграничительную линию, — книга так увлекла молодых людей, что они почти не выходили на перроны станций и не всегда замечали, что поезд подолгу стоит на малых полустанках, у «телеграфных столбов», как остро́ окрестили такие выстойки пассажиры.
Вот и ташкентский перрон. Голый и грустный. Только патрули прохаживаются парами, блюдя порядок. Ничего примечательного. Запомнилось им только одно: на обед по воинским талонам им дали не клеклый, непонятного цвета и вкуса хлеб, а настоящие лепешки из пшенично-кукурузной муки. Как объяснила официантка, остались лепешки от обеда для тех, кого всего час назад повез состав из теплушек на фронт.
Война дотягивала свои кровавые щупальца даже сюда, в такой, казалось бы, далекий тыл.
Комендант, которому они доложили о себе, не велел отлучаться в город, ибо уже начал формироваться товарно-пассажирский состав на Андижан и подать его к перрону должны были, по его утверждению, с минуты на минуту. Но они извелись, ожидая состава в прокуренном воинском зале, успели даже поужинать, и только тогда прохрипел динамик-тарелка, что на их поезд началась посадка.
Утром они проснулись уже в Ферганской долине, и все пошло у них иным порядком: они не читали, они смотрели в окно, и Рашид, чувствуя себя хозяином, пояснял все, что Владлену было непонятно. А тому все в новинку. Да, Владлен знал историю борьбы России с Кокандским ханством, историю присоединения этого ханства к империи, но особенно подробно знал, что происходило здесь в послереволюционные годы, какие силы породили басмачество, кто затем вооружал и вдохновлял кровавый разбой; он знал, сколь много человеческих жизней забрала эта спровоцированная борьба, но знать — это одно дело, а видеть — совсем другое; оттого Владлена буквально поразило, что уже за добрый километр до невеликого, как потом он увидел через окно, города, в котором, судя по запущенной, но еще не развалившейся крепости, стоял в басмаческие годы гарнизон, начиналось кладбище, широченным кольцом охватившее город, обвитое виноградником и отгороженное от солнца вековыми карагачами и ореховыми деревьями, — реальность настолько оказалась пронзительней книжной истории, настолько была жестоко-откровенной, что Владлен даже не поверил своим глазам. Воскликнул с явной надеждой получить какое-либо иное пояснение:
— Неужели это и впрямь могилы?!
— Да. Кладбище басмачей. Они атаковали город. После боя красноармейцы разрешили похоронить погибших.
— Безрассудство! Лезть на пулеметы, а так и было здесь, может только фанатик!
— Мусульманину смерть за веру не страшна. Она даже желанна. Прямой путь в рай.
— Но Советская власть не объявляла табу на вероисповедание.
— Правильно. Но мы с тобой атеисты, как и все большевики. Мы не признаем религии. Ее не признавали и большевики, делавшие революцию. Причем не скрывали этого. С чистой душой шли к людям. А у муллы только чалма белая, а душа черная, вот и замутили правоверных ложью, устрашением. Баи, у кого отнимали земли и богатство, выдавались за мучеников, пострадавших за веру. Все знали, что он эксплуататор, но как у нас говорили: кишлак с муллой пуглив и глуп. А как же иначе: ходишь в потемках — обязательно споткнешься. Вот и споткнулся народ. Полилась кровь. — Замолчал Рашид, думая, рассказывать или нет о том, как туго пришлось и его отчиму, и матери, да и ему самому в то лихолетье. Мальчонкой был, а помнит по сей день страшные и долгие ночи, отчима с ружьем у кизячного костерка в центре юрты, мать, прижимающую его, Рашида, к себе, словно прощаясь, — он видел все, он слышал их пугающий до холодения в сердце шепот, но притворялся спящим: пусть думают, что он беззаботен, ничего еще не понимает и, значит, счастлив детским счастьем. Не решился на такое откровение сейчас, в вагоне. Лучше будет вспомнить обо всем этом в юрте отчима. Продолжил не о личном:
— Много шиитов верят ахбару, преданию, что в Фергане похоронен Али. Когда исламские вожди делили власть, один из претендентов на нее был Али, двоюродный брат пророка Мухаммеда. Его сторонники объединились в партию, шиа по-арабски. Вот она и положила начало шиитскому направлению в исламе. Здесь, в долине, шиитов много, их-то и подняли муллы на спасение гробницы Али, святого места, мазара, которое большевики обязательно осквернят, ибо они неверующие — кяфиры. Для гневных проповедей у мулл был пример: декрет Совета в Оше, которым упразднялась святость Сулейман-горы. Сулейман-гора для мусульман, и шиитов, и суннитов, великий мазар. Неверность жены можно на горе определить, бездетную женщину исцелить, болезни самые различные, особенно душевные, изгнать. Кто хочет поймать вора, тот ищет след, кто не хочет, тот поднимает крик. Перед войной правду открыли: «декрет» написал бывший царский служащий. В Совет он пробрался и даже встал во главе его. Расклеили по заборам и на карагачах «декрет» после того, как проехали через Ош казаки. В городе они не разбойничали, но в кишлаках и аулах много крови пролили. Пролетарской крови. Бедняцкой. Вот они, скорее всего, и надоумили сотворить зло. Развязали руки священнослужителям, дали им повод, вот те и завопили, что спасать нужно мазары, веру спасать. В Ферганской долине много мазаров. Очень много. Вот и поднялись мусульмане, по темноте своей не понимая, что прежнюю власть защищают, которая их же самих мяла и давила, что англичанам на руку играют, кто и был здесь главным вдохновителем борьбы. — Помолчал немного и добавил с еще большей грустью: — Теперь мазаров прибавилось. Каждое кладбище — мазар. Каждая могила — мазар. Приглядись, сколько лоскутков на колючках у могил развешено. Сердобольно красноармейцы поступили, позволяя хоронить басмачей после боя. Не думали о последствии. А враги думали. Почти каждый город, где стояли крепости, окружен вот таким кольцом мазаров.
Вот как можно благо переиначить во зло. И впрямь Владлен с удивлением видел на проплывавших за окном кладбищах множество разноцветных лоскутков, привязанных к кустам полыни и верблюжьей колючки. И выгоревшие лоскутки, и жалкие истлевшие остатки, которые осыпались на землю, как осенние листья с деревьев от легкого дуновения ветерка, и совсем свежие, только что оторванные от полы халата или рубахи — погибшим за ислам поклонялись, совершенно забыв басмаческие разгулы, забыв кровь, правую и виноватую, которой они залили благодатную долину, забыв тот ужас, который заползал в каждый дом, когда появлялись слухи о скором басмаческом визите в кишлак. Такова память людская. Она может с годами, если еще на нее постоянно давить, в корне меняться: прежнее зло считать благостью, благость — великим злом.
«Не дремлется врагам народа! Ой не дремлется!..»
Не спешил поезд, или утомительно долго ожидая встречный на полустанке, или так же долго, сверх всякого расписания, стоял на первом пути у шумливого перрона, но здесь Рашид с Владленом проводили время среди перронного люда, и оно проходило не так медленно. Но как бы ни полз поезд, а довез он все же своих пассажиров до конечного пункта. Прежде, до войны, дорога окольцовывала долину, выходя вновь на Фергану, но рельсы во многих местах разобрали для нужд фронта, и теперь рабочее полотно дотягивало только до дальнего угла долины. Дальше Кокаскерову и Богусловскому предстояло добираться на перекладных. На чем посоветует военный комендант.
Тот, правда, быстро нашел выход, и причиной тому была не столько забота об офицерах-пограничниках, сколько трудности с местами в гостинице и особенно с продуктами. Он позвонил кому-то, куда-то послал посыльного, и уже через полчаса уверенные в себе лендлизовские «студебеккеры» увозили Рашида с Владленом к горам, которые бесформенно горбились, вгрызаясь в бездонную серость вечернего неба.
Наступила ночь, а колонна шла и шла. Миновали Ош, так и не побывав на Сулейман-горе, которую Рашид обещал показать Владлену Богусловскому, и запетляли по ухабистой дороге, давно соскучившейся по грейдеру — фары вырывали из темноты то близкие скалы, пугающие тупым блеском, то белокипенную речку, сломя голову несущуюся в долину, будто смертельный страх гонит ее, будто боится опоздать на полив хлопковых и кукурузных полей и случится от этого непоправимое для людей горе; все так непривычно, все так пугающе дико для Владлена, что он съежился на сиденье в комок, цепко схватившись за поручень, чтобы не стукаться о дверцу, когда бросало безжалостно машину на ухабах, и, как ни стыдился он перед шофером за свое состояние, пересилить себя не мог.
Шоферу, правда, было не до пассажира: он не отрывал взгляда от дороги, тормозил, переключал скорости, газовал и вновь тормозил — не легок был его ночной труд, но он даже не сделал ни одной остановки до самой пограничной комендатуры. Вся колонна, вполне понятно, тянулась за ним.
Короткая остановка. Рукопожатие с обычным «Спасибо», таким же обычным «Счастливой службы», и машины двинулись дальше в горы, на Памир. Они везли срочный, видимо, груз, который там ждали.
— Ну вот, почти дома. Здесь наше прямое начальство, — указывая на желтеющее ламповым светом оконце, сообщил Рашид Кокаскеров. — Пошли доложим.
Их здесь никто не ждал. Была телефонограмма, что на заставу Крепостную прибудет новое начальство, но о времени ничего сказано не было. Да и как определишь это время. По всем правилам им надлежало вначале добраться в отряд, а уж затем — в комендатуру. Им, однако же, повезло, и они воспользовались удачной оказией. Даже не подумали, что их за это могут осудить.
Осудить — не осудили, но весь следующий день ушел у них и у коменданта на телефонные разговоры с отрядом, обсуждался маршрут, намечалась группа сопровождения, но в конце концов Рашид Кокаскеров отстоял свой маршрут. Не тот, по которому обычно ездили, а километров на пятьдесят длиннее, очень сложный рельефно, но через аул своего отца. Усиленно пытались отсоветовать, расписывая рискованность пути, будто Кокаскеров не знал его, но запретить никто не решался. Более того, позволили погостить у отца три дня.
— Возьмите одного или двух коноводов, и довольно, — посоветовал комендант. — В горах тихо.
— Война не оживила басмачества? — спросил Кокаскеров и этим вопросом нисколько не удивил коменданта.
— Были случаи перехода из-за кордона. С несколькими бандгруппами, даже крупными, схватывались мы, но сейчас не двадцатые годы. И мы сильней, и местные жители поумнели. Сейчас скрываются в горах дезертиры, но они не агрессивны. Нападение исключается.
Все это хорошо, но приторочили к седлам на всякой случай автоматы и карабины. Но настоянию Кокаскерова. Он так и сказал:
— В кишлаке, где есть собаки, ходят с палкой.
Разумно. Связи никакой. Только походная клетка с голубями приторочена к седлу коновода. Голубь — птица надежная, скоростная, но, случись нападение, долго ли с пистолетами продержишься? А так и для дальней прицельной стрельбы, и для ближнего боя. Боезапаса тоже в переметных сумках вполне достаточно. Что ни говори, а уверенности от этого больше. Тем более, что она, уверенность, ой как нужна была Владлену.
Правда, робость постепенно вползала в душу Богусловскому. И предостережение о трудности маршрута не сразу он воспринял. Как ребенок, которому говорят, что огонь обжигает. Пока не сунет руку, не поймет. Так и Владлен Богусловский. Даже когда, миновав кишлак, а затем и кукурузное поле, подъехали они к ущелью и Рашид сказал: «Вон туда путь», он еще не представлял себе, что ждет их впереди. Он залюбовался ущельем, которое рассекало скалы ровным конусом, словно ткнул кто-то копьем гранитную твердь и там, где сила копья иссякла, там — перевал. И кровоточит он водой белокипенной, плачут стены, выкапывая из зубастых пазух вековечные слезы; а берега речки щебечут из тугайной непролазности птичьим разноголосьем, разбивается которое о слезливую хмурость нависших над тугаями скал.
— Прекрасный вид. Только гениальная кисть художника в состоянии перенести это на полотно. В веках жить бы такой картине! — восторженно заговорил Богусловский, но Рашид, усмехнувшись, приспустил его на землю грешную:
— Нам она тоже надолго запомнится. Пока живы будем.
И этим словам не внемлил Владлен. Он находился в таком восторге, что ему просто не терпелось поскорее въехать в ущелье, и он отдал повод коню.
— Стой! — резко, даже грубо скомандовал Рашид. — Только за мной. Коновод замыкает.
И он, не обратив внимания, какое впечатление произвел на Владлена его приказ, пустил коня по тропе, но уже через несколько десятков метров, хотя на ней не виделось никаких предостерегающих знаков, свернул с нее, потом, спрыгнув с коня, повел его круто вверх, петляя меж валунами.
Владлен последовал его примеру, а через сотню метров увидел, что торная тропа разорвана широким провалом, тугайный же подлесок, жесткий и колючий, так спрессовал тропу перед тем провалом, что коню просто негде было бы развернуться, окажись они там. К тому же кое-где через тропу уже перекинулись плети костяники, будто протянули руки братства друг другу две стены. Откуда узнал Рашид и о разломе, и о колючих непроходимых стенах у тропы? В комендатуре, как припоминал Богусловский, никто не говорил им об этом. Он даже спросил Кокаскерова:
— Как давно тропа непроходима?
— Отец возил меня здесь. Ребенком еще. Дальше такого не попадется больше.
Верно: тропа больше не рассекалась трещинами, не было на ней и завалов, потому ехать по ней было даже приятно, тем более что она шла по опушке тугаев, от которых веяло прохладой от невидимой, но шумно клокочущей речки. Веселили путников и птичьи песенные коленца, с переливами, с посвистом, на похвальбу друг перед другом, которые как бы главенствовали над шумом воды, не соединяясь с ним. Такая приятность, однако же, длилась не так уж и долго: тропа все круче и круче забиралась вверх, отдаляясь от реки, да и лес по ее берегам заметно редел, и вот она уже вовсе в чем мать родила, и стыдно ей за свою неприкаянную наготу, торопится она поскорее укрыть себя в сени деревьев, сердится на мешающие ее бегу валуны, пенится, бьет их со всей силы, но сильной от этого не кажется, а, наоборот, вызывает жалость.
Рашид остановил коня и, спешиваясь, кивнул на речку:
— Смотри. Вода утечет, камни останутся.
Иное направление мысли, выходит, у Кокаскерова. Совсем иное. О бренности житейской суеты и спешки. Верно, пожалуй, а если учитывать еще и особенности восточной философии, то это — жизненное кредо.
Рашид смотрел, словно забыв о времени, вниз, на сумасшедшую речку, и думал свою думу. А солнце уже выкарабкивалось к зениту.
— Успеем ли до темноты? — попытался Владлен вернуть Кокаскерова с философских вершин на грешный гранит, но оказалось зря. Тот не терял реальности.
— Отец отвечал мне так: шайтан если не помешает… Не понятно, кто шайтан? Все равно что черт. Если не помешает, успеем. А я так думаю: успеем, если кони хорошо отдохнут.
Понял Владлен, для чего был нужен отдых коням совсем скоро. Тропа, обогнув скалу, покарабкалась так круто вверх, что пришлось спешиться и ухватиться за конские хвосты. Умные, привыкшие к горным кручам пограничные кони смело и без понукания взбирались, не сбиваясь с тропы, к раскрывшему свой зубастый зев расщелку, перед которым виднелась пятачковая ровность. Хозяев, которые больно тянули за хвосты вниз, мешая тем самым ровному движению, кони не отпихивали. Тащили упрямо свой крест.
Остановка. Малый привал, и — в седла. Дно расщелка было совсем ровным, зато стены его, узкие, стремительно, с каждым шагом, поднимались и поднимались, а цокот копыт все более неприкаянно бился об эти высоченные гладкие стоны, пытаясь хоть за что-то зацепиться, но в глухой сумеречности сделать этого не мог и в конце концов вырывался в светлую высь. На небе показались звезды. Кисейно-прозрачные. И Богусловскому стало не по себе. Еще и Рашид масла подлил. Тихо, чтобы не загромыхали эхом стены, а вышло, будто с опаской, пояснил:
— Отец говорил: это — звездные души. Праведных звезд.
Непостижимо! В самый полдень видеть звезды. Пусть не ночной яркости, но все же — звезды… Совсем не далеко от мистики. Особенно если ты воспитан на вере в потусторонний мир, если у тебя твердое понимание того, что есть и тело, есть и душа. Не удивительно поэтому столь странное восприятие редкого природного явления.
Вот стены ущелья стали опадать, звезды растворялись в светлой бездонности, а затем тропа вырвалась на волю, запетляла меж облизанными ветром валунами. Можно вздохнуть свободно, полной грудью.
Увы, блаженству отпущен миг. Вскоре тропа вновь резко повернула, но теперь влево и даже снижалась, но Рашид остановился:
— Дальше самое трудное место. Узкая тропа. Переметки могут помешать.
Веревки к этому случаю, оказывается, были припасены. Рашид с коноводом стали укладывать переметные сумки на крупы коней, крепко тороча их к задним лукам седла; Богусловскому же посоветовали смотреть и запоминать, как надо это делать, но к самой работе не допустили.
— Ведем в поводу. Я первым. Коновод — замыкающим. Двинулись. Смотри, Владлен, на круп моего коня. Больше никуда.
Легко сказать: смотри! А если у тебя под ногами даже не твердь каменная, а зыбкий настил из плетеного ивняка поверх бревен? Если справа коричневый гранит дышит печной жаркостью, хотя перевалившее зенит солнце уже не обжигает беспощадно; если слева пугающая до безотчетной жути, до ватности с муравьиным щекотанием в ногах пустота, если все это для тебя совершенно непривычное, если ты не особенно-то веришь в прочность бревен и подпирающих их слег, если тебе, ко всему прочему, хочется, вопреки страху, все разглядеть, все запомнить, тогда как?
Увы, туманит тошнота от взглядов вниз, отшатывает невольно к горячей стене. Если же вверх глянешь, тоже не легче: мельтешат разноцветные круги перед главами от кружения в голове и тоже невольно прижимаешься к пышущему жарой граниту. Опасно. А конь, добрый строевой конь, ни повода не дернет, не натолкнется на остановившегося вдруг человека, терпеливо переждет, пока тот вновь двинется вперед. Умная, все понимающая животина…
Постепенно Владлен все же заставил себя смотреть только на круп рашидовского коня, и шаг его стал ровней и спорей. Пошагал проворней и Кокаскеров, почувствовавший, что Богусловский справился с волнением.
Всего четверть часа шли они по рукотворному карнизу, а как ступили на твердую землю, силы у. Владлена будто кто-то вдруг высосал. С великим напряжением сделал он несколько шагов напудовившимися ногами, чтобы выпустить коновода с карниза, и плюхнулся на валун, который показался ему сейчас мягче мягкого кресла. И видел он перед собой только понурую голову коня, его взмыленную грудь, мелко и часто вздрагивающую, словно ее беспрестанно жалили взбесившиеся пауты. И эта явная усталость коня успокаивала, ослабляла самобичевание, тихомирила злость на слабосилие свое.
Не видел он, что и Рашид, а особенно коновод, сидят такие же немощные.
Рашид поднялся первым:
— Отец мой всегда говорил здесь: только идущий осилит дорогу. Подъем!..
А сам потянулся до хруста в плечах и заулыбался радостно, ибо мелькнуло в памяти страшное прошлое, когда подстегивал он себя и товарищей по несчастью такой же фразой, и возликовала душа, что нет за твоей спиной фашистского конвоира, нет автоматных очередей, подхлестывавших тех, кто еще в состоянии был передвигать ноги, а есть простор, вот этот, необъятный, бездонный, есть жизнь без позора и унижения — он улыбался безмятежно и вовсе не подозревал, что со стороны его улыбка кажется глупой; и Богусловский, впервые увидевший своего товарища таким, поспешил вывести его из блаженно-глупого состояния, спросив:
— Много еще пути?
— Как хорошо жить, Владлен-дос! Позор там, — он кивнул на запад. — Смерть там. Здесь, — он развел руки, словно хотел обнять все вокруг, — родные горы! Здесь — жизнь. Такой красоты нигде в мире нет.
Пожалел Богусловский, что рассек нити святой памяти. С ним тоже происходило подобное: вдруг всплывали яви ясней сцены прошлого, когда бывал он на грани жизни и смерти, пугался того прошлого, представляя себя в небытие, и радовался тому, что все страшное позади. Больше не стал беспокоить вопросами Рашида, да и не поперечил ему, хотя никак не воспринимал такой оценки, что не создала природа на земле ничего лучшего, чем вот эти горы. Что тут может вызвать восторг? Водопадный каскад, совсем потоньшевший ближе к перевалу? Вот эти стесненные ветром вершины без единого кустика, с едва цепляющейся за жалкие пленки почвы на граните жесткой и колкой травой, и если бы не эти желто-коричневые травяные проплешины, то можно было бы считать, что путешествуют они по луне — нет, не красота вокруг, а пугающая дикость, к которой нужно еще привыкать да привыкать.
«Чем тут восторгаться?» — удивлялся Владлен, чувствуя к тому же, что у него все сильнее и сильнее шумит в ушах и начинает поташнивать. Его уже тяготило бездействие, ему хотелось двигаться, чтобы перебороть начинавшуюся горную болезнь. Торопить же Рашида он не смел, опасаясь вторичной бестактности. Терпеливо ждал команды.
Оторвался наконец Кокаскеров от своих дум, подсунул ладонь под гриву коня, подержал немного и удовлетворенно заключил:
— Можно ехать.
Проверил подпруги, туги ли, и вспрыгнул в седло, вроде бы не вымотала из него силенки дорога, а только начиналась она.
У Богусловского такой легкости уже не было. Просто не осталось ее. Порастерялась на крутой тропе.
Добро, что пути оставалось всего ничего, но самое главное, что не было больше нужды спешиваться и тянуться за хвостом коня, — не выдержал бы иначе Богусловский, не одолел бы навалившейся слабости, не совладал бы с тошнотой. А в седле — ничего. Голова, правда, как закипающий чайник. Ну и что? Пусть шумит. Ноги не цепкие? Пусть. Рукой можно за луку придерживаться, тем более что не галопом скачет конь, а шажком, шажком. Пружинным, осторожным.
Одно беспокоило: хватит ли сил на спуск? Владлен слышал, да и читал прежде, что спуск нисколько не легче подъема. И как радостно стало ему, когда увидел он с перевала совсем близкую долину. Рукой, как говорится, подать.
Собственно, то была не долина, а скорее заливчик долины. Зеленый, с голубой речушкой, которая, казалось, спешила вырваться на вольную вольность Алая и так подстегивала себя, что даже сюда, на перевал, долетал ее шум.
У берега той речки стояла крутобокая внушительная юрта, в каких, как позже узнает Владлен, живут не временно, в отгонный период, а круглый год. И все. Больше даже намека на жилье нет ни в заливчике, в ожерелье гор, ни дальше, на Алае, куда доставал взгляд. Только паслись у подножий отара овец вперемешку с козами, десяток лошадей и пяток одногорбых верблюдов. Из юрты тянул дымок. Жидкий, едва заметный, быстро таявший в солнечной яркости.
— Очаг родного моего дома! — с волнением произнес Рашид. — Вечность не видел отца и мать. Мать, провожая, сказала: «Всякая птица возвращается к своему гнезду», дала мне откусить лепешку и спрятала ее в коржин. Чтобы вернулся доесть. Сбылось. И скажет теперь: «Велик аллах», хотя отец сердится, что верит она в божью силу.
Вдохновенно и красиво лицо Рашида, взгляд орлиный, весь подался вперед, и появись сейчас мать с протянутыми ему навстречу руками, не задумываясь, бросился бы в материнские объятия прямо с перевала, не помешала бы километровая высота. Даже завидно стало Владлену. Он таких чувств к родителям не питал. Любил он их? Безусловно. Но ему всегда казалось, что мужчина любовь просто обязан не выказывать. Сердцу мужчины не место на ладони. А вот теперь, впервые быть может, усомнился в истинности своей логики. Железной, как он считал.
Заговорил же Владлен не о том, о чем думал. Спросил:
— Одни? Не скучно?
Сник Рашид, как прихваченная морозцем капустная рассада. Вздохнув, ответил:
— Отец расскажет. Кумыс говорливым сделает.
Так и вышло. Сумасшедшая радость переполошила пожилых одиноких родителей Рашида, и они походили поначалу на полоумных. Особенно мать. Суетилась, всхлипывая и смеясь, без всякого толку. Первым взял себя в руки Кул. Остановил жену, которая кинулась выбирать для сына новую подушку, ибо та, которую подала ему, показалась ей не так мягкой и нарядной, и попросил ее:
— Займись кумысом, кыз-бала. Сын и гость из-за перевала. Весь день без крошки во рту. — И не упрек звучал в голосе, а добрый совет любящего и понимающего состояние души близкого человека.
Рашид радостно заулыбался, ибо только он понимал глубинную суть обращения (девочка-ребенок) Кула к его матери. Помнилось ему, что вскоре после того, как бежали они от людей, перестал Кул называть ее так, и в семье от этого поскучнело.
«Вернулось прежнее! Вернулось!» — ликовал Рашид, любуясь сразу и отчимом, который вновь стал самим собой, неспешным и точным в движениях, и матерью, все такой же хрупкой и порывистой, но уже с заметными морщинами на лице. Что ж, за сорок уже. А Кул тем временем взял тонкий, но крепкий, из конского волоса, кусок веревки, опоясался им и принялся точить нож; мать же, присев на корточки в своем хозяйственном углу, вылила в котел из кожаного мешка кумыс и принялась водопадить его длинноручной деревянной поварешкой, отчего кумыс в котле пузырился и пух.
Глотнув слюнки, Рашид объяснил Владлену:
— Сейчас процедит через воздух и… Такого ароматного кумыса, как у моей матери, нет во всем Алае.
У Владлена тоже потекли слюнки, даже тошнота отступила, хотя он никогда не пробовал кумыс, слышал только о нем, что лечебен, но вид вспененной белой жидкости и непонятный, но приятный и возбуждающий аромат вызывали аппетит, и, когда мать Рашида подала кису с кумысом, он припал к ней с жадностью. А на дастархане уже появились пиалушки с каймаком (прокаленные до розовой корочки в тандыре сливки), курт, баурсаки и мягкие, неповторимо-ароматные лепешки. Расставив и разложив все это на дастархане, мать Рашида вновь вернулась в свой угол, извлекла из коржина надкусанную Рашидом перед отъездом лепешку, которая была бережно завернута в полотенце из маты, и торжественно, на вытянутых руках, словно великую драгоценность, подала ее сыну.
— Аллах благословил твое возвращение. Доесть надо всю.
Присела на корточки чуть поодаль, вроде бы у дастархана, но будто в стороночке, и залюбовалась сыном, обо всем, видимо, позабыв. Любовь к трудно рожденному и еще трудней выращенному ребенку переполняла ее материнское сердце.
Встрепенулась, услыхав призыв мужа.
— Кыз-бала, бесбармак не получится без очага.
— Верно, что же это я, старая? Сейчас, сейчас… Сидите, сыночки, отдыхайте, кушайте.
Выпитый кумыс подействовал успокаивающе. Шум в голове прошел как-то незаметно, сам собой, тошнота исчезла вовсе, и теперь Владлен вполне мог начать изучение убранства юрты, в которую попал впервые в жизни. А Рашид будто не понимал, что другу здесь все интересно, не докучал пояснениями, отвечал на вопросы как можно короче.
— Да, веками вырабатывался рационализм…
— Да, все по своим местам. Всему есть свой угол. И не беда, что юрта круглая. Вон там — для сбруи, там — ружья, силки и капканы, тут — одежда, вот там — спят…
— Верно, войлок летом держит прохладу, зимой тепло…
— Нет, ветер не продувает.
— Подушки? Их много, чтобы показать, как гостеприимны хозяева. Готовы встретить десятки гостей…
Все, оказывается, имеет свой смысл. Простой, житейский, и удивление Владлена обилием подушек, уложенных в красном углу многоцветными колоннами, прошло.
— А это место, где мы сейчас, для самых почетных гостей. На шкуру жеребчика приглашают самого уважаемого.
— Значит, — улыбнулся Владлен, — мы все трое самые уважаемые?
— Да. Когда гости равные, тогда законы предков допускают такое. — Рашид вздохнул грустно, вспомнив прошлые годы, потом, опережая события, ибо обещал, что обо всем расскажет отец, произнес горестно: — Отец мой посмел противиться обычаям, и долго у него не было ни подушек, ни шкуры жеребчика. Я в армию когда уезжал, ее еще не было. И юрта эта совсем еще новая. Я не в ней родился. В тесной. Всего пять кольев, а через кошму звезды видно… Грустно вспоминать. И больно. За народ свой больно. Забит и запуган. А как все просто: не подчиняешься шариату, аллах карает… Ладно, пусть Кул сам расскажет.
Любопытство у Владлена разгорелось так же, как и аппетит после выпитого кумыса. И час наступил. В юрту внесли огромное блюдо, напоминающее поднос, только поглубже, с большими кусками мяса, уложенными на кусочки тонкого отваренного теста. Духовитый парок витал над блюдом.
— Готов бесбармак, — с явным удовольствием сообщил Кул, ставя блюдо на дастархан, поближе к гостям, и усаживаясь рядом. — Давай, кыз-бала, кумыс.
Рашид пояснил Владлену:
— Бесбармак — это «пять пальцев». Руками едят. Вот так. — Он ловко подцепил квадратик тонкого теста, отправил его в рот, а уж потом принялся за увесистый кусок баранины. — Вот так.
Убраны наконец остатки бесбармака, вновь налиты полные кисы кумыса, и тут Рашид сказал Кулу что-то на родном языке, и Кул встрепенулся:
— Племянник Иннокентия-доса?! Костюков-ага провожал сюда?! Салям послал?! — И к сыну с упреком: — Почему долго молчал? Не барашка, жеребчика резал бы!
— Отец, жеребчика ты еще зарежешь. Мы три дня будем гостить. Служить тоже будем рядом, на Крепостной. Журге полдня пути. А сейчас о себе расскажи. О нас расскажи. Генерал Костюков просил. Пусть, говорит, молодой джигит знает, как жили на Алае люди.
— Жаксы, Рашид-оглы. — И сам же перевел: — Хорошо, сынок.
Залпом, словно умирающий от жажды человек, осушил Кул кису, отер ладонью жидкие усы, погладил прозрачную бороденку и заговорил. Неспешно. Взвешивая каждую фразу, каждый эпизод, перемежая речь казахскими словами, и не вдруг Владлен стал понимать все в рассказе Кула, но потом приловчился улавливать главное, заполняя непонятное домыслом. И жуткая картина предстала перед ним.
Кул с самого рождения не стал полноправным жителем алайского кишлака. Он — потомок раба. Потомок другой орды. Враждебной. Еще при Кенесаре, который поднялся против России, пытаясь одновременно подчинить себе киргизов Дикокаменной орды, вырвав их из-под влияния Кокандского ханства, захвачена была кокандцами и киргизами малолюдная казахская откочевка под Узунагачем. И даже тем, что пленники в конце концов приняли мусульманство, не обрели равноправия. Кул вырос сильным и смелым, вел себя независимо, он заставил относиться к себе с уважением, но бедности не пересилил. Поэтому и не получил в жены любимую девушку. Отдали ее богачу, главе алайских контрабандистов Абсеитбеку. Кокаскеры вернули ему счастье любви, но кишлак взбунтовался. Гулистан — так имя матери Рашида — нельзя было появляться на улице: все, даже малолетние, плевали ей вслед, а то и швыряли в нее каменья. С самим Кулом и его матерью никто не осмеливался обмолвиться словом, а отец Гулистан и все ее родичи наседали, чтобы отдал он Гулистан брату убитого Абсеитбека, как требовал шариат. Обвиняли его в прелюбодеянии, готовя расправу.
Кул их понимал. Если Гулистан не станет женой Абсеитбекова брата, тот потребует обратно калым, а родичи Гулистан не богатеи, чтобы пойти на такое, вот и выставляли себя поборниками шариата. И муллам в угоду, и себе в выгоду.
Мать Кула, не выдержав травли, померла, и тогда Кул решился на последний, как он посчитал, шаг. Он спросил Гулистан, станет ли она его женой или покорится воле родителей и братьев? Любое ее желание для него станет святым. Она согласилась стать женой любимого, и в ту же ночь, захватив с собой самое необходимое, тихо, чтобы никто не помешал, бежали они из кишлака. И как узнал Кул позже, спасли тем себя от мученической смерти. Утром их собирались вытащить из дома и закидать камнями.
Всю ночь и весь следующий день ехали они дальше и дальше от родного очага. Кул собирался поначалу проехать даже через перевал, спуститься в Ферганскую долину, затеряться там в каком-нибудь городишке, а потом постепенно перебраться на родину предков, но, когда подъезжали они уже к перевалу, передумал. Побоялся возможной погони. Решил на день-другой укрыться в пещере, из которой выбегает вот эта синеструйная говорливая речка. Вечером же он сделал открытие: летучие мыши, рассыпая живые гирлянды на потолке огромного грота, улетали куда-то вправо. На следующий день он, изучив пещеру, нашел второй выход. В крохотную, но обильную травой и с озерцом посредине долинку. Обрадовался и определил: здесь стоять юрте. Из той кошмы, которой закрывали очаг в его доме и которую они прихватили с собой.
Три года жили они, отгороженные от мира скалами-молчунами. Спасло от голодной смерти озеро, служившее водопоем и для архаров и теков, и для уларов. И все же зимой он вынужден был выходить на промысел на Алай. Возвращался либо с лошадью, либо с одним-двумя баранами. Больше не брал.
В одну из таких вылазок увидел он, что в урочище Сары-кизяк поставили юрты кокаскеры. С красными звездочками на фуражках. Быстро они построили дома и конюшню. Значит, решил Кул тогда, обосновались надолго. И зародилась у него мысль переселиться к ним поближе, под их защиту.
И хорошо вроде бы, и боязно… Точку поставил случай.
— Иду на охоту, тау буркит над головой. — Горный орел, пояснил Рашид. — Знал я его. Сильный. Спокойный. Джигит. Вдруг шанкыл. — Клекот, значит, пояснил Рашид. — И к своему гнезду. Змея туда ползет. Я торопился тоже. Не успел. Буркит змея когти зажал, сам тоже мертвый. Кусала, шайтан. Спас гнездо буркит. Там три, — выставил пальцы Кул, — буркит. Думал я тогда: не джигит я. Трусливая женщина. Тогда застава поехал. Там жил. Кыз-бала баран кокаскеров пасла, я басмача помогал ловить.
Так и джигитил Кул у пограничников, пока не утихли горы, пока не зажил Алай мирно. Приехал тогда Кул сюда. Места для скота лучше не найти во всем Алае, юрта добрая, просторная, жена любимая и сын — надежные помощники. А иногда и гости наведывались. Особенно пограничники. Не забывали его боевые дела, его неоценимое следопытство. И сейчас наведываются.
— А что в прежний дом не вернулись? — спросил Владлен, понявший, что и теперь юртой Кула пользуются для отдохновения далеко не все, проезжающие через перевал. Захотел окончательно убедиться в этом.
— Братья Гулистан живы еще, — ответил Кул. — А враг станет другом, если волк начнет пить воду вместе с овцой.
— А здесь не тревожат?
— Брат Абсеитбека посылал знак. Верни, говорит, Гулистан. Аллах покарает. Он там, за границей. Только вон мультук. Заряжен. Кокаскеры дали.
— Теперь, отец, мы тебя станем охранять. Карабин свой можешь разрядить.
— Я рад, сын мой, этому. Только два журги к одному дереву не привязывают…
Конец второй книги
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.

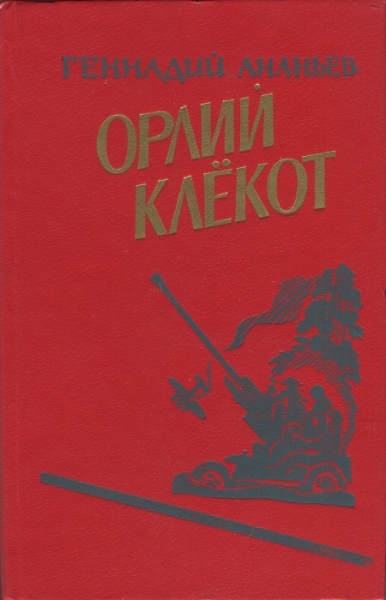


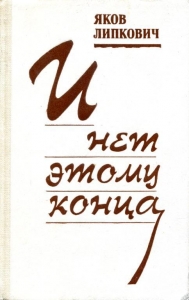


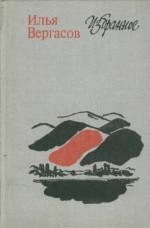
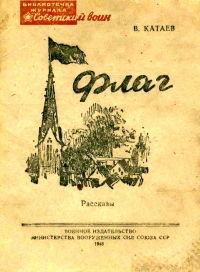




Комментарии к книге «Орлий клёкот. Книга вторая», Геннадий Андреевич Ананьев
Всего 0 комментариев