В сложном полете
Храбрым защитникам нашей Родины, павшим в жестокой борьбе с врагом в Великую Отечественную, и моим дорогим отцу, дядям и мальчику-брату, не пришедшим домой, посвящается
В СЛОЖНОМ ПОЛЕТЕ Повесть
I
МАРАФОН
…побежал рысцой, гулко бухая сапожищами по асфальту. Основное, не сорвать дыхание вначале. Постепенно втянуться в ритм. И потом бежать, бежать и бежать, как тикают часы без остановки. В крайнем случае, если невыносимо устану, перейду на шаг. Но все равно лишь бы двигаться. Успею, во чтобы то ни стало успею…
— Фу-у, а-а! Фу-у, а-а! — выдыхать ртом, вдыхать носом. Фу-у, а-а! Фу-у, а-а! Должны же понять… помимо моей воли получилось. Не хотел ведь опаздывать, как нарочно, одно за другим цеплялось…
Стало жарко. Снял поясной ремень с шинели, сунул в карман. Хорошо-о, свободно, прохладно. Пугая редких прохожих, бежал к центру города. Не заметив, домчался до городского сада. А от него до почтамта совсем близёхонько и всё под горку. Вот уж поистине бег по пересечённой местности!.. Пожалуй, четвертую часть одолел. Кроссовую дистанцию. Летом бегали такую, казалась тяжелой. Жаль, что не больше…
Снова жарко. Взмокла голова, слиплись волосы, заструился пот по лицу, защипало шею. Разгорячилось и повлажнело тело. Распахнув шинель, сорвал шапку, расстегнул рубашку, подставляя распалённые голову и грудь прохладному ночному ветру. Пробежал мимо затемненного здания кинотеатра «Аэлита», где несколько часов назад смотрел интересный захватывающий фильм. Не он бы… сейчас не бежал так захватывающее интересно. Ну да нет худа без добра. Зато наконец увидел Любу. И честно признаться, рад… А кто лучше? Лилька или Люба?.. Обе хороши…
Внезапно из подворотни с оглушительным лаем выскочил чёрный мохнатый пёс. Напугал до смерти! Кинуло в сторону на середину улицы. Лишь тут остановился, отбросил налётчика пинком и вновь гулко забухал сапожищами. Но пёс оказался злюкой, хватая за пятки, гнался квартал, пока снова не получил мощного пинкаря. Фу-у, а-а! Фу-у, а-а! Проклятущий! Сбил дыхание только. Попробуй теперь восстанови. Фу-у, а-а! Фу-у, а-а!..
Улица кончилась, выбежал на окраину. Впереди за пустырем замелькали огоньки «шанхай-города». Сжалось сердце. Как нарочно, ни одного попутного хотя бы грузового трамвая. Или машины, идущей на завод. Подбросили бы до поворота, а там, считай, дома… Дорога пошла в гору. Вот когда стало тяжело, сразу почувствовал усталость. Заныли ноги, очугунели. Закололо в правом боку. Что это?.. Кризис? Мертвая точка? А это всего первый подъёмишко. Дальше будут затяжные. Да и темно тут, как бы в яму не залететь, да ноги не переломать. Тогда вообще все прощай… Перешел на шаг. Как легко-то! Так бы и шагал всю ночь, но нельзя. Лишь в гору пешком, а с неё бегом… Фу-у, а-а! Фу-у, а-а! И хорошо, что жизнь поставила в аховое положение. А то бы ведь ни за что не побежал на такое расстояние по своей воле.
Хотя и надо бы. Не стариком же бегать… А что: все усложняется. Сперва прибытие, наряд, караул. Потом полёты, прыжки. Теперь ночной марафон. Выдержу, значит, человек! И перед Востриком будет чем похвалиться. Он, наверняка, не бегал ночью столько. Да и бегает в тапочках.
Опять начался подъём. Снова хватал воздух, снова ноги очугунели. Фу-у, а-а! Фу-у, а-а! Тяжело-о…
К шести утра, пошатываясь, я подошёл к воротам «коробочки». Впереди за поворотом виднелся хвост курсантской колонны, шагавшей на аэродром. Все же успел! — обрадовался. — Лишь бы начальство не заметило, да не помешало, тогда догоню колонну. Но не повезло.
Едва переступив порог казармы, столкнулся лицом к лицу с рыжим кривоногим Иршиным. Не успел доложить, как тот, внимательно взглянув, сухо заметил:
— Разденешься, умоешься, зайдёшь в каптерку ко мне.
— Разрешите на прыжки, товарищ старшина?
— Не-ет, сперва ко мне.
Минуты через три был у Иршина.
— Вот что, — хмуро сказал он. — Командир роты сам с тобой разберётся, почему опоздал. А мне велено передать: прыжки тебе сегодня запрещены.
— Но, товарищ старшина, разрешите?! Я так спешил…
— Оно и видно, — саркастически усмехнулся Иршин, — на пять часов опоздал.
— Я двадцать пять километров бежал! Неужели зря? Разрешите?!
— Вот поэтому-то не разрешат. Ты посмотрись в зеркало — на себя не похож! И на ногах едва держишься. Какой же ты прыгун-парашютист?
— Но я смогу! Что там трудного? Кольцо дёрнуть?!
— Не упрашивай, запрещено!.. А если что случится, как тогда? Тем более ты не отдыхал.
— Смирно-о! Товарищ капитан! — послышался голос дневального.
— А вот и сам командир, — кивнул на дверь Иршин, — объясняйся с ним.
В канцелярии роты, не раздеваясь, Умаркин сказал:
— Подвёл ты меня, Ушаков! Здорово подвёл!.. А заверял — не опоздаешь. Вчера перед комбатом молчал, как первогодок. Даже испугался — не стукнули тебя где. Рассказывай, что такое приключилось?..
Выслушав, Умаркин помолчал. Потом, сев за стол, устало проговорил:
— Что ж, в жизни всё бывает. Никто не застрахован от критических ситуаций. И не всегда найдешь правильное решение. Но как отнесётся комбат и училищное начальство к этому? Вот что сейчас главное… Совет на будущее: старайся избегать сложных положений, предусматривай их что ли. Не каждый выходит победителем. Иди, приводи себя в порядок.
— Разрешите на прыжки?
— Ни в коем случае.
ДЕРЖУ ОТВЕТ
К комбату вызвали через час в ту же канцелярию. Съежился, когда входил в неё. Сейчас узнаю, какое заработал взыскание. Доложив о прибытии, снова рассказывал.
Патяш без шапки, в распахнутой шинели стоял за столом, барабанил пальцами по нему, изредка бросал короткие взгляды, словно убеждаясь, правду ли говорю.
Когда я закончил, он с нажимом сказал:
— Выходит, променяли службу на проводы? Из-за незнакомой девушки совершили тяжелейший проступок — опоздали из увольнения на целых пять часов. Да это можно считать дезертирством, а за него судят!
Я молчал, не зная, что и сказать в свое оправдание. Да и что скажешь? Кругом виноват. Вот только с дезертирством не согласен. Всю ночь же бежал в часть…
— Мне стыдно говорить вам такое — секретарю комсомольской организации роты, но приходится быть откровенным и называть вещи своими именами. Запомните, я с руководителей спрашиваю строже, чем с рядовых. Беда ваша в том, что вы не представляете, к каким отрицательным последствиям может привести этот проступок. Накануне выпускных государственных экзаменов и в период работы в училище московской комиссии. Ведь о нём известно всем вплоть до начальника училища. А тот не знает, что вы опоздали из-за благородных побуждений. Дежурные по училищу такое не докладывают… Да и подумайте сами, какая будет у нас воинская дисциплина и боевая готовность, если каждый из увольнения будет опаздывать и ссылаться на то, что защищал от хулиганов свою девушку!
Насколько я знаю, вы кандидат на окончание училища с отличием…
Так вот, вас могут лишить его.
Патяш многозначительно посмотрел на меня.
Еще хуже: всех выпустят лейтенантами, а вас — младшим лейтенантом!..
Екнуло сердце. Неужели?! В голову никогда такое не приходило.
— Вот об этом надо было думать, когда решались на проступок… Идите, курсант Ушаков, и знайте — ваша судьба сейчас целиком зависит от решения командования. Какое получите наказание — узнаете позже…
— Есть! — ответил хмуро, четко повернулся кругом и вконец расстроенный вышел из канцелярии…
Целый день ходил по опустелой казарме неприкаянным в ожидании своих товарищей. Но их не было и не было: видимо, из-за метеоусловий прыжки с часу на час откладывались.
Мрачные мысли одна за другой лезли в голову и я не знал, как от них избавиться. Читал — не читалось, писал — не писалось, занялся комсомольской документацией — не работалось. Вот и ходил из угла в угол, не находя места. И всё из-за слов комбата, колокольным звоном отдававшихся в мозгу. Век бы их не слышать!.. Ведь если такое случится — пропало всё, чем жил, к чему стремился. В Синарск не заявляйся! Родные и знакомые все глаза вылупят. Учился, учился, разные поощрения получал и-и… младший лейтенант!.. А как идти к Лильке?.. Лишь взглянет брезгливо да передёрнет плечами. И чёрт дёрнул опоздать!.. А может, комбат пугает? Все же первое нарушение, но какое?!.. Но все-таки будет несправедливо, если так жестоко накажут. Конечно, они правы — нельзя опаздывать из увольнения. Но я же не мог поступить иначе. Что тут не понять?.. Еще в Синарске в 10 классе тоже выручил незнакомую девушку, подвернувшую ногу. Тащил с километр по сугробам ночью. А тут девушка друга, считай, знакомая. Не мог же ее бросить, оставить бандюгам, предать? Ведь армия сама защищает народ от бандитов? А я, курсант, без пяти минут офицер, почему-то не должен защищать.. Зачем тогда быть военным? Тем более офицером? Зачем тогда поступал в училище? Чему в нем учился?..
«Плывет наша лодочка шальная,(Доносится из прихожей)
куда ее теченьем занесёт? Эх, курсачья жизнь такая, да! да! От дембляхи ничто нас не спасет…»(Телефонный звонок).
— Дежурный по пятой роте курсант Пекольский!.. Старшина должен прибыть в карантин?!.. Есть! Передам!..
Карантин… пополнение… Вспомнилось прошлое.
ДЕНЬ СЕГОДНЯ НЕСЧАСТЛИВЫЙ
— Подъём! — негромко, но чётко сказал кто-то внизу. — Подъём, скоро станция Снегирь и нам выходить.
Проснувшись, я лежал с минуту неподвижно. Прислушивался к голосам, к однообразному мерному перестуку колес, к храпенью спящих. Не сразу понял, где я и куда еду. Потом вспомнил — в училище в Надеждинск.
Спустился на пол. Тыкаясь из стороны в сторону, (вагон нещадно качало) прошел в тамбур, где, как всегда, было холодно и темно.
Поезд замедлил ход. В открытую дверь ворвался палючий ветер, пахнущий едкой угольной гарью, прогнал остатки сна. Замелькали огоньки, поезд заскрежетал и остановился. Парни друг за другом стали спускаться на заснежённый перрон.
— Всем, кто в училище, подойти ко мне! — раздалось рядом.
Через несколько минут колонной по два двинулись по узенькой тропинке к поселку. В утренних сумерках справа и слева чернели какие-то домишки, заборы, изгороди. Миновали решетчатые металлические ворота с домиком об одно окно и враз очутились на широком шоссе. Слева потянулся густой заснеженный березняк, справа — голая, унылая, сугробистая степь. Оттуда дунул ветер, поднял белесую снежную круговерть и бросил в лицо.
Надвинули шапки, расправили воротничишки. Наклоняясь вперед, отворачивались от бьющего в глаза ветра и слепящего снега.
Колонна неожиданно остановилась. Подняв голову, заметил впереди сбоку многоэтажное бело-желтое здание. Во все глаза я смотрел на него и не мог уловить подлинных размеров. Ряды окон растворялись вдали в беломутной колеблющейся завесе снега.
Вот так громадина?! Сроду не видел таких. Наверное, училище, учебный корпус?
Тут колонна снова двинулась по шоссе. Приняв влево, остановились у белого одноэтажного дома.
Друг за другом входили в большую комнату (карантин), заставленную от дверей и до самых окон двухъярусными голыми койками…
Рашид — друг по школе, где-то уже разузнав, рассказывал:
— Училище ДА[1], выпускает штурманов.
— А что это такое?
— Толком не знаю, но говорили — летчик, член экипажа, прокладывает курс самолёта и бомбит.
— Но самолётом-то он управляет?
— Кто говорит, иногда управляет во время бомбометания, кто — нет.
— Но если не управляет, то что это за лётчик? — протянул я разочарованно.
— Не знаю, кто говорит, что это лётчик-наблюдатель. Летнаб!
— А что такое ДА?
— Откуда я знаю, по-видимому, авиация какая-то, — улыбнулся Рашид.
…— Новобранцы! Выходи строиться на медкомиссию!
Санчасть оказалась рядом. Обнаженные до пояса парни с одеждой в руках ходили по кабинетам. Возле терапевтического я встретил Рашида. Тот одевался неторопливо в полутёмном прохладном коридоре. Вздрогнул и резко обернулся, когда я положил руку на его тёплое плечо.
— А-а, ты, — сказал невесело. — А я — все, еду домой.
— Как?! Не прошел комиссию?
— Сердце подвело, а в Среднегорске был годным. Видно, день сегодня несчастливый — тринадцатое.
— А я, удивительно, прошел. Не знаю — то ли плакать, то ли радоваться.
— Радуйся, конечно.
— Так чему? Ошибся доктор. И в Ленинграде и в Среднегорске говорили — не годен. Завтра еще зайду, справку покажу — сразу отпустят. Может, завтра поедем?
— Нет, я сегодня. Поезд через три часа…
В карантине стало просторно. Парней после комиссии половина осталась. Подумать только, самых рослых, здоровых на вид ребят забраковали. Собрав свои пожитки, они группами отправлялись на вокзал.
…Я, проводив Рашида, присел на койку.
Вот ведь, меня сюда привез, а сам уехал. Как же выбраться?.. Дома мама и Галя ждут — не дождутся, да и училище-то так себе. Было бы летное, так радовался, что прошел, а то какое-то штурманское?!.. Вот дядя Володя был летчик!..
Утром снова были в санчасти. Набравшись духу, зашел к терапевту, показал справку из мореходки об аритмии, но… безрезультатно.
Он, прослушав и простукав меня, признал годным.
— Годен?! Да вы что?! — почти возмущенно воскликнул я.
…Потоптавшись на месте, «убитый» вышел из кабинета. Плюхнулся на стул, задумался. Выходит, опять оставаться, но сегодня хотел домой, всех заверил, завтра подумают — болтун. А если подойти к доктору и попросить. Что хорошего, если через полгода по здоровью выгонят из курсантов?!.. Но доктор не напишет. Но, может, других не пройду…
К огорчению, остальных врачей я прошел быстро, без сучка и задоринки…
Неизвестно, кто поусердствовал: то ли забракованные по здоровью, то ли солдаты в столовой, то ли старые курсанты, которых почти не видели, но в карантине вспыхнули резкие разговоры.
— Не были в училищах и это не училище! — слышались возгласы.
— Пока не поздно, надо бежать отсюда и чем быстрей, тем лучше!
— Но как убежишь, когда документы забрали, а медкомиссию прошли?
— А на что мандатная?! Не имеют права держать, если скажешь, что не хочешь учиться! И потом, что это за учеба?! Добро бы на летчика, а то на штурмана! Вечно быть подчиненным и никогда командиром!..
Вечером в полупустой карантин пришел коренастый лейтенант. Переходя из кубрика в кубрик (проходы между двухъярусными койками), он беседовал с нами.
— Вы даже не знаете, куда попали! Единственное в стране краснознаменное училище штурманов дальней авиации. В 1944 году за успехи по выполнению ответственных заданий командования…
— А вы кто будете?
— Помощник начальника политотдела по комсомолу. Я слышал, кое-кто из вас, наслушавшись всяких разговоров, порочащих училище, не хочет быть курсантом. Предупреждаю, сделаете ошибку, если уйдете от нас. Вы же не знаете, что за работа и служба вас ожидают в будущем?.. А они романтичны и увлекательны. Вот завтра-послезавтра к вам придут штурманы наших частей, так они подробно расскажут о ней. А сейчас кое-что скажу я… Тридцать семь наших выпускников — Герои Советского Союза. Так что учебу в нашем училище считайте за честь. Ваш выпуск ускоренный, учиться всего два года, а не четыре, как учатся обычно курсанты. Так что считайте вам повезло!..
— Зато они с высшим образованием выпускаются, а не со средним, как мы!
— Ну и что?! И вас и их одинаково примут в академию, если сдадите экзамены. А там сравняетесь или даже перегоните. Зато сейчас вы в два раза быстрее получите звание лейтенанта, чем они. Что выгоднее, разумнее, прикиньте…
Конечно, все, что он говорил, было для нас новым. Да и что для семнадцатилетних не новое?.. Мы же ничегошеньки не знаем, кроме школы. Поэтому я стараюсь больше слушать, запоминать.
Лейтенант рассказал, какими льготами пользуется летный состав. Его слова произвели впечатление.
— А кто закончит училище с отличием через два года, имеет право вне очереди поступить в академию…
Вот это для меня было самым интересным. Потом лейтенант отвечал на вопросы и уже, прощаясь, заметил:
— Завтра на мандатной снова встретимся. Теперь, надеюсь, кое в чем разобрались и не будете слушать болтунов.
Надев куртку, я вышел на улицу, чтобы в тиши ночи обдумать свою жизнь и дальнейшую судьбу. Крепкий морозец давил землю, щипал щеки, склеивал ресницы. Чистое, свободное от облаков небо сверкало затейливыми россыпями звезд, похожих на мигающие елочные огоньки. Сухой рассыпчатый снег скрипел под ногами.
Итак, пора решить, как вести себя на комиссии. Подсчитав все плюсы, я с уважением поглядел на возвышающееся в темноте здание с рядами бесчисленных желтых окон, издали похожих на иллюминаторы гигантского парохода. За которыми-то из них предстоит жить, если останусь? Говорят, где-то там уже есть курсанты будущей роты, приехавшие ранее. Уже давно обмундированы и только нас дожидаются…
Минусов оказалось больше и самый главный — приобрету профессию, о которой ничего не знаю. Возможно, придется менять ее, еще не закончив службу. Приеду в отпуск, знакомые и друзья обязательно спросят: ты летчик? Самолетом управляешь?.. Что отвечу?.. Врать не умею. Скажу штурман — посыплются новые вопросы. Что такое? Слыхом не слыхивали. Наконец, поняв, вздохнут с сожалением, а то и с пренебрежением. И так всю жизнь незаслуженная обида и пытка… Так что же завтра делать?
Черт его знает! Плюс то, что год не теряю, а уйду — потеряю, да и до осени жить на иждивении матери стыдно. И неизвестно, поступлю ли на летчика из-за того же здоровья?..
Мороз жег ноги и руки, а я все ходил и ходил… Вот ведь, как устроена жизнь: и хорошо бы поступить и плохо одновременно. Тогда так решу: если спросят, желаю ли учиться — отвечу «нет» и поеду домой. А если не спросят — тогда останусь. Может, профессия и понравится, все же летная и очень уж заманчиво через два года в 19 лет офицер! Смогу помогать маме и Гале… В общем, завтра все решится…
КАКОЙ Я?..
Утром были на мандатной. Снова привели в «коробочку» — так здесь называют громадный учебный корпус. В комнату, где заседали члены комиссии, вызывали по одному. Я равнодушно глядел на выходящих улыбающихся ребят. Мне было все равно. И к приему и к отказу я был готов. Все зависит от вопросов комиссии. Без особого волнения шагнул через порог и остановился. Четыре офицера сидели за столами.
— Ушаков Борис, — представился и не удержался, покраснел.
— Так, так, — оглядел меня оценивающе председатель, подполковник. Полистал, видимо, мои документы в скоросшивателе. Пом по комсомолу, наклонившись к подполковнику, тихо говорил:
— …прошел, школу окончил… вот аттестат… — отец политработник-офицер, погиб… Мать и сестра коммунисты, сам — комсомолец.
— Ну, ну, — одобрительно покивал подполковник и снова теперь уже ласково посмотрел на меня.
— Свободен, — сказал неожиданно.
Я растерялся. А где ваши традиционные вопросы: желаю или не желаю учиться в училище?.. Почему не задаете?
— Свободны, — повторил подполковник. — Пусть входит следующий.
Я повернулся и вышел.
Итак, судьба определилась — остаюсь в училище. Ну не расстраиваться, может, и к лучшему.
Что ж, пожалуй, первому начальному этапу жизни — детству и юности, фундаменту что ли, пора подвести итог.
За 17 лет не добился, чего желал. А стоило поступить в мореходное, как цель жизни была бы достигнута… Кто виноват в провале? Разумеется, сам. Надо больше было копить знаний, крепить здоровье все 10 лет, а не только под конец учебы. Вывод на будущее: работать и работать, тогда придет успех…
Вообще-то невезучий я здорово. Ведь все 10 лет хотел отлично учиться, но не смог, хотя учил, порой, добросовестно — не хватило ни способностей, ни ума. Со 2-го класса любил Лильку Рукову и был нелюбим. Всегда мечтал быть сильным, занимался даже акробатикой, но лишь окреп. Хотел быть ловким и страдал от неловкости. Хотел быть рослым, стройным, но остался таким, какой есть. Моментами бываю трусливым, иногда страх сковывает, холодит сердце, лишает воли. За такие минуты ненавижу себя. Не умею спорить, доказывать, хотя чувствую и знаю, что прав. Люблю футбол, но играю плохо. Не музыкален. И танцую плохо. От этого еще больше робею, боюсь приглашать девушек, не переношу их отказов, чувствую себя опозоренным у всех на глазах…
Из-за этого и радостей-то в жизни почти не было. А почему так получается? В чем корень зла?.. Таким родился.
Один вид вызывает пренебрежительное и даже презрительное отношение, убеждает в неполноценности… А ум? До сих пор твердо не знаю, есть ли он? Ведь учился неровно: в 5—7 классах плоховато, а до и после хорошо. Был даже кандидатом на медаль… Что я за человек? — мучал вопрос еще в школе.
Вывод: впереди ждет еще более трудная взрослая жизнь. И я должен продолжать развивать ум, силу, работоспособность, добиться уважения окружающих, стать человеком наконец. И если добьюсь этого, то использую свои возможности на благо таких же неудачников, как я. А их большинство…
Несмотря на бесчисленные невезения и недостатки, к будущему отношусь оптимистично. Основания есть. Ох и трудно было, но в девять лет (проявил волю, горжусь!) бросил курить. А ведь покуривал с семи. Рос среди хулиганов, воришек, сквернословов, но таким не стал. Это тоже что-то значит… Никогда никому не завидую, радуюсь чужим успехам. Добр, приветлив, хотя некоторые считают доброту глупостью, а вежливость слабостью. Драк не люблю, но и не боюсь. От обиды могу зареветь, хотя никогда не плачу. Стыдно. Только глазами усиленно моргаю. Исключая негодяев, всем желаю добра. Еще со 2-го класса знаю, кем буду и что хочу. Правда, в 9-м уточнил — помимо военного, стать путешественником. Поэтому и в мореходку поступал — хотелось поглядеть мир, набраться впечатлений. А уж потом!.. Есть еще, еще одна задумка…
КАКИЕ МЫ?..
Прошло три дня. Понемногу я стал осваиваться с курсантским положением и знакомиться с сослуживцами.
Обычными и все же интересными оказывались они.
Сразу же внимание привлекли командиры. Мой — Павел Магонин не шел ни в какое сравнение с другими главным образом из-за внешности. Невысокий, кривоногий, коренастенький, с черным ежиком волос. Узкоглазое, коричневое лицо с приплюснутым носом оканчивалось тяжелой низкоопущенной челюстью с вытянутым подбородком. Самый заметный — командир 22 классного отделения Апрыкин — плечистый, выше среднего роста. Крупный, чуточку вздернутый нос придавал лицу самоуверенное, даже нахальное выражение. Да и, пожалуй, таким Апрыкин и был. С утра и до вечера слышался его резкий, густой оглушающий голос, перекрывавший все звуки в казарме. Как видно, он гордился им и тем, что был сыном полковника, — надоедливо всем показывал свое врожденное умение командовать. Когда он разражался тирадой, постоянно воспитывая курсанта Пекольского, курсанты других отделений принимались хохотать и подначивать:
— Так его, Апрыкин! Не давай спуску! Курсант Пекольский! Пять нарядов вне очереди! Курсант Пекольский! Вы разгильдяй!..
Но что удивительно, Апрыкин нисколько не смущался и продолжал под шум и хохот «громить разгильдяя». Отведя душу на Пекольском, принимался за другого подчиненного. Чаще за Черновидского, полностью соответствующего своей фамилии. Чернявый, низенький: кареглазый, с толстыми негритянскими губами и крупным широконоздрым носом, тот постоянно делал мелкие нарушения. То сядет на заправленную койку, то, прикорнув на ней, задремлет, то опоздает в строй, то не почистит сапоги, то плохо свернет и уложит форму и так без конца. А Апрыкину есть повод показать себя.
Командир 21 классного отделения — симпатичный, представительный Желтов со светлыми волнистыми волосами был немногословен. Но отделение, составленное, в основном, из надеждинцев, побаивалось и уважало его намного больше, чем 22-е своего Апрыкина. Неприятным, правда, был холодный, высокомерный, немигающий взгляд его серо-голубых глаз. Но разве это недостаток?.. А старшина так считает его своим замом, оставляя за себя. Еще более разными были курсанты. Рота напоминала слоеный пирог. Я был, пожалуй, самым молодым, а самым старым курсант Ромаровский — здоровенный, волосатый детина, которого в казарме видели очень редко. 6 лет — таков разброс курсантских годов рождений. От двухметрового красавца Лавровского до полутораметрового веснушчатого Женьки Середина — таков диапазон ростов.
Как ни странно, отличались мы и образованием. То ли из-за просчета «верхних» кадровиков, то ли генштабистов, то ли по другим причинам возникла острая нехватка курсантов, вызвавшая запоздалый неплановый набор, отсутствие вообще каких-либо, не говоря уже о конкурсных, экзаменов, что позволило попасть в училище всем, кто мало-мальски годен был по медицине и прошел мандатную комиссию. Больше всего было тех, кто не поступил летом в вузы. Некоторые недавно были студентами, но ушли из институтов: одни — в поисках романтики, другие — «хвостатые», не одолев наук.
Многие, видно, не имевшие среднего образования, вместо аттестатов зрелости предъявили справки со школьными штампами.
И наконец, великовозрастные «афганобоязники», по разным причинам не попавшие в свое время в армию, а точнее уклонявшиеся от нее, решили сейчас лучше идти в училище, чем рядовыми в пехоту, откуда дважды-два загудеть в «Афган».
Были и настоящие перекати-поле. За полгода и более они побывали в нескольких училищах, но нигде не задержались. Пехотные и саперные, связи и строительные, пожарные и артиллерийские, танковые и морские, автомобильные и летные — все было, как пять пальцев, им знакомо. Теперь ветер странствий пригнал их в Надеждинск. Только надолго ли? Некоторые уже стали рваться из училища, особенно «нос» — Илюшин, прозванный так его друзьями Лавровским и Ромаровским за длинный массивный нос, похожий на морковку.
Наедине он просто брюзжал, видимо, для самого себя, а окруженный слушателями задыхался от красноречия. Любил красоваться перед меньшими ростом. Глядел свысока и еле-еле цедил, отвечая на вопросы. А чаще кривил губы и безнадежно махал руками: «Да что с вами, ребенками, говорить, все равно не поймете…» Все в роте и училище было не так, как нужно. Все не по нему. Один он все знал, все правильно делал, а кругом одни дураки.
Как я понял, он писал рапорты об отчислении (и его вызывали на беседы-разносы), но своего пока что не мог добиться.
С трудом приживались «моряки»-шатуны, успевшие побывать в морских училищах. С утра и до вечера они их хвалили и в пух и прах разносили здешнее. «Просоленные морские волки» вместо белых нательных рубах носили с оглядкой тельняшки — боялись старшины. Распевали только морские песни, щеголяли морскими терминами, которых сами толком не понимали. Обычно каждый разговор начинали словами: «Вот во флоте совсем не так. Там жизнь, а здесь одно прозябание».
Заметно выделялся из них Аттик Пекольский — худощавый болтливый парень среднего роста с наглыми водянисто-серыми глазами навыкате, постоянно певший блатные песни. Не случайно Апрыкин постоянно его воспитывал.
Правда, уходить из училища «моряки» не собирались. Просто им нравилось быть на виду, а каким способом — неважно…
* * *
— Дежурный по пятой роте… — прерывает мои воспоминания… — курсанта Ушакова?! Есть! Передам!..
В спальное помещение заскакивает Пекольский. Ворочает глазами — «шарами». Увидев меня у кровати за тумбочкой, мелконько смеется, точно блеет: «Хе-хе-хе, слышь, секретарь! Тебя к дежурному по училищу к девяти ноль-ноль. Понял?»
Снова звонит телефон. Пекольский исчезает.
— Слышь, секретарь! — кричит через минуту. — Не спеши выполнять приказание, ибо последует команда отставить!..
Я вновь погружаюсь в полудрему воспоминаний.
* * *
Первые армейские дни особенно длинны и тяжелы. Трудно привыкнуть к распорядку и дисциплине, хоть и настроился на них. Большинство новобранцев с нескрываемым удивлением и завистью глядели на редких «стариков», прослуживших от полугода и более солдатами. Один вопрос стоял в наших глазах: и как те столько вытерпели? Разве это возможно?.. «Старики» лишь посмеивались: «И вы привыкнете. В армии время летит быстро».
Но какое уж там быстро, когда еле-еле первую неделю доживаем, а кажется, что целых пять лет прошло, как не были дома…
Тоска давила всех, требовала выхода. Он был найден — вся рота писала письма родным и знакомым и часто незнакомым. Все свободное время уходило на это. Трудно жить в коллективе, не имея хотя бы близких товарищей. Каждый выбирает друга по себе. Для меня все были одинаковыми незнакомцами, поэтому прямо с «порога» я внимательно изучал курсантов, выбирая похожих на себя. Я всегда был за дружбу с хорошими людьми, лишь бы принимали на равных. Но, как известно, помимо равенства, дружба — это общие интересы. Поэтому требовалось время, чтобы разобраться в людях.
Часто бывало, человек нравился какой-нибудь чертой характера. А я по ней делал вывод о нем в целом, считая другом из друзей, выворачивался наизнанку, впуская во все тайники души.
А когда узнавал человека больше и глубже, то оказывалось, что тот совсем не такой, каким его представлял. И в первую очередь не глупо откровенный, как я. Наступало горькое разочарование и досада на «друга», а главное на себя. Не знаю, достоинство это или недостаток, но я всегда отношусь к людям, как к себе, и часто лучше, если вижу их превосходство (не мнимое, а действительное) в уме, внешности, в росте, в характере…
Сосед по койке Вострик — черный и остроносый, как грач, вроде ничего, но диковат больно и веет от него какой-то скрытой силой. Когда злится, то в темных глазах горит бешенство. Любит рассказывать и громко заливисто хохотать.
Другой сосед — Середин, или как зовут «старец Середа» мал, да удал. Родом из какой-то суздальской деревни, он так и сыплет, так и строчит с владимирским оканьем, пословицами и поговорками, анекдотами, шутками и прибаутками и все на матерщинный лад. Я не девица, но мат не люблю — ухо режет. Да и говорить одно и тоже, на одну и ту же женскую тему не хочется. А многие слушают и гогочут, приговаривая: «Во дает старец Середа!» — и качают головами…
Трудно привыкнуть к отбою и особенно к подъему. Не знаешь, куда и на что броситься, когда дежурный или дневальный дичайше голосят: «Подъе-е-ем!» И все же отдельные курсанты, как Черновидский, вместо прыжка с койки натягивают на головы одеяла и пытаются «добрать» еще минутку. Но командиры и старшина тут же засекают лежебоку. Чаще других Апрыкин подходит к койке, срывает одеяло и жестким голосом орет:
— Курсант Черновидский, подъем!
И лишь после персонального приглашения тот не спеша поднимается и начинает одеваться с ворчанием, что ему дорого обходится.
Однажды я проснулся раньше, чтобы успеть одним из первых стать в строй и выскочить на зарядку. Иногда опаздываю. Тихонечко, озираясь по сторонам, поднялся, стянул с табуретки бриджи и юркнул под одеяло. Стараясь не скрипеть, натянул их и притворился спящим. Прислушиваясь и приглядываясь к храпящей роте, обнаружил, что отдельные курсанты тоже не спят и тоже, как я, готовятся к подъему.
Хорошо командирам. Их никогда не бьет по ушам одуряющий крик. За десять минут до общего подъема их будит дежурный. И они, потягиваясь, всегда спокойно одеваются. В этом я лично убедился, как и в том, что одеваться раньше положенного нельзя — нарушение дисциплины. Апрыкин приказал Пекольскому раздеться, положить бриджи на место и снова лечь в постель. Да еще пригрозил парой нарядов вне очереди…
Никогда не забуду, как старшина делал из нас ванек-встанек. Только улеглись, как «чемпионы» — болтуны-апрыкинцы устроили какую-то свару. Ну Иршин и приказал:
— Рота-а, подъем! Выходи строиться!
Все ошалело вскочили, едва построились, как последовало:
— Рота-а, отбой!
Кинулись к койкам. Едва накрылись, как снова:
— Рота-а, подъем! Выходи строиться!
Теперь уже кое-кто с ропотом лихорадочно одевался. И опять только построились:
— Рота-а, отбой!
И так еще дважды…
— Прекратить разговоры! — набычившись, гремел Иршин. — Иначе прикажу еще раз прогуляться!
Ропот стих, но, видно, недостаточно. Иршин рубанул:
— Рота, выходи во двор на вечернюю прогулку!..
Унылые, тихо поругиваясь, побрели одеваться.
На дворе ни души. Все курсанты уже давно спят, одни мы — «пятиротники» на ногах. Сияют звезды, издевательски подмигивая, да темнота окутала все кругом. Понуро, без песен шли по дороге. Целых полчаса, а то и час сна сами у себя украли. Правда, около санчасти старшина повернул роту назад, но настроение от этого не повысилось…
Пулей летели к койкам, когда дали отбой.
ЕЛИФЕРИЙ
На организационном комсомольском собрании я впервые высмотрел свое ротное и батальонное начальство.
Небольшого ростика, крепконький командир роты старший лейтенант Умаркин четко и понятно зачитал доклад, смысл которого сводился к одному: учеба будет трудной, напряженной и курсанты должны приложить все силы, чтобы отлично овладеть сложной профессией штурмана. Затем выступили с заверениями об отличной учебе четверо курсантов, по-видимому, заранее подготовленные. Складно говорили. Я бы не смог так, обязательно разволновался и запутался бы. Не дал бог ораторского таланта, определяющего, говорят, судьбу и счастье человека. Постоянно слышу Апрыкина: «Надо больше выступать с умными дельными предложениями, тогда тебя заметят и будут выдвигать…» Ну ничего, трудом завоюем честь и славу. Настанет учеба, тогда себя покажем. А выступать никогда же не учили, да и ни разу не выступал перед такой огромной аудиторией в полтораста человек. От одного их взгляда жилки трясутся. Вроде не трус, но не знаю, почему…
Последним к трибунке вышел командир батальона подполковник Патяш — крупный, тяжеловатый с черными редкими волосами и проседью на висках. Говорит звучно, веско:
— Я как лев давил душманов-гадов! И вас, молодое поколение будущих штурманов — нашу смену, призываю к этому, если потребуется!..
В бюро избрали семь человек. Что за люди, по каким признакам и качествам их подобрали, никто, конечно, не знал. Что ж, командованию видней.
Из всех членов бюро запомнился Елиферий Зотеевич Шмелев. Елиферий Зотеевич — как только такое имя заимел — атлет. С высоким прямым лбом, вьющимися белокурыми волосами, с открытым пристальным взглядом глубоко посаженных глаз. Говорит — приятно слушать. Видно, что умница.
При выдвижении кандидатур произошел курьез. Когда назвали Шмелева, Елиферий встал:
— Товарищи! Нельзя меня выбирать. Имею взыскание.
На мгновение все притихли — не часто услышишь такое — потом посыпалось:
— Что за взыскание? За что? От кого? Снято или нет?
Елиферий обвел всех взглядом, вскинул голову:
— Позапрошлый год, работая после техникума на Лисовском руднике, я был членом райкома ВЛКСМ. Бригады золотоискателей в тайге одна от другой далеко. Пробраться к ним тяжело, можно лишь верхом на лошади и то не всегда — кругом болота, гнус. И к концу года сложилось нетерпимое положение с уплатой взносов. Мне и еще двоим поручили собрать их. Но попробуй собери?! Приедешь в бригаду, а в ней по нескольку лет не собирали взносы. Начинаешь принимать, а человеку надо платить огромную сумму. Он выкладывает билет, а платить отказывается. Ну и на бюро нам вкатили по строгому выговору.
— Но взносы-то собрали?
— Часть собрали…
— Все ясно! Оставить в списках! Оставить! — понеслось кругом.
Вот так Елиферий?! Еще больше понравился роте. Даже взыскание сработало на него, укрепило авторитет. Теперь понятно, почему носит такое необычное имя. Наверняка, родом из кержаков…
Из выступления комбата узнали, что плановые занятия начнутся через неделю. Осенью приступим — это ж здорово! через каких-то восемь месяцев — к полетам и прыжкам с парашютом.
В НАРЯДЕ
* * *
— Новый наряд, выходи строиться на инструктаж! — с удовольствием вопит Аттик.
* * *
В мой первый наряд Аттик тоже был дежурным. И также, упиваясь, орал. Тогда тоже, начищенные и наглаженные, построились в прихожей. Аттик, придирчиво оглядев нас, сплюнув несколько раз в сторону, хамовато сказал:
— Я дежурный — ваш начальник, вы — мои дневальные — подчиненные. Думаю, свои обязанности выучили. Проверять не буду, проверит старшина. Все мои команды и приказы выполнять безоговорочно и добросовестно. Кто будет сачковать — скажу старшине и отправлю к командиру отделения. Вопросы?..
— Не-ет, — раздраженно протянул Вострик, отворачиваясь. Его коробил угрожающе-самонадеянный тон «моряка».
Аттик зло посмотрел на него.
После развода нарядов по дороге в казарму Аттик инструктировал:
— Принять у старого наряда все по описи. Заглянуть во все уголки, чтоб нигде не было мусора. Если есть — пусть убирают, а то заставлю вас. А вам и так придется вкалывать, как проклятым. Я люблю чистоту и порядок!
Вострик снова отвернулся и угрожающе запыхтел. Не нравится ему «моряк» с бесцеремонным обращением и полководческими замашками.
Ведь такой же курсант, а назначили дежурным на сутки и уже гнет из себя начальника, поглядывает и говорит свысока. Непонятно, за какие заслуги и отличия назначили?.. За то, что может рапорт отдать? Так Вострик тоже может… Да и я, насмелюсь, так смогу, хоть и трудновато будет и покраснею жарко. А от Аттиковой болтовни один вред для роты. Неужели старшина не видит и не слышит?.. Сколько курсантов против училища настроил. Многие даже рапорта написали об отчислении. И на тебе?! Будь дежурным, начальником! Какая-то непонятная логика, логика наоборот, антилогика. Может, и в дальнейшем так будут выдвигать? Не за успехи и заслуги… Удивительно, каждый стремится быть начальником. И больше всего разгильдяи, бездельники, болтуны. А по делам они вечно должны ходить в подчиненных и рядовых!.. А может, зря несу на Пекольского?.. Инициативен, энергичен, расторопен. И в наряде, похоже, не впервые. Поживем — увидим, лишь бы к нам относился как к людям, а не как к пешкам…
Приняв имущество, я пошел проверять чистоту. Все, вроде, в порядке, только в урнах на лестничной площадке много мусора.
Старый дневальный Потеев, плотный, мордатый, узкоглазый, пнув одну из них, убеждающе заговорил:
— Машина еще не пришла, как придет вынесу, а пока прими такими.
— А не обманешь? — спросил недоверчиво.
— Ты что? Оскорблять? Верить надо людям, младенец! — строя гримасы, возмутился Потеев — друг Магонина с детства. Тоже с Чукотки, тоже бросил какой-то московский институт и в конце декабря первым приехал в училище.
Через полчаса я стоял у тумбочки, глядел на часы и «распорядок», вывешенный на доске, и частенько, когда не было дежурного, кричал, как и все дневальные:
— Рота, приготовиться…
Первый раз, признаюсь, пришлось сделать большое усилие над собой, чтобы преодолеть робость и крикнуть громко. И все же команда получилась дрожащей, просительной. Старшина, проходивший мимо, рассмеялся.
— Чего раскраснелся? Боишься?
В ответ я глупо улыбнулся и еще больше покраснел. Что поделаешь, сроду не приходилось командовать такой массой людей. Естественно, робеешь. Но постепенно освоился и остальные команды получались лучше.
Под конец смены подскочил Пекольский — красный, злой.
— Ты принимал лестницу?
— Я, а что?
— Почему мусора в урнах полно? Что, не заметил?
— Так Потеев просил, сказал, что вынесет, как будет машина.
— Какая еще машина? — удивился Аттик.
— Ну мусорная что ли…
— Эх, дурашка ты дурашка! Провели тебя, как последнего фраера! — закачал головой Аттик и сплюнул под ноги. — Нет никакой машины и не было! Мусор вынесешь и высыпешь в ящик в правом углу у кочегарки коробочки. Сейчас же иди!
— Так Потеев сходит, он обещал…
— Ну проси его, пусть идет. Только он не дурак и не пойдет, а ты впредь умней будешь! — зло захохотал Пекольский.
— Но как же?! Он обещал! Потеев!.. Курсант Потеев, на выход! — закричал я во все горло.
— Что надо? — поднялась неподалеку над тумбочкой белесая голова.
— Почему мусор не вынес? Ты же обещал!
Потеев рассмеялся так, что не видно стало щелочек глаз. Пренебрежительно махнул рукой.
— Сам вынесешь! Не надо хавальник раскрывать!
— Но ты же обещал?! — возмутился я.
— Покричи еще! — зло погрозил кулаком Потеев.
— Вот услышит старшина, снимет с наряда и отправит гальюн драить. Весь в дерьме по уши вымажешься…
Вот и поверь людям?! А как клятвенно уверял?! Кулаком в грудь бил! Оскорблялся!.. Ну хорошо, действительно впредь умней буду… Не могу же я драться и силком тащить его к урне. Он выше, сильней, здоровей намного. Кулаки с голову ребенка, не то что у меня, маленькие. Вот оно «преимущество» слабого. Верно утверждал Ницше: «Сила выше права». Разве не так? Еще с детства каждый мальчишка знает об этом и в мире взрослых царят, к сожалению, такие же обычаи и нравы.
Но все это были только цветочки…
До глубокой ночи провозились с туалетом, наконец одолели. В умывальне делать нечего — лишь расплесканную воду собрать и пол вытереть.
Умывались с Ромаровским из заранее приготовленного ведра. Поливая друг друга, весело фыркали. Радовались, что мучения кончились.
Ромаровский философствовал:
— Как всякая объективная реальность, объективный труд не терпит дилетантизма. А реализовать его приходится субъекту с субъективным пониманием и отношением к объективной реальности. Отсюда, противоречие субстанций, гносеология которых диалектически непознаваема.
— Что? Что? — рассмеялся я. — Повтори, пожалуйста, отродясь такого не слыхал!
Ромаровский искоса взглянул, чуть улыбнулся, порозовел.
Забавный парень! И где таких слов набрался?
Интересно, он, сам понимает, что говорит или просто заумь, чтобы выделиться и обратить на себя внимание?..
Тяжело в наряде глубокой ночью. Ясно, не стоишь как истукан все два часа у тумбочки (сил и выдержки не хватает) а, накинув шинель, ходишь от дверей до дверей по коридору. И прислушиваешься, не идет ли дежурный по УЛО. Это хоть и маленькое, но нарушение, зато не уснешь.
Разные мысли лезут в голову. Ну и пусть, быстрей пройдет время. На севере за двумястами километров — Синарск. Тоже все спят: и мама, и Галя, и друзья. Ждали, ждали, так и не дождались моего возвращения. Письмо, конечно, уже получили. Первое мое письмо из армии. Завтра — послезавтра должен придти ответ. Затем от Кольки Суткина, Рашида…
С Колькой мы друзья со 2-го класса. Наш девиз: «Я — это он, а он — это я!» провозглашен мной два года назад. Колька — стройный, сухощавый — физически послабей меня. Крупнейший недостаток — заячья губа — таким родился — постоянно отравляет ему жизнь. Но в будущем он надеется устранить его: либо сделать операцию, либо отрастить усы.
В делах сердечных он тоже невезучий. С 8-го класса мучился от неразделенной любви…
Рашид пришел к нам в 9 класс, приехав из другого города. У Рашида постоянной симпатии нет. Ему все нравятся, лишь бы ласково поглядели. Один день хвалит одну, другой — другую и так без конца.
Я втайне изредка смотрел на друзей свысока и посмеивался. Кого любят? Неужели не видят, что лучше всех Лилька?!.. Самая умная, красивая. Танцует — заглядишься, поет — заслушаешься. Нет, серьезно, голос у нее сильный, мелодичный, густой, какое-то сопрано. Ей бы в консерваторию, на вокал, знаменитостью бы стала. Я как-то еще в 9 классе не выдержал и незаметно выпытал у Николая, почему Ленка, а не Лилька ему нравится. Тот вначале заледенел, а потом оттаял:
— Она, конечно, хороша, но не пара. Что толку любить безответно?
— Да, да, — радостно кивал я головой. Хорошо, что друзья не конкуренты. И тут же помрачнел. Вот если бы остальные парни так же думали. Но наверняка она им нравится и мои шансы мизерны. Ну и пусть… безответно, зато испытал счастье любить… Я, как ГСЖ из «Гранатового браслета» Куприна, счастлив тем, что люблю самую лучшую, а она, как княгиня Вера.
Вспомнилось, как были студентами Горного института. Проучились всего полтора месяца. Не понравилось, хотя и успешно сдали первые контрольные работы. Учиться и скучно, и нудно, и никакой романтики!.. Решили уйти. Долго не отпускали. Документы отнесли в Синарский горотдел КГБ для зачисления в школу иняз. К великому несчастью, вызова прождали два с половиной месяца и не дождались. Подавленные, хмурые, обескураженные в последний третий раз вышли из горотдела. Опять с треском провалилось задуманное! На следующий день Рашид разузнал в военкомате о наборе курсантов в Надеждинское авиаучилище. Уговорил сходить туда и меня. И-и вот… до сих пор краснею от возмущения и стыда…
С тревожным, неприятным чувством шел к военкомату по вызову и не ошибся. Капитан на пороге огорошил:
— Ты что, дезертировать вздумал?.. А за дезертирство знаешь, что полагается?.. Расстрел!!!
— Но я не служу еще, — покраснел, опуская голову.
— Молчать! — так резко крикнул и хлопнул ладонью о стол капитан, точно выстрелил, что я вздрогнул и сжался, словно от удара.
— Вот бумага, вот ручка, вот чернила. Пиши заявление на имя военкома, получай проездные и послезавтра отправляться. Все!
— Но не хочу туда поступать.
— Как это не хочу!? — угрожающе надвинулся капитан. — А я и не спрашиваю твоего хотенья! Тебе семнадцать есть? Есть! Туда не пойдешь — в солдаты отправлю!..
Капитан был старше раза в два и больше во столько же. Все в нем было крупно: и голова, и руки, и ноги, и тело. Жалобно скрипел стул, когда он поворачивался. Глаза мрачно горели, черты лица затвердели, стали жестче, кадык не шее прыгал вверх-вниз, руки сжимались в огромные кулаки. Ударит — убьет сразу. Холодком сдавило сердце, ледяным дождичком окропило спину. Никогда никто не разговаривал так сурово со мной. Даже крики учителей в школе были добродушным рокотом по сравнению с этой взбучкой. Там все было ясно. Ну поругают, да перестанут. И все пойдет по-прежнему. А здесь неизвестно, что могут сделать. Уж больно учреждение-то серьезное. Здесь не шутят. А капитан давил.
— Вот и пропадут твои три года. Ни в училище, ни в институт не поступишь… А почему в военкомат не приходил?.. Ты же знал, что я записал тебя.
— Но я же не давал согласия, — слабо защищался я. Было нестерпимо стыдно, что разносят в присутствии других. Слева за столом сидел, уткнувшись в бумаги, какой-то старший лейтенант, изредка взглядывавший. К тому же в жизни никогда ни с кем не ругался и не умею. А тут… еще пожилой человек, вдвое солидней. Разве мог я твердо возразить. Ведь всю жизнь вдалбливали — со старшими не спорь, они больше знают и опытнее, старших — уважай. И я всегда уважаю и не возражаю. А когда мне стыдно: теряюсь, глупею и ничего не могу ответить. Только переливаюсь красками, да молчу. Видно, нервишки слабые, не владею собой…
— Молчать! — снова выстрелил, хлопнув ладонью капитан. — Я не спрашиваю твое согласие!
Капитан впился в меня глазами.
— Думал отсидеться за мамкиной спиной?! Думал, не найдем тебя и оставим в покое!.. Да я бы под конвоем милиционера привел тебя сюда, посадил бы на поезд и отправил в училище… И сейчас это сделаю, если заартачишься. Хочешь, под конвоем милиционера отправлю?.. Весь город будет видеть и знать. Позору…
Вот сейчас я действительно испугался. Я видел, как хулиганов водили под конвоем в милицию. Милиционер всегда сзади на шаг. И шли почему-то не по тротуару, а всегда по обочине дороги. Наверняка, чтобы все видели — ведут арестанта. А позор-то какой?! Разговоров, пересудов на год хватало. Многие на тротуарах даже останавливались и подолгу глядели вслед, осуждающе качая головой.
— Позору не оберешься. До самой смерти помнить будешь! — гремел капитан.
— Хорошо, согласен, — сдался я, совсем сникнув. — Но только я все равно не пройду по здоровью.
Капитан умолк, вопросительно смотрел. Воцарилась тишина.
— В морское же ездил, не прошел. У меня и справка есть. А в летное, тем более. Там строже требования-то.
Капитан весело улыбнулся.
— Да бог с ним, пройдешь или не пройдешь. Ты только съезди, помоги разнарядку выполнить. А через день-два обратно вернешься. Пиши заявление…
Не в себе шел домой, обдумывал разнос. Плохо не знать законов! Любой запугает, сделает с тобой все, что захочет и добьется своего. Где их почитать? В суде?.. Дадут ли? В газетах почти не печатают. Капитан переборщил, конечно. Ему лишь бы разнарядку выполнить и наплевать на все мои мечты, желания. Может, имеет право с милиционером, но не в этом случае… А ты трус — языка лишился! А еще человеком с большой буквы хочешь стать. Пусть не умеешь спорить, возражать старшим, но не пугаться можешь?.. Что, не можешь!.. Ну раз так — стой в наряде и жди, когда кончится ночь…
ЗАНЯТИЯ
Через сутки утром в полном смысле был подъем физический и духовный. Радостные шли в корпус на занятия. Я, как и большинство, в нем не был ни разу, и невольные вопросы крутились в голове. Какой он?.. Снаружи-то красивый, впечатляющий, а внутри, наверное, еще лучше?..
Поднявшись по лестничным маршам на четвертый этаж, очутились в длинном, чуточку темноватом и узковатом коридоре, увешанном портретами, стендами, схемами, лозунгами. Интересно почитать, да некогда. Потом изучу. По обеим сторонам коричневые двери классов с номерными табличками и указанием профиля. В коридорах спереди и сзади колонны курсантских отделений. Шагают навстречу и попутно. С нескрываемым любопытством и высокомерными улыбками поглядывали на нас «старики». Они отличаются от нас, бритоголовых и желторотых, своими сравнительно длинными прическами, возрастом, уверенностью в поведении и умением носить форму с каким-то шиком…
После изучения уставов — физподготовка.
Робко, гуськом босые вошли в спортзалище — громадней казармы — и остановились у ближайшего турника.
Подошел преподаватель. По сравнению с нами — худыми и белотелыми — выглядит мифическим Антеем. Загорелый, красивый, мускулистый, держится царственно. Оглядев нас оценивающе, подошел к турнику и, повернув голову, сказал:
— Я хочу, чтобы каждый из вас научился делать вот эти упражнения так же легко, как я. Чтобы ваше тело подчинялось вам, а не командовало вами.
Незаметно подпрыгнув, повис на перекладине. Взлетел над ней, выполнил подъем переворотом, подъем разгибом, стойку на руках и, раскачавшись, дважды крутнул «солнце». Выполнив соскок-сальто, выпрямился и продолжил:
— Но для этого придется добросовестно поработать, через день тренироваться. Есть ли такие, кто может сделать эти упражнения?..
Мы смущенно засмеялись и вдруг кто-то сказал:
— Есть!
Смех оборвался, все повернули головы. Вострик?! С ума сошел!
Преподаватель улыбнулся:
— Прошу к перекладине.
Вострик вышел, остановился под ней. И все увидели, какое у него белое, словно берестяное, но мускулистое тело. Да-а, пожалуй, этот многое может. Не нам чета. Но вот Вострик «взлетел», повис на секунду, легко выполнил выход силой, и, раскачавшись, сделал три оборота «солнца». Соскок тоже сальто.
— Молодец! — похвалил преподаватель. — Будете мне помогать. Еще кто может?
Мы заверили: «Нет больше таких».
— Тогда приступим к занятиям.
После разминки курсанты по миллиметру в секунду с искаженными напряжением зверскими лицами, вылупив глаза, тянулись подбородками вверх к перекладине. И через один-два подтягивания обессиленные падали. Некоторые слабаки, вроде «старика» Женьки Середина, дотянувшись с помощью преподавателя или Вострика до перекладины, висели на ней белыми макаронинами и даже не пытались ни разу подтянуться. Так слабы были их вялые мускулы. Повисев ленивцем несколько секунд, срывались с гримасой боли.
Хороша физкультура. Раскрыла глаза на самих себя. Показала, чего стоим и на что способны. И обнаружилось, что ничего-то не стоим и не заслуживаем звания мужчин. И тем более воинов, способных защищать родину.
Еще задача: за два года, которые проведу в училище, должен стать мускулистым, сильным, получить 3-й спортивный разряд. А то познакомлюсь с какой-нибудь девчонкой, вот стыдовина-то и позор будет, когда увидит мою слабость. Правда, умная, симпатичная, знающая себе цену девушка никогда не увлечется таким слабаком и рохлей, который не только ее, но и себя-то не умеет защищать. Так что нечего роптать и обижаться на Лильку. Скажи спасибо, если не презирает. Не достоин ее, вот и равнодушна. Хоть раз за девять лет ее чем-нибудь заинтересовал, удивил, поразил, сделал или сказал приятное?.. Нет, нет и нет. Наоборот, за все эти годы она не раз видела меня беспомощным, униженным, оскорбленным, слабым и некрасивым. А за эти качества лишь презирают… Так что стань Человеком или не хуже людей, а потом уж требуй человеческого к себе отношения, уважения, любви. Тогда никакая Лилька не взглянет равнодушно…
Вероятно, подобные мысли бродили не только в моей голове. Это проглядывало в смущенных, задумчивых лицах, прячущихся, убегающих в сторону глазах, в сосредоточенности и неразговорчивости.
К действительности вернул Магонин.
— Двадцать третье! — истошно заорал. — Одевайся быстрей! Опаздываем на урок, а он не какой-нибудь физо-музо, а хлеб штурмана — самолетовождение!
Все разом заговорили, заулыбались, посыпались шутки, остроты. Мгновенно одевшись, двинули из раздевалки в класс. И снова с острым любопытством…
Класс навигации — светлый и длинный — больше похож на лабораторию. Весь увешан схемами, макетами самолетов с разными компасами от маленького с бычий глаз и до большого котелкообразного, разными приборами в разрезе, графиками девиации, поправок высотомеров, указателей скорости.
Преподаватель — выпускник прошлого года, симпатичный брюнет с «бело-золотой» улыбкой и широкими покатыми плечами штангиста, подмигнул, весело сказал:
— Сегодня вы приступаете к изучению главного штурманского предмета. Так что же такое самолетовождение?.. Это комплекс мероприятий в полете, направленный на ведение самолета по маршруту и вывод его в заданную точку в заданное время…
Что ж! Занятие по навигации не хуже физкультуры. Никогда же не слышал об элементах магнитного поля Земли и их свойствах. Сидел и удивлялся: и почему до этого часа не знал?.. Пока что учеба на штурмана не доставляет разочарования. Вот бы и дальше так?!
«БОЛЕЗНИ» РОТЫ. ПОТЕЕВ
«Письменная болезнь», охватившая роту, продолжала свирепствовать вовсю, приняв новые формы. Теперь курсанты уже обменивались адресами малознакомых, но любимых или нравящихся девушек, которые когда-то не обратили на них внимание. Хотелось поговорить со своей симпатией, хотя бы через товарища. А вдруг тот будет удачливей и ему она ответит, пренебрегшая когда-то мной, думали многие, предлагая адрес прекрасной незнакомки. Часто девушки отвечали и завязывалась переписка, которая обсуждалась между товарищами, доставляя им радость и сладостное чувство смутной надежды.
— Знаешь, есть у меня одна знакомая в Среднегорске, — как-то сказал Вострик в перерыве между занятиями. — Правда, она ко мне не очень расположена. Может, ты ей напишешь?
Я улыбнулся.
— А что она собой представляет?
Вострик смущенно засмеялся.
— Ну, в нашем классе она появилась, приехав откуда-то с Украины, и сразу обратила на себя внимание.
— Всех лучше была?
— Да.
— И всех лучше училась?
— Да.
— И всех лучше одевалась?
Вострик удивленно посмотрел.
— А ты откуда знаешь?
— И всех лучше пела и танцевала?
— Что, в вашем классе тоже была такая?
— Да, и на меня тоже не обращала внимания.
Вострик расхохотался, шлепнул меня по плечу.
— Слушай, так давай я ей напишу?!
— Не стоит.
— Дай адрес — ответит. Я так напишу — ответит, — разухарился Вострик.
— Адрес дам, но не ответит. Знаю я ее, восемь лет вместе учились.
В личное время Вострик, поудобней усевшись за тумбочкой, усердно писал письмо. Закончил перед проверкой. На мою просьбу — дай почитать — ответил отказом.
— Это моя тайна. Вот, когда придет ответ и буду писать второе, тогда дам, — пообещал, смеясь. — И ты мне не давай, когда напишешь. А получишь ответ, будем читать вместе.
Письмо в Среднегорск на имя незнакомой Любы я написал на другой день. Вострик ревниво следил, как я свернул лист, вложил в конверт и под его диктовку написал адрес. Вострик сам отнес письмо в ящик и улыбающийся вернулся назад.
— Все! — вздохнул облегченно. — Теперь будем ждать! Интересно, что ответит?.. Ну да через полмесяца узнаем…
Наконец-то я получил из дому письмо. Одни упреки.
«Ты-то зачем пошел в летное училище, где в мирное-то время разбиваются? Вспомни Гагарина! Дядю Володю. Ведь ни один прославленный летчик не умер своей смертью! Знай, если что с тобой случится, — нам не пережить. Так зачем в петлю-то лезть!? Теперь каждый день дрожать будем. Рашид вон приехал, а ты обещал вернуться и… обманул!..»
Письмо скорей уничтожил. Не дай бог, прочитает кто — засмеют… Получение писем — праздник. Все читают их по несколько раз, иногда друг другу. Уже появились чемпионы-счастливчики, получающие за один раз по 4—5 штук. А тут хоть бы второе получить!..
Другая «болезнь» роты — посылочная.
«Избранник» обычно приносил посылку с почты прямо в казарму. Распаковывал на табурете у тумбочки в тесном кругу близких товарищей и друзей и начинал доставать вкуснейшие деликатесы: аппетитные круги колбасы с бело-желтыми глазками, упругие мучнистые калачи домашней выпечки, толстые «подошвы» свиного сала, всякие булочки, кральки, печенье, кульки с разными конфетами. Половина продуктов тут же съедалась добрыми молодцами, а другая — пряталась в тумбочку или относилась в каптерку к старшине. Кстати, в последнее время посылки вскрывались у Иршина, который проверял, нет ли спиртного.
Пожалуй, нужды в посылках не было, но они шли и шли, как дань традиции.
Пришла посылка и мне, хотя ее не просил. В ней, понятно, не было спиртного, даже старшина ее не смотрел. Тем не менее неподалеку на расстоянии двух коек крутился мордатый Потеев. Тот самый, который был другом Магонина и который в первом наряде бесстыдно обманул меня.
У этого парня, как у собаки, был нюх на посылки. И кто бы ни получил из курсантов двух соседних отделений, размещенных по одну сторону казармы, он всегда оказывался рядом.
Строя рожи, он бил себя кулаком в грудь и клялся, что больше никогда не обманет.
— Боречка! Хочешь убедиться, какой я ловкий!
Я удивленно взглянул на него.
— Вот брось малюсенькую пышку в мою сторону и увидишь, как ловко я ее поймаю.
— Ну-ка, ну-ка, — засмеялись, уплетавшие за обе щеки Вострик и Середин. Вострик, вытащив из ящичка маслянистый золотисто-коричневый шарик, бросил его к тыльной спинке койки.
Потеев, стоявший у изголовья, прыгнул к ней, на лету раскрыл рот и, клацнув, как собака, зубами, проглотил шарик. Грохнул хохот. Вострик снова бросил оладью, но теперь уже к изголовью и снова Потеев, прыгнув, проглотил ее на лету. Все схватились за животы.
— Давай еще! Давай! — смеялся Потеев, облизываясь. — Ох и вкусные, черти! Век бы ел!
— На дне-то еще бассе! — сказал загадочно Середа и запустил руку в глубь ящичка. — Лови! — бросил пышку под самый потолок.
— Оп-ля! — Потеев заложил руки за спину, откинулся назад корпусом, задрав голову, и подставил, словно урну, широко раскрытый рот точно под падавшую на пол пышку.
Снова грянул хохот, кто-то захлопал в ладоши.
— Это что?! — войдя в раж, хвалился Потеев. — Поставь пол-литру, я вам такое покажу! На всю жизнь запомните! Не будь я Генаха Потеев с Чукотки!.. Я рыбу живую глотал! Строганину — сырое мясо рубал! Живую, горячую оленью кровь пил!..
Пришлось еще к всеобщему удовольствию бросить ему несколько пышек в разные стороны и не одну ведь не уронил, черт.
НЕДРУГ
Если по службе и учебе дела мои шли прекрасно, то в личной жизни не особенно. Появился недруг — курсант нашего отделения Митька Шамков.
Как я заметил, все мои неприятели однотипны. Всегда выше ростом, лучше сложены, сильней физически. Вспоминая их, пришел к выводу — они никогда не имели противника сильнее себя. И со мной-то дрались потому, что надеялись на легкую победу. И вообще, видно, большинство, если не все, выбирает себе противника послабей, а с более сильными старается жить в мире. Иные лезут в дружбу, не стесняясь заискивать.
Так что мой рост, внешность оказывали, оказывают и будут, по-видимому, оказывать, как Высоцкому, медвежьи услуги, вводя в заблуждение окружающих относительно моих сил и способностей.
После физзарядки бегу умываться в туалет. Воды, как назло, маловато, кранов тоже и около каждого столпилось два-три человека. Наконец, моя очередь. Склоняюсь над раковиной, набираю пригоршню воды и вдруг чувствую ошеломляющие удары по голове. Отскакиваю от крана и вижу: Митька, грозно фыркая и сверкая глазами, занял посреди комнаты боевую стойку, выставив вперед кулаки, ожидая ответного наскока.
Первое желание дать сдачи… и тут же мысль, но ведь будет солидная драка и нарвусь на взыскание. Но не дать отпор, значит, снискать славу труса. Вон все замерли, наблюдая. Да и обидчик, не получив отпора, сядет на голову и постарается превратить в раба. В любое время, когда ему захочется, будет бить при всех и издеваться…
Не знаю, то ли трусость, то ли отсутствие злобы, то ли боязнь взыскания удержали на месте. Сказал только удивленно, не понимая, почему тот напал:
— Ты что, с ума сошел?
Шамков, прыгая, как заправский боксер, фыркнул:
— Что, струсил? Боишься дать сдачи?
— В другой раз в более удобном месте.
Я отошел к крану, продолжил умывание. И что надо? Почему напал? А будь я его выше или с него, ни за что бы не ударил… И курсанты хороши — ни один не осудил Митьку, хотя все видели, кто прав, кто виноват. Наоборот, с явным интересом ожидали побоища, словно мальчишки-несмышленыши.
Стычки между нами начались давно. Митьке не нравится, видимо, моя пылкость, восторженность. Мне — бесконечный Митькин скептицизм. Когда сидим в столовой в ожидании команды «встать!», беседуем на разные темы. Митька не болтун, как Середин, больше молчит. Наверняка, ждет, когда попросят сказать веское слово и обязательно скажет, но всегда плохое, ехидно-ядовитое, вызывая улыбки у соседей.
Я не выдерживаю, возражаю, возникает спор, незаметно переходящий в перепалку.
К сожалению, многие курсанты спорить не умеют. Стоит возразить, как товарищ обижается. И сразу, забыв о споре, по мере своей испорченности, оскорбляет возразившего. Митька не составлял исключения, да и что с него взять. Обычный парень из воронежской деревни, понимающий культуру по-своему. Не глупый, сравнительно способный и, возможно, был лучшим в сельской школе. Он вначале на мои слова презрительно усмехался и говорил с подковыркой:
— Ну да, да. Ты больше меня знашь — вон все время пятерки получашь!
А потом перешел, мягко говоря, к унижениям, если не к оскорблениям. Пожав недоуменно плечами, разведя руками, скорчив мину, обращается к соседям:
— Не понимаю, что тут младенцы лепечут?..
Соседи, посмеиваясь, посматривают на меня, ожидая контрудара. Митька на два года старше, но непонятно, чем тут гордиться? Зачем строить из себя старика?.. Вообще, распространено в роте обвинять младших в младенчестве. Как будто молодость порок, а не преимущество. Видно, «старики» не понимают этого, а если понимают, то завидуют младшим и стараются уязвить их же преимуществом, перевернув все понятия с ног на голову.
Многие разговоры Митька начинает так: «Вот мой дядя — он учится в академии Генштаба — рассказывал…». И все внимательно прислушиваются. Не у каждого дядя подполковник-генштабист, которому светят генеральские звезды, как уверяет Митька…
Да, коллектива, на мой взгляд, ни в роте, ни в классных отделениях пока нет. Да и быть не может — слишком мало времени живем вместе и ничего не сделали, чтобы он был. Вот если бы каждый приложил хотя бы немного усилий! Но для этого надо единство взглядов и желаний. А мы очень «разношерстны», как лебедь, рак и щука. Есть лишь механическая сумма молодых людей, желающих быть начальниками, командовать другими, что частенько приводит к ссорам, стычкам, оскорблениям.
Основная причина такого положения — в неумении правильно оценивать себя. Точнее, в переоценке. Каждый считает — он самый умный. А некоторые к тому же, еще считают себя самыми красивыми… Это уж совсем что-то девичье. А стоит любому задать простейший вопрос: а в чем проявился мой ум? Что я сделал выдающегося: написал ли хорошую книгу, сделал ли открытие, изобрел ли новую машину, и каждому станет ясно, чего он стоит. Если только честно ответит, отбросив безграничную любовь, которая толкает восхищаться собой. Но увы! Никто не хочет и не догадывается этого делать.
Вторая причина в невоспитанности. Только и слышится: «Муфло!», «Туфта», «Иди отсюда, заторможенный!», «Пше-ел вон, козел!..»
Третья — в неумении командиров отделений. Вижу это на примере Магонина. Тот со всеми переругался, надо — не надо каждому делает замечание. В ответ огрызаются, он грозится взысканиями и часто к месту и не к месту кричит:
— В армии коллективки запрещены! Каждый отвечает сам за себя!
А ему бы всего лишь сплотить вокруг себя дисциплинированных, успевающих курсантов. И была бы надежная опора, с помощью которой можно держать в узде разгильдяев. А то все против него, даже «преданнейший» «друг» детства Потеев, который спит и видит себя командиром отделения и за спиной Павла без устали твердит:
— Ведь Паха всю жизнь был под моим началом. И дома в Анадыре и в Москве в институте. А тут в армии, в училище, где делают командиров, нуждаются в них, меня не заметили. А его недоразвитого поставили. Ну где у старшины глаза?.. Прямо удивляюсь!..
Думается, недолго продержится Магонин — до первого ЧП. Такая же судьба ждет Апрыкина — слишком много орет.
А Потеев хитер! Любит показать силу. Как бы шутя, случайно, разумеется, на более слабом на виду у всех. Прием старый, как мир. Так в детстве делал Петька Дегтярев — Портос — при знакомстве с мальчишками. Так делают сейчас и другие. В общем, многие пытаются утвердить себя, кто как может. Кто грубой силой, кто связями, кто занятиями в секциях или худсамодеятельности.
Есть и объективные причины, объясняющие в известной мере трудности притирки. Наверняка, никто из курсантов раньше не жил в казарме среди 150 человек. Это нелегко и требуется время, чтобы люди научились совместной одинаковой жизни. Самому общительному человеку иногда хочется побыть наедине. Мы лишены этого.
Я тоже пытаюсь утвердить себя. Но почему-то не всем моя учеба по нутру. Кое-кто завидует, злится и частенько ехидно подначивает, как Митька Шамков: «Ну он же отличник, что ты с ним споришь…»
На себе убедился, как трудно быть самым молодым, да невеликим ростом! Всех хуже живется!.. Над нами смеются и часто оскорбляют, если не давать отпор. А как его дашь, если нет ни силы, ни ума?! И это не наша вина, а беда…
Да, я должен был поставить Митьку на место еще раньше, когда он в казарме во всеуслышанье бухнул:
«Ушаков, хоть отличник, но дурак!»
Я даже ошеломленно остановился в проходе. Митька, изучающе глядя, снова крикнул оскорбление. И настолько это было нагло и обидно, что я растерялся и молча пошел дальше. До слез было стыдно. Такого в моей жизни никогда же не бывало. Чувствовал себя голым под насмешливыми взглядами притихшей роты, ожидающей, как поступлю.
Но что делать? Кинуться в драку? Так он только ждет этого. К тому же в кругу своих земляков, недобро поглядывающих на меня. Изобьют же нещадно. А то и инвалидом сделают. И меня же обвинят, как зачинщика.
Что ж, считайте трусом! Приходится терпеть обиды и унижения. А кому не приходится?.. Большинство терпит, раз люди не помогают друг другу изменить такой порядок — нашу жизнь!.. Теперь я понимаю действительные причины почти всех ЧП, происходящих в армии, о которых нам изредка читают в приказах. Там убежал, там повесился, там застрелился, там рубанул очередью в карауле, там… да много разных «там»…
Ну что за жизнь? Куда попал? То беспричинно бьют по голове, то обзывают. И все довольны, посмеиваются, радуясь моей беззащитности. Ну почему я ни на кого не нападаю и не обзываю?.. Хотя бы того же Середина, имея все основания на это? Один мат его что стоит. Ну почему люди не ценят мира, дружбы, отвергают их, а миролюбивых считают дураками и слабаками? И понимают и уважают лишь превосходство над собой…
КАК БЫТЬ?..
В роте событие — отчислены несколько курсантов, в том числе главный смутьян «нос» — Илюшин. У меня тоже два события — получил интереснейшее письмо от Николая, которое всколыхнуло угасшие честолюбивые надежды четырехмесячной давности и снова поставило вопрос: кем быть и как быть?..
«Борис — удивительнейшая новость. Вчера был в отделе КГБ. Пришли наши дела из комитета, где так долго проверялись. Мне и Рашиду отказано в зачислении в школу иняз, а ты утвержден курсантом и должен выехать в Москву 6 марта.
Начальник горотдела спрашивал о тебе. Я ответил — в армии. Он побагровел, стукнул кулаком: «Кто позволил?». «Вы, — ответил я. — Мы же вас спрашивали еще в декабре… Вот таковы наши дела, дорогой».
Да?! Вот это новость так новость?! Немного не дождался. Что же делать? Хоть самовольно убегай отсюда, так хочется в школу иностранных языков. Да и мама с Галей отругали: зачем, да почему остался в училище?.. Быть разведчиком гораздо интересней и почетней, чем каким-то штурманом. Парней же отпустили и меня могут. Учиться в Москве и Надеждинске большая разница. А Потеев с Магониным приехали из Москвы… Но не из училища же, из института…
Целый вечер маялся. Наконец решил — подам рапорт, а там, что получится. Но вряд ли отпустят, если бы учился плохо. Вспомнился институт, уговаривающий декан. Здесь уговаривать не будут. Но должны же выслушать, понять… Обдумывая каждое слово, не спеша написал рапорт. Выбрав минутку, обратился к Магонину. Тот хмуро взглянул:
— Ну что у тебя, только короче.
Я протянул рапорт.
Павел удивленно взял его, прочитав, присвистнул:
— Все равно не отпустят, если бы пришла бумага…
— Прошу передать по команде, иначе сам пойду к комбату, пусть наказывает.
— Ну-у, передам, — кисло пообещал Павел.
Через три дня вечером в личное время дневальный прокричал:
— Ушаков, на выход! В канцелярию роты!
Я помчался, на ходу оправляя тужурку. «Сейчас решится судьба, но не волноваться…»
Постучав в дверь, толкнул ее. За столом у окна Патяш.
— Товарищ подполковник, курсант Ушаков по вашему приказанию прибыл!
Патяш поглядел на меня внимательно, снял шапку, погладил ладонью лысину. Взял со стола лист, протянул:
— Возьмите это и больше никому не показывайте.
— Товарищ подполковник…
— Кру-у-гом! Я повернулся.
— Шагом марш!
За дверями, скомкав рапорт, сунул в карман. Ну и пусть! Не очень-то и хотелось. Будем учиться здесь. Но все-таки как бесцеремонно. Как в военкомате капитан, который затолкал сюда. Что за стиль обращения. Армия…
2 марта тоже ходил сам не свой. 18 стукнуло! Кто бы поздравил. Интересно, в жизни каждый год впервые и пятый и 55-й. И всегда новый и больше никогда не повторяющийся. По годам идешь, как по лестнице вверх. Потом вдруг упал и зарылся в землю навечно.
…В 18 дядя Володя погиб. Больше меня прожил всего на три месяца шесть дней. Только сейчас понимаю, как ему не хотелось умирать…
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Из всех преподавателей самое сильное впечатление произвел майор в отставке Жередин, обучающий на электронных тренажерах практике самолетовождения и боевого поражения. С первого и до последнего дня воевал. Трижды сбивали над вражеской территорией, трижды прыгал ночью с горящего самолета с парашютом и трижды возвращался пешком, переходя линию фронта.
Прекрасный математик, в уме решающий труднейшие задачи, он блестяще закончил физико-математический факультет университета. Вот только взаимоотношения его с начальством были натянутыми, поэтому и уволили в запас майором. Трудно, конечно, в такое поверить, а не только понять и объяснить. И умен, и образован, и орденов полна грудь. Выходит, его же успехи ему же и мешали?.. Ребята, говорят, завидовали ему, вставляли палки в колеса, приклеив соответственно ярлык зазнайки, самолюба, неисполнительного, недисциплинированного офицера… А может, на самом деле он такой? А если нет?.. Выходит, выделяться среди других опасно? Что же тогда меня ждет?.. Но Жередина уволили в период культа, застоя?! Для тех лет для плохих стайных людей он был неудобен. Говорил правду и боролся за нее. Вот и рассчитались, их же стая, мафия, использовали свое вышестоящее положение. А сейчас перестройка!.. Что, вероятно, было «плохим» тогда, сейчас стало или станет хорошим…
А почему все-таки выделяться опасно?.. А-а, догадался! Потому что окружающие превращаются в твоих врагов, как у Жередина. Потому что твое выделение, отличие — это болезненный укор для других, в их неспособности, посредственности, серости. А кто признается в своей серости?.. Немногие. Поэтому все силы приложат, чтобы принизить, охаять выделяющегося. «Снизить» до своего уровня, а если удастся и ниже в отместку за «нарушение спокойствия», уязвленное самолюбие. И в назидание на будущее.
Разве со мной не это происходит?.. Не из-за этого ли Шамков проходу не дает?! И его поддерживают… Так как же мне быть? Подстроиться под других, под Митьку? Не быть самим собой?.. Оказаться трусом!?.. А почему им не подстроиться под меня? Я же к хорошему зову. Для их же блага!.. Значит, плохо зову или что-то мне не хватает: каких-то черт, достоинств, раз не поддерживают. Значит, разделю судьбу Жередина… Ну до офицера пока далеко. А когда стану, там видно будет, что делать. А пока надо отлично выполнять свой курсантский долг, обязанности. Если сейчас не исполнять, то когда же?.. В старости что ли?.. В школе маленькими были, ума недоставало. Сейчас все взрослые, а раз так, надо каждому во всю силу трудиться. Хотя бы узнать, что ты за человек, на что способен?..
По всем предметам прошли уже несколько тем. Все увлекательней учиться. Затаив дыхание, раскрыв рты, слушаем о подвигах штурманов в годы Великой Отечественной войны. Молодцы преподаватели, особенно Жередин, часто рассказывают. Разве не интересно знать штилевую и полную прокладки курса, если с помощью их штурманы до войны водили самолеты?.. А Беляков — генерал-лейтенант, через Северный полюс прилетел в Америку. А перевод курсов?.. Самолетовождение в облаках, за облаками, ночью, над горами и морем, в особых случаях?..
А с помощью радионавигации главный маршал Голованов — командующий АДД еще в 39 году рядовым летчиком, облетал всю Финляндию, ведя стратегическую разведку… А астронавигация? Когда летали выручать маршала Тито из окружения, так штурман вел самолет с помощью астроприборов… Сейчас работает в училище… Вот если бы дядя Володя был жив… А, может, про него тоже рассказывают в училище, где он учился?..
Мне тоже хочется быть таким асом. Чтобы и про меня рассказывали грядущим поколениям курсантов, что штурман Ушаков совершил чудо-перелет, подвиг!
Надо же, получили от командования сюрприз!
Когда пришли после обеда и увидели в центральном проходе турник (многие не успевают по физо), так Вострик, весело загоготав, на всю казарму гаркнул:
— А ну, выходи все сюда! Сейчас увидите, как будет летать Гагарин!
Бросив конспекты на тумбочку, скинув тужурку и сапоги, босиком выскочил в проход. Присев, сжался, точно кошка, и с криком: «Я — Гагарин!» — прыгнул вверх, распрямляясь на лету. Схватившись за перекладину и сильно качнувшись маятником два раза, на третий сделал полный оборот на прямых руках и под возгласы одобрения закрутил «солнце».
Спрыгнув, восторженно огляделся:
— Кто следующий? Кто лучше сделает?..
Умелых и смелых не нашлось.
— Что-о!.. Никто?! — протянул разочарованно. — Тогда смотрите и учитесь!
И снова прыгнул, и снова закрутил «солнце»… И вдруг сорвался, полетел торпедой к дверям и грохнулся на пол.
Все охнули, оцепенели.
Я подскочил к нему — глаза закрыты, губы сжаты. Мы на руках отнесли его в санчасть… Но так и ушли оттуда в неведении — в себя Петр не пришел…
Я, конечно, не делаю «солнце», но выполняю положенные упражнения. Дерзаю делать стойку на руках на брусьях, но пока что не получается. А на полу стою и хожу. Занимаюсь еще боксом, забегаю к самбистам…
ОТВЕТ
Письма со всех концов Союза по-прежнему приносят пачками в роту. Как-то прихожу с занятий, смотрю — на моей койке конверт с незнакомым почерком. От кого бы?..
Среднегорск, ул. Коммунаров… а-а от Любы, Востриковой дульсинеи.
Вот здорово?!.. Просияв, взял письмо, хотел надорвать, но раздумал. Пощупал пальцами — не тонкое. Прекрасно! Читать дольше.
Пришедший Вострик (он сегодня утром сбежал из лазарета и сразу залез на турник) воззрился:
— Письмишко получил? Откуда?
Я рассмеялся.
— Получай, твое.
Вострик уставился, засмеялся.
— Тут же Ушакову, ты и читай.
— Нет, нет. Твоя знакомая, ты и читай первый.
— Ну, хорошо, — Вострик разорвал конверт, достал письмо, развернул. С недоверчивой полуулыбкой читал с минуту. Рассмеявшись, протянул.
Я поглядел на листок — почерк крупный, четкий. Лилька красивей писала. Вот бы получить от нее, но она никогда не напишет ни мне, ни Вострику.
«Уважаемый Борис! Ваше письмо внезапное и безосновательное. Но если вам это нужно, я не буду возмущаться на ваши послания, прилетающие иногда…»
— Как находишь? — улыбался порозовевший Вострик.
— А ты как?
— Ну-у, я считаю, она не возражает, согласна на переписку.
— Но мне это ни к чему. Она твоя знакомая, ты и пиши.
— Что тебе? Тяжело написать? Интересно же получить от девчонки письмо?!
— От своей, а не от чужой. Я не знаю тебя толком, но чувствую — ревнивый ты парень и можешь драку устроить. А я ценю хорошие отношения.
Мне, конечно, льстило, что Люба ответила. Приятно было получить письмо, тем более первое в жизни от девушки. Но если бы от моей, а то ведь это самообман, мираж, одно расстройство. Больше того, я почувствовал — Люба будет поддерживать переписку. Возможно, более охотно, чем с Востриком. Знаю, я умею писать, вложу в письма свою душу и ее тепло, простота, искренность пробьет Любино равнодушие, увлечет и заинтригует… И хорошо, что она меня не видела. Иначе, возможно, не стала бы отвечать. А по письмам она представит совсем другим, гораздо лучшим, чем есть на самом деле. И не потому, что я буду «заливать», как делают парни в роте, приукрашивая и рисуя из себя героев. Наоборот, ни слова фальши, одна правда и только правда вперемежку с вежливостью и увлекательностью описания сделают свое дело…
Мне даже захотелось сейчас узнать, к чему приведет в будущем эта переписка, но я отгонял мысли, подавлял желание.
— Ты меня поставишь в неловкое положение, если не ответишь, — уговаривал Вострик.
— Зачем тебе это?
— Ну-у, надо, — замялся Вострик.
— Хорошо, отвечу, но условие: ты будешь читать все письма и по первому требованию я прекращаю писать. Крайний срок через год — там нужно будет готовиться к госэкзаменам. Договорились?
— Договорились.
— Когда получишь письмо от моей знакомой — сообщи, но я знаю, — не ответит…
Назавтра Вострик тоже получил письмо от Любы и ходил веселый весь день. Перед отбоем предложил мне его прочитать — я отказался.
— Тут же о тебе написано, голова. Неужто не интересно?
— Что там может быть написано? Зачем дал адрес Ушакову?..
Чудаковатый и не совсем понятный парень Вострик. Родом из Кузбасса. Отец заслуженный шахтер, всю жизнь проработал под землей. Награжден орденом Ленина.
«Один недостаток — запьет, так на неделю, — смеется Вострик. — У шахтеров такие порядки…»
Внешность у Вострика, как и у меня, рядовая. Голова маленькая, темные глаза горят, черные волосы — ежиком, острый нос длинноват. Чистый грач, да и только.
Что же у него за знакомая?.. Говорит, красивая. Но каждый понимает красоту по-своему. Чудило Женька Середин всегда расхваливает своих чувих: «Ох и хороша-а! Красавица настоящая!» А покажет фотокарточку — смотреть не на что. Смеются над ним: «Ты что очумел, старый? Разве это красавица?»
А он: «Ты посмотри, какой волос!?..»
«Так, помимо волос, есть фигура, лицо, ноги…»
КОМСОРГ
Ко мне подошел Магонин.
— Что думаешь, если тебе изберем групкомсоргом?
— Думаю, не стоит. Авторитета не имею.
— Вот здорово?! Отличник! От начальства одни благодарности.
— Не в этом дело, в отделении среди курсантов не имею.
— А кто имеет?
— Ну-у, Лавровский, Шамков, Вострик, Потеев, другие.
Павел поморщился.
— Неет, это все не то, хотя они авторитетны кое в чем.
— Почему не то?
— Кое-кто с определенным изъяном, а на других другие виды. В общем, готовься.
— Лучше не надо.
— А это не зависит от меня — решают ребята.
Действительно, на собрании, как ни отбивался, меня выбрали. Вот хорошо ли получится?.. Вряд ли. Комсоргом, по-моему, должен быть высокий, авторитетный парень наподобие Лавровского. А я что? Ни то, ни другое, ни третье. Тяжеловато придется, но буду работать…
Каждую субботу, как нас инструктировали, командир отделения обязан подводить итоги в учебе и дисциплине за неделю. Так мы и сделали.
Павел, достав блокнотик, заглядывал в него и говорил, сколько оценок получено за неделю. Пятерок меньше всего, троек и двоек много. И с дисциплиной неважно: пять нарядов вне очереди, два выговора, одно замечание, а сколько мелких повседневных нарушений?.. Если за каждое взыскивать, то взысканий будет в пять раз больше.
Когда назвал фамилию Палко как главного беспросветного двоечника, то тот, удивительно не в санчасти, громко завозражал:
— А что Палко? Я разбираюсь в колбасных обрезках.
(Его любимое выражение, разошедшееся по роте, словно круги на воде).
Все засмеялись, посыпались шутки, остроты.
— Да если бы я не был столько в лазарете, я бы показал, как надо учиться! — шумел Палко.
Посмеявшись вдоволь, едва успокоились.
— Слово комсоргу.
— Нас ругают, сами знаете, за дисциплину и успеваемость. Считаю, стоит нам не получать двоек, как успеваемость резко повысится. А для этого нужно больше позаниматься на самоподготовке и внимательно слушать преподавателя на занятиях. Не так уж и много труда, считаю. Кому что непонятно в материале, не стесняйтесь, спрашивайте. У нас же много сильных и они, думаю, помогут разобраться. Моя помощь кому нужна — всегда пожалуйста в любое время… Так и с дисциплиной. Все мы изучали уставы. Знаем, что можно, чего нельзя. Остается только выполнять. Дело за нами. И стоит ли искать виновных, обижаться на кого-то. Думаю, что лучше, когда нас хвалят, а не ругают. Предлагаю каждому повысить свою успеваемость и не допускать нарушений дисциплины.
Поднявшись, Магонин спросил:
— Кто желает выступить?.. У кого будут какие предложения?
Все сидели молча. У некоторых на губах скептические улыбки.
— Ну так что, так и будем молчать? Или ваше молчание считать одобрением высказанного предложения?
— А какое предложение-то? — очнулся Ромаровский, сидевший всегда рядом с Лавровским.
— Повысить успеваемость и не нарушать воинской дисциплины.
— Нас и такая устраивает, — пробурчал кто-то, кажется, Колька Казанцев, склонившись над столом.
Колька — брюнет, чуть повыше ростиком Середина. Если Ромаровского называют луной Лавровского, то Казанцева луной Середина только с отрицательным склонением. Если Ромаровский признает во всем превосходство друга, искренне его уважает, то Колька исподтишка подсмеивается над Серединым, восхищаясь лишь его необычным деревенско-владимирским говором, бесконечными матерщинно-юмористическими пословицами и поговорками. Его фирменным: «Чтой и та?» Частенько Колька на занятиях сидит с Серединым, незаметно наблюдает за всеми его действиями и потом вечером, давясь хохотом рассказывает мне о нем, копируя и подражая. В копировании речи, замашек, жестов Середина Колька достиг успеха и порой говорит с ним абсолютно одинаково. Тогда Середин краснеет от удовольствия и заливается дребезжащим смехом. Женька не обижается на Кольку. Он знает, что нравится ему и позволяет в знак особого расположения почесать себе спину. Так что Женька — Колькина слабость и все об этом знают, с улыбкой наблюдая за ними.
Нравится еще Кольке молчун Абрасимов — сельский парень из Кировской области Верхнечижемского района. Но тот быстро выходит из себя и отбрасывает Кольку в сторону. Колька безвреден, но любит приставать и тискать. Эта страсть частенько приносит ему неприятности.
Колька — чистюля, превыше всего ценит и уважает внешний вид. Постоянно перешивает и гладит тужурку и брюки, наводя бесчисленные острейшие складки. Охотно лезет в споры, оправдывая себя изречением: «В споре рождается истина», которое любит повторять. Спорить не умеет, самый веский аргумент: «Ты нахватался верхушек и думаешь, что знаешь, строишь умника!» С большим самомнением, хотя учится слабо. Еще не летал, а уже держится и считает себя прирожденным асом…
Но самое главное — Колька знаток курсантского фольклора. Единственный в роте!.. Всяких баек, былей, анекдотов, историй, словечек, пословиц. (Видимо, нахватался, еще когда учился в суворовском училище). И этим чрезвычайно доволен и горд, просвещая нас, неразумно-темных.
— Вот ты, употребляешь слово «сачок». А знаешь ли, что оно означает? Как расшифровывается?.. — присох как-то к Аттику Пекольскому.
Тот «захлопал шарами», сплюнул в сторону по привычке и только хотел было матюгнуть Кольку, как тот опередил.
— С — современный, А — авиационный, Ч — чрезвычайно, О — обленившийся, К — курсант!..
— Ха! Ха! Ха! — раскололся Аттик, сменив гнев на милость.
— А что такое курсант? — просвещал Колька.
— Курсант?! — озадачился Аттик. — Ну-у, курсант есть курсант!..
— Опять не знаешь, а слово употребляешь! Курсант это — колоссально-универсальная рабочая сила абсолютно не трудолюбивая!..
— Ха! Ха! Ха! А ведь точно подмечено!
— Ну, а что такое два курсанта? — не унимался Колька.
— Ну-у, два курсанта, два курсанта-а, — силился сообразить Аттик, — а бес его знает! — махнул рукой, сдаваясь.
— Запоминай: «Два курсанта ВВС — заменяют МТС!»
— Ха! Ха! Ха! Опять купил!
— Ну, а что такое комотд?
— А черт его знает! — улыбался Аттик.
— Командир отделения. Ой, я гляжу ты абсолютная темнота. И чему только вас командиры и преподаватели учат?! Ну и последнее. Задание на самоподготовку тебе. Что такое «замок»?
— Замок?.. Не знаю!
— Вот когда узнаешь, подойдешь ко мне, — и, похлопав Аттика по плечу, Колька царственно удалился.
Но Колька не только знаток «фольклора», он еще и просмешник. Недавно сочинил байку-эпиграмму о Потееве. Якобы комроты Умаркин вызвал как-то его к себе:
— Потеев, вы неряха!
Тот обиделся и отвечает:
— Нет, я ряха.
Так что лучше не попадать к Кольке на язычок…
— Так есть желающие высказаться?.. Лавровский, может, выступит?.. Член бюро все-таки… — не успокаивается Магонин.
— Я-я, нет, — улыбнулся Игорь. — В принципе я согласен.
— Давай, Игорь, — подначивал Середин. — Дай всем по мозгам!..
— Может, Ромаровский?..
Тот повел горбатым носом, моргнул темными большими глазами.
— Я, как Игорь, пока воздержусь.
— Может, Шамков?..
Митька смутился, сузил рот, поворочал головой.
— Шамков не отличник, лучше помолчит. Шамков разве выступал когда?
Магонин вопросительно и неуверенно смотрит на Палко. Тот, широко раскрыв рот, чему-то улыбается. И вообще, он редко его закрывает. Зато в классе у доски «молчит, как партизан на допросе» — смеются остряки.
— Может, Палко расскажет, как думает исправлять двойки?..
Палко вздрагивает.
— А? А что я могу. Я люблю выступать.
Поднявшись, он поулыбался в разные стороны, поглядел на товарищей.
— Вы же знаете, что я все время в санчасти. С понедельника снова туда. Как только вылечусь, примусь за учебу. Все двойки исправлю…
— Клянусь колбасными обрезками! — добавляет Игорь.
Все дружно смеются и громче всех Палко…
Не таким бы хотелось видеть наше собрание, но что поделаешь, не смог растормошить души. Все скромно отмалчивались. Никто не выступил «против», но и никто не выступил «за». Не хотят расставаться с привычной жизнью. Придется ее менять и больше трудиться, когда возьмешь обязательство лучше учиться. А кому это охота?..
Вечером в ленкомнате Магонин высказал свое мнение.
— Неправильно сделали, что сразу в лоб предложили такое. Надо было тебе поговорить кое с кем в отдельности. В первую очередь с хорошистами, заручиться их поддержкой, а потом уж провести собрание.
— Может быть, — кивнул я, — но кто знал? У нас же любят поговорить попусту, особенно на самоподготовке.
— Ну да, провели и с плеч долой. Все равно какая-то польза будет. Хоть отчитаемся, что провели…
* * *
— Дежурный по роте курсант Пекольский!.. Что? Что?.. Присягу?! Вы не туда попали! Звоните снова! Под нами внизу рота молодых!.. Вот им!..
* * *
ПРИСЯГА
День первого мая выдался истинно праздничным: теплым, солнечным, веселым. На запасном стадионе вдоль белой известковой черты — десять коричневых столов. Кругом народ: нарядные женщины — офицерские жены и родственницы, бегающие дети, солидные мужчины, старички, старушки. Многие приехали из других городов. Поглядеть, как их сыновья становятся солдатами.
Звучат команды. Мы выстраиваемся в две шеренги. Появляется оркестр. Вдали слышится барабанная дробь.
Из-за деревьев выплывает алое полотнище с муаровыми лентами. Впереди почетный караул — взвод курсантов с автоматами.
Знаменосец идет вдоль фронта роты. Все поворачивают головы вслед.
— Приступить к принятию присяги!..
Из строя выходят первые десять курсантов.
— Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик…
Большинство курсантов знают присягу наизусть. Но порядок есть порядок. Сказали читать — читаем. Еще зимой на занятиях по уставам я получил одну из первых своих пятерок, когда рассказал присягу слово в слово.
— Если же я нарушу…
Мои родные страшно мучились, гибли, но не нарушили присяги. И я никогда ее не нарушу…
Бедный дедушка, вообще, неизвестно, где и как погиб. В сентябре 41-го освобождал Ельню. А в октябре уже сражался в полосе главного удара немецких армий, когда тысячи самолетов и танков двинулись на Москву с единственной целью, уничтожить все живое перед собой. И он с героями-бойцами пулеметами «максим», винтовками Мосина, револьверами «наган», гранатами-лимонками, бутылками с керосином, да малочисленными полковыми пушками пытался их остановить. Как 28 гвардейцев-панфиловцев. Это ли не героизм?.. И это ли не ужас?..
Может, был раздавлен гусеницами танка, кишки, говорят, наматываются на них, но лучше не думать…
Наконец, моя очередь. Сжав автомат, делаю два шага. Ничего не видя вокруг, читаю громко, но голоса не слышу:
— Я всегда готов по приказу Советского правительства выступить на защиту моей Родины… я клянусь защищать ее мужественно, умело… не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами…
СТРЕЛЬБЫ
Сразу же после праздников на аэродроме на весь городок загудели двигатели. Начались полеты с курсантами-выпускниками первых двух рот — завершение летной программы. Круглые сутки друг за другом взлетают и садятся самолеты. С пяти утра в понедельник начинается рев — летают в три смены — и лишь в субботу вечером смолкает, словно кто выключает непрерывно воющую сирену. Благостная тишина стоит в воскресенье…
Прекрасно взлетают самолеты. Дух захватывает. Таща за собой длинные клубастые завесы пыли, машины устремляются вперед, с каждым мгновением набирая скорость. Приподняв хвост, словно вытянувшись, пузатый Е-7 становится стройным и довольно красиво отрывается от земли.
Мощно и грозно взлетают «35-е». «Гончие собаки» — я их прозвал. Нам с 4-го этажа это чудесно видно. Двухкилевые, с верхнерасположенными короткими обрубленными крыльями — фюзеляж и двигатели висят под ними — бомбардировщики, будто припав носом к земле, с надсадным сверляще-оглушительным гулом бросаются со старта. Секунда и, задрав прозрачный нос, мчатся на двух основных колесах. Вторая и, словно оттолкнувшись от земли, взмывают в необъятное небо и черточкой, точкой исчезают вдали.
Вот так-то! Так бы и сел в кабину и улетел! Но ничего, дождемся и мы своего срока! И мы поведем за горизонт боевые машины!.. А пока что наши дела более прозаические — вовсю готовимся в караул…
Событие! — бросали гранаты. И не какие-нибудь учебные болванки, а самые настоящие, боевые РГ-42! Потрясающая картина! Около полудня были в тире. Прошли по склону вала и очутились у его трапециевидного торца. Широченный же он. Метров 20, не меньше.
Умаркин показал мишень — котловинку и отвел в сторону к другой яме.
— Отсюда будем кидать, — ткнул пальцем. — По двое будете приходить с места расположения отделения.
Отведя в сторону еще метров на пятьдесят, приказал:
— Ложись!
И вот видим, как летит, кувыркаясь, граната. Шмякается о землю и вдруг в том месте возникает косматый черный веер с желто-красно-коричневой сердцевиной. Сухой, громкий треск, похожий на треск разрываемой ткани, бьет по ушам.
Привстав на локтях, поднимаем головы. Глаза блестят, рты растянуты в улыбке.
Дымок курится над ложбинкой…
Стреляли. Выбил девятку, десятку и восьмерку! Мог бы лучше, если бы Митька не выстрелил на миг раньше в последний раз. Стеганул по уху так, что вздрогнул, рванул крючок и пуля ушла выше. Вот если бы чем-то уши закрыть, можно бы садить в яблочко! А так боишься соседа…
Вострик выбил две десятки и девятку. А Павел так целых три! Чемпион отделения и роты! Подвели только Середин с Казанцевым — «суворовцем». Колька неимоверно боится выстрела, дрожит, как заяц перед волком, и глаза закрывает.
— В самолете нет автоматов! — сходу оправдался. И что за привычка обманывать себя, замазывать свои недостатки?! Середин целится добросовестно и глаз не закрывает, а пули идут в белый свет.
— И чтой-та я так стреляю? — удивляется, разводя руками.
— Рвет спуск, — говорит Умаркин, но Женька не сознается.
КАРАУЛ
И вот наступил «караульный день». Занимались до 12-ти. Обед, краткий отдых, подготовка. Построение за построением. И наконец в походном строю — автоматы на ремне, скатки через плечо, противогазы на боку — двинулись со двора.
На строевом плацу развод караулов и нарядов училища. Как легко все же идется под марш мимо дежурного по училищу. Ноги сами так и шагают, будто летишь на крыльях. А какая гордость и радость распирают тебя!
Умные давно заметили опьяняющее воздействие музыки, ее свойство управлять массами, подчинять их себе. Поэтому с древнейших времен в войсках создали оркестры, под грохот которых воины бесстрашно бросались в бой. Не случайно и психические атаки всегда проходили под музыку…
Но вот смолк оркестр и сразу исчезли возвышенные чувства. И охватили самые будничные: до жжения трет шею скатка, оттягивает плечо автомат, бьет по боку противогаз. Да еще солнце жарит по-летнему — спина взмокла. Уж поскорей бы дойти до караула. Еще не приступили к охране, а уже устали и можно бы в казарму. Но чу! Хватит! Вовсе не так плоха жизнь. Что это за солдат, который не был в карауле?! Не выполнял боевой задачи?!
Быть лентяем, слабым, глупым человеком каждый может. Для этого никаких усилий не надо. А вот быть Человеком! — тяжело.
Именно из-за этого и хочется им быть… Так что караул — это прекрасно! Это испытание на прочность в мирное время. Этим можно гордиться и рассказывать. Даже в Среднегорск Любе написать. А как бы хотелось Лильке домой, но она против. Не ответила же Вострику!.. Жаль — нет любимой. А как хочется любить и быть любимым! Но это не для меня. Я не из тех, которых любят, в которых влюбляются. Намного легче и веселей служить, если бы она была и ждала, а то всегда один, всегда. Не с кем помечтать, поделиться радостями и горестями…
В оградке караульного домика — «старики». Улыбаются, глазея на нас. Не успели поставить оружие в пирамиды, осмотреть комнату отдыха с двухъярусными черными нарами, как новая команда вытолкнула меня во двор…
Зарядив оружие, направляемся на посты. После замены часового на техскладах идем на следующий, кажется, мой пост. И снова прием поста повторяется. Но теперь уже я с разводящим и старым часовым ходим по стоянке от самолета к самолету, внимательно проверяя их опечатку. Это почему-то не нравится старому часовому. Он презрительно-негодующе смотрит на меня, цедит сквозь зубы:
— Салажонок, мало служишь еще, а уж такой дотошный.
Я вспыхиваю, не знаю, что и сказать в свою защиту. Да и не люблю ругаться, лучше смолчу. «Старших надо уважать», — но как уважать и что делать, если они оскорбляют и не нуждаются в твоем уважении?..
Все уходят, остаюсь один. Уж постараюсь, отстою как положено. Не зря же мечтал столько лет, с первого класса, считай. Всегда завидовал по-хорошему героям-афганцам да пограничникам, когда слышал и читал о их подвигах. Мечтал совершить большие…
Иду по середине стоянки, всматриваюсь по сторонам, не ползет ли кто к самолетам… Ну раз все в порядке теперь можно посмотреть вблизи, что за самолет… Да-а, весь металлический, прошитый рядами заклепок. Моторы закрыты чехлами. Одни винты, словно мечи, торчат. Чем темнее, тем беспокойнее на душе. Приседаю, смотрю снизу — не затаился ли кто у фюзеляжей, шасси, хвостов. Не замечаю, как становлюсь настороженней. Автомат с плеча снял, держу наперевес. Пройду несколько шагов, замру. Но кругом никого. Лишь самолеты чернеют, да издали доносятся приглушенные звуки городка…
Сколько простоял?.. Жаль, часов нет. Страшно медленно тянется время. Пора менять. Но ни огоньков, ни шагов. Часа четыре стою. Чаще и чаще всматриваюсь в сторону, откуда должна появиться смена. Когда уже вконец извелся, вдали — чей-то голос. Я замер. Что-то блеснуло, фигуры. Кинулся навстречу.
— Стой! Кто идет? — закричал сам не свой.
— Разводящий со сменой! — донеслось, но чей голос, не разобрал.
…В караульном, куда пришли, горел свет.
И почему в наряде, карауле всегда спать охота? А в воскресенье — не спится! Что за противоречивое существо человек!.. Вот и моя очередь залезать на нары. Но не тут-то было. Некоторые курсанты никак не проснутся. Стонут, что-то бормочут, дрыгают ногами и лезут дальше к стене, закутывая голову шинелью. Их приходится чуть ли не сбрасывать. На ноги-то встанут, так глаза закрыты — все еще спят.
Ослабив ремни, мы наконец-то забираемся на теплые с каким-то вонюче-кислым запахом нары. Противогазы под щеки, укрываемся с головой. Блаженство! Ничего не видеть и не слышать. Только отдых, отдых и отдых. Минута, другая и-и… проваливаемся куда-то.
— Смена, подъем! — слышится где-то. Кто-то трясет за ноги… И снова пост. Снова одного оставили наедине с темнотой, самолетами, полем и близким черным лесом. Как хочешь, но надо стоять самые тяжелые два часа. Вернее, не как хочешь, а как требует служба! Петь нельзя, говорить нельзя, сидеть нельзя, лежать нельзя, оружие выпускать из рук тоже нельзя, никого подпускать к объекту и к себе тоже нельзя. А что можно?.. Во все глаза смотреть во все стороны можно. И видеть все, хоть и непроглядная темнота кругом, тоже можно. Сохранить в целости все самолеты не только можно, но и нужно. И это будет моя защита Родины… Страшно?! А в Афганистане как? А на границе? Вот там действительно каждый миг жди пулю или удар ножа в спину. Или ракета прилетит, рванет мина. А здесь за 5 тысяч километров от них разве страшно? Но все равно нужно быть бдительным. Потому что и там и тут военный объект, который должен быть неприкосновенным…
Кому надо к самолетам подобраться, сейчас самая удобная пора. Ни звезд, ни светлой полоски на севере. Все облаками затянуло.
Примкнув штык, загнав патрон в патронник, хожу с автоматом наперевес из конца в конец стоянки. Иногда резко оборачиваюсь, когда блазнит, что кто-то подкрадывается и собирается прыгнуть на спину. Впереди что-то темнеет. Похоже, человек?! Откуда взялся?.. Не может быть! Крадусь осторожно, палец на спусковом крючке. Стоит нажать — грохнет выстрел. Совсем рядом что-то. Еще шаг вперед… Фу?! Ящик! А как напугал?! Аж сердце забилось…
Вот также когда-то стояли дедушка, отец и дядя Володя. И также боялись, но держали себя в руках. Теперь моя очередь.
Дедушка тоже романтик. Всегда стремился быть там, где труднее. В 39 году вызвали в военкомат, сообщили — по возрасту переводят в техники-интенданты. Так он на это лишь рассмеялся: «Я же обстрелянный на границе командир. Сколько за бандами гонялся! Зачем делать из меня тыловика?..» А дядя Володя, чтобы попасть на фронт, год себе прибавил…
Вдруг издали донеслись щелчки-выстрелы. Что такое? Неужели напали?.. Заметался по стоянке, «завглядывался»… Но никого не видно и не слышно… Так кто же это отличился?.. Или со страху?..
Послышался чей-то говор. Идут?.. Но кто? Окрикнул. Павел отозвался. Его голос теперь всегда узнаю. После вторичного окрика Павел подходил один. И все же я всматривался в фигуру.
— Как у тебя, все в порядке? — подошел Магонин.
— Да, а кто стрелял?
— Вострик на пятом посту бандита убил.
— Как?!
— Тот выстрелил в него из кустов. Промахнулся. Вострик выстрелил — попал!.. Мы с комроты по тревоге примчались. Все кусты облазили. И уж когда пошли обратно — на труп наткнулись… Молодой парень из кавказцев. Чернявый, с усиками. Пистолет рядом. Лежит на боку, а во лбу дырка и кровь струится. И надо же так?! Днем обязательно бы промазал! — восхищенно-сожалеюще закончил Павел.
— И что теперь Вострику будет?
— Разберутся…
— Но он же правильно поступил?!
— Конечно.
Сдав пост, довольный плелся за Павлом.
Вот и свершилось! Что тяжелее — наряд или караул?… И то и другое тяжело. Конечно, караул почетнее, но и тяжелее. Не в игрушки играешь, ставка — жизнь. Будь бандит метче — Вострика бы завтра хоронили.
Через день вечером разбор. Оказывается, помимо нападения, не все было гладко. Известного Черновидского около получаса искали на территории поста. Звали, кричали, свистели, махали фонариком. Едва нашли… в куче самолетных чехлов. То ли со страху, то ли от невыносимого желания спать, забрался туда и уснул, как сурок. Разводящего со сменой чуть не перепугал до заикания, когда неожиданно вылез из кучи и взревел: «И-и-я-я!»
Ну что ж, арест обеспечен.
В конце разбора Умаркин сказал:
— Хоть и правильно действовал Вострик, но все же мог, вероятно, выстрелить вверх. Вызвать подмогу — дежурную смену и захватить бандита живьем. А то сейчас командованию училища приходится объясняться с вышестоящим начальством, прокуратурой. И доказывать, доказывать…
Рота недовольно загудела:
«В таком случае в караул нам лучше не ходить!..»
Вострик покраснел, губы поджал, глаза горят. Только головенкой ворочает по-грачиному. Ясно, неприятно ему. Действовал, как положено, а получается черт знает что. Ну, если такое случится — сразу пойду к секретарю партбюро Толстову или к комбату… Мне комбат кажется добрым. Правда, немного шумноват, но это, на мой взгляд, больше напускное, прикрывающее доброту. Старшим штурманом полка был, много и долго летал. Возрастом в отцы годится. По здоровью с летной работы списан…
«Ну и везет нам?! Был Патяш стал Помаш!» — «шутят» злословы-остряки. Никого не щадят, всем прозвища дают. Патяша прозвали «помаш» за привычку так говорить «понимаешь». Сухопутный моряк Аттик Пекольский так вообще стыд потерял. Здорово копирует комбата в речи и жестах на потеху зубоскалам. А те ржут, как кони, лишь бы поржать…
О караульной службе и нападении говорили и на комсомольском собрании. Все еще неясно, что ждет Вострика. Всякие слухи ходят. Вострик, поеживаясь, сидит точно на иголках, но стойко молчит. Только слушает внимательно, да разглядывает выступающих, будто говорят совсем не о нем.
Я и не собирался выступать, но неожиданно для самого себя поднял руку и громко сказал:
— Прошу слова.
Председатель кивнул — пожалуйста.
— Я не вижу никакой вины Вострика. Наоборот, его выстрел законный. Кому-то нужно, чтобы нас убивали, а мы не смели защищаться. Не понимаю, что это за дружба народов, когда меньшинство с окраин убивает большинство и где? В сердце России, в Среднегорье! Вот до чего довыслуживались перед Западом! Вострик действовал по уставу! Защитил военный объект, свою жизнь. Проявил бдительность, воинскую выучку! Дал отпор налетчику! Если бы все так действовали, то в стране не было бы ни одного бандита. Честь и хвала ему за это!..
— Правильно-о! — загудела рота.
После собрания, когда повскакивали с табуретов и ринулись в туалет перекурить, кто-то, стиснув мои плечи, прямо в ухо негромко сказал:
— Спасибо, Борька! Хороший ты парень!
Получил от Николая Суткина письмо. И каких только неожиданных поворотов, изгибов, петель и кругов не делает жизнь?! Кто бы мог подумать — в прошлом году не пустили по медицине в Ленинградское высшее мореходное, а сейчас едет поступать с Петькой Дегтяревым во Владивосток в Тихоокеанское высшее!.. Гримасы судьбы не иначе, которая не захотела, чтобы друзья были вместе. А ведь мечтали всю жизнь пройти рядом… Жизнь! Пусть Колька с Петькой поступят наконец в высшее военно-морское! Пусть будут счастливее нас с Рашидом!.. Мне, честно признаться, неудобно перед Николаем и его матерью. Сорвал из института, в училище КГБ увлек и тот вместо того, чтобы помогать, сел матери на шею. А я — зачинщик, словно, бросив друга, убежал… Да, жизнь есть жизнь — сводит и разводит.
«Дорогой! Рашид уже месяц, как курсант училища тыла где-то в Средней Азии… Теперь моя очередь быть курсантом!..»
Вот так Шидик?! Такое событие и лень сообщить! Втравил меня сюда и написать не желает… Ну попадись на глаза! Но попадется ли? Разве в Синарске в отпуске?..
«УКРОЩЕННЫЙ МУСТАНГ»
На занятиях по физподготовке появился «камень преткновения» — не можем одолеть коня. Полроты пасует, в том числе я. И разбегаюсь сильно, и отталкиваюсь, а руки кидаю на середину. В результате, сажусь на край.
Преподаватель подсказывает:
— Пока не преодолеете страх и не будете бросать руки на дальний конец — коня не перепрыгнете, — и кладет руку на место, которого должны коснуться. Но сделать это трудно. Нужно с размаху прыгнуть вдаль, распластаться, как при прыжке в воду, а духу не хватает. Когда прыгаешь — боишься, что грудью ударишься о передний торец, поэтому руками упираешься поближе. Так что перед нами задача — преодолеть страх, превозмочь себя. Но как быть, если не преодолевается?..
Смешно наблюдать, как «храбрец» втыкается в «седло» и потом елозит по коню, пытаясь слезть. До пола — ноги не достают, назад — неудобно раком пятиться. Ну и ползет на ягодицах попеременно лихой наездник вперед. А догадаться свесить ноги на одну сторону, да спрыгнуть — от конфуза ума не достает.
Умаркин недоволен, что рота «споткнулась о коня». Стыдит на построении, угрожает:
— Я прикажу ставить снаряд перед входом в столовую и на обед попадет тот, кто через него перепрыгнет… Чего смеетесь? Это испытанный способ. Спросите старых курсантов…
Мы недоверчиво переглядываемся: кто его знает — в армии все может быть. Легенду или быль о находчивом ротном слышим не впервые. Видно, был такой. Долгую память оставил…
Правда, с каждым занятием по физо ряды «всадников-лихачей» неуклонно редеют. Да и пора! Сколько можно бояться?..
Вот и я решился: будь, что будет. Посмотрел за умелыми и неумелыми со стороны, подметил разницу в технике выполнения прыжка и пошел в конец зала разбегаться.
Издали ближний торец снаряда кажется еще острее.
— Гляди на дальний конец! Только на него! — командует преподаватель. — Пошел!
Помчался…
— Руки кинешь на полную длину и достанешь пятно!
Прыжок!.. Торпедой лечу над конем, выбрасываю руки, тянусь к меловому пятну, которое нанес преподаватель. Толчок!.. И приземляюсь на мат, лежащий за снарядом. Еще не очухавшись, слышу:
— Ура-а! Комсорг прыгнул! Теперь все отделение перемахнет!
Отбегаю в сторону, с радостным удивлением гляжу на длинное-предлинное блестящее черное тулово укрощенного «мустанга». Неужели одолел? А ну-ка еще!.. Бегу на старт. И снова лечу. Вижу лишь задний край. Его достать во что бы то ни стало!.. Толчок!.. И опять перелетаю. Ура-а! — ликую в душе. Победа! Такая важная, долгожданная! А сам, наверняка красный, улыбаюсь во весь рот…
Вечером на самоподготовке прыгнул для закрепления еще дважды.
К сожалению, не все в отделении перепрыгнули. Малыши: Женька Середин и Колька-«суворовец» упрямо «садились в седло».
— У нас руки и ноги ко́ротки, а мерин такой длинно́й, поэтому не перелета́м! — объяснял свою неудачу Середин. А Колька поддакивал, да изредка глубокомысленно изрекал:
— В самолете и в полете лошадей нет!..
Но не только малыши не справились с «жеребцом». Лавровский и Герка Ромаровский тоже позорно плюхались «на вершину». Игорь, видимо, из-за своего роста в силу не вошел, а Герка — широкоплечий, здоровый парень по прозвищу «паникер» и «уй-уй-уй», то ли из-за своей неуклюжести, то ли от страха. Непонятный он человек. По виду богатырь, а при малейшей трудности, не стесняясь окружающих, начинает громко стонать:
— Уй, уй, уй! Как я с этим справлюсь? Что делать? Что делать?..
Сколько ни рассказывал им я, ни показывал, как научиться прыгать, ничего не помогало. Дальше середины не улетали. Остается лишь надеяться — со временем «укротят»…
* * *
«Хороша ты жизнь у нас на флоте не то что в этой обаной пехоте, нас фартово одевают и на берег не пускают, гоп со смыком это буду я-я…»— Не дает покоя Пекольский.
— Дежурный по роте…
— Что? Что? Есть! Бухают сапоги.
— Слышь, секлетарь! А секлетарь! — издевается Аттик. — И что сегодня тебя требуют начальники!.. То дежурный по училищу! То помаш! А теперь вот сам начальник УЛО вызывает к девятнадцати ноль-ноль! Что ты натворил, сознайся! — злорадным смешком заливается «моряк». — Я ведь никому не, говори! И что только тебе будет!?
Мне неохота с ним разговаривать. 25 кил скажу ометров бега и бессонная ночь дают себя знать. Я с трудом разлепляю веки. Но Аттик уже испарился.
— Кто это говорит?.. Девушка?!.. С утра он здесь в казарме!.. А как вас звать?! Давайте познакомимся!..
Я улыбаюсь. Не выдержала все-таки, позвонила, заботливая…
ИДУ НА ВЫ!..
От Любы ежемесячно получаю письма. И все теплее и теплее.
«Здравствуйте!
Я уже привыкла к вашим письмам. Красочно вы описали свой первый караул. Точно сама в нем побывала. Пишите о своей жизни подробнее и чаще. Я же ее не знаю, а она меня заинтриговала…»
Вострик, когда прочитал эти строки, округлил глаза.
— Ну ты даешь?! С пятого письма расположил к себе. Мне бы так.
Я тоже немножко жду ее писем. Радостно становится, когда их читаю. Внимание всегда согревает…
Успеваемость в роте немного повысилась. Отчислили группу «аргентинцев» во главе с Палко — «железных» двоечников, не вылезавших из санчасти. Но отстающих по-прежнему много.
Совсем недавно начальник УЛО подполковник Пауксон провел строевое собрание с активом батальона: командирами отделений и групкомсоргами.
Собрание проходило в его кабинете — большой угловой комнате.
Пауксон кратко ознакомил с успеваемостью батальона.
— Командование училища и меня, как начальника отдела, крайне интересует, в чем причина такой учебы? Что мешает лучше учиться?.. Хотелось бы знать ваше мнение по этому вопросу. Снизу порой бывает виднее. Прошу высказаться…
Один за другим говорили старшекурсники. Толково говорили. И лишь — «пятиротники» молчали.
Я ждал, когда выступят авторитеты — Желтов, Апрыкин, Хромов, Шмелев или комсорги. Но они почему-то отмалчивались?.. Вероятно, ждали моего выступления.
Пауксон хмуро взглянул на нас.
— Не понимаю, почему пятая рота воды в рот набрала? По успеваемости в батальоне занимает последнее место и упорно не хочет раскрыть своих секретов. Ваше слово, пятая рота…
Я заерзал на стуле, поглядел на своих. Кое-кто, покраснев, еще ниже опустил голову… Что же делать? Кто-то должен выручить роту. Неужели честно не выскажемся? Разве нечего сказать? Так почему молчим?
Пауксон остановил взгляд на мне. А-а! Будь что будет! Не хочу краснеть и отворачиваться. Да и зачем?..
— Разрешите…
Пауксон одобрительно кивнул.
— Курсант Ушаков — групкомсорг двадцать третьего классного отделения. По-моему, причина в одном — в нежелании всерьез учиться. В роте нет рвения к учебе. Наоборот, над теми, кто учится отлично, подсмеиваются. И в этом виноваты мы — актив: командиры и комсорги. Вот неопровержимый пример, знаю, многим он не понравится, ни один из командиров не учится на «отлично» и «хорошо». Отсюда и большинство троечников в отделениях. Без примера командира и его борьбы за отличную успеваемость дело не сдвинется с места. Пока мы сами не проникнемся этим — тон в отделениях по-прежнему будут задавать троечники…
Выпалив все, облегченный, словно сбросив невыносимую поклажу, сел с разрешения Пауксона на место. И черт с ним, что кому-то не понравится. Должно же командование знать правду, как бы она ни была горька. А наши пусть взглянут на себя со стороны. Узнают неподслащенное мнение о себе.
Я чувствовал пристальные взгляды, слышал шепот то ли одобрения, то ли возмущения за спиной и по бокам. С румянцем на щеках, но радостный, веселый сидел, опустив голову. Не испугался, высказал, что наболело на душе, а ведь не думал выступать. Если бы не требовательно-поощрительный взгляд Пауксона тоже, возможно, промолчал. Но не надо робеть, учиться надо говорить правду. В жизни и службе все пригодится.
После меня желающих выступить не было. Выступил только начальник.
— Я целиком согласен с курсантом Ушаковым. Скажу больше, я предчувствовал и ждал такого объяснения низкой успеваемости. И считаю это объективной причиной…
От такого заключения-похвалы я вспыхнул и сидел не шевелясь, уставясь немигающим взором в одну точку. Конечно, приятно, что мыслишь верно и солидные люди отмечают это. Еще раз убеждаешься, что не дурак. Даже теперь, когда более полугода отличник, и то нет окончательной уверенности, что не тупой и не хуже других.
По тихому шепотку и бросаемым отовсюду взглядам я понял, что мой авторитет заметно вырос. Но никак не мог предположить, что это приведет к неожиданным последствиям.
Примерно через неделю, на лестнице — рота спускалась на вечернюю прогулку — я был внезапно окружен группой желтовцев (курсантов 21-го отделения).
— Так ты считаешь, что у нас в роте командуют троечники? — спросил кто-то. — И командиры отделений не борются с ними, так как сами троечники?
Я, беспечно насвистывающий какую-то мелодию, удивленно оглянулся. Ни одного курсанта нашего отделения, да и… какая разница.
— Это ты говорил на совещании у начальника УЛО?
— Ну говорил, а вам-то что?
— Как это что, когда ты суешься не в свои дела?! — возмутился кто-то.
— Как это не в свои? — возразил я. — Я что, не курсант и меня что, не касается успеваемость роты?
— А с чего бы она тебя касалась? Ты командир роты или комбат? Ты почему охаиваешь командиров отделений? Нам гадишь? — неслось отовсюду. Злые возмущенные лица окружали меня.
— Что вам от меня надо? — посуровел я. — Если собрались бить, бейте!
— Да зачем нам руки марать о тебя?! На черта ты нам сдался!
— Тогда зачем пристаете ко мне? Угрожаете?
— Чтоб не болтал лишнего и не мешал людям жить!.. Пошли, ребя, что вы ему — фанатику доказываете. Бесполезно ведь…
И желтовцы растворились в толпе.
Мда-а, вот и поживи с народом. Я им добра желаю, а они его не хотят. У них свое понятие о добре и зле, смысле жизни. Не такое, как у меня и командования. Об этом мне первым месяца три тому назад сказал Колька Казанцев, когда я готовил второе комсомольское собрание отделения.
— Меня устраивает, как и большинство, такая удовлетворительная учеба. Зачем нам из кожи лезть, зарабатывая пятерки. Тебе надо, ты и кожилься. А мне не надо.
— Я не кожилюсь. И вам не надо, всего лишь раз добросовестно читать заданный материал. Некоторым, максимум два.
— Да зачем это надо? В части никто не смотрит, как ты закончил училище. Там служба начинается с начала. И часто отличник училища не проявляет себя, а бывший троечник становится асом. Вот так-то! Будем летать в части, тогда себя покажем!..
Так я и не убедил его тогда, как не убедил сейчас желтовцев…
«Мда-а, никак не ожидал, что таким гусем-жалобщиком окажется Желтов. Врагом летного мастерства. Хотя этого нужно было ожидать по его поведению к окружающим. Строит из себя барина, с презрением относится ко всем. Только и слышно: «Подай то, принеси это». Ни одного курсанта не знает по фамилии, все путает или сознательно так себя ведет?.. Как-то нарвался на Аттика Пекольского.
— Слушай, Титовский, передай своему командиру, чтобы пришел ко мне.
Аттик не растерялся, не я же, ответил в том же духе:
— Хорошо, Апрыкин, только сам его найди, — и оставил Желтова с открытым ртом.
А дружбу, основанную на кулаке, насаждаемую им в отделении, уверен, ждет крах. Время покажет и подтвердит это. Сами же его подчиненные-желтовцы преподнесут ему сюрприз. А пока что Желтов свирепствует. Частенько, оставаясь за старшину, проводит вечерние проверки и сыплет высказываниями на них больше, чем сам Иршин. В роте уже идет ропот.
…Часто говорят — коллектив всегда прав и считают коллектив всегда хороший. Я сомневаюсь в этом. Как люди разные, так и коллективы, ибо они состоят из людей, всего лишь сумма их. Каковы люди, таковы и коллективы. Орда Чингисхана, полчища псов-рыцарей, фашисты, к сожалению, тоже коллективы, причем сильные!..
И еще говорят: нет плохих коллективов, есть плохие руководители. А жизнь, порой, доказывает обратное. И у плохих коллективов бывают хорошие руководители. Просто они не могут по определенным причинам, хотя бы из-за недостатка времени и малости, пока что переломить плохой коллектив, исправить его. Тем более это самое трудное в жизни — изменить взгляды и привычки людей, отношения их друг к другу и к работе.
Пусть я плохой групкомсорг, плохой руководитель, но как стать хорошим?.. Да и какой уж есть. Я не просился на эту должность, да и другие комсорги не лучше. Такой, видно, пока наш уровень…
Удивляюсь и Шамкову. Откуда такая злоба? Кто его обидел?.. Среднее образование получил, дядя — подполковник-генштабист — без конца хвалится и нигде ни в чем не видит хорошего… И вовсе он не «ярый сторонник перестройки», как выдает себя. Скорее враг. «Очередная болтовня, рассчитанная на обман легковерных дурачков!» — вот его слова. — «Где это видано, чтобы целых три-и!.. года болтали, но не делали ничего в жизни?! Да если бы Ленин при вводе НЭПа три года занимался говорильней (чтоб массы лучше поняли, как объясняют), то Россия трижды сдохла бы с голоду, революция погибла и не нужен был бы никакой НЭП или другая политика. Гениальность Ленина в том и заключается, что он на переломных, гибельных для страны этапах в кратчайшие сроки единственный в руководстве, как никто другой, находил верную политику и тут же, не мешкая ни дня, проводил ее в жизнь, спасая революцию и Россию. Так было в ноябре семнадцатого, марте восемнадцатого, весной двадцать первого…»
Недавно напечатали список делегатов на партконференцию в областной газете. Так кто они?.. Как и раньше: секретари, директора, ректора, бригадиры-поддакивалы, не имеющие своих мыслей и предложений. Боящиеся самостоятельно выступить. Один редактор газеты, что стоит. Как-то случайно столкнулся с ним: чинуша-очковтиратель, презирающий ниже стоящих, зато лебезящий перед верхами… А первый секретарь так и не принял. (Носил тому и другому свое предложение о пунктах сбора умных, ценных предложений по стране, для скорейшего вовлечения всего населения в перестройку и убыстрения ее… Так не опубликовали и даже не ответили).
Вот она связь с массами!.. Опять организовали собственные выборы на пленуме. А на собраниях у нас так и не обсуждали ни одного кандидата… А ведь Ленин писал XII съезду: три четверти членов ЦК и ЦКК должны быть рабочие от станка и крестьяне с поля от сохи…
И все-таки Митька — второй по учебе в отделении — ненавидит меня из-за нее тоже. Ловко маскируется под борца, под открытого, смелого человека… И тем не менее его уважают, пока не раскусили… Ну да это их дело. В настоящем коллективе, уверен, поддержали бы меня…
В обычных-то курсантских ротах, где учатся «высшники» четыре года, совсем не так. Там действительно настоящие коллективы, а не стая, как у нас. У них и мыслей-то нет таких — повышение успеваемости. Все учатся хорошо и отлично. Редко, кто на тройки. Сынки-балбесы разве. Совсем распоясались и обнаглели. Одному комроты сынок выдал: «Вы никогда не будете майором, хотя ходите в капитанах семь лет. Мой отец — начальник парткомиссии округа. Перед ним командиры полков — полковники трепещут!..»
Другому ротному другой сынок вмазал:
«Мой отец — генерал!.. Я тебя в упор не вижу!..»
ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВИЧ
Проходя мимо комнаты истории училища, я увидел в полуоткрытую дверь своего инструктора практического обучения Кузнецова Евгения Федоровича. В парадном мундире тот стоял в окружении пионеров и комсомольцев — учащихся 5—10 классов. Взволнованный голос его невольно привлек мое внимание. Я остановился, потом, спросив разрешение, вошел в комнату и выслушал рассказ Евгения Федоровича с таким же интересом, как и школьники.
…Произошло это в августе 42 года. Наш только что сформированный полк ночных бомбардировщиков прибыл на Воронежский фронт.
Аэродром — ровное свежескошенное поле, покрытое кое-где копнами сена. На опушке леса и в поле замаскированные под копны самолеты По-2.
Первые дни мы маскировали самолеты, рыли землянки, изучали район полетов, противника. Но вот однажды дня через три после прибытия вызвали моего друга Костю — худого длинного парня — в штаб, самую большую землянку в «хозяйстве». Приходит он туда со своим штурманом — белобрысым пареньком, ростиком чуть повыше этого стула. Докладывает, как полагается.
Командир полка здоровущий, краснолицый едва в землянке помещается. Голову склонил, чтобы не задеть потолок, стоит набычившись, слушает их. Рядом с ним двое незнакомых военных. По одежде видно — офицеры общевойсковики.
— Ну вот что, сынки, — сказал полковник басовито, пригласив экипаж к карте, расстеленной на столе. — Надо срочно найти одну нашу часть, затерявшуюся где-то здесь, в этом лесу. — Он ткнул карандашом в зеленое пятно на карте. — Нет с ней связи и командование не знает, что с ними. А заодно и разведку выполните…
Полковник помолчал.
— Итак, приказываю вам разыскать часть и передать вот с капитаном (кивнул на рядом стоящего низенького толстенького офицера) пакет командиру полковнику Виноградову…
Минут через тридцать По-2, попрыгав немного между копнами, точно курица, поднялся в воздух.
В передней кабине за рычагами управления — Костя, в задней — тесной для двоих — капитан, а у него на коленях штурманец.
Идут по маршруту, ветер свистит в ушах, хоть и защитные козырьки впереди. Скорость порядка 100—120 километров в час, как у теперешней «Волги» на хорошем шоссе. Высота тоже вроде бы ничего. И не большая и не маленькая. Где-то около ста метров. Выше подняться опасно. Там обычно «мессеры» ходят, прихватить могут. Ниже тоже опасно, из любого пистолета подстрелят. В общем, идут как положено. Сверху солнышко светит, пушинки облаков, как хлопья ваты, плывут. Внизу зелень разная: то поля, то кустарники, то перелески. А кое-где черные жирные квадраты и прямоугольники пахоты свежей.
Штурман время прибытия на цель рассчитал и командиру сообщил. Тот старается курс выдерживать, на часы поглядывает, сличает карту с местностью, чтобы не заблудиться.
Минут за десять до прибытия вдали показалась синяя полоска леса. Около нее поле вроде бы чистое. Полегчало на душе у членов экипажа. Наполовину выполнили приказ командира — добрались до цели без происшествий. Обернулся Костя к штурману, показывает рукой на лес для самопроверки. Это, мол, цель? Тот из-за пулемета головой утвердительно кивает. Почти на бреющем над самыми верхушками деревьев прошли, вглядываясь вниз. И ничего не увидели. Ни техники боевой, ни людей, ни знаков никаких. Делать нечего: развернулись против ветра, пошли на посадку. Побежала трава навстречу, попрыгала немного, остановилась.
Костя развернул самолет в сторону поля так, чтобы в случае чего взлететь можно было с ходу. И двигатель не выключил, пусть работает на малых оборотах. Опять обернулся назад. А штурман уже по траве ходит, затекшие ноги разминает.
Вслед за ним, одетый в летный комбинезон с планшеткой на боку, капитан на землю спускается. Трудное это ему было дело. Животик солидный мешал. Ногу занесет за борт, землю щупает, достать не может. Лицо и шея покраснели, кровью налились, а через плоскость слезть не догадается. Пришлось штурману ему помочь, поддержать ногу руками.
Дальше, как рассказывал штурман, было следующее.
Пошли мы к лесу, боимся. Кобуры пистолетов для страховки расстегнули. Кто знает, может, стрелять придется. Впереди капитан, сзади на шаг я. Тихо, жарко. Из травы из-под ног разные пичуги вылетают. По кустам порхают, голосисто трелями заливаются. Кругом ни души, если не считать командира в самолете.
Вдруг из леса двое выходят. Оба здоровые, вроде командира полка нашего. Машут руками, зовут к себе. Мы остановились, к наганам потянулись. Они, видимо, заметили это, громко захохотали. Один из них, левый крикнул:
— Что струсили? Своих не узнаете? Мы стоим, не двигаемся.
— Мальчик, ты русский или не русский? — кричит снова левый. — Идите скорей сюда!
— Нет, вы идите, а мы подождем! — ответил капитан.
— Ну хорошо, идем, — рассмеялся в ответ все тот же в маскхалате. — Я старший лейтенант Козлов! Командир роты из части полковника Виноградова!..
Так с разговорами подошли они, улыбаются. Старший лейтенант объяснил, что нас в лесу давно ждет Виноградов. Второй тоже в маскхалате в подтверждение его слов головой кивает.
— Мне поручено провести вас к нему, — говорит Козлов.
— Ну, раз попали к своим — пошли, — неуверенно согласился капитан.
Когда осталось до опушки метров двести, капитан, учуяв что-то неладное, внезапно остановился:
— Ваши документы? — А сам выхватывает пистолет из кобуры. Тут на меня налетел «говорливый» верзила, а на капитана его напарник. Не успел я и охнуть, как очутился на земле. Руки назад заламывают. Слышу над головой: бах! Ба-бах! То капитан со своим «другом» борется. Оба ухватились за пистолет, рвут его друг у друга и стреляют куда попало.
Костя сидел в этот момент во второй кабине у пулемета. Когда увидел борьбу и услышал выстрелы, прилег к пулемету. Но тут же понял: стрелять нельзя — убьешь своих. Видит, на опушке леса замелькали фигуры. Все с автоматами, но тоже не стреляют. Решили, видно, всех взять живьем. Что делать? Дать по газам, да улететь — пакет спасешь, но друзей в плену оставишь. Бежать к ним на помощь — сам можешь попасть в плен.
На наше счастье схватка разыгралась недалеко от самолета. Выскочил Костя из кабины. Подбежал, пригибаясь и прячась за кустами. Бац из нагана в широкую спину гитлеровца, сидевшего на штурмане. А наган только щелкнул — осечка. Размахнулся тогда и ударил фашиста по голове. Глядит, повалился тот на бок.
Секунды потребовались на расправу с другим гитлеровцем. Сунул ему в бок револьвер и разрядил его. Второй осечки не произошло.
Увидев это, фашисты открыли огонь. А наши, что есть мочи, бегом к самолету. Вскочили в кабины, да скорей по газам. А фашисты уже близко. Но хорошо штурман с капитаном не растерялись. Как полоснут из ШКАСа[2] — фашистов будто ветром сдуло, попадали на землю.
Когда поднялись в воздух, то дали еще кружок, да угостили свинцовыми «конфетками».
После, когда экипаж вернулся домой, капитан так объяснил свою догадку, что перед ним враги.
— Иду я с ними и замечаю: сапоги-то у них не наши, форма-то их другая, на немецкие смахивают. Да и второй провожатый словно немой был. По-русски ни гу-гу. Не знал он его, вот и молчал.
А часть Виноградова была обнаружена Костей в соседнем лесу при обратном полете и связь с ней восстановили вовремя.
За выполнение этого задания командование наградило Костю орденом Красного Знамени, а штурмана и капитана — медалями «За отвагу».
Наступила тишина. Потом, словно очнувшись, Евгений Федорович с улыбкой добавил:
— В ту пору мы были чуть постарше вас. Нам было по восемнадцать.
Ребята не спускали глаз с Евгения Федоровича. Кто-то спросил:
— А за что вы получили вот этот орден Красного Знамени?
— Как-нибудь расскажу в следующий раз… Да знаете, примерно, такое же…
И тут каждый понял (по кончикам дрогнувших губ, по блеску глаз, по дрожащей руке, державшей орден), что летчиком Костей был он сам, Евгений Федорович…
ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ
Получили задание на 1-е упражнение. Уже проложили маршруты на картах, составили штурманские планы, провели розыгрыш полета и завтра-послезавтра, если не подведет погода, марш-марш на взлет. Не верится, что так скоро впервые полетим на самолете! Более полугода шли к этому, столько усилий затратили и наконец-то свершится! И я смогу всем сказать «я летал!» Еще с далекого детства все время слышал, каким мужественным, храбрым, выносливым, необыкновенным должен быть летчик. Среди мальчишек ходили жуткие слухи и рассказы о врачебных комиссиях, на которых кандидат в летчики и особенно в космонавты подвергался страшным испытаниям. Например, идет он по темному длинному коридору и неожиданно проваливается куда-то. Зажигается свет, подходит врач, измеряет пульс. Если повысился — в летчики не примут. Это на случай попадания в воздушную яму — проверка на самообладание.
Завтра предстоит испытать, что такое воздушные ямы. Лишь бы моторы не отказали…
На другой день ротная колонна прибыла на аэродром к 12.00, когда полеты были в самом разгаре. По-прежнему главная задача полков — полеты выпускников, которые вот-вот должны закончится. Мы на подхвате, если останется стартовое время — возьмут и нас. Нет — придем завтра.
Летными группами сидим в «квадрате», наблюдаем, как один за другим приземляются самолеты. Подходят к старту на высоте двух-трех метров, выравниваются и все ниже, ниже, словно нащупывая землю колесами, опускаются. Приподняв нос, вначале касаются ее слегка — облачка пыли вырываются из-под шасси — и бегут вдаль по полосе. Притормозив и убрав щитки, сворачивают на рулежную дорожку и плавно катятся назад. Гул, похожий на надсадный стон, стоит над аэродромом. Иные приземляются на все три колеса одновременно, другие — на два. Третьи, подойдя высоко, тянутся, тянутся к земле колесами и никак не могут ее нащупать — с задранным носом падают вниз с тридцати-пятидесяти сантиметров (воронья посадка) и, переваливаясь с крыла на крыло, катятся по полосе.
Но вот один из самолетов подрулил к нам, развернулся носом к старту, сбавил обороты.
— Третья группа, к самолету марш! — командует дежурный штурман.
Шесть «гавриков» давно уже на ногах, гуськом направляются к машине. В фюзеляже открывается дверь, на землю падает металлическая лесенка-стремянка, и по ней скатываются старшекурсники.
В дверях фигура в комбинезоне требовательно машет рукой. Курсанты переходят на бег, взбираются по стремянке в самолет, дверь захлопывается. Воют моторы, самолет дергается и бойко рулит к полосе, к шахматному домику — СКП — стартовому командному пункту. Развернувшись, на миг останавливается, ревмя ревет двигателями и плавно трогается с места… Вдали над землей набирает высоту…
Все! Ребята полетели!
Мы с улыбками переглядываемся. Вот, вот и мы будем там!
В летной форме мы как настоящие летчики. Вчера получили комбинезоны и шлемы. Не одно поколение курсантов летало в них. Старенькие, выцветшие, застиранные… Доморощенные «асы»-форсуны: «Суворовец», Середин, Гросс и другие еще вчера ухитрились сфотографироваться в летной форме с ветрочетами, навигационными линейками, картами и портфелями. Во все концы страны разошлют свои героические изображения с припиской: «Я — перед вылетом на Северный полюс!..»
Показался самолет — бортовой номер 5. Наш!..
Мы выстраиваемся на краю квадрата. Наконец-то долгожданная очередь! Грозно надвигается махина. Блестящими дисками вращаются винты. Не дай бог попасть под них — сразу убьет! Поднявшийся ветер и рев оглушают. Взбираемся в машину, занимаем места, раскладываем карты, бортжурналы, карандаши, линейки. Спешим. А самолет, взрокотав, уже порулил. Глядим в окна: уплывает назад квадрат с ребятами, ждущими своей очереди. Кое-кто машет рукой. Я тоже машу в ответ. Сердце колотится: бум! бум! бум! Глаза, наверное, блестят, щеки горят. Еще бы?! Сейчас взлет и полет! Сколько дней и ночей об этом мечталось.
Старт. Машина сотрясается от оглушительного гуда, дрожит, будто живая. Противно пахнет маслом, бензином и еще чем-то горелым. Гул переходит в стон, трогаемся с места и мчимся вперед, с каждой секундой набирая скорость.
Я смотрю на компас, часы, указатель скорости, стрелка которого подрагивает на нуле. В окне мелькает выбитая колесами серая полоса. Машина подпрыгивает и тут же снова стукается колесами о землю. Прыжки и падения следуют непрерывно. «А если откажет двигатель?» — замираю от страха. Сейчас! Сейчас! Но самолет, подпрыгнув, летит над землей и она все дальше уходит вниз, точно проваливается. Аэродром позади, мелькают островерхие качающиеся вершины березок. Не заметил, как стрелка указателя скорости оказалась на 280 километрах, а стрелка высотомера подползла к 200 метрам.
Бог ты мой!? Слева городок, стоянки самолетов, желтые кубики домов, а напротив величественно возвышается коробочка, самая красивая и большая. Чудеса! Весь городок как на ладони. А как четко пересекают его дороги, делят на квадраты и прямоугольники. А дальше левее поднимается город с бесчисленными трубами заводов.
— Под нами ИПМ![3] — прокричал инструктор и тут же самолет опустил левое крыло, а правое задрал вверх.
Ощущение — сейчас сорвется и упадет на далекую землю. Я отшатнулся от окна, ухватился за столик. Парашют?! — потрогал лямки, кольцо, саму подушку, на которой неудобно, как на коле, сидеть. Взглянул незаметно на двери. Если что — выпрыгну…
— По левому борту озеро Червенкуль!
Взглянул в окошко. Вода! Волны бегут, озеро круглое, на берегу деревня. Самолет качнулся, будто выпрямился.
— Легли на курс первого этапа!
Ставлю крестик на карте, записываю 15.02, смотрю на указатель скорости и высотомер. Первая стрелка замерла на 300, вторая на 600. Все бы хорошо, но машина дрожит, цифры получаются в бортжурнале «пьяные». Подвигаюсь к окошку. Поля, леса, а сзади сереет город. Пока писал, считал — пролетели, жалко не рассмотрел. Ну ничего, при возвращении увижу… В работе ужасно быстро летит время, а еще быстрей проплывает земля. Поэтому и теряют ориентировку.
Гляжу на парней — заняты, как и я, работой. Одни пишут, другие ползают у окон, третьи — уставились на приборы.
Подхожу к правому борту. Внизу какой-то город, железная дорога пересекает его, а слева дымится огромный котлован. В нем муравьишками копошатся экскаваторы, паровозики, машины. Склоны опоясаны дорогами.
Смотрю на карту, на первый этап маршрута. А вот и «железка», идущая к Надеждинску. И поселок Угольный. Неожиданно самолет проваливается. Все внутри подкатывает к горлу. Робко улыбаясь, переглядываемся. Что такое?.. А-а, воздушная яма. Так вот ты какая?! Снова валимся вниз, снова внутренности давят. Неприятно и страшновато. А инструктор весело посматривает. Привык и не боится. Еще провал, еще!.. Машина летит спотыкаясь, из ямы в яму, точно старая телега на ухабистой дороге. Это уже не полет — одна тряска. Внутри все переболталось. Да еще этот тошнотный запах бензина и масла, дурманящий голову.
— Не обращать внимания на болтанку! Продолжать работать!..
Но как работать, когда с сиденья чуть не скидывает?.. Осторожно передвигаемся по кабине. А за бортом виды — не оторвешься. Желтые, коричневые поля, бархатистые шкуры сосняков, веселые ковры березняков. Серые ниточки грунтовых дорог. Подковы и подковки сел и деревень, с крохотными колоколенками посередине. Голубые и зеленоватые озера различных форм. Серебристые извивы рек и речушек.
Глядишь и не наглядишься и нисколечко не страшно. Вот если бы в открытой кабине — от одной жуткой высоты умереть можно. А то борт кажется крепостью, с которой ничего не случится.
— Под нами поворотный! Первый полигон!
Припадаю к окнам — озеро вытянутое, ромбовидное, на восточном берегу вспаханный круг. Посередине — белый крест. Около него масса похожих на кляксы, черных воронок от разрывов бомб.
Разворачиваемся. И снова расчеты и запись результатов, потом ведение ориентировки. Левее чернеет и коптит разноцветными дымами Надеждинск. Летим вокруг него и видим из любой точки маршрута. Болтанка продолжается, начинает болеть голова, в горле удушливый комок, грудь распирает, подташнивает. Того и гляди вырвет. Стараюсь превозмочь себя, работаю, но делается все хуже и хуже. Как назло, впервые наелись вдоволь по летной норме. Масла и сахару проглотили по кусищу и, наконец-то, молока выпили по стакану. Теперь все это просится наружу. И черт дернул почревоугодничать!..
Последний поворотный — 2-й полигон. Озеро только грибообразное. На шляпке сверху — вспаханный круг с белым крестом. Ставлю отметку на карте и рассчитываю время прибытия на аэродром. Все! Конец работе, если не считать ориентировки и осмотрительности. Но не до них. Вот-вот вырвет. Сижу, пыжусь. Неужели в каждом полете такие муки?.. Тошнит — спасу нет.
— Ты белый-белый, — говорит кто-то.
Ползу в хвост к ведру. Тут болтает еще сильнее, вероятно, как на корабле в шторм.
Едва дождался прилета домой. Идем на посадку. Самолет опустил нос, нацелился на полосу. Поскорей бы благополучно сесть, да выползти из кабины. Посадка самое сложное, говорят летчики, и самое опасное. На ней больше всего разбиваются…
Мчимся к земле, стремлюсь к ней всей душой и в то же время боюсь. Ну, пилоты, покажите свое мастерство!
Мелькает за окнами шашечный СКП с антенной, качающаяся трава, серо-бурые лысины. Все ближе и ближе желанная и немного страшная родная земля… Валимся вниз, удар! Грохочут шасси, скрипят тормоза. Фу, сели! Живы?! Живы-ы!..
Ложусь на столик, закрываю глаза. Не пил, а хуже пьяного. Жмет сердце, кружит голову… Заруливаем на стоянку, выползаем из самолета. Нет сил, даже язык не ворочается. Подхожу к командиру корабля — представительному мужчине средних лет. Должен же понять…
— Товарищ капитан, разрешите обратиться? — едва выговариваю.
— Ну?
— Мне очень плохо, разрешите уйти в казарму?
Капитан недоверчиво смотрит.
— Всем было плохо. Терпите.
Я ошеломленно отшатываюсь. Как бесчеловечно! Чуть слезы из глаз не брызнули. Неужели не видно, что еле живой?.. Ребята говорят уже желто-зеленый. Если бы я был командиром, …а капитан уже шел своей дорогой… Стоять нет сил. Обойдя хвост, упал в траву. Будь что будет! Грудь разрывается, голова раскалывается, во рту гадость. Позывы рвоты прокатываются судорогой по телу…
Не-ет, не надо мне больших денег, которые получают летчики, и красивой формы, и больших городов, и удобных квартир… Здоровья дайте… Не получится из меня летчика, …снова искать место в жизни. Куда идти?.. Снова в институт?.. Но не оставаться же здесь… А может, привыкну?
В этот вечер и на другой день только и разговоров было в роте, что о первом полете. Оказалось, многие чувствовали себя неважно…
СЮРПРИЗ
Писем от друзей, к стыду их и своему, почти не получаю. От Рашида за все время было всего одно-единственное. От Николая — побольше. Обещались с «Портосом» описывать красоты природы, а слова не сдержали. Давно должны добраться до Владивостока, сдать экзамены и быть уже курсантами, но ни слуху ни духу… Что с ними? Неизвестно. А может, не прошли по медкомиссии или на экзаменах провалились?.. Тогда плохо, а не хотелось бы.
Сегодня на удивление долгожданное, сногсшибательное письмо от Николая:
«Здорово, дружище!
Наверняка, потерял нас. А мы рядом, ни за что не догадаешься где? Тоже в Надеждинске! Только в автотракторном училище в 12 километрах от тебя! Приглашаем в гости. Бери увольнение и приходи. Ждем!..»
Вот это да?! В голове не укладывается! Я прописал их во Владивостоке, жду не дождусь оттуда письма, а они уже с месяц живут по соседству и весточки не подают. Нет, этого не может быть?! Не поверю, пока сам не увижу… Но вот письмо и обратный адрес. Скажи кому — захохочут. Ехали во Владивосток, а приехали в… Надеждинск… Да, жизнь распоряжается нами по-своему, хотя мы изо всех сил пытаемся распоряжаться ею. Сильнее она нас. Вот и закладывает нам такие виражи. Носит по белу свету, как пылинки, и никогда не узнаешь, не угадаешь, где прибьет к месту. А переломить ее по-своему могут, возможно, исключительно сильные, волевые, умные люди или редкие счастливчики, попавшие в благоприятные условия.
Получить увольнение в город на ближайшее воскресенье не составило труда. Никогда же не ходил, …а Магонин и старшина удивились, когда узнали о моем желании. Проблемой оказалось добраться до города. Идти 12 километров далеко. Стоял у проходной, ждал автобуса. Наконец, он пришел. Толпа народу кинулась к нему. Последовал примеру старших…
Уцепившись за поручень, подпрыгивая на ухабах, смотрел на открывавшиеся виды: поля картошки, пустыри, потом низенькие домики окраин.
Училище разыскал быстро. Конечно, никакого сравнения с нашим. Во-первых, мало по территории, во-вторых, какие-то двухэтажные красные казармы древней постройки. Ничего солидного, запоминающегося. И как тут учатся?..
И на территорию прошел легко. Не то что у нас — дальше ворот не пропустят. И ребят разыскал легко. Стоило лишь подойти к среднему зданию.
— Здорово, гроб! — вывалился из дверей, шумно и дико — такая уж манера — приветствовал меня «Портос». — Не ожидал нас увидеть здесь?..
Николай приветствовал тише, но усиленно хлопал по спине.
Отошли к стадиону, присели на лужайку. Я с восторженным изумлением всматривался в лица друзей… Они?! И вдруг в одном городе! Да это невозможно?! Никто же из нас никогда не собирался в Надеждинск! Мысли не бродило! И вдруг… трое из школы. Не зря говорят — в жизни все бывает.
К нашему общему удовольствию моя мамочка выслала с парнями посылку. И теперь она пригодилась более чем кстати. Лакомясь, беседовали обо всем и в первую очередь о Синарске, о доме и грустили. Когда теперь встретимся там… и встретимся ли?..
В Тихоокеанское Коля не попал из-за своей заячьей губы, а Петька, чуть порозовев, что-то пробормотал о конкурсе. Коля, насмешливо глянув, только презрительно фыркнул. Ясно, завалился «Портос», а сказать правду — не в характере.
ГОРЕ-КУРСАНТ
Ко всем моим заботам добавилась новая. На комсомольском собрании обязали шефствовать над слабаком Черновидским, сделать из него успевающего. Боюсь, что из этой затеи ничего не выйдет. И не только потому, что учимся в разных отделениях (как будто у них — апрыкинцев нет своих способных курсантов). Главное — разные мы люди. Тем не менее стараюсь добросовестно выполнять поручение. Ежедневно после обеда подхожу к Черновидскому. Тот с неизменной улыбкой встречает:
— Пока все ясно, помощь не требуется.
Странный человек! Зато мне не ясно, почему получает двойки, если все ему ясно?
Через полмесяца не выдержал:
— Послушай, Черновидский. На следующем собрании мне предложат отчитаться о работе с тобой. И что я скажу, если мы ни разу не занимались? Долго я должен ходить и уговаривать?..
— Знаешь, все как-то некогда, — сидя на постели, Черновидский снимал брюки, готовясь к дневному отдыху. — Давай со следующей недели?..
— Ты это уже предлагал, но прошло две недели впустую. Давай сегодня вечером в ленкомнате позанимаемся?
— Не-ет, — с сожалением тянет Черновидский, — сегодня не могу. Занят, другие, более важные дела есть.
— Так когда?
Он размышляет и вдруг загорается.
— А давай сейчас?!
— Как? Сейчас же сончас?
— Ну и что? — забирается под одеяло Черновидский. — Пока я не уснул, ты читай. А как усну — иди к себе.
Я ошеломленно гляжу на него, потом взрываюсь.
— А пошел бы ты знаешь куда!..
Больше я не подходил к нему. Но о работе с ним меня действительно спросили и очень странным непонятным образом.
Комроты Умаркин в конце одного из собраний в ленкомнате, с горечью сказал:
— Разве может быть у нас отличная дисциплина и учеба, если сами отличники не выполняют своих обязанностей. Курсанту Ушакову поручалось помочь курсанту Черновидскому. И что вы думаете, он помог?..
Я сжался, услышав свою фамилию в зловещем тоне.
— Ни разу не подошел к Черновидскому, в результате тот продолжает получать двойки.
В ленкомнате возмущенно загудели, осуждающе закачали головами, заоглядывались, отыскивая меня.
Я покраснел, бросило в жар, не знал, куда деваться. Вот она, награда за бесчисленные попытки выполнить поручение. Предчувствовал. И откуда только сведения такие у комроты?.. От Черновидского? Или от других. Мог бы спросить… Еле дождался конца собрания, когда разрешили задавать вопросы. Бледный, заикаясь и глотая слова от нестерпимой обиды, рассказал о последней попытке занятий. И когда сел на место, зал снова осуждающе загудел теперь по адресу Черновидского. Вот и имей дела с Черновидским и подобными…
НАГРАДА
29 октября отмечали день Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи.
В офицерском клубе — торжественное собрание. Приятно ошеломляющим оказался приказ. Многим объявили благодарности впервые от самого начальника училища. Елиферия Зотеевича Шмелева и еще человек пять — «наградить фотографиями, снятыми при развернутом знамени училища».
А что же меня? — неприятно сжалось сердце. Или за Черновидского наказали?
…— поощрить краткосрочным отпуском сроком на десять суток с выездом на родину курсанта Ушакова! — прозвучало в зале.
Я, оглушенный свалившимся счастьем, сидел ни жив ни мертв, не веря ушам. Потом, порозовев, заулыбался.
Какое все же чуткое начальство, словно знало, о чем мечтаю. 10 суток! Как раз все ноябрьские праздники буду дома! Это же награда из наград! Увижу одноклассников! Схожу на диско, на вечера в драмтеатр! Увижу Лильку и, может, поговорю! Наемся вдоволь домашней стряпни, овощей!.. Да! Счастливей меня нет, а всего три минуты назад был несчастным!..
Конечно, быть снятым при развернутом знамени училища и выслать домой фото тоже почетно и приятно. Но не сравнимо с отпуском. Лучшего поощрения для солдат и курсантов, чем отпуск, нет, не было и не будет! С первого же дня жизни в армии каждый мечтает, как бы скорей попасть домой. Увидеть милую родину, отдохнуть от распорядка, команд, себя показать…
Остальные дни до отъезда прошли в хлопотах оформления проездных документов и сладостном ожидании отпуска. Правда, удивил Иршин. Как-то, идя со мной в строевой отдел, разразился тирадой:
— Послушай, ты едешь в отпуск, у тебя праздник, а я за что с тобой маюсь?..
Я взглянул на него растерянно.
— Хожу вверх-вниз по этажам, кабинетам, да начальникам за какие пироги и пышки?..
Что это? О чем?.. И тут, поняв, опешил и даже покраснел от стыда за него.
— Нет, в самом деле? — канючил Иршин.
Меня охватила злость, так и подмывало ответить: «Ходите по приказанию комроты, выполняете свои обязанности, а не по моей просьбе…» Но такое сказать?.. Сгноит в нарядах в нужнике. Итак врагов дополна. Да и попаду ли домой?.. И я молчал, не зная, что и буркнуть. И лишь после моего туманного выражения: «Думаю, что моя поездка будет всем на пользу» старшина умолк.
Я слышал о подобном от отца, да от бабушки, которая в 42 году ездила к дяде Володе. Ну тогда был голод, люди стремились выжить. Но сейчас-то нет голода, а привычка что-то урвать от подчиненного у некоторых осталась…
Наконец… глухой ночью я был дома. Переполошил маму и сестру, которые, ясно, не ждали меня.
Не писал же о своем приезде. Радостных ахов и охов, вопросов и разговоров хватило до самого утра. Мама и Галя больше спрашивали, поддакивали, да качали головами. Уснули счастливые, что снова вместе.
…Отпуск! Отпуск! — сплошной праздник пролетел, как самолет в голубом небе. К Лильке сходить так и не насмелился. Точнее пошел, дошел до ее переулка, но дотянуть до дома не смог. Горючки — духу не хватило.
Стоял и глядел на ворота, в которых лет десять назад увидел ее. Милая девочка-второклассница в черной цигейковой шубке, перепоясанная ремешком, такой же шапке с продолговатыми ушами, завязанными под подбородком, в красных фетровых валеночках запомнилась навсегда. Ну что я сейчас зайду? Чем удивлю?.. Солдатской шинелью с курсантскими погонами? Или рассказами о полетах?.. Так я не пилот, самолетом не управляю. Нет, рано еще идти к ней. Вот через год можно. Офицерские погоны что-нибудь да значат. Должна же хоть немного заинтересоваться, что очень и очень сомнительно… Наверняка, уже сейчас у ней есть парень. И внешне лучше меня. Лилька не такой человек, чтобы быть одна. Хорошо ей — всегда есть выбор. Только выбери правильно. Меня, знаю, не выберет, а должна бы из-за моей длительной возвышенной любви. Я ей не нужен. Типичный «ГСЖ» — мелкий телеграфист. Но я стреляться не буду. Докажу, что только я был достоин ее любви. Пусть на это уйдут годы, вся жизнь, но докажу. Она еще пожалеет, что отвергла…
А может, Лилька не достойна любви? Но, к сожалению, любовь сильнее и живет во мне помимо моей воли. Подчинила и командует, а я выполняю ее желания. Если бы видеть Лильку вблизи в домашних что ли условиях, то, может, у ней бы обнаружилась куча недостатков, из-за которых бы разлюбил. Но это невозможно. Лилька сверкает звездой, заставляя собой любоваться. Конечно, она тоже, как всякий человек, имеет свои недостатки. Но я их издалека не вижу. И, наверняка, она совсем не такая, какой ее себе представляю, какой люблю тот идеальный образ, который сложился в моей голове. Я даже не знаю, добрая она или злая, щедрая или скупая, хвастливая или скромная, честная или лживая, принципиальная или приспособленка, верная как друг и жена или обманщица? Какие имеет взгляды, к чему стремится, что в жизни любит, чем увлекается?..
Скоро закончит алюминиевый техникум. Вот еще парадокс! Никогда не думал, что пойдет учиться туда. Только в столичном вузе блистать, во ВГИКе или консерватории. И на тебе — лучшая ученица, из года в год круглая отличница — осталась дома, словно серая троечница…
НЕПРИЯТНОСТИ
По прибытии в училище меня ожидал маленький сюрприз — многостраничное письмо из Среднегорска. Я даже удивился — впервые такое большое. Что ж! Тем интересней!
Люба, возможно, по моему примеру описывала институтскую жизнь второго курса, на котором училась. Подготовку к празднику Октябрьской революции, сетовала, что редко пишу.
«Послушайте, уважаемый. Раз вы сами напросились на переписку, так поддерживайте ее активно. А то от вас последнее время едва письма дождешься. Любопытно, чем вы так заняты?! Ах, да! Вострик писал как-то, что вы отличник и комсомольский активист и прямо горите синим пламенем на службе, учебе и работе. Ну гореть горите, да только не сгорите, а то я лишусь оригинального знакомого, подающего известные надежды стать блестящим офицером…»
Вострик тоже преподнес сюрприз. Посверкивая глазами-смородинами, подошел улыбающийся.
— Могу показать Любу, получил недавно фото.
Вытащил карточку из нагрудного кармана рубашки.
На скамейке в уголке сада — девушка в светлом осеннем клетчатом пальто смотрит вдаль.
— Ну как? — не сводил глаз Вострик.
— Снимок плоховат, но видно, что девушка симпатичная, — успокоил его.
— В жизни она гораздо лучше.
— Теперь-то я могу не писать? — улыбнулся я. — Мавр сделал свое дело — мавр может удалиться?
— Что, надоело?
— Не вижу смысла, одна двусмысленность.
— Попиши еще, недолго осталось.
Я пожал плечами. Странный человек Вострик, с непонятными причудами. Сотню кругов пробегает на стадионе. 40 километров!
— Не боишься, что из меня сделаешь конкурента? Третий всегда лишний.
Вострик помрачнел, кольнул взглядом.
— Тогда убью.
Помрачнел и я.
— И это твоя благодарность?.. Не бойся, не буду конкурентом…
Другая неприятность. Митька Шамков совсем осатанел от зависти к моей поездке. Не дает проходу своими остротами и язвительными замечаниями. И все в присутствии ребят, чтобы все слышали и смеялись.
Не знаю, что с ним и делать? Так и хочется избить где-нибудь в темном углу.
В обед в столовой Митька снова завел песенку: все у них хорошо, у нас все плохо.
— Вот у немцев на фронте так и хлеб-то был тридцать шестого года изготовления. Развернешь белую прозрачную обертку, а он свежий, свежий будто только выпечен. Не то что наш этот, — кивнул на тарелку с ломтями, — в рот не лезет. А у англичан каждому офицеру на передовой положена брезентовая ванна. А у американцев!..
Я слушал, слушал, не выдержал:
— Как же тогда мы их победили?
— А так и победили, — качнул головой Митька с ехидноватой полуусмешкой.
— Объясни, ты же все знаешь.
— Ха! Беда с младенцами — опять пристают! — обвел взглядом по лицам. — Несметным числом жертв, да громадностью территории. Пятнадцать Франций разместилось бы на захваченной территории.
— Почему все-таки у них провалился блицкриг? Они же знали и подсчитали всю огромность пространства, а Москву так и не взяли ни осенью сорок первого, когда стояли на окраинах, ни летом сорок второго. Значит, дело не в территории?
— Я же сказал еще несметным числом жертв! — возмутился Шамков. — Да и что это за победа?! Стыд и боль! Полстраны угробить — больше чем население Канады, да еще этим гордимся?! Такого еще нигде не бывало! Несчастная Россия! А ведь русская армия всегда побеждала не числом…
— Да и я когда слышу, что «нам нужна победа, а за ценой не постоим», всегда возмущаюсь. Именно поэтому погибли мой дедушка и его братья.
— Вон Израиль в шестидневной войне шестьдесят седьмого года заплатил за победу всего шестью солдатами!.. Обидно, а мы чем хуже?!
— Сталинский принцип «война без жертв не бывает» служил и служит оправданием многомиллионным потерям. А он вытекал из репрессий тридцать седьмого.
— Митрий, да не спорь ты с ним! — вмешался Казанцев. — Я уже говорил — он, может, осведомитель, а ты с ним базаришь разное. Говорят, собирался поступать в КГБ-эшники.
Не понимаю ребят, почему не поддерживают меня? Ведь твержу азбучные, бесспорные истины: Родину надо любить, быть ей верным; курение и пьянка вредны, лучше учиться отлично, чем плохо, — а поддерживают Шамкова, доказывающего обратное. Уверен — сами-то они так не думают.
— Ох, да! Я это и забыл, — закачался благодарственно Митька. — И то думаю, с чего бы это младенцам отпуска домой давать стали? За какие такие заслуги?..
За столом захохотали.
Я вскипел. Ну сколько можно терпеть издевательства?!
— Послушай, умник. Ты когда прекратишь меня оскорблять?!
Все притихли.
— Раз я осведомитель, так оправдаю это название! На днях схожу к уполномоченному и расскажу, как ты изо дня в день охаиваешь нашу страну, социалистический строй и превозносишь до небес капиталистический! Какой же ты после этого защитник Родины? Будущий офицер! Да в первом же бою сдашься, изменишь!..
Митька, жгуче покраснев, только хлопал ресницами.
— А на ближайшем комсомольском собрании расскажу всей роте, что ты за человек и достоин ли быть в комсомоле!..
Митька, посерев, лишь беззвучно раскрывал и закрывал рот. Парни, посерьезнев, тревожно поглядывали. Казанцев снова пришел на помощь Шамкову.
— Ладно тебе, он же пошутил.
— Над Родиной не шутят и не оплевывают ее!
— Ну подумаешь, поговорили между собой, так сразу бежать жаловаться?..
— Ничего себе… между собой! Го-од тянется это и никого не волнует! Все слушают, да похохатывают…
РАЗГРОМ…
В роте только и разговоров, что о предстоящих переводных экзаменах, которые начнутся через месяц. Этому же было посвящено и комсомольское собрание. Докладчик Шмелев Елиферий обстоятельно рассказал о ротной успеваемости, и призвал на «отлично» и «хорошо» сдать экзамены.
Собрание, как и ожидалось, проходило бурно. Выступило много комсомольцев и все с разными точками зрения и предложениями. В главном едины: сдать экзамены как можно лучше. Но в большинстве выступлений сквозило: вот если бы нам не мешали, так учились бы лучше. Было не совсем понятно, кто, чем и кому мешает?
Выступил и я. Когда шел к трибунке, видел краешком глаза, как покраснел Шамков. Как склонился к нему Казанцев и что-то зашептал, косясь на меня. Боятся однако, что расскажу о них. Ничего, пусть потрясутся.
— Здесь многие и много говорили об учебе. Как ее сделать отличной, какие принять меры. По собственному опыту скажу, способ один: самому захотеть отлично учиться. И это совсем не тяжело, надо лишь повернуться к учебе, почувствовать ответственность за нее. Наш Магонин так скоро охрипнет, постоянно одергивая на самоподготовке ярых болтунов…
Павел заерзал на табурете, услышав такое. «Черт его знает, что еще ляпнет Ушаков?!»
— Если начать подготовку с завтрашнего дня, точнее с сегодняшнего вечера…
— Кто его даст сегодняшний-то вечер?! — раздался выкрик. — Уже десять — через час отбой!
— Не упустить ни одного часа, можно хорошо подготовиться и сдать экзамены. Помогу каждому разобраться в материале, кто обратится ко мне. Замечаю также, много ходит у нас ненужных разговоров, охаивающих все наше советское и восхваляющих чужое, буржуазное…
В казарме зашикали, установилась тишина. Митька Шамков, опустив голову, спрятался за спины. Вот так взрослый?! Младенца испугался!.. Это тебе не за столом болтать в окружении подпевал!..
— Считаю, не к лицу нам, комсомольцам-курсантам, будущим штурманам воздушных кораблей, выступать против своего образа жизни и хвалить чужой, который мы не знаем. Наоборот, комсомольцы всегда были ярыми защитниками! Так давайте и мы будем такими!..
— Кто охаиватели? Назови фамилии! — откуда-то слева не из 23-го отделения послышались возмущенные голоса.
Я повернулся туда.
— Пусть он встанет и сам назовет. Пусть встанет, раз такой смелый! Они знают, о ком я говорю. Думаю, что после этого публичного предупреждения прекратят вредные разговоры. А если не прекратят, то на следующем собрании назову имена.
Казарма, точно рой пчел, растревоженно загудела. И не поймешь, то ли осуждающе, то ли одобрительно. Елиферий встал из-за стола.
— Спокойно, спокойно, товарищи! Продолжаем работу!
— У нас любят говорить о перестройке. Даже здесь говорили. Но как проходит она у нас?.. Да никак!
— Правильно!..
— Многие понимают под ней не укрепление справедливости и гласности, а ослабление дисциплины, очернение всего и всех. Перестраивать надо наши отношения друг с другом, свою службу, учебу, дисциплину. Пока что мы живем по законам стаи, а не дружного коллектива. Кто физически сильней и со связями, тот и командует.
— Правильно!..
— Вот только слышу, что офицеров-пьяниц стали выгонять. А то их особенно много было раньше, как рассказывал мой отец. И они резво росли, а тех, кто не пил, увольняли как не сработавшихся с коллективом!..
Теперь покраснело начальство, заерзало на стульях. Умаркин, гмыкнув, не выдержал:
— Вы не уходите в сторону, говорите по существу.
— Пусть говорит! — снова возглас. — Интересно!
— А я и говорю по существу. Это надо знать всем нашим выпивохам, если хотят служить!.. Нас волнует не только сегодняшняя жизнь, но и будущая — офицерская! Хотя понимаю, что это не здесь надо говорить и не сейчас. Но тогда где… и когда?.. Разве справедливо, что почти все из нас, даже отличники, не попадут в академию, хотя и будут рваться туда, а вольнослушатели, благодаря связям, закончат ее уже через шесть лет!?
Разве справедливо, что мохнатолапые станут через тринадцать-пятнадцать лет полковниками да генералами, займут не свои места, а те, кто действительно способен на многое, дослужатся едва до майора?!..
— Не о том говорите, курсант Ушаков! — возмутился Умаркин.
— О том! О том! Сейчас гласность!..
— Не случайно даже анекдот сложили. Внучок спрашивает у дедушки-генерала: «Дедушка, я буду генералом?»
«Будешь, будешь, дорогой».
«А маршалом?»
«Нет, не будешь».
«А почему?»
«Потому что у маршала свой внучок есть…»
— Верно! Браво! Молодец! — затопала ногами рота.
— Разве справедливо, что простые парни, как мы, воюют и погибают в Афгане, а грязнолапые служат в тепле, да командуют нами?.. Живой пример — штурман ВВС округа Рюков! За десять лет дослужился до полковника, а сам, будучи курсантом нашего училища, ни разу не отвечал преподавателям, ни одного экзамена не сдавал, как рассказывают авторитетные товарищи. Потому что был зятем начальника училища, генерала. И академию так же прошел безответно!..
Не потому ли сейчас нет таких полководцев, как Уборевич, Блюхер, Жуков, которые росли не по блату, а в боях?!..
Разве не поэтому наши, стоящие в Афгане вот уже десять лет, никак не могут разбить душманов?.. Да только поэтому!.. А если, не дай бог, большая война?.. Опять платить за победу десятками миллионов?.. А чтобы этого не было, считаю, в армии надо в мирное время ввести конкурс на должности. И на кандидатов в академию, отбросив должностной ценз, который не дает рядовым офицерам без связей поступать туда.
— Правильно!
— И последнее! — бросил в притихший зал я. — Не к лицу нам — комсомольцам, а через год офицерам — давать друг другу прозвища! Больше того, совсем стыд потеряли, даем прозвища своим командирам, преподавателям, начальникам, которые возрастом нам в отцы годятся. А они защитили нас от смерти, от фашистов, от рабства! Дали счастливую жизнь, возможность учиться здесь! Большинство из них за подвиги награждены боевыми орденами и медалями, а многие из нас этого даже не знают!.. Уважать мы их должны до конца дней своих! Пример брать!.. Вот недавно я узнал, что наш инструктор по практике герой!.. Уже за первый боевой вылет в 42-м году был награжден орденом Красного Знамени! А некоторые называют его губошлепом!
Рота заволновалась, заколыхалась, возмущенно зашумела.
Я повысил голос:
— И даже комбата не пощадили?!.. А ведь он нам в полном смысле отцом является!.. В Афганистане сражался!..
Рота взорвалась, затопала ногами.
— Назови! Назови фамилии! — неслось отовсюду.
Я поглядел по сторонам, напрягся и выпалил:
— Хорошо! Назову! Но, чур, условие! Только не обижаться и после мне не угрожать, как было уже раз на лестнице. Это-о курсант Лавровский! Курсант Середин! Курсант Казанцев! Курсант Пекольский из двадцать второго отделения и другие, которых вы лучше знаете!..
— Ох-хо-хо-о! — стоном катилось по казарме.
— А не боишься, что голову оторвем?!
— А мы договаривались не отрывать! — нашелся я.
Шум, гам, выкрики. Пришлось Шмелеву снова вставать:
— Спокойно! Спокойно, товарищи! Продолжаем работу!
— Вот тут Середин хочет выступить. Дайте ему слово!..
— Не надо! Не хочу-у!..
— Хочет! Хочет! — снова чей-то настойчивый голос.
— Он же ни разу не выступал!.. Пусть выступит! Обязан! Просите его, мужики!..
— Давай, Середа! Нечего отсиживаться, да молчать в тряпочку! — подзадоривали азартные голоса.
— Не-е!.. — сопротивляется Женька.
— У него много хороших мыслей! Предложений! Вот увидите!..
— Так как, Середин?! — включается Шмелев. — Будешь говорить?
— Будет! Будет! Объявляйте!..
Середу вытолкнули из плотной группы нашего отделения в направлении трибуны. Он шарахнулся назад. И снова мячиком отлетел к трибуне.
— Ну хорошо, я только с места! — сдался раскрасневшийся Женька. — Можно? — повернулся к президиуму собрания.
— Говори! — кивнул Елиферий.
— Ну-ка, разнеси Ушакова в пух и прах!
— Вот здесь галдели: Середин не выступат!.. А почему?..
Зал притих.
— А потому, что недавно выступил один генерал и сказал: «Сейчас, товарищи офицеры, перестройка! И вы можете безбоязненно критиковать своих начальников. И за это вам ничего не будет, ничего не получите!.. Ни очередного звания, ни квартиры, ни продвижения по службе. Так что критикуйте!»
Звенящий хохот потряс казарму. Спровоцировавшие Середу на речь не ошиблись.
— Или другой пример! — входил в раж Женька. — Почему Министерство обороны не организует КВН? Ведь там столько людей!
Все выжидающе замерли с улыбками на лицах, ожидая очередного подвоха.
— А в самом деле, почему? — не выдержал простота Магонин.
— Кончайте КВН, Середин! — возмутился ротный. — Перестройка армии не касается! Так сказал другой генерал…
— Здесь комсомольское собрание, а не строевое. Не затыкайте рот, пусть ответит!..
— Потому что всех веселых отправили служить на Камчатку и остались одни находчивые!
Снова гром хохота.
— И еще… Раньше государство на чем держалось?.. — озадачил Женька вопросом. Да так, что все плутовато притихли.
— На боге и молитве!.. А теперь?.. — снова коварный вопрос… Середа аж тяжело вздохнул, покраснел (так ему хотелось привычно выразиться) и выпалил:
— …на дыре и пол-литре!..
Топот ног одновременно с хохотом заполнил казарму.
…Последними выступили Лавровский и Шмелев. Но, к сожалению, Игорь относится к широко распространенному типу ораторов, которые только правильно говорят. На собрании за трибуной — руководитель, а после — первый нарушитель. Как-то на лестнице, ведущей на чердак, я увидел его «бухим». Сидел небритый, а верный Ромаровский крутился рядом.
Я, понятно, тогда промолчал. Но потом, улучив момент, когда с Игорем никого не было, сказал осуждающе:
— Зачем напился? Ты же член бюро! Какой пример подаешь?!
Тот взглянул недовольно.
— Ты плохо знаешь диалектику. Человек не может быть всегда идеальным. Нужна разрядка.
Вот таков Игорь. И неплохой вроде человек, но слабоват к «дури». Возможно, из-за этого и институт бросил. Или выгнали…
Елиферий Зотеевич другого склада. Дисциплину не нарушает, но борется за нее, в основном, с трибуны в окружении командования. После собрания всегда держит нейтралитет. Не делает замечаний ни одному разгильдяю.
А бороться за дисциплину, за отличную успеваемость надо, по-моему, повседневно, в самой гуще курсантов, во всех условиях армейской жизни в любое время. И словом и делом — личным примером. Только тогда будет настоящая отдача и действенность комсомольской работы. А то покритиковать с трибуны какого-то нарушителя, которого критикуют все, самое легкое. И он на тебя не обидится.
По-видимому, Елиферий нарочно так делает. Бережет здоровье, не портит ни с кем отношений, действуя по принципу: зачем, будучи в массе, воевать с массой? Все равно ее не перевоспитаешь, а неприятности получишь…
Постановили: в ближайшее время организовать встречу с офицерами училища — героями фронтовиками.
…Проснулся от нестерпимой рези в низу живота. Скорей в туалет… В полутьме вскочил с койки, шагнул к сапогам. Надернул один, надернул другой… Ой, что за гадость?!.. Полсапога воды? Выдернул ногу, словно ожегся. Склонился… Ударил запах мочи… Вот гад! Отомстил!.. Или отомстили? Кто?.. Разве признаются…
Заковылял по проходу, неся сапог в руке…
ЧП
В нашем отделении ЧП. Да и, пожалуй, в роте. Из увольнения после отбоя пришел «диким» Вострик. Полночи не давал спать: шарашился в проходах, скрипел зубами, стонал, рычал, кричал, плакал и рыдал. И поразительно, все делали вид, будто ничего не произошло. Лежали тише мыши, укрывшись одеялами с головой, и никто не пытался унять рассупонившегося крикуна.
Не лучше других был и я. Сжимался от страха под одеялом при приближении стенаний и тяжелых шагов Вострика и ждал, как остальные, что кто-то его успокоит. А что, испугаешься: Вострик сильный, как бык, да еще неизвестно, откуда взялась злоба.
Ну ничего, сейчас его вмиг успокоят рослые парни нашего отделения, покажут себя на глазах у всех. Они так любят это делать. Но шло время, и кроме беспомощных криков Магонина: «Вострик! Ложись спать!» ничего не предпринималось.
В роте вон сколько богатырей: Апрыкин, Желтов, Ромаровский, Шмелев! Не мне же, «малышу», успокаивать?.. Но из разных углов казармы:
— Двадцать третье! Наведите у себя порядок! Дайте людям спать!
Вот и вся помощь могучих, хотя Вострик против них внешне тоже малыш. Ну раз все трусы, сейчас придет старшина. Уж он-то вмиг наведет порядок. Как гаркнет на всю роту: курсант Вострик, прекратить безобразия, так тот сразу сожмется от страха, как кролик перед удавом… Но Иршин не появился, будто не слышал шума. Так кто же успокоит? Неужели я?.. А почему бы нет. Ты же его товарищ. Но есть же ближе товарищи, друзья. Тот же Абрасимов, Козолупов… Ты же комсорг отделения, но Вострик беспартийный. Все равно комсорг…
— Потеев, вставай! — послышался голос Магонина.
Сбросив одеяло, встал и я. С полчаса не меньше возились с Востриком. Ох и силен, черт! А на вид хлипкий. И все из-за своего узкого грачиного лица. То лезет драться, то обниматься и целоваться. То плачет, то смеется. То кричит: «Все вы мне враги!», то обнимет и клянется: «Борька! Друг ты мой единственный!..»
Два раза летал я через койку от его рывков и ударов. Не меньше Павел с Геннадием. Наконец, успокоили и сами успокоились.
Щупал я саднившее лицо, когда засыпал. Утром обнаружил под правым глазом синяк.
Умники смеются:
— Не будешь лезть, дурачок.
От этого еще муторней. Ну почему так получается? Хочу, как лучше, а выходит хуже… Не для себя же хочу, для людей. И получаю неприятности от них взамен благодарности. А ведь мог тоже спасаться под одеялом и никто бы не оскорблял… А если в самом деле дурак? Доказательств ума пока не имею, кроме отличной учебы… Но другие не имеют и этого, а считают себя умными…
Как ни странно, проступок Вострика сделал его «личностью». Нашлись подражатели вроде Леньки Козолупова. Этот малыш на полном серьезе доказывал Игорю Лавровскому, что он тоже могучий, не слабей Вострика (Вострик что-о по сравнению с ним), стоит только сильно разозлиться.
— И тогда уж держись! — уверял Ленька. — Всех разбросаю.
Игорь, склонившись над ним вопросительным знаком, лишь покровительственно улыбался да насмешливо поддакивал:
— Страшным становишься?
— Ох и страшным! Себя не помню! — уверял Ленька, не замечая насмешек.
— Ну и Ленька Козолупов! — подзадоривал Игорь.
— Да, я такой! — пыжился Ленька, стараясь зверовато, как Вострик, поглядывать по сторонам…
В перерыве на занятиях я подошел к Павлу.
— Думаю, надо провести собрание по Вострику.
— А-а, что толку?! — махнул Павел зло рукой. — Им и так ротный занимается.
— Ну и пусть, но мы-то должны осудить его, развенчать в глазах ребят, чтобы другим неповадно было.
— Кто осудит? Ты, я, Потеев? Мы и так всю ночь осуждали, остальные отмолчатся. Ты забыл первое собрание?..
— Но другие-то лучше прошли! И потом у Вострика растет нехороший авторитет, группируются почитатели.
— Вот они и не дадут его в обиду.
— Тем более мы должны что-то делать.
— Мы и так проводим еженедельные итоги работы. Ладно, потом поговорим. Сейчас некогда, в канцелярию УЛО вызывают…
Вострик тоже хорош. Два дня был нем, как рыба, только шмыгал носом да косо посматривал по сторонам. А на третий, заметив позеленевшую отметину, громко расхохотался при всех:
— Борька?! Кто тебя так!
Я отвернулся, не желая разговаривать.
— Ну кто? Скажи? — пристал Вострик.
— Ты! — усмехнулся Потеев.
— И что не дал сдачи? Я бы так обязательно дал!
Согнав улыбку, сказал серьезно:
— Не надо было лезть, могло быть хуже.
— Спасибо за совет, — не удержался я, — впредь умней буду.
— Вот-вот, будешь умней, — покашливал Вострик. — Я бы набродился и сам уснул.
— И ты так оцениваешь свое поведение?.. Тогда ты не товарищ мне.
— А как еще? Я же шахтер! Из шахтерской семьи. А они знаешь как пьют?.. По неделе! И тогда к ним никто не подходи!
Разумеется, Вострик получил строгое взыскание. Но вряд ли оно пошло ему на пользу, как и собрание, которое в отделении все-таки провели. Правда, на нем он осудил свой проступок, но видно — не искренне. И в этом виноваты все. Не хотим портить отношений с товарищем, боимся возмутиться прямо в лицо. А Казанцев так восхищался «подвигом», повторяя одно и то же:
— Ну дал Вострик, так дал! На всю казарму наделал шороху!
Ясно, что после такого осуждения Вострик чувствовал себя героем. Перепало и нам с Павлом как командиру и как комсоргу. Недавно слушали на бюро о работе в отделении. Ну доложили все, что делается, сели на место. Тут Елиферий Зотеевич и «покатил на меня кадушку».
— Мой вывод таков, комсомолец Ушаков! Недостаточно вы работаете с курсантами. Не по количеству мало, а по качеству, по эффективности и действенности. Неопровержимый факт этому — курсант Вострик, который является вашим товарищем, спит рядом…
Другие члены бюро говорили примерно так же. Игорь Лавровский не выступал. Сидел в пол-оборота, поглядывал на меня, посмеивался. А, похоже, он виновник этого ЧП. Так и хотелось сказать: мясо тухнет сверху. Не посмел, побоялся. Мало того, что воюю в отделении, так не хватало еще, что начну с бюро. Тогда не столько получу синяков и шишек, всего разукрасят. Да и скоро отчетно-выборное собрание, там выступлю…
Не спускал с меня глаз Елиферий Зотеевич, словно изучал. И что надо? Не влюбился ли? Так не девушка…
Расстроенным ушел с бюро. Согласен, недостаточна моя работа. Но как ее сделать эффективной!? Как сплотить людей и повести к хорошему, если они не хотят сплачиваться и у них у каждого свое понимание хорошего?.. Как заставить всех добросовестно учиться, служить, работать, уважать друг друга и помогать во всем, не пить, не драться и совершать одни полезные дела?..
ЭКЗАМЕНЫ
В экзаменационный день 23-е построилось на втором этаже, где размещена кафедра вооружения. Вчера вечером начистились, нагладились, надраились и сейчас блестели, как на параде.
Согласно вывешенному на дверях списку, входили, волнуясь, один за другим — первые шесть человек в класс. Строевым «рубили» к приемной комиссии, докладывали, брали билеты, разложенные на столе, и, сообщив их номера, садились готовиться.
Пробежав взглядом вопросы, я заулыбался. Все ясно, все знаю. Могу без подготовки отвечать. Только бы волнение не подвело.
Не выдержал, поднял руку. Старший лейтенант Соколов — щеголеватый, педантичный, высокий, или как называет его Игорь Лавровский — Жора Соколов, холодно кивнул:
— Что у вас, курсант Ушаков?
Выслушав, неодобрительно пожал плечами:
— Ну-у, отвечайте…
Конечно, после этого не захотелось выходить. Но раз назвался груздем, куда денешься…
К счастью, все обошлось и через пять минут я был в коридоре, к удивлению обступивших товарищей.
— Строго спрашивают? Какие вопросы были? Кто принимал? — наперебой сыпалось.
Вертелся на месте, отвечая. Наконец выбрался из кольца, прошел в класс, где разместилось отделение. Здесь снова вопросы: что да почему. Подошел Вострик, улыбается.
— Счастливый ты, Борька. Уже сдал, петуха получил, и не надо больше тревожиться. А ту-ут все страхи впереди…
— И ты получишь, повторяй внимательно.
Действительно, все сдали неплохо. Пятерки, четверки и две тройки были в активе отделения. Радостные шли на обед. Первый, а потому самый страшный экзамен позади… После Нового года сдали радиоэлектронику, историю КПСС, тактику. И вот последний экзамен по самолетовождению.
Я, как всегда, вошел в класс одним из первых. Билет достался легкий. Хотя все они легкие, когда знаешь материал. Сел за стол, успокоился. Необычным было то, что во главе приемной комиссии, как утес, возвышался начальник кафедры полковник Бурнас.
Я никогда еще не видал таких громадных людей. Метра два в высоту и метр в ширину. То ли из-за его «ужасного» вида, то ли потому что начальник, но ни один из парней под разными предлогами не шел к нему отвечать. Он начал даже злиться на это и вот-вот должен был приказать:
— Вот вы, товарищ курсант, будете отвечать мне.
Кое-кто из ребят красноречиво поглядывал на меня, поводя головой в сторону Бурнаса. Но я не успел продумать вопросы, составить план ответа и поэтому не хотел, очертя голову, кидаться в «пропасть». В то же время тянуло отвечать именно полковнику — не боюсь. Противоречивые желания не давали спокойно сидеть. Разумеется, у нашего преподавателя без труда получу «пять» и буду круглым отличником за год. А у Бурнаса, с которым никогда не встречался, неизвестно. Кто его знает, как будет гонять: по билету или по всему материалу? Можно так плюхнуться, что не только четверку, а и тройку схлопочешь. Вот будет позору на всю роту — отличник-то был липовый!.. И главное, маму и сестру расстрою, которым очень хочется, чтобы я учился на одни пятерки.
Но если не пойду к полковнику, то какой же я действительно отличник?.. Да и ребят выручу. Иначе расчетливый трус, ловкач, не больше?!
— Разрешите отвечать? — поднялся из-за стола.
Бурнас довольно кивнул.
Просмотрев вопросы билета, доверительно сказал:
— Курсовая система, режимы работы, применение — вы это знаете. А сейчас скажите, из каких элементов состоит магнитное поле земли?
Вот и началось! Как и ожидал, гонять начал по всему материалу. Слушая, Бурнас поддакивал.
— А как учитывается наклонение?
Вопрос застал врасплох. Пришлось задуматься. Такого не объясняли и в учебниках не читал. Вот поплыл так поплыл! И черт дернул пойти к Бурнасу. Пропала пятерка. Но почему стрелка горизонтальная? А-а, вероятно…
— Из-за жидкости…
Бурнас оживился.
— Правильно… в известной степени. А в компасах, где ее нет, как?
Опять затор. И что только за вопросы, впервые слышу.
— В девиационном пеленгаторе?..
Лихорадочно ищу ответ, но ничего не придумаю. Начинаю краснеть, лишь бы не разволноваться и не отупеть.
А полковник глаз не спускает, улыбается вроде.
— Да возьмите пеленгатор, посмотрите внимательно.
С облегчением иду в угол к приборам. Хоть бы найти ответ, но его отыскать трудно, сколько ни смотрю.
— Что на стрелке?..
А-а, какое-то обжимное кольцо, да это же грузик!
— Верно, — кивает полковник, — а вот такой вопрос…
И снова каверза. И что за преподаватели, зла не хватает, дают одно, а спрашивают другое! Снова приходится соображать на ходу, больше полагаясь на здравый смысл и находчивость, как в телепередаче: «Что? Где? Когда?».
С полчаса длилась «дружеская» беседа. Бурнас со всех сторон нападал, я изо всех сил отбивался. Наконец, Бурнас сказал:
— Достаточно. Материал знаете основательно, ставлю вам…
Все притихли, я замер. Лишь бы не три!
— …твердую четверку.
Наш преподаватель, у которого ответило уже трое, взглянул сочувственно, но от этого не стало легче.
II
На другой день с утра и до вечера предварительная подготовка по 4-му упражнению. Без всякой передышки стали учиться на втором курсе. И опять ничего не поделаешь — время не ждет, сроки выпуска поджимают. Да еще как по заказу установилась чудо-погода. Образовался или пришел откуда-то мощнейший сибирский антициклон.
Красное солнце встает над горизонтом в какой-то белесой от трескучего мороза клубящейся мгле. Робко продирается сквозь нее, меняясь в цвете и размерах. Поднявшись, принимает всем знакомый веселый вид ослепительного желтого диска. Всюду вспыхивают и искрятся зеркальца-снежинки. Перевернутой метлой стоит над трубами дым, пронзительно скрипит снег под полозьями саней, которые споро тянет заиндевевшая пестрая лошаденка, ритмично выбрасывающая клубы пара из нежных глубоких дыр-ноздрей…
4-е упражнение в отличие от 3-го предусматривает расчет курса, скорости, угла сноса и высоты на все этапы полета. Впервые весь полет будет нами просчитан, и чтобы такое свершилось, потребовался год напряженнейшей учебы.
С экзаменами да полетами чуть не забыл, что 13 января годовой юбилей пребывания в училище. И тем не менее, до сих пор не могу решить — правильно ли сделал, что остался здесь?
Да-а, зимой летать — не летом. Серьезное испытание. В промерзшем самолете бело от выступившего кристалликами инея. Пока не включат печку. Изо рта выдыхается струей пар. По-иному смотрится сверху земля. До самого горизонта бело, за исключением лесов, кустарников и ржавых болот. Хвойные леса, оттененные снежным покровом полей и озер, похожи на яркие пушистые зеленые ковры разных форм и размеров. Лиственные — серые, лохматые массивы. Кустарники — перевитые паутинки. Города и поселки похожи на большие и малые птичьи гнезда. Черными пятнами проступают сквозь мглу на горизонте. Естественно, гораздо труднее вести ориентировку, но привыкли. Назавтра с утра опять подготовка, но уже к пятому упражнению. Новый элемент — внесение поправки в курс.
Редко бывает, что самолет летит точно по маршруту. По разным причинам уклоняется в сторону. Чтобы пришел в назначенный пункт, нужна поправка в курс. ПК — как мы говорим. И эту ПК будем давать мы. И не только ее, но и курс на этап, приборную скорость, высоту. А штурман будет сидеть в сторонке и наблюдать за нашими действиями. Вмешается лишь при грубых ошибках. Вот такое пятое упражнение — первый шаг к самостоятельности. Другие будут еще интереснее…
И снова зеленый Е-7, вздымая за собой облака снежной пыли, мчится с рокотом по полосе. Толчок… и в воздухе.
Я — ведущий на первом этапе, а значит, вывожу самолет на ИПМ. Иду в пилотскую кабину, где еще почти не бывал. Стараясь не зацепиться парашютом, прохожу по темному коридорчику и упираюсь в чью-то спину. «А-а, борттехник!» У него тоже работа, только убрал шасси и следит за показаниями приборов, двигает рукоятками. Тесно в кабине, ничего не видно, но как-то надо работать. Подлезаю борттехнику под руку, командую:
— Разворот, товарищ командир! Курс сто восемьдесят пять!
Левый летчик вводит машину в крен, да такой глубокий, что я невольно хватаюсь за какую-то стойку и со страхом гляжу вниз на землю, по которой, кажется, чертит консоль. Наконец, самолет выравнивается, борттех занимает сиденье за командиром, я прохожу вперед и останавливаюсь завороженный.
Десятки приборов с подрагивающими стрелками! Посредине — колонка с секторами газа, разными рукоятками и табличками. А слева и справа штурвалы и за ними пилоты в креслах…
Вот это работа! Одно слово летчик! А ту-ут…
Взглянул в окно — какая благодать! Все видно! Не то что в общей кабине. Слева до самого горизонта чернеет город с разноцветными дымами заводов. Справа — с севера на юг протянулись мощные зелено-белые хребты Среднегорья. Впереди под самым носом озеро Червенкуль.
— ИПМ! — показываю командиру рукой. — Разворот! Курс 130!
Ставлю отметку места самолета на карте, смотрю на бортовые часы. Штурман без часов, что пилот без штурвала. Рассчитываю время прибытия на поворотный пункт маршрута, сообщаю командиру, иду в общую кабину к визиру оптическому.
Снос минус 5 градусов, значит, уклонимся влево, поправка будет вправо градусов 10, если дать ее на середине этапа…
Снова в пилотской, надо вовремя заметить уклонение. Так и есть, постепенно уходим влево. Провожу на карте линию фактического пути и у крупного озера Белое произвожу расчет поправки.
Штурман следит за моей работой, негромко подбадривает:
— Так, так, молодец…
Когда минут через пятнадцать показался поворотный, я вздохнул облегченно, словно сбросил ношу с плеч. Одновременно почувствовал радость — впервые в жизни провел самолет по маршруту…
Вечером отчетно-выборное комсомольское собрание. И сплошные новости, которые в свое время предрекал. Во-первых, обновили почти весь состав бюро. Секретарем снова избрали Елиферия, а меня… его заместителем! Ну кто бы мог подумать?!..
Понятно, чувствовал себя и приятно и тревожно. Шутка ли, такая ответственность и доверие полутора сотен людей свалились внезапно! Оправдаю ли? Смогу ли работать?.. Ведь никогда не приходилось! Ну, держись, Борька?! Иначе выгонят, как Лавровского, за бездеятельность и красивые слова…
Еще новость — «комода» Павла Магонина сняли с должности за несоответствие и недостаточную требовательность к подчиненным. С первым я согласен, со вторым — ни в коей мере. Требовательный Павел человек, только часто неразумное и неразумно требует. И в этом его беда, а не вина. Не нашел общего языка с людьми, не сплотил их. Об этом ему много раз говорили ребята и, наверняка, командование. На все мои попытки как комсорга образумить — отвечал:
— Ну ты, не хватало, чтобы яйца курицу учили.
Или:
— А поговори еще, поговори, наряд вне очереди схлопочешь.
А «друзья» Павла, Потеев и К°, на которых он опирался, жестоко просчитались. Командиром назначили курсанта Гущина из 22 отделения, белобрысого рослого парня с маленькими бегающими глазками и носом-седелком. Что он за человек, каков как командир? — время покажет. Пока за неделю одно сказать можно: замкнут, ни с кем не сходится, кричит много, как Апрыкин — прежний его командир. Если так будет командовать — разделит участь Павла — люди не любят крикунов…
ВАСИЛИЙ ВИКТОРОВИЧ
Встреча с героями-фронтовиками прошла в большом зале ДКА. На сцене за длинным столом, покрытым алым бархатом, командование, представители политотдела. В середине — ветераны: подполковник в отставке Дмитриев, майоры — Жередин и Кузнецов.
Их кители увешаны орденами и медалями. Трудно определить, у кого наград больше. У Дмитриева, правда, выделяется звезда Героя Югославии на широкой красно-желтой, похоже, муаровой ленте, одетой на шею, висящая посредине груди. Пожалуй, она похожа больше на красивый золотисто-алый орден. Или так кажется издали.
Дмитриев — высокий, солидный, представительный, первым вышел к трибуне под дружные аплодисменты батальона.
— Дорогие друзья! Разрешите прежде чем говорить о себе, рассказать о моем большом старом друге Жередине Василии Викторовиче, с которым я служил и воевал в одном полку…
В этот раз я был умнее, чем при рассказе Евгения Федоровича Кузнецова. Заранее приготовил блокнот и ручку, чтобы после подробно записать быль в дневник, который втихаря веду, не показывая никому. (Интересно же испробовать себя всюду! Знать, на что способен!) Через неделю, закончив обработку, я прочитал рассказ со смаком.
…Заливисто со звоном и хрипотцой ревут двигатели. Мелькает внизу под остеклением носа реденькая щетина березовых и осиновых лесов и кустарников, лохматая и густая — хвойных. Проносятся заснеженные поля и перелески, пологие, невысокие холмы, неглубокие извилистые «трещины» речушек и оврагов. Стремительно мчится земля, и Василию порой кажется, что не самолет летит над землей, а она гигантским волчком крутится под ним.
Вчера до поздней ночи майор Вадов с Жерединым, разложив карты, ползали по ним, отыскивая кратчайшие безопасные подходы к цели.
Одна из боеспособнейших вражеских армий на Северо-Западном фронте была почти полностью окружена. Наши войска пытались замкнуть кольцо, но топкая местность, большое количество рек и речушек позволили немцам создать неприступную оборону. Тогда решили разрушить единственный железнодорожный мост, питавший окруженную армию живой силой, техникой и боеприпасами.
Чтобы уменьшить риск, линию фронта прошли над непроходимыми топкими болотами и вот теперь уже второй час «брили» территорию, занятую противником.
Над самыми верхушками деревьев, едва не срезая их, мчался бомбардировщик. Когда с душераздирающим ревом и грохотом внезапно проносились над лесами, перелесками, полями, взрывая сонную дрему и тишину, звери, выскочив из своих укрытий, перепуганные и ошеломленные, поджав хвосты, в смертельном ужасе бросались наутек. Сколько обезумевших, мечущихся лосей, волков, лисиц, зайцев видел штурман!
Полет на предельно малой высоте особенно труден для пилота и штурмана. В нем легко заблудиться.
Командир — сплошное внимание и напряжение. Одно неверное движение штурвала и самолет с грохотом врежется в землю.
Изредка поглядывая на приборную доску, Вадов сосредоточенно следил за убегающей вперед линией горизонта. Лишь порозовевшие слегка смуглые щеки, да мелкие капельки пота на лбу выдавали его состояние. Полет проходил при полном радиомолчании. Тем не менее, по укоренившейся привычке, радист был «на подслушивании». Кто знает, вдруг с земли, с КП последует команда.
Василий с секундомером в левой руке и полетной картой в правой наблюдал за местностью. Ориентиры «набегали» именно те, которые он ждал, выучил на память и опознавал с одного взгляда. По выработавшейся привычке Василий, непрерывно наблюдая за землей, также внимательно следил и за небом. В который раз он замечал в вышине осиные силуэты чужих истребителей. Вчера при выработке плана полета именно он предложил идти к цели на предельно малой высоте.
Вадов тогда, сощурившись, вскинул на Василия свои карие глаза:
— А что? Дело говоришь. Молодец! Вон и бомбы усовершенствовал.
Впереди мелькнула, искристо блеснув льдом на солнце, широкая дуга реки, протянувшаяся от горизонта поперек курса. «Точно чешем», — довольно подумал Василий, ставя карандашом крестик на карте, и выключил секундомер. Он машинально повернул голову направо, где за тремя сотнями километров на севере находилась злосчастная переправа.
Дав Вадову курс на НБП — начало боевого пути, — Василий уточнил ветер, данные на этап, сообщил их командиру. Все шло прекрасно пока! Если бы и дальше так… Но вокруг моста в радиусе десятков километров зона ПВО: сотни стволов пушек и пулеметов день и ночь глядят вверх. На разных высотах барражируют истребители. Чтобы преодолеть ПВО, еще вчера решили выходить на цель с северо-запада, с тыла противника. Перед самой целью сделать подскок, прицелиться, сбросить бомбы и снова на бреющем уйти домой.
До НБП — большого продолговатого озера — тоже дошли без происшествий. Правда, снизу с земли дважды протягивались к самолету цветные пунктиры, но оба раза с опозданием позади самолета.
— Разворот! — сказал Василий, выждав, когда самолет оказался над южным берегом озера. — Курс 135!
— Есть 135! — отозвался Вадов. — Стрелки! Усилить наблюдение! Приготовиться к отражению истребителей!
После разворота Василий, убедившись в точном выдерживании курса, установил угол прицеливания и сброс бомб «серийно». Если точно выполнить боковую наводку, то можно всеми бомбами угодить в мост. Главное — точно выйти на мост.
Он в последний раз спешно измерил «снос» самолета, как вдруг в нескольких местах леса запульсировали разноцветные язычки. Бомбардировщик оказался в ловушке. Справа, слева, впереди, сзади резали небо смертоносные струи. «Засекли! У цели плотность огня возрастет в десятки раз!» Все новые и новые дрожащие языки огня возникали внизу. Будто сам самолет высекал их, задевая землю животом. Два-три раза хлестко, точно градом, ударило по обшивке.
«Нет, так нас собьют! Надо маневрировать по курсу!» — подумал Василий и сказал об этом командиру.
— А я уже маневрирую! — откликнулся Вадов. — Разве не чувствуешь.
И действительно, Василия прижало сперва к правому борту, а потом потащило влево. Бомбардировщик, петляя, летел к цели.
На бреющем над самыми верхушками пронеслись «мессершмитты». Огонь внизу стих. Немцы боялись попасть в свои самолеты. Но, не заметив бомбардировщика, те исчезли за горизонтом. Снизу снова забушевал огонь.
«Вот тебе на! А говорят и пишут, что «мессеры» боятся малой высоты», — думал Василий, провожая взглядом вражеские самолеты.
До цели оставалось четыре минуты.
— Набор! — скомандовал Василий, увидев впереди изгиб железной дороги. — Вправо десять! Идти строго по железке! Не сворачивай ни на градус! Боевой!
— Есть боевой! — ответил Вадов.
Земля начала проваливаться куда-то вниз — бомбардировщик стремительно набирал высоту. Впереди за лесом около горизонта заблестела река. Черной стрелой перечеркнул ее мост.
Василий, забыв про трассы, плясавшие перед носом кабины дрожащей огненной сеткой, припал к прицелу. Он сейчас не замечал, что все пространство до самой реки, словно новогодняя елка, разукрасилось мигающими огоньками, каждый из которых извергал в самолет свинец.
— Высоту набрал! Иду по горизонту! — глухо проговорил Вадов.
— Вправо три! — скомандовал Василий и, наконец, загнав мост в перекрестие, довольно добавил: — Так держать! Так держать!
И, потянув рукоятку, открыл люки.
Самолет, будто ударившись о невидимую стену, затормозил. Почувствовалась вибрация, похожая на дрожь большого животного.
Василий, положив руку на боевую кнопку, правой вращал рукоятку прицела, удерживая середину моста в перекрестии. Лишь бы успеть сбросить! Он уже отчетливо видел дугообразные полукружья пролетов, когда наступил момент сброса. Энергично давнул кнопку и припал к стеклу: мост всей своей громадой «наскочил» на самолет и, молниеносно мелькая фермами, помчался назад.
Сзади упруго ударил взрыв. Самолет подбросило вверх, точно щепку. Затем второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой! И при каждом взрыве бомбардировщик корежили ударные волны, переваливая с крыла на крыло, с хвоста на нос. А когда ударил последний — десятый взрыв, сидевший в башне у пулеметов стрелок завопил:
— Мост-то разваливается! Ползет в реку! — И неожиданно осекся. — Истребители! Отбиваю атаку!
— Разворачиваю влево! Иду к земле! — откликнулся Вадов. — Вася! Погляди сам, как мост? Стрелкам — огонь по истребителям!..
Фермы моста, разъехавшись в стороны, почти отвесно уткнулись в воду. Какая-то дымка, видимо пар, окутывала их.
Неожиданно Василий увидел вокруг чистое небо. Куда-то исчезла разноцветная огненная сеть, опутывавшая бомбардировщик со всех сторон. «А-а, мессеров наводят», — догадался он и подался к пулемету.
По бортам мелькнули белые трассы, дробью простучало по плоскостям. «Мессершмитты» открыли огонь. В ответ басовито-трескуче ударили пулеметы. Звеняще-надрывно запели моторы. Стремясь выйти из-под удара, Вадов перевел их на форсированный режим.
Бомбардировщик прижимался к земле: она могла спасти его. Близость земли не давала истребителям атаковать снизу. Им приходилось мчаться на той же высоте или атаковать сверху, подставляя себя под ураганный огонь спаренных пулеметов стрелков.
Истребителей, как ни странно, было три, хотя фашисты летали обычно парами. Охватив бомбардировщик полукругом, они с дальней дистанции под разными ракурсами били по нему. Но, видно, из-за большой дальности огненные трассы пересекались впереди. Затем боковые «мессы» отваливали в стороны, стараясь не попасть под огонь передних пулеметов. За хвостом оставался один истребитель. Стрелки сосредоточивали огонь на нем.
Для Вадова и особенно для Василия тянулись тягостные мгновения. Лишенные возможности стрелять, они напряженно следили за схваткой, каждую секунду готовые открыть огонь, если противник появится в передней полусфере.
Неожиданно «мессершмитты» изменили боевой порядок. Перестроившись один над другим, они «этажеркой» навалились на бомбардировщик.
На какой-то миг стрелки растерялись. Потом по команде Вадова стали бить по верхним «мессам», огонь которых был наиболее опасен. Стоило хотя бы одному «мессу» забраться на высоту и оттуда спикировать на бомбовоз, положение стало бы совсем катастрофическим. Но ни один истребитель не делал этого. Каждый боялся, что не выйдет вовремя из пике и врежется в землю. К тому же бомбардировщик яростно огрызался.
Неожиданно «этажерка» распалась. Верхние «мессы» одновременно пошли в разные стороны, оставляя на хвосте нижнего. Вероятно, по их замыслу он должен был отвлекать внимание экипажа, вызывая огонь на себя. Истребитель имитировал ложные атаки: находясь на большом удалении, он приближался немного к бомбардировщику и выпускал короткую очередь. Но стрелки были опытными. Они больше наблюдали за «мессом», чем стреляли в ответ. И лишь в тот момент, когда истребитель, увлекшись, действительно приблизился к самолету, ударили одновременно.
«Мессершмитт» точно остановился, вспыхнул и кометой нырнул в лес, делая просеку. Через секунду над верхушками сосен полыхнуло пламя.
— Ура-а! — обрадовались стрелки. — Сшибли одного гада! Сшибли-и!
— Перестаньте орать! — рявкнул Василий. — С обеих сторон истребители! Стрелок — по правому! Радист — по левому! Огонь!..
Сверху с обоих бортов по пологой прямой к бомбардировщику неслись, с каждым мгновением увеличиваясь в размерах, два стремительных черных силуэта. Секунда — и навстречу им, прерывисто мелькая, протянулись струи огня.
Вадов рванул секторы газа на себя, гася скорость. И вовремя. Вражеские снаряды белыми веревками промелькнули перед носом. И снова звеняще тонко запели моторы, заглушая треск пулеметов.
Истребители, встретив плотный огневой заслон, отвернули от самолета. Правый выполнил разворот как-то неуклюже. На секунду распластался, обнажив светло-зеленое брюхо.
Стрелок, словно нож, всадил в него длинную очередь. «Мессер» по инерции еще немного набрал высоты, потом завис, качнул крыльями и, перевернувшись на спину, грохнулся в лес. Черно-бурый клуб огня ударил фонтаном в небо…
Последний истребитель, видимо, решив отомстить за гибель напарников, выполнив полупетлю с переворотом, увязался за бомбардировщиком. Стремясь обезопасить себя, он тоже шел над лесом.
Вадов попытался уйти, но немец попался цепкий, да и скорость его превышала скорость бомбардировщика. Стрелки не спускали глаз с врага и стоило тому приблизиться, открывали огонь. Бомбардировщик спасало то, что он был двухкилевым и практически не имел сзади непростреливаемого пространства — «мертвого конуса».
Вот истребитель, резко увеличив скорость, снова пошел в атаку. Стрелок, поймав его в кольцо прицела, плавно нажал на спуск, но почему-то не услышал привычного треска, не почувствовал подрагивания пулеметов. Внизу на полу кабины — куча металлических звеньев, составлявших когда-то ленту с боезапасом.
— У меня патроны кончились! Бей точнее!
Радист дал короткую очередь. Ему показалось, будто трасса уперлась в истребитель, но она прошла выше. В тот же миг увидел, как замигало несколько огоньков на истребителе и что-то сильно толкнуло в плечо. Тепло, разлившееся по левому боку, сменилось болью.
— Бей короткими! — послышался голос Вадова. — Держись!
Радист выпустил еще несколько очередей. И вдруг его пулемет тоже умолк.
— Кончились патроны! — виновато-испуганно сказал он. — Что делать?..
Напряженное молчание было ответом. Василий почувствовал озноб. Теперь они беззащитны. С парашютом не выпрыгнешь — разобьешься. Попробовать набрать высоту, развернуться, чтобы из носовых пулеметов врезать — «мессер» не даст. Василий лихорадочно огляделся кругом.
Лес… Хоть бы где-нибудь была большая поляна.
— «Мессер» в хвосте! Совсем близко! — закричал стрелок. — Что делать, командир?!
— Экипаж! Спокойно! — каким-то чужим, хриплым голосом скомандовал Вадов. — Штурман! Приготовиться стрелять по гаду! Сейчас он будет впереди!..
Что задумал командир? Почему впереди?
— Торрможжуу! — Вадов резко убрал секторы газа назад, мгновенно сбросил скорость до минимальной.
Немцу, приготовившемуся дать длинную очередь по бомбардировщику, показалось, что тот остановился. Забыв про стрельбу, он едва успел потянуть ручку управления на себя. Бомбардировщик мелькнул под ним.
Василий нажал на спуск. Одновременно нажал на электроспуск Вадов. Из нескольких стволов вырвались огненные струи и впились в черное крестообразное тело удаляющегося «месса». Тот вспыхнул, словно спичечная коробка, видно, взорвались бензобаки, и нырнул вниз.
— Ура-а! — закричал Василий. — Спасены! Спасены!
— Да-а, кажется, пронесло, — Вадов вытирал ладонью пот с лица…
Через два с половиной часа израненный бомбардировщик приземлился на своем аэродроме…
НОВЫЙ ГРУПКОМСОРГ
В нашем отделении комсоргом вместо меня выбрали Абрасимова — тихоню, скромнягу.
Вскоре после собрания подошел к нему.
— Толя, поговорить надо.
— Пожалуйста, — повернулся он с готовностью.
— Раз уж мы с тобой комсомольские работники, то, считаю, должны работать в паре.
— Да-а, — кивнул Толя.
— Сам видел на моем примере, что работать групкомсоргу нелегко. Все молчат, никто не поддерживает. Вот и попробуй один сломай стену оскорбительного равнодушия, раскачай на хорошую учебу и дисциплину, когда тебе прямо заявляют, что этого не хотят.
— Да.
— Поэтому, считаю, главное в отделении — сколотить актив из шести-семи человек. Трое уже есть…
— Кто?
— Ты, я, Гущин…
Толя поморщился.
— Можно попытаться привлечь Магонина — все же был командир, его друга Потеева, ну и еще пару человек. К примеру, Шамкова — учится хорошо, дисциплинирован. Правда, иногда не то говорит, но уже, кажется, отвыкает.
(Мои взаимоотношения с Митькой, похоже, улучшились. После памятного собрания, когда я критикнул Митьку, тот притих и не задевает меня больше. Я тоже не лезу к нему).
— Можно, конечно, — тянет Толя.
— Ты согласен или не согласен со мной?
— Вообще-то, да…
— А конкретно?
— Конкретно… тяжело все это, — вздыхает Толя.
— Что именно?
— Организовать актив-то.
— Да, нелегко. Но что-то надо делать? Как-то работать? А без актива, его помощи ни одной задачи не решить.
— Так оно.
— Ты с Гущиным говорил о взаимопомощи в работе?
— Нет еще.
— Что же так? С неделю ходишь в комсоргах, а с командиром не беседовал.
— Да, думаю, не получится ничего. Уж больно кричать да командовать любит.
— Это так, но в любом случае надо контакт налаживать и от этого не отвертишься. Лучше раньше, чем позже. Советую сегодня же обговорить с ним все вопросы взаимодействия. Если стесняешься один — пойдем вместе сейчас же.
— Нет, я сам сначала.
— Но мне тоже надо поговорить с вами обо всем.
— Ну как увидишь после ужина: я подошел, — так подход» к нам минут через пять.
— Понял, но мы-то договорились о взаимопомощи и поддержке во всех служебных делах? Хотя бы совместно выступать против нарушителей и двоечников?
— Договорились.
— На меня можешь положиться, как на себя. И обращайся в любое время. Не забывай о работе — тебе придется отчитываться на бюро. Лучше работать, чем получать взыскания. Или тебе все равно?
Толя улыбнулся.
— Нет, конечно.
…Вечером, к огорчению, разговора не получилось — Гущин торопился на совещание к комроты.
— Некогда сейчас! Некогда! — на ходу говорил он. — Завтра поговорим! Да и что говорить. Выполняйте безоговорочно все мои указания, да поддерживайте во всем! И все будет в порядке!
ГУЩИН
Вот ведь как бывает в жизни. Павел Магонин, как стал рядовым курсантом, превратился в мелкого нарушителя. То и дело ругается с Гущиным, да победно поглядывает на окружающих. «Смотрите, мол, вот я какой. Не хуже вас умею зубы скалить».
Не знаю толком, что уж они там не поделят (сплю далеко от них, да и не прислушиваюсь), но на мой взгляд, не стоило бы отцам-командирам грызться между собой. Понятно, Павел в обиде, что сняли, ну и не уступает новому командиру… А вообще-то полезно Павлу испытать на себе, что такое курсантская жизнь, когда с тебя надо и не надо требуют. Курсантом-то быть, может, тяжелее, чем командиром. Во всяком случае, не легче. А то не успел приехать в училище, переступить порог казармы, как Иршин, которому понравилось его дежурство, объявил: «Магонин, назначаю вас командиром отделения…»
До смешного дошло, недавно Гущин перед строем влепил Павлу наряд вне очереди за пререкания. Так все отделение покатилось со смеху, а Вострик посоветовал с хохотом:
— Гущин, посади его на гауптвахту! Пусть узнает, каково нам было под ним служить.
— Помолчите, Вострик! Вы тоже свое скоро получите! — пообещал Гущин.
Да, Гущин оказался не подарком. С утра и до вечера больше Магонина взысканиями сыплет. Нажил себе кучу врагов, чистый апрыкинец.
Как-то я сказал ему наедине:
— Что ты делаешь? Зачем без передыху кричишь?
Так он с высоты роста кольнул пренебрежительным взглядом.
— Не твое дело. Распустил вас Магонин, приходится подкручивать гайки.
— Посмотри на Хромова. Совсем не кричит, а дисциплина в отделении лучшая. Все приказания безоговорочно выполняются.
— Ну, хватит! Сам знаю! Ты не на бюро — нечего выступать! Дай мне старшего сержанта — и у меня была бы лучшая!
— Гляди, как бы хуже не было.
— Не будет!..
Я пожал плечами, отошел в сторону.
Странненькие ребята: считают, чем больше и громче крикнут, тем дисциплина крепче станет… Но и не просто быть командиром курсантского отделения. Не каждому по плечу. И положение его двойственное: с одной стороны — сам курсант, живет и учится с курсантами. С другой — командир, требующий с курсантов. Трудно правильно сочетать эти два противоположных качества.
Власть кружит головы взрослым, а тут мальчишка, мечтавший с детства командовать и вдруг получивший впервые в жизни это право. Ну и орет в свое удовольствие. Приятно ведь, прикажешь — выполнят, громче прикажешь — быстрей выполнят. И совсем не думает о том, что, не будучи отличником в учебе и службе, не имеет морального права командовать людьми, которые сами мечтают стать командирами… А криком сейчас ничего не добьешься, кроме ненависти и презрения. Авторитет, уважение, доверие надо завоевать прежде всего у подчиненных. А для этого нужно их во всем превзойти и умно себя вести.
Не говорят, что ли, им старшие командиры про это? Не учат, как командовать? Или забыли, как сами учились в училище?.. Конечно, тогда было другое время и другие люди… Но, наверняка, говорят, да не у всех получается…
Наконец-то отсвистели палючие метели и сразу открылось голубое по-весеннему веселое небо, в которое хочется бесконечно смотреть. Засияло с утра и до вечера теплое солнце, снег повлажнел, осели сугробы.
Наконец-то отлетали 7-е зачетное упражнение, к которому готовились еще месяц назад. Из-за погоды три раза делали переподготовку, и вот 1-я задача по самолетовождению выполнена.
Сразу же приступили ко 2-й — к бомбометанию с А-44 практическими бомбами П-50-75, то есть калибром в 50 килограммов, а весом 75.
Курсант, работающий первым уже после взлета садится за прицел. Выводит самолет на полигон и с первого захода бросает «чушку». По разрыву корректирует прицельные величины. Второй заход — и снова сброс. Потом второй курсант садится за прицел, и так поочередно все шестеро.
Работать первым всегда труднее. Прицельные данные не уточнены, и качество бомбометания обычно ниже, чем у последующих бомбящих. Одно утешение — чувствуешь себя настоящим штурманом, полноценным членом экипажа.
* * *
— Секлетарь! А секлетарь! — трясет меня за плечо Пекольский. (Специально так говорит, чтобы унизить. Злопамятный). — И что только тебе будет?! Опять звонили!.. И я думал, куда пропал? Всю ночуху не было!.. Взыскание дадут не то, что нам — швейкам! А целую телегу!.. (Подслушал разговор комбата, наверняка. Или от старшины узнал…) Из курсачей-то выпрут! В солдаты, в роту охраны отправят! Ох, жарко тебе будет! Жарко!.. В Афган можешь завонять!
— А ну, отойди от меня! — резко сбрасываю я его руку и поднимаюсь. — Тебе чего надо?! Чтоб жарко стало?! Так я могу это сделать! Теперь-то мне терять нечего! Все равно в солдаты отправят!..
Но Аттика ничем не прошибешь. Нагло улыбается. Будучи повыше ростом, верит, что сильней.
— Дежурный, на выход! — кричит дневальный. Аттик, процедив какое-то ругательство, бежит в прихожую… Я опускаюсь на табурет.
* * *
Жарко, сухо. Всюду зазеленела трава. Распустились смолистые почки на деревьях, выбросили клейкие полусвернутые трубочкой копья-листочки. Пришел какой-то африкано-средиземноморский антициклон, принес хорошую погоду.
После весенне-летней подготовки матчасти приступили к массовому облету ее и полетам с нашей ротой. Свыше сотни машин требовалось проверить в воздухе на разных режимах работы двигателей, поэтому и выл, хрипел, визжал, стонал, захлебывался аэродром.
Мы опять день готовимся к полетам, на другой — летаем. В дни полетов встаем в полтретьего ночи. Быстренько умываемся, одеваемся, заправляем койки и идем в столовую. Нехотя, через силу завтракаем и снова возвращаемся в казарму. Получаем и натягиваем комбинезоны, во дворе строимся и отправляемся на аэродром. Там уже ждет дежурная машина. По два курсанта от каждой смены едут на склад за «чушками». Остальные, дождавшись летного состава, готовят к вылету самолеты.
В послеполетные дни мы встаем обычно в шесть утра. На занятиях получаем задание, готовим карты, бортжурналы, штурманские планы и себя к полету. Отрабатываем на тренажерах, в лабораториях навыки действий в полете с навигационной и бомбоаппаратурой. После обеда колонной отправляемся на аэродром. Там расходимся по эскадрильям и самолетам. И снова под руководством командира и штурмана готовимся к полету, тренируемся в кабинах на рабочих местах. Вечером после ужина снова подготовка, затем «отбой» в 22.00, когда не хочется ни ложиться, ни спать. Зато глубокой ночью смертельно не хочется вставать, но сейчас вроде бы втянулись.
Да-а, не легко стать штурманом. Десятки потов прольешь, пока выполнишь одну летную программу…
В самолете влетели в лето. Оглянулись кругом, когда в бортжурналах записали 1 июня. Страда еще больше усилилась. Мы по-прежнему спим «вполглаза» и занимаемся по выходным, как в обычные рабочие дни. Никогда не испытывал такого огромного физического напряжения. Наконец-то развязались со 2-й задачей — выполнили все упражнения. Теперь все силы на 3-ю — ночную.
Интересно все же бросать «чушки». Сработает сброс, мелькнет бомба в поле зрения прицела и устремится по дуге к земле, все больше и больше отставая от самолета. Потом пропадет точкой внизу на фоне пестрой местности. Затаив дыхание, переводим взгляд на круг с крестом, в который она должна попасть. Смотрим, смотрим, как круг подплывает под самолет, потом под хвост, а взрыва все нет и нет… Где же «чушка»? Может, дефектная попалась и, кувыркаясь, отвесно упала, не долетев до цели?.. Но вот в круге вспышка, похожая на искорку, и робкий слабый хвостик дыма над ней. Взорвалась!..
Бывает и так: смотрим в круг, а искринка блеснет где-нибудь слева или справа или спереди или сзади…
Ночные полеты по маршруту тоже полны «изюму». Трудно использовать радионавигационные приборы из-за ночного эффекта. Иногда почти чутьем (стрелка указателя колеблется в пределах 10—15 градусов) угадываем верный пеленг… Не легче правильно измерить высоту звезды особенно в болтанку. Звезда то и дело выскакивает из пузырька, в котором удерживаешь. Ошибешься на градус — место самолета получишь в стороне за сто и более километров.
Незабываемы возвращения домой. Кругом темно, только слабые редкие огоньки виднеются кое-где. Но вот на самом горизонте возникает чуточная красная отметинка, постепенно превращающаяся в полосочку. С течением времени она ширится, утолщается, растекается в дрожащее алое зарево. И вот оно уже в полнеба. Издали различимы гирлянды уличных огней, всполохи заводов, голубоватые вспышки электросварки и идущих трамваев, вишневые слитки остывающего шлака в отвалах. И облачность над городом багровая, переливающаяся, подсвеченная огнистым дыханием заводов. За сотню и более километров узнаем Надеждинск. Красив он ночью с высоты…
ТРЕНИРОВКА В… ЗАПРАВКЕ
Гущин совсем осатанел. Недавно пристал ко мне, глаза округлил.
— Ушаков! Почему постель плохо заправлена?
— Как плохо? Не хуже, чем у соседей.
— Хуже! — подошел и сдернул одеяло: — Перезаправить! — и сам в сторону.
Я поглядел растерянно вслед… А может, он прав?.. Постараюсь получше заправить. Но ведь с год не получал таких замечаний. А тут просто стыдно! Будто первые дни в армии, когда Магонин раза два указал, но и то не сдернул.
Поглядывая на соседние койки, аккуратно вставил рейки, повернул и натянул одеяло без единой морщинки. Отступил на шаг, сравнил с другими. Нисколько не хуже. И в тот раз было так.
— Плохо! — откуда-то из-за спины появился Гущин. — Перезаправить! И снова сбросил постель на пол.
— Почему плохо? Я добросовестно заправлял. Лучше не смогу. Сравни с соседними, прежде чем сдергивать.
— Придется тренироваться! — неумолимо произнес Гущин.
Я смотрел на него с недоумением, он на меня (может, ошибаюсь) с презрением.
И что надо?.. Или по его плану проработки настала моя очередь? Хорошо, что рота ушла на самоподготовку. Меня и Гущина задержали в канцелярии. А то было бы хохоту и шуму: во, Гущин гоняет Ушакова! Не только нас, грешных… Но что делать, если в третий раз сорвет одеяло? Лучше-то не заправлю, как бы ни старался. И тогда до бесконечности. Он же не остановится. Не тот человек… Отказаться? Поднимет шум на всю роту, побежит жаловаться. И прощай тогда благодарственное письмо командования маме и мечты, с которыми поступал сюда. Да и на бюро придется отвечать. Что же, безвыходное положение?.. Но не волноваться, взять себя в руки… Попробуй еще раз как можно лучше…
Склоняюсь над койкой. Гущин не уходит, следит издали за мной.
— Вот все, — выпрямляюсь.
Гущин быстро приближается, глядит критически:
— Плохо! Перезаправить! — постель летит в проход между койками.
Худшее свершилось. Гущин не остановится, сколько бы я ни делал. Будь что будет!
— А теперь заправляй сам! — крикнул ему в спину и выбежал из казармы мимо улыбающегося дневального в умывальню.
— Курсант Ушаков! Вернитесь! Курсант Ушаков! Получите взыскание! — било в уши.
Постояв у окна минут десять, спохватился: надо же на самоподготовку. В казарме никого не было. Постель, конечно, валялась в проходе. Быстро заправив, побежал в УЛО…
Странно и удивительно, ни на вечерней проверке, ни на утреннем осмотре, Гущин не замечал меня. Не приказал выйти из строя и не объявил взыскание. Значит, объявит позже. А сейчас выжидает, может, консультируется, готовит почву. Но прошла… неделя, а взыскание почему-то до сих пор не объявлено…
Сестра Галя донимает своими письмами, своей заботливостью и переживаниями. Всякими расспросами, да допросами, охами и ахами.
Приходится частенько отвечать, а точнее объяснять и разъяснять, доказывать и рассказывать.
«Ты меня рассмешила. Ну что со мной может случиться? В полетах у нас происшествий не наблюдается. Недавно летал на боевом.
Понравилось. Впервые испытал не удовлетворение, а наслаждение. Чем больше осваиваю свою профессию, тем больше увлекаюсь. Уж очень она своеобразная, творческая и постоянно новая. И все это в ее особенности, отличии от других профессий. Опираясь на факты настоящего, «на сейчас», штурман работает на будущее, «наперед».
Так на старте он засекает время взлета — факт настоящего. И тут же рассчитывает и уже знает время посадки — факт будущего. На контрольном этапе, измерив ветер, он тут же рассчитывает курс, снос, путевую скорость на следующий этап. И такова вся его работа. Сродни профессии шахматиста… А в полете все время приходится сражаться с природой: ветром, облачностью, темнотой и решать извечную проблему, кто сильней — природа или человек. А в бою к этому еще добавится противоборство врага, стремящегося тебя уничтожить.
Поэтому она и творческая, и новая, и своеобразная, и трудная, что направлена в будущее, все моменты которого предусмотреть, учесть и определить точно очень и очень трудно, а порой просто невозможно. Хотя бы тех же навигационной, метео- и оперативной обстановок, которые сами непрерывно меняются как в настоящем, так и в будущем.
А есть профессии настоящего, когда работают сейчас. Например, пилота. Сейчас он запускает двигатель, сейчас рулит на старт, сейчас взлетает, летит по маршруту, выполняет посадку. Аналогичны профессии машиниста, радиста, шофера. Все выполняется сейчас.
Профессия борттехника — в настоящем для будущего, но больше в прошлом. Сегодня, сейчас он устраняет дефекты матчасти, возникшие во вчерашнем полете… Из всех летных профессий в экипаже — штурманская самая мыслительная, требующая наименьших физических усилий и наибольшего умственного напряжения. Не случайно штурмана зовут интеллигентом авиации. А злые языки — воздушным бухгалтером…»
НАСЛАЖДЕНИЕ
Как приятно летать в новой «эскадре»!.. Если на А-44 к нам относились, как к детям-несмышленышам, то здесь совсем по-другому: как к равным членам экипажа. Здесь курсанты закреплены за одним самолетом, одним экипажем, а там летали на всех машинах, со всякими экипажами. И некого назвать своим инструктором. Все свои, а значит никто.
Мой и Митькин самолет (наши фамилии соседи в списке — вот и попали снова в один экипаж) номер 12. Командир капитан Ермеев Михаил Сергеевич, штурман — лейтенант Шитов Лев Александрович.
Они, пожалуй, противоположны друг другу, но кое в чем схожи. Михаил Сергеевич — в возрасте, плотный и крупный. Лева тоже крепкий, спортсмен-штангист, но ростом ниже. Закончил училище два года назад.
Михаил Сергеевич — немногословен, Лева тоже не болтлив. Лихо летает Михаил Сергеевич на «гончей», Лева как штурман тоже ас. А летать на ней не просто, скорость большая, успевай поворачивайся. Зазевался — этап проскочил! По сравнению с 44-м все делать надо в два-три раза быстрей. Вначале думали — не справимся, но машина — чудо, условия работы идеальные, поэтому все успеваем и хорошо получается. Чтобы определить место визуально — не надо как там бегать от окна к окну, определяя глазомерно расстояние до ориентиров. Достаточно взгляда в прозрачный пол носа кабины. Если там 6—12 курсантов бродят от хвоста к носу и обратно, с парашютами на груди, сталкиваясь и мешая друг другу, потому что радиокомпасы находятся на передних местах, то здесь сидишь в кресле на парашюте и работаешь в одиночку с новейшей аппаратурой, размещенной под рукой. Для определения места самолета по радиоточке достаточно 1—2 секунд. Там — двух-трех минут.
Бросать чушки с «гончей» — прелесть. Опять не то, что на тихолете. Там же пилот видит цель, а не штурман, который слеп. Лишь при подлете в прицел замечает ее. Здесь штурман лучше видит цель, так как сидит в остекленном носу, имея почти круговой обзор. Чушки тоже несравнимые — тяжелые коротыши-поросята по сотне килограммов. Боевые, но с облегченными зарядами. Пыхтим, когда подвешиваем вчетвером. А как хрюкают на полигоне, с громом и молнией! Аж гул идет и весь круг с прилегающей территорией заволакивается взметнувшимся разрастающимся султаном клубящейся пыли, плавно оседающим на землю.
ВЕНИАМИН ВАСИЛЬЕВИЧ
Авиационный секстант чудо-прибор! С помощью его можно прилететь в любую точку земного шара (хоть в Америке, хоть в Антарктиде) и вернуться назад домой.
Именно с помощью секстанта Дмитриев Вениамин Васильевич в 43 году совершил свой подвиг.
На ночных занятиях по астронавигации, тренируясь в работе с секстантом, мы услышали про этот полет со всеми подробностями от него самого…
И, конечно, мой дневник пополнился еще одной, уже третьей захватывающей былью…
Комэска-2 вернулся из штаба полка. Спустившись в землянку-штаб эскадрильи, он увидел Дмитриева, склонившегося над плановой таблицей полетов. Хлопнув перчаткой о край стола, сказал:
— Радуйся, Веник! Снова летим с тобой послезавтра в Радугинск за самолетами!
— Да ну?! — вскочил Дмитриев и чуть не пустился в пляс.
— Задача та же, — басил комэска. — Получить, облетать и пригнать! Доставай карты, прокладывай маршрут, готовь инженерно-штурманский расчет.
— Все сделаем, командир! — звенел Дмитриев. — А карты я сохранил с того еще раза!
— Тогда садись, давай наметим экипажи для перелета…
Остаток дня и очередные сутки прошли в заботах, которых всегда полон рот у штурмана эскадрильи, готовящего перелет. Помимо служебных, были у Вениамина и личные хлопоты: надо во чтобы то ни стало получить в продотделе хоть немного продуктов, успеть нарвать цветов, выгладить и надраить парадную форму. Поэтому эти дни он трудился допоздна, а в ночь перед вылетом спать лег далеко за полночь.
В полдень на стоянку, где ревели моторами два Ли-2 — они должны были доставить летчиков в Радугинск, — прикатил серо-зеленый «виллис». С него спрыгнули заместитель по политчасти Останин и штурман 1-й эскадрильи Сиперов — лысоватый, горбоносый блондин.
Подполковник Останин, выслушав рапорт комэска, подошел к Дмитриеву, стоявшему поблизости в окружении летчиков.
— Здравствуйте, товарищи! — стараясь перекрыть шум двигателей, крикнул он.
— Здравия желаем! — ответили летчики.
Пожав каждому руку, Останин обнял Вениамина.
— Ну как, Веня, в тыл на отдых?
— Так точно.
— А может, передумаешь и полетишь со мной?
— Нет… А куда, товарищ подполковник? — повернулся Вениамин.
Останин заговорщически оглянулся.
— В одно очень интересное место, — сказал на ухо.
— Какое? — загорелся Вениамин.
— Этого я пока тебе не скажу… Вот попозже могу, если согласишься.
— Все равно нет!
— Эхе-хе-хе! — громко вздохнул Останин и похлопал по спине Дмитриева. — Ты только не расстраивайся, друг. Но тебя на самом деле вызывает к себе Вадов.
Вениамин, почувствовав недоброе, оторопело взглянул на замполита.
— Да вы что, товарищ подполковник? Сейчас же вылет и кто поведет группу в Радугинск?
— Не расстраивайся, флагман, — улыбнулся Останин. — Передай полетную документацию Сиперову и едем в штаб.
— За что? За что такая немилость, товарищ подполковник?
Минуты через три «виллис» умчался со стоянки.
Злой, перепрыгивая через две-три ступеньки, летел на второй этаж по лестнице Вениамин. Около кабинета остановился, закрыл глаза, постарался успокоиться. И только после этого толкнул дверь. С порога, едва доложив о прибытии, горячо и сбивчиво начал:
— Товарищ полковник! Прошу, разрешите лететь в Радугинск! У меня девушка, жениться хочу!..
Брови Вадова поползли вверх.
— Я вас ни разу еще не просил! Ну хоть раз пойдите навстречу! Неужели не заслужил? — с мольбой закончил.
Вадов отчужденно глядел на штурмана.
— Не могу, Веня, не могу. В тыл салажонок сходит, а куда пойдете вы, только ты да Останин могут!..
— Ну почему я только? Разве Сиперов хуже? Тоже штурман эскадрильи, даже более опытный и старый! Пусть бы он летел туда, а я в Радугинск, товарищ полковник.
— Сиперов, конечно, тоже опытный. Но это задание ему не по плечу. Тут нужен штурман — ас, мастер своего дела. Ты не подумай, что я льщу. Приказ краток: выделить лучшего штурмана. Поэтому командование единодушно остановилось на тебе… Пойми, Веня, был бы я штурман, заменил бы тебя. Но я пилот и лететь придется тебе!..
— Да что я! Незаменимый что ли?
— Заменимый. Но задание-то, ох не простое! Ты даже не представляешь, какое!.. Как и я. Такое задание может раз в жизни выпасть летчику!..
Вадов взглянул в окно. Вениамин тоже и оцепенел. По рулежной дорожке к старту, один за другим, поднимая за собой серые клубящиеся хвосты пыли, катились два зеленых Ли-2.
— Товарищ полковник, задержите их! Разрешите передать посылку?
Вадов мотнул головой.
— Беги! Внизу мой «виллис»! — и поднял к уху телефонную трубку.
…Первый Ли-2 содрогался от рева моторов на старте, когда к нему под правый бок прямо к двери юркнул командирский «виллис». Правый двигатель тотчас же смолк: убрали газ. Трехлопастный винт на малых оборотах зашипел хрустяще и захлопал воздухом, точно сохнущее на ветру белье.
Вениамин повернул рукоятку и открыл дверь. В проеме показалось конопатое лицо стрелка. Вениамин протянул небольшой ящик.
— Зайди к Наде! Передай по адресу! Счастливого полета! — помахал рукой. — Скорей возвращайтесь! Я буду ждать!
И когда «виллис», описав дугу, скрылся за хвостом, Ли-2, взревев моторами, поднял клубы пыли и ринулся вперед…
Дмитриев вошел в кабинет командира, когда там уже был Останин. Не успел Вениамин доложить о прибытии, как в широко распахнутой двери показался генерал Панкратов. И сразу в просторном кабинете стало тесно. Жестом генерал усадил поднявшегося из-за стола Вадова.
— Так кого вы наметили для выполнения задания?
— Подполковника Останина и лейтенанта Дмитриева, товарищ генерал, — сказал, выходя из-за стола, Вадов.
— Правильно! Я еще в корпусе, когда получили задание, подумал о них.
Заметив Дмитриева, его расстроенный, огорченный вид, Панкратов остановился.
— Ха! А ты, гвардеец, что такой грустный? Или не рад боевому заданию?
Вадов шагнул вперед и шутливо сказал:
— Не хочу воевать, хочу жениться. Пустите в Радугинск, просится наш гвардеец, товарищ генерал.
— Да ну? — округлил глаза Панкратов. — Это правда, гвардеец?
Дмитриев печально улыбнулся.
— Боюсь, товарищ генерал, потеряю девушку.
— Да ты что, дорогой? Неужели свет клином на ней сошелся?.. Хочешь, я тебе с корпуса взвод красавиц пригоню?
— Да зачем столько? — улыбался Вениамин. — Одной хватит.
— А чтоб выбор богаче был! Ну как, гвардеец, договорились?.. Как только прилетишь домой, целый взвод красавиц будет встречать вас! Ты выбираешь невесту и сразу ко мне. Свадьбу сыграем — на весь корпус! Я сам буду посаженным отцом, хочешь?
Все весело смеялись. Опытным психологом был Панкратов.
— Ну-у, хочу, — повеселел Вениамин.
— И я хочу! Значит, так и будет! А теперь… — Панкратов посерьезнел, — Вадов вручите боевое задание.
Останин и Дмитриев выпрямились, приняли стойку «смирно».
Вадов достал из сейфа два больших пакета, один подал Останину, другой — Дмитриеву.
— Так вот, друзья, — шагнул Панкратов к ним. — Вам Родина доверила важное задание, которое вы должны выполнить, если даже будете мертвы. Пакеты вскроете после взлета и все сразу узнаете, куда и зачем лететь. А теперь дайте я вас поцелую и пожелаю доброго пути!
Самолет уже ждет вас, погода благоприятствует — по всему маршруту облачность. Так что пора, друзья! Пора!..
Когда вышли из штаба, Вениамин увидел на ближайшей стоянке новенький камуфлированный Си-47. Спереди и сзади самолета ходили двое часовых с автоматами на груди.
— И когда только успел прилететь? Что-то я и не заметил, — удивился Дмитриев.
Поднявшись за командиром в кабину, Вениамин был удивлен ее необычным видом. Посредине сцепленные трубками, стояли два громадных дюралевых бака. «Запасные, для горючки, значит, лететь далеко!» Останин и Дмитриев между баками и бортом по металлическим откидным сиденьям пробрались к пилотской кабине. В ней уже сидели второй пилот, стрелок-радист, стрелок. Поочередно они представились командиру.
— Ну что ж! В добрый путь, как говорится! — сказал Останин, пожимая руки членам экипажа. — А теперь по местам!
Кабинка штурмана, расположенная за креслом командира, была небольшой, но удобной. На приборной доске над складным столом — два новейших радиополукомпаса с подсоединенными шлемофонами. Часы, компас, высотомер, указатель скорости, термометр. Слева прозрачный пузырь блистера с бортовым визиром. Карманы с надписями: «Бортовые карты», «Астропособия». Голубовато-серый ящик — «Секстант В-2». На столе — пачка бортжурналов, под прозрачным плексом графики девиации, различных поправок, таблицы, схемы. В специальном углублении — стопка очиненных карандашей. Складная настольная лампа и лампы ультрафиолетового освещения глядели сверху.
Над головой прозрачный астрономический купол для измерения высот звезд.
«Все есть», — опустился в кресло Вениамин и нетерпеливо вытащил из планшета серо-зеленый толстый пакет.
«Совершенно секретно.
ВСКРЫТЬ ПОСЛЕ ВЗЛЕТА!» — сразу бросилась в глаза красная типографская надпись.
Куда ж это нас? Уж не в Америку ли? Сроду такого полета не бывало. Даже самолет с иголочки новый выделили…
Сунув пакет обратно в планшет, Вениамин заглянул к командиру.
— Ну как, изучил свое рабочее место? — улыбнулся Останин.
— Все в порядке. А вы как?
— А что я? Я же много летаю на Си-47-м. Так что вдоль и поперек его знаю. Ну что, будем запускать?
Двигатели запустились легко, с первой попытки раздался мягкий бархатный рокот.
Вениамин включил радиополукомпасы, настроил на приводную, послушал позывные, понаблюдал за стрелками указателей, снял значение курсового угла, прикинул направление на радиостанцию. Все работало, все был правильным. Тогда он достал авиасекстант, подключил его к бортсети, проверил освещение. Надев шлемофон, переключил СПУ на внутреннюю связь, доложил командиру:
— Штурман к полету готов!
— Добро! — отозвался Останин. — Выруливаю.
Скрипнули тормоза, мощнее загудели двигатели. Тронувшись с места, машина плавно покатилась. Взглянув в окно, Вениамин заметил Панкратова и Вадова, махавших фуражками на прощанье.
…Минуты через три, когда самолет был в воздухе, с земли последовала команда:
— 225! Я — Терек! Выход на исходный пункт маршрута после круга над нами.
— Вас понял! — отозвался Останин. Переключившись на внутреннюю связь, приказал: — Штурман! Вскройте пакет!
Вениамин перочинным ножом сделал надрез по правой стороне конверта и вытащил сложенную гармошкой карту. Развернув, обомлел: линия маршрута, начавшись у аэродрома, протянулась сначала к линии фронта, затем прыгала с листа на лист через всю Украину к государственной границе, пересекла ее, углубилась в территорию Румынии, шла дальше по Югославии и упиралась чуть ли не в берег голубой Адриатики.
Сдвинув шлемофон на затылок, Вениамин перематывал карту с руки на руку, удобно укладывая ее на столе. В одном из колен гармошки — светлый лист бумаги. «Памятка штурману!» — прочитал заголовок.
— Веня! Курс на первый этап! — услышал голос Останина.
— Даю! — и, взглянув на карту, добавил: — 236 градусов!
— Ну, как заданьице?
— Еще толком не уяснил. Вот прочитаю памятку, тогда доложу!
— Идем в гости к маршалу Броз Тито! — рассмеялся Останин.
— Может быть, но что в Югославию — это точно!..
…В памятке перечислялись широковещательные радиостанции, которые следовало пеленговать для определения места самолета и контроля пути. Предлагались контрольные этапы, перечислялись наиболее крупные характерные ориентиры. Способы выхода на конечный пункт маршрута и аэродром посадки. Описание аэродрома, его полосы и старта.
«В вечерних и ночных условиях посадочное Т будет обозначено световым ромбом из четырех костров и пятым посередине. От ромба по направлению ВПП[4] будут зажжены еще два костра…
Сигнал «я свой самолет», который обязателен при выходе на аэродром, — две зеленые, одна красная и одна желтая ракеты. Или четырехкратное мигание всеми аэронавигационными огнями. Посадка только с включенными фарами. Пароль на земле для опознавания своих: «Сверим время! В Москве полночь!» Отзыв: «А у нас без пяти два!»
По прибытии экипажа на аэродром посадки он немедленно поступает в распоряжение товарища, назвавшегося Святославом…
При вынужденной посадке на оккупированной территории или при гибели самолета в воздухе или на земле все документы немедленно уничтожить».
…Шел пятый час полета, прошли уже Украину, пересекли государственную границу и шли над Румынией, когда радиополукомпасы отказали. Вениамин настойчиво крутил ручки настройки, плотнее прижимал наушники, пытаясь поймать близкие радиостанции Бухареста и Будапешта (их частоты, позывные и местоположение были нанесены на карте), но все было тщетно. В наушниках — тишина, изредка прерываемая коротким треском. Тогда он попытался настроиться на Москву — тот же результат, а стрелки указателей курса не двигались с места. Исчерпав терпение, Вениамин поднялся с кресла, шагнул к пилотам.
— Ну как, Веня, дела? — повернулся Останин к штурману.
— Хвалиться нечем, радиокомпасы не работают.
— Предохранители проверял?
— Все проверял вплоть до ламп. Все исправно. Вероятно, антенны обледенели, надо выйти за облака.
— Ну что ж, попробуем! — согласился Останин и, двинув секторы газа, взял штурвал на себя. — Ну, а если и за облаками не заработают, что будем делать?
— Штилевая прокладка и астронавигация помогут. В крайнем случае выйдем на побережье Адриатического моря и с него отыщем аэродром.
— Ну! Ну! — покивал головой командир. — Послушай, Веня, ты, кажется, родом с Среднегорья?
— Да, из Крайска.
— Это далеко от Среднегорска?
— Рядом, сто километров.
— Так вот, в Среднегорске, в индустриальном институте учится моя дочь. Не мог ты к ней зайти в гости, когда ездил домой?
— А я откуда знал? — рассмеялся Вениамин. — Вы же не наказывали! И вообще ничего не говорили.
— Не говорил, — согласился Останин, — а вот теперь говорю и наказываю. — Хитровато жмурился он, подрагивая черными кустистыми бровями. — Она ведь у меня одна. Росла без матери. Я ей был и отцом, и матерью.
Вениамин улыбнулся.
— Давайте отпуск, так съезжу туда!
— А что? Вот прилетим домой и дам! — улыбнулся Останин, и Вениамин не мог понять, то ли он шутит, то ли говорит серьезно.
— Ловлю вас на слове! Дома не отказываться!
— Не откажусь, Веня! Не откажусь! — заверил Останин.
Неожиданно выскочили за облака.
— Ну, вот и первые звездочки зажглись! — выдохнул командир, оглядев серо-голубой небосвод с золотистой каемкой догорающей зари на горизонте.
— Иди, работай, штурман, и помни наш уговор…
Радиополукомпасы не работали и за облаками. Посидев около них еще с минуту, Вениамин открыл ящик секстанта и вытащил его. В кармане астропособий нашлись авиационный астрономический ежегодник, таблицы высот и азимутов звезд — как раз все, что нужно для расчетов по определению места самолета.
Подготовка секстанта к ночным измерениям заняла полминуты. Еще минута-другая потребовалась на выбор пар звезд. Но, шагнув к астрокуполу, Вениамин с досадой обнаружил, что зажглись самые яркие — Вега и Денеб, Капелла и Арктур.
«Ну ничего, для начала и эти сойдут. А потом, как стемнеет, все будут видны».
Наложить секстант на глаз, совместить звезду с черным пузырьком, пустить механизм осреднения — тоже не отняло много времени. Самолет шел без тряски и болтанки. Закончив измерения, принялся за расчеты и через минуту, проложив на карте астрономические линии, получил место нахождения самолета. Екнуло сердце. Место получилось почти на самой линии маршрута и совпадало с прежними расчетами. «Выходит, не уклонились. Идем правильно! — обрадовался Вениамин. — Но не надо спешить с выводами. Чтобы точно определиться, нужно 7—8 мест».
И он, позабыв обо всем, широко, устойчиво расставив ноги, стоял под куполом с секстантом над головой и мерил, мерил высоты навигационных звезд. И когда наконец все места легли на карту, он, вытерев пот с подбородка, улыбнулся. Самолет шел точно по маршруту, даже не требовалось поправки в курс.
Уточнить путевую скорость, время прибытия на цель, получить новый ветер и курс — не составило труда…
Иногда смотрел в блистер, пытаясь увидеть землю, но за бортом вот уже пятый час тянулась однообразная снежно-белая облачность, и не было ей конца. Хотелось, конечно, увидеть землю. Ведь внизу простиралась незнакомая страна. Самолет летел как раз по границе между Венгрией и Румынией и, если бы не было облачности, то справа из окна он увидел бы Венгрию, а слева из блистера — Румынию. Это не здорово ли?! Но сколько он ни вглядывался, за бортом все было закрыто серо-белым одеялом облачности, которая и видом-то не походила на особенную, заграничную, а была точно такой же, как в Сибири или в Подмосковье.
Вениамин встал с кресла, снова взялся за секстант. Кто бы мог подумать, что пригодится? Он вспомнил, как, получив новенькие бомбардировщики, штурманы полка обнаружили в кабинах серо-зеленые ящики с авиационными секстантами. Вот тогда было смеху: «А что это за зверь и с чем его едят? Это еще что за штукенция? И куда в нее глядят?» Еще тогда большинство штурманов, повертев, покрутив приборы, заглянув во все отверстия, потакав часовым механизмом, положили их обратно в ящики на вечные времена.
Многих испугали тренировки в измерении высот, потому что сделать это было не просто, особенно в болтанку самолета. Многие разочаровались в секстантах еще и потому, что, научившись измерять высоты, часто путались в астрономических расчетах. «Уж больно они сложны! — говорили такие штурманы в свое оправдание. — Простым смертным не одолеть!.. Ладно уж, мы старым проверенными способами выведем самолет на какую хочешь цель. А астрономией пусть занимаются ученые, профессора и прочие кандидаты, а нам надо воевать!..»
В полку, пожалуй, только Дмитриев продолжал возиться с секстантом и чуть ли не в каждом полете тренировался, измеряя высоты различных светил. Уже через месяц Вениамин довел скорость расчетов до минуты, чем вызвал восхищение и зависть всех штурманов полка.
«Нет, дорогие! Вернусь домой — всех в эскадрилье заставлю работать с секстантом! Если бы не он, как бы сейчас вел самолет?.. И начальство уговорю, чтобы со всеми штурманами полка проводились занятия и тренировки по астронавигации. Ведь боеспособность части повысится в два-три раза…»
И снова измерения, и снова расчеты, снова прокладка линий на карте. И такая работа до пота в течение часа. И ничего не поделаешь, потому что шли в облаках и за облаками, и самое главное над горами, где ветер меняется на противоположный при пролете любого хребта и даже вершины. В этих условиях штурман должен быть особенно бдительным, если не хочет заблудиться и погибнуть. Вениамин это помнил, потому что недавно шли над восточными Карпатами, теперь — над Среднедунайской низменностью, а впереди подстерегали Динары — горы Югославии…
За 15 минут до выхода на цель Вениамин сказал Останину:
— Пора помаленьку снижаться, товарищ командир.
Останин повернулся, поднял голову.
— А не боишься? Внизу в облаках Динары, да и темно.
Вениамин усмехнулся:
— До утра летать не будешь. Снижайтесь!
Останин убрал газ, отжал штурвал. Исчезла разноцветная россыпь мерцающих угольков-звезд, замелькали белые обрывки облачности, потом все исчезло, точно нырнули в молоко.
С приглушенными моторами в напряжении шли десять минут, и каждый всматривался в слепую белизну до рези в глазах. Все с тревогой ждали возможного появления по курсу отвесной стены, и поэтому каждому хотелось вовремя дать команду: «Вверх!» Правда, они отлично понимали, что случись такое, не только отвернуть, но и охнуть вряд ли кто успеет.
А если выйдем над морем, что будешь делать? — крутился в мозгу Вениамина вопрос. — Возьму обратный курс, отыщу острова Вис, Корчулу, Брач, Хвар, а затем по заливу выйду в долину Неретвы…
И еще одна мысль не давала покоя. В таких облаках как бы вместо Югославии в Италии не очутиться. Тогда и заданию, и самим хана.
Вон одна часть бомбила Хельсинки ночью, так некоторые экипажи по ту сторону Балтики оказались. Стокгольм бомбили. А маршрут раза в четыре короче.
До цели оставалось минуты три лета, когда выскочили из облаков и оказались, похоже, над какой-то долиной.
Все приникли к окнам, с тревогой вглядываясь вниз. Там кое-где что-то горело, мерцало и вспыхивало. Цветные пунктиры перекрещивались в разных направлениях.
— А ведь тут идет бой! — воскликнул Останин.
— Вот и попали из огня да в полымя, — проворчал Дмитриев и громко добавил: — Всем искать четыре огня ромбом! Пятый посередине!
Он жадно всматривался в темень, пытаясь увидеть Неретву, стекавшую с гор к морю. Левее ее русла должен быть аэродром. Правее — высокая гора, в которую можно врезаться в любую секунду. И он увидел справа что-то темное, массивное, а слева узкие ртутные извилины реки.
— Влево двадцать! Идти вдоль реки!
— А где ты ее взял?
— Вон левее по курсу!
Останин довернул самолет и припал к стеклу.
— Да, вроде она, но где ромб?
— Будем искать! Радист, дай-ка ракетницу и ракеты!..
Шли вдоль реки по долине, и она, похоже, все больше и больше расширялась. Неожиданно горы расступились, ушли в стороны и куда-то назад. Впереди показались какие-то огни.
— Командир, доверни левее! Там, похоже, цель!
— Доворачиваю! — Останин приподнялся над креслом, всматривался вдаль. — Да, огни, но только похожие на треугольник.
— Подойдем ближе, увидим точнее.
Прошла минута, вторая. Огни выросли, приняли форму треугольника.
— А вон и четвертый посредине! — крикнул Дмитриев. — Выходит, наш аэродром-то?
— А вон и пятый показался! — крикнул Останин. — Наш! Добрались, наконец-то!
— А вон шестой и седьмой! — показал рукой второй пилот.
— Ракеты!
Вениамин с удовольствием стрелял в форточку, наблюдая, как тугие яркие комочки летят в темноту и там вспыхивают разноцветными диковинными бутонами.
Внизу в дрожащем свете ракет отчетливо было видно ровное поле. Впереди светового ромба километрах в пяти-шести по окружности ярко-желтые вспышки разрывов, бесчисленные пульсирующие огоньки выстрелов.
— И здесь бой! — вздохнул Останин. — Не иначе придется вывозить раненых.
— А может, и штаб? Сражаются-то в окружении.
— Все может! Выпустить шасси! Идем на посадку!
Самолет, точно слепой, боязливо приближался к земле. Но вот вспыхнули фары, мощные лучи рассекли мрак, уперлись овальными пятнами в мчавшуюся внизу землю. Они, точно руки, ощупывали ее, высвечивая все бугорки и ямки, выискивая опасности, могущие помешать посадке.
Останин низковато подвел самолет к посадочной полосе, и он, мягко коснувшись ее колесами, понесся по полю в темноту.
Вениамин взглянул на часы.
— Все! Сели! Восемь часов были в воздухе!
— Всем приготовиться к бою! Стрелки к пулеметам! — приказал Останин. — Двигатели не выключаю! Штурман! Открыть двери, но не выходить из самолета! Обменяться паролем. Если встречающие враги — стрелять без команды! И сразу взлетаем!
Командир, затормозив самолет, развернул его обратно, включил фары, подрулил к старту.
У самого «ромба» в свете фар оказались два бородатых человека. В куртках, в брюках навыпуск, в ботинках, с автоматами на груди, они махали руками над головой.
Останин притормозил, Дмитриев бросился в хвост, открыл дверь. Набрав воздуха, что есть силы закричал:
— Сверим время! В Москве полночь!
Из темноты послышался смех, гортанная речь. Ничего не поняв, Вениамин снова закричал:
— Сверим время! В Москве полночь!
— А у нас без пяти два! — раздалось рядом.
— Свои, командир! Свои! — закричал в кабину Вениамин и, оттолкнувшись, спрыгнул. Из-под крыла появился человек.
— Добре дошли, другари! — сказал со смешком.
— Добре! Добре! — весело отозвался Дмитриев.
…В Югославии пробыли около недели. Помогали партизанам днем и ночью. А когда пришло время прощаться, товарищ Святослав, неплохо говоривший по-русски, напутствовал:
— До́роги други! Ви при́шли на́ помощь в критическу для́ нас минуту. Рискуя жизнью, под огнем фашистов летали круглосуточно, спа́сая бойцов и командиров. Ви́ спа́сли наш главный штаб, нашего во́ждя, свершили подвиг и наш на́род никогда его не забудет. Ви́ достойны высчих почестей и наград, но у нас пока их нет, но скоро будут. И как только ми изгоним врага, ми пригласим вас к себе на торжества. Прилитайте к нам после войны! Прилитайте в день Победы!..
Домой вылетели ночью. Тихо прошли над Югославией, Венгрией, Румынией, Украиной, и когда были уже далеко за линией фронта, случилось страшное…
В мглистом небе пылало солнце. Но еще жарче берестяными факелами дымно и чадно горели двигатели. Самолет летел по-кукушечьи: то опускаясь вниз по дуге, то поднимаясь. Высоко над ним за пушистой белой тучкой с нудным завыванием кружила пара «мессершмиттов». Точно волки, смертельно ранив жертву, они наблюдали за ее агонией. Но вот самолет выровнялся и по наклонной пошел к земле. В фюзеляже открылась дверь, обнажив темный провал, из которого посыпались черные горошины.
…Секунда, …вторая… и над комочками один за другим белыми облачками вспыхнули парашюты.
Ощутив толчок, Вениамин открыл глаза. «Динамический удар!» Запрокинув голову, оглядел упругий, ребристый купол над собой. «Все в порядке!» — обрадовался. Где товарищи?.. Слева чуть ниже увидел лесенку парашютов. Почему только три?.. А где пятый?..
Всмотрелся — на фоне желтого прямоугольника поля серый комочек, пулей несшийся вниз. Что же он тянет?.. Раскрывай парашют! Ведь разобьешься! Скорей дергай!
Но парашютист падал камнем.
Да что же это он?.. Решил уйти от «мессеров»? Так их не видно… Парашют заело?.. Ранен?.. Кто же это?.. Олег? Роман? Юрка?
— Дергай кольцо! — не выдержав, во все горло заорал Дмитриев. — Кольцо-о!..
Но было уже поздно. Серый комочек врезался в землю, отскочил от нее (видимо попал на каменистый грунт) и, ударившись вторично, прилип к ней.
Вениамин на миг закрыл глаза. Где же пятый? Командир? Останин? Отыскал глазами самолет. Тот, дымя моторами, снижался.
— Прыгай скорей, Петр Петрович! — не помня себя, закричал Вениамин, словно командир мог услышать. И тут случилось удивительное. От самолета отделилась черная капля. Пролетев немного, вспухла одуванчиком, закачалась под куполом.
— Молодец, командир!
Вениамин поудобней уселся в подвесной, так, чтобы не резали ножные обхваты. Оглядел еще раз купол, медленно вращавшийся над ним. Вот так прилетели?! За границей не сбили, над вражеской территорией не сбили, а дома!.. Хорошо еще, что приземлимся удачно, на пшеничном поле, а не в том лесу или озере, что правее…
Зловещее завывание, донесшееся сверху, прогнало мысли. Вениамин напрягся, сжался в комок. Прямо над ним мелькнули желтобрюхие самолеты с черно-белыми могильными крестами. В лицо ударила упругая струя, запахло тошнотворно-дурманящим выхлопным газом. Парашют понесло. Вениамина резко качнуло в сторону, приподняло вверх, как на качелях.
Куда они?.. Почему не расстреляли?.. Может, наших увидели где?
Оглядел небо. Никого.
Зачем снижаются?.. А-а, уходят на наше счастье!.. Уходят!
Вздохнул полной грудью, но радость была преждевременной. Развернувшись, будто связанные веревкой, «мессеры» крыло в крыло неслись снова к парашютистам.
Вениамин побледнел. Вот он конец! Сейчас расстреляют!
— А-а! — дико заорал он. — Ребята! «Мессеры» атакуют! Приготовьтесь! — И сам угрем закрутился в подвесной…
До спасительной земли далеко… Ох, как далеко! Тысячи три, четыре не меньше. На небе ни облачка. Затяжным! Затяжным надо было прыгать! Но кто знал тогда?..
«Мессершмитты» все ближе и ближе. Закрыли горизонт, все небо. Уже отчетливо различимы блестящие диски вращающихся винтов. Сейчас замигают огоньки пулеметов и… изрешетят в упор.
— А-а! Я не хочу!
Вениамин с удесятеренной силой потянул на себя левую лямку. Сдирая кожу с ладоней, не чувствуя обжигающей боли, он упорно лез по стропам к куполу. Скорей! Скорей! Словно тонкий шелк мог защитить от пуль, как броня. Погасить! Погасить! Вмиг достигну земли!..
С оглушительным ревом, обдав сильнейшим ветром и запахами отработанного бензина, чуть ниже пронеслись веретенообразные «мессеры».
Вениамина оторвало от строп, натянутых, как струны, бросило в сторону.
— Прощайте, друзья! — откуда-то донеслось.
Очухавшись, он обнаружил только два парашюта под собой… Где остальные?.. А это что?.. Недалеко от парашютов какие-то полотнища. Смятыми простынями, зигзагообразно покачиваясь, точно падающие листья, они плавно скользили вниз.
Вениамин похолодел. Звери!.. Так вот почему не расстреляли!.. Сначала у самых нижних. У командира и, наверное, у Юрки…
Он вспомнил рассказы ветеранов, не раз встречавшихся с истребителями врага. Сбив самолет, те убивали выбросившихся на парашютах советских летчиков изуверским способом. Плоскостями, словно бритвой, перерезали стропы над головой…
Вениамин огляделся. На горизонте фашистские самолеты разворачивались для нового захода.
— Ребята! — охрипшим голосом закричал он. — Тяните стропы! Гасите парашюты! «Мессеры» снова идут!
И сам, как по канату, подтягиваясь рывками, полез по стропам вверх. Гул приближался. Кто очередная жертва?..
Рев сводит с ума, колет тело. Ну! Еще усилие и купол рядом. Кажется, ревущий водопад обрушится сейчас. Мелькают парашюты, извивающиеся фигурки. Темно-зеленый фюзеляж. Фонарь кабины.
Ему даже показалось, что он заметил в какую-то долю секунды улыбающееся лицо летчика, наслаждающегося убийством…
— Р-р-рах! — и все исчезает.
Раскаленный шквал со свистом и воем обрушивается на него. Крутит, переворачивает через голову. Стропы выскальзывают из рук. Купол, как зверь, прыгает куда-то вбок. Острая боль обжигает ладони, словно бритвой чиркнули по ним. Земля, ноги, небо, парашют — все сливается в крутящийся шар. Мягкий толчок возвращает к действительности.
Вениамин маятником раскачивается на парашюте. Неподалеку медузами плывут, колыхаясь, купола с обрубленными свисающими щупальцами-стропами…
Внезапно наступившая тишина, едва нарушаемая далеким рокотом, оглушает не меньше, чем только что пронесшийся ураган. От пережитого страха и физического перенапряжения дрожь колотит тело. Стучат зубы, трясутся руки.
Над головой все тот же раскачивающийся купол… Почему-то две стропы пятнистые?.. Все те же «мессершмитты» на горизонте. Уже разворачиваются. Все так же далека и недосягаема земля…
Один в поднебесье. Друзья погибли. Вон в разных местах застыли на земле. Теперь очередь за ним. Он переживет их всего на какие-то секунды. Рядом с ними и для него найдется место…
Истребители разошлись. Один набирал высоту, другой мчался назад. Все!.. Нет, не все!.. Бороться, так до конца!
Он схватился за стропы и попытался подтянуть их. Невыносимая боль, словно ударом тока, отбросила руки. Что такое? Поглядел на ладони. Куски живого мяса висят лохмотьями. Струится кровь по запястьям к локтям. Пятнит обшлага комбинезона.
Истребитель растет, увеличивается в объеме, а гасить купол сил нет. Неужели конец?.. Нет, не убьешь меня, гад! Лучше я сам… Пистолет же есть!
Вытащил его из кобуры, приставил дуло к виску. Сталь спускового крючка холодила палец. Еще мгновение — раздастся выстрел. Но тут его охватила злость: фашист хочет, чтобы я с перепугу покончил сам с собой, да еще надругается над трупом. Ну, погоди же, гад! Вначале я тебя попугаю. Он сунул пистолет в карман. А если раскачиваться как можно сильней?.. Самолет может проскочить и не задеть строп?.. Это же спасение!..
Вениамин воспрянул духом. Забыв про боль в руках, то сжимаясь в комок, то разжимаясь, стал тянуть изо всех сил стропы.
Истребитель близко, ждать больше нельзя. Блестит на солнце остекление кабины. Вениамин выхватил пистолет и, выкинув руку, начал стрелять. Он, конечно, понимал, что для «мессера» пистолетные пули-песчинки. Еще секунда и «мессер» заполнил собой все пространство. Нос точно направлен на него. Винтом зарубит!
Вениамин в последний раз рванул стропу, и как ему казалось, резко откинулся телом в сторону. (А на самом деле всего лишь наклонил голову). В следующее мгновение, с ревом рассекая воздух, самолет пронесся над головой. Удушливый вихрь подхватил Вениамина в свой водоворот, завертел, как щепку.
Сейчас буду падать! Где пистолет?.. Но шли секунды, а падения не ощущалось. Только усилившееся размашистое качение, как на лопинге. Неужели?..
Взглянул вверх. Целый и невредимый купол по-прежнему над ним. Значит, «мессер» промахнулся!.. Обрезал только три стропы. Жив! Жив! Земля-то близко! Всего каких-то двести-триста метров. Вряд ли «мессер» еще раз успеет зайти.
Вновь донесшийся приближающийся гул заставил Вениамина обернуться. Второй «мессер», круто планируя, несся к нему.
Все! Это уже смерть! Его смерть! Он оцепенел, тело обмякло, силы оставили его. Всему же есть предел. Ну сколько же можно бороться?
— Сволочи! Гады! Мучители! Стреляйте! Стреляйте лучше!.. Стреляйте… а где мой пистолет?.. Он нервного напряжения он забыл о нем и не чувствовал тяжести, хотя пистолет был в руке.
До истребителя было еще далеко, но он яростно давил на спусковой крючок. Расстреляв патроны, размахнулся и кинул пистолет навстречу истребителю. И тут его охватило удивительное спокойствие, которое бывает у немногих перед казнью.
Качаться! Земля-то рядом! А может, и этот промажет?!
Снова сводящий с ума оглушительный рев, темень, жуть!
Толчок!..
Вениамин куда-то провалился, словно в пропасть. Звенящая тишина. Открыв глаза, содрогнулся. Купола не было!.. Вытянутая тряпка вместо него на конце уцелевшей стропы. «Прощайте!..»
Он не помнил, сколько летел до земли. Удар! Всплеск!.. Что-то жидкое и холодное хлестнуло в лицо, мягко и пружиняще обволокло тело. Сомкнулось над головой…
Открыл глаза… Зеленая масса кругом. Блестящие пузыри поднимаются вверх… «Что же это такое?.. Упал в озеро?.. Снесло ветром за время спуска?..»
Вынырнув, огляделся, освободился от подвесной и поплыл к берегу. Донесшийся издали рокот напомнил о схватке. Отыскал на горизонте удаляющуюся точку, погрозил кулаком. Выплевывая воду, тонким срывающимся голосом закричал:
— Фашист! Еще встретимся!..
ПЕРЕМЕНЫ
В роте опять новость: с командиров отделений сняли Апрыкина. Тихо и спокойно стало в 22-м, и все уверены — дело от этого выиграет. Болезнь Апрыкина та же самая, что у Гущина и Магонина. Только более застарелая. Чем больше наказывал и кричал, тем хуже становилась учеба и дисциплина в отделении. Лишь за последний месяц было две самоволки, не считая мелких нарушений.
Сейчас умолк, скромно стоит в строю, наблюдая как другой рапортует старшине. Нужный вираж заложило командование, освобождаясь от горлопанов-очковтирателей, ставящих превыше всего внешний эффект и благополучие.
Гущин — подражатель Апрыкина, если не дурак, должен сделать верный вывод, изменить работу. Ко мне сейчас не пристает — видно я «исправился», — но с другими постоянно воюет. Чаще всего с Востриком. Тот уже смотрит на него волком.
Опасное дело затеял в одиночку «комотд». Но ведь никто не скажи, сразу оборвет: сам все знаю и умею.
Видно, между «комотдами» идет негласное соревнование, кто сильней «зажмет» отделение. Не повысить дисциплину и спаянность, а именно «зажать». И вот к чему это приводит. Неумелые постепенно выбывают из игры. Что ж, теперь очередь Желтова. По-прежнему, как останется за старшину, так и сыплет взысканиями на вечерней проверке. Мало своего отделения, так до других добрался. Боятся его стали больше, чем старшины. Но и ненавидят крепко.
Валька открыто похваляется, что мог бы «зажать» роту сильней, чем Иршин, только бы тот почаще оставлял его за себя. Самовлюбленный позер Валька. Стоит перед ротой, так весь от важности раздувается.
Особенно с удовольствием воспитывает чужаков (не надеждинцев) в своем отделении — Валерку Чертищева и Юрку Киселева по прозвищу «Кисельман». Тоже играет с огнем. Эти парни не я. Пока молчат, затаив обиды. Но что будет при выпуске, когда не будет курсантов, «комотдов», старшин, а все станут равными лейтенантами?.. Изобьют же нещадно. И так уже недобро шепчутся, поглядывая на Желтова. Оба чернявые, крепкие, сыплющие жаргоном. За версту видно, что часто дравшиеся парни с улицы. Я знаю их — рос среди таких…
В СМУ[5]
Ура! Вылетели на «гончих» самостоятельно! Ох и полет был вчера! Но все по порядку. Утро не предвещало плохой погоды. Солнечно, тихо. В темпе, как всегда, но в празднично-тревожном настроении готовили самолеты. Еще бы?! Сегодня же впервые на таком бомбардировщике в полет без инструктора. Как-то он пройдет, справимся ли?.. Должны.
Когда подвесили «поросят», закончили подготовку, проверку аппаратуры, надели парашюты, раздалась команда:
— Эскадрилья-я! Поэкипажно-о! Становись!
Выстроились шеренгой у носа машины.
— Равняйсь! Смирно! На середину шагом марш!
И все экипажи колоннами по одному пошли туда.
Подъехавший с КП комэска, приняв рапорт зама, дал последние указания, а штурман эскадрильи — отсчет точного времени.
Дежурный метеоролог, посмотрев на небо, наполовину затянутое облачностью, развернул синоптическую карту, водил по ней карандашом.
— Погода нашего района обуславливается ложбинкой циклона, расположенного западнее Среднегорья. На время полетов ожидается небольшое понижение облачности, которое не должно помешать полетам…
Комэска, отпустив синоптика, заключил:
— Все команды с земли слушать внимательно. Взлет строго по порядку, определенному плановой таблицей. Сигнал к запуску двигателей — зеленая ракета со старта…
Мы с Митькой вылетели последними. Лева Шитов, поглядывая на выруливающие самолеты, давал свои последние указания.
— Самое главное — не волнуйтесь. Не теряйте здравого рассудка и все будет в порядке. Упражнение такое же, как и предыдущее, которое вы отлетали отлично. Ничего плохого не случится, если будете работать строго по штурманскому плану…
Мы поддакивали, да кивали. Меня била дрожь, скорей бы уж на взлет. Я работаю первым, затем Митька. Выводит на полигон и-и… гром!
После него я бросаю своих «поросят» и домой…
Пусто на стоянке, одни красные тормозные колодки лежат, да ветер крутит вихорки. Но вот очередь 12-го! Закрыты люки, гудят двигатели.
Я вижу — Лева стоит в сторонке, скургузившись под ветром и смотрит на подрагивающий самолет. Заметив меня в кабине, улыбнулся, помахал рукой.
Машина взвыла, дернулась и тронулась с места.
И взлетает «гончая» неповторимо, по-своему. Прижмется к земле хвостом и, чуть не задевая ее, мчится с поднятым носом. Грохочущей кометой, так что дрожат все окна в городке, уходит ввысь…
Интересный самолет! Вибрируют тоненькие, узенькие крылышки на взлете. Вибрируют и в полете. Кажется, вот-вот отпадут. Ни за что бы не удержался на них, если бы не мощные двигатели. Зато позволяют развивать большую скорость. Несомненно, если «обрежут» движки — «гончая» утюгом врежется в землю. На таких крыльях не спланируешь. Это не у Ли-2 — футбольные поля — толстые и большие, позволяющие всюду сесть на вынужденную.
После прохода ИПМ я полез в носовую кабину. Металл в лазе — зеркало: отполирован телами курсантов. Жутковатое ощущение — влез в кабину, будто выпал из самолета — так остеклена.
Перевел дух. Один, совсем один! Это ж здорово хозяином летать, когда экипаж выполняет твои команды! И вся надежда только на себя!
Но работать. Надеваю наушники, устанавливаю связь с командиром. Потом припадаю к ОПБ — оптическому прицелу бомбардира, измеряю угол сноса. И уж потом сажусь на сиденье, записываю в бортжурнал фактические и расчетные величины полета. Все получается — лучше не надо.
Михаил Сергеевич, командир, только крякает, да поддакивает, когда слышит меня. Митька молчит. Мы договорились не мешать друг другу. Пусть каждый прочувствует до конца самостоятельность. Надо же когда-то привыкать. Лейтенантами-то будем летать одни…
Я поглядел вверх. Хмурится небо, облачность цепляется белыми завитками. Проскакиваем сквозь них ослепшими и оглохшими, точно сквозь сугробы. Или… мне кажется?.. Но все это мелочи, на которые не обращаешь внимания. Навигационная аппаратура работает отлично, расчетные данные совпадают с фактическими, идем точно по маршруту.
Подходим к поворотному, гляжу вниз. Вон он Мурмыш — районный центр, большое село на берегах речки. Прижался к опушке соснового бора.
— Разворот! — командую и тщательно рассматриваю пункт. В центре — площадь с двухэтажными каменными домами. Средняя школа со стадионом у леса…
— Приказывают снижаться. Впереди низкая облачность, — говорит командир.
— Понял, — отзываюсь и наблюдаю, как стрелка высотомера поползла по шкале, сматывая высоту. Облачность наконец-то отлепилась от кабины, осталась наверху. Потеряли 1200 метров. Здесь другой ветер и снос. Срочно определить. Припадаю к прицелу… Теперь определить место самолета по радио — включаю радиокомпас, настраиваю, работаю на карте. Теперь уточнить путевую скорость… И вот новый ветер готов. И уточненное время прибытия на второй поворотный, и на контрольный ориентир Кудиново, на котором меняемся кабинами с Митькой.
До ориентира еще пять долгих минут, а из лаза показалась рыже-русая вихрастая голова.
Митька, как всегда, кривовато улыбается.
— Как дела? Все в порядке?
— Нормально! — кричу. — Смотри, вон впереди Кудиново! Принимай вахту!
Митька вглядывается в местность, крутит карту, кивает.
— Можешь уныривать.
Снимает с меня наушники, надевает на себя. Нажимает тангенту СПУ, докладывает командиру.
— Товарищ капитан, курсант Шамков самолетовождение принял!
Толкает меня в плечо, показывает на лаз.
— Хорошо, хорошо, — смеюсь, — улезаю.
…В навигаторской кабине — радиокомпасы, НБА, Рубин, РСБН, ЗСО[6] и целая уйма других приборов. «Клепаю» места на карте одно за другим, да напеваю. Уже рассчитал прицельный угол для работы на полигоне.
— Еще снижаемся! — бас Михаила Сергеевича.
— Облачность прижимает…
Я ерзаю в кресле влево-вправо (благо вращается), гляжу в оконце, в прозрачный потолок пилотской и в башню назад. Облака снова цепляются.
Вот прилипли! Опять работа. Снова ветер определяй, угол прицеливания и все остальное. А каково Митьке? Ругается поди… Ну, да полезно летать в затрудненных условиях…
Убрав газ, сбавив обороты, ныряем вниз.
Вот дела? Уснул Митька что ли? Две минуты назад прошли поворотный, а курс на новый этап не дал… Но ты-то тоже зевнул. Но я-то не ведущий…
Развернулись южнее пункта километрах в двадцати. Взяли курс на полигон, на мой взгляд, с ошибкой в 5 градусов. Во всяком случае у меня другой расчетный. Но оснований для беспокойства нет: неизвестно, какой на этой высоте ветер и куда сносит. Поэтому быстрей узнать его! Снимаю с указателя ДИСС[7] угол сноса и путевую, с компаса-курс. Секунды расчета и-и… ветер готов…
Лезу к пилотам. Гляжу вдаль. Темно впереди, тучи уступами опускаются к горизонту. Ясно, идем навстречу циклону, вот он и встречает лесенкой облаков.
Дробью хлестнул по стеклам заряд дождя. Его только не хватало. Потекли тонюсенькие волоски-ручейки, мешая наблюдению. Темно стало в кабине, грустно и тревожно… Но не теряться…
Едва поставил крестик на карте, включил секундомер, как снова снижение. Жмет, придавливает облачность к земле, заставляя лететь по наклонной площадками… Идем пока нормально, но левее маршрута километров 25. Не знаю, почему Митька не исправляет курс. Не видит что ли?.. Дождь усиливается, заливает стекла, бьет по обшивке и, кажется, каплет в кабине. И снова снижение, уже меньше тысячи. Как с такой высоты работать на полигоне? Ни разу не приходилось. Угол прицеливания огромный, не успеешь прицелиться и… сброс. Скорей в переднюю к Митьке, определить новую путевую и прицельные величины. Ныряю в лаз, скольжу по дну.
Митька — на коленках в самом носу и головы не видать. Но вот повернулся — красный, обожжешься, хоть папироску прикуривай. Глаза бегают, отвернулся.
— Почему курс не исправляешь? Уходим в сторону!..
— А-а, командир исправит…
— А мы на что?
— Отстань!
Не узнать Митьку. Смотрит на карту, руки дрожат, губы то ли трясутся, то ли что-то шепчут.
— Дай вправо двадцать, пока не поздно!
— Да отстань ты! — отмахивается он, но, помедлив, повторяет по СПУ мою команду. И снова блуждающим взглядом всматривается в местность. Тяжело ему, ясно — потерял ориентировку, но признаться не хочет. Не тот характер. Я заглядываю сбоку в его бортжурнал. Ну понятно, почти чистый. И путевая не та на 40 километров и время прибытия на 5 минут ошибочно. Пока Митька приходит в себя, я успеваю с ОПБ определить снос и путевую.
— Послушай, — толкает в бок Митька, — командир говорит: бросать сходу все сразу серийно. С КП приказали.
— Ну и бросай.
— А ты?
— А что я? Ты же первый…
Митька мнется, смотрит неуверенно.
— Но с такой высоты, да еще серийно мы же никогда не кидали…
— Ну и что? Бросишь, даже интересно.
Вот так Шамков?! Заплюхался, так начал крутить. Нет чтобы сказать честно — помоги, разве отказал бы?
— Да нам не положено в таких условиях, не по программе и методически неверно.
— А особые случаи?.. Ты же к ним готовился, записывал в план?
— Ну да-а, оно так, но-о…
— Что ты хочешь? Скажи прямо.
Митька замолкает, потом произносит:
— Пусть сбросит командир аварийно, без нас…
— Ну ты даешь? А мы для чего? Хоть один да выполнит упражнение. Ты подумал о Леве? Или ничему не научились за десять полетов? Дай наушники! — стаскиваю с его головы. — Я буду бросать!
— Курсанты! В бога вашу мать! Вы что, не слышите? — надрывается Михаил Сергеевич.
— Слышим! Слышим!
— К работе серийно готовы или мне бросать аварийно? Тогда же впустую слетаем!
— Готов! Готов! Курсант Ушаков!
— А-а, другой, командуй!
— Откажись! Откажись, Борька! — теребит Митька. — Пусть он кидает!
— Не мешай! Уйди из кабины! Опозорился, так хочешь, чтобы и я опозорился?!
Вот и НБП — ромбовидное озеро Медиак.
— Разворот! — командую, и когда самолет заканчивает его: — Боевой! Курс двести семьдесят пять!
Включаю ЭСБР — электроприбор сброса бомб, устанавливаю «серийно» и минимальный интервал сброса бомб.
Снова смотрю в прицел — круг мчится навстречу. Пора открывать люки. Щелкаю тумблером на щитке, и враз самолет, точно зацепившись за что-то упругое, затормозил. Послышалось шипение, перешедшее в хрипяще-фыркающий звук: хр-р-р. Почувствовалась дрожь, из-за открывшихся створок люка, создающих большое лобовое сопротивление.
Цель уже совсем близко от перекрестия.
— Вправо два! — последний доворот. Взвожу рычаг сброса.
Вот центр креста заполз в центр сетки. Пора! Срабатывает сброс.
— Бомбы сбросил! — И сам, оторвавшись от прицела, гляжу через плекс под самолет. Вот они вывалились кучей. Сначала летят вместе с самолетом горизонтально, чуть ниже, потом, опуская носы, идут к земле и отстают.
Перевожу взгляд на круг. Какой же он огромный! Не то, что с большой высоты. Сейчас чушки вспашут его. Вот бы попали все вместе!
Но такое не бывает — серия есть серия… И действительно, перед кругом вырывается из земли красно-черный великан-султан. Затем в круге другой, на границе — третий, дальше четвертый, пятый, шестой… Все заволакивается черной завесой, похожей на дымовую. Громовые раскаты прорываются сквозь рокот двигателей.
— Молодец, Борька! — хлопает по спине Митька. — Вот так зрелище! Потрясающе! — И сам радостно улыбается, поднимая кверху большой палец. (Не ушел все же, наблюдал).
— А ты не хотел! — ликую. — Такой шанс упустил!
Ой, люки-то?! — мелькает в голове. Поспешно бью ладонью по тумблерам. — Разворот! Курс на КПМ — конечный пункт маршрута — девяносто!..
— Молодец, Ушаков! — смеется Михаил Сергеевич. — С земли передали — отлично!..
Когда на стоянке вылезли из кабины, Лева, прикрывшись от дождя брезентовым чехлом, подошел к нам.
— Ну как, штурманы, бомбы домой не привезли?
— Нет, все оставили на полигоне.
Подошедший Михаил Сергеевич добавил:
— Они молодцы. Курсанту Ушакову объявляю благодарность…
«Доволен, Галя, что учишься в высшпартшколе и имеешь много интересных книг. Мне долго не придется прочесть их. Но сейчас я читаю тоже превосходную книгу «Полководец» Карпова.
Штурманское дело помимо хладнокровия, сообразительности, быстроты реакции, разумного риска вырабатывает в человеке еще умение мыслить перспективно. На каждый полет составляется штурманский план, в котором продумывает, расписывает и предусматривает штурман свою работу в воздухе от взлета до посадки. А порой от выруливания и до заруливания на стоянку. Так вот, есть в нем интересный заключительный раздел «Особые случаи в полете», в котором указаны действия в особо опасных ситуациях: при потере ориентировки, при сильном обледенении, при закрытии аэродрома посадки.
На мой взгляд, профессия штурмана учит поступать правильно не только в полете в критических ситуациях, но и в жизни!..»
«БОЙ»
ЧП случилось в перерыве между занятиями в классе вооружения. Как и всякое ЧП, его никто не ожидал.
Я шел по коридору, когда услышал дикий рев, грохот, крики. Вбежал в класс и вижу: Вострик, как бык, прижал Гущина в угол и колотит его о стену. А тот изгибается и молотит Вострика кулаками по голове. Лицо искаженное, какое-то бледно-красное, подпухшее.
Вострик по-бычьи ревет и сам периодически правой рукой тянется куда-то вверх, гладит стенд, на котором смонтированы части разобранной ракеты.
— Что такое? — спросил я недоуменно, но никто не ответил.
Сладостное любопытство написано на многих лицах. (С детства я видел такое и знаю парней, страсть любящих смотреть чужие схватки, а самим быть в сторонке).
Геннадий Потеев хмурится с злорадной усмешкой. Павел Магонин выставил вперед волевую челюсть и не мигнет. «Суворовец» смеется, да приговаривает:
— Так его, Вострик! Научи уму-разуму…
Игорь Лавровский засунул руки в карманы и только помаргивает, а Митька Шамков качает головой. И не поймешь: то ли осуждающе, то ли восхищенно. Абрасимов — групкомсорг и друг Вострика, прижался к стене и искоса поглядывает. И никто не шевельнется, не бросится, чтобы разнять, как пишут об этом в книгах, говорят по радио и показывают в кино. Всех захватило зрелище, «бой» гладиаторов.
— Ребята! Разнять надо! Потеев! Магонин! Что вы смотрите?!
Геннадий с Павлом повернулись недовольные:
— Опять мы? Хватит в дерьме рыться!
Ясно, Потеев ненавидит Гущина — нежданного конкурента.
— А я теперь не командир, пусть хоть убьют друг друга, — отворачивается Павел.
Тоже обижен. Да, Гущину никто не поможет. Все же недовольны, а многие ненавидят.
— Две собаки дерутся — третья не мешай! — назидательно учит Середин. — А то они объединятся и тебя же искусают.
Выходит, мне больше всех надо и снова получать синяки?.. А как же иначе, замсекретаря, твое дело… И вообще не люблю драк.
Рука Вострика нащупывает хвост ракеты. Сорвет — убьет.
— А ну прекратить! — ору я и кидаюсь к Вострику. — Прекратить, говорю! Как не стыдно?! Озверели, что ли?!
Хватаю Вострика за руку и отрываю от Гущина. Вострик разъяренный, резко поворачивается и отбрасывает меня на подоконник.
— Тебе что надо? Убью-ю! — ревет, брызгая пеной.
Гущин бледным-бледнехонек, что стена, поправляя тужурку, отходит боком в сторону.
Оглушительно звенит звонок в коридоре. Все выходят из оцепенения, а Вострик, пожалуй, приходит в себя.
— Твое счастье, что занятия, — зло шепчет он и, повернувшись, идет к своему столу.
Рассаживаемся на места. Гущин, потрогав шею, ни на кого не глядя, опускается на табурет, отворачивается к стене. Один «старик Середа» — дежурный по классу — остается у доски. Оправляет тужурку, будто тоже дрался, и ожидающе глядит на дверь. Сейчас войдет преподаватель, которому он отдаст рапорт, и начнется очередное занятие.
На следующем перерыве Вострик, догнав меня в коридоре, распаленно сказал:
— Зачем помешал? Я бы пристукнул гада, если бы сорвал ракету.
Я молчу — лучше не связываться с Востриком, пока не остыл. Да и, откровенно говоря, боюсь. Еще кинется драться, ни за что, ни про что изуродует.
Не успел я войти в новый класс, как услышал звучный голос Леньки Козолупова, но почему-то то и дело оглядывающегося на дверь.
— Да я не хуже Вострика! Могу любого прибить, лишь только разозлиться!..
На этот раз слушателями его были малыши Середин с Казанцевым и здоровяга Ромаровский. Все трое посмеивались откровенно, а Ленька, не замечая этого, входил в раж.
— А что? Вострик опередил, а то бы я, — опасливый взгляд на дверь, — прибил Гущина! Уж так он мне надоел, едва сдерживался.
— Ты хоть сейчас не разозлись, да нас не прибей! — дурачился Ромаровский, округляя черные «мохнатые» глаза и отступая назад.
Ленька милостиво улыбался и заверял:
— Сейчас не разозлюсь, не бойтесь…
Увидев Вострика, вошедшего попозже меня, закричал радостно-вежливым изменившимся тоном:
— Петя! Иди сюда! Я занял место!
А когда вошел никого не замечающий Гущин, Ленька совсем притих, только искоса посматривал на него, да что-то негромко говорил Вострику. После занятий, на лестнице я догнал Абрасимова.
— Что же ты, групкомсорг, не помешал драке? Позор на всю роту!
Толя недовольно глянул:
— Я их не заставлял драться. Пусть отвечают сами. А в комсорги я не напрашивался — пусть снимают.
— А кто же будет работать, если все откажемся?
— Не знаю…
— Ну хорошо, не хочешь выполнять свои обязанности, но как друг Вострика почему не удержал его? Разве так поступают друзья?
— Удержишь его, послушает он…
— Но ты не пытался задержать. Прижался трусливо к стене, я же видел, и не шелохнулся.
— Ну и что? Там ребята посильней были, и то, разинув рты, смотрели.
— Вот-вот, каждый надеялся на другого, лишь бы не я.
— Все так живут.
— Но я-то не побоялся, задержал. А ты сильней меня!
— Это твое дело.
— Но ты же обещал помогать?! Почему не кинулся вместе со мной, если один струсил? Почему не держишь слово?
— Да не струсил — Гущин заслужил.
— А если бы Вострик убил его?! Тоже заслужил?.. Выгнали бы из курсантов, отдали под суд, посадили в тюрьму. Вот она, твоя помощь, как друга и комсорга!..
— Да отстань, ты! — разозлился Толя. — Мало тебе синяков, так еще хочешь?
— Плохой ты друг, только на словах! И комсорг плохой, только обещаешь! Одно достоинство — тихонький!..
Я убыстрил шаг, побежал вперед. Толя кричал вслед что-то нелестное.
Беда же с нами, тихонькими?! Разве такими должны быть комсорги? Но где их возьмешь? Горластые да сильные — обычно нарушители, а мы — тихие, да скромные, боимся их, рта не разинем. Вот и сколоти из таких актив?!..
ПОСЛЕ «БОЯ»…
Вострик заорал на весь класс, смеясь:
— Борька? Что я слышал? Ты почему полигон вывел из строя?.. Из-за тебя теперь вся команда день и ночь ремонтирует! Ну и дал всем по мозгам! Туда полеты прекратились! Отличился на все училище! — прижав ладонью ежик моих волос, закончил горделиво: — Во! Поглядите, какой лбина! Не зря учится отлично! Мне бы такую голову, так тоже хватал бы одни пятерки!
Подошедший Потеев, сверкнув заплывшими глазками, изрек саркастически:
— Слыхал я истину бывало, хоть лоб широк, да толку мало!
— Это из тебя толку мало! — захохотал Вострик. — Вон волосы-то из глаз растут! А из него получится толк! Вспомните меня еще не раз через несколько лет!..
Я удивлялся — от кого узнали парни о серии. Во всяком случае, ни я, ни Митька, уверен, об этом не проронили ни слова. Однако после памятного самостоятельного вылета, «спасения» Гущина и «усмирения» Вострика мой авторитет в отделении, да и в роте вырос. Теплее и с уважением глядели на меня ребята, на равных и внимательно стали относиться. То один, то другой нет-нет, да и неожиданно говорил:
— Расскажи-ка лучше, Борька, как ты всю серию в цель положил? — Или: — Это правда, что ты крест разнес серией?..
Но особенно резко вырос в отделении авторитет Вострика. И настолько же упал у Гущина. Если Вострик ходит героем в сопровождении ватажки поклонников: Леньки Козолупова, Абрасимова и К°, то Гущин по-прежнему один. Но если раньше он ходил гоголем, то теперь старается быть тихим и незаметным. Не привлекать лишний раз к себе внимание. Если раньше афишировал свое презрение к «разгильдяям», то теперь сам испытал его.
Я помню, весной ходили отделением дежурить на метеостанцию. Практиковались по метеорологии. И там работала довольно миловидная девушка. Естественно, отделенные Дон-Жуаны, не видавшие больше года женского платья, наперебой кинулись к ней с любезностями и комплиментами. Так Гущин всех растолкал и разогнал под разными предлогами от ее стола, пользуясь своим командирско-сержантским положением. А когда пошли строем домой и неожиданно заметили девушку, идущую неподалеку, он, бросив командовать, кинулся к ней и, указывая на нас, не нашел ничего лучшего сказать, что это его отделение и он в нем хозяин.
Теперь все это бахвальство безвозвратно минуло и больше никогда не повторится. Нормальным человеком стал Гущин и по-нормальному, без криков и угроз, командует. Вот бы с первого дня так!.. Уважаемым бы человеком и командиром стал. Но не зря пословица гласит: пока гром не грянет… Перекрестился и перекрасился Гущин, да, наверняка, поздно. А Вострик, как утка, купается в луже славы, упивается «счастьем победы». Постоянно хохочет да заливается тонюсеньким смешком до слез.
С детства по себе знаю — ничто так мгновенно не поднимает авторитет парня, как победа над сильным противником у всех на глазах. Все слабые и равные сразу становятся друзьями, а сильные — товарищами. Ну, а если повержен самый сильный, то все спешат признать в победителе нового атамана. Как правило, слабых покидают, а к сильным сами льнут, надеясь добиться своих целей с их помощью.
Примерно подобное происходило сейчас в отделении. Ленька Козолупов ходит героем больше, чем сам Вострик. И песни поет те же, что и Вострик. И походку у него перенял, и уже устроил скандальчик, накинувшись на здоровенного, но добродушно трусливого увальня Герку Ромаровского — «уй-уй-уя», грозя тому оторвать башку и брызгая слюной почище Вострика…
Раза два на день Петр говорит мне с сожалением:
— И зачем ты помешал? Я бы прибил. Не-ет, не друг ты, Борька!
Я как-то не выдержал:
— И правильно сделал. Как настоящий друг спас тебя от суда, а ты до сих пор понять этого не можешь!..
Вострик на минуту опешил, потом раздраженно сказал:
— Ну да, друг. С тобой все равно каши не сваришь.
— Если хорошей, то пожалуйста, а плохой не надо.
— Вот видишь! Сам сознался.
— Мне не в чем сознаваться.
Вострик продолжительно посмотрел.
— Если принесу пару бутылок глотнешь со мной?
— Сейчас нет, после выпуска могу.
— Опять сознался. Не-ет, плохой ты товарищ.
— Я уже сказал: в хороших делах я тебе друг, в плохих — нет.
— А настоящий друг и товарищ — во всех делах помощник! — распаляясь, заговорил Вострик. — И в хороших, и во всяких!
Я помолчал.
— Я вижу, тебе хочется командовать, как Гущину. И ничем ты его не лучше. Тебе же надо, чтобы мы жили по-твоему. Как ты скажешь и сделаешь. Ты бы врезал, и мы тоже. Ты бы в город в самоволку, и мы за тобой. Вот это бы были друзья-товарищи! А на самом деле твои подчиненные, подражатели!..
Пока я говорил, Вострик ворочал разгоравшимися глазищами, потом захрипел:
— Борька! Убью-ю…
— Вот ты и показал, какой ты друг и товарищ! Правды о себе нисколько слушать не хочешь. Как Гущин грозился и размахивал дубиной устава, так и ты, к месту и не к месту размахиваешь и грозишь кулаками. В общем, решим окончательно — раз ты меня не уважаешь ни капли, больше я тебе ни в чем не помощник. Спасать не буду. В Среднегорск сегодня же напишу о конце переписки…
После отбоя я долго ворочался не в силах заснуть. Перебирал в памяти дела дня. Вспомнился Вострик.
Гущин тоже хорош. Мог бы улыбнуться или спасибо сказать за то, что отвел беду. Сколько дней прошло — все делает вид, что не замечает меня. Или стыдно?.. До Вострика, кажется, дошло.
Уже перед самым сном шепнул:
— Ладно, не обижайся, ты прав…
«Коля! За годы учебы я узнал все летные профессии: пилота, радиста, техника. И могу сравнить, оценить и сказать, что профессия штурмана не хуже ни одной из них. И такая же важная, нужная, как они. Уверен — никогда ей не изменю. Даже после демобилизации постараюсь летать гражданским штурманом. Мечтаю полетать в Заполярье! И еще хочется быть штурманом-испытателем.
Есть у меня товарищ Петр Вострик. Так он собирается облетать всю Антарктику. «Что там Арктика? — сказал он, узнав о моих желаниях. — Ты же штурман! Должен смотреть вперед, а не назад!.. Еще в 30-х годах Аккуратов, Данилин, Штепенко, Юмашев, Беляков, Стерлигов ее облетали всю вдоль и поперек и нам ничего не оставили! Уже вовсю осваивают Антарктику. Вот туда мы с тобой и махнем! Пусть Вострик, Ушаков и другие ее облетают! Сделают ряд новых открытий. Ведь неплохо звучит: мыс Ушакова! пик Вострика! ледник Жередина! река Любы! Стоит ради этого жить?! А на Южном полюсе побывать разве плохо?..»
Итак, решено! Вначале до 30—40 лет летаю в Арктике-Антарктике, потом до конца испытателем!.. Об академии, конечно, не забыл, иначе не пошел бы в армию.
Так что не очень хвались своей автопрофессией».
ПЕРЕВОДЫ — ПЕРЕМЕНЫ
Юрку Киселева — Кисельмана — друга Валерки Чертищева перевели из 21-го желтовского отделения для пользы службы в 24-е.
Он оказался моим соседом — спим головами рядом — койки состыкованы изголовьями.
Утром и вечером присматриваемся по-соседски два разнополярных человека. Он мне интересен, я — по-видимому, ему. Никаких нарушений и грубостей с Юркиной стороны пока не наблюдается. Такой же курсант, как и все. Твердо, не ерепенясь, выполняет распорядок дня.
Я — на его глазах тоже веду себя, как все, ни перед кем не расшаркиваюсь, не подхалимничаю, не «выпячиваюсь» отличником. Во всяком случае такой должен сделать вывод…
И за что Юрке навесили ярлык нарушителя?.. Что-то было в прошлом. Не зря же разъединили с неразлучным Валеркой Чертищевым. Ну да будущее покажет, что он за человек и чего стоит…
Вот и опять перемены в отделении!
Гущина с «комотдов» сняли и наконец-то назначили Потеева. Да, не прошла бесследно Гущину стычка с Востриком, за что последний отсидел трое суток на гауптвахте. Все справедливо. Что это за отделенный, на которого зверем кидаются подчиненные вместо того, чтобы защищать грудью?.. И что это за подчиненный, готовый убить командира?
Геннадий Потеев дорвался до власти, когда уже и расхотел ее. Всегда ведь так: хочешь — не дают, не хочешь — навяливают. Нелегко командовать 25-ю курсантами. Один Вострик что стоит?! Потеев с опаской поглядывает на него. Неизвестно, сам ли додумался или старшие подсказали, или кто со стороны, но Геннадий командует совсем не так, как Магонин и Гущин. Извлек опыт!
На самоподготовке заткнет уши и сидит долбит материал, не обращая внимания на разговоры. Иногда, правда, крикнет на весь класс:
— Да тише вы, хайлопаны! Себе же мешаете!
Конечно, он требует дисциплину и порядок, но раза в три меньше предшественников. Кто прав — время покажет. Во всяком случае исчезла атмосфера нервозности, криков, бесконечных придирок и нравоучений. Сама жизнь доказала — апрыкинский метод командования порочен. Не укрепляет — расхлябывает дисциплину, делая из людей волков, а не друзей, как должно быть.
Я обеими руками «за!» спокойную деловую обстановку. Нарушил дисциплину — получай взыскание. Добросовестно, успешно служишь — получай поощрение. Хорошо бы еще командир с комсоргом работали в тесном контакте. Все виноваты: и командование, и бюро, что не умеем взаимодействовать. Отсюда и провалы в работе, и разные ЧП…
ДНЕВНИК
Дневник — моя тайна. Он у меня не простой, а политический. (Хотя и разжижен эпизодами — подвигами летчиков АДД).
Интересно ведь записывать мысли, взгляды, оценки событий, рецепты решения «горячих» проблем и даже «теории». Намечать перспективы развития событий. Потом через 15—20 лет будет жутко интересно прочитать эти записи и сравнить собственные прогнозы с жизнью, с действительностью. Но больше всего я люблю делать международные обзоры, как и мой отец, приучивший меня к политике и дневнику.
Отец у меня был умный, и я горжусь им, как и дедушкой Петром Ивановичем и дядей Володей.
Люблю читать его записи. Сколько интересных прозорливых мыслей. Вот хотя бы за 1947 год, когда он был моего возраста и тоже курсант.
«Безусловно, СССР пал бы, если бы капиталистические страны всего лишь одной Европы во главе с Германией, Англией и Францией объединились и со всех сторон напали бы на нас. Но Гитлер переоценил себя, а когда одумался, было уже поздно…
Подготовка к новому походу на СССР обязана привести к созданию единого фронта капстран во главе с США. К созданию в Западной Германии единого государства — трехзонии. Над чем сейчас во всю работают господа Бевин, Бирнс и другие…»
«Если бы крестьянство знало, что вместо земли получит… колхозы, то никогда бы не поддержало Октябрь…»
Поражаюсь отцу… и как только не боялся?! Нашли бы дневник — сгноили бы в лагере!..
«Пока что у нас от клеветы нет защиты, а от клеветы начальника тем более!»
Я тоже стараюсь не плюхнуться в лужу. Думаю, что мои записи не хуже. Они перекликаются с отцовскими и, пожалуй, вытекают из них.
В любой стране при любом строе всегда были, есть и будут бездельники — «бедняки» (такими родила природа), которые умели и умеют лишь разрушать, а не созидать. Готовые поддержать любую даже вредную перемену по двум, главным для них, причинам. Во-первых, им-то терять нечего. Во-вторых, а может, что-то им и обломится. «С чужого стола хоть кроха, да своя!». Поэтому они всегда были за революцию, коллектив, в котором кто-то бы трудился, а они бы только ели, потребляли…
Союз завистников, клеветников, бездельников и подлого политикана, давшего сигнал к беззаконию, насилию и уничтожению ни в чем не повинных талантливых тружеников-земледельцев — вот движущие силы коллективизации, которая в 1933 году привела к всеобщему голоду в стране и коллективным смертям миллионов…
Брежнев, ведя страну по сталинскому пути, только смягченному, без массовых репрессий, завел ее в застойную трясину, породив еще небывалую коррупцию и обман, где страна рано или поздно должна была погибнуть от общего (экономического, политического, социального) кризиса. Выход и спасение один — перестройка. И чем быстрей, тем лучше для народа и всего мира. Возникло противоречие между потребностями людей и экономикой, не желающей обслуживать их, не подчиненной им. И оно все больше углублялось.
Экономика подмяла человека благодаря бюрократическому аппарату, превратила в своего раба, и творила произвол в своем развитии. Отсюда и дефицит во всех товарах, ведущий к кризису, но противоположному капиталистическому.
«Избиение советского крестьянства под фальшивым лозунгом раскулачивания было генеральной репетицией массовых избиений-убийств 1937—1940 годов. Трагедия крестьянства в том, что никто: ни рабочий класс, ни интеллигенция, ни партия не пришли ему на помощь. Наоборот, помогали его избивать под лозунгами проведения революции в деревне, чем укрепляли уверенность вождя в его абсолютной безнаказанности при проведении любых преступлений в будущем. Натравили его сами на себя, подготовили репрессии 30—40—50 годов. Ни партия, ни интеллигенция, ни рабочий класс, ни весь народ не оказались на высоте. Позволили делать с собой все, что хотел вождь: унижать, оскорблять, издеваться, уничтожать!.. Не могли обуздать всего-то-навсего одного человечка!..»
Сталин своими репрессиями в 37 убедил Гитлера напасть на СССР, поставил страну на край гибели. Из-за этого пришлось заплатить за Победу десятки миллионов жизней.
Счастье России (Союза) в том, что имела такого выдающегося полководца, как Г. К. Жуков. Он — спаситель страны, победитель Гитлера, выигравший войну, был той палочкой-выручалочкой, которой всегда пользовался Сталин, спасая в первую очередь лично себя, исправляя свои ошибки и присваивая чужие победы. За что люто ненавидел своего заместителя…
«Многовековая трагедия нашего народа в том, что «слуги» его, стремящиеся к власти и достигнувшие ее (исключая единиц), никогда не хотели в действительности служить ему, а стремились пожить в свое удовольствие за счет его. Не случайна поговорка: «Власть любит жить всласть».
«Обидно то, что когда разумные страны двигались вперед, наша страна под «мудрым руководством вождей», подобно огромной черепахе, топталась на месте. Даже бывшие колонии: Таиланд, Кувейт, ОАЭ, Сингапур, Южная Корея за 15—20 лет без передовой теории, а руководствуясь лишь своим разумом, бурно развились и вошли в десятку самых передовых и богатых стран мира. А мы за 40 лет спокоя дотоптались до кризиса…»
В роте опять «бой». Поцапались Казанцев, Шамков и Ромаровский… Нет, не физически — словесно. Но шуму-у — под самый потолок! И добро бы по делу… из-за пустяка. Не поделили Сталина с Троцким. Вернее, их посты. Чтоб им обоим в гробах перевернуться!..
«Суворовец» оказался ярым сталинистом. Ромаровский — троцкистом. А Митяй — нигилистом.
Почти не слушая друг друга, размахивая руками, наскакивая, брызгая слюной — каждый доказывал свое.
На помощь Ромаровскому из разных углов казармы прибежали Миша и Гриша — руководители ротной рок-группы, Изя и Лева — редакторы боевых листков, Юдик и Наум — редакторы ротной стенгазеты. Но Герке «уй-уй-ую» этого казалось мало. Заламывая руки, он все время горестно стонал:
— Игорь! Да скажи ты им, наконец, безмозглым, упрямым баранам! Что только Троцкий после Ленина должен был быть лидером-генсеком! Тогда бы и в стране был порядок и Гитлера легко разбили!
Но Игорь, извинительно улыбаясь, лишь отнекивался.
К «Суворовцу» на помощь подскочили Ленька Козолупов и Вострик, Павел Магонин и Потеев.
К Шамкову — никто.
За шумом и гамом не заметили, как подошел секретарь партбюро Толстов. Постоял незаметненько у колонны, послушал «хай» и как «ангел-миротворец с улыбочкой спустился с небес».
— А теперь слушай меня!..
И рассказал такое, что даже я, считавший себя спецом по обоим «гениям», вечером в личное время подробно записал все в дневник. Конечно, со своими ЦМ (ценными мыслями) и ГР (глубокими рассуждениями).
«Сталин и Троцкий никогда не были друзьями, а всегда соперниками, врагами, почувствовавшими антипатию друг к другу (перешедшую затем в смертельную ненависть) еще с первой встречи в 1905 году. (Вернее, все это больше относится к Сталину).
Их обоих нельзя было подпускать на пушечный выстрел к управлению страной, да еще в качестве генсека. Но, к величайшему горю, этого не случилось, за что СССР, а точнее русский народ поплатился 70 миллионами жизней.
Избрание Сталина генсеком в 22 году (по предложению Г. Е. Зиновьева, которого он в 37 году, словно бы в благодарность, расстрелял) было непоправимой ошибкой ЦК, Политбюро и лично В. И. Ленина, точнее самой крупной из всей их деятельности, перечеркнувшей победы партии в революции и гражданской войне.
Что же было одинакового у Сталина и Троцкого? Общего…
1. Оба стремились всю жизнь быть первым руководителем партии. Занять место Ленина. Поэтому и вступили в партию большевиков, примкнули к Ленину. Особенно это касается Троцкого.
2. Оба были не русскими — грузин и еврей. Иосиф Виссарионович Джугашвили и Лейба Давидович Бронштейн. Следовательно, не имевшими никакой любви к России, к русскому народу. (А, возможно, испытывавшие ненависть к нему за обиды, которые пережили когда-то. Об этом красноречиво говорят их дела). В лучшем случае — равнодушные к нему.
3. Оба родились в конце 1879 года на юге России. Один — в Грузии, другой — на юге Украины.
4. Оба мечтали быть гениями, а Лейба так открыто считал себя таковым. Оба готовили советскому народу, особенно русскому как наиболее многочисленному, исходя из своих лженаучных теорий, страшное будущее, в котором он бы захлебнулся своей собственной кровью. Что и произошло впоследствии.
5. И тот и другой пришли в партию с далекими личными целями (а вовсе не для служения и для блага народу) — на гребне разраставшейся революции подняться наверх. И это обоим удалось, правда, в разной степени.
6. Оба не столько любили революцию, сколько себя в ней. Какие посты она им сулила, чтобы войти в историю.
7. Оба были приверженцами авторитарных, командно-волевых, бюрократических методов руководства, беспощадными кровавыми деятелями, исповедовавшими бонапартизм, цезаризм, военное диктаторство, а не идеи подлинного народовластия.
Сталин с одобрением относился к некоторым авантюристическим, левацким идеям Троцкого. Никогда не выступал против беспощадности Троцкого, которую тот афишировал в своих теориях и непосредственно в жизни, когда был наркомвоенмором и председателем РВС республики.
В своих книгах он писал: «Нельзя армию строить без репрессий. Нельзя вести массы людей на смерть, не имея в арсенале командования смертной казни. Надо ставить солдат между «возможной смертью впереди и неизбежной смертью позади». И еще: «Чтобы победить белых, мы ограбили всю Россию…»
Любой приезд председателя РВС республики сопровождался массовыми казнями командиров и бойцов, правых и неправых, виновных и безвинных.
Не случайно Троцкий разъезжал в гражданскую по фронтам в спецпоезде в сопровождении одного-двух бронепоездов, заполненных затянутыми в кожу молодцами личной охраны.
8. Оба любили расстреливать русский народ. Особенно его лучших сыновей, выдающихся деятелей и полководцев. Так, Троцкий расстрелял легендарных героев гражданской, создателей и командующих I и II Конных армий Бориса Думенко 11 мая 1920 года в Ростове-на-Дону и Миронова — в 23 году. А Сталин — за полтора года (37—38) уничтожил 39700 командиров РККА и среди них талантливейших маршалов Тухачевского, Егорова, Блюхера.
9. Оба «подозрительно» относились к русскому крестьянству, считая его реакционным, исповедовая только одно — карающий меч в отношении его. «Чтобы индустриализовать страну, мы ограбили крестьянство», — мог впоследствии сказать Сталин.
10. Оба были демонами. Во всяком случае оба имели демонический, сатанинский характер. Первый псевдоним Сталина, когда он стал печататься, — «Демонишвили» («Бесошвили»). «Это не человек, а черт». (Бухарин о Сталине).
Таким же дьяволом был Лейба. Да еще с сексуальной одержимостью. В 8-летнем возрасте — он уже крупный коллекционер порнографических открыток, которые всегда было трудно купить в России из-за строгих нравов русского народа.
Что же было разного у них?..
1. Лейба Бронштейн, еще в молодости снедаемый жгучим честолюбием, мечтал быть великим писателем. Но… «ничего не вышло из-под пера его». Тогда, увидев «революционную волну», бросился в нее, где сразу нашел себя (удовлетворил свое ненасытное честолюбие), имея способности публициста, оратора и организатора.
В известном смысле он повторил судьбу Карла Маркса (что свойственно большинству еврейских юношей), который тоже в юности мечтал быть великим писателем и оставить о себе след в истории. Но тоже «ничего не вышло из-под пера его» и он с головой окунулся в политическую борьбу, где достиг впечатляющих успехов как теоретик. Все его родные, знакомые скептически вначале относились к его занятиям, а мать насмешливо при всех восклицала: «Мой сын вместо того, чтобы сколотить капитал, пишет какую-то дурацкую книгу о капитале!..» (Г. Волков — «Гений»).
Иосиф Джугашвили — в юности мечтал быть священником, поэтому и учился в духовной семинарии.
2. Лейба Бронштейн — был сыном еврея помещика-землевладельца, единственного во всей Российской империи.
Иосиф Джугашвили — сын ремесленника-сапожника.
3. Поэтому они имели разные жизненные уровни, разные возможности для образования, как и разные умственные способности, и, естественно, разный культурный уровень.
Как свидетельствуют многочисленные биографы, интеллект Лейбы был более изощренным, более богатым. Со свойственной живостью мысли, солидной европейской культурой, неукротимой энергией, широкой эрудицией, блестящей манерой выступать.
Неугасимая вражда, вспыхнувшая между ними еще с первых встреч, подогревалась впоследствии неустанной борьбой за власть. Коба всегда завидовал Лейбе как публицисту, искусному оратору и организатору, как образованнейшему человеку, знавшему иностранные языки. К великому своему сожалению, Коба не знал ни одного, кроме русского. Но и его он знал еле-еле до конца дней своих. Выступая на съездах, говорил всегда с ужасным акцентом, как будто только что сошел с высоких гор из далекого, глухого селения. А ведь прожил в Москве более 30 лет!!! Безвыездно… В этом смысле он проигрывал не только Троцкому, но и Екатерине II, которая за год сама овладела в совершенстве русским — великим языком своей новой великой и единственной Родины.
Завидовал врожденному умению Лейбы подать себя, быть всегда в фокусе внимания людей и печати. А также ненавидел за постоянное преувеличение Троцким своей персоны как гения. За его заносчивость, высокомерие со всеми (кроме Ленина), категоричность, авторитарность, нетерпимость к другим мнениям.
Этими своими чертами Лейба постоянно оскорблял Кобу и, вообще, вплоть до 24 года (смерти Ленина) не считал его крупной политической фигурой, тем более вождем. А когда посчитал — было уже поздно. Вся власть была в руках Кобы, а Лейба оказался «фельдмаршалом» без войск.
Именно переоценка Троцким самого себя как второго гения в партии его и погубила, предопределив заранее его поражение в борьбе с Джугашвили.
4. Всю свою политическую жизнь Троцкий вплоть до июля 1917 года боролся с большевизмом, с Лениным, создавая против него группу за группой или блок за блоком.
«Виляет, жульничает, позирует, как левый, помогает правым…» (В. И. Ленин). Не случайно еще в 1911 году Ленин назвал его «иудушкой»…
Лишь в июле 17 года, нюхом почувствовав перспективность большевиков как будущей правящей партии, примкнул к ним, открестившись от своего прошлого.
Больше того, впоследствии Ленин не раз брал Троцкого под защиту, ценя его организаторский и пропагандистский талант.
Сталин за редким исключением всегда поддерживал Ленина и состоял в его партии как видный, но не выдающийся деятель.
5. Сталина всегда уязвляло, что в годы революции и гражданской войны Троцкий был ближе к Ленину, чем он. 78 раз обращался Ильич к Троцкому с письмами и телеграммами в тот период, а к Сталину 62 раза.
6. Бесило Сталина и то, что Троцкий был необыкновенно писуч. К 1927 году он выпустил 21 том своих произведений, а Сталин — генсек, всего несколько.
7. Всю свою жизнь Лейба не знал (и не признавал такого слова), что такое скромность.
Сосо (Коба) всегда вплоть до 22 года держался в тени.
8. Бесило Сталина и то, что в годы революции и гражданской войны вторым после Ленина по известности и популярности лидером был Троцкий. При перечислении фамилий Троцкий всегда назывался (печатался) сразу после Ленина.
9. Троцкий никогда не заимствовал идеи Сталина и не восхищался ими. Сталин же, наоборот, не признаваясь в этом никому, даже себе, частенько брал на вооружение идеи врага. «Подкрашивал» их и выдавал за свои. Например, Сталину нравилась идея так поставить дело, чтобы люди были готовы добровольно «отдавать свою кровь и нервы». Может быть, поэтому некоторые называли и называют Сталина первым троцкистом?.. Троцкий не раз писал об «эпигонстве» Сталина, подразумевая заимствования генсека в социальных методах.
Отличие Ленина от Сталина и Троцкого в том, что если Ильич иногда думал о народе и его благе, то Лейба и Коба никогда.
Многие говорят, прекрасной заменой Сталину был бы Троцкий. Будь он генсеком, наша Родина избежала бы кровавой бани, которую на протяжении тридцати лет ей устраивал Сталин.
Трудно ответить на такой вопрос. Никто не знает точно, что было бы с Союзом?.. Но, зная черты характера Троцкого, перечисленные выше, его «дела» и теоретические воззрения, нетрудно догадаться, какую не менее, а, может, и более страшную баню устроил бы Лейба, в первую очередь русскому народу как самому многочисленному и самому активному в революционно-экономической жизни.
Вспомним его высказывания:
«Рабочий класс может приблизиться к социализму лишь через великие жертвы, напрягая все свои силы, отдавая свою кровь и нервы…» (1921 г.)
Привыкший к командованию, а точнее, мечтавший всю жизнь командовать миллионами, быть господином, вершителем их судеб, Лейба не уставал тогда повторять, что без «рабочих армий», «милитаризации труда», «полного самоограничения» революция рискует никогда не вырваться из «царства необходимости в царство свободы».
Вся необъятная страна ему виделась, как одна огромная военная казарма, а народы, населяющие ее, как механическая сумма батальонов, дивизий в округах. Почти весь XV том сочинений Троцкого посвящен «милитаризации труда…». Он призывал промышленные районы превращать в миллионные дивизии, военные округа слить с производственными единицами, на особо важные объекты посылать «ударные батальоны, чтобы они повысили производительность личным примером и репрессиями…»
Как видим, Лейба не мыслит свою будущую деятельность без убийств. А бесконечные призывы «к завинчиванию гаек»!.. К перманентной (непрерывной) революции во всем мире!..
По мнению Лейбы, русский народ был прекрасным строительным материалом для осуществления и проверки его авантюрно-эгоцентристских идей, не имеющих ничего общего с интересами страны. А Россия — прекрасным испытательным полигоном.
Будучи «гражданином планеты без паспорта и визы» (так называл он себя), свободным от каких-либо принципов, как «гений» и «пророк», он в любое время мог заключить с мировым сионизмом союз (искавшим в то время территорию для построения своего государства) и построить на просторах России великий Израиль.
Такой прецедент уже имелся в истории народов. В X веке купеческая еврейская община захватила власть в Хазарском каганате. И показывала хазарам-тюркам, темным кочевникам, их кагана, одетого в золотое платье, по праздникам, создавая видимость, будто ими правит он. И лишь походы киевских князей Олега («Как ныне сбирается вещий Олег отмстить неразумным хазарам…») и Святослава, разгромивших Хазарское государство, лишило купцов-узурпаторов власти.
Как пишет бразильский писатель Жоржи Амаду, лауреат международной Ленинской премии мира, с начала революции в Россию на поездах, кораблях, автомобилях, самолетах хлынули потоки молодых евреев из других стран, желавших принять участие в переустройстве государства…
К величайшему несчастью для советского народа, старая ленинская гвардия, оставшись без Ильича, отстранила от руля Лейбу, но оставила Кобу. А нужно было отстранить обоих. Ибо Сталин нанес вреда делу социализма и русскому народу больше, чем любой враг нашего государства, больше даже, чем Гитлер, чем все враги, вместе взятые. Оказался «врагее» всех врагов… Вся его «деятельность» приводит к единственному выводу: он сознательно, используя разные формы, начиная от процессов, кончая организацией голода и войн, выдавая их за благо и необходимость для народа, уничтожал русских людей, преследуя цель — войти, в конечном счете, в историю как самый жесточайший из всех диктаторов, когда-либо живших на свете. Чингисхан, Батый, Тамерлан — добродушно глупые мальчишки по сравнению с ним. Никто и нигде еще не уничтожал поголовно все население такой страны, как Англия, Франция или Италия. Ибо Коба всегда знал — народы помнят навечно только самых жестоких, свирепых царей, а не добрых, мягкотелых, пусть и принесших им счастье. А счастье при всем желании он принести не мог, да и не умел, ибо никто на земле его еще не приносил. И это задача будущих поколений…
Стало непонятной традицией в партии и стране: Ленин умер, не подготовив себе преемника. Сталин — тоже не подготовил. А ведь оба умерли не внезапно и отчетливо знали, что будет после их смерти полнейшая и кровавая неразбериха.
Хрущев не готовил преемника, хотя было ему за семьдесят. Брежнев — тем более.
Андропов, Черненко тоже не готовили преемников, хотя были смертельно больны.
Что это?.. Сознательный подвох партии и народа с их стороны?.. Самых умных и дальновидных… Как по Шекспиру: «Порядка нету в датском королевстве»… А чтобы был — всего-то нужно выбирать генсека из нескольких кандидатов всеми членами партии на партсобраниях. А Председателя Президиума Верховного Совета — всем народом тайным голосованием…»
ОТКРОВЕННАЯ БЕСЕДА
Блестяще вел Елиферий заседание комсомольского бюро. Я наблюдаю за ним, учусь. Сильный он человек, с большим кругозором и светлыми мыслями. Завидую ему по-хорошему. Возможно, Елиферию помогает большой опыт. Но все равно умеет он работать и есть чему поучиться. Вот только бы поменьше кабинетной работы, разных заседаний, а больше в казарме, в учебном корпусе.
На бюро слушали комсомольца Пекольского, того самого Пекольского, о котором всем уши прокричал Апрыкин в первые дни жизни в армии. Не зря, разумеется, кричал, только зачем так оглушительно?..
Разгильдяйчик Пекольский. Нахапал двоек, а учится уже на выпускном курсе. Это больше всего возмутило членов бюро.
Я не знаю точно, какие чувства испытывал во время выступлений Пекольский, но он то краснел, то бледнел, и даже бисеринки пота выступили на верхней губе. Заверил, что будет учиться хорошо и прекратит нарушения.
После заседания мы с Елиферием сидели в кабинете одни.
— Вот так-то, замсекретаря! — стукнул карандашом по столу Шмелев, уставясь на меня голубыми близко посаженными внимательными глазами. — Плохо мы с тобой работаем! Планы составляем, мероприятия выполняем, а отдачи не получаем!
— Сами виноваты. Не так и не там, где надо, работаем. Не перестраиваемся.
— Ну-ка, ну-ка, — оживился Елиферий, — конкретнее.
— Могу, да я как-то уже говорил об этом. А не обидишься?
— Валяй, вытерплю.
— О какой действенности может идти речь, если сами члены бюро, комсорги и командиры не организованы. Не выступаем единым фронтом против хулиганствующих нарушителей, а они, не в пример нам, группируются по два-три человека и поддерживают друг друга. Поэтому они, а не мы, задают тон в отделениях. Поэтому и столько нарушений, которые мы громим только с трибуны в присутствии командования, но, боже упаси, в жизни, где мы только сторонние наблюдатели.
— Ну, ну, дальше — моргал Шмелев. — Меня имеешь в виду?
— Кого же еще? — распалился я. — За полтора года не видел, чтобы ты, здоровый, сильный авторитетный парень — постоянный руководитель, одернул на месте какого-нибудь разгильдяя. Схватил бы за руку, сказал: — Стоп! Не смей! Ты почему вредишь?!.. Одно из трех — либо у тебя недостает смелости, либо втайне исповедуешь: «Моя хата с краю», либо бережешь свое драгоценное здоровье? Но в любом случае — ни одно не красит тебя.
Елиферий заерзал:
— А поконкретней можешь?
— Пожалуйста. Только не считай как личную обиду. Помнишь, с год назад Шамков в присутствии тебя и роты ни с того ни с сего обозвал меня дураком, когда я шел по центральному проходу?..
— Ну-у, что-то припоминаю…
— Так тебя это тогда нисколько не возмутило, хотя ты прекрасно почувствовал, что он охаивал не одного меня, а вообще отличников, тебя в том числе.
— Ну это скользкий, неубедительный факт, — поморщился Елиферий, — в конце концов никто не обязан тебя защищать. Защищайся сам!
— Согласен! — кивнул я. — Но почему тогда ты ни разу не призвал к порядку любителей послушать после отбоя разные «Голоса Америки», которые мешают всем спать, не говоря уже о более худшем?
— Ну-у…
— Почему не разнял дравшихся рядом с тобой Теклова и Винухова? Почему ни разу не сделал замечание курильщикам в казарме? Не подсказал Апрыкину как секретарь, что так командовать нельзя! Сейчас не подскажешь Желтову?!. Приведет к краху. Еще приводить факты?..
— Достаточно, — согласился Елиферий. — Кое в чем ты прав.
— Во всем! Я с первого собрания наблюдаю за тобой.
— Даже? — улыбнулся Елиферий. — Чем обязан такому вниманию?
— Понравился. Видный ты человек, вот и наблюдаю.
— Спасибо за комплимент, а теперь всерьез. Что ты сам сделал для сплочения актива, хотя бы в своем отделении? Беседовал с кем-нибудь или помог?..
— Беседовал и стараюсь помогать.
— С кем?
— С комсоргом Абрасимовым, с Казанцевым…
— И что сказали они? Каков результат?
— Колька прямо сказал, что ему это ни к чему. И так неплохо живется. А Абрасимов на словах согласился, на деле — нет.
— В чем выражается твоя помощь как члена бюро ему как комсоргу?
— Поддерживаю всегда на собраниях, помогаю проводить их, подсказываю, какое и как надо проводить мероприятие. Ну-у, беседу, выступление…
— Так вот! — поднялся со стула Елиферий. — И я в свое время пытался и пытаюсь сплотить актив, но это очень и очень трудно, и главное — не хотят.
— Неправда! Я хочу! И предлагаю немедленно провести инструктивно-методическое собрание всех командиров и комсоргов и обязать их помогать друг другу в работе. Попросим принять участие командование, секретаря партбюро Толстова. Или, может, проведем сами без них? Поговорим обо всем начистоту?..
Елиферий усмехнулся.
— Если захотят.
— Растормошим! Фактами допекем!
— Горячий, смотрю, ты парень, — качал головой Шмелев. — В принципе идея нужная, хоть и не новая. В начале прошлого года проводилось же такое, а результат, как видишь, нулевой.
— Когда? Не помню, почему меня не вызывали?
— Ну, может, и не совсем такое, но что-то в этом роде.
— Ну и пусть! Проведем еще, но как следует! Сплотим вначале ротный актив, а потом в отделениях. Тогда никакие Вострики и Апрыкины не будут страшны. А сперва договоримся с тобой: я тебя поддерживаю и защищаю во всем хорошем и одергиваю в плохом, ты — меня. Идет?!.
Перестраиваться надо в первую очередь нам — активу. Тогда пойдет работа!..
— Идет, — улыбается Елиферий. — Я ведь тоже когда-то был таким.
— И что случилось? Сейчас не старик, всего на каких-то четыре года старше.
— Да-а, — тухнет Елиферий, — есть кое-какие причины. Думаю, скоро тебе мешать не буду.
— Как? Ты и так не мешаешь. Наоборот, что все это значит?
— А-а, — огорченно машет рукой, — после узнаешь…
От Любы письмо:
«Борис! Так поступать, мягко говоря, нечестно. Почему решил не писать. Может, я чем-нибудь обидела?.. Скажи прямо. Или Петр запретил — тоже сообщи. Вообще-то, некрасиво получается: поразвлекался и бросил. Тем более, что скоро выпуск. Или писал по принципу — пока было тяжело и скучно служить, хоть чем-то заняться. А когда без пяти минут офицер — finita la komedia.
Дурно пахнет все это. Так не поступают товарищи, не говоря уже — друзья. Не понимаю, зачем было выступать инициатором переписки, убедить меня ответить, чтобы сейчас, после прошедших полутора лет, прекратить ее? Не понимаю, зачем это тебе было нужно? Да и как жестоко? Разве я заслужила такое?..»
Вот она, расплата за бессмыслицу. Но я же ничего не обещал ей. И она с первого письма знала, что пишу по просьбе Вострика и под его контролем.
И все равно я чувствовал себя неловко, точно совершил пакость. А может, на самом деле совершил?.. Но я же не хотел! И готов искупить вину. Но в чем и чем?.. В конце концов третий всегда лишний! Им же лучше, старым друзьям…
В ПАРТБЮРО
Я сидел за письменным столом в партбюро батальона, оформлял комсомольскую документацию, когда открылась дверь и в комнату вошел старший лейтенант Толстов. Чернобровый, с орлиным взглядом и носом, он прошел к окну, к столу Шмелева.
— Как с докладом?
— Пишу, — поднял голову Елиферий.
Толстов, повернувшись, взглянул на меня, потом прошел за Шмелева, склонился над столом, открывая ящик.
— Ушаков! Возьми-ка на память, — и протянул тетрадный лист и фотокарточку.
Вернувшись на место, я рассмотрел их. Лист оказался черновиком письма, которое получила мама. А с фотографии рисовался портрет ротным художником.
…Толстов подсел к Шмелеву.
— И что надумал?
— А что думать? Пока не поздно, надо ложиться в госпиталь.
— Сейчас нельзя, попозже ляжешь.
— Когда позже-то? Вот-вот начнутся годовые зачеты, да заключительные полеты. А там и госэкзамены!..
— Все равно нельзя.
Дрогнувшим голосом Елиферий сказал возмущенно:
— Вы что, хотите, чтоб я без ног остался? Я и так едва до аэродрома бреду. Давно ли из лазарета?..
Вот так новость?! Елиферий, оказывается, сильно болен, а я и не знаю. Хотя видел, как его под руки вели двое курсантов в санчасть, а он еле переставлял ноги, спускаясь по лестнице. Но я не придал этому значения.
— Но ты же секретарь! Не был бы им — ложись, пожалуйста.
— Здорово живешь! Да что я, незаменимый, что ли? В бюро девять человек, а мне подлечиться нельзя!
— Но кем заменить? Действительно некем.
— Да тем же Ушаковым!.. Молодой, энергичный, инициативный, с интересными идеями. Да и замсекретаря!
— Ушаковым? — оторопело-разочарованно протянул Толстов. Так, что я, похолодев, сжался.
— Или только на бумаге замом числится? А не на деле? — не успокаивался Шмелев. — Кстати, за перестройку. Поговорите-ка с ним — удивитесь.
— А мы что… против? — оживился Толстов.
— Выходит так — раз не видим подлинных борцов.
— Ушаковым? — разочарованно протянул Толстов и так поглядел, что мне стало неудобно за него и за себя.
Вот она, откровенная оценка и отношение. Не с трибуны и без громких дежурно-штампованных фраз… Но ведь стою этого, не сравнить же с Шмелевым. Да и не потяну, не справлюсь с работой…
Видимо, поняв мое состояние, Толстов изменил тон:
— Ушаков — хороший курсант, передовик, отличник, но-о, — развел руками, — но-о… но…
И так захотелось подсказать: «Не справится», — что едва сдержался. Знакомое чувство растерянности, оцепенения и скованности, вызванное потрясением открытия правды, лишило речи. Да и не умею разговаривать с начальством, как-то волнуюсь, да боюсь…
От Любы опять письмо. Вострик только головой вертит, да крякает, поглядывая на него, лежащее на койке.
«Боря! Я все еще не могу поверить, что ты не будешь писать. Если Петр запрещает, так, прошу, не слушай его. Пиши отдельно…»
Юрка Киселев прижился в 24-м. Ни одного нарушения, ни одного взыскания. Валерка Чертищев не забывает друга, ходит в гости.
Вот сидят на табуретках, беседуют. Юрка, поглядывая по сторонам, жалуется другу:
— Скоро праздник — День авиации, хоть бы благодарность кинули. Все взыскания давно сняты, двоек не имею, троек — одну, а кто видит?
— И у меня так же, — поддакивает Валерка.
— Что это за служба — за полтора года ни одного поощрения? У нас как приклеят ярлык разгильдяя-нарушителя за грехи молодости — когти сдерешь — не от-царапаешь…
Я задержался у тумбочки, доставая дневник, в который давно уже ничего не записывал. Все некогда.
А что, они, пожалуй, правы. Мне поощрения сыплются, как капли дождя, а другим?.. Вряд ли. Наверняка, есть курсанты — незаметные середнячки, которые за время службы не получили ни одного взыскания и ни одного поощрения. Разве это справедливо?.. Каждый служит, как может и как умеет. Но одно то, что не нарушает дисциплину и честно несет службу, — уже достижение и достойно похвалы… Где-то слышал или читал — каждый ученик, даже закоренелый двоечник раз в году, да должен получить пятерку. Может, такое поощрение — событие в жизни — послужит толчком к новым успехам. Придаст силы и уверенность, привьет вкус к хорошему. Что греха таить, сам был двоечником, сам на себе испытал и прочувствовал. Надо будет с Умаркиным поговорить, на бюро с командирами посоветоваться. Интересно, сколько же в роте таких середнячков?.. Узнать у командиров. И про Киселева с Чертищевым не забыть…
Снова письмо с среднегорским штампом:
«Борис! Решай, если нужно я прекращу писать Вострику…»
Красноречивая смелость. Но мы же не виделись никогда?! А если не понравимся друг другу? Но это еще хорошо — оба не будем переживать. А если она понравится, а я ей нет? Или наоборот?.. Тогда снова муки и терзания неразделенного чувства?.. Хватит школьных, сыт по горло, жизнь и так не сахар, скорей горчица.
Сую письмо в карман, чтобы на улице выкинуть в урну. Ни к чему Вострику видеть его…
ИСПЫТАНИЕ
* * *
— Дежурный… роты курсант Пекольский! — выводит меня из полудремы надоедливый голос. — Что? Что?.. Есть! Будет выполнено!
В «спалке» появляется Аттила (так зовет его Потеев) и направляется ко мне.
— Слышь, секлетарь! Снова тебя! На этот раз в политотдел к семнадцати!.. Ой, что только тебе будет?! Е-е — мое-е! Не только из курсачей, из комсомола выпрут! А может, и под трибунаху отдадут! Не посмотрят, что секлетарь! Это тебе не надо мной вы-е… каблучиваться!
— А ну, заткнись! — зло говорю я.
— Что? Что-о? — кривя рожу и презрительно сощурясь, переспрашивает Аттик.
— Заткнись, говорю! И не подходи ко мне больше!
— Что-о? Ты кому это говоришь «заткнись»?! Кому?! Здесь не бюро, начальства нет. Я так тебе заткну! Всю жизнь не разоткнешь!
Он нагло подходит. Из двух пальцев делает «вилку» и, отведя руку, целит ударить в глаза.
Я прикрываю ладонью лицо, поставив ее ребром, и неожиданно бью его резко и коротко ударом «под ложечку».
Аттик всхлипывает и застывает. Только глаза округляются и выкатываются еще больше. Потом, скрестив руки, сгибается и падает на кровать.
Вот ведь второй раз за сутки приходится драться. Второй раз кончаю схватку одним ударом.
— Ты-ы что-о? — шипит Аттик, словно проткнутый футбольный мяч. — Я-я ве-едь п-п-о-ошу-у-ти-ил!
— Я тоже.
— А еще секретарь, — на этот раз выговорил правильно, без издевки. — В бюро жаловаться буду. Знаешь, что будет за избиение комсомольцев?.. Он тихонько поднимается с постели и бредет к выходу.
Я снова опускаюсь на табурет. Гад! Помешал только. А так хорошо дремалось.
— Дневальный по роте слушает! — доносится из прихожей. — Рота на парашютных прыжках!.. Звоните позже! Не на испытаниях, а на прыжках!..
* * *
И тогда… был день испытаний — парашютные прыжки…
С неделю уже ходим в парашютный класс на укладку и тренировку. Группами влазим в подвесные системы, закрепленные на потолке, крутимся, имитируя посадку на лес, кустарник, пашню, воду, крышу или стену здания. Вытягиваем ноги, тянем передние или задние стропы, отрабатывая скольжение и быстрый спуск, раскрытие запасного парашюта, при скрутившемся и перехлестнутом основном.
Сегодня даже спали плохо. Хоть и верим в парашют, и запасной будет, но беспокойно на душе. Не испугаемся ли выпрыгнуть и, самое главное, раскроется ли купол?..
Немногие «смельчаки-рационалисты» авторитетно заявляют:
— Я не хочу доверять свою жизнь куску материи, тряпке. Она у меня одна. Прижмет — прыгнешь без тренировки.
И уже давно сходили в санчасть, запаслись освобождениями от прыжков. А большинство с тревожным возбуждением готовилось к ним. Как не прыгать, раз выбрал летную профессию? Да и это же целая область неизведанного, захватывающего, новых чувств и впечатлений на всю жизнь!
Еще в далеком детстве в родном Синарске я — пятилетний малыш, раскрыв рот, наблюдал, как отчаянные парни прыгали на лыжах с высоченного трамплина. Еще с тех пор хотелось прыгнуть. Испытать себя на храбрость. Узнать, что я за человек?..
В квадрате, где рядами стоят на попа парашюты, мы сидим тесным кругом, смотрим вверх на голубое чистое небо, в котором, как жук, ползает Ан-2. Смотрим и чуточку дрожим, но вида не подаем.
Вот «жук», притихнув, приподнял хвост. Сейчас начнется выброска! И действительно, из фюзеляжа посыпались черные точки. Белыми галстуками вспыхнули над ними один за другим купола парашютов, раздулись, закачались.
Лесенка куполов поплыла вниз, а самолет, резко опустив нос, пошел на посадку.
— Вторая смена, надеть парашюты!
Моя очередь. А вдруг последние минуты живу на земле? А если разобьюсь? Таки случаи бывали в училище, но они же редки. И на улице гибнут пешеходы. Прочь плохие мысли! Все будет хорошо. У меня же два парашюта, и я натренирован.
Словно хомуты, надеваем друг на друга парашюты. Клацаем карабинами и замками. Щупаем красные кольца. Готовы рвануть их, точно уже падаем.
— В одну шеренгу станови-ись!
Беременными горбуньями стоим перед инструктором, осматривающим в последний раз шпильки вытяжных тросиков.
— Напра-а-во! К самолету шагом марш!
Поворачиваемся и видим — Ан-2 уже рулит к нам. Когда только успел сесть?.. Не заметили.
Рокочет с хрипотцой двигатель, трепещет трава, прижатая к земле горячим шквалом. Влезаем в самолет и садимся вдоль бортов. Со стуком захлопываются двери и… рулим на старт.
У многих серьезные сосредоточенные лица, у некоторых глупые улыбки. Напряженные тела, скованные позы. Все ближе и ближе миг, когда откроется дверь и придется выпрыгивать… Не опозориться бы! Я слышал и в кино видел — не все это могут…
Последний поворот, и сразу команда:
— Встать! Приготовиться к прыжку! Руки на кольца!
Стерло улыбки, застучали откидные сиденья. Вцепились пальцы в вытяжные кольца, приварились. Друг за другом вплотную стоим в кабине, которая враз наполнилась оглушающим ревом двигателя (будто его перенесли на хвост), воем и свистом потока — открыли дверь.
Инструктор высунул голову, отыскивая Т.
— Подойти ближе! — махнул рукой. — Еще ближе! — командует задний инструктор.
Переступив два шага, замерли у двери. В проем глядеть страшно. Я прыгаю вторым, и хорошо, что не вижу земли — перед носом парашют Шамкова. Ознобом колотит тело, полузакрыв глаза твержу как во сне: дернуть через паузу, дернуть через паузу.
— Поше-ел! — стреляет в голову, лишая сознания а сил. Спина исчезла, открылась далекая, ужасающе далекая земля. И в эту бездну я должен выпасть?
Закрыв глаза, в полубессознательном состоянии усилием воли заставляю себя оттолкнуться от порога, валюсь наружу. Бьет в уши грохочущий шквал, рвет рот и нос и вмиг, крутанув, пропадает. Внезапно наступившая тишина тоже оглушает. Как в дурном сне, падаю в пропасть ни жив ни мертв, только считаю про себя: два… три и дергаю что есть силы кольцо. И жду, жду, когда же раскроется парашют?.. А он почему-то мучительно долго не открывается, и еще раз хочется рвануть кольцо, да так, чтобы совсем выдернуть. Но вот наконец-то такой толчок, что голова чуть не отрывается. Клацают зубы, ножные обхваты врезаются в пах. Невольно открываю глаза. Осмотреть купол!.. Задираю голову.
Ба! Да какая красотища! Огромный, ослепительно снежный, покачивается, крутится надо мной. Белыми струнами протянулись стропы.
Взгляд вниз — и холодею от страха, от жуткой высоты. Стоит не выдержать карабинам, как выпаду из подвесной и уж ничто не спасет!
Хватаюсь за лямки над головой, вцепляюсь что есть силы. Не удержусь, если лопнут карабины! Срочно забраться и сесть на круговую лямку подвесной!.. Но где она? Где-то на спине…
Держась правой рукой за лямку, левой нащупываю круговую. Тяну под себя, пытаясь сесть. Но это не удается — лямка чуть-чуть подается вниз. Снова тяну и еще подаю под себя. Отпуститься от верхней лямки, повиснув над бездной на грудном и ножном обхватах, чтобы обеими руками подвести круговую под зад, не хватает мужества. А враз откроются?..
Наконец после нескольких усилий взбираюсь на лямку и усаживаюсь, как в кресле. Теперь можно оглядеться — страхи позади. И вдруг слышу крики откуда-то сверху. То кричат товарищи от переполняющей их радости. Я тоже закричал:
— Митька?! Ты слышишь меня? Слышишь?
— Слышу-у! — донеслось снизу.
Митькин купол в стороне, метрах в ста. Сверху прекрасно видно, как он медленно поворачивается.
— А видишь меня?
— Вижу-у!
— У тебя все в порядке?
— Все-е!
— У меня тоже-е! — И тут я запел, сам не зная что. Взглянул вниз, в стороны и умолк. Вид-то какой потрясающий?!.. Чуть левее подо мной — металлургический завод с огнедышащими жерлами вулканов-печей.
Бр-р! По спине забегали мурашки. Не приведи, господи, туда опуститься! Десятки цехов и железнодорожно-шоссейных путей видны, как на макете. А вот и прямоугольные квадраты соцгорода — скопище бело-розовых зданий, разделенных серо-черными линейками дорог.
Извивается петлей река с коричневой водой от заводских стоков. По берегу протянулось шоссе с ползущими коробочками машин. Сюда тоже неохота садиться!
Прямо подо мной — городок, утопающий в зелени скверов и леса. Мощным квадратом возвышается коробочка, крестом пересекаются шоссейки.
Сюда тоже не надо приземляться. Хотя, говорят, были такие случаи. Опускались и во двор, и на крышу.
А вот стоянки самолетов. Зеленые бутылки крыластых Е-7, серые — А-44 и двухвостые крестики «гончих». И сюда приземлялись. Никакого желания.
Точно под ногами — огромное поле аэродрома. Зелененькое, ровненькое и, может, мягкое. А вот и парашютный квадрат, где сидят ребята. Очередная смена двинулась на посадку в самолет. В стороне — полотняное Т, куда мы должны, по расчету, приземлиться. Там уже бегают люди и что-то кричат…
Здорово же смотреть на землю из поднебесья! Захватывающе! Ого?! Горизонт-то стремительно сужается. Взглянул на завод, а он отодвинулся к горизонту.
Ноги! Высота мала! Ноги!.. Сдвигаю их вместе, полусогнутые в коленках, выравниваю ступни параллельно земле.
Куда несет? Землю встретить «лицом», иначе можно сломать ноги… Ага, кажется, скольжу левым боком. Скрещиваю над головой руки, тяну лямки, разворачиваюсь немного. Как легко все делалось в классе на тренажере и как плохо сейчас. Тяну еще, успею ли?.. Земля, секунду назад бывшая так далеко, уже рядом, стремительно надвигается. Тяну, тяну и еще доворачиваю влево.
— Ноги! — доносится снизу.
Удар должен быть равномерным. Только бы ровная площадка, а не бугорок, не ямка. Со страхом гляжу на мчащуюся навстречу землю. Кто сказал, что на ПД опускаешься со скоростью 5 метров в секунду? Да тут все десять!
Удар!.. Не такой уж и сильный, будто спрыгнул с забора. Валюсь на бок, как учили. И совсем не так страшен черт, как его…
Немного ошеломленный встаю, улыбаюсь. И с ногами все в порядке, и с телом. Рядом гаснет купол парашюта, огромной ромашкой распластавшийся на траве.
Неподалеку возится со своим парашютом Митька Шамков. Около него один за другим, словно на громадных одуванчиках, приземляются парни. Падают, тут же вскакивают и, оглядевшись, начинают складывать парашюты.
Я тоже отстегиваю запасной, освобождаюсь от подвесной системы, достаю сумку и запихиваю туда стропы.
Идущий мимо Митька улыбается и машет рукой.
— С воздушным крещением тебя!
— Тебя тоже!
— Помочь?
— Не откажусь!
С сумкой на спине подходит Вострик. Глаза горят, весело улыбается.
— Привет королям воздуха! Понравилось прыгать?
— Еще бы?! — смеется Митька.
— Еще бы разок! — добавляю я и нисколечко не вру. Радость переполняет, и я готов прыгнуть раза три кряду, лишь бы разрешили.
— Знаю я вас, чертей! Ничем не испугаешь! С такими орлами хоть сейчас в бой!..
Мы идем вместе в квадрат, высоко подняв головы, и громко смеемся. По пути присоединяются Середин и Казанцев, Козолупов и Абрасимов. И тоже весело хохочут, вспоминая свои прошедшие страхи и воздушные кульбиты. Мы идем одной шеренгой, уверенно, широко, как и подобает боевым товарищам и друзьям. И пусть нам присущи известные недостатки, но их, на мой взгляд, становится все меньше и меньше. А спаянность, взаимовыручка и взаимоуважение растут изо дня в день.
НА ПОЛИГОНЕ
До выпуска остаются считанные месяцы. Сейчас самое интересное — работать ночью на полигоне визуально, а не с «Рубином» по РЛЦ[8]. Даже негласно соревнуемся.
В кабине темно, только фосфорически холодно светят приборы. Вдали прямо по курсу полыхает желто-багровое огненное кольцо, с огненным крестом посредине. Склоняемся к коллиматору прицела (специальному стеклу), командами доворачиваем машину так, чтобы едва заметная золотистая сетка легла на цель, и держим цель чуть выше перекрестия.
Все ближе и ближе подплывает кольцо. Уже отчетливо видно, как трепещет на ветру пламя десятков факелов-плошек, расставленных по окружности, и каждому хочется попасть в крест, чтобы потушить его вместе с кольцом. И-и вот… сброс: самолет точно вздрогнул — чушка пошла вниз. И неожиданно через секунды из ее хвоста вырывается пламя — сработал трассер — и теперь она хвостатой кометой, описывая дугу, мчится к цели. И приблизительно видно, попадет или не попадет в нее.
Перед самой землей пламя исчезает и снова величественно и одиноко горит уплывшее под хвост машины кольцо. И вдруг красно-желтое облако взрыва выбрасывается из него. Тухнет часть факелов, но потом снова вспыхивает. И опять колеблется пламя на ветру, притягивая к себе «гончих»…
Никому еще не удавалось потушить цель, а так хочется…
25 сентября в день 60-летия училища больше полроты получили поощрения от командования.
Юрка Киселев — веселый, довольный — встретился во дворе коробочки после завтрака. Хитровато посмотрел, подмигнул:
— Слышь, Борька? Впервые благодарность кинули. Твоя работа?..
— Неважно, чья. Важно, что справедливость восторжествовала! — тоже хитровато улыбаюсь я.
— А верно, служить хочется, когда тебя замечают.
…С неделю назад я был у комроты Умаркина. Вытащил список фамилий тихих незаметных курсантов и бывших нарушителей, с которых давно сняты взыскания.
Беседовали. Умаркин под конец сказал:
— Оставь списки, подумаем, посоветуемся…
Приятно, когда к тебе прислушиваются…
Интересный разговор произошел в партбюро со старшим лейтенантом Толстовым об улучшении комсомольской работы в роте. (Меня все-таки избрали секретарем, как ни противился: Елиферий в госпитале).
— Где ты был раньше? — сказал Толстов, выслушав меня. — Год назад это надо было провести. А сейчас какой смысл огород городить? До выпуска-то всего полтора месяца.
— Два и пять дней до госэкзаменов, — краснея, уточнил.
— Ну два, — усмехнулся Толстов, — подумаешь, разница…
Видя мое недоумение, то ли ободрил, то ли добил:
— В следующий раз, когда выберут секретарем, осуществишь свои планы.
— Следующего раза может не быть, — возразил.
— Может, — согласился Толстов и сочувственно улыбнулся. — Да ты не огорчайся! На твой век комсомольской работы хватит. Или вновь Вострик бузит?
— Нет, он дисциплинированный стал.
— Тогда кто-нибудь другой?
— Не-ет.
— Или новый Апрыкин-Гущин объявился?..
— Нет, но есть не лучше их, и тоже ждет расплата, только наедине.
— Не можем же мы сменить всех командиров, а с Желтовым я поговорю. Выходит, не так уж плохи дела, секретарь? Наоборот, улучшаются.
— Так скоро же выпуск…
— А знаешь, что говорят курсанты про вас? — захохотал Толстов. — Шмелев начал с взысканий, а Ушаков — с поощрений!
Толкнув дружески в плечо, закончил:
— Ладно, иди, беспокойная душа. Пиши комсомольские характеристики, да помогай ребятам готовиться к госэкзаменам.
ГЛАВНЫЙ ОРИЕНТИР
Осенью, когда работаем в первую смену, в пять ноль-ноль завтракаем в безлюдной, полутемной столовой. Потом переодеваемся и не спеша, ротной колонной идем на аэродром.
В этот момент солнышко только-только встает. Красное, нахмуренное вылезает оно из-за горизонта и, словно стыдясь опоздания «на работу», робко освещает росистую, дремлющую землю.
Мы приходим на аэродром всегда первыми. И, не расходясь, напротив штаба полка, ожидаем летный состав. Затем в парашютной на втором этаже получаем парашюты и, сгибаясь под их тяжестью, — по 4—5 приходится на брата — идем на стоянку.
А там, в кабинах самолетов уже хлопочут трудяги-техники. Снимая чехлы, ползают муравьям по крыльям и фюзеляжам мотористы и механики.
Зарядив парашюты и разложив их по кабинам, мы выпрыгиваем из самолета и идем сгружать только что привезенные чушки…
И вот уже разносятся по стоянке гулкие хлопки — выстрелы. Вырываются из выхлопных труб и сопел голубоватые облачка дыма. Чих! Чах!.. А затем ровный мощный басовитый рев заполняет пространство, враз оглушая людей. В этот момент, нахлобучив пилотки на головы, и, придерживая их, чтоб не сдуло струей воздуха, наклонившись в сторону работающего двигателя, курсанты бросаются к люкам и скрываются в них. Влезаем снова в кабины и проверяем навигационную аппаратуру под током.
После пробы двигателей, открываем створки люков и начинаем подвешивать чушки. Трудная это работа. До пота. Конечно, есть лебедка, но с ней дольше возиться.
Наконец-то люки закрыты. Все сделано и готово к вылету. Осталось только доложить командиру, получить последние указания на построении и марш-марш на взлет, навстречу солнцу и ветру…
Недолго мне пришлось быть в радостно-тревожном настроении.
Перед запуском и выруливанием на старт около самолета в сопровождении инструктора Левы Шитова появился гроза курсантов — штурман полка майор Рахов.
Дурная слава идет о нем среди нас. Некоторых он отстранил от полетов, других наказал, третьим поставил двойки. Летевший с ним мог заранее считать себя обреченным. После посадки он проводил двух-трехчасовые разборы-разносы. Естественно, с ним боялись летать.
Сухощавый, выше среднего роста, с впалыми землистыми щеками и тонкими губами, он цепко и холодно оглядел меня.
— Покажите документацию.
Я поспешно раскрыл портфель, достал карту, план полета, бортовой журнал.
Майор внимательно просмотрел документы и, возвращая, сказал:
— Почему не записаны время полета и путевые углы в плане?
Я недоуменно поглядел на него.
— А разве это обязательно?
Глаза Рахова на мгновение округлились, брови вскинулись вверх.
— Да! — жестко прозвучал ответ.
— Товарищ майор, но ни в одном руководящем документе не сказано, чтобы эти данные были в плане…
Инструктор Шитов неожиданно громко раскашлялся.
— К тому же я их знаю на память.
— Тогда перечислите по этапам.
Хоть я и здорово волновался, но ответил без запинки. Майор продолжительно посмотрел на меня.
— Как вы учитесь?
Неизвестно, что меня удержало от прямого ответа, «еще посчитает, что хвалюсь», поэтому протянул неопределенно:
— Ну-у, как все.
— Плохо? Хорошо? Средне?
— Отлично.
— А как летает? — вопрос Шитову.
— Тоже отлично.
— Ну, ну, посмотрим. Я полечу с вами, товарищ курсант… Ставлю вводную: в результате атаки истребителя F-16 и взрыва выпущенной по вам ракеты вышло из строя все электронно-навигационное оборудование. Самолетовождение выполните только по радиокомпасу, секстанту, магнитному компасу и указателю скорости. Все остальные приборы будут зачехлены. Ясна задача?
— Так точно.
…После взлета мое волнение исчезло. Некогда — надо работать, да и привычный рокот двигателей успокаивает. А ощущение полета захватывает, наполняет горделивой силой. Даже петь хочется!
Внизу земля, точно огромная географическая карта, раскинувшаяся во все стороны вплоть до горизонта. Поблескивают в лучах солнца извилистые прожилки рек. Ртутными лужицами расплескана водная гладь бесчисленных озер. Густой темно-зеленой щетиной встают хвойные леса. Светлой, нежной зеленью кудрявятся лиственные. Черными, желтыми, коричневыми паутинками тянутся шоссейные дороги к населенным пунктам — скоплениям игрушечных зданий и домиков…
Я сижу в носу остекленной кабины и мне порой чудится — парю над землей. Даже немного страшно. Вдруг стекло не выдержит и я вывалюсь.
Надо мной — темно-голубое, вернее, фиолетовое небо. Густое и близкое. Подернутый дымкой горизонт виден плохо. Поражает перспектива, открывшаяся взору. Кажется, вся страна лежит под тобой. Город за городом виднеются вдали. А ведь до них добрая сотня километров и более. С высоты полета ощутимо, что земля шар, хоть и гигантский.
Проверяющий за моей спиной, на сиденье у стенки кабины. Непрерывно пишет что-то в блокноте на планшете.
Пишите, пишите, увидите, как летают!..
У меня сегодня все, как никогда, отлично получается. Самолет идет строго по линии заданного пути. «Как по нитке!» — говорят курсанты.
В расчетное время под самолетом маленькое озеро — поворотный пункт маршрута.
— Разворот! — командую и сообщаю командиру курс, скорость, высоту на новый этап. Оборачиваюсь и победно гляжу на майора. Жду каких-либо указаний или замечаний. А втайне надеюсь на одобрение.
Рахов по-прежнему что-то записывает и меня совсем не замечает.
Как хотите, думаю, немного обиженно и быстро рассчитываю время прибытия на второй поворотный.
— В 8.02 будем над Вихревкой, — докладываю командиру. Меряю снос, уточняю курс. Ну, а сейчас можно определить место самолета радиотехническими и астрономическими приборами.
Настроив радиокомпас на радиостанцию, беру секстант. Наблюдая через светофильтры за солнцем, загоняю желтое пятнышко в центр черного пузырька. Через одну-две минуты, закончив расчеты, прокладываю на карте линии. Они пересекаются на озере Светлом. Перевожу взгляд на землю. Вон оно, озеро. Позади. Здорово же я определился!.. Как Дмитриев или Жередин!… Улыбаюсь. Чуть хвост не отрубил пеленгами! Эх, кто бы только видел! И похвалиться некому!.. Инструктор на земле, а проверяющий не в счет. Машина!..
— Так какое время прибытия на поворотный? — слышу над ухом голос майора.
— Восемь ноль две. А что? Неправильно? — забеспокоился я.
— Да нет, ничего, работайте, — бесстрастно ответил Рахов.
На всякий случай уточняю время прибытия. Все верно. Гляжу на часы. Без двух минут восемь. Пора. Смотрю вниз, отыскивая Вихревку.
Шли точно по маршруту, значит, она строго по курсу должна быть.
Вглядываюсь вдаль, но пока что ничего приметного не вижу. Какие-то однообразные, поросшие травой мелкие озера.
Минуты летят, как секунды. Должна быть Вихревка. А ее почему-то нет и нет. 8.02 — отстукали часы.
— Штурман! Где поворотный? — раздается в наушниках голос командира. — Время вышло, что делать?
— Идти с прежним курсом! — отвечаю, а сам чувствую — пламенем охватывает лицо. Что же это такое? Неужели заблудился? И в такую погоду, когда видимость «миллион на миллион»! Не может быть! Стыд-то какой! А еще хотел показать класс полета…
В это время впереди замечаю населенный пункт — Вихревка?!.. Да! Она! Посредине — озеро. На берегу — церковь. Севернее — большое сердцеобразное озеро Соленое… Южнее лес. Все точно, как на карте. Вот только время не совпало с расчетным. Выходит, скорость неточно определил. А если это не поворотный?..
Еще раз вглядываюсь в карту и местность. Нет, он. Прочь сомнения! Командую разворот и сообщаю летчикам новый курс.
— Что? Что? — переспрашивает командир, Михаил Сергеевич.
— Разворот! — повторяю.
— А не рано?
— Нет-нет.
Самолет, «упираясь» крылом в землю, плавно описывает дугу. Затем резко выравнивается.
Скверно на душе, будто только что оскорбили. Лицо все еще жгуче горит. Сил нет повернуться назад и встретиться с насмешливо-торжествующим взглядом майора. А как все шло прекрасно. И на тебе! Словно затмение наступило. До сих пор непонятно, что получилось? Почему не вышел вовремя? И главное — это и сейчас плохо — нет твердой уверенности, что развернулись там, где нужно… Но стоп! Работать! Не отвлекаться! Впереди самое сложное — выход на полигон.
Я рассчитываю время выхода, измеряю снос самолета и начинаю отыскивать железную дорогу, которую должны скоро пересечь. На ней я детально сориентируюсь, определю путевую, ветер и прицельные величины.
Что за черт! Опять какая-то напасть! Напряженно смотрю вперед, но «железки» нет и нет, будто провалилась. Хотя еще 5 минут лету, — успокаиваю себя, — можно и не увидеть. И тут же чувствую, что сам себе лгу. Допустим, она незаметна, — разоблачает чей-то голос, — но города-то уже отчетливо должны быть видны: Шахтерск, Бирюзовск, Крутоярск.
Слышу:
— Где летим?
Вот оно началось! Невольно голова втягивается в плечи, точно в ожидании удара. А тело, пронизанное мелким ознобом, сжимается в комок.
Оборачиваюсь и, стараясь не поднимать глаз, карандашом очерчиваю на карте район перед железной дорогой.
— Вот здесь.
Рахов опять отодвигается вглубь кабины.
«Наврал! Наврал! Позор! — слышу чей-то голос и хочется крикнуть в ответ: — А может, не наврал! Скоро все будет ясно…»
Время вышло. Внизу бескрайняя степь и бесчисленные глаза озер. Я сижу ни жив ни мертв, не чувствуя своего тела, убитый горем и стыдом. Как бурав, сверлит меня насквозь: «Потерял ориентировку! Потерял ориентировку! Потерял…»
— Где летим, товарищ курсант? — откуда-то издалека слышится голос майора, выводя из оцепенения.
Где летим?.. Если бы я только знал… Что делать? Признаться?.. Опозориться перед всеми. Попросить помощи?.. Расписаться в собственном убожестве… Нет! Ни за что! Не может быть, чтобы не восстановил. Район-то знаю…
— Подождите, сориентируюсь.
— Ну, ну, — вроде даже довольно соглашается Рахов.
Я всматриваюсь в карту и местность. Ни одного знакомого ориентира! Просто удивительно, будто сроду здесь не летал!..
Снова какие-то безвестные озера, мелкие неприметные деревнешки. И как назло — ничего характерного! Не за что глазу уцепиться!.. А может, давно проскочили «железку», а я не заметил? Поворотный-то прошли позже!.. Спокойно!.. Основное — не дрожать и рассуждать логически.
— Товарищ курсант, где находимся? — снова голос майора.
— Подождите еще, — как можно спокойней отвечаю. — Только бы не вышел из себя Рахов, да не раскричался. Когда на меня кричат — совсем не соображаю.
Но проверяющий и на этот раз мирно уселся на свое место. В любом месте, где бы ни был, я должен видеть уже Надеждинск — крупный город с заводскими трубами. Но и его не вижу, хотя обшарил весь горизонт, аж шея заболела. Уверен, знаю, чувствую — здесь где-то он, перед самым носом, но пока что не найду…
Внезапно в поле зрения попадает большое круглое озеро с песчаной косой посредине. Айсакуль?! Неужели оно?! Но в нашем районе полетов оно единственное, неповторимое и перепутать с другими невозможно…
Отыскиваю на карте. Трудно поверить, что так уклонились! А вон северная железная дорога! Игрушечный электровозик тянет змейку крошечных вагончиков. А вон! Вон! Левее Надеждинск! Прикрылся дымом, как груздь травой, попробуй разыщи! И совсем не там, где я его искал. Выходит, мы не дошли до поворотного. Развернулись раньше. А почему?.. Но это потом…
— Разворот влево! Курс 270! — командую и, улыбаясь радостно-виновато, оборачиваюсь к майору. Тот придвигается.
Я показываю карандашом озеро, город, место самолета. Майор согласно кивает головой и тоже — даже удивительно! — улыбается.
Ну теперь жить можно! Кричать хочется, как после раскрытия парашюта. Я с подъемом продолжаю работать. Главное сейчас — выйти на цель в заданное время и поразить ее…
К счастью, я вовремя вышел на полигон и на «отлично» отработался.
После посадки я вылез из кабины последним. Даже немного задержался. Нехотя подошел к майору, жадно курившему за хвостом самолета, доложил о выполнении задания.
— Разрешите получить замечания.
Майор, бросив окурок в траву, растер его каблуком сапога и внимательно поглядел не меня.
«Сейчас раздавит, как окурок… Интересно, какое ждет наказание?.. Отстранение от полетов?.. Или «губа»?»
Неожиданно Рахов предложил:
— Проанализируйте полет, перечислите ошибки, вскройте их причины.
— Вот и началось, — тоскливо подумал я и некоторое время не мог собраться с мыслями.
Рахов глядел ожидающе.
— Объясните, почему потеряли ориентировку?..
В ответ только моргаю глазами.
— Да-а, видимо, в чем-то ошибся…
— Вот что! — решительно говорит Рахов. — Проверьте расчеты, сделайте прокладку пути на карте, продумайте полет и завтра доложите.
…Утром я был в кабинете майора. Тот выслушал меня, не прерывая, потом заметил:
— Вы считаете, — потеря ориентировки произошла случайно?..
— Нет, я механически ошибся на десять минут. В результате Семеновку принял за Вихревку… Ну-у, а потерял ее… из-за недостаточной подготовки к полету. Арифметика подвела, устный счет…
— Вот этого я и ждал от вас! — оживился Рахов. — Честной, объективной оценки самого себя. Вчера вы сами прочувствовали, что тщательная подготовка к полету необходима каждому летчику, в том числе и отличнику. А говоря вообще, добросовестное отношение к своей работе необходимо каждому, что бы он ни делал и где бы ни находился…
Рахов немного помолчал, закурил:
— Каждый штурман, да и каждый человек, хотя бы раз в жизни, но теряет ориентировку. Важно то, как быстро он ее восстановит и какой вывод сделает на будущее. Разница между людьми и состоит в том, что один ее восстанавливает быстро и безболезненно, другой — медленно и тяжело, а третий — мечется из крайности в крайность и не может восстановить всю жизнь… Я за то, чтобы люди не теряли ориентировки ни при каких обстоятельствах. А уж если и потеряли, то временно и как можно быстрей восстанавливали…
— А ведь майор-то прав, — думал я, выходя из кабинета. — И нечего обижаться. Да-а, ну уж теперь нигде и никогда не потеряю…
ЛЮБА
Вернувшись с аэродрома в казарму, обнаружил на койке письмо со знакомым почерком.
Вот пристала! И чего надо? Все равно же не отвечу…
Обратный адрес на конверте поразил: «Надеждинск…» Здорово! Как же она сюда попала? Или как Колька Суткин ехала во Владивосток, а приехала в Надеждинск?!..
«Боря! Здравствуй!
Не думала, не гадала, что попаду в Надеждинск. Уже третий день, как нахожусь здесь на соревнованиях по волейболу между командами вузов Среднегорья. Хочется встретиться. Жду в эту субботу у кинотеатра «Аэлита» до 8 вечера. Постарайся приехать. Люба».
Вот так не было печали!.. Что же делать?!
Подняв голову, повел глазом, встретился с мрачновато горящим взглядом наблюдающего Вострика.
— На! Читай! Может, сходишь!
— Нет, не могу, — ответил Петр, возвращая письмо.
На мой недоуменный взгляд добавил:
— Не мне писано, а тебе. Тебя приглашают, а не меня. Поэтому не могу.
— Ну и я не пойду! — заявил я решительно.
Вострик неожиданно разъярился:
— Как это не пойдешь?! В своем уме?.. Человек приехал в чужой город, где ни разу не бывал, и такая встреча! Что она подумает о нас?
— Ну так иди, я же предлагаю.
— Но я же сказал, не могу-у! Приглашают-то тебя!
— Ну и что, что меня, а девушка-то твоя!
— А это еще неизвестно! Может, твоя будет…
Я оторопело покачал головой.
— Ну ты даешь!..
— Хватит лить воду! — оборвал Вострик. — Сейчас же иди к Потееву, проси увольнение.
— Не командуй!..
— Борька! Да сходи ты, пырни ее кожаным кинжалом. Будет знать, как приставать к порядочным людям! — не выдержал Середа, слушавший наши препирательства.
Вострик взбурил: «Я тебе пырну! Так пырну, что на всю жизнь инвалидом сделаю! Вот вырву твой кожаный кинжал и нечем будет хвалиться и грозиться!..»
Вострик умолк. Некоторое время недобро смотрел на меня, ворочая разгоравшимися глазищами. Облизнув губы, прохрипел:
— Ну что тебе стоит… Не понравится — сходишь к своим друзьям в автотракторное. Давно ведь не был…
Он был прав, дьявол.
— Ну, если так, — обмяк я, — что ж, идея! Правда, не особенно есть когда. В воскресенье-то с утра парашютные прыжки… Не отпустят.
Вострик заулыбался во всю ширь своего узкого «грачиного» лица.
— Тем лучше, достаточно субботнего вечера. А увольнение дадут, ты же начальник.
Он оказался прав. Увольнение мне дали. Правда, Умаркин предупредил:
— Будь точен, Ушаков. Не люблю я эти краткие увольнения на шесть-семь часов. Из них часто опаздывают и намного.
— Не опоздаю, — заверил.
…К счастью, на восточном КПП мне повезло. Не успел выйти за ворота, как подкатил автобус, идущий в город.
Темнело, когда подходил к белокаменному зданию с высокими колоннами, построенному в стиле афинского акрополя. Поглядывая на принаряженных девушек, невольно думал, а как выглядит Люба. Высокая или маленькая, блондинка или брюнетка, симпатичная или так себе. Ее фотокарточка у Вострика ответа на эти вопросы не давала… Да?! А как я ее узнаю?.. И она забыла написать об этом. Ну да в крайнем случае «восстановлю ориентировку опросом местных жителей».
Но все мои страхи оказались напрасными. Не успел приблизиться к массивным каменным ступеням кинотеатра, как от центральной колонны отделилась девушка и быстро направилась навстречу.
Улыбающаяся, легкая, светлая, она, порозовев и протягивая руку, негромко мелодично сказала:
— Здравствуйте, вы Борис Ушаков? Да?
— Да-а, — смущенно кивнул.
— Наконец-то встретились! Я — Люба.
— Очень приятно.
— Серьезно? — лукаво насторожилась.
Я внимательно посмотрел на нее.
— Вполне.
Вспыхнув, она звонко, заразительно рассмеялась.
— А я просто рада встрече! Вы именно такой, каким я представляла.
— Какой? — осмелел я.
Она на мгновение смешалась, потом тряхнула кудрями.
— Милый, робкий, стеснительный.
— Ну-у вы-ы…
— Ты, Боря, ты!..
— Ну ты даешь! — поправился я. — Вот так оценка!
Люба не успела ответить — кто-то громко сказал:
— Кому два билета! Только скорее! Уже дали первый звонок!..
— Может, сходим? Интереснейший фильм! Билетов не достать! — и, схватив меня за руку, потянула за собой.
Мы побежали. Едва вошли в зал — свет погасили.
Хотя фильм был захватывающим, мы, как и другие парочки, порой перешептывались.
Да, Люба оказалась поистине сюрпризом и радостные чувства, вызванные ее «открытием», переполняли меня.
Ну и хват Вострик! Кто бы мог подумать! Сам черен, как головешка, а девушку выбрал, как солнышко. Губа не дура!.. Эх, везет же людям! А тут… ничего не известно. Лилька! Как-то ты встретишь?..
В жуткие моменты фильма Люба невольно продвигалась ко мне, словно прося защиты от надвигающейся опасности. Тогда, подбадривая, я брал ее за руку, но она каждый раз осторожно ее высвобождала.
Когда вспыхнул свет и мы встали, она, сияя глазами, восторженно сказала:
— Никогда еще не видала такой картины…
— Я тоже…
На улице было темным-темно. Увлекаемые тесным людским потоком, вилявшим по каким-то закоулкам, мы не сразу сориентировались. Когда, наконец, очутились на Кирова, Люба, взяв меня за руку, попросила:
— Ты ведь проводишь меня, Боря? Нас поселили за городом в Светлореченском пионерлагере. Но автобус с командой давно ушел, придется добираться поездом.
— Разумеется! — согласился я и тотчас поглядел на часы.
22.00. В моем распоряжении три часа. Маловато, конечно. Только добраться до городка не спеша. Но одним часом можно пожертвовать. Не оставлять же ее ночью посреди улицы в чужом городе… Ничего, если бежать от трамвайной остановки — за час доберусь до училища.
До вокзала доехали на трамвае. У пригородных касс было темно и почти безлюдно. Потыкавшись в закрытые оконца, остановились у расписания.
— Боря! — с отчаянием воскликнула Люба. — Так поезд-то ушел десять минут назад!.. И почему я посчитала, что он уходит в половине двенадцатого?!..
Вот так загвоздка! Так можно и опоздать!.. Хоть убегай! Но не бросать же одну!?
— Ладно, не расстраивайся. Что-нибудь придумаем. Подожди меня здесь, схожу к дежурному по вокзалу.
Как назло, около комнаты дежурного толпился народ, а его самого на месте не было. Пришлось ждать. А когда пришел — только огорчил:
— Других поездов нет, кроме утреннего.
Унылый возвращался к Любе. Что же делать? До конца увольнения чуть больше часа, а я не могу отправить ее домой. Если сию минуту не провожу — опоздаю в казарму. Главное, слово не сдержу, которое дал Умаркину. Подведу его, доставлю неприятности, а, может, и получит взыскание из-за меня. Никто другой бы не отпустил — утром прыжки — боевая учеба. На добро отвечу злом, как последний негодяй. Стыд-то какой?!.. Ужасно, за одно увольнение сделаю два нарушения. Тут простым взысканием не отделаться…
Проталкиваясь к расписанию, я, к удивлению, услышал чей-то знакомый, но гневный голос:
— Отстаньте от меня, слышите! А то сейчас же позову милицию! Отпустите руку! Вам говорят!..
В углу неподалеку от выхода какие-то два небритых субъекта, которых часто рисуют на плакатах, прижали Любу к стене.
Подскочил к ним. Схватив ближнего за ворот, рванул с силой. Тот попятился, завзмахивал руками, побежал назад, спиной расталкивая людей.
— А ну, марш отсюда! Сейчас позову патрулей!
— Ах ты, щенок! — наливаясь злобой, повернулся ко мне второй. — Под ногами путаться!?.. Раздавлю, гнида!
Он размахнулся, но я оказался проворней. (Не зря же недавно стал боксером-третьеразрядником). Увернувшись, нанес короткий резкий удар под «дыхало». Мордастый всхлипнул, застыл с открытым ртом, округлил глаза. Потом, согнувшись, побрел в сторону.
— Ну, сука! Погоди, пришьем на улице! — прохрипел кто-то у входа.
Подхватив меня под руку, Люба обрадованно говорила, заглядывая в глаза:
— Боря! Я так испугалась! И что пристали? Что надо?..
Я лукаво посмотрел на нее и бухнул:
— Ты же видная, симпатичная, привлекаешь внимание. Вот и пристали.
Люба зарделась.
— Ну уж ты и скажешь…
— А что? — улыбался я. — Я же пристал.
— Это я к тебе пристала, — рассмеялась она и, враз потускнев, зашептала испуганно: — Идем отсюда скорей! Я боюсь их! Больше никуда от себя не пущу.
Мы поднялись на второй этаж: сели на скамью.
— Ну что с поездом? Ты что-то долго был там? Я уж подумала — не увижу тебя, — засмеялась Люба.
— Ждать до утра.
— Да?! — скисла Люба, а потом встряхнув завитками, бодро добавила: — Ну да ничего! Подумаешь, ночку не поспим. В этом тоже есть своя прелесть. Правда, Боря? Запомнится навсегда…
— Правда, но у меня на это нет времени.
Я поглядел на часы, сердце сжалось от тревоги. Вот-вот доложат дежурному по училищу: «Курсант Ушаков не явился из увольнения».
Люба с беспокойством сказала:
— Да, Боря?! Сегодня такой суматошный вечер, что я забыла спросить, каким временем ты располагаешь?
— Никаким.
— Как?! До которого часу ты отпущен?
— До одного ноль-ноль.
— Как? А сколько сейчас?
— Полпервого.
— И ты молчишь?
— А что говорить?
— Но тебе же попадет?!
— Обязательно.
— Ну почему ты молчал? Не сказал сразу?.. Что не можешь меня проводить. Я почему-то решила, что раз сегодня суббота, а завтра воскресенье, то ты располагаешь временем, как я… Ой, какая дура!.. никогда себе этого не прощу! Мало того что сама себе навредила, так тебя под удар поставила. Ты прости меня, поверь, я не хотела этого…
— Верю.
— Так почему ты сразу-то не сказал?
— А как бы я выглядел в твоих глазах, когда, не успев познакомиться, брякнул: «Здравствуйте! Рад с вами познакомиться. К сожалению, не располагаю временем. До скорого свидания. Я поехал!..» Так что ли должен был я поступить у кинотеатра?..
— Мда-а, — вздохнула Люба. — Все же мог бы сказать, что не можешь идти в кино.
— Да я там не успел рот раскрыть, как очутился в зале.
— Вот что! — сказала Люба решительно. — До своего лагеря я доберусь как-нибудь одна. А ты сейчас же отправляйся в часть. Но в следующий раз, когда пойдешь в увольнение, попросись, чтобы отпустили на все воскресенье. Мне сообщишь письмом, когда и где ждать.
— Не ждать.
— Почему? — обиженно вытянулось ее лицо.
— После сегодняшнего опоздания меня больше не пустят в увольнение.
— Это серьезно? — она притихла, потом негромко добавила: или шутишь?
— Хотелось бы, но это серьезно.
— И все я виновата, — горестно вздохнула она. Взяла мою руку.
— Дай слово, что будешь писать, и прошу — скорей иди.
— Даю, — я поднялся.
— Я напишу тебе сегодня же, как доехала, а ты мне — как добрался и как встретят.
— Хорошо, — кивнул.
— Может, на каком-нибудь трамвае доедешь?..
— Сейчас они не ходят.
— Опять неприятность, пешком далеко?
— Двадцать пять километров.
— Что-о?! Когда же ты придешь? К завтрашнему вечеру…
Я улыбнулся:
— Ну почему? К сегодняшнему утру.
— Это невозможно.
— Бегают же марафонцы по сорок два километра.
— Но ты же не марафонец. Нет, нет. Это выше моего понимания.
«Но Вострик же бегает по 40 километров! Почему я не смогу?» — чуть не вырвалось.
Люба раскрыла сумочку, порылась в ней, достала деньги, протянула.
— Здесь пять рублей, может, поймаешь какую-нибудь машину… К сожалению, больше у меня нет.
Я покраснел.
— Спасибо, не надо. Деньги у меня есть. А машину вряд ли сейчас найдешь.
— Возьми, — настаивала Люба, — они не помешают.
— Нет, самой пригодятся. Ладно, побежал…
Уже подошел к лестнице, когда услышал:
— Боря! Постой!..
Она, догнав, взволнованно зашептала:
— А если те двое караулят тебя?.. Может, дождешься все-таки утра? Все равно уж опоздал?..
— Не беспокойся, я бегом, им не догнать.
— Ну береги себя…
— Спасибо.
Побаиваясь, вышел из вокзала, готовый ко всяким неожиданностям. На площади машин почти не было. Всего каких-то три фургона. Озираясь, не встретиться бы с небритыми мордами, подскочил к грузовикам. Но те оказались закрытыми и без шоферов. Ну и черт с вами! Нисколько и не надеялся.
Не раздумывая больше, не теряя драгоценного времени, побежал рысцой, гулко бухая сапожищами по асфальту…
И вот прибежал и сижу теперь неприкаянным в казарме… Так зачем я поступал в училище?.. Чему научился?.. Если совершил свой первый в жизни по-настоящему гражданский поступок, за который вместо благодарности так жестоко хотят наказать, как не наказывали и не накажут никого из роты…
Мотая головой, словно вытряхивая мысли-шипы, я продолжал маяться…
СЕКУНДЫ МУЖЕСТВА
Наконец под вечер притопала рота, враз наполнив казарму шумом и гамом. Оно и понятно — только что прыгнули второй раз в жизни и не остыли еще от пережитых волнений.
Вострик нашел меня в ленкомнате, где никого еще не было.
— Ты где это пропадал? — требовательно-недовольно спросил он. — Уж не у ней ли ночевал? — сощурился враждебно.
— Если будешь говорить в таком духе — ничего не скажу, — ответил холодно.
— Сразу уж обиделся? — смягчился Вострик. — Знал бы, что произошло со мной…
— Что?..
— Не скажу, — заулыбался Петр, — сперва расскажи ты. Я ведь ждал, ждал, не мог дождаться. Всякая чушь лезла в голову.
Выслушав меня, вздохнул облегченно, похлопал по плечу.
— Молодец! Хвалю за храбрость! Жаль — не на меня нарвались.
С любопытством спросил:
— Ну и что теперь будет? Какое взыскание ждешь?
— А-а! — поморщился я. — Будь, что будет! Лучше расскажи, что произошло?..
Глаза Петра загорелись. Посмеиваясь, он вспомнил необычное во всех деталях.
Басовито рокоча мотором, Ан-2 набирал высоту. Поглядывая друг на друга, сидели курсанты, ожидали замораживающей команды: «Приготовиться к прыжку!..»
Стих мотор, машина перешла в горизонт, будто замерла. Наконец, «выстрелила» команда. Все встали, еще крепче сжали вытяжные кольца, в затылок друг другу выстроились у двери. И вот двери открылись. Далеко-далеко внизу подернутая сиреневой дымкой — земля. В этот миг каждый парашютист замирает в ожидании команды: «Пошел!» И она громыхнула.
Вострик левой ногой оттолкнулся от закраины борта и выпрыгнул головой вниз, точно нырнул в воду. Воздушный поток подхватил, понес, закрутил Петра. И неожиданно стих. Исчез мощный гул двигателя и вой потока. И только сейчас рванул кольцо Вострик. Медленно потянулись мучительные секунды. Как во сне, с зажмуренными глазами продолжал падать Петр, с каждый мгновением ожидая динамического удара. Но его все не было и не было. Вернее, был какой-то толчок, но очень уж слабый, плохо ощутимый. Только вот вращение усилилось. Почему это?..
Петр открыл глаза. Первое, что увидел, была стремительно приближающаяся, крутящаяся земля. Но где же купол парашюта?.. По выработанной на тренировках привычке поднял голову. И увидел такое, от чего можно потерять сознание и до самой земли падать, не пытаясь спасти себя. Вместо купола над головой крутилось бесформенное полотнище, перехлестнутое вытянувшимися белыми шнурами-стропами, не дававшими куполу полностью раскрыться.
Дальнейшее произошло, как на тренировке. Так, как учил инструктор. «Нож!» — мелькнула мысль. Петр отыскал рукоятку ножа, закрепленного на запасном парашюте, и выдернул его из чехла.
А земля приближалась! Левой рукой схватил над головой ближний свободный конец подвесной системы и острым лезвием (сам точил перед вылетом) обрезал его.
А земля летела навстречу!.. Поймал второй конец, натянул и снова резанул. А земля уже закрыла небо! Выхватил из-за спины третий конец и тоже обрезал. А земля уже совсем близко!
Наконец-то ухватил последнюю лямку подвесной. Перерезал ее и отбросил от себя, освободился от главного купола!
А земля рядом — огромная, покачивающаяся. Успею ли?.. Должен успеть! Должен!.. Нащупал на груди запасной парашют, зашарил по нему, наткнулся на кольцо, схватил и дернул его широко, размашисто, со всей силой. И снова в последний раз закрыл глаза в ожидании динамического удара или удара о землю.
Тягостные секунды, в которые люди седеют. Что ж! Он сделал все для спасения и больше ничего не может. И вот толчок подбросил его!..
Он обрадованно взглянул вверх и увидел серебристый купол.
А внизу, замершие было от тревоги люди, наблюдавшие за его борьбой долгие, тяжкие секунды, сейчас радостно что-то кричали ему и приветливо махали руками.
Он благополучно опустился на площадку и попал в объятия товарищей…
— Да ты герой, Петр! Как Дмитриев! — воскликнул я восторженно, когда Вострик закончил рассказывать. — Поздравляю со спасением и желаю многих счастливых лет жизни!..
Вострик, радостно смеясь, заскромничал:
— Ну-у, сравнил… Захочешь жить и ты так сделаешь. Вот Гагарин действительно герой! Вот таким бы стать?! Или как Дмитриев!..
Вечером на проверке командир роты Умаркин за мужество, находчивость и отвагу, проявленные при прыжке с парашютом, объявил Вострику перед строем благодарность.
КТО ЕСТЬ КТО…
Как я предчувствовал — опоздание из увольнения эхом откликнулось в отделении. Как и положено командиру, бучу поднял, возможно, сам того не желая, Геннадий Потеев.
Едва мы с Востриком появились в спальне — расположении отделения, как Потеев, сделав большие глаза, закачал головой:
— Секретарь, а ты откуда взялся? Тоже пришел с прыжков?.. Так я там тебя не видел!..
Все, кто были вблизи, повернулись в нашу сторону. Вострик незаметно шмыгнул к своей койке.
Как ни трудно — приходится держать ответ. Набедокурил — отвечай, мой же принцип. Другим говорю это.
— Товарищ командир, прошу прощения, — подошел к Потееву. — Но хотел подводить, но так уж получилось…
Потеев вначале было опешил от такого обращения, потом насупился.
Но я его опередил:
— Старшина, комроты и комбат со мной уже беседовали.
— Ну-у, одного моего прощения мало, — важно протянул Потеев.
— Может, об остальном поговорим после? — перебил его я.
— Нет, сейчас. Ты подвел все отделение, — он обвел рукой ребят. — Вот простят ли они?!..
Я взглянул на парней. Все насторожились. Ничего не скажешь — суровые лица. Деваться некуда.
— Прошу прощения, ребята, больше такого не повторится.
Многие заулыбались, отдельные скривились в ухмылке.
— Понял теперь, что я был прав, когда сказал, — ты не понимаешь диалектики! — громко рассмеялся Лавровский. — Человек не может быть всегда идеальным. Нужна разрядка!
— Не все ему с нас спрашивать, пора и нам с него спросить! — изрек верный Ромаровский.
— А знаешь, Ушаков, уж больно ты правильный парень! — глухо, но зло выкрикнул Абрасимов. — А жизнь-то часто заставляет делать неправильное! И это надо понимать!
— Да че о нем говорить! — поддержал Толю Ленька Козолупов. — Противно смотреть, как он дрожит с утра до вечера на службе. Спать лягет, так во сне служит, да дрожит. Я однажды проснулся ночью от его крика, так наслушался, как он трусит-турусит: «Так точно! Никак нет! Слушаюсь! Простите! Митька, не бей! Ой, старшина-то накажет!..»
Грохнул хохот.
— Умора! — вытирая слезы, продолжал Ленька. — В кино и на собрания не надо ходить.
— Все это не то, ребята! — подал голос Колька Казанцев. — Главное, он думает только о себе, о своих удовольствиях. Поэтому и опоздал — там же весело было. Поэтому обвинил Митьку тогда чуть ли не в измене. Так ведь, Митяй?!..
Помощь пришла неожиданно и не оттуда, откуда ждал. С соседнего ряда коек из-за тумбочки поднялся Юрка Киселев.
— Да что вы, парни, как падлы в натуре, набросились на него, обвиняя во всех грехах. Неужели до сих пор его не знаете? Или мало он вам добра сделал?.. Уж если он опоздал, значит, не мог не опоздать. Так сложились обстоятельства, что-то случилось. Вот это спросите. Я не в вашем отделении и то понял — он не напьется, не подвалит к бабе, не прогуляет. Так зачем языки чесать? Сводить с ним свои мелкие счеты?..
Подошел Валерка Чертищев — голова, как у негра, словно варом облита. В жестких кудрях алюминиевая расческа гуляет.
— Бойцы! Мы тоже когда-то в своем отделении считали его подонком, выскочкой. Раз даже заткнуть глотку хотели. Помнишь, на лестнице?.. А потом поняли, что неправы. Ясно, он не без недостатков, но кто из нас их не имеет?.. А в общем-то он парень свой. Всем добра желает, чтоб учились мы, как он, на «отлично» и никак не поймет, что мы этого не хотим. (Раздался смех). Не поймет, что отличие ему приносит больше неприятностей, чем пользы.
Укротив кудри, Валерка повернулся ко мне.
— Вот скажи, что хорошего дала тебе отличная учеба?.. Один отпуск домой!.. Зато сколько ты перенес насмешек, оскорблений, ругани за нее? Вот и сейчас получаешь вздрючку тоже из-за нее. Сколько у нас чудиков опаздывало из увольнения — ни к кому же не приставали, не заставляли извиняться. А тебя заставили, потому что каждому охота унизить отличника, да еще секретаря, чтобы не выделялся, не доказывал учебой, что лучше всех. Подумай, стоит ли отличаться?.. В будущем это тебе принесет еще больше неприятностей. Увидишь и не раз вспомнишь меня. Потому что твои будущие паханы сами не отличники и будут смотреть на тебя, как на чурика-сявку. Не веришь?.. Взгляни на нас. Наши «комоды» ни один не отличник. Больше того, Валька Желтов сам тогда натравил нас на тебя. Так будет и после…
Из центрального прохода подскочил Аттик Пекольский.
— Что за шум, а драки нет? — захлопал белыми длинными ресницами по вылупленным, нагловатым «шарам», похожим на маленькие бильярдные. — Кому вы тут рыло моете, братцы?
Увидев меня, смешался, но, овладев собой, махнул пренебрежительно рукой, залился тонюсеньким смешком:
— А, этому-то тюлененку! Да оторвите ему голову, чтоб не вы… ёклмн. (Да, плохо я его поучил. Ожил гад).
— Это тебе вырвать язык, чтоб не болтал лишнего, ёклмн! — цыкнул из прохода Елиферий Зотеевич, шедший, по-видимому, в наше отделение.
Аттик мигом испарился.
— С житейской точки, Валера, может, ты и прав, а с научной нет, — продолжил Елиферий. — Кто же тогда будет делать высококачественные отличные приборы, машины, самолеты, двигать науку, прогресс, если не будет отличников, отличающихся людей?.. Уж на то пошло, все изобретатели, ученые — отличники, ибо всегда отличались от усредненного большинства. И, к сожалению, многие их не понимали и травили, объявляя чудиками, как Циолковского или Галилея…
— В общем, ясно одно, — прокашлялся и солидно начал Митька Шамков. — Борька никого не хуже.
— Да уж тебя-то лучше! — выкрикнул кто-то сзади. Снова смех.
— Во! Во! — смешался, покраснел и закивал Митька. — Сами знаете, я всегда был первым его врагом, а стал летать с ним, убедился — Борька — король и многому можно у него поучиться. Нигде так не раскрывается человек, как в сложном, тяжелом, длительном и опасном полете. А он всегда на высоте…
Вмешался Середин. Блестя глазами, побледнев так, что потемнели веснушки, сказал запальчиво:
— Митрей! Лучше скажи, како́ он сделал мне добро?.. А то тут все шумят: добро́, добро́! А я его в шары не видал! Порвать мой рот! Бастрык мне в нюх!
Грянул хохот. Еле успокоились.
А сколько раз он объяснял тебе материал?
— Ну-у, это мелош!
— Побольше бы таких мелочей и людям бы жилось намного легче, — усмехнулся Елиферий. — А что ты́!.. сделал ему хорошего?.. Ответь!
Как нашкодивший и пойманный ученик, Женька растерялся, запереминался с ноги на ногу, глуповато заулыбался.
— А сколько раз убеждал тебя бросить курить, — продолжал Шамков. — Помогал по физо, по стрельбе, в полетах. На экзаменах к Бурнасу вместо тебя пошел. Денег взаймы дает! А ты ничего не помнишь! Эх! Ты-ы!..
Середин, порозовев, деланно расхохотался.
— Ё-ё-моё! Так это ж при царе Горохе! Когда людей было крохи!.. Верно я говорю, Сувора? Верно?.. Или взаймы!.. Просят — реви да не давай! Дашь — реветь будешь, да просить!..
Все засмеялись.
Ну, а что я?.. Стоял в оцепенении, онемев, ворочал головой, смотрел, да слушал… Признаюсь, не могу я бить людей. Беспощадно говорить правду в лицо о их недостатках, да еще при всех. Мне почему-то их жалко, хотя они меня не жалеют. Не могу делать больно им, хотя они постоянно делают мне это. Даже стремятся к этому. Наслаждаются моей болью. Собирают по крупинкам все мои соринки-недостатки, чтобы выплеснуть их мне в лицо. А у себя бревна в глазах не видят… А когда и соринок не находят, — прибегают к клевете, выдумывая трусость, как Ленька Козолупов. Поэтому, вероятно, мне трудно и живется…
Ночью долго не мог уснуть, хотя и гудело тело и ныли ноги. Все-таки 25 километров пробежать — мука. Да и выдержать четыре расспроса-допроса-разноса с пристрастием тоже дело непростое — требуются силы и нервы немалые.
В памяти вставали картины прожитого дня и чаще всего последняя.
Поделом досталось. И черт дернул извиняться, привлекать внимание. Но кто знал? Хотел же лучше… Спасибо Юрке, Валерке: защитили, а то бы хана, заклевали. И Митька удивил… Вот и пойми, кто друг, кто враг?.. А если честно — во многим наши правы. Суетлив, от усердия готов в лепешку разбиться… У них надо учиться.
Да, что можно другим — нельзя мне. Все идет во вред. Даже секретарство!.. Или уж не желать ничего?.. Ни к чему не стремиться?.. Тогда не будет переживаний и разочарований…
Елиферий — бог! Всего на секунду подошел — все и всех на место поставил. Вот бы такого друга иметь — счастье!.. Но он, к сожалению, не хочет. Ясно, ему нужны друзья такие же сильные, как он. Или сильнее. А не такие тюхи, как я…
Ну кто из сильных будет маяться, «раздваиваться», ворошить свое унизительное поведение и поступки? Ругать себя за них, презирать и ненавидеть?! Мысленно злорадствовать над собой: «Так тебе и надо! Лучшего не заслужил, человечишка!..» А что, стоит презирать — раз постоять за себя, защитить не могу!..
Иногда так увлекаюсь самобичеванием, что готов людей позвать, чтобы помогли ругать меня. Но потом вдруг торможу, «но если я не за себя, то кто за меня?..» Ведь люди, товарищи еще ни разу не выступили за меня, исключая Валерки и Юрки, ничем не помогли, а всегда ругали, указывая только плохое. Ведь только позови — с радостью прибегут и в землю вгонят…
А Вострик — дезертир, если не хуже. Сам в историю втравил и бросил. Но понять можно: ревнив, как Отелло, поэтому и молчал.
Сувора тоже хорош. Обвинил в своих же недостатках и Шамкова приплел. Сам-то уж действительно думает только о себе и своих удовольствиях, поэтому учиться-то лучше не хочет и от поручений отказывается…
Выходит, выделяться, превосходить окружающих можно, если только имеешь поддержку сильных, защиту от окружающих, от их зависти, интриг, клеветы. Иначе заплюют…
А уполномоченным я просто попугал. Как-то же надо было защищаться и прекратить дурные разговоры…
Да-а, жизнь не мать, а мачеха. И почему таким нелюбимым сыном ее родился?..
МУКИ ОЖИДАНИЯ
Вот и пришли долгожданные госэкзамены — финиш, учебы, — о которых так много говорили в течение двух лет, и к которым так рьяно стремились.
Оно и понятно, госэкзамены — вершина, рубеж, отделяющий всю прошлую серую подготовительную жизнь, от взрослой самостоятельной, захватывающе-увлекательной, в которой свершаются великие дела, достигаются намеченные в детстве и юности цели. Госэкзамены — двери, открывающие путь в настоящую жизнь, где каждый становится тем, кем он должен быть, где нельзя уже откладывать все свои дела на потом, на будущее, потому что потом уже будет старость и-и… КПМ!..
Сначала отгудели государственный выпускной — самостоятельный полет по маршруту с применением всех средств самолетовождения, с выходом на цель — полигон — в заданное время и бомбометанием на нем. (Время и точность выхода определялись по разрыву первой бомбы).
Мне полет показался самым легким из всех. Может, потому, что были чудо-метеоусловия?.. (Светило солнце, видимость была «мильен на мильен»). А может, все-таки из-за того, что тяжело в учении…
Не напрасно же трудились столько времени, как проклятые, без передыху?..
Впервые вся рота отработала хорошо и, пожалуй, отлично.
Потом сдавали госэкзамены по теории. Тоже сдали хорошо, почти без троек!..
Начищенные до блеска, горделивые, не замечая уважительно-восторженных взглядов первокурсников, с месяц ходили напоследок в УЛО, отчитывались за учебу.
И вот к величайшей радости, наконец, свободны!..
Все ходят возбужденные, веселые, вслух планируя проведение первого офицерского отпуска, который начнется сразу же, как придет из Москвы приказ министра. И лишь я помалкиваю, не зная, что меня ждет.
До сих пор неизвестно, в каком звании выпустят и в каком качестве?.. Могут командиром взвода, а не штурманом. Примеров достаточной даже из прошлого выпуска. Выдадут ли аттестат с отличием, или нет?.. До сих пор ведь не наказали!.. Значит, расплата впереди. Лучше бы отсидеть на «губе», да и дело с концом. Дважды, согласно уставу, за один проступок не наказывают…
Правда, Умаркин как-то сказал, чтобы не расстраивался. Все будет в порядке.
Но Патяш до сих пор продолжает «не видеть» меня. А вчера на мой вопрос прямо заявил:
— Когда придет приказ, тогда узнаете, как с вами поступили. Наберитесь терпения и ждите. Не надо было опаздывать из увольнения…
И, уходя, добавил:
— И надо же было вам тогда на собрании зацепить Рюкова. Ему же все передали… Теперь и генерал за вас, так тот прицепился. Года три назад он бы вас с его-то связями в солдаты отправил, а то и в тюрьму. Теперь не знаю. Если что и поможет, так это перестройка. Но она, к сожалению, пока слова, а не дела. А он, минуя генерала, звонит и звонит по Москве…
Так что неизвестно, что и планировать. К тому же разные зловещие слухи о моей судьбе доходят до меня. И все со ссылкой на Рюкова.
Подонок он!.. Так говорят частенько между собой преподаватели практики-ветераны, знающие его с курсантов. По примеру своего тестя Лелькова, бывшего начуща-генерала, продвигает по службе только тех офицеров, жены которых делят с ним постель. Да тех, кто строит ему гаражи, работает в саду, что-нибудь достает или прямо взятки дает. Пьянствует, развратничает и все сходит. Потому что имеет мохнато-волосатую лапищу в Москве. Поэтому и не хотелось идти в армию. О-о, сколько о ней рассказал отец. Хотя в годы диктаторов везде было так, но в армии особенно. Все безобразия прикрывались уставом, законами армейской службы, запретом критиковать командиров под видом сохранения авторитета и единоначалия. Не случайно родились аксиомы: «Ты начальник — я дурак!», «Я начальник — ты дурак!», «Командир всегда прав!», «Командир все должен знать!», позволяющие бесцеремонно совать нос в семейную жизнь подчиненных и даже в ее интимную область, что было удобной лазейкой для совращений жен. И такое наблюдалось во всех гарнизонах… А сколько трагедий произошло?!.. Не счесть!.. Недавно приезжала к маме сестра из дальнего гарнизона в Казахстане. Так там похлеще картина, рассказывала. Начгар — начальник гарнизона — молодой генерал, летчик-истребитель. Ну и куролесит. Порядочные симпатичные женщины, как от Берии, прячутся от него. А путаны, прости, господи, и бесстыжие, наоборот, сами очередь на него устроили…
Начущ Лельков — десять лет служил для себя. Чуточку летал, а остальное время играл в волейбол — для фигуры и здоровья, — да женщинами.
Не случайно прозвали физкультурником и бабником, в отличие от предшественника уважаемого Павла Васильевича Бертова — «хозяйственника». Развел взяточничество, хотя оно встречалось и раньше.
Серега Умский, бывший технарь, а недавно начкадр, так в присутствии своего зама Хайлопенка, не стесняясь, прямо в лицо говорил офицерам, ждущим присвоения очередного звания, чтобы несли подарки «для убыстрения».
А начстрой полка Малиновский по кличке «кореш», при оформлении командировочных экипажу, обязательно с каждого члена пятерку брал… Последний подвиг Рюкова. Недавно на вертолете гонялся за сайгаками в Казахстане. Застрелил около десятка. И снова все сошло, пожурили только. А ведь государству час полета самого маленького вертолета обходится 800 рублей!..
Вот и поборись с такими?!.. Жаловались, да что толку? Наверху такие же, если не хуже!..
Настроился на худшее. Так лучше, легче перенести удар потом…
Одно знаю точно: что бы ни случилось, зайду домой к Лильке. Пусть в гражданском костюме, в старом пальто десятиклассника, но зайду. Потому что нет сил больше томиться, да и уж некуда откладывать.
Также точно знаю — из нашего выпуска десять человек, в том числе меня, оставляют здесь в училище. Вчера лично отобрал комсомольские учетные карточки парней и отнес в политотдел. А так хотелось попасть куда-нибудь к северным оленям в полярную авиацию, посмотреть мир.
ГОРЕ! ГОРЕ! ГОРЕ!
Ужасно, ужасно, но наконец-то свершилось. Пришел приказ и все, все стали лейтенантами, а я, чего боялся и так не хотел, микромайором — младшим лейтенантом. Что теперь делать? Как жить — ума не приложу! Даже всплакнул потихоньку, когда никто не видел. Ну что за распроклятая жизнь, за злосчастная судьба, как у отца?.. За что такое наказание?!.. Ведь тянул, как вол! За все брался, делал как лучше и все зря!..
А как домой?! Ведь мама с Галей от потрясения умрут! Ведь так гордились! Так ждали лейтенантом, а втайне и старшим, письмо благодарственное получили и такой удар!.. А что знакомым скажут? А те что им?.. Будут насмехаться, издеваться!.. Уж надо мной-то сам бог велел, а над ними-то за что?.. Разве мало горя хлебнули после гибели отца?!.. Да и жили как? В работе, да заботе… Нет, этого не допущу, не подвергну их удару. В крайнем случае, пока в отпуске, на свой страх и риск еще звездочку нацеплю. Не убьют же за это, да и грех не велик. Со мной хуже поступили, а за что?.. И кто?..
Я, пожалуй, первым узнал о приказе. В учетной политотдела столкнулся с комбатом. Хотел было незаметно юркнуть в коридор, но Патяш остановил:
— Говори спасибо Умаркину, Ушаков. У меня, у Пауксона, у генерала был. Все тебя расхваливал, да доказывал, что не виноват… А откуда тебя Пауксон знает? Очень высокого мнения. Тоже просил генерала и тот согласился. Но!.. — Патяш сделал паузу, я сжался — Москва не согласилась. Ведь говорил тебе — не задевай Рюкова — отомстит. Вот и отомстил! Век помнить будешь. Э-э-х! — похлопал меня по плечу. — Не расстраивайся, вся служба впереди. Еще догонишь и перегонишь всех. Только служи честно, да окончи академию.
…В роте все посходили с ума и ошалели от счастья. Опьянев от свободы, кинулись кто куда по своим жгуче неотложным делам. Одни — неуемные торопыги, сразу же после читки приказа подались в город к своим чувихам, так и не переобмундировавшись. Другие — «хваты», едва переодевшись, но не дождавшись выдачи денег, бросились вслед за первыми. Третьи — степенные (абсолютное большинство) сменили форму, «офинансились» и лишь тогда последовали за вторыми.
Четвертые — «медведи», вроде меня, никуда не спешили. Получив обмундирование и разложив его на койках, не спеша переодевались, упаковывали вещи, неторопливо шли за финансами, проездными, отпускными и выпускными документами и возвращались в казарму переспать последнюю ноченьку, чтобы с утра завтрашнего дня спокойно ехать на вокзал к своим поездам.
И наконец, жалкие единицы — «сурки», во главе с Черновидским, сразу же после построения с утра завалились спать и лишь на другой день, гонимые голодом, протирая глаза, вылезали из постелей…
Бедная казарма! Что в ней творилось?
Это надо было видеть!
Смятые постели завалены различными чемоданами, вещмешками, свертками, пакетами, тюками, коробками, новейшим обмундированием, обувью.
На полу мусор: картонки, бумажки, наклейки, обертки, обрывки шпагата, шнуров, веревок.
Дверь казармы беспрерывно хлопает, туда и сюда снуют выпускники, одетые кто во что горазд. Некоторые уже щеголяют в офицерской парадной форме — фуражечки набекрень, ботиночки на ногах, брючки навыпуск, несмотря на то, что на улице сорокаградусный мороз.
Шум, гвалт, восклицания, крики, пение, смех, хохот наполняют казарму. Пчелиный, растревоженный улей напоминает она. Уже давно нет дневального у тумбочки, как и нет суточного наряда, бдительно несущего охрану помещения и поддерживающего идеальную чистоту и порядок. Не видно и старшины. Изредка появляется комроты… теперь уже безротный Умаркин, которому мы втихаря преподнесли памятный подарок: цветной телевизор.
Неладное что-то с Кимом творится. Сам на себя не похож. Глаза потухли, запали, щеки ввалились, нос выпер, а губы усохли в нитки. Ходит скургузившись, частенько озирается. На всех смотрит отрешенно, поверх голов и никого не узнает. А ведь какой был строевик?! Всегда брали пример на занятиях. Особенно четко и красиво выполнял приемы с оружием…
Может, болеет?.. Наверняка!.. Но никто ничего не знает… Хотя бы поделился, что с ним? Какая беда свалилась?! Помогли бы… Поэтому и подарили «Темп». Пусть отвлечется от бед своих. Развеется и повеселеет…
Кое-где на койках группки, отмечающие выпуск…
Трижды я просыпался ночью и каждый раз видел снующих выпускников, почти пустые ряды коек, слышал хлопки дверей, голоса разговаривающих. Похоже, бессонница овладела лейтенантами…
Утром, к немалому удивлению, на кровати у Лавровского я обнаружил Илюшина — «носа», отчисленного из роты еще два года назад. В форме лейтенанта-автомобилиста тот сидел с Игорем и о чем-то оживленно беседовал.
Петруха Вострик (так называет Казанцев), только что приехавший из города, увидев нежданного гостя, весело сказал:
— Привет бывшему сослуживцу! Ты что, тоже выпустился?
— Как видишь! — расцвел Илюшин.
— А зачем ты ушел от нас? Окончил же худшее училище! Я думал, ты давно на гражданке трудишься или в институте ума набираешься.
Илюшин покраснел.
— Ну для кого худшее, а для меня лучшее! — ответил с вызовом.
Вострик хихикнул.
— А ты из расчетливых! Решил вместе с офицерским званием гражданскую профессию получить!?
— Хотя бы.
— А основное: не хочешь летать — рисковать жизнью!..
— А это уж мое дело.
«Да, и когда успел лейтенанта получить? — подумал я. — Учатся в автомобильном четыре года!.. Выпросил форму-то, чтоб не стыдно приехать сюда».
— Вот так-то, младшой Борька! — обнимая за плечи, подсел Вострик.
— Отвяжись — худая жизнь! — отшатнулся я, сбрасывая руку. — Втравил, да еще издеваешься? Ты почему, верный друг, не пошел по начальству, как пишут в книгах, отстоять незаслуженно наказанного, взять вину на себя?
— Так то в кни-и-гах, — усмешливо протянул Вострик, поднимаясь с кровати. — Они же врут методом социалистического реализма — методом подхалимажа, обмана и вранья, оболванивая людей. А в жизни такого нет, не было и не будет!.. Да и не могу я — ума не хватает. Вот если бы Елиферий взялся…
Я удивленно взглянул на Петруху. Вострик — и такая длинная глубокая фраза?.. Потом вспомнил — это же мои слова, недавно сказанные.
ЛИЛЬКА
Наконец-то дома, да еще в новом качестве и обличии.
Все было бы прекрасно, если бы не отрава выпуска. Свет не мил! И появиться на людях — пытка! Надо врать, лгать, изворачиваться, а я это не люблю и не умею. Даже мама с сестрой заметили мое ненормальное состояние. Еле отговорился…
В тиши отпуска есть над чем поразмышлять, наметить очередные задачи, но пока главное — отдых, отдых, отдых…
К счастью, зима, холода держат дома. Но ежедневно где-то бываю: то ли в кино, то ли в драмтеатре, то ли на диско — кто мешает? Благо, впервые в жизни не надо просить денег у мамы — своих достаточно. Наоборот, отдал ей половину, да треть сестре. Пусть радуются и по-своему отметят, что их сын и брат встал на ноги, стал самостоятельным человеком… Когда морозы ослабнут, надену лыжи — и в лес, да на горы, где так весело проводили когда-то время…
Одна забота не выходит из головы: как сделать так, чтобы в жизни не было неприятностей. (Уж больно много их было раньше). Ну, если и не во всей, то хотя бы в службе и в работе. Опыт говорит, именно тут, в них слабое у меня место. Стремлюсь и хочу одного, а добиваюсь другого. Хочется как лучше, а получается как хуже. Так было часто в школе, так получилось сейчас в училище и, следовательно, получится в будущем. А этого смертельно не хочется, ибо тогда вся жизнь пойдет насмарку. И будет ни себе, ни людям. И ничего-то уж не исправишь, так как лишь однажды бывают молодые годы у человека — самое ответственное и важное время. Если в детстве наворочал ошибок — жил, дружил и учился плохо, то это еще не беда — есть в запасе взрослая жизнь и можно все исправить, лишь бы было желание, ум, работоспособность. А вот сейчас, во взрослой набедокуришь (пустишь ее под откос), то это уже непоправимо. Так как в запасе одна старость, и то не у каждого. А в ней, как известно, никто еще подвигов не совершал, а все лишь подводили итоги жизни.
Именно поэтому и сверлит мозг забота, что через месяц, когда кончится отпуск, начнется самый главный, ответственный, неисправимый период, в котором нельзя допускать промахов, которые больно будут бить и определять, вернее, складывать по кирпичикам жизнь.
Сколько ни думал — пришел к обычному: добросовестно выполнять все задания. Тогда не должно быть промахов и ошибок или они будут ничтожны. Только так, другого пути нет…
И еще одна мысль сверлит мозг.
Все-таки несправедливо и не продумано поощрение выпускников-отличников. Ну что это за нищенская подачка — 15 наградных рублей?! (И медалистам тоже за четыре года учебы). Зачем и кому она нужна?.. А государству все-таки разор. Не лучше было бы, чтобы отличник-лейтенант по прибытии в полк сразу же брался на заметку и объявлялся кандидатом на вышестоящую должность. (Хотя бы с учетом практических результатов дальнейшей службы). Или кандидатом на посылку в академию. Это была бы большая польза армии и обществу. Удар по протекционизму, блату, бюрократии. А то всем: и лентяям, да тупицам и трудягам, да способным одинаково — лейтенант! То есть служба начинается заново, без учета успехов прошлых самых важных лет! Это же самая яркая, наглядная уравниловка! Нарушение принципов социализма! Да и нужно закрыть лазейку сынкам-бездарям к высоким званиям и должностям. Разве не нужны способные, толковые и умные армии?.. Больше чем кому-либо и где-либо! Преступно разбазаривать самый ценный капитал. Пусть отделы кадров следят за ними. А то выпускники-отличники, оказывается, не имеют никаких льгот даже для поступления в академию. Наврал тогда два года назад помначпо, заманивая нас в училище.
Нигде столько не врут, не обманывают, как в армии. И все потому, что начальники уверены — не отважатся подчиненные сказать им в лицо, что они врут. А если скажут — тогда держись — месть страшнее кровной.
Об этом говорил в свое время еще отец. Об этом говорит и мой опыт… Когда проводилось чествование отличников и зачитывали благодарственные письма командования родителям, то я, как последний дурак, поверил в это. Через неделю-полторы спрашиваю маму — получила ли письмо?.. Нет, — отвечает. Ясно — подвела почта. Еще через неделю снова спрашиваю. Мама снова отвечает нет… Вот те раз?! Мои письма доходят через два дня, а тут — около месяца прошло!.. Еще через неделю — снова нет.
— Ладно, — успокаиваю маму, — узнаю, в чем дело.
…Встретив секретаря партбюро Толстова, несмело спрашиваю: письмо зачитали, а родные его не получили?..
Толстов хитровато улыбается, подергивает плечами.
— Да зачем оно тебе?.. Важно, что при всей роте зачитали.
— Как зачем?! — теряюсь я. — Для мамы и сестры это же подарок!.. И они его ждут не дождутся. Уж лучше бы не читали, а прямо отправили им.
— Подумаешь, бумажка — подарок, — неопределенно тянет Толстов. — Ладно, получат…
И действительно, через неделю от мамы весть — наконец-то пришло! Очень рады и горды…
Когда прибыл домой, — увидел не письмо, а черновик на дрянной бумаге, с рядом подтирок и исправлений. Поленились даже переписать набело, а не только отпечатать на машинке. Видно — Толстов никогда и не касался его. Все сочинил ротный писарь, однокашник-курсант. Он и отправил его — лишь бы отвязались…
А я-то думал командование, офицеры меня уважают, как заявляли всегда на собраниях, в письме и в разговорах. Лишь бы видимость создать и арапа заправить, а на остальное на все наплевать… И такое всюду, как рассказывает сестра, возглавлявшая сектор учета парткома завода. Поэтому и в кризисе, и товаров нет, зато были бойкие рапорты на людях о выполнении и перевыполнении…
На третьи сутки около полудня, начистив хромачи до блеска, перепоясавшись ремнем с портупеей, отправился за своей «судьбой»… к Лильке.
На улице было пасмурно. Плотная слоистая облачность затянула небо и сыпала ледяной крупой.
Шел по городу и обдумывал, что скажу, когда войду. Застать бы дома, а то снова придется идти — такое нервотрепочное испытание терпеть. Только бы не волноваться, да не заикаться.
Но это не подвластно мне. Дрожь пробегала по телу, путала мысли, мутила рассудок.
А если отказ?.. Ну и пусть! По крайней мере будет ясность. Неизвестностью уже мучаюсь.
Поскрипывая не то сапогами, не то снегом, сам не свой прошел мимо ее окон и — и… наконец-то впервые вошел в желанную арку.
Двор оказался обычным, и это даже немного разочаровало: ведь здесь жила она! Необычная!.. Она тут ходила, и это что-то да значило.
Я вглядывался в обычно-необычный подъезд и удивлялся, почему он такой простой, а не фасонный, например. Мне хотелось обнять его, прижаться, сказать: «Здравствуй! Я так давно хотел тебя видеть…» Потому что здесь жила она, касалась его, и поэтому он меня растрогал.
Я ему даже чуточку завидовал: ведь он вместе с ней жил более 10 лет. Видел ее каждый день, слышал ее голос.
Сердце мое то замирало, то учащенно билось. Я чувствовал себя так, как в самолете перед прыжком, когда раздалось: «Приготовиться!». А может, подождать? Не обязательно же сегодня объясняться? Еще наплету какой-нибудь ахинеи — век жалеть буду! Нет, только сейчас! Не трусить! Вперед!..
Не найдя звонка, постучал, скомандовал себе: «Пошел!» — и с силой, будто вытяжное кольцо, рванул дверь и враз, оглушенный, слепой, шагнул через порог, словно выпрыгнул за борт.
— Разрешите?! — сказал автоматически и, сделав два шага, начал приходить в себя.
Прихожая, куда попал, была точной копией нашей. Да что там прихожая!?
Вообще, вся квартира! Это чуточку обрадовало. В комнате, за столом у окна — Лилькина мать: крупная, светловолосая, симпатичная. И что-то то ли шила, то ли починивала. Отложив работу в сторону, с любопытством глядела на меня. Вот уж, наверняка, никак не ожидала в эту минуту увидеть перед собой бравого офицера-летчика.
— Здравствуйте! — сказал радушно и почти полностью овладел собой.
— Здравствуйте, — приветливо ответила она.
— Лиля дома? — продолжал, разглядывая ее. Да, лет 10 не видал, а почти не изменилась. Все такая же голубоглазая, с крупным красивым носом, вьющимися длинными волосами. Только тогда была нарядной — в белой горностаевой полудошке, белых сапожках и пушистом берете, сдвинутом на бочок.
— Дома, — кивнула она, — проходите в комнату.
Я повернул голову направо. В комнате на диване лежала Лиля и удивленно настороженно смотрела на меня.
— Разрешите снять шинель?
— Снимайте, — откликнулась мать, — сзади вешалка.
Я долго топтался у зеркала. Прихорашиваясь, анализировал первые впечатления, «прием гостя» хозяевами. Да, горестно и можно уже уходить. Не в восторге они от «гостя». Что ж, изопьем чашу до дна.
Расправив складки на тужурке, поправив ремень с портупеей, шагнул в комнату.
— Еще раз здравствуйте!
Лиля в платье продолжала лежать, положив ноги на табурет. Слегка кивнув головой, уже безучастно смотрела на меня.
Было странно, до удивления странно видеть ее в таком положении. (Звезда — и такая обыденность. Да и никогда же не видел такого за все школьные годы).
Я остановился посреди комнаты, надеясь, что она встанет. Но Лиля продолжала лежать и молчать, что было тягостным. Молчание затягивалось, становилось оскорбительным. Я не знал, что делать и что говорить.
Неужели все?!.. И так грубо, бесцеремонно, унизительно.
— Присесть можно?
— Да.
Я взял стул у стола, поставил к ее ногам, опустился на него.
— Болеем? Отдыхаем?
— Да-а, — она сделала неопределенный жест.
— Может, сходим в кино, развеяться?
— Нет, — ответила поспешно, — сегодня не могу, да и завтра тоже.
Кровь ударила в лицо, стало жарко и одновременно холодно. Черт бы меня побрал! Ведь предчувствовал!.. Ну посидеть еще минуту-две и… взлет.
Поговорил о погоде, клял суровую зиму, трескучие морозы. Она молчала. Наконец поднялся.
— Ладно, хорошего помаленьку, пора исчезнуть.
Она кивнула.
Я повернулся, медленно пошел. И с каждым шагом ждал, что вот за спиной раздастся голос: «Борис, куда ты? Садись, нам столько надо поговорить…» Но голоса не было.
Когда одевался, тоже ждал его, как задыхающийся глоток воздуха. Ну хоть бы какое-нибудь пустячное словечко. Ведь ухожу и больше никогда не вернусь!.. Но все молчали.
Хотелось еще последний раз взглянуть на нее и мать и даже сказать: «Как же так? Ведь я люблю вас 10 лет, а вы меня так обидели. Слова ласкового пожалели, говорить не захотели…» Но сдержался.
— Всего доброго, счастья, успехов вам, — толкнул дверь.
…Шел по улице пьяным, оглушенным, никого не видя и не слыша. Стыд жег огнем.
Ну вот и все! Как, как она могла так поступить?.. Как с ненавистным врагом?! Неужели такая невоспитанная?.. Не может быть! Значит, специально унизила, оскорбила, чтобы никогда больше не приходил со своей любовью… Она ей противна. Сразу обхамила — убирайся! И это благодарность за самую чистую на свете первую юношескую любовь!?. Неужели нельзя было по-другому? По-человечески? Поговорить минут пять. Как с бывшим одноклассником, наконец! А потом прямо сказать или дать понять, что можем быть только друзьями…
Пусто и горько было на душе. Столько лет зря пропало. Исчезло то, чем жил всегда. Чего ждал, на что надеялся. Столько чувств, духовной энергии! Все, все рухнуло!.. Смысл жизни, желания, стремления… До слез обидно. Щипало глаза, перехватывало горло. Диким было видеть, как люди смеются, чему-то радуются… Конец всему и вся!..
Что делать? Как теперь жить? Да и стоит ли? Кому я нужен? Зачем окончил училище!.. Все, все бессмысленно! Мундир, полеты, служба, академия. Кто будет радоваться?.. А Люба?.. Что Люба? Девушка Вострика…
Он сейчас у нее.
Во имя чего сражаться? Кого любить? Теперь уж больше не смогу так. Да и стоит ли? Все они обманщицы, мерзавки! Все строят из себя красавиц, да выискивают красавцев!.. Ну и пусть, им же хуже… Нет, на то зло окончу академию. Ты еще услышишь обо мне, еще пожалеешь! Еще подойдешь, да будет поздно. Мы еще встретимся!..
В ПОЛКУ
С беспокойством, даже тревогой ехал в училище. Как-то устроюсь, где сегодня переночую?.. Раньше все было просто: есть отцы-командиры, есть казарма, койка, только занимайся. Сейчас сложней. Возможно, придется искать частную квартиру.
Проклятый характер! Все переживаю, да близко к сердцу принимаю… Ну да не стоит раньше времени расстраиваться. На месте все будет видно. Не пошлют же завтра летать?!
Действительно, начштаба полка, которому я представился (командира и замов не было), в конце беседы сказал:
— Жить будете в гостинице. Там живут все холостяки. С завтрашнего дня — начало методических сборов в УЛО со штурманским составом.
На выходе из штаба столкнулся с Востриком.
— Здорово, Борька!
— Здорово, Петя!
— Только что приехал?
— Да.
— А я сегодня утром. В какую эскадрилью попал?
— В первую.
— И я. Жить будешь в гостинице?
— Да, а где она?
— Идем, покажу, тут недалеко.
По дороге Петр без устали рассказывал о том, как провел отпуск.
Вдруг присел, запрокинул голову, расхохотался.
— Слышал о последнем подвиге Черновидского?
— Нет, а что?
— Его в штабе на инструктаже перепугали! Он же в группу войск попал.
Если хотя бы раз сходите к иностранке, то за трое суток будете уволены и высланы в Союз!.. Так Черновидский превзошел всех и самого себя! Под крупной мухой приперся на танцы в гарнизонный ДКА. В перерыве вышел на середину зала и во весь голос торжественно объявил: кто смелый, кто пойдет за него замуж?!
Сначала все опешили, притихли — такого же никогда не бывало, — потом раздался хохот.
Подняв руку и выждав паузу, Черновидский вновь объявил: кто пойдет? Оформление брака завтра, так как послезавтра он уезжает в ГДР. Толпа заколыхалась, вновь заревела. И представляешь, тут из людской массы с разных сторон к нему выскочили пять чувих!
Ну, он и растерялся. Выбрал самую-то некрасивую: низенькую, толстенькую, черненькую, губасто-грудастую, широконоздрую. В общем, похожую на себя. Взял ее под руку и важно удалился.
Зал ревел, хохотал, хлопал в ладоши, топал ногами, улюлюкал и требовал: кто еще смелый?! Кто следующий?!.. Но смелых больше не нашлось!
Вот так-то! — захлебывался Вострик. — А ты говоришь, нет у нас героев?! Мне, что ли, так поступить?! Да! Знаешь?! — повернулся он ко мне. — Умаркин-то повесился!..
— Как повесился? — остановился я.
— Как, как? Очень просто! Взял веревку, вышел в парк, накинул на сук березы, вдел голову в петлю и шагнул вперед с бугорка.
— Да не об этом я! Почему? Из-за чего повесился?..
— Ясно!.. Из-за жены, да службы!
— А что у него за жена? И что за служба?..
— Говорят, слаба на передок!.. Переживал из-за нее, пил даже.
— Ни разу не видел пьяным и о службе плохого не слыхал.
— Мало ли что мы с тобой не видели и не слышали. Но причины-то есть?! Иначе не случилось бы такое!.. Тут еще Иршин-подонок свою долю внес. Умаркин посылал его иногда на квартиру. Ну он с ней и снюхался. Недавно Умаркин застал их… и не выдержал… Вот и женись. К добру ли, к худу. Никто не знает… Правда, я бы ее повесил, а сам бы на другой женился…
«Вот так известие! Жаль Кима… Кто виноват?.. Сам?.. Армия? Лельков?.. Он ведь с ним служил. Не раз рассказывал…» В конце пути Вострик понизил голос:
— Знаешь, я ведь заезжал к Любе.
— Знаю, ты говорил перед отпуском.
— В общем, все! Мы окончательно расстались. Можешь ехать, она ждет.
Я молчал, не зная, что сказать, как утешить. Еще одна трагедия. Невезучие мы… Неудобно и перед Востриком. Еще решит, что я помешал его отношениям. Но видит бог! не грешен ни в чем. Наоборот, когда встретился с Любой и провожал после кино на вокзал, то пытался расхваливать Петра. Правда, она, испытующе посмотрев, деликатно, но твердо прервала:
— Я лучше знаю, что он за человек. После переезда с Украины мы жили рядом несколько лет. Вместе ходили в школу, сидели за одной партой. Он всегда защищал меня, дрался с мальчишками. И стал как родной брат, а понять этого никак не может… После школы я ему говорила об этом. А год назад была вынуждена прямо написать, хотя и боялась, что он разгромит казарму или напьется…
(Так вот почему он тогда буянил в казарме!..)
Вострик поднял голову.
— Послушай, если будешь писать, встречаться, так рассказывай иногда, как она живет… Не хочется терять ее из виду. Почему и адрес давал…
Понимая его состояние, я решил ободрить.
— Не у тебя одного несчастье. У меня тоже. Я был у Лильки и получил от ворот поворот.
— Что ты говоришь?! — расхохотался Вострик. — Значит, мы друзья по несчастью?
— Так выходит.
Петр обнял меня за плечи.
— Не тужи-и. Поверь мне, Люба гораздо лучше Лильки! Если бы меня полюбила, я бы Чкаловым стал и даже больше!
Я усмехнулся.
— Но ты же не видел и не знаешь Лильку?
— Ну и что? Зато прекрасно знаю Любу!.. А она лучше всех!.. Ты знаешь, какого она поля ягода?.. Вот что написала в последнем письме.
Он выхватил из внутреннего «сердечного» кармана тужурки пополам сложенный листок.
— Тебе же известно, что бабуля разыскивала деда по всей стране, по всем госпиталям, больницам и санаториям долгих 4 года, когда он не хотел возвращаться домой. И наконец нашла… обрубок без рук без ног. Чуть не обезумела от боли, радости и горя, но не отвернулась, не бросила его. А как настоящая декабристка свершила жизненный подвиг… Для меня бабуля — святая, с которой должны брать пример все, и особенно женщины…
Вечером в летной столовой столкнулся в раздевалке с Желтовым.
— Здорово, Валя! — не выдержал. Все-таки какой бы ни был, а однокашник.
Желтов, надевая шинель, взглянул равнодушно.
— Здорово. Ты кто будешь?.. Пекольский?..
— Нет, Ушаков.
— Ушаков?.. Что-то не помню. Да и много вас было.
Он отвернулся и зашагал к выходу…
Странно?! А почему у него искривленный нос? Перебитый, как у боксера. Был же прямой, греческий… История-я…
Третью неделю сидим на сборах в УЛО, изучаем методику обучения курсантов. Целая наука, оценить объективно которую сможем, лишь когда столкнемся с курсантами. На себе испытаем трудности их обучения. А будет это не раньше мая.
В полках и эскадрильях пока не бываем. С 8 утра на занятия, потом на обед в столовую, потом снова до 6 вечера на занятия.
В конце сборов зачеты, а потом проверочные полеты на допуск. Где-то недельки через три поднимемся в воздух. Давненько там не были, аж соскучились…
Вострик неисправим. Не успел на новом месте обжиться, в новом качестве утвердиться, а уже назанимал денег и купил новехонький зеленый мотоцикл с коляской. И теперь каждую свободную минуту в пургу и мороз гоняет на нем.
В кожаном меховом шлеме, в летных очках, кожаных крагах с нарукавниками-раструбами, в меховом летном комбинезоне, в серо-рыжих лохматых унтах, он действительно похож на Чкалова, когда мчится сквозь снег и ветер, пригнувшись на мотоцикле…
От Любы получил письмо. Как ни странно, принес его Вострик. Заглядывая мне в глаза, сказал со вздохом:
— Счастливый ты! Читай! Может, расскажешь по старой дружбе, как она живет?..
«Боря, здравствуй!
Надеюсь, Петр тебе все рассказал о наших беседах и решении. Теперь ничто не может мешать нашей дружбе, переписке. Да и встрече. Я была у вас в Надеждинске. Теперь твоя очередь побывать у меня в Среднегорске. На дни Советской Армии не сможешь приехать?.. Сообщи.
Очень сожалею, что из-за меня ты лишился аттестата с отличием. Ругаю себя. Ну не переживай, скоро вручу тебе свой диплом с отличием. Большой привет Вострику. Пусть на меня не дуется, братишка родной! Разве на сестер обижаются?..
Ваша Люба».— Тебе большой привет! — говорю Петру.
— Где? Не может быть?! — лезет тот к письму, стараясь собственными глазами убедиться в правильности моих слов.
Показываю ему строчки. Петр сияет, громко, заливисто хохочет.
— А ведь верно! Я думал, подсмеиваешься. Спасибо и на этом. Будешь писать — от меня привет!
И вдруг неожиданно умолкает, только пристально глядит, так что мне становится не по себе.
— Эх! И зачем с вами встретился? — машет рукой, круто поворачивается и выбегает из комнаты.
КАТАСТРОФА
Сегодня суббота. Уже вечер.
В комнате, да и, пожалуй, в гостинице никого нет. Все в городе или на танцах в ДКА. Один я сижу тут, корплю над словарем.
Решил так: до академии занимаюсь языком. Он же всегда и везде пригодится. И в армии, и в гражданке. Пора, пора работать вдвойне. Загружать себя полностью и до предела. Поэтому и сижу в четырех стенах, когда все развлекаются. Откладывать-то некуда, да и зачем? 20 стукнуло! Возраст-то какой мощный, а еще ничего из намеченного не сделано. Лишь поднялся на первую ступеньку…
Вчера летали на допуск. Проверяющему — штурману полка майору Рахову, моему старому знакомому еще по 45 упражнению, когда временно заблудился, больше всех понравился Вострик. Хвалил на разборе, ставил в пример за напористость, точность, быстроту в работе.
Интересный Рахов — долго служил в Афганистане. Одним из первых громил банды душманов, неоднократно награжден. Исключительно требовательный ко всем и в первую очередь к себе. Когда представили к ордену, написал в вышестоящие инстанции: «Лейтенант Рахов недостоин ордена Красного Знамени…» Наградили… медалью.
Примерный семьянин. Каждое воскресенье занимается физкультурой. В десять ноль-ноль со всем семейством выходит на улицу. Помогает жене и детям надеть лыжи, выстраивает их по росту, сам становится впереди и ведет колонну в лес…
Я сегодня был в наряде. Когда сменился и пришел в гостиницу, дежурная спросила:
— Не видели случайно своих на улице?
— Нет, а что?
— Да косые они. Я их пыталась не пустить — не послушались.
— Вот черти! — покачал я головой. — И когда это было?
— Да, наверное, — дежурная взглянула на настенные часы-ходики, — часа два-полтора назад.
— Давненько. И кто был?
— Вострик, Козолупов и Абрасимов. Сперва они сидели в комнате. Ну, а она рядом, да и двери открыты — все слышно. Вострик все жаловался на какую-то Любу. Ну, а ребята его успокаивали, особенно Козолупов.
«Да забудь ты ее, Петя. Не стоит она тебя. Поедем сейчас в город, у моей девчонки такая подруга есть, глаз не оторвешь! А Борьке Ушакову, вам, значит, мы голову оторвем, чтоб не сманивал чужих невест».
А Вострик отвечает — нет, Борьке не надо. А Ленька свое твердит. Ну я и подумала, что надо вам рассказать…
— Спасибо. А не знаете, на чем они уехали? Не на мотоцикле?..
— Не знаю…
Ленька с Толей появились утром. Хмурые, измятые, они прошли к своим кроватям и, не раздеваясь, плюхнулись на них.
— Благодать! И зачем только поехали с этим сумасшедшим?
Ленька скрипнул зубами, выругался.
— Сам виноват, — отозвался Толя. — «Петя, пей, да поедем к девочкам!» — передразнил Леньку.
— А ты-то не это ли говорил, поддакивало?! — возмутился Ленька.
— Я ничё не предлагал, соглашался! — оправдывался Толя.
— Соглашался! Соглашался! — теперь передразнивал Ленька. — А это еще хуже, чем неправильно предлагать! Не зря тебя прозвали тихоньким соглашателем!..
— А ты! — разозлился Толя. — Жалкий подражатель Вострика!
Я встал с кровати.
— Парни, что случилось? Чего шумите?
Оба притихли, потом Ленька со вздохом сказал:
— Несчастье у нас, Петро разбился…
— Как разбился?
— Вчера на мотоцикле врезался в шлагбаум.
— И где он сейчас? Что с ним?
— В госпиталь отвезли, а состояние тяжелое…
— А мотоцикл где?
— В комендатуре, во дворе.
— Ну-у, дела-а… я сейчас же еду в госпиталь.
— Не торопись, — подал голос Толя, — не пустят. Лучше позвони, когда разрешат навещать, тогда съездим…
Я вопросительно смотрел то на Абрасимова, то на Козолупова. Злость поднималась на них.
— Доездились! Сколько раз вам говорили! А если бы все трое убились?.. Кого бы тогда завинили?..
— Тебя! — выкрикнул Ленька и сел на кровати. — Это ты отбил Любу! Ты довел до такого состояния!..
Спорить с ними было бесполезно. Не буду же доставать Любины письма. Я, чувствую, побледнел.
— Ладно, отбил. Хотя можете почитать ее письма. Но поили Вострика вы, а не я! Потащили в город тоже вы! Гнали на мотоцикле вы! Были бы настоящими друзьями, наоборот, удержали бы от поездки, да еще в пьяном состоянии!..
Парни молчали.
Вострик пролежал в госпитале около месяца. Потом проходил ВЛК (врачебно-летную комиссию) и по ее заключению был признан негодным к полетам и к службе в армии.
На днях проводили его. Был он грустный, расстроенный, тихий и задумчивый. В общем, совсем не такой, каким его знали.
Прогуливаясь по перрону, долго молчал, потом сказал:
— Думаете, расстался Вострик с небом?.. Да никогда! Вот поживу дома немного, поднаберусь здоровья на парном молочке и через год-другой снова пойду в военкомат и приеду к вам. Ждать будете?..
— Приезжай! Будем! — заверили.
— Э-эх! Если бы вернуть назад тот день!..
Перед отправлением поезда попросил:
— Пишите, не забывайте. Все рассказывайте о своей жизни и работе. А я как приеду, устроюсь, сразу же напишу вам.
Пожав всем руки, сказал мне с горечью:
— Эх, Борька! И почему тебя не было в тот день в гостинице. Знаю, ты бы меня никуда не отпустил. Все было бы в порядке… Ты всем настоящий друг, а мы, глупые да завистливые, еще злимся…
Ленька с Толей заморгали, отворачиваясь.
…Только что отлетали первый полет с курсантами. Придя в гостиницу, увидел письмо. Чем же порадует Люба?..
«Боря! Я узнала из письма мамы, что Вострик разбился. Знаю, это из-за меня. Не обижайся, Боря, прошу, пойми меня правильно, но я должна к нему поехать. Только я могу ему помочь. Он же мне не чужой и не просто знакомый. Это мое детство и юность, часть моей жизни, а значит, часть меня. Прости, но писать мне больше не пиши…
Люба».Вот так новость?! А как же я?.. Сама же уговаривала писать, дружить, встречаться, а теперь уходишь?..
Все смешалось в голове, словно выпрыгнул из самолета. Почему-то вспомнились слова майора Рахова.
В жизни, как в сложном полете, все время стремишься к цели и никогда уверенно не знаешь, выйдешь на нее или нет. Не у каждого хватает сил выполнить его, как задумано. Многие не долетают. Но настойчивая самозабвенная работа спасает от всего. Она главный ориентир. Лишь она позволит в конце концов добиться успеха, достичь намеченной цели…
ТИТОВСКИЙ
В начале лета я приехал домой в Синарск на воскресенье. Переодевшись в спортивную светлую рубашку и бежевые брюки, отправился в центр старого Синарска прогуляться, втайне надеясь на встречу с одноклассниками, а может, если повезет, и с Лилькой. Хоть и по-хамски она со мной поступила, но разве ее забудешь?..
На Ленинской я неожиданно увидел удивительно знакомого человека, шедшего навстречу. Вглядевшись, поразился: Титовский — однокашник по роте. Или Тютюн, как тогда его звали. Тот тоже «вперился» в меня.
— Здорово! — улыбнулся, останавливаясь. — Ты здесь какими судьбами? Вот уж не ожидал тебя встретить!
— А ты почему здесь? — жестковато, без улыбки ответил Титовский вопросом на вопрос.
— Так я дома! К матери приехал!..
— А я к дядьке…
— В отпуске, что ли?
— Нет, здесь живу, работаю на заводе.
— Как?! Ты же в Быхове служишь!..
— Уже не служу…
— Не понимаю…
— Да-да, — с досадой ответил Титовский, — было дело, — отвернулся, сплюнул в канаву.
Дальше говорить было бессмысленно, и я пошел своей дорогой, размышляя о встрече.
Вот он, результат бездумного выполнения приказа и полной безответственности его отдавшего высокого начальника. И зачем кому-то нужна была вредная затея с внеочередным набором курсантов и их ускоренным выпуском?.. Таких, как Тютюн, было большинство… Где-то человек десять-двадцать будут служить пожизненно, остальные отсеются в первые же годы.
…Дорого, расточительно и бесполезно!.. И такое, наверняка, всюду, во всех ведомствах по всей стране… Никаких миллиардов не хватит…
Хотя бы через сито конкурсных экзаменов неизвестных людей пропустили. Тогда бы не ввалилась толпа случайных.
Все честные люди, вся страна в сложном полете. Особенно молодежь. Чем он закончится — одному богу известно… И все потому, что в свое время не различили подлецов и негодяев, отдали власть им в руки, пошли на поводу…
Я ПОМОГУ ТЕБЕ, ОТЕЦ! Повесть
1
БОРИС УШАКОВ
«Так держать!» Эти слова я вспоминаю каждый раз, когда трудно.
Та командировка запомнилась мне на всю жизнь. Была она недавно. Наш экипаж по заданию командования перебрасывал один из полков училища на новое место службы. Мы совершали челночные перелеты, перевозя летчиков и штурманов группами с аэродрома на аэродром. Приходилось летать в любых условиях — лишь бы скорее выполнить задание, которым интересовалась «сама Москва».
Бывало и так: в полночь-заполночь нас, сонных, как осенних мух, поднимали с постелей, сообщали: «Вылет разрешен», — и мы на своем транспортнике, тоскливо гудевшем моторами, снова одиноко брели в холодной звездной вышине над спящей землей…
В тот день с самого утра мы осаждали диспетчера, выпрашивая разрешение на вылет. Но из-за плохой погоды его все не было и не было. Часы показывали без пяти тринадцать, когда мой командир, громко ругнувшись, предложил:
— Пошли в гостиницу! Что тут сидеть без толку?..
Тяжело поднявшись со стула, грузно ступая, он направился к выходу.
Я последовал за ним.
На крыльце командир остановился. Взглянул вверх, огляделся, тихонько свистнул:
— Не улететь сегодня — портится погода…
Он был прав. Все небо затянула серо-сизая пелена. Сыпалась снежная крупа.
Около самой гостиницы нас догнал солдат посыльный.
Запыхавшись, он выпалил:
— …Вас вызывают на вылет…
Командир повернулся ко мне:
— Скорей сообщи группе, пусть идут на самолет. Забеги к синоптику, возьми метеобюллетень…
Минут через двадцать, запустив двигатели, мы выруливали на старт.
Я, как всегда, настроив радиокомпас, сидел сзади, за спиной у командира, наблюдал за показаниями приборов.
Грозно, раскатисто с хриплыми переливами рычат моторы. То — наш борттехник, гоняет их на максимальном режиме перед взлетом. С клекотом взревели они, самолет дернулся, стремительно рванулся вперед… Скакнув вверх последний раз, точно оттолкнувшись, оторвался от взлетной…
Прядями седых волос мелькают обрывки облачности. Еще секунда — и самолет ныряет в серо-белую плотную массу, как в молоко.
Я смотрю на часы, встаю и выхожу в общую кабину, где за передним столом мое основное рабочее место. Тут полным-полно народу. Сидят по двое, по трое на одном сиденье. Всего пятнадцать человек. Да нас пятеро… Как бы не было перегрузки?! Хотя, — усмехаюсь про себя, — самолет в воздухе, лишних уже не высадишь.
Летчики — народ тертый. В любой обстановке чувствуют себя, как дома. Не успели набрать высоту, а они уже, разбившись на группки, устанавливают чемоданы в проходе вместо столов. Достают кто шахматы, кто карты, кто домино и готовятся скоротать время полета.
Некоторых из них я немного знаю. Они служили в нашем училище, только в другом городе. А теперь вот судьба забрасывает их в желтые бескрайние степи.
За моим столом — незнакомый человек. Он, как и все, в меховой куртке, меховых брюках и сапогах. Только все это новее, чем у других. И куртка из замши, как у истребителей.
Какой-то начальник, — решаю я и секунду-другую гляжу на него.
Он не молод, намного старше меня — в отцы годится, черноволос. В редких зачесанных назад волосах, начинающихся почти от бровей, серебрится седина. Глаза карие, внимательные, умные. Лицо смуглое, морщинистое.
Надев шапку-ушанку, он поднялся:
— Садитесь! Вам нужно работать. — И перешел на соседнее место позади.
Разложив карту и все свои нехитрые штурманские принадлежности, я быстро рассчитал время прибытия. Выходило, через три часа пятьдесят три минуты будем на месте.
— Борис! Ушаков! — послышался знакомый голос из-за спины.
Я обернулся. Обернулся и «начальник».
— Когда будем на месте? — кричал один из моих знакомцев.
— Вовремя! — улыбаюсь и быстро настраиваю радиокомпасы на радиостанции. Дорога каждая секунда. Летим в облаках, земли не видать. Нужно как можно точней определить ветер и взять верный курс.
Один за другим веером ложатся на полетную карту копья пеленгов. Идем вроде без уклонений. Пеленги пересекаются то севернее, то южнее заданной линии пути. Неожиданно раздаются удары. Похоже, кто-то кидает в самолет камни. Заливисто ревут двигатели — командир борется с обледенением, меняя обороты и шаг винтов… Да-а, веселенькое начало! С музыкой и барабанным боем. Если так будет весь полет, из самолета выползем оглохшими…
Иду в переднюю кабину. Здесь полумрак. Окна заледенели и плохо пропускают свет. Воздух насыщен снежной пылью, и создается впечатление, что в кабине туман.
— Дай транспортир, — говорит командир, увидев меня. — Обогрев не помогает, буду скоблить стекла.
Борттехник — вечно улыбающийся крепыш — склонился к приборам между летчиками и шурует рычагами взад и вперед. Хмурый, сосредоточенный, он даже не заметил меня.
Удары по фюзеляжу усиливаются. Становятся громче и громче. Кажется, кто-то огромный бьет кувалдой по бортам и вот-вот вдребезги разнесет самолет.
Мне становится не по себе. Охватывают беспокойство, тревога. Такое сильное обледенение я вижу впервые. Всматриваюсь в окно. Видна кромка плоскости с бугристыми наростами льда. Обледеневший, крутящийся кок винта, а дальше — сплошная белая пелена, в которой «растворилось» крыло. Похоже, всю землю окутала облачность и поднялась до самого солнца… А что если обледенение и дальше будет расти?.. Тогда самолет может потерять аэродинамические формы. И камнем рухнет вниз на острые скалы и вековую тайгу. Даже выпрыгнуть не успеем. Хотя с чем прыгать-то? Парашютов-то нет, не взяли. И пистолетов тоже. А могли пригодиться, если сядем на вынужденную. Внизу горы, тайга…
Бум! Бум! Бум! — монотонно грохочут удары. Холодом сжимает сердце. Но не подаю вида. Краем глаза кошусь на командира. Он удивительно спокоен, словно глухой. Вот это выдержка! Хотя фронтовик-афганец, 86 боевых вылетов!.. Ну, хватит! Пора работать!..
Встряхнувшись, иду к себе в общую кабину. Здесь все по-старому. Ни на что не обращая внимания, летчики азартно играют.
«Мой начальник» не сводит с меня глаз. Кто он такой? Что ему надо?.. С ним рядом почему-то знакомец. Улыбается, хотя и старается сохранить солидность.
— Вы всегда с таким громом летаете? — иронизирует. Я не отвечаю. Некогда. Надо определить свое местонахождение, путевую скорость и уточнить время прибытия на аэродром посадки.
Снова кручу рукоятки радиокомпасов. Стрелки указателей курса медленно вращаются. Этого еще не хватало! Неужели антенны обледенели? А может, отсоединились?.. Нет, все в порядке. Тогда что же? Почему не работают?..
Я подключаю ввод запасной шлейфовой антенны. Должна выручить. Но стрелки по-прежнему медленно вращаются. Может, предохранители перегорели? Проверяю. Целые. Так что же?.. Лампы?.. Но возиться с ними некогда.
Пересаживаюсь за последний компас. Может, он работает?..
За левый садится «начальник». Пытается пеленговать радиостанции, но у него тоже ничего не получается.
К сожалению, и правый радиокомпас нормально не работает. Стрелка тоже не останавливается. Надо проверить радиокомпас полностью. Вплоть до замены ламп. И я выполняю операцию за операцией.
«Начальник» одобрительно глядит на меня. Я тихонько спрашиваю у знакомца.
— Кто это?
Он также тихо, но с гордостью отвечает:
— Наш бывший старший штурман полка. Преподавал в академии.
Все ясно. Контролирует. И так тошно, лучше бы помог… Бывший штурман, словно услышав мои мысли, неожиданно предлагает:
— А не запеленговать ли радиостанции на слух, по минимуму слышимости?..
— Точность невелика, но попробовать можно.
…Бум! Бум! — оглушают удары, и нет от них нигде спасенья. Это пытка слышать их. Самолет скрипит, трещит и, кажется, вот-вот развалится.
Как я и ожидал, «места самолета», определенные на слух, ложатся на карте, где им вздумается. Разве можно по ним сделать вывод, как идем?.. Надо срочно менять высоту, выйти из обледенения, пока не заблудились…
Я встаю, иду к летчикам.
— Запрашивал, разрешили, — отвечает командир. — Но предупредили, что на всех эшелонах возможно обледенение.
Стонут моторы. Мы забираемся на высоту — почти потолок нашего самолета. Но удары срывающегося с винтов льда не прекращаются…
— Запроси пеленг или место, — говорю радисту. Тот кивает и выстукивает сигналы.
К нам поворачивается командир. На широком круглом лице — недовольство:
— У меня связь пропала. Ничего не слышу.
Толкает радиста в бок, тот оборачивается.
— Запроси пониже, может, там обледенение прекратится и связь наладится…
Вскоре мы снова меняем высоту, пытаясь уйти от обледенения. Но оно преследует нас всюду.
Я мечусь по кабине, как пойманный в клетку. Припадаю то к правому, то к левому окну в надежде увидеть хоть небольшой разрыв облачности. Но, как назло, ни одного. Облачность плотная и густая, как сметана. Чувствую — начинает колотить дрожь. Стараюсь держать себя в руках. Твержу сам себе: «Чем сложнее обстановка, тем спокойнее штурман».
Меня вызвал командир.
— В Среднесибирске плохая погода. Снег, видимость полкилометра, высота нижней кромки двести метров. Вряд ли примут. Запрашивают, кто нас выпустил… — Помолчав, спросил:
— Сколько прошли по маршруту?..
— Половину примерно.
— Приготовься вернуться назад.
— Зачем? Уж лучше вперед, и задание выполним.
— А если закроют аэродром и прикажут возвращаться?
Нас прерывает радист:
— Верхнеенисейск закрыт — метель. Назад путь отрезан!
— Тем лучше, — беспечно отзывается. — Лишь бы Среднесибирск принимал. Так ведь, Ушаков?
«Ну и командир!» — таращу я на него глаза.
Когда я вернулся на свое место, старший штурман встретил вопросом:
— Как настроение? — и тихонько: — Что будем делать?
— Лететь! — довольно грубо отвечаю. Потом, успокоившись, излагаю план действий.
— Ясно! — улыбается штурман.
Помолчав, добавляет:
— И в таких условиях в Отечественную войну летали наши летчики, точно выходили на цель и поражали ее… И это с тогдашней техникой…
Я молчу, пытаясь понять, куда он клонит. То ли осуждает, то ли одобряет. Наверное, хвалится, что воевал. Так у меня дед, его братья, дядя тоже воевали и все погибли.
На мое плечо ложится чья-то рука. Вскидываю голову — борттехник.
Квадратное лицо раскраснелось, округлые глаза блестят. Но у него почему-то виноватое выражение, точно набедокурил.
— Идем! Командир зовет, — тянет он за рукав куртки. В проходе, достав из багажника канистру, говорит:
— Никогда не видел такого обледенения. Сотню литров уже израсходовал, а лететь еще половину. Где я возьму спирту столько? Хотел немного сэкономить.
— А ты не экономь. Когда рухнем — спирт не понадобится.
Командир, тоже немного раскрасневшийся, увидев меня, сказал:
— Связи с землей нет. Теперь вся надежда на тебя. Надо постараться точно выйти на аэродром. Не забывай, скоро стемнеет…
— Хорошо, — отвечаю, а про себя думаю. Как же точно выйду, когда еще долгих два часа лететь вслепую?.. Уже сейчас, наверняка, уклонились километров на 15—20, а через два часа, если срочно не исправим курс, километров на 50—60, не меньше. А это…
Я отворачиваюсь от командира, рукавом вытираю влажный лоб. Если даже свершится чудо и мы точно выйдем на аэродром, то как выполним в облаках заход на посадку? Как выйдем на посадочную?.. Была крохотная надежда — по пеленгатору, что очень трудно на незнакомом аэродроме. И она исчезла. Выходит, мы обречены. Я с силой бью кулаком по коленке. Нет! Надо скорей включить сигнал бедствия, пока не поздно. Может, земля чем-нибудь поможет…
Опять иду к командиру. Он, оборачиваясь, поднимает глаза.
— Ты знаешь, — хриплю на ухо.
— Знаю! Все знаю, — улыбается он. — Тебе тяжело, все отказало. Иди, не волнуйся, работай…
Я отхожу, недоумевая. Останавливаюсь в проходе у двери. Как же он узнал? Здорово же изучил меня за четыре года… Хотя фронтовик, как и дядя… Но как лететь?.. А как летал дядя Владимир на фронте в облаках?.. И не было у него ни радиолокатора, ни обогрева, ни антиобледенительной системы. И было ему тогда всего девятнадцать!.. А тебе? И не кричал, наверняка: спасите! помогите!..
Из кабины доносятся взрывы хохота. «Травят» очередной анекдот. Летчики корчатся от смеха.
Гляжу на них с улыбкой и доброй завистью. Они все здоровенные, рослые, старше меня на 5—6 лет… Парни! Парни! Знали бы, что нас ждет… Не сидели бы, не заливались соловьями. Крикнуть бы вам: «У нас связи нет! Компасы отказали! Не знаем, где летим!» Поглядел бы я, как изменились бы ваши лица. Но я, разумеется, не сделаю этого. Ваши трудности еще впереди…
В крайнем случае, можно попытаться выйти на привод на слух. Даже заход на посадку можно выполнить. Правда, ненадежно, но что делать?.. Да-а, а если подключиться к антенне радиста? Или прослушивать команды руководителя по радиокомпасу?.. Но откуда им знать, когда мы придем? Когда подавать команды?..
Старший штурман, еще не согнав улыбки с лица, озабоченно сказал:
— Подсоедини антенну радиста, должен заработать компас.
Сомневаюсь, связи-то нет…
— А ты не сомневайся! Подсоединяй! Кусок провода найдется?..
Я лезу в багажник, достаю моток изолированного провода. Перочинным ножом зачищаю концы и подсоединяю один к приемнику, другой — к выводу антенны.
Радист, красный от возбуждения и мокрый от пота, в расстегнутой куртке и рубашке, удивленно глядит на меня, хлопая рыжими ресницами.
— Дай бог удачи! А у меня ничё не получается…
Я жду сигнал от штурмана полка, но его нет и нет. Спешу к нему. Он, недовольно поглядывая на компас, постукивает по указателю пальцем. Выключает питание и, выждав немного, снова включает.
— Да, видимо, оборвалась, — говорит со вздохом.
— Дайте, я попытаюсь.
— Пытайся, — соглашается штурман и переходит на свое место.
— Есть еще вариант, — немного погодя говорит он. — Выпустить провод за борт.
— А-а, слышал, но делать не приходилось.
— Действуй!
Воспрянув духом, я быстро отсоединил провод от антенны радиста, обмотнул его вокруг стойки лампы и, как леску в лунку, выпустил свободный конец в отверстие для бортового визира. Провод натянулся, как струна…
— Иди! — махал рукой штурман.
— Наконец-то заработал! — с облегчением сказал он, указывая на стрелку. Та колебалась острием у цифры 15.
— Спасибо! Спасибо!
— Мне за что?.. Себе скажи.
Сияющий, не чувствуя под собой ног, лечу к пилотам.
— Пятнадцать вправо! Радиокомпас заработал!..
— Да?! — летчики наперебой забросали меня вопросами.
— Вот видишь! Говорил я тебе, — смеется командир, — не волнуйся, работай, и все получится…
Изголодавшись по пеленгам, я прокладываю их ежеминутно на карте. Жаль, боковых радиостанций нет. Не по чему определить место самолета. Но и так неплохо. С некоторой ошибкой путем вычислений все же можно определить место.
Старший штурман стоит рядом. Склонившись, наблюдает за моей работой. Ему, видно, тоже надоело быть «слепым».
Определив ветер и уточнив расчеты, с довольной улыбкой вылезаю из-за стола. Кончились мои мучения. Победно оглядываю летчиков. Так и хочется похвалиться: «А знаете, что нас ожидало?.. Не знаете?! И никогда не узнаете!..»
Бум! Бум! — торжественно салютуют удары. Я улыбаюсь: «А про вас я совсем забыл, думал — прекратились…». А вот моим летчикам в передней кабине по-прежнему скучно — связи нет и нет.
— Послушай, брось ворочать приемник. У тебя антенну оборвало! Подключайся к моей.
Радист недоуменно глядит на меня.
— Ты думаешь?
— Не думаю, а точно знаю!
Вообще-то, наш радист молодой. Первый раз в такой командировке.
Воткнув лампы и поставив приемник на место, он достает кусок провода из ящичка и отправляется в общую кабину.
Я с удовольствием сажусь на его место, вытягиваю ноги и даже позволяю себе на миг закрыть глаза. Только сейчас чувствую, что чертовски устал…
Появляется радист. Глаза часто-часто мигают, губы трясутся, слова выговорить не может.
— Что случилось?
— Понимаешь, упустил… Вы только не ругайтесь, ладно?..
— Кого упустил? — настораживаюсь я, подбирая под себя ноги.
— Антенну, провод…
— Как упустил? Куда? — приподнимаюсь с сиденья.
— За борт! Понимаете? За борт! Только отсоединил от зажима и стал наращивать, как вдруг выскользнул он из рук и… в дырку. Видно, плохо закреплен был…
И снова мы летим вслепую. Правда, сейчас это меня не особенно волнует. Я верю — на КПМ выйду точно. А вот посадка не дает покоя. Двадцать с половиной минут остается до нее.
Командир и радист без устали докладывают земле о режиме полета, хотя в ответ не слышат ни слова. Радист, правда, уверяет, что земля его слышит, но я что-то плохо этому верю…
15 минут…
— Снижаюсь! — сообщает командир. — Занимаю аварийный эшелон…
И враз притихли моторы — командир подобрал газ.
Старший штурман, раздобыв шлемофон, подключается к радиокомпасу в надежде услышать команды руководителя полетов по этому каналу.
…10 минут.
Передо мной — лист бумаги с вычерченной схемой захода на посадку по пеленгатору. Штурман, увидев ее, одобрительно кивает головой.
Странно! Не слышно ударов, неужели обледенение кончилось?.. Я вытягиваю шею, заглядываю в окна. Не появится ли где просвет?.. И вдруг, случайно бросив взгляд на приборную доску, замираю от неожиданности.
Стрелка указателя курса танцует около нуля… Заработал?! Компас заработал! Это же наше спасение!..
Расплывшись в улыбке, повертываюсь к штурману. Может, остальные компасы тоже работают?.. Но нет, только правый! Что ж, и это чудесно!
Старший штурман, глядя на шкалу, тоже улыбается.
— Везет тебе!
Срываюсь с места, бегу в нос самолета — надо договориться о заходе на посадку.
Всех обрадовало мое сообщение. А второй (правый) летчик — даже расхохотался от избытка чувств. Интересный у него смех. Неповторимый: какая-то смесь скрипа, скрежета и всхлипываний. Не поймешь — то ли смеется, то ли плачет…
…3 минуты до аэродрома.
Я не спускаю глаз с указателя курса. Вот-вот выйдем на привод.
В проходе у дверей стоит борттех, поглядывая на меня, ожидая команды.
…2 минуты …1 минута …Все! Время вышло! Пора делать разворот, но стрелка по-прежнему танцует около нуля. Значит, радиостанцию не прошли. Когда пройдем, стрелка развернется на 180 градусов. Опаздываем, выходит, но насколько?.. Невыносимо долго тянется время. Оборот за оборотом делает секундная стрелка на часах. И лишь на исходе третьей минуты стрелка курса робко сдвигается с места и описывает дугу.
— Разворот! — кричу я.
— Разворот! — дублирует борттех.
Командир резко поворачивает штурвал.
Услышав команду, некоторые летчики, отвлекшись от игры, подняли головы, наблюдают за нами. Другие — даже ушами не шевелят.
Один за другим скрупулезно выполняем развороты. Стрелка подходит к цифре 285. Наступает пора последнего, самого ответственного разворота… Чувствую, как опускается левое крыло, а правое поднимается. Сравниваю показания компасов. Несогласованность!
— Увеличить крен! Иначе выскочим правее посадочной!
Борттех неуверенно и негромко дублирует. Самолет медленно выходит из разворота. Так и есть. Проскочили! Привод в стороне.
— Влево пятьдесят!
Пока сманеврировали, приводную прошли сбоку.
— Уходим на второй круг! Курс девяносто!
Мне стыдно штурмана полка, летчиков. Спиной чувствую их осуждающие взгляды: «Эх, блудило! Не смог завести самолет».
Иду к экипажу — надо заставить их энергично выполнять мои команды.
Снова развороты, и опять подходим к последнему. Ну, если и в этот раз не зайдем… тогда хана! Баки пусты, да и запасных аэродромов ни одного. Метелью закрыты.
— Разворот! Так держать! Отлично!
Фу-у-у! Вроде точно вышли на прямую.
— Снижайся! Высота 250! Горизонт!
Стрелка указателя начала описывать дугу. Переключаю радиокомпас на ближний привод.
— Прошли дальнюю! Высота 180!
Гляжу в окошко. Пора бы выйти из облачности, но там — сплошная вата.
— Смотри, куда пошли, — трогает меня штурман.
Перевожу взгляд на указатель, стрелка отклонилась вправо. На миг цепенею, потом кидаюсь к пилотам.
— В чем дело? Куда свернули? 20 вправо! — кричу, врываясь в кабину.
— Гляди! Вон прямо полоса! — показывает рукой правый летчик и подхохатывает скрипуче.
Я вглядываюсь. Сквозь колеблющуюся завесу снега различаю что-то похожее на полосу… Деревенские дома, увязшие в сугробах, вытянулись в две серые линии. У каждого дома тополь. Целая аллея.
— Прекратить снижение! Это же улица! Деревня! Разворот вправо! Там посадочная!..
— Какая деревня?! — возмущается правак. — Ты что, спятил?
Правак упрям и может спорить до хрипоты. Тем более, что всегда твердит: «Я — замкомандира, а штурман — подчиненный!..» Это болезнь праваков.
Высота около сотни метров, нос самолета точно нацелен на верхушки деревьев. Еще немного — врежемся в них.
— Прекратить снижение! — трясу командира. — Это же деревня! Деревня! Неужели не видишь!?.
— Точно, деревня, — переводя дух отзывается командир. Он с силой тянет на себя штурвал и выкручивает вправо.
Натужно ревут моторы. Самолет карабкается вверх. Домишки скрываются в снежной пелене.
— Что теперь? — глядит командир.
— Пойдем на этой высоте, увидим полосу — сядем. Она длинная — два километра — сам знаешь…
Кругом бело. Горизонтальной видимости нет. Густой крупный снег идет. Местность просматривается только под собой. Мы ощупываем взглядом каждую складку ее… Наконец под самолетом замелькало что-то пятнистое, серо-белое, похожее на бок зебры. Полоса?.. Ну да, она! Заснеженная, перехваченная поперечными сугробами-перекатами.
— Бетонка под нами! Разворот влево! Шасси выпустил?..
Командир кивает. Земля стремительно надвигается. Командир круто планирует. Кажется, вот-вот врежемся. В последний миг командир выравнивает самолет и даже немного задирает нос.
Машина, пролетев еще немного, внезапно проваливается, а затем, рассекая снег, мчится по посадочной. Из-под колес брызжут струи. Из-под пола доносится глухой басовитый скрежет, похожий на фыркающий гул. Машина останавливается. Все! Сели! Даже не верится…
Мы оглядываемся, куда рулить? Вперед? Назад? Где рулежные дорожки? Как срулить с бетонки? Стоять на ней нельзя — вдруг заходит на посадку другой самолет. Он врежется в нас…
— Давайте я схожу на разведку? — предлагаю я.
— Иди, — соглашается командир.
В этот момент из-под левой плоскости выныривает грузовик. Останавливается сбоку. Из него выскакивает человек в белом меховом полушубке, в серых валенках. Машет рукой.
— Пошли! — говорит мне командир. — Моторы не выключай! — бросает правому.
Мы выпрыгиваем из самолета.
— Здравствуйте! — приветствует нас офицер. — Я руководитель полетов с ближнего привода. Вы командир?
— Да.
— Давно вас ждем. Поздравляю с благополучной посадкой. Боялись за вас очень!
Он жмет командиру руку, потом мне.
— Что-то я не видел, как вы прошли над нами? И гула не слышал.
— Да-а, сели, в общем, — чуть смутясь, неопределенно отвечает командир.
— Прошу рулить за мной. Мы поедем метрах в пятнадцати, иначе стоянку не найдете…
Минут через двадцать летчики полка покидали самолет.
Мы стояли под крылом и наблюдали, как один за другим с чемоданами, портфелями и планшетами они спускались по лесенке, подходили к нам, крепко жали руки и скрывались в снежной круговерти.
Старший штурман подошел последним. Простившись с командиром, он обнял меня за плечи, отвел в сторону.
— Ну, здравствуй! Я ведь Павел Засыпкин! Слышал о таком?.. Друг твоего отца и дяди Владимира…
Я удивленно гляжу на него.
— Вы — Павел?.. Здравствуйте!
— А ты здорово похож на дядю. Я тебя сразу узнал. Правда, мне подсказали твою фамилию. Еще в полете хотел поговорить с тобой, да уж больно трудным он получился. Не до того было… Дядю-то не забыл?..
— Да вы что! Разве можно?..
— После училища на фронте я попал к нему в полк. Мы вместе летали, вместе воевали. Он был моим начальником — штурманом полка…
Кстати, это он научил меня использовать антенну радиста и выкидывать провод за борт при обледенении…
Мы беседовали минут пять. Договорились встретиться.
Уже отойдя от самолета шагов на десять, Павел остановился, обернулся и крикнул:
— Так держать! Так держать, штурман! Как Владимир!..
2
Я ждал Засыпкина в летной гостинице. Силился его вспомнить, но так и не смог. Зато отчетливо вспомнил рассказы отца о дяде Володе и его друзьях. Про жизнь до войны и после.
ЛЕОНИД УШАКОВ
В 1936 году мы жили в деревне Ключи, в Никитинской МТС, где папка работал заместителем директора по политчасти. Целыми днями, если не сутками, пропадал он на работе. Такое уж, видно, было тогда время, и, самое главное, такая у него была работа.
Но иногда долгими зимними вечерами, собрав всю семью за столом в кружок, при свете пятилинейной лампы он читал нам вслух газеты. Мы внимательно слушали, но почти ничего не понимали. Запоминались только незнакомые слова: «Испания, Мадрид, Теруэль, Картахена, фашисты, коммунисты, мятежники, республиканцы».
Когда он кончал читать, мама всегда говорила:
— Ну, теперь расскажи по-русски, чё там написано?
И отец начинал пересказывать прочитанное. Раскрыв рты, мы слушали и удивлялись… Оказывается, на Земле живет много разных народов. У каждого народа своя страна. Есть народы сильные, есть слабые. Сильные подчиняют себе слабых и командуют ими, заставляя на себя работать. Поэтому сильные живут богато, хотя и мало работают. А слабые — бедно, хотя трудятся с утра до вечера. Если слабый чем-нибудь не понравится сильному, то сильный может убить его.
В каждой стране, исключая нашу, люди, в свою очередь, тоже делятся на богатых — сильных, господ — и бедных — слабых, подчиненных. Наша страна — Советский Союз — самая справедливая. В ней нет ни бедных, ни богатых. 20 лет назад народ в России восстал, поднялся на борьбу с господами. И впервые в мире уничтожил и выгнал их. За это богатые всех остальных стран ненавидят нашу страну и ждут удобного случая, чтобы напасть на нас и превратить в своих рабов. Поэтому мы должны быть готовыми дать отпор, разгромить и уничтожить их, как в гражданскую войну.
А в Испании — есть такое государство далеко от нас — бедные, как и мы, сбросили власть господ. Поэтому богатые-мятежники во главе с генералом Франко напали на бедных, на республиканцев. Хотят их снова превратить в рабов. И вот там сейчас идет война. Люди убивают друг друга.
От этих слов я испуганно глядел на темневшую неподалеку дверь, темные углы и окна, откуда могли вылезти убийцы, и теснее прижимался к маме, у которой сидел на коленях…
Там же, в Ключиках, я увидел первый в своей жизни кинофильм. И тоже про войну, про Испанию…
В заброшенной, пустовавшей церкви — самом большом здании — собралась вся деревня. Разместились кто как мог. И сидя на скамейках, и стоя у стен. На стене натянули белое полотно. Посредине поставили какой-то аппарат с чудными колесами. Когда закрыли двери, в темноте застрекотало что-то, вспыхнул луч и осветил полотно. По нему задвигались какие-то фигуры. Потом изображение стало четким и было видно людей, как днем на улице.
Показывали огромный город с большими зданиями. На улицах и площадях — черно народу. И вдруг показались бомбовозы. Похожие на коршунов, они закрыли небо. Люди в страхе побежали, падали, вскакивали и снова бежали. От бомбовозов черными репками оторвались бомбы. Одно за другим, будто вздрогнув, большущими скалами начали рушиться многоэтажные дома. Они падали поперек улиц, на другие дома поменьше, давили людей.
Жуть охватила смотревших, в том числе и меня. Как всегда, я жался к матери, закрыв глаза, но все равно хоть краем глаза, да смотрел кино.
Послышались плач, стоны, выкрики. Все были в Испании, в Мадриде, вместе с испанцами переживали боль, горе, страдания…
Весной в посевную и в конце лета в уборочную папка с мамой по неделям жили в поле. Нам часто приходилось домовничать одним. В холодную погоду мы забирались на широкую русскую печь и, положив под головы валенки, рассказывали друг другу сказки и страшные истории. Часто уезжали наши родители в райком партии — на собрания, заседания, бюро, пленумы, конференции, переклички — на сутки-двое в Синарск…
Непонятное было время. В деревне, производившей хлеб, не было и негде было купить его. Отец с матерью всегда привозили хлеба и разной еды. Мы с нетерпением и радостью ждали их приезда, который превращался для нас в праздник.
Но не всегда было так. Однажды ночью я проснулся от лая Шарика — здоровенной овчарки, привезенной еще из Синарска. Он бегал из комнаты в комнату и злобно, угрожающе рычал, порываясь выскочить на улицу.
— Вовка!.. Валька!.. Чё тако? — боязливо проговорил я, расталкивая, спавших по бокам брата и сестру.
— А-а, — спросонья замычал Владимир. — Не знаю…
— Ой! Ой! Ой! — захныкала Валя. — Опять воры лезут?!. И что за напасть така!..
Она была права. Только на моем коротком шестилетнем веку они пытались залезть к нам уже дважды. В прошлом и позапрошлом годах, когда мы жили еще в Синарске. Но все кончалось пока благополучно, благодаря этому же Шарику и маме, которой нет сейчас дома… Проклятые воры! И всегда-то они лезут, когда нет папки. Будто нарочно следят за ним. Уж он бы им показал!.. Отучил воровать-то!..
— Ой! Ей! Ей! — стонала Валя. — Если залезут — убьют нас! Убьют!..
Неистово с рычанием лаяла собака. В комнатах и за окнами густая, как вар, темнотища. В промежутки между взрывами лая из маленькой комнатки, окно которой с одной плохонькой рамой выходит в черемуховый сад, доносится какой-то скрип и срежет.
Я лежал ни жив, ни мертв между братом и сестрой, готовый в любую секунду заорать до беспамятства. Ужас и страх сильнее «испанских» сдавили меня, не давая пошевелиться.
Наш дом стоит на косогоре, на отшибе деревни. К соседям не добежишь. Да и у дверей, может, караулят… Страшно выйти.
— Вовка! Ленька! — шептала Валя. — Айдате в подполье!.. Может, там не найдут и не убьют!..
— И здесь не убьют! — уверенно ответил Вовка. Он тихонько встал с кровати и скрылся на кухне. Потом, сопя, вернулся назад, неся что-то тяжелое.
— Вовка! Вовка! — звеняще шептала Валя. — Чё ты удумал, торопыга, говори!..
— А вот! — шепотком отвечал он. — Топором как трахну! Башку расколю!
— Не ходи туда! Не ходи! Полезем в подполье!?.
— Ну тебя! Лезь сама! — и он на цыпочках, крадучись, пошел в маленькую комнатку.
Тихо ругаясь, встала с кровати Валя.
— Куда ты? — пискнул я.
— Взгляну, чё он делает. Да ухват возьму.
Она тоже скрылась в кухне, потом прокралась в комнатку.
Лежать не было сил. Я встал, с трудом в темноте нашарил штаны и рубаху. Оделся. Прокрался к комнатке, заглянул. Владимир стоял в углу у окна с поднятым над головой топором. Валя — у круглой печки с выставленным вперед ухватом. Шарик, встав лапами на подоконник, оглушительно лаял в окно.
Неожиданно комнату осветили лучи фар. Послышался шум подъехавшей машины. Затрещали кусты. Раздался ружейный выстрел. В ответ защелкали сухие пистолетные. Послышались знакомые голоса.
— Папка приехал! — обрадовалась Валя.
— Мама тоже! — сказал в полный голос Владимир.
— И папка, и мама, — добавил я.
Мы пошли к двери в сенки.
— Вова! Валя! Не бойтесь! Открывайте! — слышалось с улицы. — Это мы!..
Папка вошел в кухню, прихрамывая, опираясь на мамино плечо.
— Не бойтесь! Не бойтесь, детки! — успокаивал он нас. — Мне немного ногу поцарапало.
Он проболел с неделю. Каждый день подолгу беседовал с нами, рассказывал про свое детство, про жизнь до революции, про гражданскую войну в Среднегорье, про своего отца Ивана Григорьевича, который был начальником уездной милиции в 1919 году в городе Угорске.
Мы, затаив дыхание, слушали его рассказы.
— Почему мы так живем? — любил говорить он. — Потому что не все люди одинаково работают. А если будут работать все вместе, да добросовестно, без обмана, без лени, помогая друг другу, да выручая, как родные братья, то жизнь будет совсем другой, для всех счастливой и богатой!.. И будет та жизнь называться коммунизмом…
Особенно запало нам в головы событие, когда папка мальчишкой был мобилизован колчаковцами в обоз, из которого в одну из ночей убежал, уведя с мужиками почти всех лошадей.
— И не страшно тебе было, когда за вами погнались? — спросил Владимир. — Ведь могли догнать и убить?..
Папка улыбнулся.
— А тебе не страшно было стоять с топором у окна?.. И ждать бандита?
— Страшно…
— И мне было страшно. Но не мог же я служить белым, когда отец воевал против них.
— Мы тоже будем тебе помогать, — заверил я.
Осенью 1937 года отца перевели работать снова в Синарск. И наша семья переехала туда.
3
Жара. Темно-голубое небо словно сдавило землю со всех сторон. Ослепительный шар солнца висит на нем, точно прибитый. Ни ветерка.
В дорожной пыли, лежащей толстым слоем, купаются, раскрыв клювики, нахохлившиеся воробьи. Деревья, будто разомлев, не шелохнут ни веткой, ни листиком.
Мы сидим на горячущих каменных плитах террасы. Мы — это я — девятилетний белоголовый пухляк. Мой старший брат Владимир. И приятель брата — смуглолицый, чернявый Пашка Засыпкин.
Вовку знают в городе как отчаянного драчуна с хулиганами. Сам Мишка Мирон — главарь городских ребячьих шаек и главный авторитет среди них называет брата уважительно и ласково Вовочка, а чаще Адмирал.
Я, конечно, безмерно горжусь братом. Но никогда не прошу у него помощи в стычках. Мне стыдно просить его заступиться, хотя большинство мальчишек даже хвастаются своими покровителями и защитниками. Ребята нашего класса с восторгом рассказывали мне про Вовку, его бои и победы, не подозревая, кто он для меня. Был даже случай, когда один мальчишка пригрозил мне Вовкой Ушаковым, который за него «восстает». Однофамильцем считают…
Перед нами на песке играет пацан. Он рыжеволос, конопат и черен от загара. А может, от грязи. В одних трусах, не обращая внимания на нещадно палящее солнце, он поглощен строительством какой-то крепости. Ползает на коленках, сгребает песок. На вид ему лег семь, не больше.
Глядя на него, я тоже начинаю выкладывать на плите «ограду» из камешков. В поисках их спускаюсь по ступенькам, приближаюсь к мальчишке.
— Не бери здесь камни, мои, — недовольно бурчит пацан, повернув голову и меряя меня взглядом.
— Ты их купил, что ли? — возмущаюсь я и, набрав полные горсти, возвращаюсь назад.
— Чё ты его не стукнул? — говорит Пашка. — Дал бы пару раз, пусть не вякает.
— Зачем? — удивляюсь я.
— Ты что, боишься его? — вмешивается брат. — Я слышал — ты никогда не дерешься. Верно?..
Мне стыдно сознаться, я краснею.
— Не-ет, — мотаю головой.
— Ну если нет, так иди и надавай «подсаненку», — подзуживает Пашка.
— Зачем? Он ведь ко мне не лезет?
— Что, дрефишь?.. Не дрефь! Мы поможем, — не унимается Пашка. Видно, ему очень хочется поглядеть на драку.
— Я не дрефю. Из-за чего драться-то? — и, повернувшись к брату: — Ты ведь сам говорил — драться надо тогда, когда обижают слабого или защищаешь его.
— И сейчас это скажу. Но бояться драки не надо.
Я победно гляжу на Пашку. Тот замолкает.
Откровенно говоря, я по-настоящему ни разу не дрался и драка мне противна. С неприязнью смотрю на мальчишку, роющегося в пыли. Черт послал его на мою голову! А он продолжает строить крепость, точно не слышит нас.
Откуда-то из кустов выныривает Гришка Терентьев. Заметив мальчугана, направляется к нему. Гришка синеглаз, широкоплеч. Намного шире меня и ростом выше. Первый забияка в нашем классе. Для него с кем-нибудь подраться — пустяк! Драться он любит и умеет. Когда его ругают за это, он всегда говорит в свое оправдание: «А что, я ему уступать должен? Не уступал и не уступлю!..»
Меня он зовет пренебрежительно «книжка-малышка» и относится с насмешкой. Считает безвредной букашкой.
Лихо насвистывая «Легко на сердце», Гришка останавливается напротив. Из-за густой листвы деревьев нас не видит.
Мальчуган опасливо косится на него, но продолжает свое строительство.
Гришка, прищурив глаз, оглядывает его сооружение и вдруг, громко свистнув, идет по нему, как слон, тяжело топая. Рушит все на своем пути.
— Не надо! Не надо! — взвизгивает пацан. — Зачем сломал?
Он вскакивает и, плача, в отчаянии бросается на Гришку с кулаками.
Ну и ну! Вот так пацан! Крошка, а не боится!
— Ах ты, гнида чумазая! На кого руку поднял?
Гришка размахивает и громко шлепает мальчишку по лицу. Тот, не устояв, падает в песок. Гришка подскакивает к нему и, схватив крепко за уши, поднимает на ноги. Бьет по щекам ладошкой и приговаривает:
— Старших надо уважать! Старших надо уважать!
Мне больно за мальчишку. Я поворачиваюсь к Вовке. С ожиданием гляжу. Неужели не заступится? Ведь слабого бьют!..
Но Вовка сидит, не шелохнется, будто не видит и не слышит ничего. Щелкает семечки да сплевывает шелуху. Что это он? Я не узнаю его. А еще торопыга, защитник слабых…
— Вовка, — не выдерживаю я и укоризненно гляжу на брата. Он, повернувшись, смотрит на меня как-то странно, насмешливо. Небрежно говорит:
— Твой одноклассник. Я с карапетами не дерусь, — и отворачивается.
Вот так здорово? Но я же не умею!..
Словно подслушав мои мысли, добавляет:
— Выручи мальчишку, надо уметь постоять за слабого.
Я растерянно смотрю на него. Легко сказать «выручи». Но как это сделать?.. Гришка силен. А если и мне перепадет, как пацаненку?.. Вот будет позору. Да еще при родном брате. Уж лучше бы не было его. В крайнем случае всегда можно сослаться, что упал. А сейчас, если что — не сошлешься.
Я чувствую, как тело колотит непонятная зудящая дрожь. А кулаки сжимаются сами собой.
— Что, трусишь? — слышится словно издалека Вовкин голос. — Не трусь. Сперва только страшно.
Мальчишка визжит по-поросячьи, точно недорезанный. Гришка его повалил, оседлал, схватил за волосы и тычет лицом в землю, заставляя ее есть.
Гришка такой… Любит поиздеваться. Раз бил меня вичкой с полчаса, не меньше. И все со смешком, с прибауткой, будто шалил дружески. Знал бы кто, как мои пальцы распухли тогда. Точно вареные морковки были. А-а, была не была! Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Налететь внезапно и одним ударом свалить! И хлестать, не давая опомниться. Хоть лежачего не бьют, все равно бить. Он-то бьет пацаненка.
Я смело встаю, напружиненный, дрожащий. Даже голос пропал от волнения. Хочу резво сбежать вниз, но ноги едва слушаются. Шаркающей старческой походкой спускаюсь по ступенькам. И чем ниже, тем медленней. Зато сейчас ударю. Даже руку заношу, но вместо удара почему-то чужим, хриплым голосом говорю:
— Оставь его. Оставь…
Гришка, вжав голову парнишки в песок, удивленно поднимает свою.
— А-а, книжка-малышка, чё надо?
Еще не поздно. Как раз самый момент. Если вмазать в приподнятый подбородок — Грибан свалится на спину. И вряд ли поднимется. Но вместо удара снова несмело говорю:
— Не бей. Пусти его…
— Чё-чё, — презрительно кривится Гришка. — Тебе-то что надо? Тоже мне защитничек выискался. Иль сам захотел горяченьких по роже? Так я могу дать!
Он вскакивает с парня и с ходу обжигает мне лицо ударом ладони. Она у него тяжелая, широкая, жилистая. Не то что у меня, узкая… Голова идет кругом. Уши наполняются звоном. Злость охватывает. Откуда-то изнутри неожиданно появляется сила. Тело становится легким, послушным. Я бросаюсь вперед и изо всех сил бью Гришку по щеке. Не помня себя, в каком-то тумане колочу левой и правой по мелькающему лицу. Только шлепают и горят ладошки, как горит лицо от ответных ударов. Кто-то что-то кричит, не разберу, некогда. Прыжок вперед, прыжок назад. Машу руками, словно плыву быстро-быстро, наперегонки. Бью до тех пор, пока не чувствую, что молочу воздух.
— Перестаньте! — оглушает кто-то. Потом тянет меня назад. Осматриваюсь, приходя в себя. Какой-то незнакомый дядька — высокий, черный — трясет перед носом мохнатым кулаком, говорит:
— Ишь петухи! Сцепились! Вот дам по оплеухе — сразу перестанете.
Гришка, полуоткрыв рот, красный, взъерошенный, стоит в стороне, зырит округлыми, удивленными глазами и дышит, тяжело двигая грудью.
Дядька уходит, изредка оборачиваясь. Проверяет — не деремся ли снова.
— Ну что, отлупил меня? — говорю насмешливо, с издевкой. — Может, еще хочешь?
— И отлуплю еще! Скажи спасибо — дядька помешал! А то бы сморкался красными соплями! — грозит Гришка, но подойти боится.
— Запомни! — кричу я. — Если еще раз… я тебе набью рожу!..
Да?! А где малыш-то?!. Я оглядываюсь и не нахожу. Убежал…
Гришка в ответ нехорошо ругается, но с места не двигается. Видно, ошеломил его мой отпор, сделал осторожным. Потом потихоньку уходит.
— Катись! Катись! Проваливай!
Гришка то и дело оборачивается, боясь нападения с тыла.
Я иду к ступенькам. Навстречу с довольной улыбкой спускается Вовка. Вот ведь совсем забыл про него…
Я останавливаюсь, улыбаюсь. Радость, гордость переполняют меня. Вовка обнимает за талию.
— Молодец! Не обращай внимания на синяки и шишки. Пройдут!
— Хвалю за храбрость! — добавляет важно Павел Засыпкин.
— Что же ты не помог? — говорю ему с укором. — А ведь обещал, когда натравливал.
Пашка, согнав улыбку, хлопает глазами. Потом чистосердечно тянет:
— Да я хотел было, да Вовка не дал. Пусть, говорит, сам себя испытает, закаляет характер…
— Зато приятно ведь чувствовать себя человеком?!.
4
Я не знал, что этот день запомнится на всю жизнь.
В то утро я проснулся часов в восемь от нестерпимой жары — рядом спал Вовка, — а может, от негромкого голоса отца, склонившегося над нами.
— Мамка, посмотри, как спят в обнимку сыночки.
Открыв глаза, я увидел улыбающегося папку.
— Доброе утро, маленький сынок!..
— Доброе утро-о-о, — отзываюсь я, зевая и высвобождаясь от раскаленной руки брата, давившей мне шею.
Вот Вовка! Точно печка! Чем дольше спит, тем больше раскаляется. Удивительно, сегодня разоспался! А то всегда встает ранехонько вместе с мамой. И бежит к своим друзьям-приятелям. К своей команде! А она у него большая — двадцать с лишним человек! Недавно вступили в духовой оркестр и теперь с утра и до вечера пропадают в клубе…
Я выгибаюсь, потягиваюсь.
— Ой, какой ты большой стал! — гладит меня по груди и животу отец. — Ну-ка, смерим, наскоко ты за ночь вырос?
Он разводит пальцы и начинает с кончиков ног до самой макушки мерить меня вершками. И каждый раз, окончив измерение, говорит:
— Вот видишь, на целый вершок подрос. — Показывает пальцами его. Прикосновения папки приятны и щекотны. Я хохочу и взвизгиваю от удовольствия, да так громко, что мама, гремя на кухне кастрюлями, шумит на нас:
— Чё вас там взяло? Дайте остальным выспаться!
Папка прикладывает палец к губам. Тс-с! Но я вижу, что он смеется, и продолжаю повизгивать. Так мы играем каждое утро, когда он не спешит на работу. В другие утра я обычно просыпаюсь сам и, не успев открыть глаза, пою:
Утро красит нежным светом Стены древнего Кремля, Просыпается с рассветом Вся советская земля…Люблю воскресные утра! Не только потому, что не надо никуда спешить и можно подольше поваляться. А главное вся наша семья в сборе! И завтракать, и обедать, и ужинать мы будем все вместе. Вместе с папкой и мамой! Разве это не здорово?!.
А если еще за окном стоит сверкающее солнечное утро, как сегодня, то это еще здоровее!..
Я вскакиваю с кровати и бегу к окошку. Погода не подвела! Как по заказу! А ведь сегодня праздник! Открытие городского парка культуры и отдыха в нашем бору на берегу Каменки.
…Небо чистое, чистое. Голубое и бездонное, словно его вымыли, вычистили и покрасили с утра… Народищу соберется в парке!.. Весь город!..
Из кухни доносятся знакомые с раннего детства щелчки, треск, «выстрелы» — топится печь. Слышатся глухие чавкающие звуки, шлепки теста, шум передвигаемой посуды, скрежет ложки или ножа о сковородку. Мерное, однообразное постукивание сечки о дно корытца — рубят мясо. Изредка громыхнет передвигаемая печная заслонка или по ней ударят невзначай деревянной лопатой, ухватом или сковородником. А то раздастся очередь ударов чугунной клюкой о догорающие дрова — головёшки. Или скрежет ее о под печи при загребании «жара» — углей в угол — «загнето». То неожиданно обрушится шип или треск брошенного на раскаленную сковороду сала или масла.
— Владимир! Леонид! — слышится из кухни мамин голос. — Вставайте! Завтракать пора! Самовар скипел!
Быстро умывшись, пересмеиваясь, усаживаемся за стол. По воскресеньям у нас всегда пир. Один возле другого разлеглись великаны пироги. На тарелках — горы шанег и пирожков, прозрачно-желтых кралек, бронзовых лепешек. Свернутые жгутики сахаристых булочек. И наконец, упругие калачи-кольца мучнисто-рыжеватого запашистого хлеба. Сожмешь его руками, а он, словно пружина, разожмется, расправится, будто его и не давили. Умеет мама стряпать!..
Папка во всем белом — в рубашке без воротничка, в парусиновых брюках и штиблетах сидит в простенке у золотисто-медного самовара. Отец среднего роста, худощав, с узким клинообразным лицом, с густыми русыми волосами, зачесанными назад. Под ними — широкий прямой лоб, лохматые брови, под которыми серые «колючие» глаза.
Напротив него, по другую сторону стола — Валя, восемнадцатилетняя выпускница школы, точная копия отца. Только волосы золотисто-пшеничные, да губы свежие, яркие.
Папка в хорошем настроении, как это всегда бывает в выходные. Часто шутит с Валей, называя ее уменьшительно-ласково Котей.
Валя на это возмущается. Мы с Вовкой поддерживаем папку.
— Да хватит вам! Что вас взяло? — шумит на нас мама, отрываясь от блюдца. — Будто нет другого разговора.
Мамочка у меня красивая. Нет! Нет! В самом деле! У нее длинные вьющиеся волосы, прямой нос, большие серо-зеленые глаза.
Справа от меня — Владимир. «Самый красивый в семье», — говорит Валя. Он походит на маму и получил от нее все самое лучшее. Стройный, даже худощавый, он от этого кажется выше ростом, чем есть на самом деле. Подстриженный под полубокс, он свою челку всегда зачесывает набок, так что она образует дугообразный валик над лбом. Яркие, алые четкого рисунка губы.
— Они у тебя бантиком! — часто говорит Валя. — Отдай их мне! Ты же не девчонка! Зачем парню такие красивые губы?!.
И наконец, я, сидящий между папкой и братом. Круглолицый, узкоглазый, с короткой шеей пухлячок. К моему великому огорчению, ни на папку, ни на маму не похож.
— В дедушку Якова! — всегда говорит мама, когда речь заходит о моей внешности. — Такой же широконькой и невысоконькой…
После завтрака мы с Владимиром отправились на открытие парка. Хоть и жарко, но Вовка в широких суконных брюках, заправленных с напуском в собранные гармошкой хромовые сапоги. Так одеваются все парни нашего города. По моде!..
На улицах группы празднично одетых, улыбающихся людей. И все идут в сторону парка. Женщины, особенно девушки — словно цветы. В ярких, пестрых платьях, цветастых кофточках видны издалека. Мужчины и парни, как и мы, в белых рубашках и темных или серых брюках.
Еще издали я увидел белый, тесовый забор, отгородивший лес от улицы. Забор был высоким, добротным, из массивных островерхих досок.
Через голубые арочные ворота мы прошли в лес… Да-а, наш лес был неузнаваем! На полянах и лужайках под раскидистыми шумящими кронами сосен и берез выросли павильоны, беседки, спортплощадки, веранды. Пешеходные дорожки, посыпанные красноватым песком, протянулись между ними.
Мы с Вовкой решили обойти весь парк, заглянуть во все его потаенные уголки.
В ларьках и палатках торгуют всякой всячиной. Всюду люди. Кое-где раздаются песни: «По военной дороге», «Легко на сердце», «По долинам и по взгорьям», «Дан приказ ему — на запад», «Если завтра война» и другие. Слышатся переливы двухрядок, бренчанье гитар, треньканье балалаек.
К нам подходят Мишка Мирон и Пашка Засыпкин. Оба тоже в сапогах «джими», в широких отглаженных брюках с напуском.
— Здорово, Квакин! — смеется Вовка. (Недавно смотрели фильм «Тимур и его команда»).
— Здорово, Адмирал, — недовольно бурчит Мишка. — Только ты не Тимур. Торопишься больно прозвища давать. Гляди не обожгись…
Оставив Вовку с парнями, я иду в глубь леса. На мой взгляд, парк прекрасен. Наконец-то появился он, достойный нашего города, старейшего в Среднегорье. Основанный в 1701 году по указу Петра I Синарский казенный завод лил пушки и ядра для русской армии два столетия.
Окруженный сосновыми и березовыми лесами, прорезанный двумя родниковыми жилами горно-лесистых рек, город расположен на крутых берегах.
На одном из них — знаменитые «три пещеры». Во времена Пугачева атаман Чир прятал свою ватагу в этих пещерах и в соседнем лесном логу, который теперь в память о нем называется Чировым.
…Мы с Вовкой отправились домой, чтобы привести папку с мамой. Обещались прийти, а самих почему-то до сих пор нет.
Во дворе у крыльца встретился отец. Лицо бледное, встревоженное, губы сжаты. Строго, вопросительно взглянул на нас.
— Вы ничего не слышали?..
— Нет, а что?
— Война началась! Германия напала! Только что по радио выступал Молотов!
— Ну! Наконец-то! Теперь мы им дадим! — с восторгом проговорил я и радостно заулыбался, словно услышал счастливейшую новость. — Теперь узнаем, кто сильней, мы или они?..
Из сенок, точно слепая, вышла мама. Одетая в пестрое, нарядное крепдешиновое платье, она тыкалась из стороны в сторону, словно запиналась. Вытирая носовым платком покрасневшие, подпухшие от слез глаза, протяжно говорила:
— Ой, да за что? За что свалилось тако горё на нас!? Зачем они напали? Что плохого мы им сделали?..
Папка тронул ее за локоть.
— Мамочка, иди лучше умойся, да пойдем в парк, а то ведь и не увидим его открытия.
Она отняла платок от глаз, увидела нас.
— Ребята, ведь папку-то обязательно на войну заберут!..
Я продолжал улыбаться. «Ну и что? Вот уж странная мама. Так и должно быть. Было бы несчастьем, если он не попадет туда. Не успеет отличиться. Подумаешь, съездит на несколько месяцев, поколотит фашистов. Разобьет их и вернется героем!.. А то в нашем городе почему-то ни одного героя, ни орденоносца?! Обидно даже!..
— Идите, сынки, в парк, — предложил отец. — Мы вас сейчас догоним.
Весть о войне выстрелом разнеслась по городу. Преобразила людей. Веселых, радостных, приветливых превратила в серьезных, суровых, задумчивых, возмущенных. Царившая в парке и на улицах праздничность, беззаботность сменились тревогой. Исчезли с лиц улыбки. Люди, сбившись в группы, обсуждали последние известия и выступление наркома иностранных дел Молотова. Кто думал, что такой день превратится в горестный?..
Мальчишки стайками, точно воробьи, носились от группы к группе. Прислушивались к разговорам старших и на все лады громкими голосами, размахивая руками, повторяли новости.
Пронесся слух — в летнем театре состоится митинг. Все направились туда. Действительно, там полно было народу. На сцене — стол.
Сдержанный гул, сливавшийся с шумом бора, плыл над толпой.
— …Сейчас, в эти минуты, там, на рубежах, нашей Родины, идут жестокие бои, рвутся бомбы и снаряды, свистят пули и осколки, льется кровь, плачут и умирают дети!..
Дальше я не слышал оратора. Воображение унесло меня далеко. Я видел лавины танков с желтыми крестами, сплошной стеной от края и до края горизонта, двигающихся на нас. Тучи незнакомых самолетов, густые цепи пехоты. Зарева и дым пожаров…
После митинга большинство потянулось к выходу. И только мы продолжали шнырять по парку. Среди нас пронесся слух, будто немецкие диверсанты сегодня утром пытались взорвать железнодорожный мост через Каменку, но были пойманы. Я высказываю сомнение — уж больно далеко от нас Германия.
— Ну и что? Ну и что? — округляя глаза, доказывают мальчишки. — Знашь, как им важно сейчас взорвать все наши мосты? Знашь?!
Один за другим, один другого диковиннее несутся слухи. Наши войска перешли границу и наступают на Варшаву… 1000 тяжелых бомбовозов совершили налет на Берлин и не оставили от него камня на камне… Восстали рабочие Рурской области, узнав о нападении Гитлера на СССР. Только что совершено покушение на Гитлера. В машине, где он ехал, произошел взрыв бомбы, всех убило, а его… неизвестно. И каждый рассказчик уверяет, что это истинная правда, только что передали по радио…
Солнце, пройдя зенит, стало опускаться. Не знаю почему, видно уж так я устроен, но вторая половина дня мне всегда кажется грустной. Насколько утро приятно и радужно, настолько после полудня тоскливо и тягостно. Даже солнечные лучи утром розовые, веселые, а вечером коричневые, наводящие уныние. Хочется, чтобы всегда было солнечное, теплое, летнее утро. А потом уж сразу в положенное время наступала бы ночь, мрак. Или это, может, потому, что тяжело видеть человеку, как умирает что-то. Хотя бы день. Ведь умрет и больше никогда не вернется, не возродится таким, каким он был. Как и человек…
Из парка мы вернулись к вечеру.
Обедали молча, без шуток, без разговоров, словно пришли с похорон. Хотя действительно пришли с них — небывалых, грандиозных. Похоронили мир. Сегодня день раздвоился. И не только по солнцу. Утренняя половина была последними часами и днем мира, счастья, планов, желаний. Вечерняя — первыми часами войны, горя, несчастий…
А какие несчастья ждали нашу семью? Никто, разумеется, не знал. Только лишь представляли и предчувствовали. Конечно, папка с мамой и, может быть, Владимир с Валей. Но только не я…
Вечером пронесся слух. Из военкомата по домам командиров запаса разносят повестки. Началась мобилизация. Значит, и нам вот-вот принесут. Ведь отец — командир роты, старший лейтенант.
Следующим утром я проснулся от негромкого плача. Приподняв голову, увидел маму. Прикрыв глаза ладонью, она плетью опустила правую руку с зажатым между пальцами коричневым квадратиком бумаги.
— Сынок! Папку-то забирают, — сказала она, заметив, что я проснулся. — Повестку-то, оказывается, еще вчера принесли.
Этот день был первым по-настоящему тревожным, как и все последующие дни начала войны. На улицах и площадях угрюмо слушали люди раскатистый, будоражащий душу, торжественно-скорбный голос Левитана, несшийся из громкоговорителей.
«…После ожесточенных боев противник был отбит с большими потерями… На отдельных участках нашей границы, особенно на Юго-Западном направлении, — тут голос диктора приобрел особую радостно-волнующую торжественность, — наши войска отбили разбойничье нападение, вышвырнули гитлеровцев с нашей земли и, перейдя государственную границу, углубились на территорию противника на 10—15 километров!»
Ура-а! Наши наступают! — ликовал я. — Наконец-то началось! Пусть они на тех участках наступают, а мы на этих! Кто быстрей дойдет до столиц?.. Конечно, мы! До Берлина же меньше расстояние, чем до Москвы! Вот интересно, мы захватим Берлин, а они Москву. Что будет тогда? Кто победит?..
Такие мысли, вероятно, бродили не только в моей голове.
«А может, это провокация, а вовсе не война, как провокация япошек самураев в 38—39-м годах?» — бодро высказывались некоторые чудаки-оптимисты, но тут же конфузливо умолкали под укоризненными взглядами окружающих.
Папка пришел с работы в полдень. Забрав повестку, снова ушел на завод, где работал в парткоме.
Утро 24 июня я не забуду никогда. Мы с Владимиром встали рано, но папка с мамой уже были на ногах. Папка в начищенных до блеска хромовых сапогах, в темно-синих галифе, в белой нательной рубашке со вздернутыми до локтей рукавами брился перед настенным зеркалом.
Мама скорбно, по-старушечьи поджав губы, складывала в чемоданчик, лежавший на кровати, немудреные солдатские пожитки.
Завтракали спешно и молча. Так, как никогда прежде. Еще позавчера утром завтрак для нас был праздником, полным удовольствия и надежд. А сегодня, сейчас кусок хлеба не лез в рот. Приходилось его чуть ли не силой запихивать туда. Отхлебывая горячий чай мелкими глотками из блюдец, мы поглядывали на отца. Он пил из стакана, глядел прямо перед собой погруженный в свои думы…
Он первый решительно встал из-за стола, оправил гимнастерку и сломавшимся голосом сказал:
— Ну! Давайте прощаться!
От этих слов мама, словно подрубленная, откинулась вбок и, закрыв ладонями лицо, громко зарыдала.
— Не плачь, мамочка. Иди ко мне, — каким-то чужим голосом говорил отец.
Мама, мотая головой и размазывая по лицу слезы, поднялась со стула. Обняв ее и целуя в щеки, глаза, губы, он прерывисто говорил:
— Береги детей, себя… Жди меня…
Мы стояли вокруг, глядели на отца и моргали полными слез глазами. Потом он обнял Валю, поцеловал несколько раз, погладил по волосам: — Ну вот, Котинька. Никто теперь не назовет тебя так. Ведь я люблю тебя, а ты сердишься. Пока есть возможность, поступай в институт… Повернувшись к Владимиру, крепко прижал к себе, поцеловал в губы, заглянул в глаза:
— Ты старший сын. Если что… ты вместо меня. Заканчивай школу, а там видно будет… Только никуда не торопись.
Наконец, моя очередь:
— Маленький сынок! — Он обхватил мои щеки и, притиснув к себе, покрыл лицо садкими поцелуями. Я ощутил на щеке его слезы. И от этого тоже заревел. Как же так? Мой суровый, малоразговорчивый отец, у которого я ни разу в жизни не видел слез, сейчас плакал.
— Ты мое продолжение. Мое я. Не забывай никогда своего отца! — вздрагивал он, сильно-сильно тиская меня. Уже оторвавшись от меня и, вытирая носовым платком слезы, твердо сказал:
— Довольно реветь. Умойтесь. Чтоб на улице никто не видел слез. Только улыбки!..
Мы вышли из дому. Перегородив тротуар, бодро шагали вниз по Ленинской к военкомату. Впереди отец с матерью. Сзади на шаг мы: Валя, Владимир, я.
Папка, как и подобает командиру Красной Армии, в зеленой гимнастерке с белоснежной полоской свежего подворотничка, подтянутый, стройный, любо посмотреть!
Поглядывая на него, я невольно разбухал от гордости. Да! Именно такие, как он, раздавят фашистов, спасут Россию, родину!..
Прохожие на тротуарах, увидев нас, замедляли шаги. Некоторые останавливались, подолгу глядели вслед.
У белого здания военкомата толпа провожающих. Как же? Ведь командиры запаса самые первые из города уезжали в армию, а может, и сразу на фронт сражаться с фашистами.
Пройдя мимо расступившихся людей, вошли во двор. Тут было сравнительно свободно. Посредине группа уезжавших. Человек 20—30, не больше. Все в гимнастерках, в галифе, в поблескивающих сапогах.
— А вот и Петр Иванович! — чей-то возглас. — Иди к нам!..
Папка, подойдя к товарищам, поздоровался. Потом скрылся в дверях военкомата.
Около ворот, вдоль стен и заборов группами стояли семьи. Шумела толпа на улице. Во дворе было потише. Знакомые и незнакомые жены, матери, сестры негромко переговаривались, украдкой смахивая выкатившуюся слезу. Грустные, серьезные лица, точно на похоронах.
Посреди двора появились две зеленые, прямоугольные трехтонки.
Вышедший из здания сотрудник громко объявил:
— Товарищи командиры и члены семьи! Можете садиться в машины! Через несколько минут отправляемся!..
В кузов первыми сели женщины и дети. Потом залезли туда мы, мужчины. Места хватило на всех. Правда, было тесновато. Я присел в самом углу в стыке бортов. Пронзительно сигналя, трехтонки с ворчливым урчанием выбрались на улицу и, подпрыгивая на булыжниках, покатились вниз к Каменке.
Ветер зашумел в ушах. Порывом его с моей головы сорвало матросскую бескозырку. Она блином улетела за борт, упала ребром и колесом покатилась по мостовой. Кто-то из толпы, выбежав, поймал ее и замахал вслед. И, словно по команде, провожающие дружно замахали руками.
— Возвращайтесь с Победой! — донеслись крики. — Скорее! Ждем вас!..
На станции мы пробыли недолго. То ли не оказалось поезда, то ли по какой другой причине, но командиров запаса не увезли в этот день.
Не уехали они и на следующий, и 26-го. И каждое утро наша семья в полном составе дружно шагала в военкомат.
И вот настало 27 июня, когда, проснувшись часов в девять, я увидел, что нахожусь дома один. «Ушли и меня не взяли, — горестно размышлял я, сидя в кровати. — Но почему? А если я больше никогда не увижу своего папку?..»
Вскоре пришли старшие — мама, Валя, Владимир. Хмурые, печальные. На мои упреки мама устало ответила:
— Он запретил тебя будить. Поглядел, как сладко спишь, поцеловал и сказал: «Пусть спит, маленький сынок. И так эти дни вставал рано».
Так много раз провожая, я и не проводил своего отца…
5
В первые дни войны в нашем городе на воротах райисполкома наклеивались сводки Главного командования Красной Армии. Напечатанные на грубой коричнево-серой бумаге, они были заметны издалека. Около них всегда толпился народ. Тем более, что содержание их было тревожным и даже ошеломляющим. Затем вместо сводок появились сообщения Советского информбюро. Потом наклейки с ворот исчезли…
После отъезда отца горвоенкомат с утра и до вечера осаждали здоровенные парни со значками «ГТО» и «Ворошиловский стрелок» на груди, требуя зачисления их в армию и отправки на фронт… Что ж! Я их понимал. Каждому хотелось поколошматить фашистов. Будь я взрослым, я бы действовал так же!..
В эти же дни — конца июня, начала июля — начались массовые мобилизации в городе и районе. Пунктом сбора стала наша 6-я школа и прилегающая к ней пыльная, каменистая площадь. Гул, плач, выкрики, команды стояли здесь. Сотни крепких, здоровых мужчин выстраивались на площади в длинные колонны и под потрясающую мелодию марша «Прощанье славянки» отправлялись пешком на станцию. Толпы горожан и сельчан собирались у школы проводить в армию своих отцов и братьев. За все годы войны я не видел большего скопления людей, чем в те памятные дни.
Во главе колонны — духовой оркестр. За ним по 6—8 человек в шеренге мобилизованные. Колонна обычно растягивалась на километр-полтора. Голова ее, перейдя мост через Каменку, уже поднималась на Вороняцкую гору, а последние шеренги только еще трогались с места.
С узелками, сундучками, фанерными чемоданами, мешками в руках и за спиной устало шагали мужики, понурив головы. Почерневшие от многолетней работы на полях, с мозолистыми руками, вчерашние колхозники, комбайнеры, трактористы, кузнецы, рабочие сегодня становились солдатами и шли защищать Родину. Слитен и тяжел был их мерный шаг. Едким запахом пота несло от колонны. Серая пыль взвихривалась вверх.
По бокам колонны, по обочинам и тротуарам шли жены и матери призванных. Некоторые несли на руках грудных младенцев. Держась за длинные юбки и подолы платьев матерей, семенили дети постарше.
Мы — мальчуганы — шагали всегда вровень с головой колонны до самой станции. Рыдал оркестр, выводя «Прощанье», рыдал баритон Володи, четко и красиво ведя мелодию и выделяясь своим «голосом» из всех звуков. Рыдал альт неразлучного Павла Засыпкина, пришедшего в оркестр вслед за другом. Рыдали женщины, не стесняясь никого. То одна, то другая, обезумев от горя, падали в пыль дороги и катались в ней, крича и причитая, пока кто-нибудь не поднимал их.
А на станции мобилизованных уже ждали красные товарные вагоны. Паровоз, дважды пронзительно свистнув, тяжело с шипом трогал с места и, набирая плавно скорость, увозил новое пополнение Красной Армии подальше от дому…
По 3—5 колонн отправляли за день. Володя приходил домой поздно вечером. Усталый, осунувшийся, с распухшими, «выдавленными» мундштуком баритона губами…
В начале июля мы получили от отца первое письмо. С того дня до самого конца и даже после конца войны ждали их каждый день. Мама складывала письма в серую папку с надписью «Режим дошкольника» и хранила ее в ящике посудного шкафа.
Я часто, когда мне хотелось поговорить с отцом, доставал папку и читал письма по порядку.
3.07.41 г.
Здравствуйте, любимые мои мамочка, Валя, Вова и Ленечка! Сообщаю, что я благополучно прибыл в часть. Принял подразделение, с которым занимаюсь от раннего утра до позднего вечера, потому что этого требует известная вам обстановка.
Нахожусь в Угорске. Ну, а как вы живете? Самое главное, вы, ребятки, должны слушать мамочку и жить исключительно дружно, уважая друг друга. Сообщите, призваны или нет мои братья — Всеволод и Григорий?..
Ну не беспокойтесь, если придется драться с фашистскими бандитами, то постою грудью за наше социалистическое Отечество и за вас, моих любимых, чтоб жилось вам спокойно, радостно, счастливо.
Мой адрес: г. Угорск, главное почтовое отделение, п/я № 100/6.
Крепко, крепко целую, ваш папка П. Ушаков.14.07.41 г.
Здравствуйте, родные!
Мамочка пишет, что работает дополнительно еще 2 часа, а Валя ходит на субботник. Это хорошо и нужно, так как ваш дополнительный труд еще больше укрепит обороноспособность нашей Родины. Ну, в отношении себя — так все по-старому. Занимаемся очень усиленно. Живу и здравствую как командир Рабоче-Крестьянской Красной Армии, как и полагается. А сейчас, родные мои, поздравляйте меня с наступившим 40 годом 12 июля с/г. В этот день вечером я хотел позвонить вам, но было занято.
Ваш папка П. Ушаков. От Лени жду письма.31.07.41 г. 12 ч. ночи.
Привет вам, родные и любимые мои!
Только что приехал из длительной командировки. Благодарю за сообщение о Всеволоде, уехавшем на защиту нашего Отечества. Сходите к его семье, воодушевите и подбодрите их.
Что-то мало пишут мне сыночки. А очень хочется узнать, чем занимаются, что делают? Советую вам, ребятки, больше читать, писать, а то Ленечка написал очень плохо.
Ваш папка П. Ушаков.13.08.41 г.
Валентина и Владимир, здравствуйте! От мамы я слышал, что вы часто гуляете до глубокой ночи, считая себя уже взрослыми. Это плохо! Вы должны понять, что сейчас время исключительно серьезное, развлекаться некогда. Помните, там — на Западе — наши любимые бойцы: братья, сестры, отцы — складывают головы в борьбе с озверелым фашизмом за наше Отечество, за вашу счастливую многолетнюю жизнь. Помня это, вы должны прилагать все свои молодые силы на изучение военного дела, на полезный труд без напоминаний. Не обижайтесь на мои слова, а гордитесь своим отцом, что и он участвует в обеспечении вашей счастливой жизни. Живите дружно, подавайте пример своим хорошим поведением другим мальчикам и девочкам.
Ваш папка Ушаков.17.08.41 г.
Мои дорогие!
Ставлю вас в известность, что сегодня, 17 августа, в 6 ч. 40 минут я выбыл в Действующую армию.
Ну, милые мои, не беспокойтесь за мою судьбу, а гордитесь, что ваш папочка защищает свое родное Отечество. Живите скромно, работайте больше. Милые дети, готовьтесь сейчас в школу, восстанавливайте в памяти пройденный материал и учитесь только на отлично.
Вале нужно подумать о дальнейшей учебе в техникуме, институте или на курсах для получения специальности. О Всеволоде я ничего не знаю (куда он попал, на какой фронт?) и сильно беспокоюсь. Ну что ж! Будем надеяться, что после разгрома врага встретимся в счастливой и радостной обстановке вполне здоровыми.
Ну, милые мои, до свидания и прощайте.
Крепко целую, ваш П. Ушаков.20.08.41 г.
Здравствуйте, дорогие!
Чем дальше уезжаю от вас, тем делается все скучнее и скучнее. Проехали уже Уфу, стоим на полустанке. Скоро двинемся на Куйбышев. Каждую свободную минутку норовлю вам написать.
Обо мне не беспокойтесь и плохо не думайте. Там, куда еду (в той обстановке) я уже бывал. Было это в 24 году, когда служил на Иранской границе. Одна из банд прорвалась к нам из-за кордона. Мы за ней гонялись больше недели, и вышло так, что не мы, а они заперли нас в ущелье… Что делать? Погибать?.. Дождались темна. И вот группа добровольцев (в том числе и я с пулеметом) всю ночь карабкалась на отвесные скалы и утром внезапно ударила в спину бандитам. И те, не выдержав двойного удара, побежали… И были разгромлены. Так будет и с Гитлером.
Мы выкарабкаемся и разгромим его.
Целую. Ваш папка. Рад бы дать адрес, да нет его.26.08.41 г.
Привет вам, родные!
Пишу из далекой местности из Действующей армии. Жив, здоров. Интересно, как вы поживаете?.. Что потребуется от вас сделать для храбрых защитников Родины — не жалейте своих молодых сил. Я, находясь здесь, на фронте, буду гордиться вами. Будьте здоровы и не забывайте отца, еще больше поседевшего после одного случая, каких здесь много.
Мы здесь все бодрые, уверенные в Победе. Следите о наших действиях по газетам. Пишу из местечка Спас-Деменск очень быстро, так как некогда. Подробный адрес потом.
Ваш папка Ушаков.…Война все глубже и глубже вторгалась в жизнь нашего города, хотя и удаленного на 4,5 тысячи километров от западных границ.
Всюду — на пустырях, в скверах, на огородах — рыли щели-бомбоубежища на случай налета германской авиации. Неподалеку от детсада № 2 по улице Ленина на пустыре щель рыли работницы сада во главе с мамой — заведующей.
Бомбоубежища и щели оборудовались не только в городе, но и в окрестных деревнях. И никому тогда в голову не приходило, что не сможет фашистская авиация достать Среднегорье из-за малого радиуса действия. Хотя кто знал, на что способны фашисты?.. Ведь мы же летали еще в 37 году через Северный полюс в Америку…
А фашистскую авиацию, ее действия и самолетный парк изучало все население, способное читать и слушать. Во всех общественных зданиях, кинотеатрах, библиотеках, учреждениях на стенах появились типографские плакаты с силуэтами немецких самолетов под разными ракурсами. С видами: в плане, сбоку, спереди, сзади. С краткими тактико-техническими данными по скорости, бомбовооружению, дальности полета, экипажу.
Мы с Володей часами простаивали около них с задранными вверх головами, изучая истребители: «Ме-109, 110», бомбардировщики: «юнкерс-87, 88», «хейнкель-111», транспортные: «юнкерс-52», «дорнье», разведчики: «хеншель-126», «фокке-вульф-189» — раму — и другие самолеты врага. Много говорилось и писалось тогда о дерзких действиях вражеских парашютистов и десантников, которые забрасывались в тылы наших войск, как в обычной своей форме, так и в форме советских милиционеров, сотрудников НКВД, бойцов и командиров Красной Армии. Плакаты с видами фашистских парашютистов спереди, сбоку, с их экипировкой и вооружением также висели всюду на стенах и призывали советских людей учиться истреблять их.
Особенно внимательно рассматривали мы плакат «Действия истребительного батальона по уничтожению десанта противника», состоявший из нескольких картинок.
…Самолеты врага показались на горизонте. Их засекли наши наблюдатели — посты ВНОС. Машины набиты десантниками, сидящими на скамьях по бортам. Вот подлетают к лесу. К нему по тревоге спешно прибывает истребительный батальон… Над лесной поляной выбрасывается десант. Бойцы — истребители в гражданской одежде, с винтовками со штыками, с гранатами на поясе окружают лес, поляну… Десантники опускаются на парашютах; с земли их расстреливают истребители. Тех фашистов, которые живыми достигли земли, берут в плен. Они с автоматами на груди, в серых комбинезонах, в ботинках на толстой подошве, легких шлемах… Автомат! Фашистов всегда рисуют с ними, а наших — с винтовками, как в гражданскую войну.
И наконец громом разнеслась по городу весть — самую большую 4-этажную недавно построенную школу № 3, что на трубном заводе, отдали под госпиталь. Уже прибыли первые эшелоны на станцию!.. Может, и наши есть среди раненых?.. Люди шли в госпиталь…
От папки письма приходят пока что регулярно. И одно другого интереснее…
2 сентября 1941 г.
Привет вам, родные и любимые мои!
Пишу с далекого Запада, где деремся с ненавистным кровожадным фашизмом, который мыслил молниеносным ударом поработить нашу свободолюбивую Родину. Но помните, мои родные деточки, что для вас — молодого поколения — мы, ваши отцы, братья, никогда не позволим этого несчастного порабощения, ибо наше дело правое и мы победим.
Ну, а теперь сообщите мне, как вы живете, слушаетесь ли мамочку, выполняете ли ее указания? Еще раз напоминаю вам и требую: быть выдержанными, честными, слушаться старших и беспрекословно выполнять указания мамочки. А ты, мамочка, сообщи мне, как учатся и как помогают тебе дети.
Не брезгуйте, ребятки, никакой черновой работой. Успехов вам в новом учебном году.
Ну, маленько о себе. Жив, здоров. Нахожусь на Смоленском направлении. Следите по газетам и по радио за нашими успехами. Чувствуем себя бодро и уверенно. Совместно с нами и население прифронтовой полосы так же бодро и уверено в Победе. Пошлите хотя бы маленькую вашу фотокарточку.
Крепко целую, ваш П. Ушаков.Адрес: Полевая почта 196. Штаб дивизии. 4-й отдел.
С нетерпением жду ответа. Пишите, все и особенно маленький Леня.
3 сентября 1941 г.
Привет, дорогие мои Дашенька, Валенька, Вовочка и Ленечка! Вслед написанному письму от 2.09.41 г. пишу еще маленькое, так как переехал на другое место и в другое подразделение. Очень беспокоюсь о вас, так как продолжительное время не получаю ваших писем.
Мой адрес: П/почта 196, 141 батальон.
За нашими успехами следите по газетам и радио на Смоленском направлении. Пошлите конвертов.
15.09.41 г.
Здравствуйте, родные!
В «Правде» за позапрошлый день описаны боевые действия нашей части у гор. Е. Прошу прочитать и о своем отце. Моя рота и наш батальон первыми ворвались в город. Жив, здоров. Пишите чаще.
Ваш П. Ушаков.21.09.41 г.
Привет вам, родные и любимые мои!
Вот уже больше 1,5 месяцев не получаю от вас писем. Беспокоюсь очень. Кроме того, очень неудобно, когда твои товарищи регулярно получают письма, а я нет, как будто нет родных. Пишите чаще.
Я жив, здоров. Пишу кратко, так как некогда, тороплюсь. За нашими успехами следите по газетам «Правда» и «Известия», где описано о городе Е. за первую половину сентября с/г. 2 часа ночи. Дождь, пишу на пеньке. Адрес: Действующая армия, полевая почта 196, 141 батальон.
Крепко целую, любящий вас папка П. Ушаков.2 октября 1941 года отец послал последнее письмо домой. И было оно всего из четырех слов: тороплюсь, некогда, напишу потом.
Теперь я знаю — в этот день фашисты начали первое генеральное наступление на Москву. Город Е., о котором пишет отец, это город Ельня, где 6—12 сентября фашистам был нанесен контрудар и разгромлено 5 дивизий…
После последнего письма по истечении 2 месяцев решили написать в Москву. Оттуда пришел краткий, ничего не прояснивший ответ:
«…старший лейтенант Ушаков Петр Иванович в списках убитых, раненых и умерших от ран в госпиталях не числится…»
Так где же он?.. Выходит, либо погиб, но никто не видел его гибели и не подобрал труп. Либо находится в партизанах или еще где-нибудь, откуда невозможно сообщить. Разумеется, надеялись на последнее. Решили ждать, ждать и ждать…
Жить становилось все труднее и труднее. В магазинах через месяц-полтора с начала войны, как и предупреждал отец, исчезли все продукты и товары. На них ввели карточки. Полки стояли пустые и пыльные. Мне, как иждивенцу, давали 300 граммов хлеба. Магазины работали с перебоями. Около них всегда тянулись длинные очереди стариков и детей.
В обезлюдевшем было городе вдруг оказалось битком людей, как в переполненном автобусе. Гораздо больше, может раза в 2—3, чем до войны. Ежедневно на станцию прибывали эшелоны с эвакуированными, с заводским и прочим оборудованием. Коренное население, знавшее друг друга в лицо, растворилось в этом неиссякаемом людском потоке, как кусочек сахара в стакане горячего чая.
Только за осень к нам на кухню одну за другой вселили аж 3 семьи с Украины и Подмосковья. С наступлением ранних холодов возникла жгучая проблема с топливом. Ни угля, ни дров не было. Печки, печи, буржуйки топили торфом, а вернее сырой, едва тлевшей землей, выделявшей в большом количестве не тепло, а дым и угарный газ.
Но не голод и холод нам были страшны в то время, а страшны были бесконечные неудачи на фронте. Утром и вечером с жадностью и страхом и тайной надеждой на лучшее слушали сообщения Совинформбюро. Уже надоел хуже зубной боли наводящий страх и леденящий душу скорбный голос Левитана: «…после упорных, ожесточенных боев наши войска оставили город …нск». Потом о сдаче городов вообще сообщать перестали.
Как-то вечером, придя с работы и прослушав очередное сообщение о положении на фронтах, о переезде Советского правительства в Куйбышев, мама, тяжело вздохнув, спросила:
— Ну, ребята, как дальше-то жить будем?.. Если возьмут Москву, тогда немцы и к нам придут…
Мы с Володей молчали, ошарашенные неожиданным возможным исходом войны. Только, округлив глаза, испуганно глядели на нее.
— …меня тогда убьют, как коммуниста, а вас в рабов превратят…
— Ну, нет! — решительно заявил Володя, вскакивая со стула. — Уйдем в леса, будем партизанить и бить их, пока всех не перебьем! И ты с нами!
На другой день он сказал маме:
— Знаешь, не могу я в такое время учиться. Я пойду на завод, буду помогать папке…
Мама долго молчала, прежде чем ответить:
— Смотри, Володя. Я бы все же хотела, чтобы ты закончил 10-летку.
— Помнишь, папка наказывал: «В случае чего ты за меня…». А школу я окончу после войны. Даю слово…
И Владимир ушел на завод. А примерно через месяц поступила работать туда и мама.
— Тоже буду помогать папке, — сказала она, придя с работы в первый вечер. — Вот освою станок, буду делать снаряды…
Наступил декабрь. Странные передачи вело уже с неделю московское радио. Утром, днем и вечером — сплошные концерты легкой музыки. Редко-редко краткое сообщение о положении на фронтах — и опять легкая музыка. Наконец ранним утром числа 11—12-го мама закричала:
— Ребята! Победа! Наши наступают! Разбухали немца под Москвой! Слушайте! — И заплакала от радости.
«Провал немецкого плана окружения и взятия Москвы! — взволнованно-радостно рокотал Левитан. — …Войска Калининского, Западного, Юго-Западного фронтов мощными ударами прорвали оборону противника… освобождены города…»
— Ур-р-ра-а! — соскочили мы с кроватей и запрыгали босиком на холодном как лед полу. — Наконец-то мы победили! Теперь главное не давать им опомниться и гнать до самого Берлина!..
Зима 41-го года была многоснежной, суровой, с трескучими, жестокими, как бои, морозами до минус 40—45 градусов.
Мы радовались этому. Пусть фашисты, как тараканы, замерзнут в русских полях.
Однажды Володя пришел с работы веселый. Вытащив из кармана замасленной телогрейки вчетверо сложенную газету, блестя глазами, возбужденно сказал:
— Вот и мой вклад в Победу под Москвой!.. Читайте!..
И подал мне «Синарский рабочий». На второй странице я увидел очерк «Возмужание». Я с радостью и гордостью смотрел на брата. Любовался им — стройным, симпатичным, самым красивым в нашей семье.
…Как-то Владимир прибежал с работы сияющий. Потирая руки, выпалил:
— Сейчас были в военкомате на приписке. Оказывается, в Шантарске есть училище дальнебомбардировочной авиации. Учатся всего полгода по сокращенной программе. Вот бы туда попасть!.. Наверняка, на фронте летают к партизанам, да в глубокие тылы!..
— Тебе рано еще, полтора года надо ждать.
— А можно и не ждать! — загадочно улыбался Володя. — Можно!
Я думал, он шутит, да и, честно говоря, сам не прочь был удрать на фронт.
…В тот день он пришел с завода раньше обычного и с порога закричал:
— Все! Еду в училище! А осенью на фронт, помогать папке! А заодно его, может, найду!..
11 марта 1942 года мы его провожали.
Мама плакала. Володя, немного растерянный, обнимал ее, успокаивал. Шутил и одновременно говорил серьезно:
— Не плачь. Я тебе Гитлера в мешке привезу.
— Володя, — с укором сказала она, качая головой, — я не переживу, если убьют тебя. Хватит с нас папки!.. Ты-то куда торопишься? На смерть! Себя не жалеешь, так меня хоть пожалей!
— Ну и пусть. Уж как повезет. Лучше за нужное, доброе дело погибнуть, чем в постели от болезни или старости. Я должен быть на фронте!
А потом были его письма из училища и с фронта. Треугольнички…
6
БОРИС УШАКОВ
В дверь постучали, и в комнату вошел Павел Ильич. Я поднялся навстречу.
— А помните, Павел Ильич, о вас с дядей Владимиром в «Синарском рабочем» был очерк «Возмужание»?
— А как же! Эту газету повсюду вожу с собой.
Он присел к столу, открыл объемистый штурманский портфель, порылся в нем и, вытащив пожелтевшую газету, протянул:
— Вот она! Читай! А я соображу ужин…
«…Володю приняли в механический цех. Более месяца охочий к работе паренек учился у слесаря Соболева, приглядывался, запоминал все его движения у верстака. Потом Соболева призвали в армию. В цехе только он один умел делать настоящие клещи «бака». Начальник всполошился:
— «Плакали» наши клещи! Никто их не сделает. На таких, как Володька, надежды мало.
Володя тогда промолчал, скрыл обиду. Но в душе подумал: «За мальчика считают. Посмотрим!». Он оставался после работы и долго возился у верстака, что-то мастерил тайком. А через неделю пришел к начальнику цеха и гордо сказал:
— Клещи не будут «плакать»… Я научился их делать, — и он показал удивленному начальнику новые клещи — блестящие, гладко отшлифованные, как у Соболева.
Так Володя сдал экзамен на слесаря. Он сам научился делать также изящные люстры, острые ножи, красивые шарниры, молотки, грабли.
Есть у Володи одногодок, задушевный друг Паша Засыпкин. Их верстаки стоят рядом. Однажды Паша поленился, норму не выполнил. Володя вскипел:
— Твой отец тоже на фронте, а ты так ему помогаешь?!.
Они поссорились. И неизвестно — сколько бы ссора продолжалась. Но случилось так, что мастер дал им одинаковую работу — изготовлять саперные лопаты. Сменная норма — 50 штук. Володя и Паша молча взялись за дело. Вечером оказалось — Паша сделал 65 лопат, а Володя только 60.
— Вот здорово?! — воскликнул Володя. — Ну завтра я дам больше!..
Началось молчаливое соревнование. Темпы нарастали. Перевес был переменным. В канун 24-й годовщины Красной Армии оба сделали по 100 лопат, вдвое перевыполнив норму. Дружба была восстановлена.
Недавно комсомольцы завода избрали Володю своим вожаком, а начальник цеха назначил его бригадиром фронтовой молодежной бригады…»
…Мы с Павлом Ильичом сидели до глубокой ночи и не могли наговориться. (Благо, завтра был выходной). Уже перед сном Павел Ильич достал из своего объемистого портфеля толстую коричневую тетрадку.
— Здесь все, что я собрал о Володе, будучи на фронте. Часть — по его собственным рассказам, часть — мои наблюдения, часть — рассказы его боевых друзей, и в первую очередь Вадова, с которым он больше всего летал. Раз ты пишешь и печатаешься — дарю, тебе она нужнее. Но чур! условие. Издай хорошую книгу о дяде. Сам знаешь, он заслужил…
С утра я с волнением читал «Записки о моем погибшем друге…»
7
ВЛАДИМИР УШАКОВ
С Вадовым Виктором Викторовичем я познакомился случайно, в зачетном самостоятельном полете.
Было это осенью, тоскливым серым утром, когда на стоянке полка полным ходом шла предполетная подготовка. Уже были подвешены бомбы, а навигационное оборудование проверено под током, парашюты заряжены и разложены по рабочим местам в кабинах, когда около самолета в сопровождении командира и штурмана корабля появился незнакомый майор. Невысокого роста, кряжистый, с широкой, как лопата, и черной, как головешка, бородой. Из-под густых насупленных бровей небольшие темно-карие с синеватыми белками глаза смотрели почему-то настороженно и недоверчиво.
— Замкомандира полка! Замкомандира полка! — пронеслось по экипажу.
Мы спешно построились в шеренгу и, повернув головы в сторону майора, «ели» начальство глазами.
— Техсоставу продолжать готовить матчасть, летному и курсантам остаться! — приказал майор.
Вплотную подойдя к остаткам шеренги, окинув нас взглядом, неожиданно спросил:
— Кто курсант Ушаков?
— Я! — ответил я удивленно.
— Слышал, что вы отлично учитесь и отлично летаете. Так?..
Я молчал, не зная, что и сказать. Только хлопал глазами, да краснел.
— Так вот, я полечу с вами. Проверю, — после затянувшейся паузы добавил майор.
Ошарашенный, я забрался в кабину на свое рабочее место. И почему такая честь? Мало ли других курсантов-отличников?.. Откуда такая информация обо мне?.. И для чего?.. Главное, лишь бы погода не подвела, хотя и обещали высокую облачность. Ну, а если в ней придется лететь, тогда работать с левым РПК[9]. Он точно пеленгует… В общем, не тушеваться. Спокойствие и еще раз спокойствие! Работать так, будто лечу со своим командиром, а не с начальством…
Мы взлетели вторыми, точно выдержав 10-минутный временной интервал. Как всегда, я быстро настроил радиполукомпас на ШВРС[10], дал курс на ИПМ и принялся вести ориентировку.
К огорчению, вел не долго: белыми рваными тряпками замелькали обрывки облачности, закрывая город и мачту ШВРС, к которой мы шли. Если бы летел со своим командиром, нас бы, наверняка, завернули на посадку. А тут никаких команд. Топайте по маршруту, как запланировано.
Когда стрелка отбила проход ШВРС, доложил Вадову об этом и дал команду «разворот».
— Хорошо, — отозвался командир. — Докладывайте мне подробнее о своей работе. Идти, возможно, придется в облаках. Будьте бдительны. Я тоже буду вести счисление пути.
— Курс на первый этап 125 градусов. Снос минус 5. Высота по прибору 1800, скорость 300. Время прибытия на первый поворотный 11.31.
— Хорошо, вновь отозвался Вадов, вводя машину в крен. — Только курс надо было дать перед ИПМ до разворота, а не после, товарищ курсант.
— Слушаюсь! — ответил.
…Пока есть время — 7 минут контрольного этапа, решил рассчитать курс на 2-й и 3-й этапы. Как правило, ветер в облаках устойчив, поэтому не зряшную работу сделаю.
Когда окончил расчеты и записал их в БЖ (так зовем сокращенно бортовой журнал), посмотрел вниз. А вдруг да землю увижу?.. Но там… сплошная простокваша. Все белым-бело — никакого просвета. Что ж! Сядем на РПК и не слезем с него до тех пор, пока не приземлимся.
Покрутив ручки, снял ОРК — отсчет радиополукомпаса. Потом настроил его на боковую радиостанцию и тоже снял отсчет. Через минуту прокладывал пеленги, и когда закончил — удивился: место самолета получил слева от линии заданного пути в 15 километрах.
Поразительно?! И ветер вроде учел, и курс командир держит точно, в пределах 5 градусов, и только отошли от ИПМ, а такое уклонение!.. Неужели ошибся? Или РПК подвел?.. Все-таки идем-то в облаках…
Вторично запеленговал ШВРС и ПАР — приводную радиостанцию аэродрома истребителей соседнего города — и снова получил место самолета уже в 20 километрах.
Мешкать нечего. Скорей поправку в курс! Иначе на поворотный не выйдем! Два движения транспортиром — и поправка с карты снята.
— Товарищ командир, 12 вправо!
— Есть 12 вправо…
Ну вот и хорошо. Но надо проверить еще и еще, как идем. И так буду проверять весь полет, пока не придем с маршрута.
Вновь пеленгую радиостанции. В пересечении пеленгов получаю место и снова слева в 10 километрах. Что за черт?! Будто и не давал поправку. Почему уклоняемся?.. Неужели ветер-боковик такой сильный?.. А ведь давали на построении всего 50 километров в час. Срочно определить ветер, но сначала еще одно место!..
— Ну как идем, товарищ курсант? — голос Вадова в наушниках.
— Через минуту доложу подробно. Только что получил новое место. Делаю расчеты.
— Ну, ну, жду…
— 10 вправо, товарищ командир!
— Как, еще вправо? — удивился Вадов. — А не уклонимся в другую сторону?
— Не должны. Сильный боковик, 90 километров в час. Только что определил.
— Ну, ну, работай. Беру новый курс. А ты еще проконтролируй, как идем.
— Сделаю…
Срочно уточнить время прибытия на поворотный и рассчитать курс самолета, угол сноса и путевую скорость на второй этап…
Я работаю навигационной линейкой и транспортиром на карте, двигаю подвижным лимбом ветрочета. И снова заполняю графы бортжурнала. И снова работа с РПК. Снова место самолета слева в 12, а потом уже в 15 километрах от линии маршрута. Да что же это такое?! Глазам не верится! Что за сила такая тянет самолет влево?.. Ветер, выходит, не 90 километров, а еще больше! Сроду такого не встречал, сколько летаю!..
И опять работа на карте с мерительными инструментами.
— Товарищ командир! Еще поправка в курс 15 градусов вправо!
— Что? Что? — отзывается Вадов. — Почему такая большая?
— Потому что скоро поворотный. Иначе на него не выйдем, если не довернем.
— А ты не ошибаешься?.. И почему так много поправок?
— Так показывает РПК, товарищ командир. И я ему верю.
— А если РПК врет?.. Точность-то его невелика. Всего 10—15 километров!
— Этот не врет. Я с ним много работал.
— Смотри, Ушаков! Если уклонимся вправо, да попадем в запретную зону к истребителям — головы нам поотрывают. Сначала мне, а уж потом я тебе. Да и столкнуться можем, если впоремся к ним… Какая скорость ветра?
— 140 километров в час.
— Здорово?! А не ошибся в расчетах?..
— Никак нет, товарищ командир. Дважды проверил.
— Ну хорошо, беру новый курс. Когда поворотный?
— Через 5 минут. Уточненное время прибытия 11.34. Зато на втором этапе ветер будет попутным, помчимся ракетой.
И действительно, после прохода поворотного (контролировал его по предвычисленному ОРК на указателе радиополукомпаса) мы помчались галопом. Едва успел проложить два пеленга с нашей ШВРС (она стала боковой радиостанцией, так как маршрут был треугольным — с нее начинался, на ней и заканчивался), как уже были над вторым поворотным.
— Что-то уж очень быстро? — усомнился Вадов снова.
— Путевая большая была, товарищ командир. Я же вас предупреждал…
— Зато сейчас будет маленькая, поползем черепахой…
— Так точно, товарищ командир. Почти час — 58 минут пойдем до КПМ. Ветер дует почти в лоб. Но и снос будет большим — плюс 15 градусов!
— Хорошо, беру твой курс 250 градусов! Если и ошибаешься — домой-то все равно придем по стрелке РПК.
…Ползли мы чуть больше часа — ветер еще больше усилился. Поправку, правда, всего дал одну. На это Вадов весело заметил:
— На пользу пошла тебе критика, штурман. По сравнению с началом полета — на голову вырос.
…Из облачности выскочили только после прохода ШВРС и снижения до 400 метров. Точнее, когда прошли приводную и увидели посадочную полосу, усыпанную зеркальными оспинами луж. По стеклам кабин хлестал дождь, мешая наблюдению. Командир включил дворники, и они ритмично сбрасывали воду с окон.
На душе полегчало, когда коснулись колесами посадочной и, разбрызгивая воду по сторонам, помчались по полосе.
На стоянке не обнаружили первого, взлетевшего раньше нас самолета. Он все еще где-то был на маршруте. Вот только где и на маршруте ли? Вероятнее всего, за маршрутом, иначе бы мы не смогли обогнать его.
Вадов, съездив на СКП, проведя разбор полета, саркастически заметил:
— Сейчас появится. Едва вытянули его с помощью пеленгаторов из-под Пургана. Вот какой ветер!.. А замштурмана полка со своим командиром ушли в зону пилотажа в 12 километрах юго-западнее аэродрома. А через час, отрабатывая развороты, очутились в 150 километрах северо-восточнее. И сейчас их тоже оттуда вытягивают пеленгами.
Вадов продолжительно и, как мне показалось, изучающе смотрел на меня.
— В училище пошли добровольцем?
— Да.
— Возраст, конечно, добавили?
Я молчал, но чувствовал, что краснею.
— Отец где?.. На фронте?
— Пропал без вести под Смоленском в 41-м.
Вадов почему-то отвернулся. Я тогда не знал, что его семья погибла в начале войны от бомбежки под Смоленском, когда ехала домой из Белоруссии от родных.
— На фронт хотите? — глуховато спросил.
— Конечно.
— Вероятно, слышали — у нас формируется полк Панкратова. Можем поехать вместе.
— Буду только рад.
Не знаю, чем уж я ему понравился, но в следующее мгновение услышал удивительное.
— А как смотришь, если будешь летать иногда со мной?..
— Как прикажете.
— Значит, решено…
8
Бомбардировочный полк Панкратова был укомплектован в основном выпускниками училищ — мальчишками 18—20 лет. Встречались в нем и «старики»-госпитальники, имевшие не по одному десятку боевых вылетов, но было их мало.
Младший лейтенант Ушаков, с отличием окончивший училище, стал штурманом звена капитана Медведева…
…Странно: и почему без него кто-то уже подвесил бомбы? Он окинул их взглядом, потрогал за стабилизаторы. Осмотрел ушки бугелей и еще больше удивился. Вместо бомбозамков бомбы висели на… веревках, пропущенных через ушки.
И кому только такое в голову взбрело? Или это новый способ крепления?.. Где оружейники?.. Он вылез из люка с надеждой разыскать их, но кругом — ни души… И самолет не замаскирован, стоит почему-то в открытом поле?.. Уходить нельзя… Из ближнего леса бежит кто-то. Похоже, женщина. Машет платком. Ближе, ближе, оказалась — мать! Вот уж кого не ожидал!
Она бросилась к нему, толкнулась в грудь.
— Вставай! Когда домой-то придешь?
— Скоро. Вот только выполню этот полет.
Мать склонилась:
— Лучше бы не летал, он будет трудным.
Опять толкнула и грубо потребовала:
— Вставайте! Идемте скорее! На КП вызывают!
Владимир очнулся, открыл глаза. Кругом темно. И за оконцем тоже. До рассвета, видать, еще далеко. Кто-то со стоном, свистом и чмоканьем храпел в дальнем углу.
— Вставайте, быстрей! Немедленно на КП! — тормошила невидимая рука. Владимир, не глядя, привычно спрыгнул на пол. Оделся, захватил планшет и выбрался из землянки. Шагая по тропинке, зябко поеживался от налетавшего иногда холодного ветра, вспоминал нелепый сон. Над головой качалась темно-серая пелена, затянувшая небосвод. Порой она прорывалась, и тогда в фиолетовых бездонных прорехах вспыхивали мохнатые звезды.
«Видно, мама тоскует — раз звала. Надо сегодня же послать письмо после вылета. И Леньку заодним пробрать, чтоб писал чаще, чертенок. Совсем разбаловался! Раз в месяц пишет, ленивец!.. И что подняли среди ночи? Что-то, конечно, стряслось!..»
И хотя за время службы и особенно пребывания на фронте он привык ничему не удивляться, этот полночный вызов немного взбудоражил.
Проходя мимо стоянки, Ушаков видел, как у Ил-4 суетились люди, снимая чехлы с кабин. Слышались крики, разговор, гудение бензиновых печек, подогревавших теплым воздухом замерзшие двигатели.
«И когда только они спят?.. Всегда всех больше работают…» И на дороге, опоясывающей аэродром, царило оживление. Гудели полуторки и трехтонки, развозившие технический состав на стоянки. Мелькали «грозные» автостартеры, несшие сверху вал-сцепку, похожий на ствол орудия. Грозно урча, плавно двигались пузатые бензо- и маслозаправщики. Мелькнула белым крутом с красным крестом зеленая «санитарка».
На КП за столом под висячими фонарями над картой — Панкратов и штурман полка Слязин. Оба в комбинезонах, оба подслеповато щурятся, у обоих красные глаза. Слязин с карандашом и блокнотом, Панкратов с прижатой к уху телефонной трубкой.
— Ясно, товарищ первый! С юго-запада из района Ведерниково на северо-восток в направлении Приволжска?.. Ясно! Будет выполнено! Разведчик сейчас вылетает! Мой заместитель подполковник Останин. Не беспокойтесь, опытнейший летчик! Сделал десятки боевых вылетов! О результатах сразу же доложу. Есть! Через 10 минут поднимаю полк по боевой тревоге!..
Панкратов устало опустил трубку, вытер платком вспотевший лоб, хмуро поглядел на вошедших.
— Так-то вот, гусары-лихачи. Только что разговаривал с командующим. Обстановка на фронте резко обострилась. Противник ударами танковых таранов прорвал его в двух местах. Подойдите ближе, — провел карандашом по линии фронта. — Особенно опасен вот этот — южный прорыв… Видите, как близко до Приволжска? Рассчитан на деблокаду окруженной вражеской группировки.
Посмотрел на Медведева и Ушакова.
— Наша задача — помочь наземным войскам уничтожить танковый таран. А для этого будем летать днем и ночью в разных боевых порядках, разными группами, пока не выполним задание командования. По данным агентурной разведки, к южному участку прорыва движется большая танковая колонна. На розыск ее уже улетел Останин. Вам необходимо срочно провести доразведку, найти колонну и навести полк для удара. Вылет по готовности, по получении разведданных от Останина. Полк вылетает после вас. Детали выполнения задания и вопросы взаимодействия отработать со Слязиным и начальником связи… Да-а, штурман! Ушаков-то к полетам в облаках допущен?
Слязин вопросительно взглянул на Владимира.
— Допущен, товарищ полковник!
— Проверьте его ночью в сложных и, если будет получаться, дайте допуск. Этот гвардеец нам еще пригодится!..
…Когда Медведев с Ушаковым пришли на стоянку, моторы бомбардировщика были уже опробованы. Люк открыт, и в нем суетились оружейники, подвешивая бомбы.
Владимир, поспешив к ним, нырнул в люк. Эту ответственную работу он стремился всегда выполнить сам или хотя бы проконтролировать.
— Какие бомбы подвешиваете? — спросил он молоденького механика, повернувшегося к нему.
— РРАБы[11].
— Правильно, — Владимир улыбнулся, вспомнив свой сон. — А не на веревки?
— Что? Что?..
Шум подъехавшей машины и громкий гудок заставил Ушакова выскочить из люка. Придерживая планшет, кинулся к «эмке», у которой уже стоял командир.
— Вот здесь, в этом квадрате, 5 минут назад в 8.36 Останин видел колонну, — не вылезая из кабины, показал на карте подполковник Слязин. — Понял, штурман? Уточни курс и время прибытия. Ветер на высоте: направление 310, скорость 45. Вылет сейчас по зеленой ракете. Счастливо! Ждем донесений!..
Слязин захлопнул дверцу, «эмка» уркнула, рванулась с места. Ушаков едва успел забраться в кабину, как над КП взвилась ракета. Медведев запустил двигатели. Снял машину с тормозов и, увеличив газ, плавно тронулся с места. Недовольно фыркая, постреливая выхлопами газов, машина покатилась к старту…
Стояли холодные ноябрьские дни. Дули промозглые ветры. С густо замазанного серо-грязными увалами неба, местами высеивались плотные снежные заряды.
Линию фронта, как обычно при такой погоде, прошли за облаками.
Ушаков — на коленях в самом носу остекленной кабины — всматривался вниз. Он был похож на гончую, принюхивающуюся к следу убежавшего и притаившегося где-то неподалеку матерого зверя. Ведь с час тому назад Останин сообщил, что колонна шла по этой самой проселочной дороге.
Прошли над дорогой в ту и другую сторону: нет колонны. Обшарили все окрестные леса и балки в радиусе 40 километров. Пусто! Вот-вот подойдут самолеты полка, а он, доразведчик, не может навести их на цель.
Хоть плачь с досады или выпрыгивай с парашютом и ищи колонну, опрашивая местных жителей.
Владимир кусал губы и продолжал вглядываться в унылые, опустевшие поля и голые березовые перелески… Как назло, еще парашют гирей висит на груди, мешая вести наблюдение. Владимир отстегнул его, толкнул назад к сиденью.
— Ну что, штурман? Где танки? — раздался в наушниках шлемофона недовольный голос Медведева.
— Где-то здесь внизу, товарищ командир.
— Это и я знаю, что внизу. А вы мне покажите где…
— Искусно замаскировались, видно…
— Но где и чем? Леса-то пустые… Да и в этих колонках разве спрячешься? Думайте! Думайте лучше, штурман! Не можем же мы, не обнаружив их, вернуться домой! Головы нам поотрывают! — Медведев, тяжело вздохнув, ненадолго замолк. — И танков нет. И «худые», гляди, откуда-нибудь вывалятся…
Внизу по-прежнему тянулись перелески, чуть притрушенные снегом поля, на которых кое-где темнели зелено-бурые копны сена, желтели зароды соломы. Пестрая, грустная, затаившаяся виднелась сверху земля.
— Вам не кажется, штурман, вон на тех дальних полях прямо по курсу подозрительно много копен?.. Под нами и с боков гораздо меньше.
— А мы сейчас проверим! Стрельну-ка я по ним зажигательными…
Володя, поудобней усевшись у «Шкаса», выбрал копну посреди поля и, поймав ее в кольцо прицела, плавно и коротко нажал на спуск. Красно-желто-зеленая трасса уперлась в копешку. Та, проглотив пули, продолжала стоять.
Тогда Володя еще раз приладился к пулемету и снова пустил трассу. Из ската копны повалил густой черный дым, вдруг сменившийся белым, а затем на верхушке заплясало, запрыгало красными галстуками вырвавшееся изнутри пламя.
— Стать в круг! — скомандовал Владимир.
И когда Медведев «уперся» крылом в землю, заложив глубокий вираж, копна вдруг поехала в сторону, разваливаясь пополам, и обнажила что-то черное. Покачивая длинным орудийным дулом, точно слон вытянутым хоботом, из нее выполз продолговатый танк.
— Ага! Так вот вы где, сволочи! — обрадовался, словно мальчик, Медведев. — Ну-ка, Володя, угостите их ПТАБами![12]
Медведев вывернул самолет из виража, повел в сторону, готовясь к боевому заходу.
— «Чайки»! «Чайки-38»! Я — «Голубь-2»! В квадрате 33—40 коробки противника! Магнитный курс 23 градуса!
Медведев повторял свое сообщение до тех пор, пока не услышал в наушниках знакомый голос Панкратова.
— Молодец, «Голубь»! Идем к тебе грудой!
— Боевой! — скомандовал Владимир, когда Медведев, закончив разворот, направил бомбардировщик к полю с замаскированными танками.
Припав к прицелу, Володя взял целью центр поля с выползшим танком. Дважды довернул самолет. Открыл рукояткой люки, установил на электрощитке сброс бомб. И когда танк на угле прицеливания «залез» в перекрестие, быстро нажал боевую кнопку. Мгновенье — и Володя почувствовал, как машина, облегченно вздрогнув, подпрыгнула. Не спеша, закрыл люки — и сразу же исчез хыркающий, вибрирующий звук сопротивления воздуха, сотрясавшего бомбардировщик мелкой дрожью. Нетерпеливо заглянул вниз. Танк, поводя хоботом орудия, шевелился. «Сейчас! Сейчас!» — подумал Володя.
И вдруг поле покрылось яркими желто-багровыми вспышками, потом взбугрилось, взметнулось десятками черных грибообразных фонтанов, которые, слившись, затянули все непроглядной клубящейся завесой. Когда она немного рассеялась, Володя насчитал четыре костра-пожара, посредине которых жирно дымили недвижные танки. Остальные, один за другим раскидывая копны, вылезали из укрытий и ползли, держась подальше от костров. Поле ожило.
— Молодец, Володя! Разворошили логово! А вон и «Чайки» наши идут! Курсовой — 45!..
Справа на горизонте журавлиным клином показались самолеты полка. Увеличиваясь в размерах, они на предельной скорости мчались к расползающейся цели…
Минут через двадцать бомбардировщик Медведева, возвращавшийся домой, был уже около линии фронта. Облачность начала рассеиваться, уходить куда-то вверх и в стороны. Появились голубые «окна». Показалась бледно-желтая тыковка солнца. Присмотревшись, можно было заметить, как она пульсирует, окрашивая в палево-оранжевый цвет закраинки облаков своими холодными лучами.
Не успели остыть от пережитых волнений, когда скребанул по сердцу тревожный крик стрелков:
— Отбиваю атаку! Два «мессершмитта» сверху сзади!..
Медведев и Ушаков завертелись в своих кабинах. До облачности далеко, да и «мессеры» сверху не пустят, расстреляют. Впереди по курсу метнулась из-за облаков продолговатая тень.
— «Мессершмитт» спереди! Отбиваю атаку! — Володя приткнулся к пулемету. «Вот сволочи! Решили отрезать от линии фронта! В клещи зажать!.. Один выход — вниз!»
— Держись, ребята! — Медведев, непрестанно оглядываясь по сторонам, вспотел от напряжения. — На бреющем уйдем!
Володя ловил в прицел стремительно приближающийся истребитель и очередь за очередью направлял ему навстречу. Но немец попался отчаянный — не сворачивал с курса ни на градус и тоже поливал бомбардировщик огнем, оплетая его трассами, будто цветными шнурами.
«Вот тебе на! А везде пишут, что боятся они атаковать в лоб! И таранить!» — бледнел Володя, продолжая давить на спуск.
Сейчас ему казалось, что оба самолета связаны резиновыми канатами, которые, со страшной силой сокращаясь, притягивают их друг к другу. Было жутко глядеть на эту изукрашенную смерть, летящую прямо в голову. Он перестал различать уже свои и чужие трассы, перевившиеся в один толстый жгут. Злобно мигали пулеметно-пушечные огоньки «месса». Он рос на глазах, расширяясь и заслоняя небо.
В последний миг Володя выпустил очередь и прикрыл голову рукой, ожидая удара, но «мессер», сверкнув светло-зеленым брюхом, пронесся над самым бомбардировщиком. И непонятно было: то ли он «подпрыгнул», то ли успел снизиться Медведев…
Почувствовав, что куда-то проваливается, Володя открыл глаза. Повернувшись, он со страхом увидел под ногами дыру — открывшийся люк. Виднелась серая щетина перелесков и заснеженная близкая земля. Коснувшись лица, скрылись в люке коричневый бланк бортжурнала и зеленая полетная карта. За ними исчезли карандаш, резинка, навигационная линейка. Мощный, оглушающий рев двигателей вперемежку с хрипло-басовитым гулом набегающего потока воздуха заполнил кабину, ударил в уши. Запахло маслом, бензином, еще чем-то жженым.
Лежавший на краю люка парашют вдруг сдвинулся и нырнул в отверстие. Обтекавшая самолет стремительная струя, создав в люке пониженное давление — воронку, словно могучий насос, высасывала из кабины все, что плохо было закреплено. С головы сорвало незастегнутый шлемофон, подшлемник, с ног поползли меховые унты. Мелькнув желтым взъерошенным подшерстком собачатины, пропали под самолетом.
Володя, не успев за что-нибудь уцепиться, сам очутился по пояс в люке. Будто невидимый силач тянул его неудержимо из самолета. В последнюю секунду он инстинктивно развел локти и точно приварился к закраинам люка. Набегавшая сзади жгучая струя вмиг прижала его ноги к обшивке, сорвала с них унтята, шерстяные носки и впилась тысячами жал.
«Только бы удержаться! Только бы не вывалиться!»
Володя, приподняв искаженное напряжением лицо, вкладывал всю силу в растопыренные руки. Он даже попытался приподняться на локтях и залезть в кабину. Но тут же понял, что впустую тратит силы.
«Только бы добраться до аэродрома! Скорее сесть! Но до посадки… час или два?! Нет, не выдержать! Конец! Конец! Конец!» — стучало в висках.
Володя заметил на левом запястье кировские наручные часы, похожие на маленький будильник. 12.23… Значит, недавно прошли линию фронта. В 13.01 будем дома… Он хорошо помнил эту цифру, потому что сам ее рассчитывал и сообщил командиру.
«А командир, наверное, думает — меня убили, не отзываюсь…» И действительно, Медведев считал штурмана погибшим. Уйдя от истребителей, он несколько раз вызывал его по переговорному устройству, но так и не услышал ответа.
…Лицо Володи стал заливать липкий холодный пот. Сползая едкими солеными каплями, он жгуче бороздил щеки, разъедал разбухшие губы, щипал шею. И не было ни малейшей возможности смахнуть его…
Через какое-то время Володя почувствовал, что вроде бы застабилизировался: тело его привыкло к новому положению, и немного стерлась, а затем и прошла острота первоначального страха.
«Но почему все-таки открылся люк? Может, плохо закрыл его? Так нет, захлопнул как следует и ручку повернул. Неужели от резкого снижения?
Володе и в голову не приходило, что разрушил запор люка и открыл его снаряд, выпущенный «мессером».
«И надо же было парашют снять?! Жив останусь — вытребую летчицкий! ПЛ![13] Пусть сзади болтается…»
Ноги жгло, точно пламенем, потом перестало. «Как бы не отморозить», — забеспокоился Владимир. Он попытался свести их вместе — получилось — и стал тереть одну ступню о другую. Потом немного втянул их в трепещущие штанины комбинезона. Но вскоре он перестал чувствовать ноги, потом руки, а затем вообще все тело. С удивлением и даже некоторым страхом глядел он на локти, которые сейчас ему казались перекладинами-распорками…
От холода, страха и вибрации дробно постукивали зубы. Потом началось самое страшное — стало исчезать сознание. Голова свешивалась на грудь. В любой момент он мог провалиться в бездну. Он потерял счет времени. Изредка его губы все же шевелились. «Держаться! Держаться!» — командовал он себе…
Он не помнил, когда и как самолет приземлился, зарулил на стоянку и как к нему отовсюду стали сбегаться однополчане. Как вытащили его из люка, закоченевшего, едва живого, с разведенными локтями.
— Володя! Владимир! Вы живы? — кричал ему в уши. Медведев и растирал его щеки ладонями. — Вы слышите меня, Володя? Вы сбили того нахального «месса», слышите?.. — и растирал, растирал руки штурмана шерстяными перчатками.
А стрелок-радист Коля Петренко суетился возле его ног с фланелевой портянкой.
— Да отпустите руки-то! Вытяните по швам!
— Не могу-у, — шептал Володя.
— Что не можете? — наклонился Медведев. — Сейчас мы их расправим.
И он стал выпрямлять руки Володе.
— Да что это они?! На самом деле задубели? Врача! Скорей врача!
Только на вторые или третьи сутки — Володя точно не помнил — руки постепенно опустились, расправились и приняли нормальное положение. Но еще долго после того, в минуты гнева, страха или волнения, они, словно по команде, вскидывались вверх и замирали, точно законтривались невидимыми болтами.
9
Полк отличался от других частей авиации дальнего действия тем, что в его составе были самолеты разного типа и назначения. Руководящему составу полка, начиная от командира звена (штурмана) и выше, приходилось летать на всех типах с различными экипажами.
И вот однажды экипаж Медведева полетел к партизанам на выброску груза…
Ночь. В кабинах темень, густая и липкая, как грязь. Внизу — ни огонька. Облачность серыми сугробами плотно укутала землю. Вверху — бездонная пропасть с разноцветными точками звезд.
Однообразно, клоня ко сну, гудят моторы. Но не до сна.
Владимир Ушаков, включив фонарик, склонился над картой. Гоняет движок навигационной линейки, шевелит пухлыми губами, высчитывает.
Сорвался с места. Ткнулся в дверь пилотской кабины. В проходе запнулся за сидящего на корточках у электрощитка борттехника Тулкова. Мешком перевалился через него. Тот заругался громко.
— Не ори! Не видел я тебя. Не нарочно ведь.
Протиснулся к пилотам.
— Товарищ командир! Через час пройдем линию фронта, а через два будем дома.
— Хорошо-о, — довольно проокал командир. — Будьте внимательны. Как бы не заблудиться. Идем, как у тигра в желудке…
— Я в общей кабине. Попытаюсь определиться. Будет разрыв облачности — дайте сирену.
— Хорошо-о, идите. — Командир снял руки со штурвала, повернулся назад: — Коля, связь скоро будет?..
— Не знаю. Станция разбита, в глубоком нокауте, пытаюсь исправить, нужен свет…
Странный все же человек Медведев. Всем всегда говорит «вы», а радисту Петренко только «ты». Почему?.. Никто не знает.
— Тулков?! Когда свет будет?
— Не будет света, командир! На куски разнесло щиток, проводку порвало.
…Невыносимо холодно. В пробоины от осколков с шумом и свистом, словно струи ледяной воды, в кабину врываются воздушные потоки. Слабо светятся шкалы и стрелки приборов. От этого кажется еще холодней. Нервное напряжение, владевшее каждым при прорыве к цели, нашло выход в разговорах, смехе, шутках…
За спинами пилотов опять появился штурман.
— Вова? А ты сегодня не звал маму на боевом? — сверкая золотом зубов, повернулся к нему второй пилот Александр Родионов.
— А когда я звал? — прыгая на месте и хлопая себя по бедрам, ответил штурман.
— А когда станцию бомбили и ты еще болтался в кабине.
— Не было этого.
— Как это, не было! Ты не крути! Я слышал, как у тебя голос дрожал, да и команды давал путаные. То ли боевой! То ли ой-ой-ой! — Александр рассмеялся. — Так ведь, командир?!.
Родионов и Тулков были старше Ушакова года на три, да и выше ростом. Поэтому считали своим правом, если не долгом, подтрунивать над ним.
— Так ведь, командир? — повторил Родионов.
— Что-то не помню.
— Ничего, Вова! Не унывай! — хлопнул по спине Ушакова Дмитрий Тулков. — Мы тебя вылечим! Вот прибздюхаем домой, возьмем к бабцам — сразу все страхи пройдут! И маму забудешь! — захохотали заразительно: — Так, Саня?..
— А что, идея! Пойдешь с нами, Вова! С девочкой познакомим — закачаешься!
— Да ну вас! Ухожу!..
Александр с Дмитрием громко засмеялись.
— Держите штурвал, проверю, работает ли автопилот, — недовольно сказал Медведев.
— Иван Семенович, ну что он за человек? — не унимался Митя. — Не курит, не пьет, по девкам не ходит. Для чего живет? Сам не знает…
— А вы знаете, что он деньги копит?! — перебивая Митю, презрительно сказал Александр. — И где?! На фронте!..
— Зачем клевещете на него? — вступился за штурмана Петренко. — У него дома сестра-студентка, брат-школьник…
— Хватит спорить! — прикрикнул командир. — Я тоже деньги посылаю детям. А насчет пьянки!.. предупреждаю!..
— Что вы?! Что вы?! Иван Семенович! Даю слово — пить мы больше не будем! — с неожиданной готовностью заверил Тулков.
Командир вылез из кресла, шагнул в проход, выпрямился. Хмыкнул недовольно:
— Гуси!.. Пошел к штурману, самолет погляжу…
Борттехник и пилот молчали. Тяжело ступая, командир вышел в общую кабину. Когда за ним захлопнулась дверь, Родионов с издевкой сказал:
— Тоже мне, еще один идеал нашелся?!. Уральский медведь… Выкало!..
— Не расстраивайся, Саня, — беспечно заметил Тулков, — давай как-нибудь сводим его к бабцам. Сразу выкать перестанет!..
— «Детям посылаю»… Выкало!
Коля Петренко, все еще при свете фонарика копавшийся в разбитой рации, вскинулся:
— Как вам не стыдно так говорить о командире?! Это же подло! Низко! Вы же его совсем не знаете! Только прибыли! А я с ним летаю с начала войны!..
— Ну ты, боксер! Захлопни заслонку! Чего разорался? — закричал Тулков.
— Да знаете ли вы, что дети не его, а ленинградские, спасенные?!. Он их усыновил!.. А его дети воюют тоже!.. И меня он взял из детдома!..
Александр с Дмитрием молчали.
— Попались бы на ринге, научил бы я вас порядочности!..
…А за окном по-прежнему темень. Заунывно воют струи, выскакивая из всех щелей и пробоин. В расплывчатом круге света фонарика белой мошкарой вьются снежинки…
Когда командир вернулся в пилотскую, Тулков встревоженно сообщил:
— Командир, с горючкой что-то не того!..
— Что не того? Говорите яснее.
— Уж больно быстро расходуется. Переключил на другой бак.
— Может, течь где? Не проверяли?..
Иван Семенович внимательно ощупывал взглядом приборы.
— Командир! Давление бензина в правом упало! — скороговоркой выпалил Родионов.
Иван Семенович наклонился к приборной доске второго пилота. Размышлял секунду.
— Выключить правый двигатель!
Борттехник бросился выполнять команду. Защелкал переключателями, задвигал рукоятками. Смолкло гудение правого мотора, надсадно завыл левый, приняв на себя двойную нагрузку.
— Вот так-то лучше будет, — откинулся на спинку кресла командир. — Как-нибудь дотянем на одном.
— Видно, бензопровод где-то пробило, — поглядел на Дмитрия Александр.
— А может, бак?
— Может, и бак, лишь бы не загорелся мотор.
— Позовите штурмана, — сказал командир борттехнику и, когда Ушаков явился, спросил:
— Сколько еще до линии фронта?
— Минут 20, не больше…
— Долго. Вот что — надеть всем парашюты, но без паники…
Парашюты лежали в общей кабине. Это были парашюты летчиков-наблюдателей, с которыми обычно летали экипажи самолетов, где кресла пилотов не имели чаши для размещения парашюта летчика. Висящие на груди, парашюты наблюдателей мешали пилотам управлять самолетом, поэтому пристегивались к подвесной системе перед прыжком…
Штурман, водя лучом фонарика, осветил горку парашютов.
— Держи! Кто там? — протянул парашют в темноту. — Держи следующий!..
Со звоном заклацали карабины подвесных систем.
— Мой парашют никто не одел?! — властно спросил Родионов, появляясь из темноты.
— Можешь не беспокоиться. Держи! — протянул парашют Володя.
Александр одним движением сверху вниз прицепил парашют. Подергал его, крепко ли сидит, ощупал руками.
— Послушай, ты какой парашют мне подсунул?
— Как какой? Обычный…
— А не рваный? — в руках Родионова вспыхнул фонарик. В парашюте виднелись пробоины. Из них белыми макаронинами торчали разрубленные стропы.
— Ты?! Мамин сын! Почему мне свой негодный подсунул? — взорвался Александр. — Вот бирка! «Ушаков» написано!
Он освещал маленькую фанерку, прикрепленную сбоку на чехле парашюта.
— И вправду Ушаков, — удивился Владимир. — Прости, Саня. В темноте спутал нечаянно.
— Я дам нечаянно! Убить меня захотел?
— Что ты?! Что ты?! Опомнись! — отшатнулся Володя.
— И у меня негодный! — послышался от двери возмущенный голос Тулкова.
Включив фонарик, он водил лучом по парашюту. Лямки металлических пряжек, с помощью которых пристегивался парашют к подвесной системе, были надрезаны, словно ножом.
— Видно, осколками задело.
— И у меня негодный! — в полосе света появился Коля Петренко.
Лучи фонариков уперлись в него, забегали по парашюту.
— Тоже иссечен осколками, — вздохнул Володя. — Посмотрим парашют Александра.
Скользнул лучом вниз. Поднял парашют, осветили.
— Целый, Саня! Целый! — обрадовались.
Родионов снял парашют, кинул Ушакову.
— Бери свой, а мне подай мой!
Володя протянул парашют.
— А какой у командира? — придвинулся Коля, освещая фонариком последний парашют.
Володя поднял его.
— И этот цел-целехонек! Повезло командиру!..
— Не то что нам — кунарикам, — хмуро добавил Митя. — Что будем делать? Если придется прыгать?..
Все замолкли. Только сейчас в какой-то мере дошла до сознания каждого опасность положения.
— Может, кинем жребий? — предложил Митя. — Кому повезет, тот и выпрыгнет, спасется…
— А зачем его метать? — возразил Александр. — У меня парашют целый, мне и так повезло! Почему я должен от своего парашюта отказываться и кому-то его отдавать? Ты бы мне отдал, если бы у тебя был целый?..
Митька на секунду смешался, потом с вызовом ответил:
— А может, и отдал!
— Ну уж дудки! Каждый хочет жить и свою шкуру спасти.
— Почему ты так считаешь? — возмутился Володя. — Да, мы тоже жить хотим, но не за счет тебя.
— А за счет кого же? Да будь на моем месте вы — вели бы себя так же, как и я! Пока что своя рубашка ближе к телу, и этого еще никто не опроверг. Вам не повезло, так сразу начали рассуждать о высоких материях. Кстати, на нем все равно втроем не спуститесь. Пока не поздно, лучше связывайте лямки тросами. Подумаешь, в куполе дырок понаделало. Да несколько строп перерезало. Жить захотите, так и на этих прыгнете.
Передние замерзшие окна правого борта зарозовели дрожащим светом. Басовито завыла над головами сирена. Медведев звал к себе. Все бросились в пилотскую кабину…
Володя стоял в проходе за чьей-то спиной, слышал обрывки слов командира:
— Правый… невозможно… к прыжку!
— Есть приготовиться к прыжку!
— Командир! Нельзя прыгать! — закричали одновременно Митя, Коля и Володя.
— Почему нельзя? В чем дело?
— Парашютов нет! Три распороло осколками — два осталось на всех! — перебивая друг друга, торопливо отвечали борттехник и радист.
— Фу, черт! Одно за другим!..
«Гибнем! Гибнем! — стучало в голове Александра. — Спасаться, пока не поздно. Я что, хуже их?.. Внешностью и талантами бог не обидел. Наверняка, всемирно известным поэтом буду. Сколько пользы принесу! Не сравнить же с Митькой-деревенщиной. Весь интеллект в горлышке бутылки!.. Или с Петренко?.. Все равно Королевым не станет. Или с Ушаковым — ребенком! Брат и сестра есть, а у меня никого. Не справедливо же оставлять родителей одинокими?!. Ну нет, все равно выкарабкаюсь. Имею моральное право. Мой же парашют цел, а не их!.. Каждую секунду могут взорваться бензобаки! Скорей!..»
Он двинул к выходу.
— Ты куда? Стой! — выстрелом прозвучала команда.
Кто-то схватил его за руку.
— Не могу стоять, что-то тошнит, — хватаясь за живот, процедил Александр.
— А-а, к ведру захотелось! А там рядом дверь и парашют на тебе! — презрительно кричал Коля. — Нет, стой здесь! Держите его крепче!..
— Всем стоять! — загремел Медведев. — Без команды не прыгать!
«Вот и смерть наша пришла, — подумал Митя. — Вся надежда на командира… Эх, жаль, мало погулял, девок поцеловал, даже не женился. Хотя… сирот не оставлю. И родителей нет — убиваться некому. А Сашка — сволочь, хоть и интеллего. Подумаешь, балбесничал в художественном и музыкальном училищах, так из обоих же вышибли! А строит из себя гения… Ни за что не выпущу. Если что — так вместе».
Облачность внезапно кончилась, словно кто ее обрубил топором. Внизу показалась земля. Темная, пятнистая.
Володя, вглядываясь в нее, отыскивал для посадки площадку. «Жаль маму, Валю, Леню… Да и себя тоже. Да и ничего же не сделал, а так хотелось… И папку не разыскал…»
Желто-синее пламя горящего мотора слепило глаза, мешало наблюдению. Когда Медведев услышал неприятное известие о парашютах — решение принял мгновенно. «Если погибну невелика утрата. Они же мне сыновья. Вдвое моложе. Еще не жили, не любили. А им побеждать, Родину защищать, жизнь строить…»
— Вот что! — сказал Медведев. — Прицепите по карабину к парашютам и прыгайте по двое.
— А вы?..
— Попытаюсь посадить самолет.
— Митя! Скорей! — умоляюще твердил Александр, перецепляя парашют. — Да скорей же! Скорей!..
— Не трясись, стихоплет! Хотел друзей бросить!.. Наверно, линию фронта еще не перелетели…
— Привязывайтесь к нам, Иван Семенович! Выпрыгнем вместе! — предложил Володя.
— Нет! Троих он не выдержит. Да прыгайте скорей! Черт бы вас побрал!
— Отец! Я останусь! Ты прыгай! Я же умею пилотировать!..
— Ты что? Обалдел! Марш из самолета!
— Отец! Прошу! Я не выпрыгну без тебя! Что я скажу матери?!
— Марш из самолета! — с яростью закричал Иван Семенович. — Приказываю — прыгать! Ждете, чтобы я вас выкинул? Прыгайте! Прыгайте! Высота падает!..
— Прощай, отец! — Коля ткнулся лицом в щеку командира.
— Пошел вон! Не хорони раньше времени!
— Прощайте, Иван Семенович! — прошептал Владимир…
Полуобнявшись, грудь в грудь, радист со штурманом шли к двери. Что-то мокрое, теплое почувствовал Владимир на щеке, прижавшись к Коле.
— Не забудьте моих! — долетели слова.
Ухватившись правой рукой за кольцо парашюта, а левой за подвесную систему Петренко, Владимир, как ныряльщик, бросился головой вниз в темноту, холод, увлекая за собой Колю.
Что-то упругое подхватило, закрутило, понесло. Засвистело в ушах.
С силой рванул кольцо Владимир. Вихрь куда-то исчез. Оборвался рокот двигателя… Удар! И сразу тишина, тишина…
Владимир открыл глаза, посмотрел вверх. Там покачивался, закрыв почти все небо, темный купол парашюта.
— Вон он! Вон! — оглушительно кричал прямо в ухо Коля, указывая рукой куда-то вверх и в сторону. — Тянет! Тянет!..
Владимир увидел вдали багровый пульсирующий шар, медленно плывший к горизонту среди звезд, как огромная комета.
— Может, успеет посадить?! Должен посадить! Он же первоклассный летчик! — захлебывался в крике Коля.
Неожиданно шар раздулся, ослепительно вспыхнул, осветил небо и землю, разогнал мрак ночи. Потом сжался и разлетелся на разноцветные осколки, которые падающими звездами исчезали за горизонтом. Но долго еще в той стороне светилось небо…
Я, Павел Засыпкин, пытаясь догнать друга, тоже закончил Шантарское авиаучилище по ускоренной программе, только годом позже Владимира. Ох и злился же я на него, когда неожиданно узнал, что он тайком от меня (да и от всех) ушел в армию. Сожалел и горевал, что даже проводить его не сумел. А то бы, наверняка, поехали вместе… Не получилось. И все из-за моей поездки в то время, в середине марта 42-го, к раненому отцу в госпиталь в Куйбышев.
Когда осенью 43-го я прибыл к Владимиру в полк, тот был уже асом. Легенды ходили про его полеты. И одна другой удивительней. Слава его гремела по всей АДД[14] особенно после полета в Восточную Пруссию. А началась она с первого полета на стратегическую разведку с… «отцом».
10
ВЛАДИМИР УШАКОВ
В начале нового года в полк пригнали пару новейших современных бомбардировщиков. Комполка и его замы первыми освоили и вылетели на них.
Вместе с ними и мне посчастливилось освоить новейший самолет, и даже больше — испытать его в бою…
…Вылетели утром, когда было еще темно. Рассчитывали только над целью застать рассвет. Так больше надежд добраться до нее. Линию фронта прошли «на потолке» самолета за облаками.
Я «бился в поту», без конца определяя по РПК местонахождение, курс и время прибытия. Такова уж штурманская судьба. Знал, что если не выведу машину на цель, то никто этого не сделает и задание не будет выполнено. Я был настолько поглощен расчетами и прокладкой пеленгов на карте, что если бы кто-нибудь крикнул: «Истребители!» — то ответил бы: «Не мешайте работать!».
Из-за облаков вывалились минут за десять до города. Шли, буквально прижимаясь к ним, по нижней кромке; так меньше заметно, да и в случае чего в любую секунду можно нырнуть в них…
Город стоял на окраине большущего лесного массива, тянувшегося с юга на север через весь лист карты.
Я — на коленках в самом носу машины «нюхал землю» — сличал карту с местностью.
Шли над лесом, но ни окраин его, ни города не было видно. Наконец левее показалось чистое поле. Довернули туда. Затем в морозной рассветной мгле проступило черное округлое пятно, похожее на воронье гнездо.
— Впереди цель! — закричал я.
— Вижу, — неторопливо ответил Вадов. — Скроемся пока в облаках, а потом выскочим над узлом.
И потянул штурвал к груди.
— Давай! Засекаю время!
Минуты через три бомбардировщик снова вынырнул из облаков. И точно над железнодорожным узлом.
— Боевой!
— Есть боевой! — Вадов повел самолет, словно по нитке.
Казалось, фашисты не обнаружат самолет, а если и обнаружат, то не успеют сделать ни одного выстрела. Но в тот момент, когда замигала сигнальная лампочка фотоаппарата, когда шли последние секунды строго по прямой, бомбардировщик все же был обстрелян.
— Не спят, сволочи! — выругался Вадов. — Раньше, бывало, не успевали орудия расчехлить…
Вблизи вспух грязно-белый взрыв снаряда и осколками сыпанул по самолету. Треснуло остекление в моей кабине. В лицо больно хлестнула морозная струя воздуха. Запахло сгоревшей взрывчаткой. В уши ударил свист и вой. Меня толчком оторвало от прицела и прижало к стенке кабины.
В наушниках прозвучал сдавленный голос радиста:
— Товарищ командир! Правый горит!..
— Будем тушить, — спокойно ответил Вадов.
Я скосил глаза. Из-под капота мотора вырывались длинные черные струи дыма, а потом, точно взрыв, блеснули и желто-синие зубцы пламени.
«Прыгать! Скорей к люку!» — я бросился в лаз… Как рассказывал потом командир, он рывком до предела отжал штурвал от себя и с нарастающей скоростью повел самолет к земле. Нужно сбить пламя встречным потоком воздуха и поскорее выйти из зоны зенитного огня.
— Перекрой пожарный кран! — сказал он второму пилоту, дергая за рукоятку противопожарного устройства. Пилот не шевельнулся.
— Ты что? — начал было Вадов, но осекся. Его лицо, красное от натуги и возбуждения, потемнело, когда он увидел, что правая щека летчика залита кровью с серыми сгустками…
Земля приближалась. Вадов перевел машину в горизонтальный полет. Было проделано множество горок, кренов, виражей, давно сработало противопожарное устройство, винт переведен во флюгер, а мотор выключен, но пламя по-прежнему не сбито…
«Успеть! Успеть!» Еще одно усилие — и я в навигаторской кабине, добрался до спасительного люка. Лицо обжег холод. Внизу озеро. «А успеет ли парашют раскрыться?» Повернул голову. Летчики сидели на местах…
«Что делать?? — мучительно думал Вадов. — Тянуть на одном моторе к своим — каждую секунду могут взорваться бензобаки. Значит, надо немедленно производить посадку. А где?»
Кругом, до самого горизонта, беспрерывно тянулся густой хвойный лес. И уж готов был отдать приказ: «Всем прыгать!», — когда позади себя услышал:
— Под нами озеро!
— Где? Где? — привстал Вадов. Занятый пилотированием и борьбой с огнем, он не заметил, что очутился над озером.
Круглое, как блюдце, километра три в диаметре, оно было покрыто вроде бы тонким слоем снега. Местами на середине виднелись «окна» чистого льда, блестевшие стекляшками в лучах солнца, которое за минуту до этого робко выглянуло в разрыв облачности.
— Идем на посадку! — обрадованно крикнул он. — Приготовить огнетушители! Стремянку!..
— Есть приготовить огнетушители! — откликнулся я.
Заметив пилота с разбитой головой, осел, ухватился за что-то — я впервые видел убитого товарища… Вадов резко повернул штурвал. Сдвинулась земля, поползла вверх и в сторону. Закрыла небо, покачалась, выровнялась, уперлась в нос самолета.
Пламя лизало обшивку крыла, и она белела на глазах — сгорала краска. «Только не взорвись! Ну, погори еще чуточку!» — заклинал я самолет. Ведь глупо взорваться сейчас, когда почти сели. Вздыбленная и лохматая, закрыв горизонт, приближалась земля. Казалось, самолет стоит на месте, а она сама бежит навстречу. Деревья набегали на самолет стволами, вершинами и быстро скрывались под плоскости и фюзеляж. Им не было счету.
Наконец, белым, необъятным полем надвинулся лед. Озеро качнулось, ушло вниз. Откуда-то из-за головы скатилось небо, заняв обычное свое место спереди и сверху. Вспышками замелькали окна льда.
Я поглядел на Вадова: как-то он посадит самолет? Тот сидел спокойно. Только пальцы его, сжимавшие штурвал, побелели, да с волос на затылке стекали капли пота на ворот мехового комбинезона. А на шее, под ухом, учащенно пульсировала темная жилка.
Вцепившись одной рукой в спинку сиденья, я в другой держал огнетушитель, веса которого не чувствовал. Время остановилось. Виделся взрыв — огромное пламя окутало самолет. Разлетаются горящие куски. С шипеньем врезаются в снег. Окутанные паром, катятся по льду. В неестественных позах в лужах маслянистой воды — обгоревшие тлеющие трупы.
— Командир, зачем гасить?
— Гасить! — резко ответил Вадов.
— Но он же взорвется? И мы…
— Отставить разговоры!
— Ну, почему? Спасем самолет — какая польза? Все равно уничтожать! Не оставлять же фашистам?..
— Молчать! И не вздумай бежать, когда посадим машину! А то пристрелю!
Вадов убрал газ. Мотор мягко, ворчливо зарокотал, потом захрапел, постреливая выхлопами газов.
Я с нетерпением ждал неприятного провала самолета, толчка об лед. И вот увидел, как из-под колес брызнули струи снега, застучали по крыльям. Пробежав несколько сот метров, машина остановилась…
Вывалившись из кабины, Вадов разглядел в огне и клубах дыма на крыле только одного штурмана. Что-то стряслось с радистом.
— Где Молчанов? — крикнул он, сбивая огонь с нижней части мотора пенистой шипящей струей огнетушителя.
— Ранен! В кабине!
В разгар борьбы с огнем один за другим опустели огнетушители. Я скатился с плоскости. Бросился бежать к хвосту самолета.
— Куда? Назад! — закричал Вадов.
— К радисту! — остановился.
— Снимай капот с того мотора! — Вадов торопливо раздевался.
— Зачем?!
— Снег! Снег таскать!
— Неужели затушим?
— Выполняй приказ!
— Командир! Я…
— Выполняй приказ!
Перевязав рукава и штанины комбинезона ремнями, снятыми с пояса и планшетки, Вадов быстро нагреб в него снег, действуя планшеткой, как лопатой, и потащил «мешок» на крыло. Вытряхнул снег на мотор.
— Принимай! — кричал ему сзади я, заталкивая на плоскость капот со снегом. И когда Владов перехватил его, кинулся ко второму.
Так, чередуясь у мотора, мы таскали снег, пока не затушили пожар.
Колеблющиеся нити дыма, перемешанные с паром, поднимались над мотором и растворялись в вышине.
Обгоревшие, дымящиеся, черные от копоти, мы катались в снегу.
— Бежим к радисту! — вскочил на ноги Вадов, выплевывая попавший в рот снег. От него шел пар, словно он только что вышел из парной.
Помчались. Один за другим влезли в хвостовую кабину. В ней посредине лежал Молчанов. Худой, бледный, светловолосый юноша, почти мальчик, с родинкой на верхней губе. В откинутой руке зажат индивидуальный пакет. Вадов, расстегнув его комбинезон, припал ухом к груди.
— Жив! Скорей аптечку и термос!
От горячего чая, влитого в рот, Молчанов очнулся. Открыл глаза и долго смотрел невидящим безучастным взором. Узнав нас, чуть улыбнулся. Сказал виновато:
— Немного ранило… Вот здесь, в бедро, — пошевелил рукой.
— Лежи смирно, Женя. Видим, — ответил Вадов, перевязывая ногу радиста.
— Мотор затушили?
— Затушили, дорогой, затушили. Принеси-ка НЗ, — сказал Вадов и, когда я вернулся с коробкой, достал из нее плитку шоколада. Разломив пополам, протянул половинку Молчанову, другую спрятал к себе в карман.
— На, поешь, легче будет…
Радист медленно жевал шоколад. Я наблюдал за каждым движением его губ. Завязав коробку НЗ, Вадов пожал Молчанову руку.
— Ну, набирайся сил. Все будет хорошо. А мы пойдем осматривать самолет. Если что нужно, стучи в борт вот этим ключом…
На льду сказал негромко мне:
— Мишу положи в переднюю кабину. Его комбинезоном укрой Молчанова, да подстели парашют, а то холодно, как бы не замерз — крови много потерял. Да поглядывай по сторонам, если что — кричи меня. И — в башню, к пулеметам…
Я нехотя направился в кабину. Снимать с мертвого человека одежду неприятно, тем более, если приходится это делать впервые.
«Чертов дед! Хитрый! Надо самому поесть, так Молчанову для отвода глаз сунул…»
Перед люком я остановился, оглянулся, увидел командира: «А может, запас отдельный делает? Он же опытный».
После осмотра самолета поднялись в кабину радиста обсудить положение и наметить план действий. Залезли в башню к пулеметам, откуда удобно было наблюдать за местностью.
Молчанов опять лежал с закрытыми глазами, видимо спал.
Говорили негромко, почти шепотом, чтобы ему не мешать.
— По-моему, у нас один выход. Попытаться найти партизан. Если их не встретим — перейдем линию фронта, — указывая карандашом голубую точку озера на карте, я вопросительно поглядел на Вадова.
— Неплохо! — согласно кивнул тот. — Но я думаю так. Уйти к партизанам никогда не поздно, пробираться к своим тоже. Но спрашивается, зачем мы тогда спасали самолет, рисковали жизнью?
Вадов что-то взвешивал в уме.
— Есть у меня одна мысль, только не знаю, будешь ли ты согласен. Я так считаю: не попробовать ли нам взлететь на одном моторе?..
— На одном моторе?
— Да, на одном.
— А потянет ли он?
— Думаю — потянет. Тянет же он с выравнивания? До пяти тысяч метров можно набрать высоту. И потом мы поможем ему тянуть.
— Как?
— Выкинем броню — это сотни килограммов! Фотоаппарат, пулеметы, бомбозамки, прицел, радиокомпасы, инструмент разный, стремянку — вот и взлетим.
— Я все же считаю — лучше искать партизан.
— Это второй вариант! Учти, взлетим — через два часа будем дома, а пешком — через два месяца, если доберемся. И самолет потеряем.
— Но неизвестно еще — взлетим или не взлетим. Может, на взлете разобьемся или не долетим?!.
— Короче, ты отказываешься работать?
— Не отказываюсь, но не вижу смысла.
Вадов посуровел:
— Запомни! Здесь я командир, и ты обязан выполнять мои приказы!
— По-моему, товарищ командир, нас всего двое и здесь надо больше согласовывать, а не приказывать.
— Что-о?! — У Вадова задергалось веко. — Хорошо! Не хочешь подчиняться, иди куда глаза глядят! Я буду работать один!
Он спрыгнул на пол, скрылся в люке. Я растерянно глядел вслед. Потом не спеша пошел к люку. «Нехорошо получилось. Как его убедить? Ведь наверняка здесь есть партизаны. Хоть бы Молчанова им оставить… А может, я тяну к партизанам потому, что хочу разыскать отца?..»
Я нашел Вадова в пилотской кабине. Тот снимал бронеспинку с кресла.
— Послушайте, командир, ну, давайте я пойду в лес? Будем действовать в двух направлениях.
— За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь.
— Ну, почему не хотите согласиться со мной?
— Потому что через несколько часов мы, может, взлетим. Бомбардировщик-то у нас чудо! А партизан искать можно месяц. Не на берегу же они живут? А если живут — сами придут к нам…
Я помялся, переступая с ноги на ногу, тяжело вздохнул:
— Ну, как хотите. Говорите, что делать?..
— Давно бы так! — поднял голову Вадов. — Ох и упрямец же ты!
…Часа за три сняли связную и командную радиостанции, антенны, запасные блоки станции радиста, часы и другие менее нужные приборы. Антиобледенительные бачки со спиртом, ракетница с ракетами, инструментальная сумка — все было выброшено. Но и это не удовлетворяло Вадова. Осматривая самолет, он повторял:
— Учти, от одного-единственного лишнего грамма зависит судьба взлета. Выбрасывай все, без чего можно лететь…
В который раз, подойдя к обгоревшему мотору, Вадов внимательно оглядывал его. Покачав лопасть винта, махнул рукой:
— Сбрасываем! Лишняя тяжесть и большое лобовое сопротивление при взлете.
…Опять работали. Спешили. Короток зимний день. Обжигающий ветерок выжимал из глаз слезы. Работать на морозе, когда заиндевелый металл «приклеивался» к коже, да еще с обожженными руками, покрытыми волдырями, было мучительно. Ключи, как назло, часто срывались с гаек, и рука, потеряв опору, с силой ударялась о металл.
Лежа сверху на моторе вниз головой, я откручивал боковой болт, до которого едва дотянулся. Ухватившись рукой за одну из трубок и еле удерживаясь, всей тяжестью тела рывками наваливался на ключ, пытаясь стронуть болт с места. В один из таких рывков ключ сорвался с головки, я — с мотора. Перевернувшись в воздухе, упал на лед. Зазвенело в ушах.
— Кости целы? — приблизилось лицо Вадова.
— Кажется, целы. Но я не могу больше работать…
По моему лицу крупными каплями, как у ребенка, катились слезы.
— Ты не расстраивайся, отдохни немного, все пройдет.
— Говорил — лучше искать партизан…
— Вставай! — Взяв за ворот комбинезона, Вадов легко поднял меня на ноги.
— Но у меня же мясо вместо рук?! — зло выкрикнул я, протягивая ладони к лицу Вадова.
— А у меня что? Не мясо?! — возмутился тот. — Ты хоть измученный, но живой, а Миша Михайлов — единственный сын стариков родителей — погиб!.. Погиб, как и моя семья, — тихо добавил он… — Ты подумал о своих родных? Они ждут тебя!.. Не могу работать!.. Молчанов умирает, а у него в детдоме — четверо маленьких братьев… Мы должны доставить фотопленку! А ты-ы!..
Вадов помолчал. Повернувшись ко мне, похлопал по плечу.
— Эх, парень, ты, парень! А еще комсомолец…
Достав из кармана полплитки шоколада, протянул:
— На, поешь…
Я покраснел:
— Вы тоже, — выдавил еле.
— Я не хочу, нет что-то аппетита. Да ты бери! Ешь!
Не тяни время.
Шоколад растаял во рту мгновенно. Снова работали. И вот винт свободен от креплений. Он держится на валу только за счет своей тяжести. Стоит его немного сдвинуть, и он рухнет вниз. Но чем сдвинуть? «Гуся» — ручного передвижного крана, с помощью которого снимают винты, — нет. Людей…
Оседлав двигатель — пулеметами били по лопастям. Обвязав лопасти тросами, тянули, как бурлаки, изо всех сил. Потом снова били пулеметами: один сверху, другой снизу, одновременно. И снова впряглись в тросы. Проклятый винт никак не хотел сваливаться! Пригорел и примерз, наверняка.
— Ну, давай последний раз дернем, — говорил Вадов, надевая стальную петлю на грудь. — Если не сбросим — запустим мотор. От тряски сам свалится, лишь бы не побил машину. Раз! Два! Взяли! Е-е-еще! Дружно! — и оба упали. Сзади послышался хруст, затем протяжный звон… Опять ползали по кабинам. Я предложил похоронить Михайлова на берегу озера. Вадов, взглянув на меня, ответил:
— Нет! Он с нами прилетел сюда, с нами полетит и обратно… — А потом, секунду подумав, тихо добавил:
— Лучше сольем часть горючего, выбросим парашюты, а его возьмем… Друзей и мертвыми не бросают…
…Вадов ушел осматривать озеро, изучать условия взлета. Я остался в башне у пулеметов. Вспомнился дом. Мама, Валя, Леня, 22 июня, митинг в парке, проводы отца. Вот уже с полгода прошло, как, попав на фронт, я по возможности встречал на стоянке возвращавшиеся со спецзаданий самолеты. Но никак не мог дождаться хоть какого-нибудь известия об отце.
Спускаясь из машины и, увидев меня, летчики иногда, в зависимости от успеха полета, приветливо махали руками и, счастливо улыбаясь, кричали:
— Здорово, Володя! Помним, помним о твоей просьбе!
Но, подойдя вплотную, негромко заканчивали:
— Порадовать нечем. Всех расспрашивали — безрезультатно. Сам понимаешь, ночь — долго не поговоришь, выгрузились, скорей загрузились и деру!..
Поблагодарив экипаж, я все же лез в кабину и сам расспрашивал раненых об отце до прибытия санитарных машин…
Ясно, если отец жив, то искать его надо за линией фронта, откуда невозможно дать весть. Конечно, наткнуться на следы человека на гигантском фронте протяженностью в пять тысяч километров, на котором воюют миллионы, почти нельзя. Ведь тот мог погибнуть бесследно от взрыва мины или снаряда, раздавлен в кровавую лепешку танком, попасть в плен, сожжен в печи крематория. Наконец, быть в любой оккупированной стране!..
И все же надо искать!.. Как же не искать, находясь в авиации дальнего действия, которая летает по всему фронту, к партизанам и даже в Германию!.. Это же лучшая из всех возможностей, которой никогда и нигде больше не станет… Пусть будет один шанс на миллион, что найду, но он все-таки есть, и использую его до конца!..
Иногда летчики прилетали хмурыми, еле живыми, с огромными рваными пробоинами-ранами на плоскостях и фюзеляже… Едва спустившись на землю, они лезли под самолет. Осматривали его снизу, с боков, сверху. Но и тогда, выбрав минутку, коротко, словно стесняясь, что не выполнили просьбы, отрывисто говорили:
— Понимаешь, некогда было. Лучше сам расспроси — полна кабина.
И опять я лез к раненым…
А иногда самолеты и вовсе не прилетали, хотя я их и ждал упрямо.
…Темнело. Небо придвинулось и казалось черным. По льду потянулись снежные косы. Кое-где хороводом закрутились маленькие белые вихри, словно играя и гоняясь друг за другом. Посыпалась снежная крупа.
Прибежал Вадов. Мокрый от пота, тяжело дыша, прерывисто проговорил:
— Иди проворачивать винт. Да не забудь перед посадкой в кабину снять все лишнее, — и торопливо начал раздеваться. Сбросил унты, погладив по карманам кителя, сбросил и его.
Я раздевался после запуска двигателя. Сидя на кителе командира и с усилием стаскивая унты, заметил краешек какого-то документа, высунувшегося из кармана. Вытащив, увидел пожелтевшую от времени фотографию. Групповой снимок. В центре парнишка в буденовке с развернутым знаменем в руках. На обороте — полустертая надпись:
«…брь 1939 г. Комсомольский актив деревни Чуга — нашему вожаку перед отправкой на фронт:
Если ты комсомолец, так иди впереди, Если ты комсомолец, не сбивайся с пути, Если ты комсомолец, так вперед всех веди, Если ты комсомолец, все преграды смети, Если ты комсомолец, так умри, но иди!»Где-то я видел похожую фотографию. Но где? Где?.. Дома! В рамке под стеклом. Но там был отец, правда без знамени.
Рука дрожала, карточка прыгала. Сунул фотографию в карман галифе, но, вспомнив, что отец очень берег свою, осторожно переложил в нагрудный карман…
Наверное, отец так же относился к подчиненным, вообще к людям. Командовал, воевал, делился последней коркой хлеба… А некоторые, может, стонали и хныкали, когда было тяжело… А он вел их вперед и вперед.
…В кабине отдал фотографию Вадову.
Тот пристально рассматривал ее, словно видел впервые.
Потом тихо сказал:
— Спасибо!
Спрятав фото на груди под свитер, решительно произнес:
— Ну, даешь Выборг! — и дал газ.
Будто боясь надсадить двигатель, медленно развернул бомбардировщик и также медленно порулил к берегу. Притормозив, развернулся, дал мотору максимальные обороты. Мотор заревел громко и пронзительно, точно ему сделали больно. Дымовой завесой за самолетом вздулось клубящееся, бегущее облако снежной пыли. Бомбардировщик, вздрогнув, тронулся с места, а затем, волоча снежный хвост, рванулся, с каждой секундой все больше и больше набирая скорость. 40… 50… Дрогнула стрелка указателя скорости, поползла по шкале. Уже с первых секунд разбега Вадов почувствовал, как трудно выдержать направление: работающий левый мотор всей силой тяги разворачивал самолет вправо. И Вадов, стиснув зубы, давил на левую педаль, удерживая рулями самолет на прямой…
60… 70… Выдержать направление! Выдержать!
80… 90… Мелькнули темные пятна выброшенного из самолета оборудования. Проскочили середину озера. Темная полоска леса, секунду назад казавшаяся далеким, растет на глазах, стремительно надвигается… 100!.. Пора!
Еле уловимым плавным движением штурвала Вадов приподнял нос самолета. В ту же секунду бомбардировщик, оторвавшись ото льда, вновь коснулся его колесами.
Пот струился по лицу, заливал глаза, щипал шею. Все внимание, все силы сосредоточены на взлете.
Взлететь! Только взлететь! Во что бы то ни стало взлететь!
105… 110… 115… 120!.. Надрывно гудит мотор, будто выбивается из последних сил, мчится самолет, подпрыгивая и сметая наносы снега, а оторваться ото льда не может.
«Оторвись! Оторвись!» — твердил я, в такт прыжкам приподнимаясь на сиденье. Глаза немигающе застыли на береговой черте. Впереди — ровное снежное поле. За ним — стена леса. Что-то задерживает самолет. Нос клонится вниз. Снег! 110! Вадов резко убирает газ. Обрывается звенящий рев. Тишина ударяет в уши. С подвывом, пронзительно скрипят тормоза. Стрелка валится на нуль.
— Что случилось?
— Не везет нам, Володя, — хрипло дыша, ответил Вадов. — Снег убирать придется… Полосу делать…
Я закрыл глаза: «Когда все это кончится?» Молча рулили назад.
— Ты не расстраивайся, всего каких-нибудь 800—1000 метров, не больше. Да и снег неглубокий.
Чистили полосу шириной метров пятнадцать.
Толкая перед собой моторные капоты, сгребали снег от осевой линии в разные стороны. Вадов спешил. Взлетать ночью в темноте гораздо сложнее, чем днем. Первые сто метров работали вровень. Я изредка поглядывал на Вадова. Лицо округлое, нос небольшой, прямой, брови черные, глаза поблескивают, губы пухловатые…
— Что с тобой? Не видал меня, что ли?
— Да нет, просто вспомнил отца.
— Ну и что?
— Очень вы чем-то похожи…
— Да?! Не знал… Хотя многие сейчас одинаковы и похожи. В этом наша сила, что мы походим друг на друга…
Вадов стал понемногу обгонять. Я, чтобы не отстать — заедало самолюбие, работал со злостью. «Ведь не железный же он? Старше меня. С утра ничего не ел… До войны, говорят, работал в ГВФ[15], летал в Заполярье… Больше сотни боевых вылетов… А роста он с отцом одного…»
И я напрягал все силы. Но разрыв между нами не сокращался, а увеличивался. Я с ожесточением наваливался на капот.
— Работать! Работать! — командовал себе. — Ты вовсе не устал. У тебя полно сил! Я верил, что если внушить себе эту мысль, подчиниться ей, то никакой усталости чувствовать не будешь. Работать!.. Но Вадов уходил все дальше. Я недобро поглядывал в его сторону.
«Понятно! У него меньше снега, поэтому вырвался…» Вадов, словно подслушав мысли, оглянулся, направился ко мне.
— Иди туда, Володя, я буду здесь…
Мороз и ветер усилились. Пропотевшая одежда скоробилась, заледенела, сковала. Ветер легко пронизывал ее, жгуче упирался в тело…
Пройдено около 500 метров, осталось примерно еще столько же. От дыхания и пота борода Вадова обмерзла, покрылась сосульками. Вадов догонял. Я не сдавался. Работал на пределе. Порой не видел снега. От усталости, закрыв глаза, машинально двигался…
Вадов сравнялся.
— Идем, передохнем, — предложил он.
Я вполз в кабину с помощью Вадова, да так и остался лежать на полу.
Вадов принес коробку НЗ, достал банку консервов, сок, ломоть хлеба. Найдя отвертку, открыл консервы.
— На, подкрепись.
— А вы? — заплетающимся языком едва смог выговорить.
Язык распух и не ворочался во рту. Губы тоже распухли, потрескались на морозе. Из них текла кровь.
Вадов, как говорил после, видел мои ввалившиеся щеки и запавшие глаза. Понимал, что силы на исходе.
— Я поработаю, пока ты ешь.
— Не буду я один есть, — забормотал. — Не буду.
Заморгал, отвернулся.
— Я привычный. В прошлый раз, когда меня сбили, неделю ни крошки не ел. Ешь быстрей, отдыхай — и работать…
Вадов спрятал банку сока в карман.
— Зайду к Жене. Покормлю…
Прошло с полчаса. Опустошив банку и разомлев от еды, я тяжело поднялся на ноги. Все тело ломило, ныла каждая косточка, особенно нижние ребра — до них нельзя дотронуться. Хотелось спать. Но надо идти. Пока брел, почувствовал, как откуда-то сверху, с плеч, окатывает жаром. Расстегнул ворот, еще жарче. «Неужели заболел?..» Шатаясь, подошел к Вадову.
— Видишь, каким молодцом стал! И мне легче будет! — улыбнулся Вадов, вытирая пот со лба.
Я попытался улыбнуться в ответ, но вместо улыбки получилась гримаса. Взялся за капот, тот весил тонну, а может, и больше. Меня охватила ярость и злость. «Да неужели я такой слабый? Мы сделаем полосу, чего бы это ни стоило! Снег держит нас!.. Снег — фашист! Он должен быть сметен! И будет сметен!»
Я работал с остервенением, ничего не видя, кроме снега.
«Снег! Проклятый снег!..» Выпрямился. «Всюду, кругом он. Лес куда-то исчез. И его, видно, завалил снег? Странно, но где берег?.. Самолет? Что? Все засыпало снегом?» Я испугался. «Как же? Как мы полетим домой? На чем? Как выберемся отсюда?» Поглядел вверх. «Что же это такое? И там снег! Все бело… Солнце засыпало?! Нет его!»
Опять осмотрелся. Снег надвигался со всех сторон. Снова взглянул вверх. Дыхание захватило. Громадный пласт снега падал на меня. Сейчас раздавит!
— Снег! — в ужасе закричал и закрыл голову руками.
Снег обрушился. Сшиб с ног. В глазах потемнело…
В ушах что-то жужжало. Назойливо, нудно. Иногда затихало. Жужжанье становилось громче, перешло в рокот. Я открыл глаза. Огляделся… Сижу в самолете рядом… с кем это? С отцом!?..
Помотал головой, словно стряхивая остатки сна… Нет, с Вадовым.
Холодно светились стрелки и шкалы приборов. За бортом темно. По черному полю неба, прыгая из облака в облако, горящим клубком катилась луна, обрамленная голубоватой каемкой, точно воротником. В просветы между облаками выскакивали звезды. Самолет рулил. Я привстал, уселся в кресле поудобней.
— Очнулся? Как себя чувствуешь? — повернулся ко мне Вадов.
— Нормально, только голова гудит.
— Это мотор гудит.
— Вы всю полосу очистили?
— Всю. Сейчас опять взлетаем. Хоть бы уж взлететь! Впереди и вдали что-то горело.
— Что там? — забеспокоился я.
— Это я зажег костер, чтобы выдерживать направление…
Самолет затрясло. Потом он запрыгал, как телега во время быстрой езды по неровной дороге. И каждый раз в момент отрыва нестерпимо хотелось рвануть ручку шасси вверх, без команды Вадова.
Оглушительно, со звоном гудел мотор. Все быстрей и быстрей мчался бомбардировщик. 110!.. 120!.. 130!.. 140!.. Ну! Еще 10—15 километров… Упершись ногами в левую педаль, а лопатками в спинку кресла, вытянувшись над сиденьем, Вадов дрожал от напряжения каждым мускулом, каждой клеткой тела.
— Жми левую! — с гримасой боли на лице прохрипел он.
145!.. 150!.. Вот уже скорость достигла почти взлетной! Если сейчас не взлететь, придется взорвать машину, а самим — к партизанам. Сейчас или никогда! Огонь костра на берегу рядом. И вот уже в который раз самолет оторвался ото льда.
— Шасси! — чужим от напряжения голосом крикнул Вадов и не успел закрыть рот, как самолет вновь повалился вниз.
«Ну вот и все!» — подумал я и сжался в комок.
И тут — то ли из-за сильного порыва ветра, то ли из-за своевременно убравшихся шасси — самолет подпрыгнул и, едва не врезавшись в верхушки деревьев, пронесся над ними.
11
Свыше месяца провалялся Володя в госпитале с крупозным воспалением легких. После выписки по состоянию здоровья ему дали краткосрочный отпуск домой.
Проезжая Казань, с вокзала он телеграфировал матери о своем приезде…
На станцию Синарская поезд пришел поздно вечером.
Володя, стоя в тамбуре вагона, вглядывался в замерзшее окно. Во льду стекла теплом дыхания выдувал маленький глазок, похожий на прорубь и снова припадал к нему.
За окном стояла ночь, покрывшая чернильным раствором все живое и неживое кругом.
В воспаленном мозгу кипели разные мысли. И среди них — главная — встретят ли родные: мама, Валя, Леня… Дошла ли до них телеграмма?.. Если получили — обязательно встретят…
Он вглядывался в темень, пытаясь определить, где едет. Но это было почти невозможно. Мелькали какие-то заборы, приземистые склады, еле освещенные окна. Желтым неярким бликом проплыл станционный фонарь. Володя открыл дверь, когда поезд еще не остановился. В тамбур ворвались клубы пара, шум и вой ветра, грохот и перестук колес, протяжные гудки станционных паровозов. Запахло угольной гарью, бодрящей морозной свежестью, едким паровозным дымком, душистой смолой.
Держась за поручень, высунул голову, вглядываясь в полутемный безлюдный перрон. Тоскливо сжалось сердце, захолодело в груди. Ни единой души… А может, в кассовом зале дожидаются?..
Владимир, соскочив с обмерзлого приступка, огляделся. Поддернув за спиной вещевой мешок, зашагал неторопливо по заснеженному перрону.
Переливчатыми россыпями звезд сиял над головой провал неба. На северо-востоке над самым горизонтом разрезанным спелым арбузом всходила луна.
— Володя-я?! — от угла палисадника черным шариком катилась навстречу мальчишечья фигурка. — Володя-я?! Володька-а?!.
«Ленька?!.. Он, чертенок!» — вздрогнул Владимир, убыстряя шаг.
— Я-я! — и сам не заметил, как побежал.
Из-за угла выскочила еще одна фигура покрупней, за ней — третья.
— Володя-я! — кричал Ленька, подбегая и бросаясь брату на шею. — Мама! Валя! Он! Он! Целый!..
Сбоку подлетела сестра. Ткнулась в щеку, мазнула слезами. Задыхаясь, путаясь в длинных полах Владимирова зимнего пальто, подбежала мать.
— Володюшка! — выдохнула едва и повалилась на грудь.
Когда, наконец, улеглось волнение первых минут встречи, Леня, выбрав момент, нетерпеливо спросил:
— Орден привез? Покажи!..
— Успеешь, — улыбнулся Владимир, — дома насмотришься…
— Ну, покажи-и, — запросил Леонид.
— Отстань ты от него! — возмутилась мать. — Пойдемте лучше в зал, в тепло, к свету. Переждем там до утра…
— А почему не домой? — удивился Владимир.
— Через пустырь надо идти-то, Володя, ты ведь знашь?..
— Ну и что?..
— А там бандиты и хулиганье разное людей почти кажну ночь раздевают. Развелось их у нас в последнё время много. Страшно на улицу выдти.
Леня со смущением, даже конфузом, а в душе и с надеждой, глядел на брата. Как же так? Он ведь летчик, герой?! Без страха бьет фашистов где-то далеко-далеко на фронте!.. Даже в самой Германии! А тут дома неужели испугается каких-то жуликов, бандитов?.. Пусть даже вооруженных финками?..
— Не бойся, мама. Идемте домой, — улыбнулся Владимир и обнял ее за плечи.
— Нет, правда, Володя, — забеспокоилась сестра, — не только раздевают, а убивают проклятые!..
— Да не беспокойтесь, пожалуйста! Идемте домой! А для бандитов у меня кое-что найдется, — и Владимир выразительно похлопал по нагрудному карману куртки.
— Конечно! — засиял в восторге Ленька. — Да и без пистолета мы бы пошли, не испугались. Нас ведь вон сколько?! Правда, Вовка?..
— Правда! Правда! — засмеялся Владимир и надвинул брату шапку на самые глаза.
— Ты наскоко приехал-то?..
— На неделю.
— Ой, как мало?! Мы думали, на месяц!..
— Вот люди! Целую неделю дома! Радоваться надо! А им все мало…
— Да радуемся, радуемся, Володя. Хотелось бы, подоле чтобы побыл дома, — заверила мать.
…По дороге, оглядывая сына, она заботливо спрашивала:
— Ты не замерз, Володя?.. Приехал в какой-то одеже. Не пойму… Холодна, наверно?
— Наоборот, мама, — смеялся Владимир. — Это же летное обмундирование! Самое теплое! Куртка-то на меху! Унты! Хоть на полюсе живи! Спасибо командиру — позаботился!.. Вот человек!.. Побольше бы таких!..
— А мы тебя в шинели в погонах и сапогах ждали! — забегая вперед и оборачиваясь, протараторил Ленька. Он никак не мог найти себе места рядом с братом, по бокам которого шли мать с сестрой. И всю дорогу то шел позади их, то бежал впереди, путаясь у старших в ногах.
— Они у тебя есть?
— А как же!
— А где?
— В полку остались…
— Эх, жаль!
— Почему?..
— Погоны хотелось на тебе посмотреть…
— Домой придешь — увидишь на гимнастерке.
— Ой, правда?! — запрыгал козленком Ленька.
— Ну, конечно! — старшие дружно расхохотались.
Никто из Ушаковых и не заметил, как прошли страшный пустырь, тянувшийся от самой станции. Вышли на Вороняцкую гору, с которой едва просматривался лежащий внизу уступами ночной город. Редкие огни сиротливо виднелись вдали…
Вышли на улицу Ленина, подошли к знакомому дому, в дальней половине которого жили остатки семьи Ушаковых.
— Володя, нас ведь уплотнили, помнишь?.. С осени сорок первого на кухне у нас живет Мария Тучинская из Новоград-Волынска с двумя ребятишками — Ривечкой и Гришей… А мы живем в комнате.
— Места-то хватает?!
— Хватает, Валя-то в Свердловске учится, а нам вдвоем с Леней много ли надо?..
— Ну вот, наконец-то я дома! — переступив порог, громко проговорил Владимир, снимая вещмешок с плеч и осматриваясь.
Ничего не изменилось здесь со дня отъезда. Два окна, занавешенные задергушками. В простенке между ними — прямоугольный стол со стульями. Справа в углу — тумбочка с цветком. Слева — коричневый посудный шкаф. Ближе к дверям у стен — кровати. Слева — круглая печка-голландка.
— Что-то землей да болотом пахнет? — раздувая ноздри и принюхиваясь, прошел к печке он.
— Торфом, Володя… Топим-то им. А он плохой — одна земля — вот и пахнет… Да ты раздевайся! У нас сегодня натоплено. Леня постарался для тебя. Или руки греешь?.. Подкрутив побольше фитиль лампы-пятилинейки, мать бросилась к нему.
— Дай помогу тебе?..
— Что ты? Что ты, мама? Я ведь с фронта приехал, а ты все считаешь меня маленьким…
Ленька, успевший раздеться быстрее всех, не отходил от брата. И когда тот, повесив куртку, повернулся — Леня, округлив глаза, ахнул от восторга:
— Во-о-от это-о да-а! Уже старший лейтенант?! Мама! Валя! Глядите! И не написал даже!..
Владимир, порозовев, отвечал солидно:
— Не все же писать?.. И так обо всем сообщаю.
— А орден-то какой?! Первый раз так близко вижу!.. Красного Знамени!.. Вот оно, знамя-то развеватся, — Леня погладил его пальцем. — А медаль-то?.. За отвагу! — прочитал.
— Леня! Да отстань ты от него? Садись вот за стол ужинать. Завтра медалей-то наглядишься.
И снова Ленька ахал, усаживаясь с братом и потирая руки от удовольствия.
— О-о! Да сегодня у нас настоящий пир! На весь мир! Жаркое из крови! Тарелка форшмака![16] Вареная картошка! И хлеба по целому кусищу! Мама, где это ты достала?..
Та улыбалась довольно.
— Крови на бойне у мясников выпросила. Форшмаку — девки с пищекомбинату принесли, как узнали, что сын с фронта едет. Картошки своей еще немного есть. А хлеб сэкономила…
— И мне ничего не сказала? — с укором проговорил Ленька, фыркая и отодвигая взятый кусок. — Я-то не экономил!..
— Тебе и не надо. Ты ведь растешь! И так 300 граммов получаешь!
— А ты 600?! И по 12—14 часов на заводе работаешь!..
— Давайте лучше ужинать. Ешь, Володя, ешь! — Проголодался с дороги-то…
Мать подвинула чугунную сковородку ближе к нему. Застучали ложки. Отправляя в рот буро-коричневую рассыпчатую кровь, Ленька не умолкал.
Владимир, в отличие от родных, ел неторопливо, будто не хотел. Те в свою очередь старались равняться по нему, поочередно приговаривая:
— Да ешь ты, ешь! Не жди нас… Поправляйся! Мы ведь хорошо живем супротив людей-то. Вот только нынче картошка подвела. Плохая родилась. И то не беспокойся — проживем! Скоро корова отелится.
Мать внимательно вглядывалась в сына. И он это был и не он… К родным и милым чертам, которые она всегда помнила и которые видела сейчас, прибавились новые, какие-то чужие, делавшие его строже, грубее, старше.
От носа ко рту спустились две резкие, глубокие складки. Посреди лба, деля его пополам, протянулась длинная продольная борозда. Худая, свободно болтавшаяся в вороте гимнастерки мальчишечья шея, вызывая жалость, щемяще саднила сердце. И волосы, густые русые волосы, вроде бы были совсем не такими, как прежде. Или это ей показалось при неверном и неровном свете керосинки. А какими-то очень уж светло-блестящими…
— Наклони-ко голову-то, Володя…
Тревога мелькнула в глазах Владимира.
— Да зачем тебе? — вставая, отвечал он. — Голова как голова. Видишь, целая и на плечах! А это сейчас главное!..
Он сходил за рюкзаком и, усевшись на место, принялся его развязывать.
— Вот лучше поглядите, что я привез… Нарочно не показывал — хотел узнать, что едите.
— Да, Володюшка! — выкриком вдруг перебила его мать. — Зубы-то не заговаривай! Ты ведь совсем седехонек стал?
Она, уронив голову на стол, зарыдала. К ней, успокаивая, склонилась Валя.
— Ну, мама? Так нечестно! Надо радоваться, что сын приехал! Домой! В отпуск! Живой! Здоровый!.. А ты плачешь?..
— Да какой же ты здоровой? — подняв голову, сквозь слезы проговорила мать. — Одна кожа, да кости!.. Шея вон, как нога в широкушшом валенке болтатся?!.
Так, мама, война-то никого не красит! — возразил Владимир. — Ты вон сама-то седая!.. А мы там не в пешки играем, а воюем не на жизнь, а на смерть!..
Ленька, с засунутой в рот ложкой, испуганно глядел на брата.
— Все, Володя! Больше не буду реветь! — вытирая слезы, заверила она. — Ты только не волнуйся! Будь проклят этот Гитлер!.. И что ему от нас надо стало?.. Нарушил всю жизнь!.. Да чтоб он сдох быстрей!..
— Ну, показывай, что ты там привез? — не выдержав, шепотом спросил Ленька.
— Глядите! — заулыбался Владимир и, вытащив из мешка огромную банку свиной тушенки, поставил на стол.
— О-о! — начал было Ленька.
— Глядите! — и вслед за первой вытащил еще несколько банок.
— А-а!..
Потом достал увесистые пачки пшенного и горохового концентрата, несколько булок серого и белого хлеба, фляжку спирта и, наконец, плитки шоколада.
Ленька буквально ревел от восторга, меняя о-о! на а-а! и наоборот. Смеялась радостно Валя, улыбалась довольно мать, качая головой.
— Володя? Где ты все это достал? — удивленно-испуганно спросила она.
— Паек за отпуск выдали, да ребята надавали. Знаешь, какие у нас мировецкие ребята в полку?.. Если бы все привезти, что они натащили, то десять мешков бы потребовалось!.. А командиры какие?!. Останин! Вадов! Панкратов!.. Выпьем по рюмочке в честь моего приезда? — открывая фляжку, предложил он.
— Выпьем! — живо откликнулся Ленька — Сейчас достану рюмки.
— Стоит ли, Володя? Мы ведь отвыкли… С 41-го не пили…
— Ну по одной? За наше здоровье, за нашу победу!..
— Ну уж токо по одной. А остальной спирт отдал бы мне, сынок? Я бы на него воз сена корове достала… На зиму бы хватило…
— Бери, конечно. Знал бы, так больше привез…
— И на том спасибо! Сейчас за спирт что угодно достать можно. Пробивней денег!..
Владимир, мать и Валя выпили. Ленька, наблюдая за ними, от души хохотал. Его уж очень развеселил вид матери и сестры, когда они, глотнув обжигающей жидкости, замерли с открытыми ртами и выпученными, застекленелыми глазами. А потом, не произнеся ни слова, судорожно глотали воздух, словно рыбы, выброшенные на берег.
— Ой! Ей! Ей! Сколь он зол?! — махала руками мать и вытерла тылом ладони выступившие слезы. — Так и палит, так и жгет проклятый, будто горящую головешку проглотила…
Насилу закусив и кое-как придя в себя, она умоляюще говорила:
— Володя, ты уж ради бога не пей там. А то, не приведи господи, научишься, привыкнешь, алкоголиком станешь…
— Что ты? Что ты, мама? Нам после боевых вылетов положено по 100 граммов, так я всегда отдаю свою норму ребятам. Они смеются надо мной за это. Маменькиным сынком называют…
— Ну и пусть! А ты не пей!..
— Володя, а ты летал к партизанам? — спросила сестра.
— Летал…
— Про папку там не спрашивал? Не искал?..
— Конечно, спрашивал, но разве найдешь?.. Там народу тоже много. Да и во всех отрядах надо побывать, а это невозможно…
Молчали. Только Леня продолжал стучать ложкой, уплетая тушенку.
— Вот бы приехал он сейчас, заходит домой, а вся семья в сборе. Вот было бы радости! — вытирая слезы, говорила мать.
— Да-а, пропал наш папка, — вздыхала Валя, горестно покачивая головой.
— Да хватит вам реветь! Вернется он! Я знаю! Вот увидите! — возмущался Ленька, оглядывая родных. — Ешьте лучше мясо! А то все съем!.. Просто не верится, что такую вкуснятину до войны ели каждый день!.. Ох и жили же тогда?! А казалось, плохо?!.
…Легли спать далеко за полночь.
Под самое утро сквозь сон Владимир услышал, как мать наказывала семье:
— Ему надо поправляться после болезни. Не смейте есть его продукты. Говорите, что не хотите, или старайтесь не быть дома во время его завтрака, обеда иль ужина.
Владимир, не открывая глаз, предупредил:
— Мама, если так будете делать, я завтра же уеду обратно на фронт. Поняла?..
— Поняла, — упавшим голосом тихо ответила она.
— Куда так рано?
— Леня в школу, Валя к корове, а я на завод. Сёдни отпрошусь пораньше… А может, ради тебя и отпуск на недельку дадут…
Владимир проснулся около полудня, когда Ленька вернулся уже из школы. Нахлобучив шлем, утонув в унтах и меховой куртке, он важно расхаживал по комнате, приговаривая:
— Что ж! Можно в такой одежде летать! Можно бить фрицев! И меня так одень, так я бы показал им!
— Послушай, гроза фашистов! — вылезая из-под одеяла, сказал Владимир. — Отдай мне брюки и унты, а сам займись печкой!
— А тебя в школу приглашают! — остановился Ленька, «пинком» скидывая с ног унты.
— Кто?!
— Твои учителя и одноклассники!
— А откуда они узнали о моем приезде?
— От меня. А теперь расскажи, за что получил вот этот орден и медаль?
Ленька, распахнув куртку, потряс наградами перед носом Владимира.
— Нет, об этом вечером, когда лягем спать. А сейчас отдай гимнастерку и расскажи про знакомых ребят. Кто, где и чем занимается?..
— А кто тебя интересует?
— Пашка Засыпкин где?
— По твоим стопам пошел. Добровольцем в штурманское училище.
— Молодец! Умыться-то в кухне?..
— Да.
Братья вышли из комнаты.
— А Мишка Мирон где?.. В армии? — фыркал под умывальником Владимир.
— Ну да?! Пойдет он туда?! Там же убить могут?!. Дома у матери под юбкой сидит!..
— Как?! Он же с 24-го года?!..
— Был когда-то!.. Мать ему где-то достала метрики, так он теперь с 27-го!
— Вот подлец!
— Ты, чтобы попасть на фронт, год себе прибавил! Он, чтобы не попасть, три убавил!..
— Подлец! Увижу — в глаза плюну!..
Раздавшийся стук в дверь прервал разговор братьев.
— Да! Да! — метнулся Владимир в комнату. За ним Ленька с полотенцем в руках.
— Гимнастерку! — выхватывая полотенце, скомандовал Владимир.
Брат услужливо подал ее. Владимир едва успел подпоясаться ремнем, когда в комнату несмело вошли Галька Короткова и Светка Вольская. Остановились на пороге.
— Здравствуйте! С приездом, Володя!..
Короткова — крупная брюнетка, приветливо улыбаясь, смело уставилась на Владимира своими «мохнатыми» глазами.
Света — беленькая, аккуратненькая, слегка порозовев, стояла потупившись. Трепещущие веки, да полуоткрытые вздрагивающие губы еще больше выдавали ее душевное состояние.
— Здравствуйте! — как-то несмело ответил Владимир и тоже смутился.
— О-о! Поздравляем тебя, Вовочка, с боевыми наградами и желаем заслужить их еще больше!..
— Спасибо!.. Вы проходите.
— Нет, мы ненадолго. По поручению школы и особенно нашего 10-го класса приглашаем тебя, Володя, завтра на вечер, посвященный Дню Красной Армии.
— Спасибо, но вы проходите. Ведь не ругаться же пришли?..
— Идем, Светка! — Галина, дернув ее за руку, прошла к столу. За ней Света. Присела неслышно на краешек венского стула. Вскинула голову и так доверчиво, ясно взглянула на хозяина, что тот невольно почувствовал тепло ее глаз.
— Какие у вас новости? Как поживают ребята?..
— Господи?! Да какие у нас ребята? — безнадежно махнула рукой Галина. — Кто сам в армию ушел, кого забрали, кто на завод, кто уехал! Полтора парня на весь класс осталось, и те калеки! А было шестнадцать!..
Света умоляюще взглянула на Галину, потом, отвернувшись, опять залилась краской.
— Правда! Правда, Вовка! — влез в разговор Ленька, примостившись на коленках на стуле и облокотившись на стол. — У нас в классе и то бросили учиться Ленька Волков, Гришка Терентьев, Петька Дегтярев!..
Приход матери и сестры прервал этот разговор. Девушки встали чуть сконфуженные, засобирались домой. Уже в дверях Короткова сказала:
— Дарья Яковлевна! Валентина Петровна! Вы хотя бы раз зашли к нам. Мама часто вспоминает вас и нахвалиться не может.
— Да? А я и не знала?! — по простоте душевной удивленно ответила мать.
Света аленькая, как утренняя зорька, из-за плеча подруги еще раз насмелилась прямо взглянуть в глаза Владимиру и тут же вышла из комнаты.
— А мне отпуск тоже дали, Володя! — обрадованно сообщила мать, когда закрылась дверь за девчонками. — Раз у тебя сын герой, с фронта приехал, то будь пока дома, а мы за тебя и за себя сработам, — сказало начальство и девки по бригаде…
В этот день, как и в последующие, до самого позднего вечера в гости к Ушаковым шли женщины-солдатки, знакомые и незнакомые, прослышавшие о приезде сына-фронтовика. И почти все с одним вопросом: «А не видал ли там, на фронте, моего мужа, сына или брата?.. Чё-то давно нет писем от него…»
Владимир отрицательно качал головой, с неохотой произнося, точно смертный приговор, краткое «нет», и видел, как скорбно суровели искрившиеся надеждой глаза, как испарялись радость и тепло из них, как заволакивало их безысходной тоской и болью.
В такие мгновенья он отворачивался и чувствовал себя виноватым в том, что доставил человеку огорченье. А некоторые ни о чем не спрашивали и на вопрос: «Вы к кому?» — отвечали откровенно:
— Да вот зашли на минутку на вас поглядеть, да чужому счастью порадоваться…
Средняя школа № 4 — на крутом, обрывистом берегу Каменки. Белая, двухэтажная с большими квадратными глазницами окон, она возвышается над серыми бревенчатыми домишками окраин и похожа на пароход. Ночью это сходство еще больше усиливалось, так как школа, залитая электрическим светом, издали, казалось, плыла над землей.
С противоречивыми чувствами вошел Володя в нее, где не был больше года. Внимательно оглядывая, прошел вестибюль с размещавшимся здесь гардеробом. В коридоре тихо, сумрачно, безлюдно. Пахло свежевымытыми полами, острым щиплющим запахом извести и еще чем-то непонятным.
Из-за неплотно закрытых кое-где классных дверей доносились приглушенные голоса.
«Уроки еще не кончились. Тем лучше. Огляжусь…» — решил Володя и, стараясь ступать бесшумно на носки отчаянно скрипевших с мороза хромовых сапог «джими», пошел по коридору.
Его внимание привлекла красиво оформленная стенгазета: «Смерть фашизму». В передовой статье «Наш ответ Гитлеру» бросались в глаза цифры: собрано и сдано металлолома — 20 тонн, — собрано колосков…
— Кто к нам пришел?! — раздался за спиной знакомый мелодичный голос.
Володя обернулся.
Перед ним, улыбаясь, стояла Фелицата Константиновна — его бывший классный руководитель.
«Милая, дорогая Фелицата Константиновна!.. Нисколечко, ни капельки не изменилась! По-прежнему очень и очень симпатична, аккуратно и со вкусом одета… Не случайно многие парни в классе влюблялись в нее…»
— Здравствуйте, Фелицата Константиновна!
— Здравствуй! Здравствуй, Володя! Какой ты солидный, мужественный стал!.. Идем скорее в учительскую, — она взяла его под руку.
— Зачем? — смущенно улыбался Владимир.
— А затем, что наш сын вернулся домой и мы — родители — должны его видеть…
— Владимир Ушаков! — торжественным голосом конферансье объявила она, точно представляя знаменитого артиста, когда они вошли в преподавательскую.
Находившиеся в ней педагоги, а их было двое, будто по команде повернулись к дверям.
Первым к Володе подошел директор школы — лучший литератор города Александр Александрович Кузовников, недавно демобилизованный из армии по состоянию здоровья. Высокий, костистый, с больших очках на крупном прямом носу, в старенькой залатанной гимнастерке и таких же брюках, он, пожимая руку Владимира, сочным, звучным баритоном говорил:
— Рад видеть вас, дорогой коллега, в родной школе. Рад видеть! Прошу раздеваться.
За ним мужской походкой, широким шагом подошла Таисья Павловна Бедрова — завуч школы. В длинном, чуть не до пят, темном платье, скрывавшем кривоватые ноги, она походила на монахиню. Энергично давнув ладонь Владимиру и холодно заглянув в глаза, кратко произнесла:
— С приездом!..
Володя вроде бы съежился, почувствовал себя снова учеником, увидев перед собой строгого педагога. Вспомнилось, как после окончания 7-го класса, ему по настоянию Таисьи Павловны за слабую дисциплину и успеваемость вместо аттестата выдали справку о том, что «В. П. Ушаков прослушал курс неполной средней школы…»
В 8-й класс пошел в 3-ю школу на трубный, где директор — Галина Павловна Иванова, знакомая матери — приняла его на свой страх и риск до первого серьезного замечания. После успешного окончания 8-го класса с единственной четверкой по немецкому, перешел в свою школу в родной класс.
Шептались учителя, шептались парни и девчонки, удивляясь отличной учебе Володи. Даже первая красавица класса — всегда всех лучше одевавшаяся, всех лучше певшая на школьных вечерах — отличница Милька Ремизова порой украдкой пристально глядела на него…
А еще раньше, где-то классе в пятом или четвертом, Володя после драки с Мишкой Мироном помчался по лестнице и столкнулся лицом к лицу с Таисьей Павловной. Загородив дорогу, она презрительно-строго смотрела сверху на его исцарапанное лицо, зелено-бурые синяки под глазами, распухший, кровоточащий нос, всклокоченные волосы.
— Опять дерешься, Ушаков?
— Так я защищал слабого! — дрогнувшим голосом стал объяснять Володя.
— Не оправдываться! — словно плеткой ожгла Таисья Павловна. — Знаем, как вы защищаете!..
И, проходя мимо, зло процедила:
— Колонист из тебя выйдет!.. Попомни мои слова…
Долго глотал слезы обиды тогда на уроке…
С прыгающим сердцем, взволнованный, поднимался Владимир по лестнице рядом с Александром Александровичем на второй этаж.
«Сейчас увижу ребят, Мильку. Надо сегодня же обо всем поговорить с ней. Если будут танцы — приглашу танцевать… Не должна же отказать?.. Попытаюсь проводить домой… В общем, сегодня все выяснится…»
На вечер, проводившийся в самом большом помещении — спортзале, собрались ученики обеих смен. Как же? Всем охота было поглядеть на живого орденоносца, да еще ученика своей школы. Послушать, наверняка, интересные рассказы. В зале — битком, тело к телу, будто в очереди за хлебом. У стен — чуть ли не до потолка. Остальные — давились в коридоре у обеих распахнутых дверей…
Едва Александр Александрович, Владимир и Фелицата Константиновна по одному протиснулись к столу, как грянули дружные аплодисменты. «Будто героя встречают», — смутился Володя и тоже захлопал в ладоши, оглядывая зал и всматриваясь в лица. Он увидел и узнал многих своих одноклассников — и Короткову Галину, и Свету Вольскую, и Лену Алексееву и Светку Булашевич, и Неску Чернявскую, и даже парней — долговязого Витьку Бабина и коротыша — «профессора» Андрея Рязанского, давшего ему еще в 3-м классе прозвище Адмирал. И все они или почти все, особенно девчонки, приветливо улыбались. Но ее, Ремизову, к сожалению, не увидел.
«Сидит где-нибудь сбоку — я и не вижу…»
Когда Александр Александрович, стоявший за маленькой фанерной трибуной, веско бросил в стихающую аудиторию:
— Слово предоставляется воспитаннику нашей школы, награжденному за подвиги в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками медалью «За отвагу» и орденом Красного Знамени летчику старшему лейтенанту Владимиру Петровичу Ушакову! — в зале и коридоре обвалом рухнули аплодисменты.
Володя, разрумянившись от столь неожиданного приема, вышел к трибуне. Дождался тишины, громко произнес:
— Друзья! От летчиков, штурманов, техников, механиков, стрелков, радистов и мотористов нашего дальнебомбардировочного комсомольского полка передаю вам горячий боевой привет!..
И снова зал грохнул взрывом аплодисментов.
Володя, поощряемый напряженным вниманием слушателей, говорил звонко и четко. Часто приводил примеры из боевых действий своего полка, дивизии и других частей. И когда закончил словами:
— Несомненно, в 44-м году фашисты будут разбиты! — зал снова, в который уж раз, бурно зааплодировал.
Володя, чуть вспотевший и немного уставший, направился было за стол на свое место, но ему не дали отдохнуть. Посыпались вопросы:
«А что за училище он окончил?.. Сколько времени в нем учиться?.. Давно ли на фронте?.. А страшно ли там?.. На каких самолетах летает?.. Сколько сделал боевых вылетов?.. Как часто приходится летать?.. Видел ли немцев?.. За что получил награды?.. Каков экипаж на самолете?.. Берут ли девушек в авиацию?..» И много, много других…
Под конец откуда-то с галерки из темного угла раздался развязный, ядовитый голос, полный ехидного сочувствия:
— Летчик! А отчё ты поседел?.. От страху?..
Зал возмущенно ахнул и замер в растерянности, словно ожидая, что будет дальше и чем все это кончится.
Володя краем глаза видел, как покраснели Александр Александрович и Фелицата Константиновна. Видел и чувствовал на себе разные взгляды. В большинстве стыдливые и сочувствующие. Но были и любопытные, насмешливые: «Ну, поглядим? Что ответишь? Как выкрутишься?..» Кое-где раздалось едучее хихиканье…
— А оттого! — звеняще выкрикнул Владимир. — Чтобы ты не седел и мог спокойно, не боясь, задавать любые вопросы! Но не хамить!..
И снова грянули аплодисменты… Наконец, вопросы кончились.
Александр Александрович, поднявшись, с улыбкой глядел на возбужденные лица учеников.
— Товарищи! Разрешите от вашего имени, от имени учителей поблагодарить дорогого гостя Владимира Ушакова за участие в вечере, за содержательный доклад и чрезвычайно интересную, полезную беседу!.. — Он поднял руку, пытаясь предупредить аплодисменты, но это ему не удалось и последние фразы пришлось почти кричать. — А также пожелать ему больших успехов в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, скорой победы над ними и счастливого возвращения домой!..
И опять дрогнула школа от шквала аплодисментов. Александр Александрович долго тряс руку Владимиру и говорил что-то напутственное и сердечное…
Официальная часть вечера на этом закончилась. Вслед за учителями все хлынули в коридор. Юноши плотным тесным кольцом обступили Владимира и вновь обрушили поток вопросов. Оставшиеся в зале старшеклассники быстро освободили его от стульев и скамеек. Кто-то сел за пианино, зазвучал вальс. Закружились первые пары…
Володя в окружении ребят шел по холодному полутемному коридору.
Неожиданно перед его носом, видно от удара ногой, с визгом пролетел край двери туалета. С папиросой в зубах оттуда вывалился плотный черноволосый парень — Мишка Мирон.
«Вот это ученик? Два года как бросил учиться, а в школу ходит! — Володя с интересом вглядывался в него. — И где только папиросы достал в такое время?..»
— Ты почему в школе куришь? — не выдержал он.
Галдевшие сзади подростки примолкли.
Мишка небрежно вынул изо рта папиросу, сплюнул в угол.
— А тебе какое дело?
Голос показался знакомым. «А-а, так вот кто…»
— Это ты кричал, почему я поседел?
Мишка замешкался. Он был готов отшутиться, но все же ему не хотелось ронять свой престиж перед бывшими соучениками.
— Ну я, — с вызовом ответил.
— Послушай, Мирон, теперь я спрошу. Почему ты не на фронте?.. Твои сверстники уже больше года воюют, а ты за их спины прячешься! А ведь ты смелый избивать слабых! Атаман города!..
В прошлом Мирон не раз дрался с Адмиралом и по опыту знал — с ним лучше не связываться. Но привычка задирать, говорить не обдумывая подвела и на этот раз. Он иронически усмехнулся:
— А тебе чё, завидно?
Володя, побледнев, почувствовал дрожь в руках и необычную легкость тела. Схватив Мишку за пиджак, притянул к себе.
— Издеваешься, трус! А сам шкуру спасаешь?..
Мишка, не ожидавший такого оборота, вначале опешил, потом толкнул Володю в грудь.
— Не лапай! А то в морду дам!
Володя, поймав его руку, рывком заломил ее назад. Мишка, изогнувшись, взвыл от боли.
— Отвечай! Почему не на фронте!
Мишка, ошеломленный, в ответ только стонал.
— Я ж моло-о-до-ой! — наконец с подвывом выдавил.
— Врешь! Все знают — старый! А метрики твои — липа!
Владимир толкнул его от себя…
Когда Владимир с парнями вернулся обратно, — танцы были в полном разгаре. Он с трепетом всматривался в танцующих, отыскивал Мильку, но ее почему-то опять не было видно. Неужели ушла? Он даже испугался. Хоть домой иди к ней или подстерегай завтра на улице, когда пойдет в школу…
Он вглядывался в девушек, стоявших группками и в одиночку вдоль стен, но и там ее не видел. Наверно, вышла и прогуливается по коридору?.. Здесь все еще жарко… Но это было минутное самоуспокоение.
— Володя?! Что же это такое? — приблизилась, вихляясь, походкой манекенщицы Галина Короткова. — Все танцуют, а ты стоишь?! По меньшей мере, это неуважение к классу…
— Что ты, Галя? Просто я неважный танцор!..
— И это причина? — качала головой Короткова. — Mein lieber Freund?!. За сегодняшний вечер я научу тебя танцевать!.. Только уговор! Меня слушаться и никуда не исчезать!..
— Слушаюсь! — пытался шутить Владимир. — Разрешите пригласить.
— Спасибо, что догадался! Mein lieber Knabe!..
Танцуя, Галина не умолкала. Расспрашивала обо всем и обо всем рассказывала. Первый танец вышел комом. Владимир чувствовал себя скованно, чуть получше коровы на льду. Ноги то не двигались с места, то плохо слушались, то разъезжались в стороны, задевая партнершу и соседей. Зато следующие танцы, пожалуй, получились.
Короткова честно выполняла свое обязательство. Не отходила от него ни на шаг. Владимиру это и льстило, и в то же время смущало. Короткова была видной девицей, но очень уж смелой…
Но где Милька?.. Прошло уже полчаса с начала танцев, а ее по-прежнему нет?! Хоть парней выспрашивай, что с ней? Ведь самая заядлая танцорка. Никогда не пропускавшая школьных вечеров?!.
Если только придет — он себя покажет!.. Не как в тот раз, когда пригласил ее с подругой в кино.
Снисходительная улыбка тронула его губы…
Впервые в жизни с такой тщательностью собирался тогда на свое первое свидание. До блеска начистил хромачи. Выутюжил отцовы темно-синие галифе с голубым кантом. Надел сиреневую шелковую рубашку. Придирчиво оглядел себя в зеркале. Стройный, с перетянутой талией юноша вглядывался в него. Удлиненный, мягкий овал лица, густые темно-русые волосы, зачесанные слегка вверх и набок, крупные зеленовато-серые глаза, прямой нос над алыми сердцеобразно-пухлыми губами. Ну что еще ей надо?!.
Буквально на крыльях летел к театру. Как же?! Сама Милька ждет! Он десятки раз мысленно репетировал встречу. Какие слова скажет, когда увидит их. Как купит билеты, проведет в зал, усадит на места. Сам сядет, разумеется, с ней. А после проводит домой…
Вероятно, это репетирование и подвело. Он не ожидал, что столь много народу будет толпиться у кинотеатра. И сразу все варианты вылетели из головы. Не видя Мильку, решил, что они обманули, не пришли.
Проталкиваясь к входу, нос к носу столкнулся с ней. И не нашел ничего лучшего, как спросить:
— Билеты купили?..
— Да, купили… — как-то растерянно ответила она.
«Все ясно!.. Пренебрегли или пришли с кем-то», — подумал он и прошел в зал… Домой пришел злой, будто избитый…
— Володя?!. Владимир! — тормошила его Галина, кружась в вальсе и заглядывая в глаза. — Что с тобой? Почему такой невнимательный?!.
— А-а? Что?..
— А, что, — передразнила Галина. — Глядишь все время по сторонам, потерял, что ли, кого?..
— Да не-ет.
— Может, Мильку Ремизову? — испытующе с прищуром глядела Галина. — Так здесь ее нет и не будет!..
— Как не будет? Почему?.. Короткова весело рассмеялась:
— Вот ты себя и выдал!.. — И точно вонзая иголки в тело, медленно и раздельно: — А она-а больше-е не учится-я у на-ас… Вчера-а вышла-а заму-уж!..
— Замуж?! Как замуж?! — только и смог выговорить Владимир, мигая.
— А очень просто! Вышла за бригадира трубопрокатчиков Вадьку Онищенко!.. Помнишь, учился на трубном в 3-й школе?..
— Нет.
— Да ну-у?! Известный всему городу парень! Лучший плясун! Всегда выступал в самодеятельности! Курчавый такой, блондинистый!..
Что она говорила дальше, Володя не слышал. Да и почти никого не видел…
Все пропало! До слез обидно. Он чувствовал себя так, точно его обокрали. И главное в тот день, когда вернулся с фронта домой. Когда хотел смело подойти к ней и сказать все! Пока воевал, защищал, не ждала… Исчезло то, чем жил годами. Казалось, наступил конец всему. Весь интерес к вечеру, к танцам пропал. Здесь больше нечего было делать. И он наверняка бы ушел, если бы не случай, развеселивший многих…
Когда закончился очередной фокстрот и все уходили с круга, к ним неожиданно подошла дородная Гарбович. Старше своих одноклассников на два-три года, из эвакуированных, она появилась в школе осенью 41-го, и Володя почти ее не знал.
— Короткова?! — на весь зал загремела она. — Так поступать нечестно! Вцепилась в Ушакова и не даешь ему шагу ступить! Мы тоже хотим с ним танцевать!.. — она отвернулась на секунду. — Правильно я говорю, девушки? Правильно?!.
Послышались смех, хлопки, одобрительные возгласы:
— Правильно, Сима! Дуй дальше!..
Гарбович повернулась довольная и, не глядя на Галину, будто той тут вовсе и не было, торжествующе проговорила:
— Володя, ты должен танцевать с девушками нашего класса поочередно. Я первая…
Опять послышались смех, аплодисменты, возгласы.
— Есть! — шутливо вытянулся по стойке «смирно» Владимир. — Только разрешите даму проводить на место?..
Короткова, потемнев от гнева, только и смогла выпалить:
— Ну и бесстыжая ты, Симка! — И выбежала в коридор…
— Володя, — танцуя танго, говорила на ухо Сима. — Ты должен проводить сегодня одну девушку.
— Кто она? — улыбнулся Владимир.
— Очень! Очень симпатичная особа!..
— Не знаю…
— Почему? Ну почему?..
— Потому что сегодня провожаю весь класс…
— Боже мой! Какая глупость! Зачем тебе нужен весь класс, когда достаточно одной красивой девушки? — многозначительно, закатывая глаза, заклокотала Сима. После танго она задержала его.
— Через танец ты пригласишь меня еще и мы договоримся. Хорошо?..
— Если смогу…
— Нет, пригласишь! Договорились?
— Ну, хорошо, хорошо… — сдался Володя и направился к Свете, сиротливо стоявшей в углу. Она, вспыхнув, делала вид, что не замечает его.
— Здравствуйте! — сказал он.
— Ой, здравствуйте! — просияла Света.
— Разрешите пригласить вас.
— А что, разве моя очередь?..
— Так точно! — пытался шутить Володя.
— А я думала, моя последняя, — и, неожиданно отвернувшись, холодно закончила: — К тому же в очередь я не становилась…
— Тогда разрешите пригласить без очереди, — не сдавался Володя.
— Ну, если так, — довольная, повернулась Света…
В перерыве между танцами в полутемном коридоре, где было свежо и безлюдно, к Владимиру подошла Сима.
— Итак, Володя, — беря его под руку обеими руками, — после танцев вы с Мишкой Мироновым провожаете нас.
«Ах, вон оно что?.. Тоже горячая любовь! Разве захочешь на фронт?»
— А кто твоя подруга?..
— Будешь провожать — увидишь! Очень милая, просто красивая девушка!
— Не смогу, Сима.
— Никаких «не смогу!» Никаких!.. Ты будешь с ней! Понял меня теперь? Ты понял меня?! — распаляясь, строчила Сима, кивая хищным носом в такт словам и заглядывая в лицо сбоку.
— Не могу.
— Боже мой! Боже мой! — завзмахивала руками Сима. — Он не может! Он не может?! Да знаешь ли ты — мы продлим этот вечер на квартире?!. У Нади уехали родители, и целых две комнаты в нашем распоряжении?!.
«Ах, вон кто!?» — Володя вспомнил крупную грудастую Надю под стать самой Симе с вывернутыми полными губами. Ему стало немного теплее от этого и в то же время еще грустнее и обиднее. «Нашла красавицу!?» Разве может она сравниться с Милькой?..
Мильку без раздумья пошел бы провожать хоть на край света. А то Надю… Да и вовсе ее не знает… Она недавно приехала в Синарск… И почему так несправедливо устроен мир? Кого любишь — тот тебя не любит. И наоборот.
— Ты знаешь? — заговорщически шептала Сима, едва не задевая носом его щеки. — Будет закуска и… выпивка! И не какая-то там брага! А настоящее красное и водка!..
Володя улыбнулся, покачал головой.
— Я не пью, Сима.
— Ты это всерьез? — отшатнулась она, выпучив глаза.
— Вполне, — улыбнулся он.
— Больной?!. Ей-богу больной?!. Или не того? — повертела растопыренными пальцами у виска и скривила рожу.
— Нет, того. Правда, недавно болел, но сейчас выздоравливаю…
— Люди добрые?! Люди добрые?! Я отказываюсь его понимать! — ломая пальцы, горестно восклицала Сима. — Да пойми же ты, наконец, герой! — притиснула она его к стене своим высоким бюстом. — Вы будете с ней вдвоем в комнате…
— Знаешь ли, — замялся Володя, то ли от смущения, то ли от нехватки слов, а может, от того и другого вместе, — ведь не с каждым можно быть наедине… Для этого любить нужно человека…
— О-о! Боже!? Святая невинность! — воздела она вверх руки. — Да пойми же ты? Ты можешь остаться у ней ночевать! Ты понял меня? Ты правильно и полностью меня понял?!
— Я привык спать дома.
Сима беззвучно трижды раскрыла рот и вдруг угрожающе захрипела:
— Ты что?!. Издеваться надо мной?.. — размахивала она кулаками. — Я всем расскажу, кто ты есть на самом деле!.. Девушка осталась одна! Ее могут убить бандиты! А ты не хочешь помочь человеку!.. Трус! Трус! Вот ты кто! Да я не хочу после этого с тобой разговаривать! Ты еще крупно пожалеешь!..
Сима, возмущенно фыркнув и гордо задрав голову, величественно поплыла в зал…
Владимир, разведя девчонок по квартирам, вернулся домой к полуночи.
— Ну, наконец-то! Мы уж хотели встречать тебя! — с облегчением проговорила сестра и стала накрывать на стол.
— Володя, ты совсем не берегешь свое здоровьё, — ласково выговаривала мать. — Смотри-ко, в хромовых сапожках по морозу скачешь…
…Спать забрался под бок к брату, давно посвистывающему носом. Мать уселась в головах. Умильно глядела, как сыны лежат рядышком в обнимку. Засыпая, Владимир чувствовал, что она все еще сидит около них. Протяни руку — дотронешься…
Следующим вечером семья Ушаковых отправилась в театр.
Давали «Нашествие» Леонида Леонова.
Несмотря на холод, стоявший в театре, в нем было полно народу.
Леня, будто привязанный невидимой веревкой, был все время рядом с братом, не отставая ни на шаг. Прохаживаясь по фойе перед началом спектакля и в перерывы, он горделиво смотрел вокруг и всем своим видом словно говорил: «Вот какие мы — Ушаковы! Знай наших!»
Он буквально упивался сознанием того, что идет с братом, на груди которого на защитной гимнастерке — сгустком крови алел боевой орден — символ славы, доблести и геройства, на который засматривались с плохо скрытым и нескрытым любопытством большинство окружающих — женщин, девушек, парней и мужчин. Он буквально наслаждался взглядами уважения, восхищения и удивления, которые бросали они на брата и всю семью Ушаковых.
«Как же?! Иначе и быть не может! — водил он головой по сторонам. — Ни у кого ведь нет ордена Боевого Красного Знамени!.. Мой брат — самый первый и единственный в Синарске награжденный им…
С год назад приехал раненный в ногу Сережа Трофимов, награжденный медалью «За боевые заслуги». Так и то, когда он появлялся в театре, хромоногий, с палочкой-костыльком в правой руке и с медалькой, одиноко блестевшей на груди, так и то сколько народу, чуть не разинув рты, заглядывалось на него?!. А тут орден!.. Да какой?!. Второй по значимости после ордена Ленина!»
Принаряженная Дарья Яковлевна, в коричневом новехоньком платье, сшитом перед самым началом войны, с пуховым платком на плечах, помолодевшая лет на десять, хрупкая и стройная, точно девушка, сияющая и счастливая, шла с другого бока Владимира и приветливо здоровалась со знакомыми.
Валентина, в темном платье-костюме, в золотистых шелковых чулках и лакированных туфлях-лодочках на высоком, со взбитыми пушистыми белокурыми локонами, подхватив мать под руку, рдея от счастья, вышагивала с гордо поднятой головой…
Знакомыми были почти все. Драмтеатр стоял в центре старого Синарска, где жители знали друг друга в лицо, как в деревне.
Ушаковых часто останавливали. Здоровались, заговаривали. Беззастенчиво спрашивали:
— Дарья Яковлевна, это кто?.. Ваши дети?.. Какие взрослые?!. Да не может быть!.. Скорей брат и сестра ваши!..
Радушно улыбаясь, знакомились с Владимиром и Валентиной. Тянули для рукопожатия руки, приглашали в гости…
Да и на самом деле старшие Ушаковы — все трое — стройные, белокурые (мать с сыном седые), сильно походили друг на друга…
Секундой пролетела отпускная неделя, хоть мать и старалась растянуть ее на годы, просиживая ночи около спящих сыновей. Никогда не забыть Ушаковым проводы Володи на фронт.
— Господи?! До чего же быстро пролетело время?! — стонала мать с самого утра в этот день, непрестанно поглядывая на синие часы-ходики.
— Кажется, вчерась токо приехал, а сёдни уж уезжать?.. Господи?! Чтоб у нас время-то остановилось, а там, на фронте, быстрее шло! Чтоб приехал сын, а там уж и войне конец! — заклинала она…
— Это ты виновата! — плача, накидывалась на Валентину. — Ты написала письмо в деревню, чтоб выдали новые метрики?! Если бы не ты — жил бы парень дома без горя и забот! Работал бы на военном заводе, ходил бы под броней, как други делают!..
Валентина бледнела, не смея перечить. Владимир с Леней как могли утешали мать. Валентина поддакивала издали, боясь приблизиться. Но мать не успокаивалась.
Прильнув к груди сына, вещала низким голосом по-детски всклыктывая:
— Чуёт мое сердце — не вернешься боле!..
Он гладил ее голову, целовал волосы и говорил негромко:
— Ну, успокойся, успокойся, родная. В тот раз это же говорила, а ведь вернулся я и перед тобой стою.
А когда время пришло идти на станцию — повисла на сыновней шее.
— Не пушу-у!.. Что хотите со мной делайте!?. Не пушу-у! — и выла по-звериному, давясь слезами. — Ты свое отвоевал! Вон каки награды имеешь?!.. Пусть другие стоко повоюют, да их заслужат!.. Я самому Сталину писать будуу!.. Нет такова закону, чтоб мальчишек на фронт посылать?! Пусть воюют те, кто шкуры спасат! Кто прячется за мальчишечьи спины, посылая на смерть!.. — и упала на пол.
Соседка, жившая за стенкой в другой половине дома, да пришедшая Галина Короткова, отваживались с ней…
На станцию Владимира провожал весь класс. По затемненному городу и полю шли шумной разбойной ватагой. Девчонки всю дорогу пели песни: «Дан приказ: ему на запад», «Прощай и друга не забудь!», «Катюшу», «Прощай, любимый город», «Каховку» и другие…
Когда поднялись в гору, у хлебозавода, размещавшегося в бывшем женском монастыре — башне с зубцами, обнесенной зубчатой стеной, Владимир задержался, в последний раз оглядел свой город, сбегающий по пологому берегу к месту слияния Каменки и Исети.
«До свиданья, Синарск! До свиданья, родной! Придется ли с тобой свидеться?!.»
А на другом конце пустыря вдали призывно мерцали гирлянды огней. Перекликались гудками паровозы, словно подманивали к себе.
Владимир простился с ребятами сразу же после покупки билета у кассового зала — длинного низкого здания. Поезд уходил около 3-х ночи, поэтому было глупо его всем ждать.
— Пиши! Не забывай! — напутствовали одноклассники. — Возвращайся с победой! Ждем! Пусть ваши летчики нам тоже пишут!..
— Не забуду! Не забуду! — точно слова клятвы, повторял он, пожимая поочередно всем руки. — Спасибо! Спасибо за все! А комсомольцы-летчики нашего полка обязательно вам напишут!..
Так и получилось, что провожали его сестра да младший брат. Да еще Светка Вольская, непонятно откуда взявшаяся тут. Кажется, домой должна бы уйти?..
— Учись отлично. Кончай обязательно 10 классов! — держа за плечо брата, говорил Владимир. — А потом поступай, куда захочешь — в институт или в летную школу!.. А ты, Валя, — повернулся к сестре, — спокойно кончай свой индустриальный. Я буду еще больше посылать вам по аттестату. Ты, Леня, единственный в доме мужчина, поэтому вся домашняя работа на тебе, и чтоб мама всегда была довольна…
— Понял! А ты крепче бей фашистов! И приезжай домой героем! — восторженно звенел брат.
Темень, разъеденная во многих местах тусклыми конусами фонарей, зыбилась и густилась вдали. Пронзительно и сиротливо взвизгивали и надрывно гудели дальние и близкие паровозы. Взад и вперед катались маневровые кукушки, обдавая облаками пара, фукая и фырча, будто напоминая: «Ехать пора! Пора, брат, пора!..»
— Света, спасибо, что провожаешь. Не ожидал, что такая храбрая. Как только домой доберетесь?..
— Доберемся. Себя береги…
— Постараюсь…
Громыхая, подошел зеленоватый поезд. Коротенькие небольшие вагоны слепо глядели узенькими прямоугольничками окон.
Народ кучами хлынул к вагонам. К черным провалам открывающихся обледенелых дверей…
Владимир запрыгнул на ступеньку и долго, долго махал рукой, пока не скрылись из виду родные…
12
После гибели Медведева Ивана Семеновича командиром звена назначили старшего лейтенанта Хаммихина Константина Алановича.
Мощный лоб, широкий прямой нос, квадратный подбородок с нависшими румяными щеками, меленькие, стального оттенка глаза под густыми рыжеватыми бровями придавали ему что-то львиное.
Уверенностью, несокрушимой силой веяло от его фигуры. Обычно рослые люди из-за внушительного вида для многих авторитетны. Особенно для девушек и начальства. Это не раз замечал и прочувствовал Ушаков, будучи сам «середнячком». А скупые жесты, выразительная мимика и манера держаться с чувством собственного достоинства лишь укрепляли Костин авторитет.
Но все это было внешним проявлением характера, а вот каков он в бою — Ушаков не знал. Знал только, что Хаммихин старше его на 6—7 лет, на фронте с первого дня войны. В полк прибыл, кажется, из госпиталя. Имеет около сорока боевых вылетов, а из наград — только медаль «За боевые заслуги», что было просто удивительно…
Хаммихин часто уводил Ушакова на перекур за хвосты самолетов. И там долго, витиевато и запутанно говорил о жизни, ее смысле, о войне. «Запомни, на фронте в особенности, как и всюду в жизни, побеждает умный, хитрый, изворотливый. Не будешь таким — пропал!.. Вот, к примеру, из бывшего нашего полка осталось в живых несколько человек!.. В том числе и я!.. Думаешь, легко это? Уметь надо! Смерть-то так и махала косой над головой…»
Владимир слушал, кивал и неопределенно поддакивал.
Обычно в минуты хорошего настроения Хаммихин рассказывал анекдоты или разные смешные истории. Владимиру запомнились две.
— …Иду, значит, я по полю с собакой. Вдруг из лежки из снега выскакивает огромный заяц и делает от меня гигантский прыжок! И вдруг с того места раздваивается! И уже два зайца бегут в разные стороны!..
За одним собака кинулась, а в другого я прицелился — бах! И вижу, он как подпрыгнет! Метров на шесть вверх, так что я даже голову задрал — шмякнулся о землю и не шевелится!.. Я подбежал — хвать его и ищу, куда попал? Гляжу, гляжу — никак не найду ни раны, ни крови…
В этот момент слышу: приближается лай. Тогда сунул я зайца в рюкзак и приготовился встречать другого. Они ведь, зайцы-то, по кругу бегают… Вдруг вижу, из леса выскакивает второй заяц и бежит прямо на меня!.. А собака, далеко отстав, бежит за ним по следу… Ну, я, чтобы его не спугнуть и наверняка укокошить, как стоял в ложбинке около сугроба, взял да и пригнулся. Потом приподнимаюсь, вскидываю ружье и с удивлением замечаю — зайца-то нет! Пропал куда-то!.. А ведь бежал прямо на меня!.. Ну, я искать, оглядываюсь кругом — нигде не вижу!.. В снег, что ли, зарылся?.. Тогда пошел я туда, где он бежал, нахожу его следы и вижу — оборвались они недалеко от меня. Иду, ищу зайца и никак не найду, и догадаться не могу, куда пропал?.. В этот момент прибегает собака и тоже теряет зайца. Скулит, воет, нюхает оборвавшийся след и давай бегать вокруг недалеко расположенного стога соломы. И так несколько раз… Я слежу за ней, а потом поднимаю голову, гляжу на стог и обмираю. На верхушке его сидит заяц, крутит головой, наблюдает, как бегает внизу собака…
Ну! Уж тут я его не упустил. Метров с пяти-десяти как жахну!.. Того словно ветром сдуло!..
Вы спросите, откуда же взялись два зайца, когда я спугнул одного? Оказывается, первый прыгнул на лежку второго и испугал того. А дома, когда я снял шкурку с первого зайца, я узнал, куда ему попал. Одна!.. Всего одна дробина влетела ему в ухо, пробила череп и проникла в мозг.
— Так-то вот! — покачивал Костя головой, чмокая губами. — А вы всякие гадости рассказываете…
— А этот случай, — говорил он в другой раз, — произошел в нашем полку на Южном фронте летом 41-го… Днем, когда полк готовился к вылету — осматривали матчасть и подвешивали бомбы, неожиданно на посадочную приземлился штурмовик Ил-2… На посадке летчик скозлил и то ли от удара, то ли другого чего внезапно дал длиннющую громоподобную очередь из пушки… Ну, ясно — на аэродроме поднялась паника. Кто-то истошно крикнул: — Немцы-ы! — И все, побросав самолеты, ринулись в кусты. И первым — инженер эскадрильи, осматривавший крайний самолет, с расширенными от страха глазами… А на краю аэродрома росла густая трава в рост человека. И в ней стоял столб. Продираясь сквозь траву, инженер не заметил его и врезался в столб лбом! — А-а! Убивают! — завопил он и упал под ним. Паника усилилась. Бросившиеся в кусты шарахнулись обратно на аэродром. А там их встретил с матюганьем командир полка, стрелял из «ТТ» в воздух…
Наконец, когда разобрались, что к чему, и все утихло, многие летуны один за другим начали вылезать из кустов, пряча от стыда глаза. И последним — злосчастный инженер с огромной шишкой-подушкой, затянувшей синяком глаза. Командир полка, выстроив полк, потрясая пистолетом перед носом красного как рак инженера, громко говорил:
— Инженер! Учтите! Если подобное еще раз повторится!.. За организацию суматохи, как злостного паникера, собственноручно расстреляю перед строем!.. Вы обязаны в случае нападения первым помочь мне организовать оборону аэродрома!. А вы! вместо этого, первый, сломя голову несетесь в кусты, разбиваетесь о столб, да еще кричите на весь аэродром дурным голосом: «Убиваю-ют!..»
Окружавшие Хаммихина слушатели долго и громко смеялись…
Как-то Владимир посочувствовал ветерану: «Столько сделали боевых вылетов, а наградили вас всего одной медалью…»
Хаммихин, искоса поглядев на него, раздельно произнес:
— Мне наплевать на бронзы многопудье! Мне наплевать на мраморную слизь! — И, придвинувшись вплотную, жарко обдавая дыханием, шепотом продолжал: — На свете нет ничего дороже, чем человеческая жизнь! А дураки рискуют ей, разменивают на побрякушки!..
Владимир запротестовал, заспорил было, но Костя, к удивлению, неожиданно согласился:
— Конечно, конечно, — ворковал он. — В критических обстоятельствах приходится жертвовать, как Гастелло… — Потом, чмокнув губами и горестно покачав головой, трагически произнес:
— Да-а, обижают меня крепко. Летаешь, летаешь, а не замечают. Вот уже с тобой мы сделали сколько вылетов?.. Пять или шесть, по-моему?..
— Да-а, шесть, — смущенно согласился Владимир, так как вылеты эти были не опасны. В тыл, в штаб корпуса, в соседние полки. Летали, словно в Среднегорье, нигде не встретив ни одного «мессера»…
В другой раз Хаммихин наставлял:
— Вы, «подсанята», почему быстро гибнете?.. Потому что везде лезете первыми. Суетесь, как вас учили в тылу. А что к чему, не соображаете! Нет в вас никакой хитринки, а без нее и в мирной-то жизни не проживешь!
Шумно вздохнув и покашляв, доверительно закончил:
— Ты вот что! Держись меня, понял?.. Главное слушайся! И выполняй безоговорочно!.. Со мной, запомни, не пропадешь!
— Так я ведь слушаюсь, — заикнулся было Владимир, но командир не дал договорить:
— Знаю, знаю. Главное, чтоб в горячий момент не подвел! — и, понизив голос, наклонившись: — Ты вот что! Не напрашивайся особенно летать-то!.. Особенно на боевые вылеты. Полк на это есть. А мы звено управления. Наше дело — связь, командировки. Действуй по пословице: «На службу не напрашивайся, от службы не отказывайся!»… И помни — чем меньше летаешь, тем больше живешь!..
13
— Так держать! Так держать! — склонившись к прицелу, командовал Владимир. Он наблюдал, как цель — железнодорожные составы, залитые светом САБ (светящейся бомбы) — медленно двигалась по курсовой черте к перекрестию. В тот момент, когда цель заползла в центр, энергично давнул упругую боевую кнопку.
— Бомбы сбросил! — прокричал он, и ему даже показалось, как в поле зрения прицела одна за другой мелькнули массивные туши «соток», понесшиеся к земле. — Разворот!..
И хотя Хаммихин бросил машину вниз с разворотом, Владимир, высунувшись в блистер — выпуклый прозрачный колпак — продолжал наблюдать за целью…
Прошли какие-то мгновенья. И вот железнодорожные составы наискось перечеркнула линия огненно-рыжих кустов — разрывов. Вздыбились, подпрыгивая вагоны, сталкиваясь в воздухе и разлетаясь в стороны. Запрыгало, заплясало пламя на них. Осветилась вся станция, хотя САБ давно уже погасла.
В воздухе пламя тоже бушевало. Сотни клубящихся огненных вспышек рвали вязкую темноту ночи в различных местах на различных высотах. Узкие лезвия прожекторных лучей резали пространство на огромные черные полотнища, выискивая жертву — самолет.
Хаммихин метался в этом огненном месиве, точно в мешке, не находя выхода. Сорок потов с него сошло, пока, наконец, на малой высоте он не вышел из простреливаемой зоны…
Где-то около линии фронта пришел в себя. Осмотревшись внимательно, заметил слева на пульте горящие глазки лампочек, похожие на рубины.
Что же это? Почему не сбросили бомбы?
— Штурман! — закричал он нетерпеливо.
— Слушаю, командир! — запыхавшись, отозвался появившийся Ушаков.
— Ты сбросил бомбы или не сбросил!?
— Конечно!..
— Что — конечно?.. Сбросил или нет?
— Сбросил, конечно!
— А это что? — показал рукой Хаммихин.
Владимир перегнулся, уставился на лампочки.
— Почему горят?.. Должны потухнуть, если сброшены?..
— Не знаю, — упавшим голосом протянул Владимир. — И аварийно я продублировал…
— Вот и я не знаю, — зло говорил Хаммихин. — Выходит, не сбросил ты их! А мы такие муки перенесли!.. Жизнью рисковали…
— Этого не может быть! — возмутился Владимир. — Я сам видел разрывы. И вы видели, если смотрели!..
— Мы-то не видели! — возразил Хаммихин. — Не до того было! Сам прекрасно знаешь…
— Ну, а если не видели, так верьте мне!
— Это почему же? А сигнальные лампочки? Они что, врут?
— Конечно! Электроцепь, видно, неисправна.
— Вот так здорово! Техника, выходит, врет, а он не врет!.. Ты слышишь, Саня? — наклонился Хаммихин к второму пилоту Родионову. — Сигнализация врет, а он не врет!..
— Да-а, — осуждающе качая головой, усмехнулся Сашка, взглянув на Владимира. — Чудеса, да и только.
— А ты понимаешь? — повернулся Хаммихин к Ушакову. — Пока горят лампочки — не имеем мы права верить тебе.
— Ну не верьте. Ваше дело, — обиделся Владимир. — В тот раз тоже не верили, а правым-то оказался я.
— Вот что, друг! Всякую-то околесицу не плети! Ты отлично знаешь, что прошлый раз к нынешнему никакого отношения не имеет! И нечего козырять прошлым! Лучше подумай о спасении своей шкуры!.. А то с бомбами-то прилетим, да сядем — знаешь, что будет?..
Хаммихин умышленно сделал паузу и, словно наслаждаясь, медленно цедил: — За невыполнение-то задания по головке не погладят. А вот к стенке могут поставить! А то, не дай бог, на своих же бомбах подорвемся во время посадки. Да и другие самолеты полка можем подорвать!.. Так что давай, пока не поздно, курс на запасную цель и пошлепаем туда!..
— Незачем нам туда. Я сам видел разрывы своих бомб. Идем домой.
— Ну и упрямый ты, как бык! А если это не твои разрывы? А другого самолета?.. Над целью-то, наверняка, мы были не одни?!.
— Возможно.
— А если возможно, так почему не допускаешь, что бомбы не сбросились.
— Потому что сам сбрасывал и видел, как они мелькнули!
— Видел! Ночью?
— Да, видел…
Хаммихин расхохотался.
— Ты что? Кошка, что ли?
— Не кошка, а видел, что тут особенного?
Хаммихин продолжал хохотать. Повернувшись, хлопнул Родионова по плечу. Нагнулся.
— Ты слышишь, Саня? Штурман-то совсем заврался. Говорит — сам видел в прицел, как мелькнули падавшие бомбы. И это ночью?.. Ох, уморил!
Хаммихин, откинувшись на спинку, хохотал громко и басовито.
— Да-а, да-а, — иронически улыбаясь, крутил головой Сашка.
Владимир спокойно наблюдал за ними, ожидая, когда прекратится нелепый, несуразный смех. А вернее, открытое, преднамеренное издевательство…
Все эти дни с момента прибытия Хаммихина из госпиталя Владимир пытался найти общий язык с ним. Иметь хотя бы обычные взаимоотношения. Но, к сожалению, ничего не добился.
Как всякий завистливый человек, Хаммихин с первой встречи невзлюбил Ушакова за то, что тот (мальчишка) имел больше, чем он (ветеран), боевых наград. Но только не подавал вида. Были и другие более серьезные причины, хотя бы те же прошлые боевые вылеты, в которых штурман, по мнению командира, проявлял слишком большую самостоятельность и ненужный риск.
Владимир старался беспрекословно выполнять все указания и даже советы командира. Терпеливо сносил смешки и насмешки и никогда никому не жаловался. И все из-за того, чтобы жить в мире с людьми, с которыми летал на боевые задания и бил ненавистных фрицев. А это было главным, ради чего он попал на фронт…
Еле успокоившись и вытерев выступившие от хохота слезы, Хаммихин, все еще всхлипывая, обернулся:
— Да пойми ты, кошка! Пока горят сигнальные лампочки, не только мы, а ты в первую очередь не должен верить себе и проверить, что с бомбами. Дело говорю, пока не поздно, идем на запасную! Там сбросишь!..
Хаммихин говорил так убедительно, что Владимир на минуту засомневался в том, что он действительно видел и говорил.
— Уже поздно, горючего не хватит.
— Что я тебе говорил? А ты сопротивлялся! Теперь сбрасывай скорей, пока не прошли линию фронта… Так уж и быть, возьму грех на душу, доложу, что сбросили по цели…
Эти слова, да еще издевательски-покровительственный тон больно хлестнули Владимира.
— А вы не берите его! Тем более, что брать нечего! — с вызовом сказал он.
Хаммихин вопросительно поглядел на Ушакова.
— Ты опять за свое?..
— Да, за свое. Бомбы сброшены, и точно по цели!..
— Я приказываю тебе — сбрасывай скорей бомбы! А то придется бросать на своей территории.
Владимир, не ожидавший такого оборота разговора, побледнев, ответил тихо, но твердо.
— Это невыполнимо — бомб нет.
Хаммихин долго исподлобья глядел на Ушакова, потом процедил:
— Ну погоди, обломаю тебе рога. Приказываю — выполнить серийный сброс вторично! А я лично проверю — правильно ли ты делаешь!..
Как ни хотелось Владимиру не выполнять эту унизительную процедуру — пришлось подчиниться.
Хаммихин, вылезши из кресла, зашел в кабину штурмана. Вернее, рабочее место, располагавшееся за креслом пилота, где находились прицел и электроприбор (ЭСБР) сброса бомб.
— Включаю питание, устанавливаю серию, интервал, количество бомб. А теперь нажми кнопку. Дерни рукоятки аварийного сброса. Проверим лампочки…
Хаммихин выпрямился, заглянул на лампочки. Они по-прежнему горели.
— Что-то непонятно, — протянул, усаживаясь в кресло.
— Ну, убедились, что сброшены? — не скрывал торжества Владимир.
— Нет, не убедился. А если бомбы не сбрасываются?..
— Как это не сбрасываются?
— А так! Зависли они у тебя — вот и не сбрасываются!
Владимир ошеломленно глядел на Хаммихина.
— Вот если бы ты сейчас вылез наружу, да заглянул под брюхо, то увидел бы, что бомбы висят! Голову даю на отсечение!..
— Так вот вам что от меня надо… Хорошо, я вылезу. Своими глазами проверю. Докажу в сотый раз, что я прав и не надо со мной спорить.
Владимир повернулся и пошел в общую кабину.
— А что же ты хотел! У порядочного штурмана цепь сигнализации не выходит из строя в нужный момент! — крикнул вдогонку Хаммихин.
…Проходя мимо стрелка-радиста, штурман хлопнул того по плечу.
— Идем со мной!
Нырнув в хвостовой отсек-багажник, вышел оттуда с веревкой. Пропустив ее под подвесную систему, завязал один конец на своем поясе. Второй конец пропустил под подвесной на спину и попросил радиста сделать узел точно посредине ее.
— Зачем это?
— Потом узнаешь. Вяжи крепко-крепко, чтоб никакая сила не развязала.
Когда радист, закончив работу, вышел из-за спины, Владимир, прицепив парашют к подвесной, сказал:
— А теперь зови стрелка и борттеха…
И когда радист ушел, конец веревки привязал вначале за рукоятку около двери, а потом за металлический трос, протянутый под потолком кабины.
Подошли парни.
— Ребята, сейчас на этой веревке вы спустите меня под самолет на полметра-метр, не больше, и я фонариком осмотрю бомбодержатели. Если мигну четыре раза, значит, все бомбы сброшены. Если один, то одна сброшена, если два, то две сброшены. Если зажгу свет без мигания, значит, тащите меня обратно в кабину. Поняли?..
— Понять-то поняли! — возмущенно сказал борт-тех, — но я бы под пистолетом туда не полез! Какого хрена лезешь ты, Вовка? Или тебе жизнь надоела?..
— Ребята, это приказ, а приказы надо выполнять!
— Как приказ? Чей? Командира? Да он что? Тронулся! — кипятился борттех. — Я сейчас же иду к нему! Пусть не придуривает! Если ему надо глядеть на них — пусть сам и лезет!..
— Держи веревку! Спускать будете постепенно. — Владимир, шагнув, повернул рукоятки, открыл дверь. Загудело в кабине. В уши ударил рокот моторов, шум и гул ветра. — Да не выпускайте веревку, а то меня сразу отбросит под хвост! — прокричал Владимир и, став на колени, высунул ноги за борт.
— Постой! Постой, Вовка! Не вылезай! Бегу к командиру!..
Гулко забухали шаги по металлическому полу.
— Держите крепче! — Владимир все дальше сползал под самолет. Вот только голова, да плечи, да руки остались в кабине.
Радист со стрелком, упершись ногами в борт и дверь, откинувшись назад, понемногу выпускали веревку. Но вот исчезла рука, плечи, скрылась и голова…
Ворвавшись в пилотскую, борттехник с «порога» зашумел:
— Командир! Почему приказал штурману лезть под брюхо! Это ж издевательство! Убийство человека!
— Кто приказывает? — заворочался в кресле Хаммихин. — Да он врет!.. Слышь, Саня? Ты слышал, чтоб я штурману что-то такое сказал?
— Нет, конечно! — с готовностью заверил пилот.
— И я говорю — нет! — Хаммихин перевел взгляд на борттеха. — Я пока что не сумасшедший — такие приказы отдавать! Это он сам чудит! Что, вы его не знаете? Опять хочет отличиться! Подвиг совершить!.. Так что иди передай — никуда не вылезать и не трепать языком нигде!
Борттехник повернулся и пошел к двери, как вдруг (то ли попали в зону болтанки, то ли в мощно-кучевую облачность) самолет затрясло, закорежило с крыла на крыло, бросило на хвост, подкинуло вверх…
Когда Владимир спустил ноги за борт — почувствовал — повис над бездной. Страх сдавил его, почти лишил силы и решимости. Руки, вцепившись в борт, закостенели и не разгибались. Ужасно ощущать болтающимися ногами бездонную леденящую пустоту. А поток воздуха все сильней забрасывал их куда-то вбок. Для преодоления страха Владимир по привычке закрыл глаза и мысленно твердил: «Это как при прыжке с парашютом. Страшен лишь момент отделения!..» Чувствуя опору в веревке, давившей грудь, он оторвал правую руку от самолета. Держась левой, он хотел опуститься под самолет на длину руки и осветить балки бомбодержателей. Но в тот момент, когда голова оказалась снаружи, мощнейшая струя воздуха (из двух потоков: скоростного и винтового) ударила в лицо. Запахло сладковато-острым запахом бензина, пригоревшего масла, дурманящими выхлопными газами. Ошпарило нагретым, точно из печи, ветром. Трудно стало дышать от переполнявшего легкие воздуха, рвущего рот, раздирающего ноздри, колотящего уши и выжимающего из глаз слезы. Тело все сильнее тянуло к хвосту. Левую руку рвало от самолета. Подвесная система и веревка сдавили бока, грудь, впились в тело.
Превозмогая себя, Владимир вытащил из кармана фонарик, включил свет. Как трудно вытянуть руку и держать прямо. Казалось, она попала во что-то упругое и вязкое, словно в воду, и ее непрерывно заворачивало назад. Фонарик вырывало из пальцев, и стоило больших усилий держать его. С трудом направил луч света под самолет, зашарил им по брюху, осветил балки.
Они были пусты. Ни одной бомбы не висело под ними. Только вилки, контрящие ветрянки взрывателей, безудержно плясали «на пузе» на своих металлических тросиках.
Владимир четырежды мигнул фонариком, но тут его неожиданно подкинуло и бросило назад. Толчок, и он увидел перед собой руль высоты. Даже не успел испугаться — так быстро это произошло. Только веревка, да подвесная система еще сильнее врезались в тело.
Что случилось? Почему выпустили веревку? Как он будет забираться в кабину?.. А если веревка порвется?..
Страх снова сдавил Владимира. Он поглядел вниз, но двухкилометровая толща мрака, скрадывающая высоту, скрывала землю. Еле-еле различимые желто-серые пятна мелькали изредка.
Борттех вскочил с полу… У багажника, потирая ушибленные места, поднимались радист со стрелком.
— Где Вовка?
— За бортом! — все еще морщась, ответил радист.
— Вот сумасшедший!
— Человек дела, — наставительно возразил стрелок. — Давай лучше затаскивать.
Он нацепил парашют на грудь, подошел к двери и, опустившись на колени, взялся за веревку.
— Хорошо, что привязал веревку к тросу. А то бы сейчас приземлился черт знает где!.. Беритесь за меня! И потянем вместе!.. Ну, взялись? Потянули-и! Потянули!
Стрелок сделал два-три перехвата и за вытянутую часть веревки ухватились борттехник с радистом. Теперь прямо за веревку тянули все, но она, словно резиновая была упругой и плохо поддавалась усилиям. Потом натянулась так, будто кто ее привязал за хвост.
— Ну, еще-е раз! два! взяли-и! — командовал теперь уже борттех. — Е-е-ще, взяли! — И все трое делали одновременный рывок, но безрезультатный…
— Нет! Не могу больше! — задыхаясь, сказал борттех. — Давайте, что вытянули, обмотаем за рукоятку.
Обессиленные, уселись на полу, привалясь спинами к бортам.
— Почему не тянется? — удивлялся радист, вытирая вспотевшее лицо рукавом комбинезона. — Неужели такое сопротивление, что сильней нас?
— Надо позвать правака, тогда, может, вытащим! — предложил стрелок.
— А, может, веревка попала в щель руля глубины или триммера? — гадал радист. — И заклинилась?..
— Может, и это, — в раздумье отозвался борттех, — но тогда нам хана! Не вытащить Вовку!
— Несладко ему сейчас. Болтается за хвостом вверх-вниз, как полешко…
Владимиру действительно было несладко. Воздушный поток трепал его, как пушинку. Упруго бил по голове. Шумел и колотился в ушах. Хорошо, что он был теплый, нагретый выхлопным пламенем двигателя. А то бы Владимир сразу промерз до косточек. Но плохо, что чадный, насыщенный отработанными газами, от которых можно было угореть и одуреть.
Впереди за стабилизатором Владимир видел пульсирующий язык выхлопного пламени, похожий на диковинный красно-желто-голубой трепещущий цветок.
Вдруг Владимир почувствовал, что веревка резко впилась в спину.
Ребята тащат!.. Как же им помочь?.. А что, если…
Он ухватился за веревку и попробовал подтянуть себя. Но сколько ни старался — ничего не получилось. Слишком уж силен встречный поток. Оставалась одно — ждать, когда вытащат.
Постепенно хвост, кажется, приближался. Затем продвижение прекратилось. Или это ему показалось?..
«Какой все-таки я дурень! — ругал он себя. — Почему не сделал веревку коротенькой. Давно был бы в кабине…»
…В этот раз тянули штурмана вчетвером. И снова безрезультатно. Из сил выбились. Родионов, который больше кряхтел, чем тащил веревку, плюнув на пол, с сердцем сказал:
— Черт с ним! Пусть болтается! Сам вылез — сам пусть и залазит, как хочет! А я пошел на свое рабочее место!
Парни пришли в пилотскую.
— Что будем делать, командир? — спросил радист.
— Ничего!.. Лететь домой, и только, — сухо ответил Хаммихин.
— Надо убрать газ правому двигателю! — предложил борттехник. — Тогда вытащим!
— Наконец-то догадались! Эх, вы! Горе-летчики! — презрительно засмеялся Хаммихин. — Да с самого начала это надо было сделать!..
— Что же вы не подсказали? Не убрали газ сразу? — недовольно спросил стрелок.
— А я откуда знал, что он вылез? И вы надсажаетесь, вытаскивая его? — невозмутимо ответил Хаммихин.
— Но когда мы позвали Родионова вы же знали, что вытаскиваем? Почему тогда не убрали газ? — поддержал стрелка радист.
— А я толком не понял, зачем вы его позвали. Да и потом, уж на то пошло, пусть поболтается разгильдяй! Может, дурь-то выветрится? Не будет самовольничать, спорить и ослушиваться командира! Так ведь, Саня?
— Конечно! Я бы на вашем месте так вообще не вытаскивал сейчас! А вытащил бы над аэродромом!
— Верно, Саня! Я так же думаю. Вытащим перед посадкой! Пусть болтается!
— Но это бесчеловечно! Это издевательство! — в голос запротестовали радист со стрелком.
— А вылезать из кабины — разве не издевательство над экипажем?.. Над вами? Он же везде будет трепаться, что командир заставил вылезть наружу? Какая слава о нас пойдет?.. Кстати, он не сообщил — бомбы сброшены или нет?
— Все сброшены! Четырежды мигнул, как уговорились.
— Тогда все! Идите по своим местам! И чтобы никаких разговоров.
Горец, он ненавидел Ушакова не только за его мастерство и находчивость. Главное, он знал — все мужчины рода Ушаковых, отец и двое его братьев, погибли, защищая Россию. А отец Хаммихина — активнейший националист, «борец за свободу» — еще в 42-м году установил контакт с фашистами, за что был арестован и выслан в Сибирь.
Ушаков о командире этого не знал и диву давался, за что тот его невзлюбил?.. Каждый день он вспоминал недавно погибшего старого командира, спасшего экипаж в том полете, его отцовское отношение к нему.
Когда самолет оказался над своим аэродромом, Хаммихин, убрав газ правому мотору, приказал:
— Затаскивайте самовольщика!
Парни бросились к канату. К великому удивлению, в этот раз веревка затаскивалась без усилий. Вот что значит «убранный» двигатель! Но каково же было их удивление, когда вытащили пустой конец!.. Владимир исчез!..
Недоумевая, осматривали веревку, измочаленный узел, которым она, по-видимому, заклинивалась в щели руля высоты. Терялись в догадках, что и когда случилось с Ушаковым.
— Как исчез!? — бушевал Хаммихин, когда ему доложили о штурмане. — Вот сволочь! И тут нагадил! Теперь выкручивайся! Пиши объяснительные!..
Когда самолет приземлился и зарулил на стоянку, неожиданно снаружи открыли дверь и в кабину влез… Владимир. Не говоря ни слова, он толкнул парашют к борту, прошел на свое место и, собрав документацию и снаряжение в планшет, направился к выходу.
— Володя?! Откуда? — только и успели воскликнуть ошеломленные парни.
— Потом! Обо мне никому ни слова! — обернувшись, предупредил Владимир и выпрыгнул из кабины.
Так в полку никто и не узнал, что произошло в эту ночь в экипаже Хаммихина. Только через неделю Владимир рассказал своим друзьям, как он быстрее их оказался на аэродроме…
Потеряв надежду на возвращение в самолет, в конце концов, увидел под собой родной аэродром. Вспомнил, в кармане комбинезона лежит перочинный складешок для заточки карандашей. Достал его и обрезал веревку… Приземлился вблизи стоянки. (Бывает же так!) Дождался, когда зарулит самолет, и влез в кабину…
14
ВЛАДИМИР УШАКОВ
Все боевые вылеты были для меня трудными и сложными. Поэтому ими горжусь одинаково, не выделяя ни один, как отец гордится своими сыновьями-молодцами, поровну любя всех.
И все же есть такой, которым нельзя не гордиться особо. Подобных ему больше никогда не было, да и вряд ли будет. Он был самым продолжительным по времени и длинным по маршруту. Секретным…
Ну и я был совсем другим, чем при полете с Вадовым на стратегическую разведку.
Предстояло выбросить двух парашютистов вблизи города Рунцлау.
Вылетели вечером с расчетом, чтобы в глухую полночь выйти в заданный квадрат. Задолго до линии фронта набрали максимальную высоту. С 4000 метров пришлось надеть маски — не хватало кислорода. Погода помогала выполнению задания. На этот раз синоптики не ошиблись…
Линию фронта прошли за облаками, каракулевыми шкурами раскинувшимися во все стороны. Для экономии горючего и увеличения дальности полета спустились с «потолка». И пошли над самыми верхушками бело-волокнистых клубящихся горок и завитков.
Серебристо-золотой диск луны заливал снежные вершины облаков своим матово-мертвенным светом, высвечивая все ямки на сугробной поверхности их, контрастно оттеняя тыловые стороны.
Порой чудилось, что не в самолете, а в аэросанях мчимся по заснеженной тундре, которой нет предела. Черно-фиолетовым куполом, усыпанным разноцветными звездами, словно драгоценными камнями, висело небо…
Убаюкивающе, равномерно гудели двигатели. Изредка переговаривались пилоты, тщательно и настороженно оглядывая пространство своих секторов наблюдения: не вынырнет ли откуда-либо «месс».
На подвесном ремне в турели качался стрелок, не снимая рук с пулемета. Похоже, дремали двое парашютистов, сидя на скамье у борта и склонив головы друг другу на плечи… Сидел за рацией стрелок-радист и, казалось, спал, прижав руками к вискам наушники шлемофона, работая на «подслушивании…»
И только я, как всегда, в каждом ночном полете, да еще в облаках или за облаками, потел, решая свою штурманскую задачу. То холодной, то горячей волной окатывал страх, что не выйду на цель и не выполню боевое задание.
«По всему полку, да и дивизии «прославлюсь», глаз не поднять. Друзья и товарищи будут пальцем тыкать. Командование тщательно разберет этот случай. Отругают перед всеми, отстранят от полетов. А может, и судить будут. Ведь «блудежка» и невыполнение задания — это же помощь фашистам…»
И я яростно крутил ручки радиополукомпасов (РПК-2), настраивая их то на одну, то на другую радиостанции, снимая отсчеты со шкал, а затем вычисляя радиопеленги и прокладывая их на полетной карте…
Примерно за час до выхода на цель облачность неожиданно оборвалась. Засуетились пилоты — теперь каждую секунду жди «гостинец» зенитки, заоглядывался стрелок, вставая на тумбу, задвигал рычагами борттехник, забегал взад-вперед из кабины в кабину (от окна к окну) штурман, сличая карту с местностью. Подняли головы парашютисты, в последний раз осматривая свое снаряжение перед прыжком…
Для меня выход из-за облаков после длительного полета всегда был радостно-тревожным. Наконец-то окончилось «хождение по мукам», полет с «завязанными глазами». Теперь смело поведу самолет визуально по земным ориентирам — рекам, озерам, населенным пунктам. Успевай только опознавай их!..
Но еще не было случая, чтобы, идя вне видимости земли, не уклониться от маршрута. И потом с неприятным чувством страха и ожидания, восстанавливать ориентировку. Обычно, чем дольше шли вне видимости земли, тем больше уклонялись.
При восстановлении ориентировки мысленно описывается круг на карте радиусом в 40—60 километров. Изучаются в нем ориентиры, а затем отыскиваются на земле. Но часто наблюдаемые земные ориентиры не совпадают с ориентирами на карте. Вот тут-то штурман и начинает метаться, пытаясь опознать, что за местность проплывает под самолетом. К тому же командир, уткнувшись носом в свою карту, без конца требует: «Где летим, штурман?.. Где летим? Покажи…» Методично действуя на натянутые до предела нервы.
В этот момент штурман испытывает примерно те же чувства, что и человек, который долго шел в одном направлении с завязанными глазами. И вдруг повязку ему неожиданно сняли и сурово спрашивают: «Где находишься? Покажи!.. Не узнаешь — домой не вернешься!..» В таком положении большинство штурманов тянет, выигрывает время, шаблонно отвечая: «Погоди, пока… Одну минутку… Сейчас… сейчас…» — лихорадочно отыскивая знакомые ориентиры. И требуется в такие минуты большое мужество, выдержка, самообладание, чтобы не растеряться, не впасть в панику и не идти на опасном поводу у какого-нибудь члена экипажа, который услужливо тычет карандашом в карту и твердит: «Вот мы где, смотри! Смотри!» — хотя сам давно уже потерял ориентировку…
Я в подобной ситуации, как штурман, не был исключением. Стоя в передней кабине и вглядываясь вниз, односложно отвечал:
— Подожди, командир… Подожди, пока…
Хаммихин снизу вверх, с недоверчиво-презрительной усмешкой, поглядывал на меня. Потом решительно произнес:
— Готовься к выброске!
Кивнул головой:
— Вон лес! Пора!..
Я удивленно, даже растерянно поглядел на него:
— Где?..
Расплющив нос, вдавился в стекло. Внизу что-то чернело. То ли лес, то ли населенный пункт, то ли болото, то ли свежевспаханное поле?..
Включив лампочку, поглядел на карту, на ручные часы.
— Нет, рано…
— Как рано? Выбрасывай! Где же ты после лес найдешь?..
— Через 42 минуты он будет, тогда и выбросим.
— Ты это всерьез? — повернулся в кресле Хаммихин.
— Конечно.
— А я говорю — выбрасывай!
— Послушай, Володя, — вкрадчиво зашелестел второй пилот Александр Родионов, — раз командир приказывает, так бросай!.. Да и я вижу, что это лес, а не что-то другое. Уж поверь нам!..
— Поймите! — напористо заговорил я. — Это вовсе не цель! Время еще не вышло, да и контрольные ориентиры не просматриваются.
— А я говорю: цель! — повысил голос Хаммихин. — Ты ошибся в расчетах и не можешь опознать ее.
— Проверьте, если не доверяете. Вот глядите! — тыкал пальцем в карту я. — Через пять минут пройдем реку Регель. А потом уж будет цель!..
— Ну хорошо! Время пока терпит! — скептически сказал Хаммихин. — Но если только через пять минут не увидим Регель — выкину тебя за борт вместе с парашютистами, но без парашюта. Понял?!.
— Понял, — сдавленно буркнул я, а про себя уныло подумал: «Хоть бы показалась река. Хоть бы раз пройти над облаками и точно очутиться в том месте, как рассчитываешь…»
Я с тревогой всматривался за борт, пытаясь определить, где находимся. Но, к сожалению, ничего характерного не видел. К тому же луна, солнцем сиявшая весь маршрут, пока летели над облаками, как нарочно, куда-то исчезла.
«А-а! Все равно, реку-то никак не минуем! — успокаивал себя в следующую минуту. — Она же поперёк маршрута…» Легче стало на душе, свободней задышалось…
— Ну, штурман?! Где твоя обещанная река? Время-то выходит! — торжествующе забасил Хаммихин и гулко засмеялся. Его поддержал своим тенорком Родионов.
— Погодите, еще не время.
— Уже четыре минуты прошло. Готовься!..
— Но не пять же!
Я во все глаза всматривался вниз, но реки все же не видел. «Что за чертовщина?! Неужели пролетели? — ссохшимся языком облизнул шершавые губы. «Не может быть! Не может быть!»
— Пять минут прошло! — пробухал над ухом голос.
Я поглядел на часы.
— Ну, блуданишка!.. — И в этот момент откуда-то сбоку из-за тучи выплыла луна. Залила землю ровным зеленовато-прозрачным светом. Вспыхнули, точно подожженные, озера, озерки, озеришки. А впереди километрах в десяти заискрилась, запереливалась вначале радугой, потом расплавленной серебристой лентой извивающаяся дуга реки.
— Вон она! Вон! — закричал ликующе. — Идем правильно по маршруту!
— Чему обрадовался сдуру?! — обрезал Хаммихин. — Время-то не совпало!.. На целых три минуты! Та ли еще это река?
— Та! Та! — горячо заверял я. — Вон видишь этот изгиб? Мы чуточку уклонились, километров на пять влево!
Хаммихин долго сличал карту, вздыхал и чмокал губами, потом безапелляционно сказал:
— Нет, не та! Поворачивай назад!
— Да ты что?! — вытаращил глаза я. И на секунду замолк с открытым ртом.
— Не она ведь, Саня?
— Нет, нет! — скороговоркой ответил Александр и поворотом штурвала ввел самолет в разворот.
— Вот видишь! И он говорит, не она! — повернулся Хаммихин. — А большинство никогда не ошибается! — добавил назидательно.
— Да вы что, в самом деле?.. Или не хотите видеть?! — взорвался я. — Отставить поворачивать! Взять прежний курс! Иначе я отказываюсь быть штурманом! И доложу командиру полка об этом!..
— Ну и докладывай! Кого напугал? — невозмутимо, с ехидной улыбкой ответил Хаммихин. — Сам заблудился — сам на себя и накапаешь!
Я, овладев собой, жестко сказал:
— Я вижу, вы не хотите по-настоящему выполнить боевое задание…
— Что-о?! Да как ты смеешь?! Я командир! И я отвечаю в первую очередь за выполнение задания! Я! А не ты! Понял?!. Думаешь, орден получил, так тебе все дозволено? Можешь командовать?.. Вот сейчас буду выбрасывать парашютистов и ты не пикнешь! А пикнешь, так и тебя выкину! И скажу в части, что сам выпал! И мне поверят! Бывали такие случаи! И экипаж подтвердит!.. Ну поругают маленько. Война все спишет!
«Неужели никто не заступится?..» Я растерянно поглядел на Родионова. Тот хранил молчание и только странная усмешка подергивала его губы. Тогда оглянулся и встретился взглядом с борттехником Митей Тулковым. Тот испуганно шарахнул глазами в сторону.
«Спились и сплелись!» — с злой тоской подумал.
Последняя надежда — стрелок-радист Коля… Но кабинка радиста была пуста. Наверняка, он у турельного стрелка в общей кабине или за своим пулеметом…
— А я не дам выбрасывать! — неожиданно даже для себя возразил.
— Как это не дашь? — угрожающе заворочался в кресле Хаммихин. — Вот сейчас прикажу им прыгать — и прыгнут!..
— А очень просто! Скажу им, чтобы не прыгали, что их выбрасывают за сотни километров от назначенного места — и они не прыгнут!.. И прилетят домой вместе с нами!..
— Да ты что?!. Да я тебя! — Хаммихин суетливо искал рукой кобуру пистолета. — За невыполнение приказа командира под суд!.. Пристрелю!..
— Не забывай! Они вооружены лучше нас и твоего пистолета не испугаются. А за то, что угрожаешь оружием, я ухожу к ним.
Я неловко повернулся в узком проходе и как-то боком, выставив вперед руки, вышел в общую кабину.
Самолет продолжал виражить.
Парашютисты, увидев меня, привстали со скамьи.
— Что, штурман, прыгаем?
— Рано еще! Через полчаса! — и сам опустился на скамью рядом. — Прошу не забыть: Ушаков Петр Иванович, родом с Среднегорья. Если что о нем узнаете — прошу сообщить, как договорились.
Приоткрылась дверь пилотской кабины. Высунулся Тулков:
— Штурман! Командир зовет!
Я, подойдя к турели, вытянул оттуда радиста, негромко попросил:
— Идем к командиру.
— Ну что ты, Володя, шуток не понимаешь? — закачал горестно головой, заохал Хаммихин, когда увидел нас. — Да ты не обижайся! Ведь я шутил!.. Гляди, и курс твой взяли. Дай, думаю, проверю — какой у меня новый штурман? Люблю летать с молодежью. Геройский оказался — кремень, а не парень! Так ведь, Саня?
— Конечно! Конечно! — скривился в улыбке Родионов.
«Понятно, почему любишь. Считаешь — молодых легче обдурить или запугать…»
— Так ведь, Митяй?
— Провалиться мне на месте, но лучше Вовки Ушакова во всей дальней авиации штурмана не найдешь! — прорвался, как всегда, с непонятным и странным хохотом Тулков. — Это я понял еще тогда, в день гибели старика Медведева! Ох и набрались мы с Саней тогда «стенолазу», поминая покойничка! Голова — два дня раскалывалась! На карачках ползали тогда!
— Довольно, Тулков! Не уходи в сторону!
Но не так просто было заставить замолчать Митю. Он долго еще хохотал и рассказывал, сколько они выпили спирту и куда по пьянке забрели «тогда».
Снова прошли Регель, потом слева заблистали озера. Я не удержался, мотнул головой.
— Вон видите, озера? Так что идем точно…
Хаммихин, наклонив мою голову, жарко задышал в ухо:
— Да знаю я, что верно ведешь. Но воевать-то надо по-умному! Пойми, чем ближе сбросим их к городу, тем больше вероятности, что нас собьют! А так бы выкинули спокойненько. И главное, никто не узнает никогда, никто не сможет проверить! А нам честь и слава!..
— Но это же невыполнение задания?!
— Какое невыполнение! — поморщился Костя. — Выкинул за линией фронта и баста! А там пусть сами добираются. Они же разведчики!.. В борьбе побеждает сильнейший! Все так делают! И немцы!..
— Но они же погибнут, пока доберутся до города! И задание не выполнят!
— Эх, дурашка ты, дурашка! — качал головой Хаммихин. — Ни черта не понял, чему я тебя учил. Все! Не было между нами никакого разговора!.. И не вздумай где-нибудь ляпнуть!
Хаммихин, засопев зло, обиженно отвернулся…
Выброска прошла успешно. Тулков, нацепив парашют, открыл дверь. Кабина сразу наполнилась характерным гудом и шипом свистящего воздуха, оглушающим рокотом двигателей. Казалось, они переместились на стабилизатор рядом с дверью, потому так громко и ревут.
Парашютисты, пригнувшись, положив правые руки на кольца парашютов, один за другим стояли у проема двери, ожидая команды.
Я, припав к окну, следил за черневшим, выползающим из-под крыла лесом.
— Поше-ел! — закричал, махнув рукой.
Еще сильнее сжавшись, парашютисты, стараясь не задеть огромными рюкзаками верхний обрез двери, выпали из кабины. «Шурх! Шурх!» — дважды прохрипел им вслед поток воздуха, засасываясь в кабину.
— Готово-о! — ликующе заорал Тулков, с резким стуком захлопывая дверь.
Появления истребителей никто не ожидал. Шли уже над своей территорией. Они атаковали сзади, с хвоста. Кажется, пара, а может, и больше. Когда по бортам протянулись прерывистые огненные бичи, каждый понял — прозевали и теперь, вероятно, придется расплачиваться жизнью.
Старший лейтенант Хаммихин первым пришел в себя.
— Стрелок! Что спишь? — с силой толкая штурвал, протяжно закричал он. — Огонь по истребителям! Огонь!
— Стреляю, командир! Стреляю! — кричал сержант, прильнув в турели к пулемету.
Я находился в общей кабине недалеко от стрелка. Услышав его крик, бросился в пилотскую. Самолет резко встряхнуло. Потом, будто град по крыше, что-то гулко пробарабанило по фюзеляжу и вдруг оглушительно треснуло, свалив меня с ног…
Очнулся от холода, точнее, от пронизывающего до костей ветра, который ледяной струей бил в лицо. Секунду, другую не мог понять, где я и что со мной. Кругом сплошная темень, а уши наполнены каким-то нудным гуденьем. А когда понял, точно подброшенный, вскочил на ноги и снова бросился к летчикам.
— Командир-р! — что есть мочи закричал, ворвавшись в пилотскую. — Что-о?!. — и осекся на полуслове.
Кабина была пуста, а верхний аварийный люк открыт…
Куда же все подевались?.. Выпрыгнули?.. Но почему?.. Самолет летит. Левый мотор работает, а правый?.. Выключен?! Что это?.. Лес?.. Земля?! Сейчас врежется!..
Схватился за штурвал и рывком потянул на себя. Как лошадь вожжам, самолет оказался послушен штурвалу.
Лес исчез, появилось небо, расцвеченное звездами. Я забрался в кресло командира.
В первую очередь — набрать высоту. В ней спасение. Сектором газа, рычагами установил режим набора.
Затем точно выдерживать курс. Кажется, 85 градусов. Только с ним выйдешь на свой аэродром, если не изменится ветер.
«Дал левую ногу», добавил газ, повернул штурвал, пытаясь удержать самолет, и привычно взглянул на компас. И не увидел… его.
От удивления даже опешил. Потом принялся искать. Не выдержав, протянул руку и пытался нащупать прибор у лобовых стекол. Но, к досаде, нашел только опорные резиновые амортизаторы, на которых висел «КИ». Пулей или осколком снаряда оборвало, — догадался.
Но как же определить курс на аэродром?.. Ведь наверняка самолет летел с разворотом на одном моторе, и куда сейчас летит — неизвестно. Может, на север?.. А может, и на юг?.. А может, обратно, к линии фронта?..
От этой мысли колючие мурашки побежали по спине.
Была бы карта, — попытался бы вести ориентировку. Но ее под рукой не было. А идти разыскивать в другой кабине в темноте не имело смысла. Упругая струя воздуха, продувавшая фюзеляж, могла закинуть карту куда угодно. А может, и выкинула за борт… Но главное я боялся оставить самолет неуправляемым. Я и так не переставал удивляться, почему самолет, когда исчез экипаж, не свалился в штопор, а летел, планируя, к земле.
Что ж! Попробую сориентироваться по памяти. Я же помню отлично маршрут, да и от последней отметки места, вероятно, недалеко ушел. Самолет-то крутился…
Приник к стеклу, напряг зрение, пытаясь сквозь толщу тьмы рассмотреть и опознать земные ориентиры. Внизу — ни огонька.
Глядел до рези. Откинувшись на спинку кресла, закрыл глаза, давая им отдохнуть. Посидел так с минуту, снова припал к окну…
Где же озеро? Утичье озеро? — мучился. Здесь же оно! И должно быть видно… Восточнее его в 10 километрах характерный петлеобразный изгиб реки Лесной. Маршрут домой как раз проходит через эти ориентиры.
Найду озеро — по створу ориентиров определю направление полета, подберу курс на аэродром…
Но ни озера, ни изгиба реки, ни других ориентиров не видел. Внизу лишь едва различались какие-то пятна… Жаль, луны нет. А то бы озеро куском зеркала блестело. Правда, вдали слева за горизонтом дрожало розово-красное марево. Там что-то горело. Но что?.. Да и сколько туда лететь? Ведь ночью с высоты крупные пожары видны за десятки и даже сотни километров. А может, это линия фронта?..
Еще долго крутил по сторонам головой, пока, наконец, не выбился из сил. Что делать? — с тревогой думал. Неужели бросить самолет и прыгать? Да, пожалуй, выход один — прыгать… Стыдись! Заладил — прыгать! Ты же не новичок. На фронте около года… Но куда лететь? Скоро и горючка кончится. Постой! А звезды?!.
Вскинул глаза в надежде отыскать знакомые созвездия. Но и здесь ждала неудача. Звезды исчезли. Небо затянули плотные тучи. И только над самым горизонтом, будто издеваясь, мигала желтая яркая звезда. Чуть не заплакал от обиды, когда и она, померцав немного, исчезла в облаках…
Стоп! Хватит нюни распускать. Чем сложнее обстановка, тем спокойнее штурман. Буду лететь, пока не наступит рассвет, если горючего хватит. Кстати, сколько его осталось?..
Склонился к бензочасам и начал их переключать по бакам. Два были пустыми. В третьем, на котором работал мотор, оставалось литров 150. В четвертом — 400. Прикинул — часа на два хватит. Но до рассвета?..
Поглядел на часы — половина второго. А рассвет наступит в 4.20…
Стало невыносимо холодно. Выбрав триммер руля поворота, начал откидываться назад. Над головой зиял пустотой серый зев люка. Так вот куда выпрыгнул экипаж!.. Но почему не в дверь?.. А может, крышку люка взрывом сорвало?..
Немного согревшись, снова уселся недвижно. Почему же меня ребята забыли?.. Посчитали мертвым?.. Где они сейчас?.. Может, «мессеры» расстреляли их в воздухе?.. Но почему не сбили самолет?.. Или потеряли в темноте?..
Надрывно, словно со стоном, гудел мотор. Я то и дело поглядывал на него. Хоть бы не отказал… Что это?.. Откуда-то сбоку слышится стон. Я усмехнулся. «Всякая блажь лезет в голову. Здорово же меня контузило». Стало не по себе. Оглянулся. Больно ударил себя по щеке. Стон пропал. «То-то! Так-то лучше будет!..» Но через некоторое время опять послышался стон. Совсем рядом. «Проклятая контузия… А если петь?..» И я громко запел: «Пусть ярость благородная вскипает, как волна-а! Идет война народная, священная война-а…».
И тут, похолодев, почувствовал, как что-то опустилось на плечо и сильно сжало его. От неожиданности вздрогнул, схватился за пистолет. С гримасой страха повернулся назад.
— Кто? Кто тут?..
Человек. Лица не разглядишь. Замотано чем-то белым.
— Да я… Иван…
— Ванька! Ты?! Ну и напугал! — без сил сполз в кресло.
— Где все? Где командир? — прерывисто дыша, будто запыхавшись от быстрой ходьбы, спросил стрелок.
— Не знаю, Ваня, выпрыгнули, видимо…
— Как выпрыгнули? А мы?..
— Что мы? Летим.
— А ты почему не выпрыгнул?
Я рассказал, что случилось и как очутился за штурвалом.
— Аэродром скоро?
— Не знаю, Ваня. Компас разбит, карты нет, ориентироваться не по чему.
— А если заблудимся? — встревожился Иван.
— Все может быть. Ты проверь-ка рации и задний компас, — с надеждой сказал. «И как это я раньше не подумал об этом? Это же наше спасение!..»
Узкий луч света разрезал темноту, пошарил кругом. Уперся в рации, заскользил по ним.
— Нет, ничего не сделать. Все разбито, как и моя голова, — вздохнул в темноте стрелок… Последняя надежда рухнула.
— Тебя перевязать?
— Сам перевязался, когда очухался. Что будем делать-то? — спросил Иван, усевшись в кресло второго пилота.
— Как что? Лететь, пока не выйдем на какой-нибудь аэродром или площадку.
— А кто будет сажать? Ты?..
— Мы!..
— Но это же риск! Верная смерть!..
— А что не риск? Вся жизнь — риск! Особенно на войне.
— Но ты же никогда не садил самолет, да еще ночью?..
— Как это — не садил? Вадов давал иногда. А полгода назад мы с Вадовым на одном двигателе пришли из-за линии фронта, взлетев с озера. Помнишь, никто не верил!..
— Так то с Вадовым. Его с нами нет.
— А мы чем хуже?
Внезапно ровный гул двигателя прервался. Мотор чихнул… раз, другой. Послышалось шипенье вперемежку со свистом. Самолет, словно ударившись о невидимую стену, провалился вниз.
«Баки!? — обожгла догадка. — Забыл переключить!..»
— Держи штурвал! — крикнул Ивану, а сам вцепился в кран переключения бензобаков и быстро перевел его на другой бак… Мотор шипел, самолет продолжал падать. «На пустой переключил!» Повернул кран еще на одно деление… Мотор продолжал шипеть, уши больно давила тишина. «Опять пустой! Который же полный?! Перепутал направление!..» Быстро начал переводить кран в обратную сторону. А самолет падал… Перевел в четвертое положение. «Если и сейчас не заработает, тогда — прыгать!..»
Двигатель чихнул, будто проснулся, хлопнул, а потом, оглушительно взревев, загудел мощно и ровно…
Схватившись за штурвал, я с удовольствием потянул его на себя.
— Фу-у! Кажется, пронесло!?. Двести метров потеряли…
— Вот видишь, чуть не разбились, а ты надумал посадку на одном моторе.
— Опять ты за свое, — поморщился я.
— Разумнее предлагаю. Выйдем на пункт или аэродром, самолет побоку, а сами вниз на парашютах…
Я покачал головой.
— И это говорит друг. Неужели не понимаешь, мы обязаны спасти самолет. Если посадим, то через два-три дня на нем же полетим бить гадов.
— Главное сейчас — сохранить жизнь, — упрямился Иван.
— Ладно! Выйдем на аэродром — прыгай! Один посажу… Хотя прыгай хоть сейчас. Не держу.
Иван молчал.
— Не думал я, что среди нас бывают трусы.
— Ну, ты! Насчет труса поосторожней! А то могу и ударить.
Я расхохотался — задел Ивана за живое. Теперь его хоть впятером выбрасывай и то не выбросишь рыжего черта… А насчет драки — он мастак. Однажды в командировке в Казани, защищая незнакомую девушку, четырех подвыпивших хулиганов раскидал. Неслучайно, тренер по самбо в полку. Перворазрядник, как и радист Коля, только тот по боксу…
По-прежнему за бортом густая темень. И внизу, и вверху. Даже костров не видно…
Было около трех ночи, когда впереди показались светлые точки.
Мы насторожились. Огоньки вытянуты в линию как раз поперек курса.
Улица села, аэродром или просто костры?.. Внезапно черноту ночи снизу вверх разрубил надвое голубоватый луч света. Уперся в «днище» облаков, секунду покачался, погас.
— Аэродром! — в голос воскликнули.
— Вот повезло так повезло! — ликовал я.
— А повезло ли? — мрачно заметил Иван. — Рано радоваться-то…
— Сам знаю, но хоть конец нашей неопределенности.
— А если аэродром фашистский? Что будем делать?.. Я поглядел на бензочасы. Посчитал.
— Бензину осталось минут на двадцать лету. Попытаемся разведать аэродром. Пройдем на малой высоте.
Убрал газ, повел самолет к земле. Иван достал ракетницу, приоткрыл форточку…
Стрелки высотомера уверенно сматывали высоту, но земля по-прежнему плохо просматривалась. Огни росли, приближаясь…
Я не выдержал, охрипшим от волнения голосом сказал:
— Боюсь, как бы не приняли за чужих, да не вмазали пару снарядов в брюхо. Просигналь «я свой» на всякий случай. Дай три зеленых!..
Я забыл, что с двух часов ночи действовал другой сигнал «я свой» — две зеленые ракеты.
Иван высунул ствол ракетницы в форточку. Хлопнул выстрел. Ракета по дуге метнулась в сторону. Потом вспыхнула вдали и, зависнув, холодным светом залила местность. Вслед понеслась вторая, через секунду — третья.
Уткнувшись в окно, я увидел под собой темную посадочную полосу, четко выделявшуюся на светлой траве… Рулежные дорожки. Справа на опушке березняка — какой-то сарай. Рядом с ним — огромный зарод сена. И ни одного самолета… «Умеют маскироваться — мастера. Ясно одно — аэродром не родной, даже не запасной. Местность незнакомая…». Снова сомкнулась над землей темнота. В ответ ни одного сигнала.
— Сделаем круг! Стреляй белыми!..
Иван стал пускать ракеты одну за другой. Огненными каплями они плавно текли вниз, выхватывая из темноты участки аэродрома. Поля с копнами сена, опушка леса, мелкий кустарник.
— Что будем делать? — повернулся Иван ко мне. — Осталось всего три ракеты.
Я поглядел на бензочасы. Стрелка колебалась на нуле.
— Садиться будем. Бензин кончается.
— Сади на фюзеляж, шасси не выпускай. Все же безопасней.
— А если аэродром немецкий и придется взлетать? — я испытующе смотрел на Ивана. — Без шасси нам крышка!
— Примем бой.
Плавно отжав штурвал, я направил нос самолета на огни. Вон тот сдвоенный, вероятно, означает «Т». Выравнивать у него. Главное — вовремя убрать газ, выдержать направление.
Вспотел от напряжения. Известно, садить машину куда сложнее, чем пилотировать по горизонту.
Иван, глядя на приборы, монотонно твердил:
— Высота 100! Скорость 180! Высота 80! Скорость 180! Высота 70! Скорость 170! Высота 50! Скорость 150!.. Увеличить скорость! Увеличить скорость! — истошно закричал Иван.
Я двинул сектор газа вперед. Затихший было мотор гулко и басовито взревел…
— Ракеты!
Один за другим уносятся в мрак тугие яркие комочки. Полоса точно по курсу. Отчетливо видна высокая покачивающаяся трава. Седая, точно заиндевевшая. До нее рукой подать. Метров двадцать-десять, не больше…
— Убирай газ! — командую, а сам плавно выбираю штурвал. Нос самолета приподнимается, сдвоенные фонари проносятся сбоку… Все! Сейчас машина заскользит по траве или камнем провалится вниз.
Мы откинулись на спинки кресел, вытянув и напружинив ноги, словно это могло спасти от удара…
Мгновенья мучительного ожидания, в которые люди седеют. Что-то громко застучало по фюзеляжу, будто снаружи ударили молотки. «Винт режет грунт!..» Хрустящий скрежет. Металлический звон. Нарастающее гуденье, переходящее в гул. Толчки. Вдруг самолет, словно волчок, разворачивается влево… Удар!.. И все стихает. Тишина давит уши.
Открыл глаза. «Зажигание! Аккумуляторы!» Вытянув руку, ударил по выключателю…
— Уфф! Кажется, сели! — сказал Иван. — Бегу к пулемету!..
Скрылся в общей кабине. Откуда-то из темноты, издали донеслись голоса. Урчание грузовика. Замелькали огоньки… Я вылез из кресла, пошел к двери.
Стоявший в турели Иван, услышав громыхание шагов, спросил:
— Ты куда?
— На разведку. Если выстрелю — стреляй!
У двери запнулся за что-то мягкое. Чуть не упал. Склонился. Поперек прохода — человек. Кто это?.. Опустился на колени, прижался ухом к груди. Сердце не билось. Хотел позвать, но раздумал.
Открыл дверь фюзеляжа, спрыгнул на землю. Теплая ночь встретила ароматом перестоявшихся трав, убаюкивающим криком перепела: «Спать пора! Спать пора!..» Сминая росистую траву, обогнул хвост самолета. Немного пройдя, остановился. Вытащил пистолет из кобуры.
К самолету с притушенными фарами приближалась машина. Когда она подъехала ближе, точно в ознобе, хрипло крикнул:
— Стой! Кто едет? Стреляю!..
— Свои! Свои! — раздались голоса. Вдруг почувствовал неимоверную усталость. Стоять не было сил. Сунув пистолет в карман, упал в траву…
Командир полка Герой Советского Союза Вадов — полковник Панкратов принял дивизию — никак не ожидал, что этот день принесет ему столько радости. Ну хоть бы кто предупредил!..
Поздно вечером сидел в кабинете один, когда в дверь постучали.
— Да! Да! Войдите, — машинально ответил, не отрывая взгляда от полетной карты, по которой изучал маршрут завтрашнего боевого вылета.
И только когда вошедший начал докладывать:
— Товарищ подполковник! — Вадов, услышав знакомый голос, вскинулся, да так и застыл на месте с широко открытыми глазами.
— Володя-я! Жив?!.
Он схватил меня в охапку.
— Ох, и напугал ты меня! Я ведь понял, что ты дважды погиб!..
— Как дважды?
— Из разговора по радио с твоим командиром…
Я освободился из объятий.
— А где сейчас мой командир?
— Не знаю, пока сообщений не поступило. Думаю, выпрыгнули они, когда вас подожгли…
Вадов усадил меня к столу, сам сел напротив. Вот что, оказывается, произошло в ту ночь. (Судя по радиоразговору.)
— Волга! Я — 13-й! Атакован истребителями! Веду бой!..
Трескотню пулемета заглушает взрыв…
— Тринадцатый! Я — Волга! Немедленно снижайтесь! Уходите к земле! Если есть облачность — скрывайтесь в ней!..
— Загорелся правый мотор!..
— Выключите мотор! Перекройте пожарный кран! Сбивайте пламя скольжением!
— Есть скольжением!
— Тринадцатый! Я — «Волга»! Если не удастся сбить пламя, выбрасывайтесь на парашютах!
— «Волга»! Я — 13-й! Понял, выбрасываться на парашютах! Пытаюсь затушить пожар! Истребители продолжают атаковать!..
Молчание, нарушаемое щелчками…
— Всем приготовиться к прыжку! Тулков! Иди в общую! Узнай, где штурман и стрелок!?..
Молчание… Щелчки…
— …покинуть самолет! покинуть самолет!..
На другой день утром в полк вернулся Родионов. Явившись к Вадову, он, как всегда, лихо щелкнул каблуками и молодцевато доложил:
— Товарищ подполковник! Лейтенант Родионов прибыл с места катастрофы для дальнейшего прохождения службы!..
— Расскажите, что с вами было?
— «Мессеры» делали все, что хотели. Стрелка со штурманом убило с первой атаки. Мотор горел. Тогда я бросаю самолет вниз, чуть не в пике, и пытаюсь сбить пламя на эволюциях. Ну, гоняли мы, гоняли машину туда-сюда — никакого эффекта! А пламя уже к бакам подбирается. Вот-вот взорвемся. Ну тогда командир приказал «прыгать!» Я ответил: «Спасайтесь вы, а я потом!» Но он закричал: кто здесь командир?! Я приказываю!.. Пришлось подчиниться…
Сашка развел руками, пожал плечами.
— Откуда выпрыгнули?
— Из верхнего аварийного люка. Так было удобней. Самолет круто планировал, хвост почти вверху, до дверей не добраться, а этот люк рядом, перед носом.
— А как не попали под винт?
— Очень просто. Вылез наружу, ухватился за стойку антенны. Поток воздуха в спину бьет, к обшивке прижимает. Держась за антенну, прополз немного к хвосту и прыгнул вниз.
— Где остальные члены экипажа?
— Не знаю. Темно было, да и если выпрыгнули, то разнесло нас.
— А с самолетом что?
— Сам видел, как врезался за лесом. Взрыв даже слышал.
Вадов едва подавил улыбку.
— Вы что улыбаетесь, товарищ подполковник? Думаете, вру? Можете не сомневаться. Раз я сказал, значит так и есть.
— Да-а, весь полк знает о вашей объективности и любви к правде…
Еще через два дня вернулся радист Коля. И, наконец, через неделю — сам Хаммихин. Оборванный, изможденный, с исцарапанным лицом, с завязанными грязной повязкой глазами.
Он хромал на правую ногу. Широкое лицо заросло черно-бурой щетиной…
— Радист выпрыгнул вторым. В этот момент раздался взрыв. Больно ударило по глазам. Вроде осколками стекол. На миг потерял сознание. Очнулся — ничего не вижу. Крикнул дважды — все покинуть самолет, и сам полез в люк…
После ухода Хаммихина Вадов, встав из-за стола, сказал:
— Картина ясная. После прыжка командира самолет, видно, увеличил угол планирования. Встречный поток усилился и все же сорвал пламя с мотора. А тут появился ты. Говори спасибо, что научил тебя пилотировать.
— Что теперь с ним будет? Судить станете? Расстреляете?..
— Ну уж сразу и расстреляете. Пусть сначала вылечится, потом решим.
Вадов задумался, побарабанил пальцами по столу, поглядел на меня.
— Видишь ли, Володя. Люди-то разные бывают, в соответствии с заложенными природой качествами, которые и определяют их судьбу. Есть люди-факелы типа Данко. Герои, подвижники, преданные высокой идее, живущие для других, прокладывающие и освещающие дорогу человечеству. Джордано Бруно, декабристы — в общем, штурманы человечества. И есть обычные люди. Так что и живем, и трудимся, и воюем мы все по-разному.
Я не стал рассказывать Вадову о своей стычке с Хаммихиным в полете. Уж очень похоже на сведение счетов. Да и, может, просто сорвался человек…
15
Каких только «чудес» не бывает на фронте, да ещё в авиации! Очередным таким «чудом» в дивизии Панкратова стал подвиг штурмана лейтенанта Дмитриева, пришедшего на одном двигателе с тяжело раненным командиром. Несколько кругов сделал Дмитриев над аэродромом, не решаясь садиться. И наконец, когда горючего осталось в обрез, на глазах у выбежавших из землянок и укрытий лётчиков, приземлился поперёк посадочной на брюхо…
С тех пор многие штурманы с жаром стали учиться пилотированию. Особенно усердствовала в этом молодежь, и конечно Владимир Ушаков. Как же! Это он по поручению комсомольцев ходил за разрешением к самому командиру полка. Да и какому парню не хочется управлять самолётом?! Чувствовать, как он послушно выполняет твою волю, подчиняется малейшему движению рук и ног.
Да и каждому хотелось жить! Ведь если тяжело ранит или убьёт пилотов, то штурман должен гибнуть или прыгать…
С тяжелым настроением возвращались домой. Тягостная тишина, царившая в самолёте, нарушалась однообразным тоскливо-нудным пением моторов, да редкими командами Ушакова. Никому не хотелось разговаривать. Да и о чём?.. Каждому думалось, что именно он виновен в случившемся.
Беда приключилась, когда её меньше всего ждали. На обратном пути от цели. С земли выстрелили всего один раз, да и то, видно, наугад. Снаряд разорвался далеко от самолёта. Разрыва никто и не слышал, но маленький осколок сделал своё дело. Вначале даже и не заметили. Шли ночью, в кабинах было темно. А потом, когда обнаружили, переполошились.
Укладывая командира на полу навигаторской кабины, Владимир горестно думал: «Хоть бы успеть долететь! Может, жив будет?»
Командир хрипел, истекая кровью. Поддерживая его голову, Ушаков спешно бинтовал. Медленно открыв глаза, слабым голосом командир спросил:
— Кто тут?
— Ушаков, — ответил Владимир.
— Володя… знаю… приведешь… командуй… Моим напиши… в Рязань… трое… маленькие… Помоги-и-и. — И дёрнулся всем телом.
Владимир долго сидел в оцепенении, прижав к груди голову умершего.
(Но не Хаммихина — тот опять был в госпитале).
— Володька! Иди-ка сюда! — послышался голос Родионова. — Вроде аэродром чей-то?
— Где? — спросил Владимир, влезая в кабину лётчиков. Приник к стеклу, вглядываясь за борт. — Ничего не вижу…
— Да вон, левее, гляди! Парные огни — красные и зеленые.
Владимир смотрел неотрывно. Наконец его глаза привыкли к темноте и он увидел цепочку разноцветных огней. Оторвавшись от стекла, вопросительно поглядел на Александра.
— Аэродром. Что будем делать?
Сидевший неподалеку Коля Петренко, услышав его слова, сорвался с места.
— Где? Дайте погляжу!
— Как думаешь, чей? — встревожился Родионов.
— Фашистский, чей же больше?
— А если наш? Линию фронта перелетели?..
— Полчаса еще до неё.
— А ты не того? Не заблудился? — сказал Сашка и громко рассмеялся, словно ему на самом деле стало смешно.
— Тебе давно пора знать, что я ни разу не блудил, сколько летаю. А вот ты в самом деле «не того», раз не знаешь, что не прошли еще линию фронта. Почему не ведешь ориентировку?
— Не лезь в бутылку. Я же пошутил, — с глухим раздражением оправдывался Сашка.
— Ребята! Самолеты взлетают! — не поворачиваясь, крикнул Николай.
Ушаков с Родионовым уткнулись в стекла. В темени хорошо было видно, как по полю гуськом двигались треугольнички огоньков: белых, красных, зеленых. «С включенными аэронавигационными огнями взлетают, — подумал Ушаков. — Считают себя в глубоком тылу, в безопасности, гады…»
Решение пришло мгновенно.
— Влево 30! — скомандовал он Александру, продолжая наблюдать за аэродромом. — Рассчитаемся за командира!..
— Ты что?! С ума сошел! — Родионов от волнения даже привстал с сиденья. — Умереть торопишься?
— Ударим внезапно — успех обеспечен. Крути штурвал, говорю!
— А что?! — повернулся к ним Коля. — Сколько «хейнкелей» наломать можно!
Сашка зло оборвал его:
— Марш на место, товарищ сержант! И впредь не вмешивайся в разговор офицеров!
Коля, недовольно хмыкнув и что-то пробурчав, полез из пилотской.
Гнев Сашки объясняется просто. Он не забыл, как Коля разоблачил и опозорил его, когда летели от партизан, когда он пытался спастись в одиночку. Да и было обидно, что не он первый предложил само собой напрашивающееся решение. Да и, честно говоря, не хотелось рисковать. Тем более, когда командует этот проныра Ушаков, хотя в случае гибели командира экипажа им автоматически становится второй пилот.
— Чем ударишь-то? Может, х-хряпнешь кулаком!? Бомб-то нет! Или хочешь повторить Гастелло?
— Из пулеметов расстреляем! — невозмутимо ответил Владимир, садясь в кресло командира. — Бомбардировщик-то у нас какой? Сплошной огонь!
— А если истребители нападут?! Чем отбиваться будем? Чем?
Не отвечая, Владимир «дал» левую ногу и повернул штурвал в ту же сторону.
— Ты что делаешь?! — вскакивая с сиденья, заорал Родионов. — Самоуправничаешь?! Я как командир запрещаю! Я отвечаю за сохранность самолёта и безопасность экипажа!
Владимир, пилотируя самолёт, казалось, не слышал выкриков Сашки. Включив СПУ — самолётное переговорное устройство, — он громко, раздельно произнёс:
— Экипаж! Как старший по званию, кораблем командую я — старший лейтенант Ушаков! Требую выполнять все мои указания! Стрелок? Ваня? Ты слышишь меня? Приготовься открыть огонь по моей команде! Все время держи со мной связь! Будь на подслушивании! Следи за воздухом! Понял? Молодец!..
Сашка всё еще, полустоя, не унимался:
— Мы своё задание выполнили! Нам это ни к чему! Славы захотелось?! Я как командир не разрешаю идти на смерть! Не выполнишь моё приказание — пойдёшь под трибунал!
В глубине души Родионов понимал, что не прав. Но, как всякий человек с самомнением, спорил не ради истины, а чтобы любой ценой доказать свою правоту. Он всегда придерживался принципа — в споре все средства хороши, лишь бы вышло по-моему.
Владимир говорил чётко, словно вдалбливал тупому ученику:
— Наше задание — бить фашистов всегда и везде! — и уже специально для Сашки, повернувшись и наклонившись к нему, с придыханием, чуть не шёпотом: — Запомни! В армии командует не тот, кто наглее! А тот, кто по должности или званию старше! А теперь садись за штурвал и ни звука!
Он толкнул Сашку в кресло.
— А пикнешь, пойдёшь под трибунал за невыполнение приказа!
— Правильно, командир! — подал голос Коля Петренко. — Нечего с ним церемониться! Самозванец! А ещё командует!
Владимир поморщился.
— Всем соблюдать полнейшую тишину и внимание! Радист! В переднюю кабину, к пулемёту! При появлении самолётов — докладывать мне!
Плавно отжав штурвал, Владимир повёл самолёт со снижением. Убрав газ и приглушив рокот двигателей, он рассчитывал войти в круг над аэродромом незамеченным. С высоты отлично было видно, как начал разбег первый самолет. Ночь была безлунной, по-осеннему тёмной, и каждый огонёк внизу светился маленьким солнцем. Владимир вскинул голову, осмотрел небо. И кроме звезд — бесчисленных переливающихся огоньков — ничего не увидел.
Вот второй разноцветный «треугольник» пошёл на взлёт. Жаль, что нет бомб. Хоть бы парочку «соток»! Накрыть бы с воздуха! Удивительно, ни одного выстрела с земли. Увлеклись взлётом? А может, принимают за своего? Что же это за аэродром? Неизвестный нашей разведке и лётному составу. Видно, важный, крупный, днём тщательно замаскированный. И самолетами набит до отказа, как улей пчелами.
Владимир достал планшет с картой, сориентировался. Карандашом поставил крестик на карте. Прилетим — доложу командованию. Надо «закрыть» его раз и навсегда.
— Командир! — раздался в наушниках голос Петренко. — Впереди, чуть ниже, два самолёта противника!
— Вижу! Это взлетевшие! Продолжай наблюдение! Без команды не стрелять!
Самолёты один за другим, соблюдая дистанцию, шли тем же курсом, что и советский бомбардировщик. А что, если?.. Ну, да! Отжав штурвал, он увеличил угол планирования. Двинув секторы газа, ещё прибавил скорость. Скорее! Скорее! Не дать взлететь остальным! Задний «юнкерс» или «хейнкель» уже рядом. Чёрной тушей висит внизу, закрывая землю. Дрожащее желто-голубое пламя овальными языками пульсирует у выхлопных труб. Похоже, кто-то огромный и сильный подтягивает врага, точно на канате, под машину Владимира.
Близится второй вражеский самолёт. Владимир, не выдерживая, уже ловит его в прицел. Руки невольно ложатся на электроспуск пулеметов. Стоит только нажать. Но рано!.. Как всё же невыносимо длинны секунды.
— Вижу сзади метрах в ста самолёт противника! — наконец-то докладывает Несмеянов. — Разрешите…
— Огонь! — Владимир, нагнувшись над штурвалом, с силой давит на электроспуск. — Огонь!
Огненные шарики вырываются из носа и башни бомбардировщика. Хлестко упираются в темные громады вражеских кораблей. Светящиеся пунктирные линии соединяют бомбардировщик с самолётами врага.
— Это вам за командира! — приговаривает Владимир. — Получите расчет!..
Почти одновременно, сперва передний, потом задний, вспыхивают факелами вражеские самолёты. Ночь куда-то исчезает, густой мрак рассеивается, а огненные трассы продолжают хлестать уже горящие самолёты. Внезапно вместо пламени возникает рыже-бело-голубое облако, увеличивающееся в диаметре с каждым мгновением. Ослепительные вспышки следуют одна за другой. Взрывы сотрясают воздух. Становится светло, как днём. Горящие обломки разлетаются вокруг, падают вниз яркими метеорами.
— Штурмуем аэродром! — торжествующе кричит Владимир и снова с разворотом бросает бомбардировщик книзу.
Из разных мест бьют лучи прожекторов. Раскаленными иглами пронизывают и режут пространство. Шарят по небу. Сталкиваются, пересекаются, вновь расходятся… Желтые шары — стреляют скорострельные пушки «Эрликон» — летят вверх один за другим. Цветные трассы прошивают небо. Огнистыми полукружьями висят над аэродромом. Цепочка шаров мчится к самолёту. Вот-вот врежется в него, но в последний миг проносится мимо.
Липкий пот стекает по спине Владимира. Взмахом руки он расстегивает молнию комбинезона.
По аэродромному полю движется самолёт. Третий идёт на взлёт.
Владимир ловит его в перекрестие, с яростью жмет электроспуск пулеметов.
— Это вам за отца! За отца! За отца!..
Когда бомбардировщик Ушакова пересек линию фронта, Родионов, наклонившись к Владимиру и тронув его за плечо, виновато сказал:
— Прости, я был не прав. Прошу, не рассказывай никому о нашем споре.
Владимир в ответ только махнул рукой.
Под утро наша авиация нанесла удар по обнаруженному аэродрому.
16
ПАВЕЛ ЗАСЫПКИН
Никогда не забуду, как мы, «салаги» — молодые пилоты и штурманы, только что с училищной скамьи прибыли на фронт.
После беседы с командованием части группками разошлись по эскадрильям.
Владимиру Ушакову, как штурману эскадрильи, пришлось в этот день много потрудиться в штабе, обстоятельно знакомясь с нами. Велико же было его удивление, когда я, выйдя из кучки «младшаков», улыбаясь, радостно доложил:
— Товарищ капитан! Младший лейтенант Засыпкин в ваше распоряжение прибыл!..
— Павел?! Какими судьбами? — Владимир, подойдя ко мне, на глазах удивлённых лейтенантиков обнял. — Как ты вырос?! Ты же меньше меня был? А сейчас на полголовы выше!
Вечером, уединившись в комнатке Владимира, где он жил со своим командиром капитаном Васильевым, мы проговорили допоздна. Я рассказывал о своём житье-бытье в училище, Владимир о жизни на фронте. Вспомнили родной Синарск, где так давно не были. Своё детство, довоенную жизнь, знакомых парней, школу, учителей. Вспомнили завод, где работали вместе, мастера Соболева, обучавшего слесарить. Много говорили о родных, которых очень и очень хотелось увидеть.
— Эх, Вовка! Друг ты, Вовка! — сияя, говорил я. — Хоть ты и начальник, и герой, а всё же прямо тебе скажу — нехорошо ты тогда поступил! Тайком от меня ушел в армию… До сих пор не пойму, как тебе это удалось? Шестнадцати-то лет ведь не берут?
— Пришлось год добавить. Старые метрики утерять, новые получить, — улыбнулся Владимир.
— Но мне-то мог подсказать, тогда бы вместе поступили в училище, и я бы не был сейчас салажонком. И может, тоже носил бы на груди Ленина и пару Боевых Знамен…
Владимир снисходительно улыбнулся и, наверняка, подумал: «Эх, Пашка! Пашка! Какой ты все еще ребенок! Поглядел бы на мою голову. Сколько в ней седины…»
Но, видимо, решил не огорчать друга, поэтому сказал:
— Не переживай. На твой век войны хватит. Хотя лучше бы ее вовек не было… А на фронт мне надо было позарез. Сам знаешь, отец-то пропал без вести… мечтал разыскать… А молчал потому, что не был уверен — примут ли в училище.
— Ну и как, разыскал?
— Где там. Вон какой фронтище. Да и по ту сторону пол-Союза, да вся Европа. Может, и зря разыскиваю. Вон что творилось под Спас-Деменском и Вязьмой осенью сорок первого. Десятки тысяч трупов, если не сотни. Сотни тысяч пленных…
В последнее время перед очередным наступлением приходится много летать над Смоленщиной. Прокладывая очередной маршрут в леса Белоруссии и Польши, мысленно побывал в каждом лесочке, представляя, что в одном из них находится отец. А днем, да в ясную погоду пристально вглядываюсь в проплывающие под самолетом леса, перелески и овраги. Может, именно здесь находятся партизаны и среди них отец, — не выходит из головы. Может, вот сейчас стоит он под тем деревом, глядит на самолет и не догадывается, что над ним летит сын.
— Не-ет, все же не как друг ты поступил, — заладил я, раскрасневшись. — В школе учились вместе, на завод пошли вместе, там вкалывали дай бог каждому, вместе, а в армию — порознь?!
— Ну и что? Зато сейчас на фронте снова вместе… Но ты слушай, раз спросил… Так вот, два или три раза экипажи привозили интересные известия. Есть Ушаков среди партизан, но не Петр Иванович, а Сергей Митрофанович. И родом он не с Среднегорья, а из Новгородской области.
А однажды даже наткнулись на самого Петра Ивановича Ушакова!.. Но только лишь тройного тезку и коренного жителя Брянщины… И вот когда я полностью разуверился, случилось необычное. Все началось с утра.
Подполковник Вадов, вызвав меня в кабинет, в присутствии замов торжественно сказал:
— Вот что, Ушаков, у нас формируется четвертая эскадрилья. Мы вот тут посоветовались и решили поручить капитану Васильеву и тебе возглавить ее…
А под вечер я отдыхал перед ночным полетом, когда в комнатку с шумом ворвался Васильев. Рывком содрал одеяло с меня и взревел:
— Соня, вставай!.. Я тебе такое привез — спать забудешь!..
Приподняв голову, я испуганно смотрел на него.
— Ишь разлегся! Разве не знал, что я должен прилететь?.. Вставай! — не отставал Васильев, теребя за плечо. — Сейчас будешь плясать, прочитав вот это письмо!
Расстегнув планшет, он вытащил из-под полетной карты бумажный треугольник.
— От отца?! — сдуло меня с кровати.
— Читай! Читай! Узнаешь! — улыбался Васильев.
Босой, в одних трусах и майке, не чувствуя холода цементного пола, дрожащими руками раскрыл пахнущий самосадом коричневый листок.
«Дорогой Володя!
Пишет тебе твой дядя Всеволод, пропавший без вести в августе 41-го под Гомелем. Тогда всего одно письмо написал я домой. Не знаю, дошло или нет?.. 7 июля я пришел утром на завод. У проходной стояли машины. Нас рассадили по трехтонкам, на часок завезли по домам и прямо повезли в Среднегорск. Там обмундировали, погрузили в вагоны и выгрузили аж под Гомелем… Провоевали мы тогда всего с неделю. А потом нас обошли и окружили. Кто остался в живых — подались в партизаны, и с тех пор партизаню… Был дважды ранен, но выздоровел и сейчас снова в строю. Командирствую. Поэтому, вероятно, встретился и разговорился с летчиком. Сообщи всем нашим обо мне. Всех целую и обнимаю. Что с братьями: Петром и Гришей? Где они? На каком фронте? Живы ли?.. Пиши. Если однофамилец — отправь письмо по адресу…»
Вот так-то, друг, искал отца — нашел дядю. Скажи кому — не поверят.
— А помнишь, как о нас в городской газете писали? — воскликнул я, вскакивая.
— Ну, помню.
— Так газета у меня и сейчас есть! — я склонился к чемодану, стоявшему у стола. — Все документы вожу с собой. Вот она!..
Выпрямился сияющий, держа над головой, точно флаг, вчетверо сложенный пожелтевший лист.
— Наш родной «Синарский рабочий»!
Владимир осторожно развернул потрепанную газету. Наверняка, вспомнил, как в тот вечер пришел с работы домой.
— Ну что задумался? — заглядывал я в глаза и обнимал за плечи. — Домой небось захотелось?.. Да если бы ты сейчас заявился в школу в этом блестящем виде, уверяю, все бы, особенно девчонки, от зависти и восхищения с ног попадали!..
— А знаешь, — сказал Владимир с гордостью. — Получил недавно письмо от братана. Интересуется авиацией. Каков чертенок?!
— Пусть поступает! — солидно отвечал я. — Не прогадает! Училище недавно наградили орденом Красного Знамени!.. И в мирное время профессия нужная… А знаешь, вслед за тобой половина наших ребят в армию ушла. Полдухового оркестра! И сейчас его нет. Распался!.. Оставшиеся на заводах вкалывают. Привет тебе передают!..
— Спасибо.
— А знаешь, Мишка Мирон тоже в училище курсантом. Встретился перед моим отъездом и говорит:
«Обскакали вы меня, ханурики. Особенно Адмирал. Если увидишь — передай: Мирон тоже скоро на фронте будет! Вовчик еще услышит обо мне, а не только я о нём!»
— Ну, ну, — улыбнулся Владимир. — Рад буду. Хорошо, что Мирон за ум взялся.
— Сейчас все мало-мальски честные люди, если не предатели-подонки, за ум взялись. Такая война идёт. Кто же будет защищать Родину?!
— Это верно, — вздохнул Владимир, — поэтому мы здесь.
…Первые недели пребывания на фронте мы изучали район полётов, оперативную, климатометеорологическую и навигационную обстановки; матчасть, на которой предстояло летать.
После сдачи зачетов выполнили несколько ознакомительных, тренировочных и проверочных полётов. И все это организовал, да и многое другое наш штурман Владимир Ушаков. Во всяком случае, по его инициативе это было проведено. Нас, зелёных, неопытных, не спешили сунуть в пекло, где бы мы сразу сгорели. А готовили к боевым вылетам обстоятельно, умно, передавая по крупицам ценнейший боевой опыт, позволявший успешно выполнить боевое задание и вернуться домой. Вот тогда и были проведены методические сборы летного состава полка, где лучшие асы-ветераны, делясь своим опытом, учили нас побеждать. Сами Вадов, Панкратов, Ушаков рассказывали о своих вылетах, своих приемах. Больше того, еще до нашего прибытия в полку уже действовали по инициативе комсомольцев секции бокса, самбо, немецкого языка, вождения автомашины, ориентировки и выживания в лесу, борьбы с преследующими овчарками. И всё это на случай, когда будешь сбит и будешь пробираться к своим. Разумеется, Владимиру это было легко организовать, ибо сам Вадов его во всём поддерживал, как родного сына.
Вот так мы и служили по приезде, пока, наконец, не настал наш черёд…
ВЛАДИМИР УШАКОВ
Задание было необычным: отыскать и осветить Степной — стратегически важный железнодорожный узел. Свыше недели наша авиация непрерывно бомбила его, но каждый раз по-настоящему разбомбить не могла. А через узел день и ночь шли эшелоны на фронт…
Перед вылетом на стоянке у самолёта экипаж осветителя напутствовал сам командир полка.
— От вас зависит весь успех операции, — негромким баском говорил полковник, вглядываясь в каждого члена экипажа. — Особенно от тебя, Володя. — Вадов коснулся рукой моего плеча. — Возможно, наши соседи бомбили ложный узел, а настоящий, замаскированный стоит целёхонек в стороне.
Взлетели, когда солнце скрылось за горизонтом. Почти до самой линии фронта набирали высоту. Расчет был прост: в целях безопасности перевалить линию фронта на максимальной высоте. Затем, убрав газ, приглушив моторы, почти планируя, неслышно выйти на Степной. Отыскать его и развесить «люстры»…
До цели оставалось минут двадцать лёту, когда я увидел берег Азовского моря. Ночь хотя и безлунная, но море резко отличалось от суши. Безбрежная серо-стальная гладь уходила вдаль в темноту… Сориентировавшись и уточнив курс, дал его пилотам. Через 15 минут — цель. Главное вовремя заметить длинный языкообразный залив, врезающийся в сушу Крымского полуострова. В семи километрах от залива — узел…
Внизу тихо. В самолёте ещё тише, хотя монотонно урчат моторы. Все молчат, охваченные нервным напряжением, которое испытывает каждый в ожидании боя. Чем ближе схватка, тем сильнее оно, а наивысшая точка всегда совпадает с последней минутой перед боем.
Упершись руками в остекление кабины, я неотрывно наблюдал за черневшей сушей и матово отливающей водной поверхностью. Изредка подносил к глазам карту. На этом, самом ответственном, участке маршрута вёл самолёт визуально по земным ориентирам. Они, к счастью, просматривались сносно — внизу не было ни облачности, ни тумана, ни дымки.
Нажав на переключатель переговорного устройства, громко сказал:
— Прошу всех вести тщательную ориентировку. О каждом замеченном огоньке, характерном ориентире докладывайте мне.
— Хорошо-о, — отозвался Васильев.
Второй пилот Родионов — полковой насмешник, поэт, певец и художник с непонятным хохотком выпалил:
— Будь спок, флагман! Если не надеешься на себя, мы поможем! У меня глаза кошачьи…
Васильев почти совсем убрал газ, урчанье двигателей сменилось мягким шипеньем. Самолёт, планируя, летел по-совиному: беззвучно и незаметно.
Пять минут до цели! Перед глазами — тёмные очертания берегов. По-прежнему всюду тишина и спокойствие. Похоже, немцы проворонили самолёт. На земле — ни одной светлой точки. Кажется, враг спит, укрытый темнотой, словно толстым одеялом. Впереди, чуть правее, блеснуло что-то, похоже на огонёк.
Я замер. Опять проблеск… Нет, вспышка, едва заметная… Движется…
— Вон он! Вон справа! Вон справа Степной! — торжественно заголосил Родионов. — Видите огоньки?..
— Да, видим. Не кричи! — не выдержал я.
Но Родионов не унимался:
— Это я! Я первый обнаружил Степной! Запомните, все! И ты, командир!..
— Запомним, — не то серьёзно, не то насмешливо пробасил Васильев.
Я поглядел на часы. Должен быть Степной… Отчетливо видны два движущихся неярких огонька. «Автомашина? Или паровоз?..» Рукой провёл по глазам. Вытер ладонью вспотевший лоб.
Темнеют квадраты каких-то строений. Населённый пункт? Степной?.. Степной, выходит, под самолётом. Рука невольно потянулась к рукоятке открытия бомболюков.
— Бросай, штурман, САБ! — кричал Родионов. — Цель под нами! Чего медлишь?
— Не мешай! Без тебя знаю.
— Кидай, говорю! Время точно совпало! — настаивал Александр. — Или тебя заело, что не ты первый обнаружил цель?..
Он, видимо, все еще не забыл, как с месяц назад тоже ночью первым обнаружил неизвестный аэродром. Но, приняв на себя командование, хотя умирающий командир передал его мне, не рискнул штурмовать вражеские самолёты. «Зато уж сейчас не упущу своего. Докажу всем, каков летчик Родионов!» — бормотал он под нос, и я слышал это в наушниках.
Я продолжал тщательно изучать цель, огромная ответственность легла на меня. Понимал, что значит осветить ложную цель. Ведь целый полк мог ударить по ней, да ещё впустую, и потери при этом понести немалые. Раскрасневшийся, с мокрыми прилипшими ко лбу волосами, буквально не отрывался от остекления, напряженно всматриваясь в темень.
— Встать в круг! — срывающимся голосом приказал. — Крен 30!
— Ты что?! — возмутился Александр. — Хочешь быть сбитым?.. Командир, прикажи ему сбросить «свечи»! — обратился он за помощью.
Сейчас, когда ожидание боя достигло предела, Родионов чувствовал себя, как на электрическом стуле. Он мучительно ждал удара врага и удивлялся его медлительности. Он и не догадывался, что немцы, хотя и поздно, всё же обнаружили нас. Но решили раньше времени не обнаруживать себя. Мало ли куда ночью мог лететь одиночный самолёт? Да и какая от него угроза?..
— Прикажи, командир! Что он, на самом деле испытывает наше терпение? Скоро подойдет первый эшелон полка!..
Васильев поглядел на часы.
— Да-а, — с растягом выдохнул, стараясь не показать нервную дрожь, — должен…
Было непонятно, то ли поддерживает он Родионова, то ли нет.
Васильев колебался, не зная, что предпринять. Он тоже видел огни. Засёк — самолет вышел точно в расчетное время на них. Знал — остались считанные минуты до подхода полка. Всё это требовало отдать приказ сбросить САБы, но он не мог этого сделать, потому что верил мне как штурману больше, чем себе. Да и как не верить, если на моём счету больше сотни боевых вылетов, и мне верил, как себе, сам командир полка Герой Советского Союза Вадов!..
— Не торопи его. Пусть ищет, — с паузами ответил Васильев Родионову.
А я медлил не случайно. Именно та легкость, с которой даже Родионов обнаружил цель, и настораживала. Ведь соседние полки не раз бомбили узел, а он до сих пор действует. Выходит, не настоящий бомбили — ложный. И наверняка этот, который легко находили. Но где же действительный Степной? Должен быть где-то здесь, рядышком. Иначе с первых же налётов был бы замечен обман… Не перенесли же фашисты целый город по воздуху в другое место, как всесильные джинны в сказке!..
И я с прежней настойчивостью продолжал просматривать местность по ходу разворота бомбардировщика. И когда уже совсем разуверился в том, что отыщу цель, впереди увидел что-то похожее на лес. «Откуда же ему быть здесь? Тут же степь, степь!..» Для уверенности взглянул на карту. Так и есть. Никакого леса. И заливчик точно сбоку.
— Прямая! Курс 180! — скомандовал, решив подробнее рассмотреть странный лесок. Или это село, поросшее зеленью?.. Но вблизи не должно быть крупных сёл!..
Подозрение всё больше овладевало мной. Взглянул на часы. До подхода первого эшелона полка оставалось минуты три.
— Командир! Сбрасываю одну САБ здесь! Если не обнаружим, другие сбросим там!
— Давай! Давай! Тебе видней…
— Притихли, замаскировались, сволочи! — шептал я, открывая бомболюки. — Сейчас проснетесь! Думаете, не знаем, где вы?.. Получайте! — и с силой нажал кнопку.
Через несколько секунд под самолётом чуть сзади — ослепительный взрыв, разорвавший темноту. Бомба, плавно покачиваясь, словно горящий маятник, осветила местность вокруг на несколько километров. В ту же секунду из разных точек ударили лучи прожекторов. Закачались, обыскивая небо.
— Смотрите! Вот Степной! Сбрасываю вторую!..
Внизу в ярко-молочном свете САБ виднелось утопающее в зелени село, расположенное между невысокими холмами.
«Холмы?! А-а, маскировочными сетками укрылись…»
— Угости-ка их бомбами! — сказал Васильев, разворачивая самолёт.
— Боевой!
— Есть боевой!
В этот момент открыли огонь немецкие зенитки. Вокруг самолёта запрыгали барашки разрывов. Самолёт затрясло, точно автомобиль на ухабах. Подобно гигантским ножкам циркуля, два прожекторных луча скрестились на бомбардировщике, ослепив экипаж. Затем к ним присоединился третий луч, четвертый. Бомбардировщик оказался в ловушке.
Хотя я и не видел командира в те секунды, но представляю, как Васильев, склонившись к приборам, парировал штурвалом воздушные толчки близко разорвавшихся снарядов, удерживая машину на боевом курсе.
Родионов, не выдержав, бросил штурвал и, закрыв глаза руками, в отчаянии приговаривал:
— Куда попали! Куда попали! Говорил! Предупреждал!
Тем временем зенитный огонь нарастал. Он стал настолько плотным и частым, что дым, не успевая рассеиваться, слился около самолёта в сплошное белое облако, в котором то тут, то там сверкали ослепительные молнии. Глухо, с «чаханьем» рвались снаряды. Наверняка, Васильев впервые за всю войну видел такую интенсивность огня. Представляю: его раскрасневшееся лицо блестело, вены на руках вздулись, маленькие «жучки» — глазёшки округлились и часто-часто мигали. Он непрестанно лизал губы. Секунды боевого пути казались годами, которым нет конца. Когда он, измучившись от ожидания смерти, хотел швырнуть самолёт вниз, в наушниках раздался спасительный голос:
— Бомбы сброшены! Разворот!..
Васильев, резко отжав и повернув штурвал, одним рывком хотел выскочить из ослепляющих объятий прожекторов. Но лучи вцепились в машину и не выпускали её. Васильев стал бросать самолёт из стороны в сторону. И это не помогло. Тогда, введя машину почти в пике и меняя курс, он выскользнул из лучей и скрылся в темноте…
ПАВЕЛ ЗАСЫПКИН
Ил-4 — в нем один пилот старший лейтенант Хаммихин — идёт по маршруту.
— Штурман, сколько еще до цели?
— Пять минут, товарищ командир!
Хаммихин себе под нос: «Пора задержаться…» Поворачивает штурвал, разворачивает самолёт.
— Товарищ командир! Почему разворот? Мы же точно шли? — недоумевая, спросил я.
Хаммихин недовольно:
— Моторы греются. Масло из радиаторов бьёт. Надо сделать площадку.
— Но мы же опоздаем?! Не выполним задание!..
Хаммихин ласково:
— Не беспокойся, Паша. Все будет в порядке. Для тебя же лучше делаю! Для дела! Масло выбьет — врежемся в землю! А сейчас не шуми и вообще не болтай лишнего!
Становится в круг…
К цели с минутными интервалами подходили бомбардировщики полка. Немцы, стремясь защитить Степной, пустили в ход всю артиллерию. Подняли в воздух два полка истребителей. Включили все световые поля, насчитывающие десятки прожекторов… На огромном пространстве наступил день, исчезли звезды. Казалось, земля вспыхнула огнём, исторгавшимся из её недр.
Один за другим наши бомбардировщики выскакивали из чёрного месива ночи, попадали в губительное море света и, выполняя противозенитный маневр, устремлялись к горящей цели. Но дойти до неё было трудно. Намного труднее, чем в то время, когда шел экипаж Васильева. Кольцо огня опоясывало Степной. Бурлило разрывами небо, похожее на гигантский кратер извергающегося вулкана. И первый же самолёт, шедший вслед за Васильевым, оказался подбитым в начале боевого пути…
— Запомни! Никогда первым не лезь на цель!.. Первые, как правило, всегда гибнут! — говорил негромко Хаммихин.
— А если прикажут?..
— Твое дело — сбросить бомбы, сфотографировать разрывы, а каким ты сбросишь их, разве это важно? Да и кто об этом узнает? Особенно ночью. Летим-то не в сомкнутом строю!
— А ведь верно!..
— Я с самого начала войны летаю и кое-чему научился за это время. Вон, гляди! — кивает на освещенный край неба. — Кто-то уже сунулся на цель! Представляешь, как жарко ему сейчас?.. Ба! Подбили его! Факелом горит!.. Жаль парня!.. Считай — погиб! Уразумел, что было бы с тобой, если б движки не подвели?..
— А может, пора и нам на цель?
— Подожди, пропустим двух-трех, подавят зенитки, да и моторы поостынут, потом и ударим.
Продолжает виражить…
Второй бомбардировщик, попав в световое поле, заметался в нем, ослепший, из стороны в сторону. Потом, не выдержав зенитного огня, на развороте беспорядочно сбросил бомбы, резко сменил курс и со снижением скрылся в темноте.
Третий бомбардировщик… Разрывом снаряда ему снесло хвостовое оперение, и он, кувыркаясь, плашмя ударился о землю.
ВЛАДИМИР УШАКОВ
И для экипажа осветителя бешеный огонь немецких батарей не прошел бесследно. Васильева осколком ранило в плечо.
Я, перебравшись по лазу в кабину пилотов, расстегнул комбинезон командира и спешно бинтовал рану. Откинув голову на спинку кресла, закрыв глаза и закусив нижнюю губу, Васильев стонал. Иногда он открывал глаза и наблюдал за налетом полка.
— Гады! Что делают! — скрипел он зубами.
— Давят нас, как мух! — поддакивал Родионов. — Я уже с жизнью прощался, когда попали в лучи! Идем домой, командир! Горючка на исходе!..
Васильев болезненно скривился, с досадой ответил:
— Погоди-и, успеем. Видишь, что делается?..
— А что делается? — прикинувшись простачком, заворковал Сашка. — Фрицы стреляют, наши бомбят, как и должно быть. А вы ранены, вам нужней уход и покой. Так ведь, Володя?
— Замри! — прервал его Васильев. — Балабон!.. Стрелок! Стрелок! — позвал он. — Ты слышишь меня, Ваня? Слышишь?.. Радист! Коля!..
— Я! — отозвался радист. — У меня все в порядке. Наблюдаю за воздухом!
— Узнай, что со стрелком?
Васильев обернулся ко мне:
— Ну, штурман! Что будем делать?..
— Помочь надо ребятам.
— И я так думаю.
Взволнованный голос радиста, раздавшийся в наушниках, прервал разговор.
— Командир! Ивана убили! Ивана убили!
Круто повернувшись, выпучив глаза, так что вздулась на лбу темная вена, Сашка закричал:
— Стрелка убило! Идем домой, пока не кокнули!
— Не ори! — рявкнул Васильев.
— Как это не ори!? Я не хочу умирать зря! Из-за вашей прихоти! — вопил Сашка.
— А они зря по нашей прихоти умирают?! — показал я в сторону Степного.
В этот момент в световом поле появилось одновременно два самолета. С разных направлений на разных высотах устремились они к цели, пытаясь обмануть врага. Но фашисты вновь поставили стену многоярусного огня. От прямого попадания один самолет взорвался, другой — горящий — врезался в землю. Наступил критический момент боя.
— Сволочи! Прожекторы губят нас! — зло сказал Васильев. — Надо потушить их!
Вздрогнув, словно от удара плетью, Сашка злобно обрушился на него.
— Чем потушишь?! Стрелок убит!
— Пулеметами! — вмешался я.
— Верно, штурман! — Васильев одной рукой повернул штурвал, повел машину к Степному.
— Командир-р! Опомнись! Там смерть! — бесновался Сашка.
— Молчать! — взревел Васильев. — Струсил?! В первый и последний раз летишь со мной!
Сашка, затравленно озираясь, полуоткрыв рот и ерзая на сиденье, умолк.
— Лезь в переднюю кабину к пулемету! Дам сигнал — откроешь огонь. Все равно от тебя здесь мало толку! А ты, штурман, садись на его место! Помоги пилотировать!..
Ощетинившись дрожащими жальцами пулеметных огоньков, разбрасывая пунктиры очередей, мчался бомбардировщик. Снова вокруг бушевал огонь. Снова беззвучно шныряли трассы огненных шаров. Цветные пунктиры трассирующих пуль прошивали небо. Скрещивались, расходились веером и снова и снова неслись к самолету…
Сашка с Колей, прильнув к пулеметам, очередь за очередью посылали по прожекторным установкам, и те гасли одна за другой.
Васильев, склонившись к прицелу, с силой давил здоровой рукой электроспуск носовых пулеметов.
…Третья! Четвертая! Пятая!..
Огонь многих батарей сосредоточился на машине Васильева. Это и нужно было нашим летчикам. С разных сторон ринулись к цели несколько самолетов — все, кто подошел к Степному. Полетели вниз бомбы. Вздыбилась земля от тяжелых разрывов. Косматыми гривами взметнулось пламя многочисленных пожаров… Седьмая!.. Восьмая!.. И тут от разорвавшегося поблизости снаряда вспыхнул мотор.
Первым пожар заметил Сашка. В диком отчаянии он завопил:
— Пожар! Пожар! Падлы! Сволочи! Из-за вас умирать приходится!..
Я повернулся к Васильеву. Тот сидел как-то странно, точно застыл, уткнувшись лицом в штурвал, безжизненно свесив до пола руки. Не выпуская штурвала, я левой рукой прислонил его к спинке, заглянул в лицо и невольно отшатнулся… «Что же делать?! Попробую тушить!..»
Быстро выключив мотор, перекрыл подачу топлива, привел в действие противопожарное устройство. Но двигатель горел… Тогда решил сбить пламя скольжением и пикированием. Наконец, убедившись в бесполезности своих усилий, когда пламя перекинулось на плоскость и фюзеляж, и в самолёте оставаться стало опасно, приказал:
— Всем прыгать! Всем прыгать!..
ПАВЕЛ ЗАСЫПКИН
— Ну, Паша, готовься! Идем на цель! — выходя из виража, наконец, сказал Хаммихин.
— Я давно готов! Прицельные данные определил и установил!
— Ну то-то. Теперь понял, для чего я задержался ещё перед целью? Чтоб ты, садовая голова, успел определить ветер и снос в районе цели и точно отбомбился! Эх! Молодёжь! Молодёжь! Все учить вас надо! И всё даром! И всё же люблю летать с вами!..
Бомбардировщик Хаммихина приближался к цели.
— Боевой! — командует Хаммихин, хотя обычно эту команду пилоту подает штурман.
— Есть боевой! — ответил я и склонился над прицелом.
Появляются разрывы снарядов около самолёта. Хаммихин, потея, елозит на сиденье.
— Штурман! Скоро ты сбросишь бомбы?
— Сейчас!
— Кидай скорей, пока не сшибли!
Разрывов всё больше и больше. Хаммихин, не дожидаясь, когда я сброшу прицельно бомбы, кидает самолёт вниз и кладет в разворот.
ВЛАДИМИР УШАКОВ
После раскрытия парашюта я огляделся. Где остальные? Но сколько ни вглядывался в темноту — никого не видел. «А может, ребята уже на земле? Наверняка, выпрыгнули раньше…» Перевёл взгляд вниз и… замер от неожиданности. Всюду, насколько хватало глаз, расстилалось море.
Поглощенный борьбой с пожаром, я машинально горящий самолет вел все-таки домой, на северо-восток… На миг охватило отчаяние. «Ну что за злосчастье?! Из каких только переплетов не выкручивался — и утонуть в море!.. Ну, нет. Бывало же хуже. Главное как можно дольше продержаться».
Стал лихорадочно раздеваться. Освободился от ремня с кобурой. Расстегнул одну за другой все пуговицы и застежки комбинезона. Потом, усевшись поглубже в подвесной системе парашюта, стянул с ног и выкинул в море сапоги. Расстегнул грудной и ножные обхваты и, когда до водной поверхности осталось чуть-чуть, скользнул вниз.
Вынырнув, освободился от комбинезона. Затем от гимнастерки. Намокшие, плотно обхватывающие икры ног галифе словно приклеились и никак не стягивались. Пока снял, четыре или пять раз уходил под воду… Наконец свободен! Можно плыть! Но куда?.. «А прожекторы!» — закрутился на одном месте, словно попал в воронку. Но так и не увидел светлой части неба. «Далеко улетели», — ещё повертел головой и поплыл, сам не зная куда, лишь бы плыть…
Стоял сентябрь, море было ещё теплым, и я мог, не боясь замерзнуть, плыть, пока хватит сил. Одно пугало — не вернуться бы назад, к берегам Крыма, занятого немцами. «А если кричать? Бывают же на море какие-нибудь суда или рыбачьи лодки?.. Может, кто услышит и подберёт?» Широко было открыл рот, но тут же закрыл без звука. «А если подберут немцы?..»
Я не знал точно, в каком месте Азовского моря находился. Ближе к берегам Крыма или к материку? Прикинул, выходило, в 20—30 километрах от нашего берега. Если так, то можно добраться. Главное — распределить правильно силы. Вспомнил, как в детстве плавал с мальчишками по родной Каменке вдаль, на выносливость. От плотины в центре города проплывали по 5—6 километров. Когда подросли, перешли на Исеть, плавали по 8—10 километров.
Прошло около часа, когда, устав, решил отдохнуть. Перевернувшись на спину, замер и даже закрыл глаза. Кругом стояла плотная тишина, какая бывает на море в штиль вдали от берегов. Ни звука, ни всплеска. Видно, рыба — и та спала… «Где ребята?.. Вероятно плывут также… И может, близко». Подняв голову, прислушался. По-прежнему ни звука. Я не знал, что ребят в этот час уже не было в живых. Открыв глаза, увидел над собой кусок неба, свободный от пленки облаков. Посредине — опрокинутый ковш Медведицы. Над ним — призывно мерцающая звезда. «Полярная… Север! Север!» — догадался. «Как же раньше не сообразил? Там! Там наш берег! Наши…» Выругался с досады. «Столько сил, времени потерял… Может, был бы уже на берегу… Хотя небо-то было затянуто…»
Ободренный, поглядывая на небо, поплыл дальше. Затем опять отдыхал и снова плыл, отдыхал и плыл, и так без конца. Постепенно силы убывали. Отдыхать приходилось все чаще. Держаться на поверхности становилось труднее и труднее. С каждой минутой тело наливалось усталостью, точно свинцом, и неудержимо тянуло вглубь… Помимо усталости появилась другая опасность. Сперва онемели пальцы правой руки, потом левой. Теперь очередь дошла до пальцев ног. «Только бы руки и ноги слушались, иначе конец!.. Продержаться до рассвета. Легче будет… Берег увижу… доску или бревно…»
Сверху донесся знакомый рокот моторов. «Разведчик, наверное?.. Счастливчики, домой идут… А может, мерещится?.. «Не вернулся с задания», — напишут в журнале боевых действий полка… Снова прислушался — рокот исчез. Собрав остатки сил, огромным усилием воли заставил себя плыть дальше. И тут ко всем прежним бедам прибавилась новая. Звезды почему-то стали двоиться, троиться, прыгать и кружиться. Тогда перестал глядеть на них. И только шевелил губами, повторяя: «Полярная… Полярная…» Каким-то чудом, сам не понимая как, держался на воде. Ни моря, ни неба толком уже не различал. Все слилось в какой-то радужный шар. Надо было что-то делать. И я решился. Сколько было сил — закричал.
— Помоги-и-и-те-е!.. Спаси-и-и-те-е!..
Сейчас мне уже было все равно, кто услышит — свои или враги. Я знал — скоро утону, выбирать не приходилось.
— Спаси-и-и-те!.. Помоги-и-и-те!..
Но крик тонул вдали, точно камень в воде, не возвращаясь даже эхом. Порой чудился рокот моторки. И я различал ее контуры невдалеке. И тогда вновь начинал кричать, но каждый раз все глуше и слабее. От сознания неотвратимости гибели было заплакал в голос, как когда-то в детстве. Но даже и плакать не пришлось. В полуоткрытый рот плеснула волна и, проглотив изрядную порцию горько-соленой влаги, я замолчал…
Наконец, силы совсем иссякли. Вода залила подбородок, рот, нос, и только глаза остались на секунду над поверхностью. Но вот и их залила вода. Море сомкнулось над головой. И только, вероятно, два-три небольших круга расходились в стороны в том месте.
Тонул плашмя, раскинув руки и ноги, медленно опускаясь на дно. Инстинктивно затаил дыхание на какие-то мгновения и так со сжатыми губами опускался в глубину.
Но что это?.. Я вовсе не в море, а дома, на мягкой постели… Откуда-то издалека приближается мать. Она, старенькая, худая, плачущая, садится на край кровати и ласково гладит по голове:
— Ну, вот, сынок, мы и встретились. Знал бы ты, как я тебя ждала.
Открываю рот, чтобы ответить, и вижу, как откуда-то сверху обрушивается поток. Все исчезает. Вскакиваю с постели и чувствую, что ноги, подогнувшись, уперлись в пол. Вода давит со всех сторон, прижимает к полу. Собрав все силы, стараюсь распрямиться… Еще! Еще одно усилие!
Вода куда-то исчезает… Я вновь вижу небо и звезды…
«Бред», — шепчу, но постепенно возвращаются силы, проясняется сознание. Надышавшись вдоволь, кое-как придя в себя, огляделся… Непонятно?.. Вода по грудь, а берега не видно… «Мель! Мель! Их же много здесь в… Сиваше…»
Когда утром взошло красноватое солнце, то на песке косы, саблей врезавшейся далеко в море, были видны отпечатки босых ног, терявшихся вдали…
17
КОМАНДИР ПОЛКА ВАДОВ
…Володя вернулся в часть на пятые сутки.
Я, выслушав рассказ о его злоключениях, распорядился:
— А сейчас передай командиру звена управления мой приказ. Пусть немедленно доставит тебя на По-2 в армейский дом отдыха «Авиатор». Отдыхать там неделю. Понял?.. И без моего личного вызова в полк не являться…
— Товарищ полковник, капитан Ушаков по вашему приказанию прибыл!
Я сидел за столом, сколоченным из необструганных досок (полк только что перебазировался на новый аэродром), рассматривал какую-то бумагу.
— Вот и хорошо!
Легко поднявшись, подошел к Володе, обнял за плечи, провел к окну.
— Ну, здравствуй! — оценивающе осмотрел его. — Как здоровье?.. Чувствуешь себя?..
Володя улыбнулся.
— Нормально.
— Не обижаешься, что вызвал раньше?
— Нет.
— Отдыхать будем после. А сейчас, брат, некогда. Людей не хватает. Да ты садись…
Володя опустился на краешек табурета.
— Ну как, снится море?
Володя замялся.
— Да, иногда…
— Пройдет. По себе знаю. Пройдет! У всех бывает… А теперь новая у нас задача…
И, глядя Володе в глаза, тихо добавил:
— Надо лететь сдаваться в плен.
Володя даже привстал от изумления, с опаской взглянул на меня.
— Куда?.. В плен?..
— Да! Да! Не удивляйся!..
Я шагнул к столу, взял с него лист, протянул Владимиру.
— Читай! Немецкая листовка. Вопросы потом, — и, круто повернувшись, вышел из кабинета.
Знаю, как Володя недоуменно рассматривал листовку. На одной стороне ее было крупно напечатано по-русски: «Пропуск». На другой — схема района полетов. На вытянутой петле реки — жирный крест, похожий на отметку места самолета, который ставят летчики на картах в полете.
«Русские летчики! Вы проиграли войну! Пора подумать о спасении! В новой Европе, которую мы строим по указанию великого фюрера, и для вас найдется место под солнцем наших побед. Пока не поздно — сдавайтесь в плен. Переходите или перелетайте к нам. Вам гарантируется жизнь, гуманное обращение и солидный пост в новой России…
В любой час светлого времени выходите на указанный ориентир на высоте 1000 метров. Выпустите шасси, встаньте в круг и ждите наших истребителей, которые заведут вас на посадку…
Одумайтесь, пока не поздно! Вся Европа и половина России в наших руках. Прекратите бессмысленное сопротивление. Иначе смерть! От нового чудо-оружия, которое мы скоро применим.
Немецкое командование».Володя дочитывал листовку (или перечитывал), когда я вернулся.
— Ну, как, согласен? — прикрывая дверь, спросил.
Володя рассмеялся, пожал плечами.
— Если вы согласны, то мне ничего не остается, как согласиться…
— Отлично! Пойдешь со мной. Вылет завтра.
Достав карту из висевшего на стене планшета и расстелив ее, предложил:
— А теперь давай обмозгуем, как это лучше сделать. И уговор, — я погрозил пальцем, — чтоб ни одна живая душа не знала…
Вылетели под вечер, когда до захода солнца оставалось минут сорок, не больше. В этом тоже был расчет.
Стоял октябрь: сухой, теплый. Бабье лето необычно затянулось в этом году. Дни были солнечными, прозрачными, с густым голубым небом, с неслышно летающей в воздухе паутиной, с крепкими ароматами увядающих трав. Лиственные леса, подернутые багрянцем, облитые лучами закатного солнца, казалось, вспыхнули и горели ровным, нежарким огнем.
Володя сидел в носовой кабине. Вел визуальную ориентировку и был захвачен открывшейся красотой природы. Обычно он летал ночью, а днем отдыхал или готовился к полету. И теперь яркие разнообразные краски осени завладели им и отвлекали на какие-то секунды от дела.
— Володя! Уснул?.. Чем занимаешься?..
Он, услышав в наушниках мой голос, поспешно ответил:
— Да нет. Просто наблюдаю. Какая красота кругом. Вот бы описать!
Я рассмеялся.
— Тоже мне, писатель нашелся. Усиль-ка лучше наблюдение, осмотрительность. Скоро цель?..
— Через одиннадцать минут.
— То-то ж! Чтоб были вовремя над ней! А описывать будешь после победы!
— Будем! — уверенно ответил Володя. — Можете не беспокоиться. Днем летать — не ночью!..
Прошли над болотом, раскинувшимся серо-коричневой шкурой у линии фронта. Впереди заблестела петля реки.
— Снижаюсь! — скомандовал я. — Усилить наблюдение!..
Извиваясь, поблескивала под самолетом река. Стрелки высотомера замерли на цифре 1000 метров. Самолет вздрогнул. Послышался скрежет, щелчок — я выпустил шасси. Стрелка указателя скорости сползла до отметки 250.
— Встаю в круг! — предупредил экипаж и огляделся по сторонам.
Наступило молчание. Все ждали вражеских истребителей, внимательно просматривая по секторам воздушное пространство, но их не было.
Прошло 5 минут. Нет истребителей!.. У каждого закралась мысль: «А может, обман?.. Ловушка?.. И мы в нее попали, как последние дураки!».
— Спокойствие! — дал команду. — Ждем еще пять минут. Продолжать наблюдение!..
Каждый опять пристально вглядывался в пространство, стараясь заметить на горизонте черные точки.
…6, …7, …8 минут — необратимо выстукивали часы. А истребителей нет и нет. Невыносимая неизвестность, мучительное ожидание. Вся война, к сожалению, состоит из них. Почувствовал — вспотели ладони. Ох, как хочется почесать их!.. Потянул перчатки с рук и тут неожиданно увидел — слева, откуда-то снизу вынырнул «мессер»…
— На малой высоте пришли! Ловкие сволочи! — ругнулся. — Огня не открывать! Стрелкам не показываться!..
Я крутил головой по сторонам. «Мессеры» прилипли в 10—12 метрах, не дальше. Чуть выше. Так близко не видел их за всю войну… Небесного цвета. Тонкохвостые, как осы. Короткокрылые, с обрубленными консолями. Горбатые. На килях — черные свастики, на крыльях — кресты с желто-белой окантовкой. На фюзеляже правого — во всю длину извивающийся удав с приподнятой головой. На фюзеляже левого — очковая змея с высунутым жалом…
Левый летчик, видимо ведущий, в коричневом шлеме, в очках — оживленно махал рукой. Потом вытянул ее вперед.
«Ясно, — указал направление полета…» Я в ответ кивнул головой.
«Согласен, согласен», — и тоже вытянул руку вперед.
Фашист одобрительно наклонил голову. Я выровнял самолет в указанном направлении…
«Курс 120 градусов» — отметил в бортовом журнале Володя и засек время.
«Мессеры» пошли чуть сзади и с боков. Так легче расстрелять бомбардировщик в случае неповиновения…
Строго по курсу показался густой темно-зеленый ковер леса. Он тянулся на много километров в глубь вражеской территории.
«Где же их аэродром?» — думал я, не спуская с «мессеров» глаз. Судя по тому, как сравнительно быстро они появились, где-то недалеко…
Прошло 6 минут полета с «почетным эскортом». Вдруг левый «мессер» вышел немного вперед и заложил левый вираж. Я послушно выполнил его команду… Вот «мессер» опустил нос, пошел со снижением.
Я повторил его действия. Тогда фашист, уменьшив газ, снова занял место сзади бомбардировщика…
Впереди внизу — лесная поляна, похожая очертаниями на цифру 8. Неужели это вражеский аэродром?.. Не может быть! Тут столько раз все пролетали!..
Откуда-то сбоку появилось посадочное «Т» из белых полотнищ. Я с силой сжал штурвал. Аэродром, выходит, хоть и сесть на нем не так просто. Уж больно мало поле… Но где самолеты?.. Или обманывают?..
Володя, заметив поляну и взглянув на карту, спешно произвел необходимые расчеты.
— Курс 86 градусов, квадрат 55—3! 9 минут лету! — сообщил мне.
— Понял! Но не вижу самолетов. Не иначе — покупают…
— Тоже не вижу. Может, замаскированы?..
— Идем на посадку. Там увидим…
Стрелки высотомера поползли по шкале, сматывая высоту. …200 метров, …150, …100. Замелькали пикообразные верхушки елей, стремительно убегая назад. Поляна росла, надвигаясь на самолет желтым пятном в густой зелени леса…
50 метров!.. Лес оборвался. Где самолеты?.. По-прежнему не видно! А «мессеры» не отстают ни на метр…
Я всматриваюсь в чащу влево и вправо. Ничего не понять!..
25—20 метров! Наверное, стрелки высотомера уже на нуле… Мелькнуло полотно посадочного «Т». Расчет на посадку я нарочно выполнил с «промазом». Но ко мне, пожалуй, не придерешься. Полянка-то мала. И сажусь на ней впервые…
Стоп! Что это?.. На опушке леса — укрытые елками и маскировочными сетями самолеты противника.
Володя обрадованно доложил о них.
— Тоже вижу.
Оглушительно, с надсадой взревели моторы. Я, уходя на второй круг, добавил газ. …5, …6, …7… автоцистерны, грузовики.
Верхушки деревьев зубьями частокола неслись к самолету — прижался к спинке сиденья — в последний миг нырнули вниз… И снова вокруг — безбрежный лес.
— Сколько насчитал? — не вытерпел я.
— Восемь истребителей и несколько бензозаправщиков.
— Надо уточнить. Зайдем еще раз. Боюсь, как бы не ложный!..
— Действительный! Действительный! — заверил Володя. — Я рассмотрел…
В эту секунду снова вровень с кабиной с обеих сторон появились «кобра» и «удав». «Кобра», повернувшись ко мне, грозил сжатым кулаком. Я согласно закивал головой, затем показал на аэродром и поднял вверх два пальца. «Сяду, мол, на втором заходе…»
«Кобра» тоже поднял вверх два пальца, а затем движением ладони показал посадку. И вдруг нажал на гашетку. Прерывистые ленты огня вырвались из самолета, исчезли вдали… «Учти, не сядешь при втором заходе — расстреляю», — грозила «кобра».
Я снова закивал головой. «Мессеры», закончив переговоры, немного отстали…
Минуты через три вывел самолет из последнего разворота, начал снижение.
— Стрелки! Приготовиться!
— Есть приготовиться!
— Сможете при этом ракурсе мгновенно открыть огонь?
— Вполне!
— Каждый наблюдайте за своим гадом и ждите команду!..
…Поляна. Высота полета 50 метров. На этот раз Володя уже издали увидел вражеские самолеты. Некоторые раскрыты, в моторах копаются техники. …14, …16, …18…
— Вижу 24 самолета! Аэродром настоящий!..
— Экипаж! Огонь! — скомандовал я и, дав полный газ, убрал шасси. Стрелки метнулись к пулеметам. Почти не целясь, в упор резанули по «кобре» и «удаву» длиннющими очередями.
Перевернувшись через левое крыло вверх брюхом, «кобра» свалилась на землю и заскользила по ней блином, крутясь волчком… «Удав», вздрогнув и резко накренившись, с правым разворотом врезался в деревья, делая просеку. Через мгновенье громыхнули взрывы, клубящиеся огненные облака взметнулись к небу…
Володя из носового пулемета бил по бензозаправщикам и самолетам. Третий взрыв… Огненный гриб взвился над лесом…
— Сокол! Сокол! — вызывал я по рации. — Я — Голубь! Курс 86! Квадрат 55—3! 9 минут лету! Ориентируйтесь по горящему лесу!..
Солнце уже давно скрылось за горизонтом. Густеющие сумерки обволакивали землю. В низинах лужицами разлитого молока стелился туман. Небо, подсвеченное лучами солнца, все еще было ясным и золотистым на западе и серым, темнеющим на востоке…
На полпути к линии фронта Володя высоко над собой увидел колонну звеньев своих самолетов. Доложил. Я спокойно ответил:
— Молодцы! Пусть кончают с «удавами»…
…После посадки, по дороге на командный пункт я говорил Ушакову.
— В последнее время резко повысилась активность вражеской авиации. По разведданным, в этом районе не значилось ни одного аэродрома. Естественно, возникла мысль: аэродром где-то здесь, совсем недалеко от линии фронта… Тогда провели сплошное фотографирование района и ничего не обнаружили… Что делать?.. Решили использовать предложение фашистов. Нам поручили разработать и выполнить эту операцию. И вот мы ее выполнили, брат… Очень удачным считаю твои предположения — выполнить операцию вечером и патрулирование полка в воздухе в ожидании команды. Это, думаю, намного сократило наши потери и обеспечило внезапность в известной степени…
Над головой послышался знакомый гул моторов. Мы с Володей остановились, всматриваясь в ночное небо.
— Вот и наши возвращаются! — довольно заметил Володя.
В эту ночь с боевого задания вернулись все самолеты полка…
Да, я, Павел Засыпкин, ходил к Вадову и рассказал о полете с Хаммихиным. Правда, когда в часть вернулся Владимир и расспросил меня о боевом крещении…
И сейчас вижу, как он, заглядывая мне в глаза, сурово спросил:
— Задание-то выполнили?
— Да-а, — замялся я, — вроде выполнили.
— Как это вроде? — нахмурился Владимир. — Выкладывай.
И я, волнуясь и захлебываясь, сбивчиво рассказал о вылете.
— Так, так, — размышлял вслух Владимир, покусывая травинку. — Значит, опять пытался не выйти на цель… Выходит, напрасно я тогда не доложил командиру полка о нем. Посчитал случайным тот срыв. Ну уж теперь обязательно доложу. Идем, — вставая с травы, сказал Владимир. — Сейчас же идем к Вадову…
Старшего лейтенанта Хаммихина судил военный трибунал. На открытом судебном заседании присутствовал весь личный состав полка. Военный трибунал приговорил Хаммихина к разжалованию в рядовые и прохождению дальнейшей службы на передовой в штрафном батальоне…
18
БОРИС УШАКОВ
Я быстро прочитал «Записки». Вернее, проглотил. И пристал к Павлу Ильичу с расспросами.
— А что это была за командировка в Казань?..
— Интересный был полет… Ну да об этом я напишу еще…
Павел Ильич умолк. Наверное, нахлынули воспоминания. Потом, посмеиваясь, продолжил:
— Сам понимаешь, как всякий ветеран-фронтовик, я же теперь немного писатель. Ведь сейчас все ветераны пишут о войне. Так что скоро закончу главу и про этот полет Владимира. И сразу вышлю тебе и, возможно, Вадову.
— Почему возможно, а не точно?
— Ну-у, он теперь большой человек. Как-то неудобно.
— Имеете в виду, что генерал-полковник?..
— Не только.
— Первый заместитель главкома?
— Не только. А ты откуда знаешь?
Я рассмеялся.
— Во-первых, я служу в армии, тем более в авиации, и обязан знать свое высшее начальство. Ну и потом, я видел его.
— Где? В училище?..
На открытии памятника дяде Владимиру.
— Где? Ему разве памятник поставили? — удивился Павел Ильич.
— В Синарске, молодежь города, недавно. И уверен, по инициативе Вадова.
— Думаешь?..
— А откуда бы узнали в Синарске о подвигах дяди?.. Ваши же «Записки» еще не напечатаны!..
— Да, да-а, — задумался Павел Ильич. — Какой все-таки Вадов молодец! Не забыл-таки своего штурмана. А ведь занят работой по горло! Государственный деятель!.. Кстати, он уже маршал! Во вчерашних газетах напечатано. И уже главком!.. Заместитель министра обороны!.. Пока мы с тобой из кабин не вылазим — в мире перемены! — рассмеялся Павел Ильич.
— Это прекрасно! Так и должно быть! Самые умные, храбрые, честные заслуженно становятся во главе!.. Вы не летали с ним?..
— Немножко. В конце войны после гибели Владимира. Думаю, потому, что был земляком и другом его. И, наверное, в память о нем.
— Не расскажете?.. Или дадите почитать?..
— Попозже, когда закончу главу. Да! Раз Владимиру установлен памятник…
— В центральном сквере города.
— Тем более, то назову-ка я свои «Записки» более точно и объективно — «О моем бессмертном друге».
— Справедливо. А мне тоже пришла мысль. Издать книгу, но только под вашей фамилией. Вы воевали, вы наблюдали, вы собрали материал, вы написали. Значит, она должна быть ваша. И не спорьте, не возражайте, иначе отдам тетрадь обратно.
Павел Ильич, махнув рукой, притих. Потом спросил:
— Петр Иванович и его братья пришли с войны?
— Нет, — погрустнел я. — До сих пор не знаем, где и как погибли. Недавно я опубликовал в «Правде» письма под заголовком «Отцовские наказы». Надеялся, может, откликнется кто-нибудь из однополчан. Дудки, ни одного такого письма. Наоборот, нас же спрашивают о своих родных, пропавших без вести в октябре сорок первого под Спас-Деменском. Видно, мало кто выбрался из окружения. Или уже умерли ветераны…
— Может быть, — кивнул Павел Ильич. — От сорок первого единицы в живых остались. Самые большие потери за всю войну понесли. Десять миллионов из двадцати. Поэтому многое неясно и не знаем до сих пор о первом, самом тяжелом и, вероятно, самом героическом периоде войны. Отступали, попадали из окружения в окружение… Некому да и некогда было рассказать правду о массовых подвигах и героях. Не случайно заграница до сих пор ломает голову над нашей победой!.. По всем цифровым показателям в экономике, в вооружениях, в политике — немцы должны были победить.
— А знаете, я много читал и думал о неудачах и пришел к выводу: главная причина их в неумелом командовании большинства командиров, начиная с Верховного, особенно, и кончая взводным. Закон «умелые кадры решают все» был выброшен еще в тридцать седьмом. Из пяти маршалов потеряли трех настоящих, а не конников. Из пяти командармов первого ранга — трех, из десяти — второго ранга — всех, из пятидесяти семи комкоров — пятьдесят!.. Из-за этого потеряли десятки миллионов молодых, здоровых, энергичных людей, что затормозило послевоенное развитие страны. Ведь до сорок третьего, до Курской битвы мы ни разу не смогли правильно определить место и время главных фашистских ударов, исключая разве Жукова, которого в начале войны Сталин мало слушал.
— Если верить печати, то органы безопасности вовремя определяли. Но «гений» все отвергал.
— Значит, по глупости, а точнее сознательно, я твердо уверен, губил советский народ.
— Именно так, ибо еще в 18 году российскому народу, особенно русскому была уготована участь хвороста, который должен был сгореть в пламени мировой революции. О чем не раз писали и говорили вожди мирового пролетариата… Да, до тридцать седьмого года наша армия была самой сильной в мире. Имела лучшие командные кадры, талантливейших полководцев, которых боялся даже Гитлер. А он, как известно, никого и ничего не боялся. Лучшую организацию и вооружение. Уже в 35 году была разработана «катюша». К сороковому должны были поступить ракеты, новейшие бомбардировщики. А их создателей: Королева, Туполева и других конструкторов и ученых, как Вавилов, собиравшийся накормить страну, упрятали подальше. «Гений» не терпел умнейших людей, в какой бы области они ни работали, ибо всегда им завидовал и на их фоне не смотрелся. Поэтому открыл дорогу подхалимам, карьеристам, подлецам. В итоге стал отцом советской бюрократии… Не будь подорвана военная мощь — наверняка бы не было войны. Гитлер не дурак нападать на страну сильнее Германии. А если и возникла бы, то длилась бы максимум два года. И потеряли бы мы — три-четыре миллиона.
— Бедная Россия всегда всех больше несла потерь.
— Да всю историю. И в битве с псами на Чудском озере, и с татаро-монголами при нашествии, и с Наполеоном. И все потому, что во все времена была самой миролюбивой. Вела оборонительные войны. Меньше всех имела современного оружия. И лишь в 45 году имела достаточно. Поэтому и была разгромлена полуторамиллионная Квантунская армия за пятнадцать дней. И понесли впервые в истории самые малые потери.
— Вот вы пишете… экипажи разыскивали Петра Ивановича. Дядя просил их, что ли?
— И так бывало. Но главное Вадов. Дал указание летчикам полка искать у партизан. Подсказывал — встречать самолеты. И генерал Панкратов много помог, через штаб АДД наводил справки о своем сыне и заодно о Петре Ивановиче по просьбе Вадова.
— Удивительный Вадов. Сейчас таких командиров нет.
— Будут, раз он возглавил ВВС. И не столько удивительный, сколько просто человечный, отзывчивый к чужому горю. После гибели семьи усыновил троих сирот — в полку служили.
— А вы знали Дмитриева… народного героя Югославии?
— Знал, служил в соседнем полку.
— А Жередина?
— Тоже знал… из нашей же дивизии.
— А вы тоже хороши. Ни разу не зашли к нам в Синарске. Не рассказали о дяде. Только вот сейчас, через целую вечность, я узнал о нем подробности, кроме гибели.
— Прости, Боря. Виноват. Но знаешь, сразу после войны умерли мама и отец. Он же инвалидом в сорок третьем пришел. И вот с тех пор я возненавидел Синарск. И не бывал в нем ни разу… А погиб Володя на моих глазах. Мы бомбили мост через Дунай. Зенитки фашистов свирепствовали. Когда летчиков убило, а моторы загорелись, Владимир направил самолет с бомбами в мост…
— Еще ломаю голову. Почему во время войны столько было предателей?
— Трагедия славян, русских, Руси, России в том, что они ненавидят самих себя, предают, и в первую очередь умных, талантливых. Всеми способами их изводят, выдвигая в свои вожди людей любой другой национальности. История убедительно это доказала, начиная с приглашения: «Идите княжить и владеть нами» — и кончая Джугашвили.
Отсюда все беды: смуты, многомиллионные жертвы, голод, холод, бесконечное нищенское существование.
А другие нации, занявшие на Руси, в России привилегированное, руководящее положение, стремясь увековечить его, подчинить и закабалить русских, сознательно уничтожают лучших, умнейших из них. Примеров более чем достаточно, начиная с того же IX века. Но вспомним последние. Это и убийство Пушкина, и членов императорской фамилии, и умницу-реформатора Столыпина, и Есенина, и Шукшина, и даже певца-патриота Талькова. А духовное порабощение русских, подмена их культуры и науки своей, чужой и враждебной путем проникновения в средства массовой информации, культуру, науку?.. Дико, но факт, в какой другой стране преобладающая нация не имеет своего канала на радио и телевидении?..
А под видом русских передачи ведут все!.. Непонятно, какое отношение к русской культуре имеют разные …дские, живущие на Западе, когда они в Израиле в списках великих?!. Ровно такое же, если Карамзина, Крылова считать классиками Израиля.
Русский народ обвиняют в великодержавном шовинизме, а он, как указывает история, даже своего национализма никогда не имел и не выработал, потому что никогда не распоряжался собой. Всегда был под гнетом других: хазар, скандинавов, татар, поляков, немцев, евреев, грузин. Ведь чисто русских славянских царей было трое — первые Романовы. Поэтому русские всегда боялись инородцев, бывших постоянно господами, начальниками, руководителями. Подстраивались под них, поддакивали им и доподдакивались, особенно сейчас, когда от России остались рожки до ножки, когда она скатилась к границам XVI—XVII веков. И все это без проигранной войны, без единого выстрела, при ухудшающейся жизни, при обнищании…
Раньше я гордился, что русский, — сейчас нет. Да и как можно гордиться, когда Россия гибнет и ее называют кому не лень, прямо в лицо русским, страной дураков, а народ дураками. И относятся как к рабам во всех национальных окраинах. Хотя называть надо страной начальников-воров-дураков, которые всегда думали лишь о себе и никогда о народе. Поэтому и грабят русских, Россию все кому не лень, другие нации и народы. 146 миллиардов рублей за 70 последних лет было вывезено в Азию, Африку, Индию, Америку «друзьям». И никогда эти страны не вернут долг. А если бы не помогали, то Россия, русские были бы богаты примерно как США, американцы…
Вот из-за всего этого на протяжении всей истории у многих русских закрепились три отвратительные черты.
Охаивание и предательство друг друга в отличие, например, от евреев, всегда и везде хвалящих друг друга и свою нацию.
Отсутствие самоуважения, собственного достоинства перед другими нациями. То есть нет здорового национализма. Зато есть врожденная доброта (интернационализм) — помощь другим бескорыстная и всегда в ущерб себе.
Отсутствие взаимовыручки и равнодушие простых людей к своей судьбе.
Случись сейчас война — гораздо больше будет предательства, чем в 41-м… Не выработаем свой национализм, здоровый, — в учебниках истории названия России не останется…
— Может, Павел Ильич, договоримся. Раз в год, где бы мы ни были, но в День Победы по возможности встречаться в родном Синарске у памятника дяде.
— И возлагать ему венок, — добавил Павел Ильич. — А знаешь, всю жизнь я брал пример с Владимира. Изо всех сил тянулся, как мог. Стремился догнать и перегнать. Но так, видимо, никогда и не догоню. Потому что и жизнь, и смерть его — все подвиг. А это доступно не каждому, но к этому надо стремиться. Ибо только один человек в природе совершает подвиги. Иначе зачем жить?..
Ты думаешь, он не мог быть живым? Сидеть сейчас среди нас, наслаждаясь всеми благами героя войны?.. Десятки раз, всегда мог!.. Или думаешь, он не любил жизнь? Отвергал наслаждения, не стремился к ним? Так же, ничуть не меньше, а может и больше, как ты и я. И шансов остаться в живых у него всегда было больше, чем у других… Он же был ас, герой, мастер своего дела… И вдруг выбрал смерть!.. Не глупо ли с его стороны?.. Но это только кажется. А если подумать и преодолеть слепую любовь к себе, трезво оценить обстановку, так умно… Он знал — никто не сделает то, что решил… Если и разрушат мост в конце концов, то через неделю-две и погибнут десятки, сотни и, может, тысячи людей. Поэтому, жертвуя собой, он решил спасти их!.. Один выполнить боевое задание, которое не мог выполнить целый полк…
В понедельник, едва лишь забрезжил рассвет, бывший старший штурман полка подполковник в отставке Павел Ильич Засыпкин улетел в Хабаровск на встречу ветеранов-фронтовиков дальневосточников.
Часом позже, выполнив задание, мы полетели на запад, домой, в Надеждинск…
19
НЕ ЧИСЛОМ, А УМЕНИЕМ
(Рассказ Павла Ильича Засыпкина, присланный Борису Ушакову)
Экипаж Вадова выполнял полет на «свободную охоту». В полдень возвращались с боевого задания. Погода была ясной. Видимость, как говорят летчики, «миллион на миллион». И вокруг ни одного самолета.
Павел, сидевший на своем месте в передней кабине, не переставал удивляться тишине. И даже сказал об этом командиру.
— Ты не очень-то радуйся, — нехотя отозвался Вадов. — Делай свое дело и внимательно следи за воздухом.
— А я слежу, товарищ полковник! Слежу!
Охота была не особенно удачной. На перегоне Бреславль — Дрезден не обнаружили ни одного железнодорожного состава и чуть было не ушли на запасную цель, если бы в одном из лесочков не засекли моторизованную колонну. Бомбы попали точно в лесок, но, какие потери понес противник, определить было невозможно. И это угнетало Вадова…
Подходили уже к линии фронта, когда слева над самым горизонтом Павел заметил черное пятнышко. По выработавшейся привычке доложил командиру.
— Тоже вижу, — все еще хмуро ответил Вадов. — Только вот не пойму: то ли это группа бомберов, то ли истребители, то ли птицы? Последим!..
Минут через пять, когда пятнышко чуть увеличилось, Павел заметил:
— А ведь это бомбардировщики! И идут они тем же курсом, что и мы.
— Как узнал? — оживляясь, прикинулся непонятливым Вадов.
— Если бы шли навстречу, — мы бы уже встретились. Если бы были истребители, — давно бы уже скрылись из виду. Если бы были птицы, — давно бы догнали. А то ни то ни се!
— Логично рассуждаешь, — похвалил Вадов. — Вот только чьи бомбардировщики? — продолжал он урок.
— Предлагаю незаметно подойти и узнать, кто они? Подойдем со стороны солнца?..
Вадов согласился, в душе радуясь за Павла. После гибели Владимира Вадов, любивший молодежь, частенько брал Павла с собой в полет. Как и Владимир, Павел ему понравился с первого же вылета. Он прилагал немало сил, чтобы из увлекающегося юноши вырастить умного, стойкого, рассудительного воина. Не случайно в послеполетных разборах боевых вылетов, указывая на промахи и недостатки членов экипажа и правильные действия, он всегда повторял излюбленное суворовское изречение:
«Воюют не числом, а умением. Только при умном ведении войны победим малой кровью».
— Дело говоришь! — повторил Вадов и довернул машину градусов на десять влево. — Идем!..
— На всякий случай, не мешало бы набрать превышение. Тогда лучше увидим, что это за птицы.
— Разумно! Набираю! — Вадов увеличил «наддув» и, взяв штурвал на себя, перевел бомбардировщик в набор высоты. Гнусаво-нудно завыли моторы, резво затаскивая многотонную махину в «гору»…
Постепенно пятно увеличивалось и увеличивалось, пока, наконец, не стали различимы отдельные черточки — самолеты. Они шли клином, который четко просматривался сверху. Их было девять. Три звена…
— Думаю, это фашисты, — с беспокойством сказал Павел, всматриваясь в едва различимые силуэты.
— А может, наши? — предположил Вадов.
— Нет, кажется, «юнкерсы». 87-е, лаптежники.
— Тебе видней, молодой.
— Да! Да! Они! Пираты! Видите, одномоторные?..
— Не спеши с выводами. Может, «илы», они тоже одномоторные.
— Нет! Нет! «Илы» я отлично знаю, товарищ полковник, — уверял Павел. — «Юнкерсы» это, вглядитесь получше!..
…Через некоторое время и Вадов различил, что самолеты были одномоторными. На солнце вспыхивали стекла кабин, поблескивали диски вращающихся винтов.
— Ну, видите, товарищ полковник! И кабина одна! И пулемет торчит сзади. «Юнкерсы»!
— У «илов» тоже кабина одна и пулемет сзади. Подойдем ближе.
— А если они врежут из пулеметов?
— Не должны! — успокаивал Вадов. — Им не видно. Мы же в лучах солнца.
Приблизились еще к группе.
— Ну, теперь-то видите, товарищ полковник? — не унимался Павел.
— Знаков не вижу, — как обычно, спокойно ответил Вадов.
— Да зачем знаки?.. Крылья-то обрубленные! А у «илов» закругленные. Да и хвост не такой!.. Что будем делать, товарищ полковник? Может, сообщить по радио, пусть вышлют истребителей!..
— А ведь, пожалуй, ты прав, — наконец-то согласился Вадов. Хотя он никогда не боялся признавать правоту других. — Вот сейчас и я вижу — крылья-то вражьи…
— Может, доложить на КП? Вызвать перехватчиков?!.
— Перехватчиков? — переспросил Вадов. — А если те не успеют? И фашисты отбомбятся по цели?
Вадов мучительно размышлял. Неожиданно урок обучения Засыпкина превратился в опаснейшую ситуацию, требующую немедленных действий.
Вадову не раз приходилось слышать, что в дымном фронтовом небе встречались противники — отдельные бомбардировщики и даже целые группы, следовавшие по своим маршрутам, но в бой не вступали.
— Не успеют, не успеют, — машинально повторял он.
— Конечно, не успеют! А знаете, товарищ полковник, — Павел замялся на секунду, точно взвешивая, не сказать бы глупость. — А если мы их атакуем, как истребители?..
— Как это — атакуем?
— А очень просто! Мы без бомб! Они с бомбами! Значит, мы маневреннее. Потом, мы же скоростные — они тихоходы! Далее, носовое вооружение у нас сверхмощное, а по боковым — стрелки ударят! Свалимся внезапно сверху! Успех обеспечен!.. Вначале ударим по задним, потом проскочим в середку! Пусть тогда стреляют — себя перестреляют!..
— Внимание, экипаж! Сейчас атакуем «юнкерсов»! Радисту бить по правому ближнему! Стрелку — по левому! Как поняли? Прием?..
— Поняли! — эхом откликнулись стрелки.
— Стрелять по моей команде! Стрелять по моей команде!
Последнюю фразу Вадов сказал дважды не случайно. Все же полностью он не был уверен, что это «юнкерсы». Поэтому решил открыть огонь только тогда, когда увидит паучьи знаки на хвостах.
Плавно отжав штурвал, Вадов перевел бомбардировщик в крутое планирование, прицеливаясь носом в замыкающего серединного фашиста.
Павел по инерции завис и чуть было не опрокинулся, но успел ухватиться за рукоятки пулемета и, припав к нему, навел на «юнкерс».
На глазах росла девятка. Из малюсеньких бомбардировщики превращались в грозные, нагруженные бомбами боевые машины. Сомнения исчезли — черно-бело-желтые кресты сияли на плоскостях.
Все спокойно. «Юнкерсы» все дальше и дальше плывут на северо-восток, не подозревая, что через секунды на них обрушится удар. Не видят фашистские стрелки, что на них мчится самолет, потому что Вадов подобрал угол планирования примерно равный высоте солнца.
У Вадова в считанные секунды окончательно созрел план боя.
До «юнкерсов» оставалось метров двести, когда Вадов скомандовал:
— По фашистским гадам!.. Огонь!
И враз брызнули из самолета огнистые линии. Спереди несколько искристых дорожек протянулись к «лаптежнику». Тот запереваливался с крыла на крыло, задымился длинными черными косами, вспыхнул желтым неярким пламенем и вывалился из строя.
Вадов хотел было довернуть, чтобы ударить по следующему бомбовозу, но не успел и оказался почти рядом с левым «юнкерсом», заняв место сбитого самолета. Взглянув в сторону, он увидел кабину пилота, его изумленное повернутое лицо. Гитлеровцу было чему изумляться. Такое раз в жизни бывает!..
Спасаясь от огня советского бомбардировщика, немец шарахнулся вниз и влево, налезая на другие «юнкерсы». Те, в свою очередь, тоже шарахнулись — одна сторона клина распалась. Зато с правой стороны по самолету ударили из пулеметов.
Вадов, дав газ, нырнул вниз, под брюхо «юнкерсам». Это спасло самолет: обзор нижней полусферы с «Ю-87» плохой, и фашистские стрелки потеряли советский бомбардировщик.
— Огонь, по ведущему, штурман! Стрелкам бить по ближним самолетам! Выровняв машину метрах в 60 ниже строя, Вадов огляделся. Левые «юнкерсы», видимо, посчитав, что на них напали истребители, разошлись кто куда, поспешно сбрасывая бомбы и поворачивая назад. Вдали на земле догорали обломки сбитого бомбардировщика. Вверху над самой головой висели брюхатые туши вражеских самолетов. Необычно и непривычно было видеть их выпущенные, неубирающиеся «ноги» — шасси, колеса которых закрыты обтекателями. Лапами хищных птиц казались они. Хотя разве «юнкерсы» не хищники?..
«Юнкерсы» колышутся, точно бревна на волнах. Вверх — вниз, вверх — вниз. Видно, молодые, «зеленые» летчики пилотировали их.
«Если сбить ведущего — строй рассыплется», — эта мысль сверлила мозг Вадова.
— Товарищ полковник! Я не могу стрелять по переднему! — кричит Павел. — Задерите нос!..
— Задираю! Готовься! — Вадов, потянув штурвал, перевел самолет в набор высоты, целясь им в ведущего. Но бомбардировщик не истребитель, вертикально его не поставишь. Больше позволенного (в зависимости от мощности двигателей и аэродинамики машины) нос не поднимешь. Иначе — сваливание на крыло и даже срыв в штопор… Что же делать?..
Вадов чертыхнулся от злости. При таком положении, чтобы открыть огонь из передних пулеметов, необходимо отстать от строя, чем выдашь себя, до и под огонь вражеских стрелков попадешь. Выход один:
— Стрелки! Огонь по ведущему! Огонь!..
Трассы огня вонзились в грязно-серое брюхо «юнкерса» и полосовали его до тех пор, пока не появились сначала слабые, но юркие, потом жирные и черные, как деготь, струи дыма. Потом брызнуло яркое пламя, протянувшееся по фюзеляжу. «Юнкерс» клюнул носом, и, волоча за собой хвост огня и дыма, пошел к земле. Он пролетел перед самым носом бомбардировщика, так что Вадову пришлось убрать газ и отвернуть вправо.
Остальные фашисты, ошеломленные гибелью вожака, охваченные страхом и паникой, один за другим поворачивали на запад, сбрасывая бомбы на развороте.
— Ур-ра-а! Драпают! Мы их погнали! — наперебой кричали стрелки и Павел. Неудивительно: 18—20-летние мальчишки-комсомольцы, они радовались громко, открыто, искренне.
— Да! Да! — довольно посмеивался Вадов. — Такой удачи и я не ожидал!..
После прилета домой перед всем экипажем Вадов сказал Засыпкину:
— Ну что ж, Паша! Теперь ты можешь летать со всяким командиром. Даже с молодым, неопытным. Верю, — выполнишь любое боевое задание…
ЭПИЛОГ
«Борис! Недавно в «Правде» я наткнулся на твой, взволновавший меня, рассказ «Возвращение»… Ничего не понимаю — все это на самом деле было?.. Тогда почему утаил от меня?.. Как бы то ни было, но именно такой концовкой нужно закончить «Записки»…
20
«Домой! Домой!» — стучали колеса вагона, и пассажир покачивался в такт. Начиная от Среднегорска, он, не отрываясь, смотрел в окно.
«Родимая сторона! Как давно я тебя не видал?!»
«Домой! Домой!» — тревожно стучало его сердце.
Какие-то 2—3 часа, оставшиеся до приезда в родной город, казались годами. Еще никогда в жизни он так не желал, чтобы это время пролетело мгновенно.
Иногда он, закрыв глаза, в изнеможении откидывался на спинку сиденья. Тогда было видно, как на худой коричневой шее двигался острый кадык, а из-под ресниц крупными росинками пробивались слезы. Пробежав по морщинам впалых щек, скатывались к подбородку.
Так он сидел минуту или две, затем снова прилипал к окошку. Ему очень хотелось увидеть окраины города. Ведь встреча с родным местом так же дорога, приятна и волнующа, как с родным и любимым человеком.
Прильнув щекой к стеклу, он всматривался в горизонт, надеясь еще издали увидеть трубы, а затем и корпуса Синарского магниевого завода, где работал до войны секретарем парткома.
Мимо проносились кое-где вспаханные влажные поля, березовые и сосновые перелески. Весна пришла запоздалой. Конец мая, а березы стояли обнаженные. Редко виднелись деревья, опушенные клейкой зеленью только что проклюнувшихся нежных листочков. Из-за горизонта, цепляясь за верхушки деревьев седыми космами, плыли грязные облака. Над вагоном они приподнимались, словно перепрыгивая, а на другой стороне опускались. Плакало небо, смачивая землю дождем. Капли, ударяясь о стекло, извилистыми ручейками текли наискосок вниз.
То ли от нервного напряжения, то ли от плохой погоды у него разламывалась от боли голова. Когда она сильно болела, он ничего не соображал, не запоминал и не слышал. Так было и в тот раз, когда узнал, что может ехать домой. Сотрудники посольства ему что-то говорили, жали руки, сочувственно улыбались, а он кусал губы и кивал для приличия.
Один из них — молодой, высокий — положил ему в карман какие-то бумаги, отвез на вокзал, усадил в поезд. В Москве его кто-то встретил, перевез на Казанский вокзал, посадил на другой поезд…
Разные мысли и чувства одолевали его. Бросали то в жар, то в холод. Более 20 лет назад он оставил в этом городе жену, дочь, двух сыновей. С тех пор ничего не знал о них.
«Живут ли тут?.. Живы ли?.. Наверняка, дети давно обзавелись семьями. Жива ли Даша?… 60-й ей. А может, давно вышла замуж?.. Свыклась, что погиб… Узнает ли их?.. Им не узнать!.. А братья… Григорий, Всеволод. Были ли на фронте?.. Как-то встретят воскресшего из мертвых, выходца с того света… Ведь едет оттуда.
…В августе 41-го он, командир роты, попал под город Спас-Деменск. Около месяца держали оборону, затем перешли в наступление. Вначале оно развивалось успешно. Было разгромлено 5 вражеских дивизий. Но потом немцы, подтянув силы, застопорили его и двумя одновременными ударами под горловину прорыва, окружили наши части… Трижды выходили из окружения и, наконец, кажется, вышли. Но в начале октября попали в четвертый раз. Кто знал тогда, что 30 сентября немецко-фашистские войска начнут первое генеральное наступление на Москву?.. На Смоленском направлении особенно сильные удары противник нанес 2 октября 4-й танковой группой из района восточнее Рославля на Спас-Деменск, Юхнов и 3-й танковой группой из района Духовщины и Вердино на Гжатск, Вязьму. Фашистам удалось прорвать фронт наших войск и устроить к исходу 6 октября огромный Вяземский котел, в который попали 19 и 20 армии Западного и 24 и 32 — Резервного фронтов.
Окруженные войска не сложили оружия, а мужественно дрались, сковывая крупные силы фашистов, не позволяя им развивать наступление. Они несколько раз пытались прорвать кольцо фашистских войск, но, к сожалению, все попытки оказывались безуспешными…
Раненых вывозили на самолетах. Тогда земляку своему красноармейцу Овсянникову сунул последнее письмо домой в Среднегорье.
Его предчувствия, о которых писал еще в первых письмах домой, полностью оправдались. Летом и осенью 41-го гитлеровцы, упоенные победами, были наиболее сильны за всю Отечественную войну.
Самыми крупными и ожесточенными на Западном направлении были в то время Смоленское и Вяземское сражения. Для захвата Москвы Гитлер создал к октябрю ударную группировку, состоящую из главных сил немецкой армии — 1 миллиона солдат и офицеров, 1730 танков, 14 300 орудий и минометов и 1000 боевых самолетов.
Поэтому держать оборону в начале октября под Спас-Деменском значило сражаться точно в полосе главного удара, когда 1000 танков 4-й танковой группы ринулись на Москву…
Бои были страшными. Со всех сторон на остатки армии двигались фашистские танки и мотопехота. Гудела и вздрагивала земля, как при землетрясении, покрылась бушующими смерчами. Небо почернело от дыма и копоти. С воем и визгом проносились над головами желтобрюхие самолеты, гоняясь за каждым одиночным бойцом. Ночью было светло, как днем. Горели леса, поля нескошенной пшеницы, деревни, люди, горела земля. Все пропиталось кисло-едкой пороховой гарью. Не хватало воздуха. Гремело и гудело вокруг так, что не слышно было порой даже своих команд…
Разрыв вражеского снаряда обрубил бой. Очнулся в плену, в концлагере. С бойцами своей роты, оставшимися в живых, пытались бежать… Неудачно. В 15 километрах от лагеря в стогу сена их обнаружили немецкие овчарки… И снова истязания, побои, ожидание смерти.
В конце года отправили в Германию. Новый концлагерь. Остальное все то же.
Апрель 45-го. Предатель выдал подпольную организацию, готовившую восстание. Руководителей схватили. Его били и пытали до тех пор, пока не потерял сознание…
Больница в американской зоне. Нарушены какие-то мозговые центры. Полная потеря речи, памяти. Он не знал, что была война. Кто он? Откуда?
Улица. Городские и сельские ночлежки. Случайная работа за кусок хлеба. Дворник, грузчик, сезонный рабочий, а точнее — батрак. И так год за годом…
Прояснение наступило неожиданно. От резкого рывка он свалился с прицепа, ударился головой. Когда пришел в себя — почувствовал, что не такой, как прежде. И весь окружающий мир не такой. Пелена, мраком застилавшая мозг, исчезала. Вернулась речь, видимо, стали функционировать нервные центры, прояснилась память. Постепенно начал вспоминать, что с ним было. Мыслить. И думать, думать, думать!.. Наконец понял, что в чужой стране. Что он русский! Что его родина — Россия, за которую воевал.
Вспомнил, что он Ушаков Петр Иванович, и ушел от хозяина искать Россию… Перешел границу, очутился в ГДР. Здесь впервые через столько лет встретил русских, и вот дома…
На повороте показались высокие трубы и корпуса завода. Светлые огромные здания. Сколько же их?.. Не счесть! Раньше был всего один.
Петр Иванович привстал со скамьи. «Может, это не СМЗ?.. Не Синарск?» Но вошедшая в купе пожилая женщина-проводник рассеяла сомнения.
— Дедушка, вы приехали-и, — певуче сказала. — Сейчас Синарск!
Не оборачиваясь, он продолжал глядеть на открывающийся вид громадного города.
Проводница повторила еще раз, покачала головой, положила билет на столик, вышла из купе.
…От СМЗ до Синарска всегда тянулись поля, сосновый и березовый лес. Сейчас вместо них раскинулись какие-то заводские здания. Левее — 5—6-этажные дома.
Трясущимися руками он достал из кармана брюк носовой платок, вытер вспотевший лоб.
С грохотом и гулом за окном замелькали красно-коричневые фермы моста. Речка была все такой же. Узкой, прозрачной, петлявшей меж отвесных с коричнево-серыми пятнами скал, на вершинах которых росли сосны. На берегах кудрявились кусты тальника, осыпанные зеленым пухом мелких листочков…» Каменка?!. Здравствуй, Каменка!..»
Петр Иванович часто-часто заморгал, поднес к глазам платок.
Потянулся бор. Редкий, похожий на парк, с большими просветами.
«Сосняк перед трубным, а ведь густой, дикий, сумрачный был». Поезд, казалось, врезался в груду домов, но они расступились, давая дорогу. Побежали назад — высокие, длинные, глазастые, веселые… Сколько же их? Целый город! Во всем Синарске не было столько!..
До войны тут садили картошку. Была всего одна улица — серые низенькие домишки. По ней он с сыновьями хаживал в заводскую баню. Единственную на тогдашний город. Весь трубный был слева от дороги. Завод — один цех, и поселок из нескольких жилых домов. Теперь завода не видно. Загорожен шеренгами зданий. Они перешагнули через железную дорогу, смяли старую улицу — Карла Маркса, ушли к реке…
Поезд пересек нарядную улицу со стеклянными витринами первых этажей. Вот она, новая — Карла Маркса! А в конце ее, там, за плотиной, — дом, жена, дети. Не больше километра отсюда.
Петр Иванович встал со скамьи. Немигающими глазами смотрел в окна. Поезд замедлил ход. Петр Иванович надел соломенную шляпу, перекинул через руку зеленый плащ-накидку и, взяв с полки темный чемоданчик, направился к выходу.
Держась за поручни, тяжело спустился на перрон. Сделал несколько шагов, остановился. Перед ним — массивное сероватое здание с колоннами. В центре арки над вторым этажом — приветливый глаз часов показывал 7 утра…
Где же старый вокзал?.. Грязный, приземистый, бревенчатый барак. И садик из акаций — небольшой, чахлый, пыльный. Ни одного знакомого уголка! Все новое! Словно попал в чужой, а не родной город.
Проезжая по стране, он видел десятки городов и станций с множеством новостроек. Понимал, что за эти годы страна изменилась, что перемены коснулись и его города. Но чтобы в таких размерах — не мог представить.
Растерянный, удивленный, немного подавленный, он стоял и стоял, не замечая, что мимо идут люди. И что сверху, из распластавшейся тучи, сеет теплый дождь. И взглядов некоторых прохожих, с любопытством глядевших на него. Наконец, прочитал на арке здания: «Синарск». И пошел, сам не зная куда.
Неожиданно с боку вокзала увидел открытые ворота из металлических прутьев… «Выход в город». За ними — крутая каменная лестница.
Спустившись, вышел на большую асфальтовую площадь. Снова почувствовал себя в лабиринте.
По площади, мягко шурша шинами колес, мелодично позвякивая штангами по проводам, важно плыли продолговатые светло-зеленые троллейбусы, с урчаньем катились разноцветные автобусы, стремительно сновали юркие такси…
Вокруг снова многоэтажные дома — желтые, белые, розовые — красивые и светлые, как солнечный летний день, с бесчисленными блестками окон…
Степь же была здесь! А дальше — березняк!..
Справа в сторону выплывшего из-за тучи яркого солнца, протянулся проспект, упиравшийся в поперечную улицу. Наугад пошел по нему.
Спросить, какой автобус или троллейбус идет в город, и поехать на нем — в голову не приходило. Всю жизнь до войны, выезжая в командировки, он ходил на вокзал и с вокзала пешком.
Если бы не сплошная седина на затылке, то, глядя сзади, можно было подумать, что идет подросток — узкоплечий, невысокий, худой.
Идти быстрее — не хватало сил. Да и плохо ориентировался.
Вышел на другую улицу. Напротив, через дорогу — небольшой сквер. Клены, березки, тополя. Наверное, за ним берег Каменки? Или за домами?
Он пересек улицу, вошел в сквер. В глубине — широкая и высокая стена из дымчато-шелковистого мрамора. Внизу — две ступени. На верхней — живые цветы в букетах, горшочках. Венки. Посредине розовой гранитной площадки — чугунное сопло в виде звезды. Колеблющийся огонь. По бокам ряд мраморных столбиков. На краях стены — барельефы двух женщин-матерей в траурных платках. Скорбно опустив головы, протягивают букеты цветов к золотистым столбцам фамилий, будто кладут на могилу…
Он подошел к огню. Снял шляпу. Над столбцами — крупными буквами:
«Ничто не забыто, никто не забыт».
«Не забыто, — грустно подумал он, — если известно. А кто знает и помнит о героях 41-го, жизнями остановивших фашистов?.. Их тысячи, десятки тысяч, сотни!.. Все погибли за Родину… Кто в бою, кто в плену. Без всякой надежды, что кто-то узнает о их подвигах… Отступали тогда. В лесах, на полях, в болотах оставались разбросанные тела… Несхороненные. Сгнили давно… Земля им памятник, да Россия…»
Он поднял голову, ощупал взглядом стену. Фамилии, фамилии, фамилии. Читал по порядку: Абалин К. Е., Артемов В. А., Антонов И. Н.
«Антонов Иван Николаевич?! — переступил с ноги на ногу. — Давний испытанный друг. Работали вместе в МТС в 36-м. Он — замполитом, Иван Николаевич — директором…»
И тут он стал натыкаться на знакомые имена. Он опустил чемоданчик на ступеньку, положил на него плащ, углубился в чтение…
За каждым именем вставал живой человек со своим обликом, характером, взглядами, привычками. С каждым ему, как парторгу завода, приходилось встречаться. Всякие это были люди: и веселые, жизнерадостные, и угрюмые, молчаливые, и скептики, насмешники, и злые, нехорошие. Но все они строили новую жизнь по мере своих сил и способностей, за которую и погибли. Всех их объединила одна участь.
— Вот вы где, друзья-товарищи… Вот и встретились…
Петр Иванович зябко поеживался, передергивая плечами. Вдруг стало жарко. Колокольным звоном зазвучали слова:
…Ушаков Григорий Иванович!
…Ушаков Всеволод Иванович!
…Ушаков Петр Иванович!..
Его точно оглушили. Не веря глазам, механически читал который раз. Ноги подгибались, сделались слабыми, а глаза словно припаялись к стене.
Он с трудом поднялся к ней и начал прыгающими пальцами щупать буквы. Он не помнил, сколько времени пробыл у памятника, как оторвался от него. Бредя по улице, натыкаясь на прохожих, через 7—8 шагов оборачивался назад. «Ничто не забыто, никто не забыт», — звенело в ушах.
Теперь он вспомнил — сколько памятников разных по форме видел из окна вагона, когда ехал сюда. «Вся Россия в них, вся памятник!..»
Он вышел на гористый берег реки. На другом берегу — ступеньки улиц старого Синарска. В разных местах новые многоэтажные здания среди однообразных серых домишек. В центре — двуглавый Троицкий собор, с колокольни которого прыгали с парашютом до войны. Плотина Петровских времен, пруд. Нет! Плотина другая, хотя и стоит на прежнем месте…
Рядом с плотиной раскинулся какой-то завод. Раньше тут стоял древний — чугунолитейный. Давно потухшая разрушенная домнушка и красного кирпича коробка с пустыми проемами окон…
На плотине склонился у перил, почти лег на них. Не было сил, хотя до дому каких-нибудь 300—500 метров. Прыгало сердце. По землистому лицу струился пот. Полуоткрыв рот, частыми вдохами хватал воздух.
«От жары. День разгулялся, солнечный…»
Он бездумно смотрел на зеленоватую гладь воды. Изредка легкий ветерок кое-где морщил ее и, будто вдоволь наигравшись, радостным уносился прочь. Рябь исчезала…
Отдохнув, Петр Иванович что есть мочи зашагал дальше… Вышел на улицу Ленина — главную улицу Синарска. «Ленинская! Ты совсем не изменилась, будто вчера ходил здесь… А деревья по краям тротуаров?.. А сами тротуары?.. А это?.. Это же бывший военкомат!?.»
Замедлил шаг у белого каменного здания со стрельчатыми окнами. Даже заглянул во двор… 27 июня в такой же теплый, солнечный день их — командиров запаса — на трехтонках увезли на вокзал. Народ толпился всюду. Жены с детьми. Мальчишки, словно галки, густо облепили заборы, деревья, ворота, крыши. Когда выехали со двора, у маленького сына ветром сорвало матросскую бескозырку.
«Да-а, летят годы, как один день. 24 года назад уехал отсюда 38-летним, а вернулся 63-летним стариком…»
Выше за поворотом — дом. Уже видны соседние. Он шагал все быстрей и быстрей, забыв о сердце, головной боли, ноющих костях. Обо всем на свете, кроме одного: скорей к семье! Свернул влево, пересек шоссе. Пригнувшись, нырнул под ветви деревьев и, выпрямившись, замер, словно уткнулся в невидимую преграду. Дома, его дома — не было!..
Вместо него тянулось какое-то строение с короткими трубами над остекленной крышей.
Стоял истуканом. «Вот те на!.. Где же дом-то?..» Беспомощно оглянулся, будто отыскивая, кто поможет. Удушье, тошнота подступили к горлу, кружилась голова. Чтобы не упасть, присел на чемоданчик. Печально глядел на пустое место — широкий тротуар. Целый квартал снесен, до переулка… «Что с ними? Где живут?.. Узнать надо…»
Медленно, с кряхтеньем встал, пошатываясь, направился к крайнему пятистеннику с покривившимися окошками… «Кто в нем жил?.. А если уехали?..»
Поднявшись на крыльцо, вошел в кухоньку с одним оконцем во двор.
На стук из комнаты вышла маленькая женщина с кудрявой седой головой, с коротким вздернутым носом — «седелком». Что-то знакомое в чертах ее лица. Отлегло от сердца, вздохнул свободно.
— Вам кого? — изучающе оглядывая его, спросила она грубоватым голосом.
— Не знаете, где сейчас живут Ушаковы?.. До войны жили через дом.
— Ушаковы? — словно бильярдный шар, она задвигалась по кухне от стены к стене. — Это какие Ушаковы? Которые жили в дальней половине?
— Да, да.
— А как их звали?
— Жену — Дарья Яковлевна…
— А мужа Петро Иванович?..
— Да.
— Петро Иванович пропал без вести на фронте, — затараторила она, — а они после войны уехали в Надеждинск, и где теперь живут — не знаю. Но здесь, в Синарске, осталась дочь Валя. Она вышла замуж и живет на УАЗе.
— А где? Не знаете?..
— Точно не скажу, но слышала — по улице Алюминиевой, напротив Дворца культуры.
— И как туда добраться?
— На шестерке с автобусной станции.
Поблагодарив женщину, Петр Иванович, успокоенный, вышел во двор. Уже в воротах его остановил знакомый голос:
— Постойте! Постойте, гражданин!
В окне кухни в форточке белело лицо хозяйки.
— Год назад я видела Валю. Так она говорила, что мать, вероятно, снова переедут в Синарск. Сын хлопочет о переводе. А Валя работает на СМЗ секретарем парткома! Можете позвонить!..
«Ишь ты! Меня сменила, — улыбнулся он. — Вот тебе и Котя! — вспомнил давнее. — А еще шуток не понимала…»
…Разыскав остановку «УАЗ», он присел на скамейку, ожидая автобус. От прежней площади не осталось и следа. Одна половина ее — асфальтовое кольцо станции, вторая — городской сад. Какая она была каменистая, неровная, пыльная в жару, грязная в дождь. Без единого деревца.
В праздники: 1 мая и 7 ноября — весь город собирался сюда на митинг.
Вон там, у края сада, ставили трибуну, украшенную лозунгами и флагами. Частенько и ему приходилось выступать…
Скопление людей на улицах и площади бросалось в глаза. «Сколько же их сейчас в Синарске?.. Раз в пять больше…» Прежде он многих знал в лицо. «Все молодежь. Счастливые, после войны родились… Не знают ее, беспощадную… К сожалению, ни одного знакомого. Может, не узнал. Его же не узнали…»
…Автобус ревел над Исетью. Дворец строителей, Дворец пионеров, плавательный бассейн, техникум, институт, кафе, ресторан, ателье, салон, кинотеатры — проплывали за окнами. «Да Синарск ли это?.. Ничего такого и в помине не было! И не думали, не гадали… Хотя нет, мечтали…»
Показалась молочно-голубая громадина с прямоугольными колоннами. Наверху — рабочий и крестьянка, выпускающие с ладоней вытянутых рук голубей.
— Дворец алюминщиков! — объявили остановку.
Петр Иванович, ковыльнув из автобуса, немного задержался, рассматривая здание. «Действительно дворец! Украсил бы любой город…»
Потом, повернувшись, стал отыскивать дом, где жила Валя. Он увидел его — обычный, пятиэтажный. Сквер перед ним. Разросшиеся кусты сирени, черемухи, белоствольные пятнистые березы, зеленоватые тополя. Яркая, манящая присесть трава газонов. Асфальтовые дорожки.
Он скользил взглядом по окнам. Подергивающейся рукой беспрерывно сжимал ручку чемоданчика. «Которые-то окна ее? А может, выходят на ту сторону? Во двор?.. Доченька, не подозреваешь, что твой папка приехал. Скоро, скоро тебя увижу…»
Глаза защипало, кривились губы. Сверху донесся, перекрывая шум города, низкий клокочущий гул, похожий на треск разрываемой ткани. На небе — ни облачка. Высоко-высоко — крошечный прозрачный силуэтик самолета. Точно плуг, он разваливал пополам голубое поле неба, протягивая за собой густую белую борозду…
Становилось жарко. Солнце поднялось к зениту. Словно мать ребенка, ласкало землю теплыми лучами.
Двинулся напрямую через сквер. Пройдя немного, наткнулся на памятник. Юный летчик в шлемофоне, с очками на лбу устремился вперед, будто летел над круглым постаментом.
«Это кому» — заныло сердце, вспомнился тот памятник.
…у Владимиру Петровичу
…ольцев города.
Замедлил шаг. Прочитанное не сразу дошло до сознания. Настороженно покосился на юношу. Остановился. «Владимиру Петровичу» — жгло имя.
Старшего сына тоже звали Владимир. Не спуская глаз с летчика, незаметно, боком, точно боясь чего-то, приблизился к нему на цыпочках. Нос, губы, профиль… вроде похож. Нет! Нет! Мой не успел!.. Ему же было?.. Похолодело в груди. Нет, не успел, — успокаивал себя.
Подножье усыпано цветами. Один букет — самый большой, красивый, свежий. Видимо, недавно принесенный. Ухаживают…
«У-во-ка-шу», — читал по слогам с конца, огибая постамент.
«Ну вот, не мой! — ровней забилось сердце. — Моему же было…»
Сделал два шага назад, чтобы лучше рассмотреть летчика. Пригнув голову, точно обнаружив внизу врага, тот грозно замахнулся, готовый прихлопнуть его, как муху.
«Ушакову Владимиру Петровичу!» — ослепляюще выстрелило золото слов. Он зажмурился, сжался. «Ушакову Владимиру Петровичу!» — гремело в ушах. Открыл глаза.
«Ушакову Владимиру Петровичу от комсомольцев города», — ударила надпись. «Ушакову…» — разорвалось рядом. «Уша…» Опрокинулось небо, завертелось, перемешалось с землей…
…Он сидел на скамье и глядел на скульптуру сына. Мокли от слез щеки. Ему казалось, что сын смотрит на него, прямо в глаза, и он, давясь слезами, разговаривал с ним:
— Сыночек?! Родной!.. Как?! Как ты успел туда?.. Я же пошел защищать тебя!.. Что ты наделал, мальчик мой?!.
Глухие рыдания душили его. Он встал. Сгорбленный, шаркая ногами, подошел к памятнику.
— Володя, Володенька! До свиданья, дорогой! Я схожу домой и приду к тебе. Я каждый день буду приходить. До свиданья, мальчик…
Он обогнул угол дома и по дорожке вошел во двор.
Середину его прикрывали свежей, точно лакированной листвой тонкие деревья. Между ними по песчаным дорожкам бегали, резвясь, дети. Виднелись качели, лесенки, решетчатые стенки, беседки, скамейки, ящики с песком, врытые в землю. Звонкие голоса сверлили воздух. Клумбы цветов даже у входа в подъезды.
Петр Иванович подошел к ближнему подъезду, на скамейках у которого напротив друг друга сидели две молодые женщины с младенцами в колясках.
— Вы не знаете, где живет Валентина Ушакова? — спросил он, растягивая от волнения слова.
— Ушакова? — женщины переглянулись. — В соседний подъезд в 29 квартиру недавно переехали какие-то Ушаковы.
Пересохло в горле, захотелось пить.
Он поднялся на третий этаж. Дрожащим пальцем еле попал в кнопку звонка. Тихо… Шагов за дверью не слышно. Еще, уже ладонью поймал пупырышек звонка. Вдавил. Снова тишина… Да что же это они? Неужели нет дома?.. В третий раз утопил бугорок. Давил до тех пор, пока не устал. Куда-то ушли. Придется ждать…
— Ну что, дедушка, не нашли? — окликнула его женщина в плаще, когда вышел из подъезда.
— Нашел, но их нет дома, — расстроенный, отвечал он.
— Не огорчайтесь, я их видела. Рано утром всей семьей уехали. Скоро будут…
Он прошел к детской площадке. Сел на скамеечку в тень деревца. Малыши постарше играли в прятки, в ляпки, качались на качелях, бревнах. Девочки, как всегда, прыгали в «классы», крутили и скакали через скакалки.
Он так увлекся наблюдением, что не заметил, как из-за угла дома вывернули две легковые — «Волга» и «Москвич». Прошуршали по дорожке. Остановились у подъезда. Увидел, когда застукали дверцами. Невысокий, плотный летчик, рослый мужчина и три женщины скрылись в подъезде.
Побледнев, не чувствуя ног, направился к машинам. Около них — полная девочка — лет 3—4-х, в голубеньком платьице с белыми горошинами, с алым бантом в льняных волосах. Заложив ручки за спину, выпятив животик, она носком вытянутой ножки чертила дуги на асфальте…
Сердце из груди прыгнуло куда-то в гордо, мешало дышать. Девочка удивительно напоминала младшего сына, которого он в последние ночи видел во сне. Заикаясь, спросил:
— Как тебя звать?
Девочка прекратила вертеть ножкой, внимательно поглядела на него, склонила головку на плечо.
— Таня.
— А фамилья твоя как?
— Ушакова.
Петр Иванович задохнулся.
— Таня-я! — протянул руки. — Внученька-а!
Глаза девочки округлились, рот полуоткрылся, она испуганно попятилась, круто повернулась и бросилась в подъезд. Только дверью хлопнула.
Петр Иванович — за ней.
В подъезде — тишина, полумрак. Сверху доносился топот детских ножек. Мелодичная трель звонка, скрип двери. Задыхаясь, поднялся на третий этаж. Слева — полуоткрытая дверь. Постучал, вошел в прихожую. Из ближней комнаты слышался запыхавшийся, взволнованный детский голос:
— Там, баба, во дворе… у машин деда…
— Какой деда? — низкий женский голос.
— Ну такой старый, старый. Он хотел меня поймать. Я испугалась.
— Пойдем, взглянем, что за деда?
— Нет, баба, иди одна.
Из комнаты вышла располневшая женщина в темном платье, среднего роста с длинными седыми волосами.
— Здравствуйте! — прерывистым голосом сказал Петр Иванович.
Женщина, прищурившись, пытливо вглядывалась в него. Нет, этого человека она никогда не видала.
— Здравствуйте! Вам кого? — неуверенно ответила.
Петр Иванович молчал. «Даша?! Ты ли это?.. Старушкой стала…»
— Вы кого ищете? Вам что надо? От этих слов Петр Иванович вздрогнул, словно очнулся.
— Тебя! — прошептал, делая шаг. — Не узнаешь? — обретая голос, добавил.
Сжалось и заныло сердце Дарьи Яковлевны в предчувствии чего-то необычного. Что-то давно знакомое, но забытое было в фигуре этого человека, его голосе. «Кто он? Где встречала?..» Она силилась вспомнить, но не могла.
— Даша! — еще шагнув, сказал он. — Это я… Петр… вернулся…
Глаза Дарьи Яковлевны расширились, брови поползли вверх. Она поеживалась, точно замерзла. Вяло махая рукой и тихо ойкая, отступала в комнату.
Петр Иванович снял шляпу, вышел на дневной свет.
«Нос, глаза!.. Он!»
…Каждое утро Петр Иванович и Дарья Яковлевна с внуками Таней и Вовой приходят к сыну с букетами живых цветов. И долго молча, а чаще вслух разговаривают с ним, грозно смотрящим вдаль на запад.
А дети играют у памятника под блестящей зеленью листвы вечно шепчущихся о чем-то молодых деревьев.
По вечерам, когда над городом густеют сумерки, и он покрывается переливающейся россыпью огней, а в небе мерцают разноцветные звезды, Петр Иванович всегда сидит на скамейке здесь. Любит он дышать прохладным свежим воздухом перед сном и слушать затихающие шумы города.
В эти минуты вспоминает события прожитого дня, эпизоды своей жизни.
…Иногда у памятника, обычно летом, бывает маршал авиации Вадов Виктор Викторович. Он по-прежнему носит бороду, но только уже побелевшую, закрывая ею крупные шрамы на шее — страшные следы минувшей войны.
«Дорогой, Павел Ильич!
Да, это моя мечта о дедушке, которым я очень горжусь и которого всегда любил и люблю, хотя и не видел ни разу, кроме как на фотографии.
А виновник ее появления — Вы со своими «Записками»…
Как и Вы, я тоже считаю рассказ завершением «Записок фронтовика».
Как и Вы, я тоже ничего не могу поделать с собой… Прошлое не дает покоя. Война, как блуждающий в теле осколок, постоянно и больно-больно напоминает о себе. И так, видимо, будет до конца наших дней».
Примечания
1
ДА — дальняя авиация.
(обратно)2
ШКАС — скорострельный авиационный конструкции Шпитального пулемет.
(обратно)3
ИПМ — исходный пункт маршрута.
(обратно)4
ВПП — взлетно-посадочная полоса.
(обратно)5
СМУ — сложные метеоусловия.
(обратно)6
НБА — навигационно-бомбардировочный автомат, Рубин — радиолокационный прицел, РСБН — радиотехническая система ближней навигации, ЗСО — звездно-солнечный ориентир.
(обратно)7
ДИСС — доплеровский измеритель скорости и сноса.
(обратно)8
РЛЦ — радиолокационная цель.
(обратно)9
РПК — радиполукомпас.
(обратно)10
ШВРС — широковещательная радиостанция.
(обратно)11
РРАБ — ротативно-рассеивающая бомба.
(обратно)12
ПТАБ — противотанковая авиабомба.
(обратно)13
ПЛ — парашют летчика, расположен сзади. ПН — парашют наблюдателя, расположен на груди.
(обратно)14
АДД — авиация дальнего действия.
(обратно)15
ГВФ — Гражданский воздушный флот.
(обратно)16
Форшмак — смесь старого желто-резинового творога со старой свеклой.
(обратно)
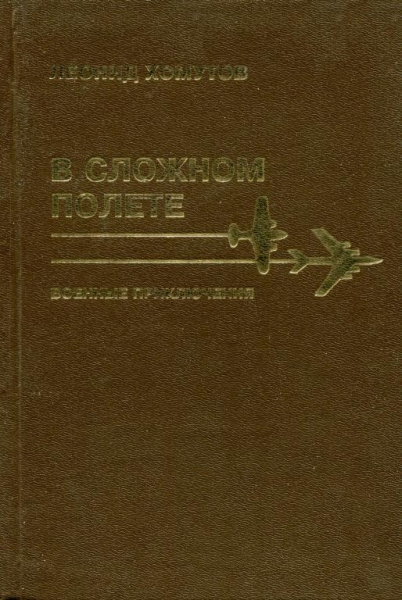









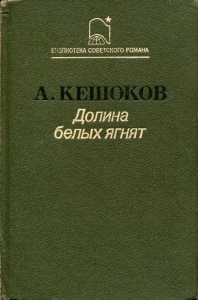
Комментарии к книге «В сложном полете», Леонид Петрович Хомутов
Всего 0 комментариев