Момо Капор Хроника потерянного города. Сараевская трилогия
Хранитель адреса
Последний рейс на Сараево
Хроника потерянного города
Издание выпущено при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга
Серия «Славянская карта»
Перевод с сербского В. Н. Соколова
© Момо Капор, 2000
© Соколов В. Н., перевод на русский язык, 2007
© Издание на русском языке. Издательско-Торговый Дом «СКИФИЯ», 2008
Хранитель адреса
Слушай флейту как она играет
она плачет по тому времени
когда была тростником
Джелалуддин РумиЭто было в тот давний год, когда вьючным коням разрешалось въезжать в Сараево, а туман еще не превратился в смог. Мелкая речка Миляцка, стиснутая броней каменной австро-венгерской кладки, издыхала прямо на наших глазах, оставляя вместо себя лишь усыпляющий шум. Шпили минаретов вспарывали низкие темные облака, пока ходжи голосами скопцов взывали к Аллаху. В улочках вокруг Беговой мечети по пути на молитву верующие стучали деревянными башмаками, ползли калеки, эффенди трясли огромными подбородками и брюхами, тащились голодные псы и облезлые кошки, а тяжелый дух жира и баранины, смешанный с дымом мангалов, пропитывал все живое вокруг знаменитого колодца с самой холодной водой в Европе. Даже колокола Кафедрального собора, расположенного на несколько сотен метров ниже, не могли своим ледяным звуком пробить густые восточные сумерки, заполненные стуком молоточков по медным кувшинам и котлам, стенаниями и заклинаниями нищих, чавкающих остатками зубов пшеничный хлеб, пропитанный растительным маслом.
С облупленного комода из старого радиоприемника на обветшавшую мебель лились струи «Римского фонтана» Оторина Респиги.
В довоенном Офицерском собрании, ныне Доме армии, симфонический оркестр, собранный с бору по сосенке, исполнял «Фантастическую симфонию» Гектора Берлиоза под руководящей палочкой грека, маэстро Бориса Папандопуло, из фрака которого летела в зал моль. Кто знает, за какие такие таинственные прегрешения сослали его власти в наказание из Загреба в Сараево. Оркестрантов наскребли из разных краев; были среди них потомки чешских и мадьярских чиновников времен Австро-Венгрии – гобоисты и валторнисты, скрипки прибыли из разогнанной в Осиеке оперетты, а виолончели сбежали из Болгарии. Стены зала, богато украшенные гипсовой лепкой, гирляндами и венками, походили бы на украшения белого свадебного торта, если бы они не окружали два гигантских полотна: «Форсирование Неретвы» и «Битва при Сутьеске», которые в манере Эжена Делакруа (если бы тот был в партизанах) исполнил один государственный художник. Тифозные бойцы на отощавших лошадях поднимались к роскошным хрустальным люстрам, заказанным до войны в Мурано. И потому «Фантастическая симфония» звучала еще фантастичнее, особенно в тех пассажах, когда в лирический лейтмотив, этот idee fixe Гектора Берлиоза, посвященный несчастной любви к актрисе Смитсон, врывалось пиликание гармоники и вопли исполнителей народных песен и героев из соседнего ресторана, в котором последние, совсем недавно еще молодые и стройные люди, а теперь в мгновение ока превратившиеся в упитанных генералов и командиров, пили вермут и пиво, окруженные свитой подхалимов и придворных шутов. Обслуживали их ловко и быстро все те же старые довоенные официанты – новых еще не было, – которые некогда обслуживали королевских офицеров в этом же доме и продолжили обслуживать немцев, когда те заняли прекрасное здание.
На старом железнодорожном вокзале, наголо обритые и повернутые к стене, чтобы кто-нибудь случайно не рассмотрел их лиц, сидели прямо на бетоне в ожидании состава каторжники, скованные длинной цепью. Стерегли их здоровенные милиционеры в тяжелых шинелях до пят со снятыми с предохранителей русскими автоматами в руках.
Городская газета называлась «Освобождение», а единственное издательство – «Свет». В Народном театре на Набережной давали балет Николая Римского-Корсакова «Шехерезада», в котором танцевали переученные балерины из народных ансамблей песни и пляски, а в ролях евнухов с видимым наслаждением выступали последние педерасты, случайно выжившие во время освобождения.
Иво Андрич, сумевший выбраться из Сараево, куда его послали жить после войны в «уединенном доме», опубликовал отрывок из «Сараевской хроники», которую все ждали с огромным нетерпением; в нем рассказывалось о том, как оголодавшие боснийские батраки тащат по сухим потрескавшимся полям тяжеленное пианино для красавицы жены Омер-паши Латаса в Сараево.
По городу ходили слухи, что больше ему ничего не позволят напечатать. Потому как той же дорогой приволокли огромный рентгеновский аппарат на виллу одного коммунистического паши посреди Боснии, чтобы его хворой дочке-любимице не пришлось ходить на регулярные осмотры в поликлинику. Художники считали его большим меценатом. Он часто приглашал людей искусства к себе на вечерние посиделки, во время которых ел пальцами плов из казана, в то время как босая местная примадонна танцевала на ковриках, распевая арии из оперы «Кармен». Благодаря его утонченному вкусу были заказаны, оплачены и установлены те два живописных шедевра на стенах концертного зала Дома армии. Местные художники писали сезанновы яблоки, вместо того чтобы есть их, а гору Требевич, что высится над городом, пытались превратить в Сен-Виктуар.
Старые сараевские писатели, которые не умели писать о гидроэлектростанциях, попрятались в норы, третьеразрядные кабаки и в букинистический магазин на Зриньской улице около Кафедрального собора, принадлежавший Садику Бучуку.
Этот благородный человек владел в то время единственным списком перевода турецкой летописи старого сараевского хрониста восемнадцатого века, Муллы Мустафы Башескии, в котором я прочитал следующие строки:
Сараево со стороны юга, или киблы, закрыто большой горой Требевич, так что сараевцы вообще лишены разума. Ум у них есть, но соображают они медленно, как в пословице говорится: «После того, как Басру разрушат». Сараевцы вроде скотины, и часто плохое они считают хорошим, и наоборот (1781).
Неполных восемнадцати лет с первым в своей жизни рассказом «Чудо, случившееся с Бель Ами», я стоял в приемной главного редактора литературного журнала «Будущее», на пороге, за которым меня ожидала слава.
Молодой писатель приносит своего первенца на осмотр.
Рассказом, зажатым в потном кулаке, красиво перепечатанным подружкой Верой, бедной маленькой машинисткой, я был доволен больше, чем своим внешним видом. Перед секретаршей, искусственной блондинкой с, естественно, голубыми глазами, чьи бедра, словно поднявшееся тесто, сползали со стула, а огромные колышущиеся груди едва не выпадали из декольте на клавиатуру пишущей машинки «рейнметалл» с длинной кареткой, на которой печатают гонорарные ведомости, стоял тощий, как саженец, молодой человек на кривых ногах, в тщательно отреставрированном по такому случаю костюме. Его дешевый серый материал, на который возлагалось столько надежд, похоже, был изготовлен из целлюлозы и обладал странным свойством: прошлогодние пятна исчезали во время глажки через мокрую тряпку или сырую газету, но стоило только надеть костюм и выйти на улицу, как они проступали из предательской серости и безутешно расцветали под светом дня, выставляя напоказ собственную изношенность и нищету.
Итак, я стоял перед блондинистой хранительницей храма литературы, желая только одного: погрузить лицо в будоражащее пространство меж ее грудей и остаться там навсегда, слизывая собственные соленые слезы. Но разве были у меня хоть какие-то шансы перед этой роскошной рубенсовой красотой, у меня, серого пугала со светлыми каштановыми волосами, смазанными ореховым маслом, с оттопыренными ушами (из-за которых я неоднократно подумывал о самоубийстве) и с тощими мускулами без всякого намека на мышцы? Все надежды я возлагал на «Чудо, случившееся с Бель Ами» – на рассказ, который в один прекрасный день распахнет передо мной объятия похожих, а может, и еще более прекрасных блондинок. Литературная священно служительница жевала краюху свежего хлеба и куски зельца с промасленного листа бумаги, лежащего на стопке рукописей неудачников вроде меня, и ее покрытые красным, как кровь, лаком ногти подносили куски этой жирной пищи, похожей на пестрый мрамор, к накрашенным губам, напоминающим на белом лице свежую сладкую красную рану Над верхней губой у нее была черная родинка с двумя волосками – чур, чур, чур. Ей предстояло решить, пропустить ли меня к великому жрецу, главному редактору «Будущего», чья значимость, как божественный свет, струилась сквозь мутные стекла двустворчатой двери, ведущей в чью-то довоенную, ныне конфискованную, столовую. И она смилостивилась и пропустила меня.
В те годы редкие интеллигенты, которым повезло увидеть Париж, рассказывали нам о Жане-Поле Сартре, который, несмотря косоглазие и малый рост, был тогда в большой моде и гремел по всей Европе, и о его подруге Симоне де Бовуар, с которой он жил не как все нормальные люди, в общей квартире, а в незарегистрированном браке, в двух гостиничных номерах. Он редактировал литературный журнал “Les Temps Modemes”, и каждый напечатавшийся в нем становился знаменитым. Искусственная блондинка за «рейнметаллом» была для меня в тот момент недостижимой Симоной де Бовуар, а человек за дверями с мутным стеклом – куда важнее Жана-Поля Сартра. И меня поразило, что вместо косоглазого карлика, которого я ожидал, там оказался здоровенный мужик, похожий на моих деревенских родичей, с крепкими выдающимися скулами и крупными небесно-голубыми глазами, налившимися кровью после вчерашнего загула.
Я положил рукопись на стол этого крепкого мужика с небритой мордой, и он предложил мне сесть. Рассказал, что для нашего общества чрезвычайно важен каждый пишущий молодой человек, потому что среди них может оказаться и новый Шолохов, которого он уважал более всех прочих писателей, еще с ранней юности. Он был ветераном войны, и его однополчане, занимающие теперь важные посты, доверили ему руководить первым литературным журналом в республике, так как во время войны он редактировал в романийских селах стенные газеты. Для тех, кто не знает: стенная газета издавалась в единственном экземпляре, во всю ширину листа упаковочной бумаги под названием «крафт», и вывешивалась на стене; в ней была передовица, отпечатанная на пишущей машинке, портреты партизанских вождей, написанные от руки стихи, и часто в них помещались политические доносы, многим стоившие головы. Все эти листочки приклеивались на «крафт» гуммиарабиком – клеем из маленьких стеклянных бутылочек, на которых было написано «гуми арабикум – арабский клей».
Поскольку мне тогда было восемнадцать лет, этот мужик с гор казался мне очень старым, хотя вряд ли ему тогда было больше тридцати пяти. От него несло табаком, дешевой ракией и потом, а из ворота рубахи вылезали густые черные волосы, будто на нем была надета меховая нижняя рубаха. За немытыми стеклами редакторского кабинета красовался стройный силуэт сараевского Кафедрального собора.
Я пришел к нему не один. Со мной были Марк Твен, Чехов, Стивен Ликок, О. Генри, Джеймс Тербер, Уильям Сароян и многие другие мои учителя, которые с трепетом ожидали, чем завершится мое торжественное вступление в «Будущее». Я читал с детства, читал их под мигающими тусклыми лампочками в двадцать пять свечей, свет которых делает уродливым любое человеческое жилище, читал их в поездах и под партами мрачных классных комнат Первой мужской классической гимназии – учился у них, желая выкарабкаться из унижающей меня нищеты, чтобы в один прекрасный день мое имя напечатали такими же большими буквами, как их имена. В то время я действительно верил, что существуют два мира: один, в котором я вынужден жить, – кухонный мир столов, покрытых клеенкой, облупленных комодов и плит, на которых разогревается отвратительная безвкусная вчерашняя пища, безнадежная скука сараевских послеполуденных улиц и редкие интересные лица случайных проезжих через Сараево, которые иногда можно было увидеть за большими стеклами отеля «Европа» с салфетками на шеях, глядящими на нас, как мы тащимся мимо этого для нас великосветского места по вечному маршруту от Кафедрального собора, представлявшего псевдоготику Запада, до Башчаршии, которая служила преддверием псевдоориентальной экзотики. В моей молодой голове существовал другой мир, в котором жили полубоги – писатели вроде бородатого Хемингуэя и дека-дентствующего Фитцджеральда (темные блейзеры с золотыми пуговицами и светло-серые фланелевые брюки, ниспадающие на начищенные мокасины цвета гнилой вишни).
И вот наконец-то я здесь, после многочисленных страхов и опасений – а стоит ли вообще браться за это, после бесконечной стилистической правки «чудес, случившихся с Бель Ами», замены некоторых слов и исправления пунктуации, – наконец в главном кабинете «Будущего», перед человеком, который решит, печатать меня или нет.
Он велел мне прийти в следующий четверг к девяти утра.
Что это за Бель Ами, про которого я написал рассказ?
Мой лучший друг с детских еще лет, а поскольку он был на три года старше (что в нежном возрасте есть приличная разница), то стал для меня кем-то вроде вождя. Кроме того, оба мы были в семьях единственными детьми, так что я нашел в Бель Ами старшего брата.
Жили мы на одной улице, в домах с общим двором, повернутых друг к другу внутренними, кухонными фасадами. Эти печальные желтые постройки с облупившейся штукатуркой были связаны длинными террасами, заваленными дровами, ветхой мебелью, бочками из-под квашеной капусты, тазами, вениками и прочей ерундой; в отличие от изукрашенных уличных фасадов они, словно вывернутый наизнанку желудок, демонстрировали двору истинную картину пасмурной мещанской жизни.
Бель Ами уже в десять лет установил связь между нашими двумя террасами, протянув спаренную бельевую веревку, дергая за которую мы могли обмениваться различными драгоценностями, наслаждаясь этим эпохальным изобретением так, будто мы придумали колесо или научились разжигать огонь. Эта веревка установила связь между двумя одиночествами на долгие годы.
Хотя мы жили в семьях с одинаковым достатком, Бель Ами всегда был богаче меня. До сих пор не могу понять, почему, например, если у меня было шесть керамических шариков, то вскоре оставался всего один, а первые пять перекочевывали в его карманы. Еще он выдавал мне тогда на день или на два комиксы с принцем Валиантом и с Флешем Гордоном, а я за это должен был навсегда подарить ему драгоценный карманный фонарик (правда, без батареек и лампочки). Или он одалживал мне свой фальшивый деревянный кольт, а я отдаривал его за это тремя настоящими винтовочными патронами. Если мне удавалось дать ему чем-то временно попользоваться, то я бывал счастлив, удостоившись небрежной королевской милости за принятое подношение, например, довоенный калейдоскоп – картонную трубу, в которой при вращении разноцветные стекляшки превращались в чудесные орнаменты. Тогда я стеснялся напомнить, чтобы он вернул игрушку, и калейдоскоп остался у него навсегда. Во время бомбардировок Сараево, когда я вынужден был томиться в подвале, где женщины стенали от ужаса, а на наши головы сыпались с потолка струйки перемолотой в пыль штукатурки, Бель Ами выбирался из дома, бежал на улицу и скакал по тротуарам, влезая сквозь битое стекло в витрины и вытаскивая из них что попадет под руку. Таким образом он стал обладателем несказанного богатства, собранного под бомбами. Однажды это были болгарские сигареты «Злата Арда», которые он выменял на противогаз, и солдатская манерка, обтянутая пестрой телячьей шкурой, правда, пробитая пулей, а в другой раз появилась динамка с велосипеда, благодаря которой, когда колесо крутится, в фонаре загорается маленькая лампочка. Но самым невероятным богатством стал телеграфный ключ, с помощью которого он часами отправлял таинственные сообщения детективу Тому Хантеру, главному герою романа с продолжениями, ни одного из которых он не упустил купить. Если к этому добавить два пустых пулеметных магазина, украденных с сожженной итальянской бронемашины, ржавеющей на дороге в Бент-башу, а также военный бинокль с одним разбитым окуляром, можно было всерьез говорить о том, что Бель Ами был одним из самых богатых мальчиков военного времени. Мало того, его богатство непрестанно увеличивалось. За то, чтобы посмотреть в этот бинокль, следовало заплатить оккупационными деньгами – кунами; брал он и яблоками, ломтями хлеба с сыром или двумя драгоценными стеклянными шариками. Вспоминая сейчас об этом, я ничуть не жалею о том, что платил ему; в этот одноглазый бинокль я впервые детально рассмотрел вершину знаменитой скалы Ековац, откуда прыгали все сараевские самоубийцы, белые домики на склонах Требевича и зрелое тело переодевающейся соседки Эльзы.
Бель Ами уже тогда находил тайные укрытия, в основном в брошенных развалинах, куда редко кто заглядывал без крайней необходимости, знаком он был и с подземными ходами, что связывали их, у него даже был их рисованный план, похожий на пиратские карты из «Острова сокровищ» Стивенсона. Мы поднимались по обвалившимся лестницам, на которые никто не решался ступить, потому что они могли в любую секунду окончательно рухнуть, прямо на второй этаж соседнего разрушенного здания, фасад которого словно срезали ножом. В уцелевшей половине, в столовой чьей-то некогда счастливой квартиры, ныне заваленной битым кирпичом и штукатуркой, осталось кое-что из мебели: кресло “grofivater” со следами засохшей крови, тяжеленный и потому не вынесенный по остаткам лестницы комод и даже криво висящие картины с разбитым остеклением.
В этом тайном укрытии, откуда мы видели всю улицу, оставаясь при этом незамеченными, мы чаще всего проводили время. Всюду на полу валялись сброшенные с полки книги, переплеты которых покоробились от пыли и дождя, проникающего сквозь щели разбитого потолка. Мы нашли там «Тимпетил – город без родителей» Эриха Кестнера и, привлеченные иллюстрациями, принялись читать ее; в итоге она стала нашей любимой книгой. Мы обустроили нашу маленькую секретную базу, расчистили обломки, выколотили пыль из кресла, чтобы в нем можно было сидеть, отремонтировали полку и вернули на нее книги. В ящиках комода спрятали наше общее добро. Мы украли свечи и приспособили фонарь для передвижения по лабиринтам подвала в случае вынужденного бегства. Запаслись даже некоторым количеством пищи, раздобыв пачку немецких галет и три банки консервированного паштета. Бель Ами обладал драгоценнейшей вещью – перочинным ножом, вызывавшим у всех нас зависть, потому что в нем кроме лезвия прятались маленькие ножнички, пилка, штопор и консервный нож.
Мы читали «Тимпетил» по очереди, а кому начинать первым, решали при помощи довоенной монетки, которую Бель Ами большим и указательным пальцами ловко запускал в воздух и ловил на ладонь, после чего смотрел, что выпало – орел или решка. Решкой был я, орлом – он. Так вот и читали по очереди, вслух, проглатывая тяжеленные хорватские слова и заграничные имена, напечатанные в оригинальной транскрипции издательством “St. Kuglija – Zagreb”. Эта книга просто очаровала нас, потому что, судя по иллюстрациям, речь в ней шла о городе, похожем на наш, в котором все родители в один прекрасный день решили проучить своих невозможных детей и, пока малыши спали, покинули на несколько дней Тимпетил, чтобы те поняли, насколько им необходимы взрослые. Короче говоря, дети сначала перепугались, но на второй день взяли власть в городе, пооткрывали магазины, ввели в строй электростанцию, обеспечили себя необходимыми продуктами, даже пустили трамваи и целыми днями катались на них. Когда озабоченные родители вернулись, город просто-напросто процветал. Когда приходил черед Бель Ами читать книгу, он пропускал те пассажи, которые ему не нравились, и читал только то, от чего сам приходил в восторг. Привычку читать вслух по очереди мы сохранили надолго, вплоть до того момента, пока не разошлись по жизни каждый своей дорогой.
Пока один читал, другой лежал, заложив руки за голову, и мечтал. Может быть, мы неосознанно заменяли таким чтением материнские сказки перед сном – ведь у нас с ним матерей не было.
Уже в тринадцать лет Бель Ами прекрасно знал город и многие его тайны. Однажды он отвел меня в высокий дом на улице Ферхадия, чтобы показать нечто очень важное. Он провел меня в подъезд, и мы остановились перед узкой дверью, рядом с которой горела маленькая красная лампочка. Как только она погасла, Бель Ами распахнул дверь и мы оказались в странной коробке с зеркалом, из которого нам строили рожи лица, искаженные светом небольшого плафона. Он нажал белую кнопку, на которой была написана цифра «шесть», комнатка дернулась, потом двинулась, поднимая нас в воздух, от чего у меня закружилась голова и скрутило живот. Это была моя первая поездка на лифте в городе Сараево, который тогда был только в здании по имени «Небоскреб». Так мы проехались вверх-вниз по крайней мере раз десять, пока здоровенный мужчина не ухватил нас за уши и не выбросил вон.
Особенное выражение улыбающемуся Бель Ами придавали редкие передние зубы, сквозь которые, лежа в воде на спине, он мог, подражая киту, пускать тонкие струйки. Он также умел, вставив два указательных пальца в уголки рта, громко свистеть, совсем как паровоз, чему я всегда страшно завидовал. Не раз я сам пытался свистнуть таким же образом, но ничего не получалось.
Как и прочие сараевские ребята, мы часто играли в пристенок, бросая монеты к черте, проведенной в мягкой земле. В Сараево эту черту называли «чиза», и все брошенные монетки забирал тот, чья денежка падала к ней ближе прочих. Но, не считая обычных, мелких, полудозволенных пороков, Бель Ами никогда не впадал в азарт. По правде говоря, он еще ребенком играл с судьбой, решая, куда отправиться или чем заняться, только после того, как подбросит монету и поймает ее, прикрыв сверху другой ладонью. Если мы вечером никак не могли решить, куда нам тронуться, в «Европу», например, или в «Два вола», на танцы в «Согласие» или в Дом физкультурника, если мы никак не могли решить, какой из двух фильмов посмотреть сегодня, он вытаскивал из кармана динар, бросал его как можно выше и ждал, что сегодня выпадет на ладонь: орел или решка. И я всегда выбирал решку, он – орла. И он всегда выигрывал у меня; как это ему удавалось, я не знаю, но мне всегда выпадало первым подойти к ней, изобразить из себя дурака, обаять ее и познакомить с Бель Ами, после чего тот уводил ее, оставляя меня на улице в одиночестве.
Такие отношения между нами сохранились и в юношестве; если я знакомил его с кем-то, то он сразу становился этому человеку гораздо ближе, чем это удавалось мне. Я даже уверен в том, что они перемывали мне косточки в мое отсутствие. Как в детстве, когда речь шла о шести крашеных глиняных шариках, из шести девушек, с которыми я знакомил его, пять оставались у него в кармане, а мне оставалась только одна, к тому же наименее привлекательная.
Во всяком случае, Бель Ами был необычным человеком. Он вырос в симпатичного, стройного юношу с печальными серыми глазами и неукротимыми светлыми волосами, пряди которых падали лоб. Его образованность, хотя и неупорядоченная, была практически энциклопедичной, когда речь шла о комиксах, кино или театре, которые неудержимо влекли его. Уже в четырнадцать лет его голосом активного участника пионерского театрального кружка вещали сверчки и муравьи в Сараевском кукольном театре под руководством знаменитого Яна Ухерки.
В те годы репертуар кинотеатров менялся раз в неделю, а билеты нам были не по карману. Тот, кому удалось посмотреть кино в «Романии» – довоенном «Империале», или в «Партизане» – прежнем «Аполло», пересказывал прочим в тоскливых сумерках содержание, а мы, сидя на ступеньках какого-нибудь подъезда, слушали счастливчика затаив дыхание. Бель Ами был чемпионом мира по пересказам. Многие фильмы, которые мне потом удалось посмотреть, вовсе не были так прекрасны и увлекательны, как тогда, в его исполнении. Он мог стать красной конницей Буденного на полном скаку или посреди засушливого сараевского лета отбивать чечетку в невидимых лужах точно как Джин Келли, «распевая под дождем». Он плавал перед нами по суше на спине, совсем как Эстер Уильямс в «Бале на воде», дул в сжатый кулак вроде Гарри Джеймса в «Юноше с трубой» и много раз падал нам под ноги, сраженный пулеметной очередью из военного фильма. Глаза Элизабет Тейлор не могли сравниться сиянием с его глазами в любовной сцене с Монтгомери Клифтом в «Пути в высшее общество». Он был прирожденным актером.
Может быть, о нем лучше всего расскажет старое, почти уже забытое происшествие, когда в мае 1945, через месяц после освобождения Сараево, в город прибыла большая колонна УНРРА с помощью сиротам войны.
UNRRA. United Nations Relief and Rehabilitation Administration.
Все, у кого дома были сироты войны, ждали, когда их позовут на склад, как ждут очередного тиража лотереи, в которой разыгрывается необычайно богатый денежный приз. Так что сироты впервые в жизни почувствовали себя важными и значительными персонами – они стали настоящими избранниками международного счастья. К тому же взрослые за помощью не ходили; было приказано, чтобы на склад – длинный ангар на окраине города – являлись только дети, без сопровождения старших, чтобы те не могли повлиять на их выбор.
Десятилетний Бель Ами, у которого родители погибли в самом начале войны, вырос в доме своего деда, Еврема Батала, довоенного торговца коврами, которого в Сараево все называли «Хозяин Хозн», потому что он первым в Башчаршии надел подтяжки, или, как их называли, «хозн-трегер». Он-то и прозвал своего внука Бель Ами, по названию старой пластинки, которую он обычно, находясь в приятном расположении духа, крутил на граммофоне с ручкой, купленном в «Джангл и брат»; на этикетке пластинки собака сидела перед граммофонной трубой, внимательно слушая «голос своего хозяина» – “His master s voice ".
«Ты не красив, но симпатичен, Бель Ами…» – хрипел на семидесяти восьми оборотах популярный довоенный тенор Мнят Миятович. Дедушка Еврем присвоил ему такое прозвище из-за легкомысленности, которая была присуща ему с самого раннего детства.
Соседские дети, уже получившие вспомоществование, рассказывали настоящие сказки о невиданном богатстве складов, этих настоящих пещер Али-Бабы. Чего только в них не было, но детям было позволено взять только одну вещь из огромной кучи, настоящей горы одежды и обуви, пакетов с едой, курток на меху, красных клетчатых шерстяных рубашек канадских дровосеков, ранцев, плащ-палаток, военных раскладушек и прочих чудес.
Целую неделю все домашние – дедушка Хозн, бабка Мойца и обе незамужние тетки – уговаривали Бель Ами быть умницей и выбрать вещь, которая пошла бы на пользу всем. Измученные голодом в пустом, некогда крепком хозяйском доме, стены которого теперь зияли пустотой, они хотели всего и ожидали, что десятилетний, слишком рано повзрослевший мальчишка вытащит их из нужды и докажет, что его легкомысленное прозвище не имеет ничего общего с истинным характером.
«Ребенок, который потерял только отца, может взять одну вещь, как и наш Бель Ами, у которого убили и отца, и мать! Это нечестно!» – рассуждали они за ужином, состоявшим из крапивного супа и мелкого вареного проса.
Они кое-как пережили войну, распродавая все нажитое за долгие годы. Сначала сплавили граммофон вместе со всеми пластинками, слушавшими «голос своего хозяина». Пишущую машинку марки «Адлер», они, как и все прочие, вынуждены были сдать немцам. Зато радиоприемник “Lorenz Tefag” они спрятали за двойной стенкой в кладовке, куда уходили ночью, чтобы, укрывшись с головой одеялом, дабы не услышали соседи, слушать очень тихий, далекий «Голос Америки», едва пробивающийся сквозь шум океанских волн, и знаменитого диктора Гргу Златопера, который рассказывал о том, как «американские домохозяйки готовят на электрических плитах». Голова к голове, освещенные трепещущим зеленоватым светом волшебного глазка радиоприемника, они ожидали вторжения – высадки американцев на берега мелководной Миляцки. На хрустальный коньячный сервиз на двенадцать персон выменяли у крестьянина из Пале бидон смальца, а вслед за сервизом (кстати, бабушкиным свадебным подарком) ушли за мешок некачественной кукурузной муки драгоценные люстры «холландез», каждая с десятью никелированными рожками; далее последовали столовый гарнитур «альт дойч» с раздвижным обеденным столом и обтянутыми кожей стульями, подсвечники чистого серебра, спальная комната, картины и гобелены, даже оклад с иконы; самого святого Георгия крестьянин брать не захотел, поскольку его именины приходились на какого-то другого святого.
Дедушка Хозн, самый знаменитый сараевский торговец коврами, снабжал ими знаменитейшие тешлиханские семьи: Ефтановичей, Бесаровичей, Деспичей, и даже самому сараевскому муфтию поставлял бухарские молитвенные коврики, сотканные из шелка и кашемира. Казалось, у него были все ковры мира, кроме ковра-самолета из «Тысячи и одной ночи», который ему в 1944 году в виде коврового бомбометания сбросили на голову обожаемые им американцы и англичане. Он и раньше банкротился, по меньшей мере раз пять, так что внезапную военную нищету он воспринял без особого страха. У него описывали и арестовывали движимое и недвижимое имущество, а он опять начинал торговую карьеру, даже без магазина на Александровой улице и просторных складов на Пируше, над Башчаршией, таская на собственных плечах по одному, а то и по два смотанных в трубку ковра по сараевским улицам и дворам, совсем как мексиканцы носят свои свернутые пончо. Он продавал их и вновь поднимался на поверхность, произнося с философским придыханием: «Как только – так сразу…», что могло означать все и ничего не значить одновременно, кроме, может быть, примирения с судьбой и с жизнью.
Но только одну-единственную вещь они и не помышляли продавать – швейную машинку «зингер», которую бабка Мойца привезла из Марибора в качестве приданого, когда вышла замуж за дедушку Хозна, не подозревая, чего только ей не придется вынести в этом темном боснийском вилайете, где непрестанно происходят всякие чудеса. Ругались они обычно, чтобы не задеть домашних, на немецком, ибо старый Хозн служил в австро-венгерской армии в Словении, откуда и привез свою Мойцу – тогда крепенькую полную девушку, которая родила ему трех дочерей и всю жизнь смиренно переносила его характер, его падения и взлеты, глубокие запои и тяжкие похмелья, его любовниц, пока он еще мог, и болезни, когда он лишился мужской силы. Казалось, хозяин Хозн – мощный мужик, шумный и упрямый человек – бесспорный господин в этой женской семье, но все, по существу, решала мелкая старушка Мойца, позволяя своему огромному мужу наслаждаться ролью домашнего деспота. Бель Ами был сыном их старшей дочери, которую немцы схватили с листовками в руках и публично повесили в 1941 году, несмотря на то, что старый Хозн отнес жестяную коробку из-под сигар «Монте Кристо», доверху наполненную наполеондорами – всеми своими сбережениями, чтобы подкупить какого-то офицера; тот золото взял, но ничего не сделал ради его любимицы, старшенькой доченьки. Листовки и пистолет дал ей отец Бель Ами, который потом убежал куда-то в горы, где и погиб в одном из знаменитых сражений. Дедушка Хозн так и не простил ему, даже мертвому, что он втравил дочку во все эти дела.
И вот благодаря именно этому старенькому «зингеру», на котором бабка Мойца обшивала всех соседей, они кое-как пережили военные годы. Ссохшаяся старушка с губами, вечно полными иголок и булавок, шила платья, перелицовывала старые пальто, укорачивала и наставляла, латала, ловко и задорно поскакивая вокруг клиента, всегда с плоским портновским мелком в руке и с сантиметром на шее, словно она шьет драгоценное подвенечное платье во времена, когда почти никто не решался венчаться.
В последний год хозяин Хозн не выходил из дому, потому что не в чем было. Его довоенные лаковые ботинки и элегантные двухцветные туфли с дырочками, из коричневой и белой кожи, стали ему малы из-за отекших в результате какой-то болезни ног, распухших до пятьдесят второго размера. Многие вещи, несмотря ни на что, можно было достать и во время войны, но только не обувь, которая стала настоящей редкостью. У Бель Ами тоже не было башмаков. У десятилетних ребят ноги растут не по дням, а по часам, так что всю последнюю военную зиму он проходил, обмотав ноги тряпками и связав их шпагатом; на снегу все это сооружение быстро размокало и схватывалось льдом, так что он был обладателем настоящей ледяной обуви. Но, к счастью, наступила весна, и он мог носиться по улицам босиком, как, впрочем, и все остальные дети в округе. Бель Ами весь день играл в развалинах улицы, на которой он родился, а вечерами, до самой глубокой ночи, глотал, в который уже раз, комплекты довоенных комиксов про Флэша Гордона и Зигомара, у которого были длинный черный плащ и перстень со зловещей буквой «3», а также фантастический автомобиль-амфибия, который по необходимости превращался в самолет, вооруженный смертоносными лучами. Тетки заказали себе у столяра элегантные сандалии с деревянными подошвами – последний крик моды той эпохи, – которые стучали по асфальту ничуть не хуже копыт тяжеловозов, тащивших телеги с непомерным грузом.
И вот теперь все ожидали спасения от маленького Бель Ами. Дедушка Хозн желал получить высокие кожаные башмаки, чтобы можно было выйти из дома и посидеть с людьми в трактире, причем он был уверен, что такие на складе найдутся. «Так ведь Америка ж!» – говорил он, описывая в деталях их цвет и толщину резиновой подошвы. Тетки советовали Бель Ами найти в этой баснословной куче парашют (они наверняка знали, что они там встречаются), из которого мать бы сшила им два чудеснейших шелковых платья, а Хозну и ему – несколько рубашек, и еще бы осталось материала для постельного белья, превратившегося уже в невыразимое рванье. Только бабка Мойца, как всегда, ничего не просила, а смотрела на него поверх очков, закрепленных за ушами проволочкой, и бормотала: «Нищета проклятая!», прекрасно зная характер своего внука, кровинку от своей крови.
Наконец настал этот судный день, когда Бель Ами следовало получить заслуженную военную компенсацию за своих погибших родителей.
Всей семьей его проводили до подъезда, даже дедушка Хозн в носках, и смотрели, как он, тонконогий и босой, несется вниз по своей разрушенной улице навстречу благосостоянию, которое ожидает его на окраине города. Дедушка бросил взгляд на стекающий вниз тротуар, куда он не выходил больше года, и философски вздохнул: «Как только – так сразу…», после чего с трудом поднялся по лестнице в квартиру.
Бель Ами очутился перед комиссией, которая восседала за длинным столом, из-за которого простирался вид на обетованные златые горы высотой до самого потолка. Офицер в английской униформе табачного цвета спросил у него имя и фамилию, долго искал его в списке, после чего велел выбрать, что его душе угодно, еще раз предупредив, что вещь должна быть только одна. А если речь пойдет про обувь, то, конечно, можно пару.
Бель Ами врезался в гору и выбрал.
Его ждали у парадной: дедушка Хозн в носках, обе тетки в деревянных сандалиях. Бабка Мойца, облокотившись на подоконник, отстраненно смотрела на них со второго этажа.
Они увидели его издалека, как он, по-прежнему босой, бежит посреди улицы на своих рахитичных ножках, с руками, вытянутыми в стороны, словно крылья самолета, пикирующего на цель. Но его и так не маленькая голова, казалось, была в два раза больше, к тому же она издавала далеко слышный гул авиационных двигателей.
Он пикировал на них, чтобы добить улицу.
И только когда он оказался совсем близко, они увидели, что он выбрал из всех возможных в мире вещей – это был самый бессмысленный выбор в мире – огромный кожаный летный шлем с наушниками и резиновым хоботом для подвода кислорода.
До самой смерти они не только не простили ему этого, но так никогда и не поверили в то, что он может стать серьезным человеком.
На следующий, уже мирный год умер дедушка Бель Ами, хозяин Хозн. Все старое торговое Сараево провожало его на православное кладбище в Кошево. И только тогда стало ясно, как его ценили в городе. Местный фотограф сделал довоенной «лейкой» кучу снимков процессии и прощания, но у бабки Мойцы не было денег, чтобы выкупить их. На одной из фотографий, полученных ею в качестве образца, можно увидеть Бель Ами, который в коротких штанах, с венком в руках, оптимистически улыбается в объектив.
Наконец-то на ногах у хозяина Еврема по прозвищу Хозн на ногах оказались новехонькие высокие ботинки со шнурками, по которым он так страдал в последние годы своей жизни. Они были из светлой кожи, но бабка Мойца по этому случаю, как и полагается, перекрасила в черный цвет краской, которой обычно красят железные трубы. Господь сотворил ее расчетливой, и потому она сначала послала Бель Ами к сапожнику, чтобы тот набил на ботинки подковки. Тот спросил мальчика, справа или слева снашивались каблуки у покойного хозяина Хозна, но тот не сумел ответить ему.
За полгода до смерти хозяин Хозн опять начал выходить в город в белых теннисных тапочках от «Бати», которые удалось раздобыть для него. Странно было видеть огромного старика, с достойным животом и гордой осанкой, одетого в полосатый костюм, сшитый на заказ из прекраснейшего английского сукна, как он медленно тащится по улице в белых тапочках, неся на плече свернутый в трубку персидский ковер, который он пытался продать. Так он обходил своих прежних клиентов, но они в основном или померли, или еще не вернулись из эмиграции. Он, которому до войны каждых десять шагов приходилось приподнимать свою шляпу «борсалино», чтобы приветствовать на все четыре стороны знакомцев, сейчас не мог обнаружить никого из них. Сараево заселили пришлые и беженцы (мухаджеры), не желавшие покупать самаркандские ковры. Им хватало обычной подстилки. У дверей былых уважаемых клиентов не было больше ковриков для вытирания ног; вместо них стояли ряды грязных башмаков и деревянных сандалий. Все чаще он стал искать забвения в самой дешевой ракии, резко отдающей сивухой, распивая ее по пивным в Башчаршии с грузчиками и распоследними пьяницами, часто даже не снимая с плеча ковер, который пытался хоть кому-то продать и тем самым опять, кто знает, в который раз, приподняться. Именно в нем четверо грузчиков, каждый ухватившись за угол благородной ткани, принесли его, мертвого, домой и положили на пол, потому что в доме не было уже обеденного стола.
Вскоре за дедом тихо, во сне, угасла и бабка Мойца, под чьим матрацем нашли старый потертый бумажник с тайными сбережениями (в основном с вышедшими из употреблениями банкнотами исчезнувших государств) и написанными по-словенски распоряжениями относительно собственных похорон.
Младшая тетка вышла замуж за офицера и переселилась в Риеку. Старшая, Соня, осталась беречь дом и ухаживать за семейными могилами и за Бель Ами. Она работала в уличном отделении АФЖ (Антифашистского фронта женщин), борясь всеми своими силами, чтобы Бель Ами получил все, что ему принадлежит; так что он ежегодно в летние и зимние каникулы ездил отдыхать по бесплатным путевкам. Будучи сиротой военного времени, что надолго стало его основным родом деятельности, он регулярно получал от Красного Креста одежду и продовольственные наборы, как и финансовую помощь, а позднее и регулярную стипендию. Первым в Сараево он надел потертые джинсы марки “Lee” и короткий желтоватый пиджак из верблюжьей шерсти, из которого вырос какой-то его ровесник в счастливой стране за океаном. Все это он получал через благотворительную организацию CARE, как и клетчатое кепи а ля Шерлок Холмс с двумя длинными наушниками, которое придавало ему довольно странный экстравагантный вид.
Несмотря на свою политическую общественно-полезную деятельность, тетка Соня, хотя и была православного вероисповедания, каждое воскресенье отправлялась в католическую церковь святого Анте на Бистрике, и оставляла ему, покровителю безответно влюбленных, записку со своим именем. Она так никогда и не призналась, кто был избранником ее сердца.
И вот богатое хозяйство Еврема Батало по прозвищу Хозн, кишевшее некогда многочисленными домашними, друзьями, кумовьями, приживалами, подхалимами, близкими и дальними родственниками, которые оставались в нем жить по году и по два в боковых комнатках, вдруг осиротело. Одних поубивали, другие поумирали, третьи исчезли, унесенные ветрами войны и неспокойного мира. Остался только дом, который хранила и поддерживала одна лишь тетка Бель Ами, долго еще получавшая после войны письма и открытки, которые уже никогда не будут прочитаны адресатами.
Однажды, много лет спустя, я в телефонном разговоре спросил Бель Ами, жива ли тетка Соня и чем занимается. Оказалось, что она все еще в Сараеве: «Она – хранитель адреса», – ответил он.
Это самая тяжелая профессия из всех, что я встречал в жизни.
Так что Бель Ами жил с теткой в просторном, абсолютно пустом доме, в стенах, на которых вместо картин и ковриков остались пустые светлые квадраты на потемневших обоях. На благотворительной лотерее в пользу сирот ему вручили стол для пинг-понга, сетку, две ракетки и три мячика, так что мы ходили к нему играть в настольный теннис в огромной пустой столовой. И словно заблудившийся ковер-самолет, случайно слетевший со вчерашнего неба в нищету этого некогда господского дома, лежал на потемневшем запущенном паркете ковер, в котором принесли сюда его деда, Еврема Батало.
Тетка Соня просто обожала своего племянника. Опекаемый ею, он мог делать что угодно, приходить домой когда угодно и приводить кого угодно. Таким образом, их дом превратился в некое подобие клуба, где мы собирались, ели, пили и слушали музыку по Радио Люксембург, которое ночами транслировало передачи, посвященные джазу. Ведущего звали Майкл Колоуэй.
Живя в типичной мещанской семье, где распорядок был категорически неизменным, среди комодов, кушеток и шкафов из орехового дерева – среди мебели, вызывающей чувство стыда, я от всей души завидовал Бель Ами, которому было позволено по стенам своих комнат расклеивать киноафиши и фотографии, а на потолке – рисовать отпечатки босых ног. Вместо старинных люстр начала века, как в нашем доме, у него горела лампа с абажуром из газетной бумаги над бутылкой из-под виски VAT 69, наполненной песком. На столе, за которым он занимался, если вообще занимался, карандаши стояли в невиданном доселе расчудесном чуде, которому все мы завидовали – в обрезанной жестянке из-под кока-колы, и это в то время, когда ее у нас не было даже в бутылках!
Уже в восемнадцать Бель Ами стал статистом сараевского Национального театра, где в опере «Эро с того света» изображал чабана, а позже – дворцового стражника в «Зриньском» параллельно с официантом в «Господах Глембаях».
Как-то в Сараево снимали фильм «Ханка», ставил его Славко Воркапич, наш земляк, о котором говорили, что он – знаменитый голливудский режиссер. Его люди среди прочих статистов из театра выбрали и Бель Ами, доверив ему вращать вертел с забитым ягненком из картона на пикнике, где вдохновенно танцевала босоногая Ханка в исполнении прекрасной Веры Грегорич. Это была первая настоящая встреча Бель Ами с кино. А если человека хоть раз попадет в лучи больших киношных софитов то он навсегда потеряет вкус к обычной жизни, в которой без их сияния для него воцарится мрак. Весь город на несколько недель оккупировала съемочная группа, снявшая целиком отель «Европа», куда никого более не пропускали. Среди бела дня Башчаршию освещали гигантские прожектора, а все сараевские пожарные с помощью шлангов и своих машин создавали искусственный дождь. Этот квартал понастроенных на скорую руку сиротских домишек с жалкими ставнями превратился в сказочные пейзажи из «Тысячи и одной ночи». Никогда еще у чеканщиков дела не шли так здорово; мало того, что им платили за съемки, иностранцы вдобавок скупали их казаны, кувшины и медные тарелки с силуэтом Беговой мечети и Сахат-башни. Джезвы и чашечки продавались влет. Единственной проблемой было заставить их снять наручные часы, которых во времена Ханки еще не было.
У Бель Ами был пропуск киногруппы, и вечерами он проводил меня в кафе отеля «Европа» мимо бдительных охранников и портье. Так я увидел первых американцев в Сараево – они сидели за столами, заставленными бутылками дорогого вина и едой, и курили «гаваны», окруженные местными красавицами.
Бель Ами был почти знаменит; его знали все.
Он первым из нас, ровесников, переспал с девушкой. Для нас это все еще оставалось чудом. Я описал это событие в своем рассказе «Чудо, случившееся с Бель Ами», но ему прочитать не дал.
Не думаю, что хоть один больной, страдающий тяжелейшей болезнью, шел в клинику за результатами анализов, определяющих, жить ему или умереть, в таком настроении, в каком я в тот решающий день вошел в редакцию «Будущего», где место Симоны де Бовуар за «рейнметаллом» пустовало.
Я стоял и ждал, разглядывая фотографии, грамоты, дипломы и благодарственные письма, которые не могли скрыть сырые потеки на стенах. До этого я целый час дрожал на улице, дожидаясь, когда стрелки на Копельмановом циферблате покажут девять судьбоносных часов. И вот я здесь, а пятна на лацканах моего пиджака стали еще заметнее.
И тогда за матовыми стеклами кабинета главного редактора послышалось тихое стенание; я подумал, что ему, ветерану войны, стало вдруг плохо, и в голове у меня пронеслась мгновенно целая история о том, как я застаю его в сердечном приступе, вызываю «скорую помощь» и, наконец, после окончательного спасения жизни, навсегда завоевываю редакторское расположение и дружбу. Я постучал, сначала робко, потом сильнее, но ответа не последовало. Я открыл дверь, и первое, что увидел, была огромная задница человека, который должен был принять решение о моем литературном будущем; свалившиеся штанины лежали на его необыкновенно больших ботинках, а подол рубахи ниспадал на болезненно белую кожу, усыпанную мелкими прыщами и обросшую жесткой, как у дикого кабана, щетиной.
Сартр дрючил Симону де Бовуар. Его волосатые пальцы с толстым золотым перстнем лежали на чуть розоватых, молочно-белых бедрах хранительницы святилища, лежащей ничком на письменном столе среди рассыпанных отпечатанных и рукописных страниц будущих и прошлых писателей.
И эта белая, прыщавая и волосатая жопа двигалась в ускоренном ритме, сопровождаясь прерывистым дыханием и криками, вырывающимися из глубочайших недр; он выл как раненый волчара, и голос его переходил в странный штирий-ский фальцет, в то время как белокурая Валькирия запускала свои красные когти в бумаги, сминая их и разрывая на куски. Из свалившейся трубки тяжелого черного бакелитового телефона доносились короткие гудки: ту-ту-ту-ту…
Пятясь, я вышел на цыпочках, ошарашенный зрелищем и животными криками, а на улице перед редакцией меня смущенно ожидали Джеймс Тербер и О. Генри. Странно, но Уильям Сароян не пришел.
В тот год сдружился мулла-эффенди с некоторыми кади, и веселились они по селениям с пирами и разными танцами. Бывал с ними и Курания, известный более под поэтическим именем Мейли, плешивый дервиш в обносках из приличной семьи, ученый и образованный, прекрасный поэт, такой, что равного ему не было во всей Боснии. И он был горожанином. Неженат был, белобородый, умный, сообразительный, тучный и ученый. Правда, хотя и знал досконально арабскую грамматику и синтаксис, знатоком арабского языка не прослыл. Прекрасно писал шрифтом «талик». (1774)
«Так как, ты говоришь? – в который раз старики в «Двух волах» вынуждали меня рассказывать про поход в «Будущее»: – Значит, она на столе разложилась, а его жопа прямо у тебя под носом? – задыхался от смеха старый поэт – Ну, молодец, может еще бабу на столе трахать!»
«Говорят, – добавил другой, – одна тут его спросила, пора ли снимать ли трусы. Так он ответил, что они ему ничуть не мешают, потому как он в Романии оседланную кобылу сумел трахнуть, так что сможет и ее прямо через шелк и кружева!»
Старики за столиком в «Двух волах» так зашлись от смеха, что у поэта Хамзы Хумо выпала нижняя челюсть, которую он незамедлительно прополоскал в красном вине, вытер клетчатым платком и вставил в рот.
Этот старик необыкновенно маленького по сравнению с собственной харизмой роста, с лицом, выбритым до синевы и чуть ли не до крови, с очень светлыми, вечно слезящимися подвижными глазками, до войны был вождем богемы – любимец белградской литературной публики, знаменитый автор эротических стихов. Белград не захотел простить ему то, что в начале войны он встретил новую власть с новенькой феской на голове. Он каждую ночь приходил в «Два вола», хотя его вечно веселая жена Анка, известная пианистка, держала в их доме один из редких в Сараево литературных салонов. Своими круглыми, похожими на клецки пальцами, она с удовольствием играла ноктюрны Шопена на расстроенном «безендорфе», и звучали они сытнее, нежели у других исполнителей. Старый Хамза не очень обращал внимание на эти суаре своей жены и дочери Дуни, на которых ему не прощались мелкие проступки вроде матерка, рыгания в самых нежных моментах какого-нибудь адажио и посапывания пустой трубкой, которую он постоянно грыз, несмотря на то что давно бросил курить, а также не прощали ему сальных историй и анекдотов, которыми он так любил шокировать воспитанное сараевское общество в стиле старого маэстро скандалов и богемы. Вечно раскрасневшийся, небрежный в поведении, он очень походил на веселого гнома в палисаднике.
«Хамза всегда хорошо жил, хотя ничего или почти ничего не делал, – написал Алия Наметак в книге «Сараевские некрологии» – Физически он в течение всей жизни был, как говорят в Мостаре, отвратительный шехресуз, но на смертном одре был красив, и черты лица его были умильными».
«И ты, значит, входишь туда, – задыхалась от смеха звезда, сверкавшая меж двумя войнами, – а Симона де Бовуар ест рукописи…»
«Да не ела она их, – объяснял я, – а только мяла и рвала ногтями».
«Портрет художника в юности», – спокойно вымолвил старый Ника Миличевич, вращая толстыми пальцами здоровенный, сильно смахивающий на дубинку мундштук из вишневого дерева.
Он был бесспорным хозяином этого стола, а когда его гигантская фигура появлялась в дверях «Двух волов», все, независимо от возраста, вставали, чтобы поприветствовать его. Он легко снимал тяжеленное пальто, стряхивал с него на все стороны налипший снег, разматывал шерстяной шарф ручной вязки, аккуратно вешал на крючок шляпу и садился на стул, который постоянно ожидал его во главе стола и который всегда крякал под его тяжестью, после чего ритуально, как перед долгим путешествием в ночь, раскладывал перед собой пачку дешевых крепких сигарет, спички, запасные очки в толстой черной оправе, покоящиеся в потертом очешнике, и вишневый мундштук, после чего, прищурив глаза под густыми седыми бровями, оглядывал присутствующих и, кивнув, философически вздыхал: «Нет конца…».
Довоенный профессор литературы и языка, левый, как и многие молодые люди его круга в то время, дядюшка Ника переводил быстро и легко, почти диктуя свои переводы с нескольких языков. Во время войны на освобожденной территории Боснии он создал и редактировал первые номера газеты «Освобождение». «Югославское ревю», которое он издавал перед войной, было одним из лучших журналов в то время. Работая в нем, дядюшка Ника познакомился почти со всеми значительными писателями, которые год за годом, благодаря упорному труду, стали обгонять его, и это все сильнее развивало в нем род горького, в некотором роде упрямого цинизма, что со временем обрело черты собственного стиля, превратившего его в блистательного рассказчика-литератора. Благодаря этой своей особенности он дистанцировался и от сараевских властей, оставил должность управляющего Национальным театром, перейдя в «Два вола» и в свободные художники. Он все еще любил переводить, и первым в Югославии, когда еще никто не слышал про Умберто Эко, перевел его «Открытый труд». Он не придавал этому никакого значения. Все мы за столом знали, что он пишет великий роман, призванный запечатлеть эпоху, под названием, как признался автор, «Боги катятся». Мы так и не увидели ни одной странички из этого великого произведения, но зато легко могли представить, как дядюшка Ника запускает огромной ручищей шар, который, стуча, врезается, словно в кегли, в богов и рушит их в своем призрачном кегельбане.
Иногда, а по правде говоря, редко, сиживал за этим столом и профессор старославянского и русского из Сараевского университета Рикард Кузьмич. Он приходил повидаться со своими старыми друзьями, ровесниками, словно желая время от времени рассмотреть в их лицах и жизнях меру старения. Кто-то из компании не любил его, но все уважали как исключительного знатока множества живых и мертвых языков. Собственно говоря, профессор Кузьмич помимо почти всех европейских языков знал санскрит, древнегреческий, латинский, уэльсский, армянский и малайский, который он выучил всего за десять дней, полюбив его за необычайную простоту. Помимо этого он играл на рояле, для души. Французский, например, выучил в пятнадцать, когда начал читать «Отверженных» Гюго. Он с трудом пробивался сквозь огромный роман до тех пор, пока шесть месяцев спустя не обнаружил, что знает французский. И самые экзотические языки он учил по их мелодичности, как запоминают фортепьянные композиции Шопена и Бетховена. Когда один молодой белградский поэт спросил, как ему удалось выучить столько языков, он ответил: «Сидя, юноша!» Как и прочие старики за столом, он пил только красное.
А потом они перешли к Джеймсу Джойсу.
«Невероятно, – рассказывал древний пенсионер-переводчик, худой, словно древняя ссохшаяся сова, – но один преподаватель из гимназии в Баня Луке хвастается, что перевел «Улисса» за неполный год, причем ни разу в жизни не был не то что в Дублине, но и в Англии! Английский, говорит, выучил по учебникам, а когда «Улисса» переводили на французский, в команде переводчиков, которую возглавлял сам Джеймс Джойс, были такие знаменитости, как Гертруда Стайн и Валери Ларбо, и кто знает, кого там еще только не было, а переводили они его целых десять лет!»
Пью пиво и курю табак, в провинции есть много всяких благ… Мне б девку сельскую схватить за руку, но вынужден я ехать в Баня Луку и заниматься там делами… Ах, дурак! —вмешался кто-то в разговор, цитируя неизвестного поэта.
«Вот, посмотрите, этот перевод совсем недурен, – произнес один из стариков – Совсем неплохо!»
«Убогий дом!» – со вздохом произнес дядюшка Ника свою любимую присказку, которая значила всё и одновременно ничего.
«А ты, небось, знаешь английский Джойса? Ты, конечно, читал “Finnegans Wake”? Это твоя любимая книга?» – спросила переводческая сова, но ответа мы не дождались, поскольку шьор Анте, метр «Двух волов», именно в этот момент принес тарелку хрустящей, только что поджаренной корюшки.
Этот высокий далматинец в летах, благодаря своему хозяйственному таланту, превратил для своих старых клиентов самый бедный ресторан общепита (как это тогда называлось), почти столовку, в настоящий средиземноморский кулинарный храм. В те нелегкие и голодные времена ему удавалось добыть на море только одному ему известными путями пару ящиков свежей корюшки или бочку соленых сардинок, приговаривая, что на одну сардинку приходится литр вина; ему удавалось раздобыть сыр в оливковом масле, маслины, которые тогда были редкостью, а иногда даже и далматинскую сырокопченку. Казалось, его бесформенный поношенный пиджак (он никогда не носил белую официантскую блузу) до самой подкладки пропитался запахами рыбы, оливкового масла и приправ, тяжелым средиземноморским запахом, случайно залетевшим в наш город, являвший собою настоящую сборную солянку. Хромая, он обслуживал клиентов, в основном герцеговинцев, несмотря на сбитые, отекшие ноги с разбухшими венами, как будто они дети его, а не ровесники, все время глядя на них с каким-то мягким упреком за их склонность к таким мелким грехам, как виноградная водка, вино и тяжелые острые блюда. Он до тонкостей знал все их хвори, почти так же хорошо, как они сами, знал, что ночные пирушки с неумеренным потреблением вина в их годы вылезают им боком, но не мог он бессердечно лишить их этого последнего в их жизни удовольствие. В один прекрасный день, испугавшись, видимо, чрезмерной популярности и антигосударственных разговоров, что велись пьяницами в этом гнезде, его перевели в «Акацию» – кабак, который ну никоим образом не отвечал его взглядам на сферу обслуживания, – и все старики переместились туда же, а когда его выгнали и оттуда, переведя в мрачную «Почту», довоенный публичный дом, в который не захаживали даже почтальоны, они перенесли свою философскую школу в самый дальний угол этой бывшей столовки.
«Пьешь белое, ссышь белым! – сказал он мне, когда я впервые заказал фужер белого вина, а он безапелляционным тоном знатока отказался подать его – Пьешь красное – ссышь красным! Хоть что-то меняется!»
И в самом деле, все старики за столом пили только тяжелые красные вина, о которых толковали без конца и края, произнося целые эссе, над которыми роились винные мошки. Хамза Хумо из Мостара, великий знаток герцеговинских вин, присвистывая пустой трубкой, будто локомотив на узкоколейке, поднимающийся на Иван-гору к Иван-перевалу и Брадине, утверждал, что знаменитое белое вино «жилавка», которое он сам делал на горе Цим над Мостаром с приятелем Тутом, теряет половину своих качеств, когда его перевозят с этого для него святого места. Потому он пил исключительно «блатину», темно-красное вино, после которого на дне стакана остается черный осадок Юга.
Кроме стариков в «Два вола» приходила пестрая и живописная публика; одинокий и таинственный журналист из «Освобождения», некто Иванич, который здесь питался, два сараевских педераста, Цангл и Ухерка, а также другие, которые некоторое время здесь ели и пили, после чего навсегда исчезали с нашего горизонта. Но захаживали сюда не только постоянные клиенты, перекусывали здесь и солдаты с родителями, которые навещали их во время срочной службы в Сараево и которые, очевидно, сами родом были с моря. Здесь за двумя составленными столами регулярно собирались далматинцы и приморские черногорцы, бывшие партизаны, теперь пенсионеры, громко вспоминая бои, в которых довелось участвовать. Обсуждали, кто кого предал, кто подвел и кто где ошибся, а ближе к полуночи, поднапившись, запевали, сначала тихо, вполголоса, сото воче, а потом все громче, как настоящая далматинская компашка.
Сюда захаживал и пропащий тенор, некто Страинич, про которого говорили, что он спит на паромах. Когда наступали страшные сараевские зимы, тенор, говорят, ночевал в мусорных баках, зарываясь с головой в дерьмо и оставляя только отверстие для дыхания. Поэт Б. В. Р. рассказывал, что по утрам он пил в «Двух волах» винный уксус и вместе с носильщиками уходил на Башчаршию кормить голубей. Он всегда таскал с собой побитую гитару почти без струн и играл на ней за ракию, распевая хриплым бельканто арии из опер, в которых некогда блистал. Его выбросили из театра за пьянство, а в Сараево был даже арестован и осужден за бродяжничество. Умер от туберкулеза.
Один маленький чех, фаготист, тоже изгнанный за пьянку из сараевской филармонии, собирал в ресторане по столам стаканчики и допивал остатки. Однажды он голодал целых пятнадцать дней, а когда в «Двух волах» его насильно заставили съесть маленькую порцию гуляша, он рухнул на стол и умер.
Что собрало всех этих людей, таких разных, в небогатой корчме? Сейчас, размышляя над этим, я уверен, что это была далматинская кухня шьора Анте, редкостная в то время даже в Далмации, не говоря уж о Сараеве. Сюда приходили в ностальгических поисках следов вкуса ризотто, запаха моря и оливкового масла, тушеной рыбы, сардинок и трески, приготовленной «по-морскому», на листьях салата, они заходили, ведомые осязанием, в теплую, задымленную, безопасную атмосферу чего-то, что давно пробовали, но нигде потом не могли найти. В том-то и состояло кулинарное искусство шьора Анте, что он непрестанно бдел над ними, как хранитель, посвященный в тайны приморских вкусов и запахов.
В то время, когда в городе (кроме неуничтожимой восточной кухни сиротских трактиров) все блюда потеряли свой вкус, будто их готовили в одном и том же общепитовском котле (социализм любой ценой хотел уничтожить приватность домашнего приготовления пищи), и когда обедали посменно в столовых, так называемых фабриках-кухнях, по талонам, а главными блюдами была тошнотворная НЗ капуста из военных запасов, фасоль, макароны и гречка, шьор Анте тайно, на свой страх и риск, подавал заговорщически приготовленную поленту, которую они помнили по детским годам, или из рыбьих голов варил суп, ароматом своим возвращавший их на берега далекого сказочного моря.
Эти редкостные вкусы объединяли и примиряли представителей враждующих группировок, как засуха вынуждает зверей, в иной обстановке убивающих и пожирающих друг друга, мирно пить рядышком воду на единственном уцелевшем водопое, а после этого спокойно расходиться в разные стороны. «Человек – живая машина, а пища – горючее для нее» – таков был лозунг нашего времени, взятый из советской брошюры 1923 года под названием «Долой частные кухни». Конечно, в городе осталось несколько ресторанов, в гостиницах, предназначенных в основном иностранцам и приезжим – специалистам, проживавшим в них во время строительства новых фабрик и дворцов.
Кроме них все еще как-то, почти нелегально, спрятавшись в узкой улочке Перед Имаретом, существовал старый Хаджи-Байричев трактир, в котором по утрам с похмелья ели кислые супы, похлебки из бычьего хвоста, студень и сладкий кадаиф. Недалеко от него, на Сладком уголке, находились друг против друга четыре восточные кондитерские с пахлавой, кос-халвой, рахат-лукумом и другими сластями. Наиболее известной была кондитерская некоего Рифата, который умел готовить жирное желтоватое мороженое в рожках, которые сам и выпекал.
Первую после войны частную кебабную открыл, использовав ему одному известные каналы и связи, знаменитый футболист того времени Асим Ферхатович, по прозвищу Слино, на улице За Ратушей. Для Сараева, которое годами страдало по люля-кебабам специфического вкуса из баранины и лепешкам, это было все равно что чудо. Слино богател на глазах, потому что вся округа хлынула к нему питаться. А поскольку при всем том он был добрым верующим человеком с душой, то возжелал отблагодарить Аллаха, позволившего ему открыть частное заведение, и каждое утро, прежде чем открыться для клиентов, Слино сначала бесплатно кормил два десятка божьих людей, нищих и соседских сирот; каждый из которых получал по пять кебабов и половинку лепешки.
Но вот вам и чудо, которое возвышенный Бог показал в пример этой лютой зимою.
В начале нынешнего года пришел в Сараево откуда-то некий безумец, о котором никто не знал, откуда он явился, из какого города. Гол он был совершенно, худ, бос. Голова непокрыта, и на ногах ничего нет. Единственно на теле своем имел кусок старого, рваного, как говорится, сукна, которым прикрывался ниже пояса. Ночами без огня и попоны спал на мостовой посередь улицы и так вот долго проводил долгие зимние ночи. Я это видел своими очами. Каждый, к кому он являлся в лавку или другое место ради сугреву у печи, изгонял его, понеже тот, перво-наперво, был гол, другое – безумен, третье – тело его смердело калом, четверто – ужасен был, походя на обезьяну, пято – был истинный Каравлах. К тому же говорить ничего неумел, только кричал: «Ту, ту ту, ту». Ночами его люд грязью пачкал. Оголодавши, брал все, что попадет, не разбирая. (1779)
Однажды весной на Главную улицу Сараево снизошло новое чудо – первый в истории города экспресс-ресторан самообслуживания. Все называли его просто «Экспресс». Ярко освещенный неоновыми трубками «Экспресс» походил на сияющий космический корабль, совершивший вынужденную посадку рядом с покосившимися домами, зияющими нищими витринами. Сквозь стекла его непривычно для нас больших окон сверкали никель и алюминий прилавков с уже выставленной пищей: вторыми блюдами, салатами и закусками. Следовало только взять тарелку и сесть за один из столов, сверкавших жемчужным пластиком, который мы увидели впервые в жизни (мы только-только выходили из раннего периода каучука и бакелита). Сначала, как это обычно бывает в Сараево, в «Экспресс» хлынули сливки общества, которые уже где-то за границами едали в подобных ресторанах. Зная правила поведения в таких местах, они первыми брали в руки пластмассовые подносы и сами выбирали еду, за которую рассчитывались в конце прилавка, на кассе, в то время как другие бедолаги, которые не скитались по свету, с любопытством таращились сквозь стекла на это расчудесное чудо. Подобное впервые происходило в долгой сараевской ресторанной истории: посетитель сначала рассматривал, а потом выбирал то, что ему понравилось и что он намеревался съесть, накладывал на поднос и нес за столик сам, без помощи официанта! Шок настоящей цивилизации. «Экспресс», как бы ни выглядело это сегодня странно, стал модным местом, где приличные молодые пары сидели вечерами, держась за руки над молочной рисовой кашей, посыпанной «вегетой».
Большой мир наконец-то принес свет в Темный Вилайет.
«Экспресс» как бы обозначил конец цивилизации и культуры трактиров и трактирчиков, кебабных и шашлычных, чайных и квасных, блинных, булочных и официантов в нищих буфетах и трактирах – каждый, кто заходил в «Экспресс» пообедать, ощущал себя уже в некоторой степени американцем или, по меньшей мере, европейцем. «Экспресс» первым возвестил о наступлении в мире новой эры отвратительной, жесткой и быстрой еды без вкуса и запаха, но в то же время он был для нас как ковбой, крепко ударивший под дых власть социалистического общепита и заявивший, что скоро мы будем жить как в кино, и мы его за это обожали. Но как жестоко в один прекрасный день, набив полный рот полусырой дрянью из «Макдоналдса», мы пожалеем о добродушном официанте, который годами обслуживал нас и знал все наши прихоти, о жарком, шипящем на древесных углях! Пока же чудеснее всего были приборы и тарелки из пластика, и особенно – уксус и масло в пакетиках, но не в графинчиках, к которым мы привыкли, а также вино в бутылочках по двести и триста граммов, и посетитель мог взять его сам, не заказывая через официанта. На выходе из этого всемирного изобилия стояла, конечно же, первая электрическая касса, по кнопкам которой стучала наманикюренными пальчиками красивая молодая женщина в униформе с табличкой на бюсте, на которой стояло имя: «Мерсиха».
В первые недели посещение «Экспресса» было в городе исключительно престижным мероприятием, но когда через него прошли те, кто держался кучкой, прочие тоже потихоньку осмелели и решились перекусить в нем.
Мало-помалу, уже несколько месяцев спустя, всеразрушающий дух Сараево припорошил пылью и покрыл плесенью это совсем еще недавно блистательное место. Никель и алюминий утратили первобытное сияние, их покрыла жирная пленка кухонных испарений, пластик столешниц местами прожгли забытые сигареты, электрическая касса стихла, а лак на ногтях прекрасной Мерсихи, выписывающей теперь чеки чернильным карандашом, облупился; из двадцати примерно неоновых трубок светились только две, да и они все время мерцали. Сначала исчезли розовые пластмассовые приборы (разворовали), потом пропали бумажные салфетки и вино в малых дозах, а нежный французский салат, сервированный на зеленом листочке, заменили обычные соленья и маринады. И так вот «Экспресс» стал местом сбора перекупщиков билетов, фарцовщиков, карманников, продавцов краденых часов и тряпок, пьяниц и проституток из соседних улиц. Его некогда роскошная неоновая реклама быстренько согласовалась с бледным светом окрестных лавок с витринами, застеленными желтой упаковочной бумагой, на которой расположились закрепленные булавками длинные мужские трусы, нижние рубахи и носки.
Тот, кто придумал и создал в Сараево ресторан самообслуживания, видимо, не понял дух этого города. Тем не менее со временем еда стала намного лучше, чем сразу после открытия. Сараево приспособило великосветское меню к своему утонченному провинциальному вкусу; вместо бледных супчиков и пареных безвкусных овощей в теплые металлические емкости неприметно вселились гуляши из бараньих сердец и почек, а чуть позднее и голубцы с говядиной. Трактир победил Европу Никогда еще Америка не была так далека от нас.
Сараево – жилистый и терпеливый город, знавший многих завоевателей и властителей, разные режимы. Он тихо и неустанно боролся с теми, кто хотел уничтожить его старый, привычный образ жизни, традицию трапезничанья, и одним из неприметных одиноких бойцов этого фронта, сам того не осознавая, был шьор Анте, который все свое умение и тепло души вложил в «Два вола», хотя это местечко, как и все прочие, тоже принадлежало государству. К тому же этот трактир был таким мелким и незначительным, что власти не обращали на него совершенно никакого внимания. У них были более серьезные дела и более важные места. Потому в «Двух волах» и процветало чудо, которое неудержимо влекло нас туда.
Естественно, что его, как и многие другие укрытия в Сараево, нашел, руководствуясь своим необыкновенным даром, Бель Ами, который и привел нас туда. До тех пор мы, как и прочие молодые люди того времени, только еще осваивающие забегаловки, пили в основном то, что тогда пили все: пиво, кубинский ром «Гавана», произведенный на перегонном заводике «Патрия» – в старом бараке над православным кладбищем, шоколадные ликеры и коньячные напитки, отдающие тухлыми яйцами, а чаще всего – обычную ракию-сливовицу, после которой с непривычки страдали тяжелейшим утренним похмельем.
Во время одной из гимназических экскурсий мы познакомились с вином. После долгой ночной поездки в вагонах узкоколейки, которые часами объезжали залитое водой Попово Поле, нас, бледных, как камень-известняк, в порту Плоче грузили на паромы и баркасы, которые чаще всего направлялись к Пелешецу и Корчуле. Вино там стоило копейки, и было его полно. Мы напивались «греком» и «пошипом» из деревни Лумбарда, покупали его корчагами и пили ночами на морском берегу, заедая украденным инжиром. Были там терпкие красные вина «поступ» и «дингач», а девочкам больше нравился сладковатый и тяжелый «прошек». Утром, поддерживая друг другу головы, мы дружно блевали полупереваренным инжиром. Мы не привыкли к таким тяжелым винам, не знали, как их надо пить и чем заедать. Впрочем, в Сараево таких вин и не было, ведь этот город – родина мягкой ракии.
Первым эти вина открыл Бель Ами, который отвел нас в «Два вола», где мы, весьма нахально для своего возраста, заняли место рядом с составленными столиками старых философов. Похоже, им понравилось, что мы, такие молодые, выбрали античное семейство вин, вместо того чтобы, как прочие наши ровесники, пить пиво и виньяк, которые как раз тогда вошли в моду. К тому же мы имели очевидную склонность к искусству, что в Сараево было большой редкостью. Так что мы заключили с ними нечто вроде молчаливого дружественного союза.
На самой узкой и самой короткой сараевской улице Зриньского, сразу по левой стороне, у гостиницы «Централь», когда мрачным туннелем выходишь на Набережную, располагался букинистический магазинчик Садика Бучука. Этот высокий и костлявый изможденный уроженец Требиня, вечно сутулый, словно боящийся удариться головой о низкий, закопченный потолок своей лавки, обучался книготорговому делу задолго до войны, у Студички, знаменитого сараевского букиниста из Штросмайеровой улицы. Он здорово торговал книгами, которые, правда, в основном так и не читал, но зато внимательно прислушивался к разговорам постоянных клиентов, старых сараевских писателей, которые каждый день после полудня сворачивали к нему в лавку на чашечку кофе. Таким образом он отточил литературный вкус и лучше любого другого знал, как обстоят дела в отечественной и мировой литературе и книжной торговле. Он был из тех благословенных людей, которые умеют внимательно выслушать собеседников и каждому из них чем-нибудь да помочь. В тесной кухоньке за полками с книгами он днями напролет варил сладчайший черный кофе, так называемый «долей-ка», к которому привыкли в его родной Герцеговине, и выносил его гостям в филджанах, рядом с которыми на подносе всегда были кусочки рафинада или возлежали кубики рахат-лукума, так что всякий, кому не хватало сладости, мог распивать свой кофе вприкуску. Он словно совершал какой-то ритуал, деликатно и осторожно водружая филджаны и джезву на пачки старых энциклопедий или переплетенные комплекты журналов, собирание которых было его тайной страстью. У Садика Бучука можно было найти аккуратно переплетенные подшивки некогда знаменитого журнала «Надежда» Косты Хермана, который в конце прошлого века редактировал Сильвио Страхимир Краньчевич, или знаменитой «Боснийской вилы» с первыми публикациями стихов знаменитых сербских бардов. В этом темной маленьком магазинчике царил запах лавки древности, а в воздухе висела тончайшая книжная пыль. Человека в ней охватывало исключительно редкое чувство тепла и безопасного убежища, которое, продолжая традицию старых букинистов, вроде Сильвестра Боннара Анатоля Франса, бережно поддерживал этот благородный мужчина с исключительно утонченными манерами декадентствующих дворянских родов из Требиня. Это священное место, словно последнее в мире прибежище книги и мысли, хранящее дух эпохи, сгинувшей в половодье новой прямолинейной пропаганды литературы, предназначенной для обучения новых поколений, скрытое наподобие раннехристианских катакомб посреди всемирной коммунистической империи, привлекало старых сараевских писателей, да и нас, только вступавших в литературу. Старики находили здесь материалы для своих исторических романов и научных трудов, а мы, молодежь, довоенные книги, которых не было в новых городских книжных магазинах и даже в библиотеках. Кроме того, мы своими глазами могли посмотреть на прежних литературных гигантов, какими были Марко Маркович, автор «Кривой Дрины», Бора Ефтич или Звонимир Шубич – писатели впали в немилость и забвение, их никто больше не издавал и мало кто читал их довоенные книги. Они не походили на наши представления об авторах. Нам были знакомы фотографии Джека Лондона на яхте в Оклендском заливе, в кожаной морской куртке и с растрепанными ветром волосами, или Уильяма Фолкнера, их ровесника, сидящего на корточках под стеной лавки в Джефферсоне, на Юге, с кучерами и фермерами, потягивая бурбон прямо из бутылки. У него было костлявое лицо с выдающимися над стрижеными седыми усами скулами, и одет он был в комбинезон из выцветшей джинсовой ткани с лямками. Мы считали, что так и должны выглядеть настоящие писатели. Эти же наши нищие предки походили в основном на почтовых чиновников или банковских служащих на пенсии, причем многие из них именно таковыми и были. Они словно мимикрировали – обыденностью внешнего вида пытались скрыть от свирепых соседей по кварталу необычность своих литературных пристрастий.
И над всеми ними, словно заботливый старый родич, бдел Садик Бучук, поглядывая на нас сквозь толстые очки с нежностью и заботой, переживая за то, как все это закончится, потому что он и до нас повидал много писательских судеб.
Еще в 1930 году, когда он служил бухгалтером в книжном магазине «Взгляд» на Александровой улице, его кофе, сваренный в необыкновенно большой джезве, вмещающей аж пол-литра пьянящей черной жидкости, пила, забившись в комнатку за книжными полками, вся история литературы этого города. Он все еще хранил экземпляры первых изданий с автографами Иована Кршича, Хасана Кикича, Мака и Хамида Диздаров, Брайко Шотры и Эли Финци – в те времена он продавал их печатные брошюрки, стараясь помочь писательской нищете, несмотря на опасность, поскольку все они были леваками.
Иногда он, как будто святых тайн, вытаскивал из потайных ящиков и демонстрировал с десяток пожелтевших открыток от Великого Тина, который пьяным, нечитаемым почерком бессонного гуляки благодарил его за продажу своих поэтических сборников, благодаря чему удалось заплатить долг домохозяйкам, что он не успел сделать, поспешно покидая Сараево.
Но, похоже, дружба с титанами не оставила никаких следов в скромном Садике, который с прежним неутихающим жаром привечал и наставлял каждого молодого человека, если ощущал в нем хоть каплю таланта и интереса к художественной литературе. В его поведении невозможно было ощутить даже наитончайшей разницы в обхождении и обслуживании ритуальным кофе знаменитого писателя или литературного недоросля, только что прибывшим в Сараево из самой глухой провинции. Как будто все мы были билетиками в какой-то затянувшейся на годы литературной лотерее, в которой, если Аллах даст, кто-нибудь из нас крупно выиграет.
В отличие от детей большого города, молодые провинциалы обуреваемы почти болезненной страстью к чтению, которое заменяет им волнительную жизнь, недоступную в их городках, местечках и поселках. Они просто пожирают книги, буквально упиваясь чтением. Зачем, скажем, молодому человеку в Лондоне, Париже или Белграде проводить ночь напролет на кухне, согнувшись над книгой, если сразу за порогом его ожидают настоящие чудеса; он располагает огромным количеством разнообразных удовольствий; множество кинотеатров, театральных представлений, дансинги и кафе – в конце концов, даже сама улица или площадь привлекательны! Само собой разумеется, я веду речь о дотелевизионной эпохе, которая всех их перед экраном привела к общему знаменателю. Но когда на провинцию опускается ночь, когда одновременно с вечерней зарей мы сталкиваемся с безнадежной пустотой времени, с которой ничего не поделать, нам только и остается переживать чужие жизни из книг, наслаждаясь ролью героя романа, в который только что уткнулись. Ночи напролет, до самого утра глотая книги, молодые провинциалы – единственные люди в глубинке, которые, пока все работают, спят до полудня и позже. Так они и покоятся, словно куколки, из которых в один прекрасный день, если повезет, вылупятся прекрасные пестрые бабочки. Именно потому провинциалы в основном куда начитаннее жителей больших городов: они, откровенно говоря, знают куда больше, чем следовало бы.
Зато мы наверняка знали, что единственной книгой, которую Садик Бучук прочитал от корки до корки, причем неоднократно, была летопись сараевского хроникера восемнадцатого века Муллы Мустафы Башескии, написанная от руки и переплетенный перевод которой он держал на полке рядом с Кораном, поскольку был очень набожным человеком. В рамазан, во время поста, никто из друзей Бучука не требовал привычного кофе, а страстные курильщики, чтобы выкурить обязательную сигарету, выходили из лавки на улицу, поскольку во время рамазана запрещено вдыхать Святой дым. И какое бы направление не принимал разговор с Садиком Бучуком о книгах – о новом ли, только что изданном переводе «Тошноты» Сартра, по поводу которого преподаватель французского Джакула утверждал, что оригиналу более соответствует «Дурнота», или же о новом сборнике рассказов Андрича, – Садик все разговоры сводил к Мулле Мустафе Башескии, цитируя тот или иной отрывок из его хроник. Боясь потерять список драгоценного перевода, он никому не позволял выносить его из лавки, непрерывно жалуясь, что у несчастного, давно забытого Башескии почем зря воровали наши лучшие писатели и потому годами не позволяли издать перевод этого произведения, написанного арабским алфавитом по-турецки, чтобы тем самым не раскрылись тайные источники их вдохновения. Правда, существовали два давних издания переводов фрагментов этой хроники, которые напечатал Краеведческий музей в 1918 и 1919 годах, но все экземпляры таинственным образом исчезли и нельзя было найти их ни за какие деньги, не было их даже у Бучука. Тем не менее этот добрый человек позволял мне, сидя у витрины его букинистической лавки, листать, читать и переписывать отдельные отрывки из истории моего города.
Кто такой был Мулла Мустафа Башеския? Я часто хаживал улочкой Меджелити под каменной Сахат-башней мимо Беговой мечети, где этот сараевский хроникер, поэт и составитель летописей восемнадцатого века держал скромную контору, в которой, подружившись с соседом, продавцом целебных трав, составлял и писал неграмотным жителям Сараево частные письма, просьбы, жалобы, договоры, доверенности, описывал имущество умерших и все прочее, что было необходимо. Ученый и грамотный человек, набожный, скромный и тихий, как и Садик Бучук, Мулла Мустафа, кроме писарского ремесла, обучал молодежь арабской каллиграфии, да и сам штудировал у мудериса Гази-Хусрев-Беговой медресе Мехмед-Рази Велиходжича шариатское право и астрономию. Мистицизм он изучал у шейха Хаджи-Синановой текии хаджи Мухамеда, и все для того, чтобы вступить в конце концов в дервишский орден Кадери.
Начиная с 1746 года и до самой смерти, наступившей в глубокой старости в 1809 году, он вел хронику своего города, описывая покойников и всякие чудеса, происходившие на его глазах. Поглядывая в щелочку прикрытых ставень своей лавки, он наблюдал и описывал кровавые расправы между религиозными сектами, проводы и встречи солдат, что воевали с русскими в далеких степях и с венграми на берегах Дуная. В его хрониках паводки смывали мосты на Миляцке, горели дома, мечети и башни с часами, потрясали почву землетрясения, а в сараевском небе летели страшными предвестниками хвостатые звезды, протыкали себя насквозь дервиши, попрошайничали юродивые, строились и разрушались крепости – а он все это время на толстых листах белой, желтоватой и розовой бумаги униженно и сокрушенно записывал гусиным пером все эти чудеса, сохраняя каллиграфическую четкость почерка.
Однажды в юные годы я страстно увлекся изучением своего родного города. Мне казалось, что вся его топография, его горы, холмы, улицы, старинные укрепления, глухие переулки, колодцы, ручьи, даже сама мелководная Миляцка с мостами есть не что иное, как продолжение моего собственного тела. Я часами бродил по дальним кварталам, открывая уже забытые текии и медресе с полуразрушенными стенами, дворы, заросшие кустарником и репейниками. Я верил, что тайна моей жизни и искусства, которым я буду заниматься, кроются именно здесь, где турецкая старина на границах европейских кварталов сталкивалась с новым временем и пропитывалась им, превращаясь в чудесным образом закрученную фантасмагорию. И по этой причине летопись Муллы Мустафы Башескии стала для меня настоящим открытием – секретной картой потаенных путей, которые проведут меня лабиринтами к запретной сути. Уже тогда я знал – в этом темном непроходимом лесу, таинственном, как само время, начертана линия моей собственной жизни.
У меня, убогого Муллы Мустафы, была лавка под Сахат-баьиней, рядом с общественными нужниками, и платил я за нее десять акчи денно. В лавку мою мог прийти любой обыватель, дабы я написал ему потребное. Украсил ее вырезанными собственноручно из бумаги полумесяцами, звездами и иным. Лавка моя всегда достойно украшена была. А по случаю празднования рождения Хатиджи, дочери султана Абдул-Хамида, двенадцатого шубата, в пятницу, взял я во временное пользование картину, рисующую проводы на войну янычар, и повесил ее в лавке. К тому же, на большом листе бумаги было еще много занимательных и чудесных картинок, которые так были искусно сделаны, что едва только сами не говорили. Словом, во время праздника все граждане любовались моей лавкой.
Кроме того, видел я еще одну ловко сделанную вещицу, так что каждый увидевший ее впадал в полный раж. То есть в витрине два больших кривых ножа так выставили, что они, казалось, в воздухе парят. Было еще много других красиво разукрашенных лавок, но особо отличались лавки хаджи Мехмед-аги Джины и еще две жидовские в Ташли-хане.
Саланджаклии, как и прочие нищие, ночь напролет, под бубны и без оных, просили и собирали деньги с людей, а особливо с торговцев.
Авди-чауш Хамалович в своей кофейне, да еще с поваром Хусеин-башой, сделал коня из плетеных корзинок да пестрого рядна. Глаза ему вышили, уподобив букве «н», и сделали ему уши, ноги, удила и все прочее, что полагается. И каждый, кто городом прогуливался и это видел, дивился и говорил, что никогда ничего подобного тому не видывал. Коня этого сделанного продали в какой-то двор вместо мебели за девять грошей. Сделали еще одного коня и продали его в Високо.
…В канун христианского праздника крашеных яиц, после икиндии, убил в церкви ножом некий селянин храбрый другого селянина немусульманина. Мутеселим и кадия опечатали церковь, и христиане, чтобы открыть ее, много денег потратили. (1776)
Здесь я укажу и запишу даты происшествий, что случились в Сараево городе и в боснийском вилайете, как и имена моих скончавшихся друзей из Сараева, которых я знал хорошо и который на свет оный переселились. Имена их пишу без хронологического порядка, но так, как они мне в голову придут. Делаю это, чтоб им рахмет передать и чтоб мне с благодарностью к Аллаху подарена была долгая и благословенная жизнь, потому как сказано: Слово писанное остается, а слово сказанное исчезнет! (1756)
В мечтах о Париже (Нью-Йорк тогда еще не был открыт) мы походили на кучку сомнамбул, путающихся в собственных мечтах. В те годы нам не везло в любви. Симпатичные и смышленые девчонки бросали нас уже после первого свидания, если таковое вообще случалось, стоило им только заметить, как мы долго копаемся в бумажниках. Им, похоже, мешало, что у нас в жизни не было никаких серьезных намерений. Были мы немного лентяями, немного – эстетами.
Мы были, наверное, смешны, такие гордые, весьма высокого мнения о себе, но не предъявившие ни одного фактического доказательства собственной исключительности – а люди на слово не верят. Можно было сказать, голь и нищета – и это было очевидно, стоило глянуть на поношенную одежду, старые стоптанные башмаки, из которых мы безуспешно старались извлечь хоть какой-то блеск, но особенно выделялись как минимум дважды перелицованные пиджаки, доставшиеся от старших. И тем не менее мы мечтали о Европе.
В конце пятидесятых молодость еще не была таким исключительным, как теперь, преимуществом, ее террор наступит много позже, когда мы с ней безвозвратно простимся. С другой стороны, даже если бы она хоть чего-то и стоила в то время, молодость была бы в любом случае последним достоинством, сияние которого заметили бы на наших лицах внимательные наблюдатели. То были изможденные бледные лица городских парней, которые ради сбережения хотя бы жалких остатков хорошего о себе мнения из кожи вон лезли, чтобы два-три раза в неделю поужинать в «Двух волах».
Несмотря на возраст, мы уже готовы были превратиться в мужскую компанию рано состарившихся поседевших эгоистов, если бы я в один прекрасный августовский вечер не привел случайно в «Два вола» Веру, маленькую машинистку первого класса, которая бесплатно перепечатывала мои ранние рукописи и до самого конца существования этой печальной сараевской корчмы оставалась самым приверженным нашему столу женским существом.
Это была подвижная девушка с хрупкой, грациозной фигуркой, похожей на мальчишескую. Ее короткие кудрявые волосы вызывали непреодолимое желание запустить в них ладонь, а слегка торчащие вперед зубки, что непрестанно в улыбке выглядывали из-за бледных губ, дарили ее личику симпатичный беличий облик. Большие черные глаза и ямочки на щеках вызывали у каждого, стоило лишь внимательно поглядеть на них, одновременно печаль и улыбку – чувство нежности. Наша ровесница – сестра, которой у нас не было, окончила гимназию вместе с нами, но средств для продолжения учебы не нашла, вот она и ухватилась за машинопись как за кратчайший путь найти работу, получить должность в машинописном бюро местной газеты «Освобождение».
Она обладала исключительным даром: тихим и постоянным спокойствием, настолько необычным для ее лет, она усмиряла самых раздражительных личностей и могла, не произнеся ни слова, одним только присутствием и взглядом, полным терпения, прекращать застольные споры. Где бы она ни сидела, у всех создавалось впечатление, что она может оставаться здесь до конца света. Человек пребывал в уверенности, что он может оставить ее и застать на том же самом месте, когда бы не вздумал вернуться. Это было заметно даже по ее манере курить, а курила она много; даже дым ее сигарет, казалось, вьется куда спокойнее и гармоничнее нашего. Денег у нее не было, как и у нас, но все же у нее оказывалось больше монет, чем у нас. Ее кошелек в форме маленькой сумочки походил на тайную женственную ризницу, полную потаенных выгородок с неожиданными заначками.
На улице, в трамвае или в кафе вряд ли кто обращал на нее внимание – в старом пальто с чересчур длинными рукавами, в серых мешковатых юбках до щиколоток и в полуботинках на низком каблуке. Иногда я, сам невысокого роста, в холодные зимние ночи надевал на нее свой свитер, и она выглядела в нем как в широком шерстяном платье. Словом, самая обыкновенная сараевская девчонка, скромная и незаметная. Но в то время как ее несравненно более красивые ровесницы прикладывали невероятные усилия, чтобы найти парня для вечернего выхода в свет, Веру моментально, стоило ей только захотеть, окружали пять или шесть молодых людей, а она всегда старалась усесться между Бель Ами и мной. Она просто, как бы совершенно случайно, оказывалась у «Двух волов» и заходила, чтобы глянуть, нет ли там кого из наших, да так и оставалась там с нами вплоть до закрытия.
Влюбленные в иных, недостижимых городских красавиц, которые на манер племенных кобыл прохаживались взад-вперед по Главной улице, колыша соблазнительными телесами и беспрестанно откидывая с лица пряди буйных волос, мы едва замечали Веру, считая ее кем-то вроде товарища женского пола, точнее, гадким утенком, и ничего не замечали, а она все то время, похоже, выбирала между нами двумя, старыми соперниками с самого детства.
Даже лето, когда все с облегчением сбрасывали скучные зимние одежды, почти не меняло ее облика. Полотняные платья неопределенного цвета или слишком длинные маечки с болтающимися рукавами открывали Верины прелести ничуть не больше, чем тяжелое зимнее пальто.
В ее двадцатый день рождения я подарил ей «Маленького принца» Экзюпери, который как раз тогда был издан в Сараево. Она выучила книгу наизусть и поправляла нас, когда мы неправильно цитировали текст.
Больше всего она любила отрывок, где Лис встречается с Маленьким Принцем:
«Скучная у меня жизнь. Я охочусь за курами, а люди охотятся за мною. Все куры одинаковы, и люди все одинаковы. И живется мне скучновато. Но если ты меня приручишь, моя жизнь словно солнцем озарится. Твои шаги я стану различать среди тысяч других. Заслышав чужие шаги, я всегда убегаю и прячусь. Но твоя походка позовет меня, точно музыка, и я выйду из своего убежища. И потом – смотри! Видишь, вон там, в полях, зреет пшеница? Я не ем хлеба. Колосья мне не нужны. Пшеничные поля ни о чем мне не говорят. И это грустно! Но у тебя золотые волосы. И как чудесно будет, когда ты меня приручишь! Золотая пшеница станет напоминать мне тебя. И я полюблю шелест колосьев на ветру…
Так Маленький принц приручил Лиса. И вот настал час прощанья.
– Я буду плакать о тебе, – вздохнул Лис.
– Ты сам виноват, – сказал Маленький принц. – Я ведь не хотел, чтобы тебе было больно, ты сам пожелал, чтобы я тебя приручил…
– Да, конечно, – сказал Лис.
– Но ты будешь плакать!
– Да, конечно.
– Значит, тебе от этого плохо.
– Нет, – возразил Лис, – мне хорошо. Вспомни, что я говорил про золотые колосья».
«Похоже, ты меня приручил…» – шепнула мне Вера в «Двух волах» однажды ночью. Польщенный и испуганный ее словами, я сделал вид, что не расслышал их.
С открытия и до сумерек «Два вола» совсем не напоминали ту, вечернюю, философскую корчму. Поверхностный наблюдатель не смог бы ее узнать в это время.
С утра это была обычная пивная, в которую сначала заваливались грузчики с Рынка, чтобы промочить горло, или жестокие алкоголики, которые в панике заглатывали по литру прокисшего вина, выдаваемого им шьором Анте, чтобы те погасили сжигающий нутро вчерашний огонь. За ними наведывались мясники из Маркалы, с синими носами и в окровавленных фартуках.
Молодой поэт Брайко В. Радичевич, который в то время служил корреспондентом белградской газеты «Радуга», записал советы одного заслуженного зобатого официанта, родом из Сребреницы, который здесь обслуживал за стойкой:
«Вино требует рыбы, ну мяса жареного, очень жирного, очень скоромного… Тогда ты его пьешь, и голова у тебя не болит. Пиво можешь пить после грудинки, после супчика какого-нибудь, кисленького. А ракия ничего не просит. Ее можешь пить и без закуски, и с закуской. Можешь с мясом, можешь с овощами. Настоящий народный напиток».
Корреспондент зафиксировал и встречу со Звонимиром Шубичем, прозаиком, огромным мужичиной с грубым голосом, постоянным клиентом «Двух волов», его рассказ о некоем богатом человеке, который настолько пресытился пищей, что, выпивая, требовал к ракии исключительно подснежник. Нальет рюмку ракии, приласкает подснежник, понюхает и выпьет.
С самого раннего утра и до самого закрытия, рядом с круглой печкой или за стойкой, сиживал и Сима Драшкович, карикатурист исключительного таланта, которого уничтожила и добила выпивка. В тот момент, когда он неожиданно обнаружил в себе удивительную способность линией открывать самые сокровенные и смешные стороны людей, которых он знал или встречал в своей жизни, закончилась внешне спокойная и комфортная жизнь скромного довоенного чиновника и началось долгое скитание по пивным и корчмам, забегаловкам, буфетам, залам ожидания, подвалам и чердакам, – долгое путешествие в ночь, в котором был только один теплый оазис, «Два вола» где всегда можно было найти немного огня и выпивки ради утешения. Предание гласит, что, оставшись без дома, несчастный старый карикатурист, по два месяца не менявший рубаху, ночевал на этаже в развалинах дома и перед сном привязывался веревкой к чему-нибудь прочному, чтобы в беспокойном сне не скатиться в пропасть. С распухшим лицом и огромными фиолетовыми кругами под глазами, нервозно, по-птичьи дергаясь при малейшем движении, он просил каждого входящего в «Два вола» поднести маленький стаканчик ракии и часто в знак благодарности, не совсем еще потеряв гордость, выпрашивал у зобатого бармена чистый бланк счета и дрожащей рукой, которая в эти мгновения удивительно крепла, несколькими блистательными штрихами рисовал шарж на человека, поставившего ему выпивку.
Однажды наша Вера, сжалившись, послала ему стакан ракии. Он спросил официанта, от кого последовало угощение, и когда тот указал ему на хрупкую девушку, Сима позвал ее к стойке и, пока она стояла рядом, на обратной стороне меню, вытащив его из корочек, меньше чем за три минуты быстрыми движениями изобразил ее в виде маленького арапа Петра Великого, дорисовав даже кольцо, вдетое в нос.
И по сей день я не могу понять, от кого этот карикатурист-самоучка, в жизни не видавший рисунков Оноре Домье или Георга Гросса, унаследовал роскошный дар гротеска и скупость рисунка, что, похоже, искупляло его растранжиренную жизнь. Это вовсе не были шедевры, вроде довоенных шаржей на Нушича, тогдашнего директора Национального театра в Сараево, на Исака Самоковлию или Тина Уевича в коротеньких штанишках и в полуцилиндре на голове, с кругленьким животом типичного пьяницы и сигарой, испускающей летаргический дым. Но все же, несмотря на кошмарный вид и загубленное здоровье, острая и простая линия, которую ему подарил сам Господь Бог, все еще сохранялась – живая, насмешливая и немного ехидная.
Наши старики, которые знавали его в счастливые времена, посылали ему выпивку за стойку или к печке, где бедолага отогревался, но не допускали к своему столу, потому что он вечно что-то бормотал, неразборчиво и бессвязно, а частенько и засыпал, уронив голову рядом с порцией корюшки, которую ему подносили на тарелке. Получив свою выпивку, он просто поворачивался к ним, приподняв над головой в знак благодарности свою бесформенную шляпу, которую никогда не снимал.
Благодаря поэту Брайко В. Радичевичу дошел до наших дней монолог, произнесенный за стойкой в 1955 году Симой Драшковичем, который был прахом и в прах обратился:
«Я пошел неверным путем. Я развлекал публику. Она меня поила, а я ей – карикатуры. Я ее рисовал, а она жила всего день-другой, приколотая к стене или смятая в чьем-то кармане. Все же мне льстило, когда пьяницы хвалили мои работы. Меня это как бы возвышало немного в их глазах. Я стоял у стойки, и мне то и дело подносили стаканчики. И я гордился, потому что понимал: они не Симу Драшковича угощают, мелкого чиновника, но Симу Драшковича – карикатуриста… Сейчас, когда я бесцельно обиваю чужие пороги, становлюсь отвратительным. Во мне блеют, мяукают, кукарекают, ржут, воют, хрюкают, скулят образы, которые я не успел нарисовать. Как бы я хотел показать их людям! Потому часто в человеческих лицах я узнаю черты животных. И тогда я пугаюсь. Это было бы очень опасно. И я начинаю сомневаться в собственных добрых намерениях…»
За три дня до Алиджуна прибыл в Сараево тели-чауш и в сумерках на улице схватил гордеца Эмира, ваиза, и в ту же ночь передал его мушеселиму, а в пятницу на заре отвез его в ссылку в Амасию. А вина его в том была, что целых четырнадцать лет приписывал он неверность всем сараевским жителям, шейхул исламу, кади-аскеру, пашам, улеми, шейхам, славным предкам и дервишским орденам, и на всех их клеветал без разбору, потому такое несчастье ему на голову и свалилось. (1775)
Часовщик известный, но прозванию Самсария, соорудил интересную и странную сахат-башню. Правду говоря, вместо часов поставил он на сахат-кулу колокол на цени, который и звонил. (1773)
В нашем несчастном городе далекое эхо Парижа отзывалось всего в нескольких местах. В кондитерской «Перед Имаретом», среди размякшей халвы и зачерствевших пирожных, беспрестанно атакуемых мухами, потихоньку таяла, слегка склонившись на бок, розовая Эйфелева башня из марципана. Рядом с кондитерской была цирюльня «Сладость», в витрине которой покоилась большая банка с пиявками. Рядом с ней стояла табличка: «ГАРАНТИРОВАННО ЛЕЧИМ ДАВЛЕНИЕ». Толстый, похожий на евнуха парикмахер Райф с бритой головой совал розовую ладонь без единого волоска в воду, хватал пиявку и ставил ее на шею клиента, которого одновременно брил. Напившись крови, пиявка сама отваливалась от кожи, и он возвращал ее в банку. Мы подолгу простаивали у витрины, наблюдая за странным лечением. Нам казалось, что наш родной город точно так же, не спеша, попивая нашу молодую кровь, излечивает нас от желания покинуть его. Еще одна Эйфелева башня, на этот раз склеенная из спичек, призрачно вздымалась над подшитыми и подбитыми ботинками в витрине сапожника Сарачевича. Мы размышляли вслух, насколько высока она и как выглядит в действительности.
Несколько сохранившихся сараевских портных и модисток держали на столиках, за которыми клиенты ожидали примерки или очереди на заказ, сохранившиеся пожелтевшие и растрепанные модные журналы из Парижа, а один модный салон с двумя-тремя дамскими шляпами, которые в то время никто не носил, и с подвенечными фатами гордо назывался «Salon de Paris».
В Сараево начали прибывать первые посылки от родственников из далекой Америки. Иногда в них взаправду были кофе, какао и рис, но в основном нам слали ненужные безделушки, от которых родичи хотели избавиться и одновременно вызвать у нас чувство благодарности. Таким образом, многие получали старые подвенечные платья, бейсболки или веера, но Жано повезло – ему прислали аккуратно упакованный элегантный черный костюм, рубашку, галстук и черные лакированные ботинки. Костюм был отличный, но сильно топорщился, однако он надеялся, что со временем тот обомнется по фигуре, а ботинки разносятся.
Благодаря новому костюму, в котором он напоминал манекен из витрины швейной мастерской, он уже в первый вечер, на танцульке в «Согласии», склеил самую красивую девушку. А когда он провожал ее домой, внезапно хлынул ливень, и костюм и ботинки, к полному ужасу Жано, набухли и расползлись, так что пришлось ему возвращаться домой в трусах. Потому как костюм и ботинки были бумажными, предназначенными для одноразового употребления – для мертвецов.
После длительной изоляции страна, словно ночной цветок, постепенно открывалась навстречу миру. Теперь показывали не только советские фильмы, а переводчики вытащили из потаенных ящиков тексты Сартра, Камю, Хемингуэя и Фицджеральда – чтение, которым мы упивались ночами.
И вправду, люди все чаще уезжали в Париж; государство, похоже, хотело избавиться от тех, кто не желал жить в «лучшем из миров». Вместо того чтобы отправлять их, объявив шизофрениками, в сумасшедшие дома, как это делал в Советском Союзе министр полиции Андропов («синдром Андропова»), Югославия первой из восточноевропейских стран начала выдавать иностранные паспорта своим гражданам. Но в Париж уезжали не писатели и киноманы; первыми были портные, слесари, штукатуры и будущие ассенизаторы.
Тем не менее Европа, эта увядшая матрона, никогда больше не будет выглядеть так блистательно, так волнующе и притягательно, как в те давние ночи в нищенских «Двух волах», когда мы, захлебываясь от восторга, переводили из потрепанного номера парижского «Cahiers de cinema» полугодовой давности… Мы приходили в отчаяние на скучных улицах, которые, похоже, вели в никуда, презирали соседей, семью, тупую посредственность, в которой мы были вынуждены существовать, прислушиваясь к далекому грохоту Европы, в которой бушевали бунты художников, рождались новые смелые идеи, и каждое слово, каждый знак, долетавший до нашей скуки, в которой мы пребывали, действовал на нас как призыв к приключениям.
Там наши ровесники праздновали победу Франсуаза Саган, не настолько уж старше нас, уже завоевала Францию миллионом экземпляров своего первого романа «Здравствуй, печаль», в котором главная героиня сводила с ума и побеждала поколение зрелых сорокалетних людей, у нас неприкасаемых. (Что я мог ожидать от своего несчастного «Чуда, случившегося с Бель Ами»?) В фильме Годара «На последнем дыхании» Бельмондо, наш ровесник, жил суровой жизнью, менял как перчатки бистро, темные очки, девушек и спортивные машины, в то время как нам не удавалось даже вовремя сменить рубашку с почерневшим воротничком. Франсуа Трюффо снял «Четыреста ударов», рассказ о мальчишке, убежавшем из исправительного учреждения, в котором мы пребывали постоянно. Мы представляли себе Жюльет Греко поющей в «Олимпии» в глухом черном свитере и пьющей calvados в компании экзистенциалистов в «Deux Magots». Ни одну из этих звезд кинематографа, литературы и шансона мы не могли ни увидеть, ни прочитать, ни услышать. Книги были в основном о минувшей войне или о турецком рабстве, а фильмы – о партизанах. По радио, не считая редких трансляций классической музыки, если умирал кто-то из высокопоставленных руководителей, беспрерывно звучали оптимистические хоровые композиции и народные песни, в основном жалостливые.
Мы собирали город Париж из случайных обрывков газетных новостей, склеивая их звуками французских шансонье с пластинок, которые редкие счастливцы привозили из поездок в этот сияющий город. Ночами напролет мы слушали несколько заигранных дисков Эдит Пиаф, Ива Монтана, Жильбера Беко, Ги Беара и Жоржа Брассанса, не понимая ни единого слова, кроме Paris и Гатоиг, но считывали атмосферу Парижа с их хриплого звука.
Если у Франции и были когда-нибудь верные подданные за ее пределами, то наверняка это были мы.
Париж. Париж. Париж. Париж. Париж.
Это слово стало нашей навязчивой идеей. Мы повторяли его точно так же, как чеховские «Три сестры», увязшие в затрапезной губернии, заклинали без перерыва: «В Москву, в Москву, в Москву!». О, если бы мы только каким-то чудом оказались вдруг там!
Мы строили безумные планы завоевания Европы, придумывали черт знает что, чтобы только привлечь внимание, однако в то время, когда наши ровесники во всем мире вершили подвиги, родной город держал нас в своего рода исправительно-воспитательной колонии строгого режима. И потому мы проводили вечера в разговорах, разговорах и только в разговорах… Уже тогда нам стало ясно, что между нами и Европой существует какое-то фатальное непонимание. Мы хотели предложить ей свою свежую кровь и чувственность провинциалов, а она принимала у нас только фольклор и футболистов. К полуночи все заканчивалось одними и теми же словами: «Если бы не было этих проклятых азиатов!» – так обычно кто-нибудь из нас заканчивал разговор.
В дыму, над заштопанной скатертью в «Двух волах», возводились города и строились воздушные замки, рассыпались в прах и пепел имения и дворцы; сухие листья засыпали каменные некрополи, в которых покоились исчезнувшие короли, поэты и монахи… Мы затихали, молча осуждая предков, которые не выиграли свой этап эстафеты для грядущего поколения. Они даже не осознали своей вины в том, что нас обогнали все. Коммунизм, в котором мы жили, добил все остальное.
И во все те ночи, когда мы кто знает в который раз заводили разговоры о Париже, Вера только молча курила. Иногда только спрашивала, например, кто такой Альбер Камю, как на вкус вино «божоле нуво» или что такое экзистенциализм, на что мы, гордясь полученным образованием, мощно и обширно разъясняли ей, что самые важные в мире события происходят на левом берегу Сены, между Латинским кварталом и Монпарнасом, и уж никак не на правом, где обитают одни мещане – как будто мы там сами неоднократно бывали.
Поначалу, обнаружив, что Верина нога все чаще прижимается к моей, я стеснялся. Мне казалось, что это случайность, потому как все мы сидели за столом в тесноте, но позже, когда она стала проделывать это все чаще, я привык и перестал обращать внимание, лишь изредка задаваясь вопросом, а не прижимается ли она точно так же другой ногой к Бель Ами. Но даже если она и делала это, меня бы этот факт не взволновал: мы были почти братья.
За столом старых мудрецов действовали неписаные, непроизносимые вслух правила, которые ни в коем случае не следовало нарушать. В первую голову, они никогда не говорили о размерах собственных пенсий, а также никто никому никогда не ставил выпивку. Каждый заказывал себе столько, сколько позволяло состояние здоровья и кошелька: кто-то литр красного, другой триста граммов, третий только мятный чай без сахара. Любые уговоры повторить рассматривались как насилие и крайняя невежливость, потому как некоторые старики были зажиточными людьми с хорошо пристроенными детьми, а другие – бобылями без единой живой души, в одиночку справляющиеся со своими бедами. Другое дело еда. Это, собственно, и не были настоящие ужины, а закуски, без которых трудно пить вино; несколько маслин, твердый сыр «торотан», который отправлялся в рот крохотными кусочками, или шматок резко отдающего древесным дымом пахучего суджука, который можно долго жевать, пропустив под него два бокала вина или несколько рюмок лозовачи. Клиенты шьора Анте приходили к нему в основном после ранних домашних ужинов, чтобы вытянуть ноги после прогулки, но засиживались до глубокой ночи, и обеспокоенные жены посылали за ними внуков, которым следовало увести их домой. За долгими разговорами, чаще всего о еде и приготовлении пищи, к ним приходил аппетит, и они начинали заказывать всего понемногу, так что легкая закуска иной раз превращалась в ночной пир. Те же из них, кто был одинок, у кого не было другого места для принятия пищи, на некоторое время удалялись за другой стол, чтобы съесть свой одинокий ужин, после чего возвращались в общую компанию. Они расплачивались, вытаскивая банкноты из грандиозных потертых кожаных бумажников, в которых помимо фотографий внуков и разнообразных справок, счетов и газетных вырезок хранились маленькие гребешки, билеты Государственной лотереи, в которой никому из них не удавалось выиграть.
Я был талантливым слушателем, а они были уже в том возрасте, когда все свои истории могли рассказывать наизусть, отчего они давно утратили очарование новизны. Потому мне было негласно позволено приводить своих очередных девушек, в широко распахнутых глазах которых они, спустя многие годы, вновь обнаруживали очарование молодого женского восторга, вызванного их рассказами.
Мы, несколько человек начинающих, были подмастерьями за этим странным столом и гордились тем, что старцы принимают нас в свое общество. Как и прочие подмастерья, мы обязаны были принимать у них пальто, когда они раздевались, бегать в киоск за сигаретами, когда они кончались, летать к ним домой за оставленными на столике лекарствами или очками или ходить в типографию за свежим, только что отпечатанным номером завтрашней газеты.
Иногда кто-то из них удостаивал нас особого внимания и расспрашивал о новостях в мире искусства, за которым они якобы не следили (зная о нем, естественно, все), а когда я однажды ночью, войдя в раж, принялся воодушевленно рассказывать о новой волне во французской живописи, L’ecole de Paris, и о революциях в искусстве, которые там совершаются и о которых я, естественно, узнал из газет, старый Ника прищурил левый глаз и произнес, затянувшись сигаретой в вишневом мундштуке: «Ладно, Момчило, видали мы такое… Я за свою жизнь по меньшей мере десять раз видел, как узкие брюки и ботинки шимми входили в моду и выходили из нее! Нет конца!». У него было еще одно любимое присловье: если ему что-то исключительно нравилось и по этому случаю он веселел, то вскидывал над головой обе руки и вскрикивал так, что вся корчма тряслась от его мощного голоса: «Хай, хай, Алкалай!»
Мы хором отвечали ему: «Хей, хей, Хэмингуэй!»
Интересно, за этим легендарным кабацким столом, под знаком которого прошла моя литературная юность, никогда не бывали люди средних лет или модные писатели; только группа стариков и несколько человек нас, безусых юнцов, почти мальчишек, едва только опубликовавших по одному рассказу или стихотворению. Старики, похоже, на дух не переносили поколение, которое тогда владело городом и литературой и которое досрочно сдало их во вторсырье. Они издевались над их книгами, смаковали глупости и ошибки, с профессорской педантичностью вскрывали нехватку среднего образования у бывших партизанских офицеров, относившихся к литературе надменно и нагло, как к солдатскому строю.
«Следовательно, этот его новый роман, что правда, то правда, нет конца, настоящий шедевр! – приступал дядюшка Ника к резекции новейшей книги прославленного автора, только что увенчанного премией – Он в корне меняет взгляд на Революцию и открывает новые, до сих пор неизвестные факты и явления. Возможно, по этой причине состоится какой-нибудь важный Пленум или, не дай Боже, очередной исторический Съезд… Вот он пишет, смотрите: “Ты, Мария, должна видеть во мне не только коммуниста, но и человека!” Конечно, и у коммунистов случаются человеческие слабости, и об этом после войны объявляется впервые!»
«А почему бы и нет…» – хмыкал он, не выпуская из рук воображаемый скальпель, памятуя своей седой головой со все еще непокорными прядями, что в один прекрасный день и этому придет конец, поскольку, как он сам говорил, «ни у кого еще до самого рассвета свечка не горела».
Как будто именно за это они и любили нас, нескольких недорослей, начинающих литераторов, которые вместо обычной карьеры в свои молодые годы выбрали ученичество за их уже всеми забытым столом – в то время, отброшенное философской софистической школой. Они несколько рассеянно расспрашивали о том, что мы читаем и что пишем, но без особого любопытства, лишь бы продемонстрировать, что они обращают на нас внимание в своем обществе, в котором мы пристраивались к краешку стола, иногда даже по двое на одном стуле, что приводило в ужас старого шьора Анте. Эта группка постаревших седовласых мудрецов с красными морщинистыми лицами, испещренными синими из-за высокого давления и неумеренного потребления вина венами, резко отличалась от всего того, что мы могли наблюдать в городе. Это были последние свидетели давно исчезнувшего мира богемы, отчаянные авантюристы, последние оставшиеся в живых хранители заповедей великанов и их творений, которые в то время не могли быть напечатаны и изданы, знатоки множества начал и концов знаменитых взлетов и падений, интриг, предательств, обманов, краж и плагиатов, любовных связей и афер, от которых ныне остались лишь скелеты и могилы, – короче, непризнанные авторы еще не написанной истории славы и бесчестия. С другой стороны, те, кого в то время ценили и восхваляли, лежали каждый вечер своими книгами рядом с пепельницей, полной окурков, этих воплощений разрушительного духа стариков, для которого, похоже, в мире не было ничего святого. Настоящие уроки вербальной анатомии.
Образованные в старинном, классическом духе, знающие помимо мертвых каждый по несколько живых языков, довоенные профессора, богема, врачи, переводчики, журналисты и пьяницы, литературные критики и уже забытые поэты, дети минувшего века, они не могли согласиться с потерей прежней публики, студентов, читателей и учеников, так что мы, несколько случайных любознательных молодых людей, замещали им прошлое. Я думаю, что их домашним уже до смерти надоели годами повторяющиеся рассказы, и они едва дожидались, когда рассказчики уйдут из дома; а к общественным трибунам их не допускали. Шаткий кабацкий стол, за которым они заседали, был их единственной кафедрой, трибуной и газетной колонкой, а мы – единственными их верными обожателями.
К их столу иногда подходили и столичные писатели, проездом оказавшиеся в Сараеве. Так, однажды ночью там оказался и молодой Матия, который как раз входил в большую поэтическую моду. Когда он спросил дядюшку Нико, каково теперь в Сараево, тот после короткой паузы, вставляя сигарету в гигантский мундштук, сказал:
«Это тебе Босния, паренек! Они даже шляпы на голове носят как фески. А штаны на них, благодаря особой походке, так вытягиваются и теряют форму, что становятся похожими на шальвары…»
И вдобавок похвалил его за то, что он выбрал для жительства Белград, прибавив, что «никогда не следует жить в городах, в которых нет газет и типографий и где нельзя понюхать свежую типографскую краску».
В те дни в Сараево прибыл и полупьяный знаменитый поэт Либеро Маркони. Покачиваясь на крепких растопыренных ногах, словно моряк посреди бурного моря на пьяном корабле, он декламировал посреди «Двух волов» поэму Есенина «Анна Снегина»:
Далекие, милые были, Тот образ во мне не угас… Мы все в эти годы любили, но мало любили нас.Очарованные Есениным, мы на некоторое время забыли своего идола, Жака Превера.
Какое-то время в нашем обществе каждый вечер бывал некто Энвер, приличный мужчина лет тридцати со светлыми волосами и умными, проницательными глазами, который в основном молчал и слушал. Он был действительно блистательным слушателем, внимательным и сосредоточенным на каждом ораторе, которому, естественно, нравилось такое внимание. Не известно, кто привел его за наш стол в общество старых мудрецов (может, он пришел сам, в трудную минуту, поставив предварительно бутылку вина), и только потом стало известно, что он – полицейский, которого послали отслеживать разговоры за этим странным столом, где собиралось совершенно непонятное для сараевской полиции общество. Не знаю, что бы я отдал теперь за то, чтобы хоть краешком глаза глянуть на утренние доносы бедолаги Энвера, который буквально глотал все наши слова, чаще всего не понимая, о чем вообще идет речь.
«Слушай, Момчило, – спросил меня как-то дядюшка Ника, – а ты вообще-то читаешь философские книги?»
Я ответствовал, что случайно прочитал одну, а когда он спросил меня, о каком именно произведении идет речь, я признался старику, что это был «Дневник соблазнителя» Кьеркегора и что я купил его случайно, полагая, что это пособие для настоящего соблазнителя, поскольку в подобных делах меня преследовали сплошные разочарования. Оказалось, что это философский труд, в котором я напрасно пытался отыскать хотя бы слово об искусстве совращения женских сердец.
Досыта насмеявшись над моим коротким плаванием в философских водах, старики затеяли дискуссию о том, как следует называть великого датского философа Серена – Киркегаард или Кьеркегор, после чего в воздухе затрепетали цитаты из его еще не переведенных трудов: «Или – или», «Понятие страха» и «Стадии на жизненном пути». Бедолага Энвер едва успевал записывать эти названия в свой блокнот.
В Сараево нет тайн. Некоторое время спустя профессия Энвера стала известна всем, все знали, где он работает и чего ради является в «Два вола», но этот город обладал и чудесной способностью левантийского притворства: никто никак не давал понять, что знает, чего ради он сидит с нами, и он, в свою очередь, ничем не показывал, что знает о своем разоблачении. Помимо всего прочего, он был очень вежлив и хороню воспитан, всегда готов к услугам, так что иные просили его, как бы невзначай, выправить какой-нибудь документ, который обычно приходилось долго и нудно ожидать в полиции, оформить прописку, поскорее получить новое удостоверение личности взамен потерянного или выправить заграничный паспорт. Энвер покорно выслушивал просьбы и отвечал, что у него есть друзья и знакомые, которые, наверное, смогут помочь. Пару дней спустя он приносил им в «Два вола» необходимые бумаги, тайком передавая их за другим столом или вызывая просителя из трактира на улицу. И тогда он, как бы случайно, вроде как в качестве ответной услуги, спрашивал про кого-нибудь из постоянных посетителей, с кем тот живет и с кем встречается за пределами «Двух волов». И даже о погоде он расспрашивал с политическим уклоном.
Я никогда ничего не просил у него, потому что мне это было не надо, но Бель Ами с его помощью получил первый увиденный мною в жизни заграничный паспорт. Он убедил Энвера в том, что ему надо навестить в Чехии единственного оставшегося в живых родственника с отцовской стороны, который якобы, совсем состарившись, намеревался оставить ему после смерти в наследство все, что скопил за свою жизнь. При этом он подписал документ, в котором обязывался вернуться и отслужить в армии, когда наступит срок призыва. Для меня так и осталось тайной, зачем Бель Ами ради паспорта придумал дядюшку в Чехии; подобная тайна окутывала и его сокровищницу времен нашего детства. Паспорт он получил легко, поскольку он был сыном погибших партизан и с гордостью носил звание военного сироты.
В этих на первый взгляд случайных, необязательных отношениях под маской ресторанного знакомства при желании можно разглядеть дух города Сараево и его исключительную возможность в любых обстоятельствах выживать при любой власти, разрушаясь постепенно под воздействием предательской ржавчины собственного характера, воздействующей как некая медленная болезнь. Не было здесь еще ни одного на первый взгляд всемогущего правителя, которого бы этот город некоторое время спустя не заставил помягчать и разнежиться, иногда подкупом, иногда придворной лестью или родственными связями через близких ему людей. Разве не здесь начала гнить и распадаться великая Оттоманская империя – этот труп на берегах Босфора? Разве не в этом городе спились и опустились самые строгие чиновники черно-желтой «К und К» монархии, переженившись предварительно на соблазнительных и благородных сараевлянках? И разве не здесь воины вермахта тайком выменивали уголь, еду и амуницию на одурманивающую сливовицу? И разве не партизанские генералы и министры, еще вчера непреклонные, непоколебимые экзекуторы Революции, сменили свои окровавленные сапоги на комнатные тапочки, взяв в жены местных балерин и актрис? Так что не случайно и добрый Энвер, полицейский с нежной душой, не устоял перед ядовитыми испарениями обычной сараевской корчмы, в которой сиживали исключительные люди.
«Ну как ты, добрый мой Энвер? – спрашивал его дядюшка Ника – Как на службе дела?»
«Понемногу…» – отвечал тот неопределенно.
«Нет конца!» – завершал Ника этот простодушный диалог, полный скрытого смысла.
«А как вы, дядюшка Хамза? – спрашивал Энвер старого поэта – Как здоровье?»
В подземелье, в подземелье, Днем я мучаюсь с похмелья, Больше ничего… —отвечал ему Хамза стихами.
В один прекрасный день добрый Энвер не пришел. Мы узнали, что он, святая душа, сам начал сочинять и его в наказание перевели в какое-то другое место. Мудрецы из «Двух волов», сами того не желая, заразили прекрасной болезнью литературы его полицейскую душу Меня (при условии, что он жив) вовсе бы не удивило, если бы Энвер стал одним из ведущих сараевских писателей. Он прошел отличную школу.
В самом темном углу «Двух волов», сразу за дверью, так, что оттуда он мог разглядеть каждого вновь прибывшего, а его примечали только тогда, когда уже занимали один из свободных столиков, каждый вечер сидел репортер местной газеты Петар Иванич, которого за элегантные манеры тридцатых годов этого века и привлекательные зеленые глаза прекрасные парижанки прозвали Пьер Ле Бо (Pierre Le Beau). «С такими глазами, – говаривал Хамза Хумо, – до войны в приличные дома не пускали!» Иванич всегда сидел один, а занятая им позиция выдавала старого опытного конспиратора, нелегала Коминтерна с многолетним стажем, всегда готового к неожиданным опасностям, постоянно преследовавшим его. Вся его фигура иностранца, случайно попавшего в Сараево, выдавала его сокровенную тайну, состоящую в том, что он не живет здесь, как все прочие люди, а только отбывает тяжелое наказание, о котором известно только ему и немногим посвященным.
У молодого Петара, родившегося в семье Хрвоя Иванича, одного из совладельцев газеты «Сараевская почта», в жилах вместо крови текла густая жирная типографская краска. Его отец, великий югослав, блистательный журналист и редактор, хотел в один прекрасный день оставить единственному сыну маленькое газетное царство, но до этого мальчик, как в Америке, должен был постичь, снизу доверху, все, что связано с издательским делом. Хотя его семья была весьма зажиточной, маленький Петар лет десять протрубил разносчиком газеты «Сараевская почта», вместе с маленькими оборванцами из нищих кварталов. Он выкрикивал заголовки с первых полос, дрался с теми, кто пытался отобрать у него пачку свежих газет, а в шестнадцать уже знал ремесло наборщика и метранпажа, помогал техническому редактору верстать газету, а еще некоторое время спустя сам стал писать репортажи на социальные темы.
Его мать Инге, урожденная Ляйтнер, дочь венского аптекаря, некогда красавица с почти прозрачной кожей, под которой просматривалась тонкая сеть голубых вен, так и не привыкла к жизни в этом городе, летом жарком и душном, а зимой изнемогающим под облаками и снегом. Своему единственному сыну кроме декадентски вытянутого черепа она оставила в наследство неутолимую жажду Европы. Вот эта наследственная страсть и превратила Петара Иванича в Пьера Ле Бо, когда он отправился в Париж изучать политические науки в Сорбонне. В то время он свободно говорил по-немецки, на родном языке и на французском, которому его обучила гувернантка. Следующие три он выучил сам, так и не закончив учебу. Жизнь швыряла его из любовных в политические авантюры. Он писал для небольших левацких газет и бюллетеней, а настоящие революционеры рабоче-крестьянского происхождения, которые никогда полностью не доверяли ему, считая салонным коммунистом вплоть до начала гражданской войны в Испании, когда он, благодаря связям в небольших парижских типографиях, начал снабжать фальшивыми документами югославских добровольцев, пробирающихся через Францию в Испанию, чтобы сражаться в рядах республиканцев. Последний подделанный им паспорт предназначался ему самому. Таким образом, в 1938 году, в разгар войны, он оказался в Мадриде, где вступил в бригаду «Георгий Димитров» в качестве редактора штабного бюллетеня. Там он познакомился со многими интересными людьми. Дружил с Эрнестом Хемингуэем и Мальро, а когда война была проиграна, бросил пистолет, из которого так ни разу и не выстрелил, в кучу оружия на испанско-французской границе в Пиренеях и попал в лагерь Girs, откуда бежал с группой французских добровольцев и вновь оказался в Париже, утратив при этом партийные связи с югославскими коммунистами. Ему надоело постоянно проигрывать. Он женился на забеременевшей от него Иветт Симон, дочери мелкого торговца, державшего табачную лавку с продажей напитков и сувениров недалеко от вокзала Сен-Лазар, в которую тесть пристроил его на работу в первые годы немецкой оккупации. Жил он спокойно, родил дочку Марго, но выдерживать мещанское существование больше не смог и в один прекрасный день, стащив с себя фартук приказчика, бросил его на звякнувшую кассу и бесследно исчез.
Он ужинал в «Двух волах» по-холостяцки скромно, обычно только мясо и салат, и ел, сдержанно и ловко орудуя ножом и вилкой, напоминая аристократа, питающегося с нескрываемым отвращением, без наслаждения пищей, принимая ее только ради того, чтобы пребывать в хорошей форме; казалось, его оскорбляло то, что из-за несовершенства природы ему вообще приходится совершать этот процесс. Пил он исключительно розовое вино, маленькими глоточками, предварительно изучив его букет, который, судя по выражению сморщенной физиономии, был просто скверным. Седовласый, переваливший за шестьдесят, он держался прямо, как двадцатилетний.
Хотя его ровесники, а некоторые и куда моложе его годами, давно уже были на пенсии, он, как ни странно, не накопил необходимого рабочего стажа (словно в его жизни существовала огромная черная дыра, о которой ничего не было известно), вот он и служил самым незначительным клерком в «Освобождении», на самой незначительной полосе во всей газете – переводил (но не редактировал!) с пяти языков всякую всячину из мировой прессы и всегда носил под мышкой пачку иностранных газет и журналов, завернутых, чтобы не привлекать излишнего внимания, в «Освобождение». Было нечто странное и совсем не вяжущееся с бедной корчмой в том, как после ужина он разворачивал и читал «Le Mond» или «The Times».
Долго собирая рассыпанные пестрые кусочки смальты, чтобы составить из нее мозаичный портрет Петара Иванича, я узнал от своих стариков, что до войны он был знаменитым деятелем Коминтерна, кем-то вроде неофициального поверенного в делах для коммунистов, террористов и их курьеров, секретно следовавших из гостиницы «Люкс» в Москве и из балканских столиц транзитом через Париж, где они на некоторое время останавливались. Поговаривали, что Иванич совершил непростительную ошибку, застряв в Париже на более длительный срок, нежели требовалось, наверное, из-за своей жены-француженки, не успел вовремя, вот и пришлось ему отправиться в испанские партизаны, что навсегда погубило его высокую карьеру партийного деятеля, которая непременно должна была случиться после победы. После освобождения он, свалившись словно с неба на голову, предстал в Белграде пред некоей важной комиссией по кадрам с просьбой дать ему какое-нибудь задание. Старые товарищи по партии, о которых он годы напролет заботился в Париже, ныне члены центральных комитетов и министры, не стали, памятуя прошлые заслуги, лишать его жизни, но сослали в родной город Сараево, где никто из тогдашних начальников, в основном сельского и пригородного происхождения, ничего не знал о его интернациональной карьере. Чтобы унижение было еще большим, они подыскали ему нищенскую работенку в местной газете, где только главному редактору позволили прочитать характеристику, сопровождавшую несчастного Иванича в запечатанном конверте. Сотрудники «Освобождения», в основном воспитанники курсов военного времени или, в лучшем случае, выпускники вечерних партизанских гимназий, никак не могли понять, откуда и чего это вдруг среди них нарисовался этот элегантный иностранец, который знал марксизм-ленинизм даже лучше их главного местного идеолога, и, несмотря на это, непрестанно сопровождаемый невидимой мрачной тенью. Время от времени кто-то из недоучившихся редакторов, слепо преданных властям, смелел и начинал тиранить Иванича, угрожая выговорами или увольнением; но стоило им, преследовавшим этого таинственного человека, который ко всем обращался на вы, перешагнуть невидимую черту, как откуда-то, как шептались, с высочайшего кресла, раздавался звонок, и все испуганно замирали, а он и далее безропотно переводил и перепечатывал известия о том, как в универсальный магазин Сиднея забежал кенгуру, которого пришлось усыпить и после этого вернуть в родную природу, или про то, что в Неаполе испекли самую большую в мире пиццу, занявшую всю центральную площадь.
В буфетах и кафетериях вокруг «Освобождения», за журналистскими столиками шепотом рассказывали о том, как знаменитый революционер, писатель, довоенный террорист, а в те дни всемогущий министр Родолюб Чолакович посетил здание «Освобождения» в сопровождении местного начальства, директора и главного редактора газеты, в котором, обходя редакции и здороваясь с сотрудниками, в самой темной комнатенке застал Иванича.
«Ты откуда здесь, Ле Бо?» – поразился Рочко (как товарищи по партии ласково называли этого когда-то громадного и красивого мужика), увидев Иванича, вырезающего заметки из тех нескольких иностранных газет, что с большим опозданием приходили в Сараево. То ли министр думал, что Иванич давно уже умер, то ли он на Голом острове или навсегда остался в Париже – точно не известно, но говорят, что он и в самом деле был испуган, как будто столкнулся с привидением. Легенда гласит, что Иванич даже не шевельнулся на своем стуле, даже не поднял свой лисий, опасный взгляд на высокого гостя, спокойно продолжив свою работу, только процедил сквозь зубы что-то по-французски (утверждали одни), в то время как другие клялись детьми, что на вопрос: «Ты откуда здесь, Ле Бо?», он ответил: «А не один ли тебе хуй?».
Одно точно: министр тут же приказал всем выйти из комнатки и оставить их наедине. Коридор перед закрытыми дверями, из-за которых не доносилось ни звука, был битком набит местными функционерами и редакторами, которые простояли так почти час. Чолакович потребовал, чтобы им принесли кофе, а через некоторое время и коньяк. Когда смертельно перепуганный официант с подносом в трясущихся руках вышел пятясь из комнаты, все бросились расспрашивать его, о чем там эти двое говорят. Тот только пожал плечами и пробормотал, что говорят они на каком-то не знакомом ему языке, похоже, на русском.
Чолакович вышел из комнатенки Иванича один, пригнув голову, чтобы не удариться о притолоку, и продолжил обход здания, но сделался заметно рассеян и даже, похоже, не слушал панический рассказ директора о прогрессе средств массовой информации в республике.
После этого случая никто не трогал Иванича, несмотря на то, что он занимался в газете таким незначительным делом; его побаивались, обходили стороной, догадываясь, что над ним парит, оберегая его, какая-то страшная тайна. Казалось, они точно так же отнеслись бы и к Сизифу, если бы вдруг обнаружили, что он в «Освобождении» каждый день толкает вверх по лестнице огромный роль газетной бумаги.
Ни в редакции, ни в городе у Иванича не было друзей, и, похоже, он не желал их иметь. Он жил как одинокий волк, вне стаи, запертой в клетку этого города.
Он был из тех редких людей, которых окружает некая непробиваемая аура, – наверное, он был самодостаточен, а все долетающее до него из внешнего мира мешало спокойному течению его жизни. Никогда прежде я не встречал человека, который бы так спокойно сидел в одиночестве за ресторанным столиком, будто вокруг нет других людей, а окружает его только бездонная пучина времени. Эта аура иногда становилась почти видимой, хотя трудно было распознать, где она граничит с вечным облаком табачного дыма, окутывавшим Иванича. Он никогда не гасил сигареты, прикуривая одну от другой длинными пальцами пианиста, пожелтевшими от никотина. Он курил самые дешевые, «Драву» или «Ибар», потому что их черный табак с острым запахом и вкусом (если у табака есть вкус, а он у него есть) напоминал ему святой дым французских «Голуаз» или «Житан». Он курил из янтарного мундштука, но, в отличие от дядюшки Ника, например, чей вишневый чубук напоминал скорее хорошую дубинку, мундштук Иванича весьма походил на пижонские изделия, которыми любили пользоваться деятели Коминтерна. Во всем прочем это был самый приличный человек, которого я встречал в своей жизни. Есть люди с абсолютным слухом; Иванич же обладал абсолютным вкусом и врожденной элегантностью. В отличие от моих стариков, которые одевались небрежно, носили потертые, мятые, в пятнах костюмы с лоснящимися лацканами и отвисшими карманами, а плечи их вечно были усыпаны перхотью, он был всегда безукоризненно одет. Его пиджак из материала под названием «рыбья кость», купленный за гроши где-то на распродаже, выглядел на нем как самый дорогой твид «харрис», а рубашка в мелкую клеточку, которую даже знаток мог запросто спутать с дорогущей моделью «Мак Грегор», была извлечена из пыльной коробки заброшенной нищенской лавки, где покоилась рядом с бутылками керосина, топорами, тетрадками в косую линейку и фартуками для профсоюзных поварих. Едва выглядывающий из нагрудного карманчика пиджака (pochette) платочек придавал его внешнему виду утонченную элегантность парижского бонвивана. В те времена нищеты и безденежья, когда невозможно было отыскать более-менее пристойную обувь людям куда более имущим, нежели Иванич, его дешевые высокие ботинки на шнурках из вывернутой свиной кожи выглядели так, будто их сшили из тончайшей замши. При всем том казалось, что этот одинокий шестидесятилетний пижон как будто вовсе не обращает никакого внимания на свой внешний вид. Одевался он просто, походя, прихватив ту или иную вещь, точно как художник, почти не глядя на палитру, безошибочно находит нужные нюансы и угадывает гармонию. Дешевые рабочие брюки из серого, будто провощенного полотна, падали на его башмаки песочного цвета куда красивее и элегантнее, чем если бы они были кашемировыми. Аккуратно и коротко стриженные седые волосы, напоминающие одежную щетку, окружали его гармонично вылепленное лицо со строгим солдатским выражением, чуть длинноватым носом, подбородком и слегка вытянутым черепом – лицо, словно появившееся на свет вовсе не в этой несчастной Боснии, где затылки чаще всего плоские, а выступающие скулы широкие и твердые; казалось, он прибыл с Британских островов.
Иванич никогда не садился за стол к моим старикам. Похоже, они не были симпатичны ему, да и они, будучи остатками города Сараево, не верили ему. Он держался своего уголка в «Двух волах», а при встречах они без единого слова обменивались полупоклонами.
Старики считали, что чтение иностранных газет в таком месте, как «Два вола», выглядит достаточно претенциозно (хотя они не заходили в оценке настолько далеко, чтобы назвать его снобистским). На самом же деле их раздражало то, что он, решая кроссворды на французском языке, сам прокаженный, видел в них всего лишь обломки позавчерашнего мира, который он годы напролет страстно стремился разрушить. Теперь они были равны. Жизнь загнала их в эту сараевскую берлогу своими, только ей одной известными путями.
В месяце сафере 1176 (XII 1753) года три ночи между акшамом и яджией, в одно и то же время подряд случалось землетрясение. После чего год целый не переставая слышали каждый день и каждую ночь под землею удары частые, вроде как в бочку или в бубен колотят.
21 рамазана (18.1.1770) или осьмого сечня, в 30-й день Земхери, в пятницу вечером появилась с севера краснота, которая все аж до восьми в ночь то показывалась, то опять пряталась. После показавшись, оставалось там белое светило. И пусть известно всем будет, что не все небо покраснело, а только краснота была та словно кровь.
Два раза видели, как летит метеор, весь сверкающий такой. (1772)
28. VIII.1769 появилась звезда хвостатая невдалеке от пути Млечного, в созвездье Девы, и в день смерти принцессы Мирьям. След ее рос каждый вечер. Появлялась она в 3–4 часа, а потом все до самой зари видна была.
Мы с Бель Ами привыкли в августовскую жару уходить глубоко в каньон Миляцки, туда, где река, в отличие от того участка, что протекает через город, быстра и прозрачна настолько, что ее можно пить. Мы брали с собой поесть и какую-нибудь книгу, которую читали по очереди вслух. Однажды, отправившись туда в очередной раз, мы встретили Веру, которая, скучая, сидела на ступенях Ратуши и лизала мороженое, стекавшее по пальцам. Она явно не знала, чем занять себя. Лето было скучным и жарким. Мы пригласили отправиться с нами в каньон искупаться. Прежде чем согласиться, она некоторое время отнекивалась, ссылаясь на то, что у нее нет купальника. Мы, впрочем, тоже не надевали плавок: на этом недоступном участке реки, кроме заплутавшей овцы, спустившейся с горы напиться воды, не встречалось ни одной живой души. Кто, кроме нас, сможет ее увидеть?
Сначала мы шли через Бентбашу до турецкого Козьего моста, а когда дорога свернула в горы, сошли на тропинку, идущую вдоль берега; когда и она исчезла в низкорослом кустарнике, мы направились вверх по течению, перепрыгивая с камня на камень или бредя по мелководью. Она подняла подол длинного полотняного платья песочного цвета, заткнула его за поясок и быстро, словно коза, запрыгала вслед за нами. Мы шли уже не менее двух часов, пробираясь к нашему любимому месту – маленькому водопаду, который обрушивался со скалы в небольшой омут, образовавшийся, видимо, после какого-то давнего потопа.
Мы разделись и бросились в ледяную воду, чтобы освежиться, а она смотрела на нас с берега, никак не решаясь присоединиться. Вера согласилась только тогда, когда Бель Ами поклялся, что мы зажмурим глаза, пока она не разденется и не войдет в воду. Никогда женщины не выглядят так соблазнительно, как ступая босыми ногами по крутому берегу перед тем, как войти в воду. Прикрыв только один глаз, я смотрел на ее смуглое бесполое тело, без женских округлостей и грудей, только с двумя большими набухшими сосками темного цвета.
Потом мы лежали голые в мелкой тонкой речной гальке, принявшей форму наших тел, как в трех каменных креслах, с Верой между нами, обсыхая на все сильнее припекающем солнце.
Любопытно, но, еще минуту назад маленькое, Верино тело теперь, находясь совсем рядом, внезапно выросло до невообразимых размеров. Эта живая, дышащая живописная плоть молочного цвета и ее всхолмления пугала возможностями, которые, похоже, таились в ней. И тем не менее казалось, что эротика была самым последним делом, которое могло прийти нам в головы, до тех пор, пока Бель Ами не коснулся пальцами небольшого шрама, терявшегося во мху меж ее ногами, и не спросил, где она так порезалась. Она не убрала его руку, хотя я заметил, как легкая дрожь пробежала по животу, когда пальцы Бель Ами легли на самый краешек кудрявой чащи. Она сказала, что это после операции аппендицита, и поцеловала меня в щеку, словно прося защиты. В ответ я украсил ее пупок маленьким белым голышом. Она отвернулась и легла на живот; на ее спине я увидел семь странно расположенных в форме подковы маленьких родинок.
«Кто-то мне сказал как-то, что так выглядит созвездие Северная Корона…» – сказала она, зарываясь в гальку.
Я и сейчас вижу эти три гибких тела на берегу быстрой хрустальной речки, берущей исток где-то там, над нами, в самом сердце горы, и ледяной поток воды, рушащийся с гладкой скалы, барабанящий по нашей тугой, крепкой молодой коже. И все это время мы страстно, от всего сердца желали поменять ее на болезненную хлорированную воду голливудских бассейнов.
Потом мы, голые, ели котлеты, зажав их между двумя кусками хлеба, и перезрелые помидоры, сок которых стекал по нашим подбородкам, но соль мы забыли взять. Мы выпили бутылку белого вина, охладив ее в реке до такой степени, что стекло запотело, и, опоясавшись листьями папоротника, танцевали воинственные индейские танцы, вопя во весь голос и носясь по ивняку, окружавшему наше местечко.
Сидя на берегу, мы вслух, меняясь, читали взятую с собой книгу. Мы страстно глотали каждую строчку произведения Ива Салго в рваной бумажной обложке, с засаленными и мятыми от многократного чтения страницами, под копеечным названием «Джеймс Дин, или Боль жизни», которая в те годы была чем-то вроде жития юного святого. Чтение последнего отрывка досталось Вере, которая так и не смогла закончить его, потому что крупные слезы катились по ее щекам и падали на страничку. Она едва смогла вымолвить девиз Джеймса Дина: «Живи быстро, умри молодым и стань красивым трупом».
Я слизнул одну из ее слезинок, она была соленой. Мы молча лежали до тех пор, пока прохладная тень от горы не укрыла наши тела.
Одевшись, мы отправились вниз по течению, по очереди перенося на плечах маленькую подружку, которая была не тяжелее рюкзака, через огромные скользкие валуны и глубокие протоки, поскольку она, поскользнувшись на водорослях, вывихнула ногу.
И хотя мне было далеко до того, чтобы влюбиться в нее, тем не менее я ощутил легкое дыхание ревности, когда этим же вечером в привычное время ни Вера, ни Бель Ами не появились за нашим столом в «Двух волах».
Однажды я направился в «Освобождение» к Вере, чтобы перепечатать рукопись нового рассказа. На этот раз повествование было не о Бель Ами, а обо мне самом. Кто-то мудро заметил, что писателем становятся со второго произведения. Мало ли кто соберется написать один рассказ (а может быть, просто интересное письмо), но только вторая вещь становится верным признаком того, что прекрасная писательская болезнь достигла апогея и превратилась в жизненное призвание.
В машинописном бюро мне сказали, что мою подружку перевели в другую комнату. Я нашел этот кабинет в глубине коридора и постучал в двери, а поскольку ответа не последовало, я вошел внутрь.
«Кого ищешь?» – донесся до меня глубокий мужской голос.
Я испуганно оглянулся и заметил Иванича, сидевшего у стола за дверью, точно так, как он сидел в «Двух волах».
«Веру…» – неуверенно пробормотал я.
«Веру? – повторил он. – Она что, твоя девушка?»
«Да нет, – ответил я, придя немного в себя. – Она мне рукописи переписывает».
«Рукописи? – повторил он как следователь, прикуривая от спички, опасным светом осветившей его зеленые глаза. – Ты что, писатель?»
«Пытаюсь им стать! – произнес я, и добавил: – А я вас знаю, по «Двум волам»…
«И я тебя там вижу иной раз… – сказал он, глубоко затянувшись. – С теми стариками сидишь?»
«Иногда…» – ответил я.
«Дружба со стариками не идет на пользу молодым людям. Они питаются чужой молодостью…»
«А мне они нравятся…» – ответил я.
«Значит, будущий писатель! – с сарказмом произнес он, приглашая жестом присесть на свободный стул рядом с ним – Кто сказал, что все современные прозаики учились у Чехова и Мопассана?»
«Тот самый, что всех русских писателей вытряхнул из рукава «Шинели» Гоголя – или кто-то другой?» – ответил я.
Он какое-то время задумчиво молчал, укрывшись за столом, заваленным пачками газет, словно в окопе за бруствером. Пока мы так молча сидели, ранний осенний полдень лениво сочился в комнату, словно тонкая сивая прядь сараевской скуки.
«А почему юный джентльмен не перестукивает свои произведения на машинке сам?»
«Потому что у меня ее нет, – признался я – Дай печатать я не умею»
«А ты знаешь, сколько раз Софья Толстая переписала от руки «Войну и мир»?» – неожиданно спросил он.
«Знаю, – отвечал я, – семь раз».
«А он все равно сбежал от нее в восемьдесят два года и сдох, как собака, на маленькой железнодорожной станции Астапово, в доме дежурного. Наверное, она в самом деле здорово попортила ему жизнь? – произнес он, грациозно, как ленивая кошка, вставая из-за стола. – Иди сюда!» – приказал он голосом, не терпящим возражения. И хотя я много раз видел его в «Двух волах», тембр его голоса впервые услышал в тот день. Мелодичный баритон, на самой грани хрипотцы старых парижских шансонье.
Он посадил меня за большую пишущую машинку «Континенталь» на Верином столе, вставил в каретку чистый лист бумаги и приказал: «Печатай!»
И я начал.
В тот осенний полдень я навсегда утратил пульс – его заменил монотонный стук машинки и короткие звоночки, отмечающие начало новой строки. Иванич был строгим, но терпеливым учителем. Он научил меня, какую клавишу надо нажать, чтобы напечатать заглавную букву, как проворачивать валик и как перематывать ленту, как прокладывать листы копиркой и чистить забитые литеры… Я сидел словно завороженный и выстукивал букву за буквой, слово за словом, а он, стоя, глазел сквозь окно на Главную улицу или разваливался в кресле, закинув ноги на стол, пуская дым кольцами. Машинка отстукивала время, прерываясь только при бое колоколов Кафедрального собора. Он позволил мне приходить к нему в редакцию в любое послеобеденное время, когда в здании почти никого нет, и я стал являться туда почти каждый день.
Современному молодому человеку трудно представить, что в годы, о которых я рассказываю, значила для нас, начинающих писателей, пишущая машинка. Это была страшная редкость, и хранились они обычно в хорошо охраняемых, недоступных канцеляриях, укрытые, словно священные коровы, попонами. Мы искали пути и способы, как подобраться к тем, кто обладал ими, умоляя их отпечатать переписанные печатными буквами страницы наших рассказов в тетрадках и блокнотах, и стоило только увидать собственные фразы аккуратно отпечатанными, как нам начинало казаться, что мы уже вошли в круг серьезных писателей. Тем самым рассказы приобретали некую официальность, они словно уже проделали половину пути к типографским машинам. У меня до сих пор перед глазами стоит фотография Эрнеста Хемингуэя с обложки «Life», который лежал на столе Иванича; он, положив ее на колени, пишет на маленькой, невероятно тонкой портативной машинке, которая не имела ничего общего с огромным, угловатым «Континенталем», на котором я учился печатать. Я не мог поверить, что на свете существует нечто подобное.
Иванич не только учил меня печатать; от него я узнал, как должна выглядеть настоящая журналистская страница (титул, как ее называли), что на ней следует оставлять широкие поля и максимум двадцать восемь строчек, чтобы редактор мог вычитать ее и понять, сколько места займет в газете текст. Он презирал мелованную бумагу и считал расточительством печатание на отбеленной, пользуясь исключительно желтоватой толстой газетной бумагой, которой обычно полно в редакциях. Он презирал печатающих всеми десятью пальцами, заявляя, что так работают только машинистки или любители, окончившие какие-то курсы машинописи, но только не журналисты и не писатели. Они, по его словам, всегда пишут только двумя пальцами, потому что именно в таком ритме и с такой скоростью придумываются и формируются предложения.
В первые недели этих странных курсов с одним преподавателем и одним учеником я перепечатывал написанное собственной рукой. И почти не заметил, как стал новые рассказы печатать прямо на машинке.
Иванич время от времени якобы рассеянно брал отпечатанную страничку, вытаскивал из кармана очки и пробегал взглядом по строчкам. Он никогда ничего не говорил о прочитанном, только указывал мне на то, что поля маловаты или что слово, которое должно быть набрано курсивом, следует подчеркивать.
Так протекали дни в этой тихой временной дружбе с человеком, который никогда не говорил много, и я даже не заметил, насколько он стал мне нужен. Однажды он вынул три странички из моей рукописи, надел очки и стал что-то помечать в них. Когда он вернул их мне, я обнаружил, что он вписал заголовок и подзаголовок, а также вычеркнул в двух местах несколько строчек. Он скрепил эти страницы скрепкой и послал меня этажом выше к редактору отдела культуры, с которым у него были хорошие отношения, и коротко велел мне передать ему эти листки. Наверное, пока я поднимался по лестнице, он позвонил, поскольку тот молча принял листки, что-то написал на них и передал помощнику.
На следующей неделе я увидел свое имя напечатанным под газетным текстом, отпечатанным на видном месте. И так я, ведомый опытной рукой старого журналистского волка, начал незаметно писать в газету.
В основном это были наброски, не больше двух машинописных страниц, о странных людях, с которыми я познакомился на Башчаршие, о встречах на этом огромном восточном базаре, о городских сумасшедших, антикварах, кофейнях и буфетах, в которых когда-то сиживали старые сараевские, уже забытые писатели, о названиях и переименованиях улиц, об истории двух знаменитых местных отелей, «Европы» и «Централа», их владельцах и знаменитых постояльцах.
Некоторое время спустя я стал кем-то вроде местной молодой надежды журналистики, зарабатывая почти столько же, сколько получал скромный Иванич.
«Журналистика – хорошее дело для писателя, – сказал он мне однажды (вероятно, цитируя Хемингуэя), – но только если ее вовремя бросить».
Я не послушался его.
Я прекращал печатать с наступлением сумерек. Свет мы не включали. Выходили из здания мимо играющих в шахматы вахтеров, и я провожал его до обшарпанного дома, в котором он жил, на одной из боковых улиц у отеля «Европа». Он никогда не приглашал меня к себе, хотя однажды показал свое окно в мансарде, сказав, что оттуда открывается красивый вид на крыши Башчаршии.
Он во всем принадлежал к того рода одиноким людям, которые всегда застегнуты с ног до головы, будто они в гостях или словно с минуты на минуту ожидают их прихода. Опрятно одетый, в туго повязанном галстуке, эдакий человек в футляре, Иванич, похоже, был в гостях у собственной жизни.
Снимал угол в родном городе.
Каждый день он проходил по улице Штросмайера, что заканчивается красивым Кафедральным собором из темного камня, мимо дома, в котором он родился и провел детство во втором этаже над книжным магазином Студички, который увековечил Иво Андрич в рассказах о своей молодости. Это серое австро-венгерское здание, построенное в начале века в стиле неоклассицизма с литыми украшениями над окнами, населяли какие-то неизвестные жильцы, поскольку дом, как и все прочее на этой красивой и приличной улице, государство отобрало у владельцев сразу после войны. Не знаю, хотел ли он войти туда, ступил ли он когда-нибудь внутрь, в темный подъезд, за тяжелые дубовые двери, украшенные маской из кованого железа, а теперь разломанные, с побитыми стеклами и потемневшими ручками и петлями, которые он помнил еще сияющими гладкостью полированной бронзы. Чувствовал ли он, касаясь перил на лестнице, легким поворотом ведущей в его некогда просторную, а ныне поделенную и загубленную квартиру – запах старых стен, особый сероватый свет, впервые в жизни увиденный им, тихий шепот душ, некогда населявших дом?.. Возникали в его душе какие-нибудь чувства вообще, или он проходил мимо фасада родительского дома не оборачиваясь, как профессиональный революционер, привыкший терять, который разрушал и покидал не только дома, но целые города и страны?
Спустя очень много лет я тоже проходил мимо своих бывших жилищ, в которых теперь проживали какие-то абсолютно чужие люди или, что еще хуже, некогда близкие, к которым я никогда уже не смогу войти. За ставнями и занавесками все еще оставалась, как мне казалось, моя бывшая жизнь, но теперь уже без меня; ощущение, схожее с тем, как вы звоните кому-то по телефону: его нет, но вы вслушиваетесь в телефонные гудки и представляете, как он ковыляет мимо стен со знакомыми вам обоями, которых вы столько раз касались пальцами, мимо дивана, на котором вы когда-то занимались любовью или дремали после обеда, по коврам, застилающим комнаты, сквозь хорошо знакомые запахи, ковыляет себе к столику с непрерывно звонящим телефоном, и вы летите вслед за длинными гудками, будто ведомые нитью Ариадны.
В самой глубине скупо и сумрачно освещенной корчмы «Два вола», наполненной застоявшимся запахом оливкового масла, пряностей и табачного дыма, рядом с кухней, через раздаточное окно которой, как из ада, дымясь, появлялись блюда с едой, располагался туалет с двумя кабинками: для дам и господ. Дамы в «Два вола» заглядывали достаточно редко, так что господа по нужде, не особо стесняясь, пользовались также толчком, предназначенным для дам. Туалет охраняла, чистила и заботилась о нем и о клиентах госпожа Роза Росси, некогда прекрасная и пользовавшаяся дурной славой Мадам – владелица знаменитого сараевского публичного дома «Титаник», бывшая танцовщица из Триеста, по прихоти судьбы застрявшая в этом городе после нескольких неудачных браков и банкротства собственного борделя, в который она вложила все свои прелести и сбережения. Некая болезненно ревнивая сараевская супруга подожгла плюшевое гнездо порока, и от него ничего не осталось, кроме рассказов стариков из «Двух волов» о том, как из горящего дома на Набережной горящие бляди в пылающих неглиже и боа сигали в мелкую ледяную воду Миляцки.
Ровесница стариков, еженощно видевшая, как они, шатаясь, входят в ее маленькое царство, отдающее аммиаком и каким-то дезинфицирующим средством с резким запахом, Мадам Роза была для них то же самое, что для Дориана Грея его портрет, спрятанный на чердаке. Некоторые из них были в свое время ее любовниками, а не бывшие таковыми наверняка были тайно влюблены в эту некогда роскошную женщину с непокорной гривой рыжих волос, которая гордо катила в открытом «плимуте» по сараевским улицам, украшенная драгоценностями и укутанная в серебристый лисий мех. Она была тайной эротической мечтой многих сараевских поколений, и вот в конце концов жизнь выплюнула ее, постаревшую и сморщенную, в распоследний туалет одной из беднейших городских забегаловок. В мерцающем голубоватом свете неоновой трубки Роза, казалось, была самой Госпожой Смертью, неподвижно, в терпеливом ожидании сидящей за столиком, на котором рядом со стопкой аккуратно нарезанных старых газет (туалетная бумага в то время была редкостью) стояла тарелочка, в которую бросали мелочь. Последние свидетели ее былой красоты и порока проходили облегчаться мимо Мадам, неся смерть в своих отекших сердцах, начинающихся простатитах, недержащих мочевых пузырях и зашлакованных артериях, все еще увлеченные, словно за ночь постаревшие мальчишки, которые даже и не заметили, как превратились в веселых стариков.
Один раз я стоял у писсуара рядом с бывшим великим дамским угодником, Хамзой Хумой, пока тот, закашлявшись, пытался достать из расстегнутой ширинки свой инструмент. Он вполголоса разговаривал с ним, не замечая меня, прикрытого ржавой жестяной перегородкой:
«Ну, в чем дело? Что это ты вздумал прятаться? – причмокивая искусственной челюстью, бормотал он. – Чего это ты испугался? А ну давай вылезай! Ебать не будем, только поссым!»
Они не любили старую клозет-фрау, потому что она была наглядным доказательством старения, безысходности и смерти, а она как будто наслаждалась, понимая это. Выпив лишний стаканчик красного, она могла схватить кого-то из них за полу пиджака и хриплым голосом состарившейся ведьмы спросить: «Господи, да неужто это ты, доктор? Не ты ли это в двадцать втором ебал меня в «Централе»?», на что тот, ужаснувшись, пулей вылетал из туалета. Потому они проходили мимо нее, не замечая, но она сидела тут, и самим своим существованием портила своим ровесникам наслаждение от скромных веселых пирушек за философским столом.
Мадам Роза потеряла все, что может в жизни потерять женщина: семью, молодость и свежесть кожи, дом и гардероб, но сумела сохранить только одно, что часто удается бывшим красавицам: удивительно густой, роскошный водопад волос, которые она любила распускать и которые, особенно со спины, дарили ей возможность выглядеть намного моложе. И только вплотную столкнувшись с ней, человек замечал, как низко пало ее лицо. Под водянисто-голубыми глазами повисли мешки величиной с небольшой кошелек. Темно-фиолетовая помада и круглые клипсы из дешевого сплава, когда-то украшавшие исполнительницу испанского фламенко, линялая шуба из искусственного меха и резиновые сапоги дополняли облик клозетной весталки, заточенной в холодный и сырой вестибюль смерти с белыми стенами, облицованными потрескавшимся кафелем, по которому вечно струилась вода. И все-таки в этом старом скрипучем пугале крылось какое-то странное женское веселье и кокетство, несмотря на пропасть нищеты, в которой она пребывала. Как будто сама ее фигура молча кричала миру, что она, несмотря ни на что, преодолеет все свои несчастья и переживет тех, кто заточил ее сюда.
Добрый шьор Анте лично приносил ей из кухни тарелки с рыбным бродетто или две-три оставшихся корюшки, не забывая при этом про стакан красного вина и краюху хлеба. Некоторые посетители специально угощали ее, потому как она, как никто другой в городе, умела читать будущее по кофейной гуще. Выпив кофе, они переворачивали чашку на блюдечко и через некоторое время, когда лишняя жидкость стекала, относили ее Мадам Розе, в туалетный предбанник, чтобы она прочитала судьбу. Но, даже увидев свой лик в возникшей на дне чашки «кляксе Роршаха», Госпожа Смерть никогда не говорила жертве правду о том, что с ней случится, и только витиеватыми фразами и тайными приемами извлекала из гущи на болезненный свет туалета увлекательные путешествия, натуральных блондинок и людей в мундирах, приносящих бодрые известия о выигрышах и везении.
Бель Ами она предрекла великое будущее и славу, а когда Вера отнесла ей в туалет перевернутую чашку, с ее дна стекало аж пять Эйфелевых башен.
20 темуза нынешнего года объявилась чума и в Сараево, поначалу на Вратнике, где зачумленный приехал из провинции Чабрич, сам она родом из Вратника, коий тут же и помер. Потом помер и брат его хаджи Сулейман Чабрич, жестянщик.
А после того чума появилась на Хриде, в Чаклу она те, Баньском Бриеге. По правде говоря, как чума появилась на Вратнике, так сначала перешла она в Сунбул-махалу, в Собачью махалу, потом в Кошево, Беркуши и Соук-колодец. Так что чума поначалу бродила вокруг города среди бедноты. Потому почтенные горожане увидели и решили, что их-то уж чума и не тронет. Немочь эта свирепствовала целых три года, и в самом только городе Сараево погубила 15 тысяч душ. Хронограмма о прекращении этой чумы таковая: «Боже, Ты, который вместилище всей доброты мира, сохрани нас от всего того, чего мы боимся!». (1762)
И так вот, увлеченный новой своей игрушкой – пишущей машинкой, – я и не заметил, как мы медленно погрузились в зиму… Она пришла, как это обычно бывает в Сараево, без объявления, внезапно, покрыв город белизной, которая сразу сделала его невероятно красивым и чистым. С утра можно было увидеть горные вершины, сверкающие хрусталем на синем экране неба, но уже пополудни Сараево наливалось туманом и облаками, которые скрывали шпили Кафедрального собора, опускаясь чуть ли не на тротуар; казалось, что они проникали в души прохожих. Плохо освещенный город превращался в забитое местечко на краю света – снега, еще вчера такие белые и нежные, чернели от дыма, гари и грязного тумана, превращались в мерзкую кашу – все это выглядело абсолютно безутешно и тоскливо. Все возможные выходы были перекрыты.
Три дня я ходил в «Освобождение», но на проходной мне сказали, что Иванич на работу не выходил. Не ужинал он и в «Двух волах». Обеспокоившись, на четвертый день я решил навестить его. Я поднялся по ледяной лестничной клетке с облупленными стенами; ступени по случаю первого снега посыпали золой. На дверях последнего этажа, ведущих в мансарду, были прикреплены таблички с совсем другими, незнакомыми фамилиями. Я позвонил наугад, и какая-то женщина указала на неприметную дверь в углу, без таблички, и я постучал. Иванич открыл мне. Он был в грязной нижней рубахе с длинными рукавами, заросший трехдневной, с сильной проседью щетиной. Зеленые глаза его налились кровью, а худые голые ноги торчали из коротковатых штанов полосатой пижамы, напоминавшей каторжную одежку. Его трясла лихорадка, а по лицу текли ручейки пота. Он вернулся в скрипучую железную кровать и укрылся серым солдатским одеялом, набросив сверху зимнее пальто. В этой маленькой, некогда явно девичьей комнате, в которой визитеру нельзя было даже толком повернуться, был странно высокий, скошенный потолок. Человек ощущал себя в ней как на дне колодца. Комната была настолько узкой, что помимо кровати в ней не мог поместиться даже шкаф, так что костюмы Иванича на плечиках, словно семья привидений, висели на металлическом пруте вроде тех, на которых выбивают ковры; одновременно прут этот, похоже, удерживал две готовых рухнуть стены. Собственно говоря, мой учитель жил в дымовой трубе, из которой и вправду открывался восхитительный вид на крыши медресе, мечети и минареты, напоминающие перевернутые сосульки, обращенные в небо. Лед, туман и дым.
Полубеспамятного Иванича трясла лихорадка в этой комнатенке, отдающей запахом логова старого волка, табака и пожелтевших газет, которые пачками валялись всюду. Единственным источником тепла была постоянно включенная электрическая плитка, на которой он, как было заметно по чашкам и грязной джезве, не готовил ничего, кроме кофе. На столике у изголовья, рядом с окаменевшими огрызками хлеба и пустой банкой из-под сардин, стояла в рамке фотография молоденькой белокурой девушки, на которой наискосок было написано: «Avec amour, pour mon papa, Margot, Paris». Я в ту же секунду влюбился в это блондинистое личико из фильма «Марианна моей молодости», но Иванич сразу повернул фотографию к стене и укрылся с головой. В комнате был и старинный умывальник, покрытый грязно-желтыми пятнами плесени, а рваная занавеска отделяла комнату от миниатюрного клозета.
Только теперь мне стало ясно, почему он целыми днями сидел в редакции, ожидая ужина в «Двух волах». Конечно, ему просто негде было быть! Он не обращал на меня внимания, не произнес ни слова. Я выбежал из ледяной камеры, домчался до дома и взял свой калорифер. На кухне украл кусок вареной курицы, немного жареной картошки и вернулся в его мансарду, набив карманы яйцами, и, включив прежде всего калорифер, сервировал обед, воспользовавшись вместо подноса пачкой старых газет, и он съел его с мукой и отвращением.
Все последующие дни я как угорелый носился вверх-вниз по лестнице, покупая еду и лекарства, в основном аспирин и чай, который я заваривал в облупленной миске, предварительно поджарив в ней яичницу: никакой другой посуды у него не было. В «Двух волах» я украл солонку, нож, вилку и ложку. Лимоны, узнав, кому они нужны, достал по своим каналам шьор Анте. В те годы южные фрукты были для нас недостижимой мечтой.
Дома, в кладовке, я нашел забытые судки – три алюминиевые мисочки, сквозь ручки которых проходила металлическая скоба, так что их можно было поставить одну на другую и нести куда угодно. Посудина осталась с того времени, когда пищу выдавали из общего котла. Так что я мог каждый день приносить Иваничу обед и ужин из экспресс-ресторана. Наконец я почувствовал, что кому-то нужен.
Он постепенно выходил из болезни, поднимался в кровати и начал потихоньку говорить, даже побрился перед маленьким треснувшим зеркалом, висящим над краном. Он рассказывал о парижских днях и своих довоенных друзьях, именами которых сегодня были названы главные сараевские улицы, а их бюсты, отлитые в бронзе, стояли на центральных площадях и в парках. Из него прямо-таки хлынул годами подавляемый поток монологов: имена, лица, даты и города… Он рассказывал мне о войне в Испании, о том, как их предали русские, как НКВД расстрелял самых храбрых. Всех испанских добровольцев, вернувшихся в Советский Союз, ликвидировали, а многие наши земляки, агенты тайной полиции Сталина, продолжили свою работу у нас. Он назвал имя человека, застрелившего Благое Паровича, после чего для доказательства исполнения приказа сфотографировал его тело на испанской земле, как будто его убили во время атаки. Этот человек жив, все еще при власти и пользуется уважением, Иванич часто встречал его на улице, носящей имя Паровича. В его исповеди метались молодые террористы, профессиональные ликвидаторы из Коминтерна, благородные дамы из высшего белградского общества доставляли секретную почту и золотые слитки для нужд партии. Когда дом одной из них, легендарной Госпожи, разрушила бомба, золото во время пожара расплавилось и превратилось в большой тяжеленный комок. В первый же день после освобождения она отнесла его маршалу Тито. Он и с ним был знаком; рассказал, что тот любил перстни с черными камнями, хорошие белые костюмы, пользовался самыми дорогими французскими духами и представлялся как инженер Краус, хотя был обыкновенным учеником слесаря, и звание инженера так и осталось для него неосуществленной мечтой. Иванич, помимо всего прочего, был личным другом Мустафы Голубича (он звал его Муйка) и помогал ему убивать предателей из Коминтерна. За неделю, что длился его лихорадочный монолог, история, которую мы изучали в школе, была вывернута наизнанку, словно перчатки, она показала мне свои грязные руки.
Через две недели он вышел на работу, но теперь полностью изменился. Ему, похоже, было неприятно, что в минуты слабости он продемонстрировал грязное белье своей Партии.
Между тем я купил старенькую машинку марки «бисер», отечественного производства, так что в его помощи больше не нуждался.
Осенью меня призвали в армию, а когда я вернулся в Сараево, его больше не было ни в «Освобождении», ни в «Двух волах».
Никто не знал, куда он уехал. На дверях мансарды наконец-то появилось чье-то имя.
Кто-то говорил, что он вернулся в Париж и живет у дочери Марго (жена, говорят, к тому времени умерла), другие утверждали, что он умер, а третьи заявляли, что он на Кубе, работает на Фиделя Кастро.
Единственным человеком, не забывшим о нем, был мой отец, который так мне и не простил, что я забыл у Иванича калорифер и наши старые судки.
А я так и не сумел объяснить ему, что получил за этот хлам неизмеримо больше.
Остаток жизни я потратил на то, чтобы найти белокурую девушку, похожую на фотографию со столика Иванича, и жениться на ней, но так у меня ничего и не получилось. Я нашел ее в романе, но не в жизни.
К знаменитому мудрецу, шейху Фаикии, пришел один молодой ученый человек, чтобы тот научил его, в чем состоит жизнь. Шейх задумался и молвил: «Думай о смерти». Человек, который искал поучения, сказал: «.Я знаю, что такое смерть, дай мне какой-нибудь ответ получше». Фаикия на то: «Эх, если ты знаешь, что такое смерть, то к чему тебе поучение?»
Некоторое время спустя этот человек опять пришел к шейху и просил его опять что-нибудь ему посоветовать. Фаикия на это промолчал. Человек опять спросил у него совета, но тот и дальше упорно молчал. Когда тот его в конце концов спросил, почему он не дает ему совета, он ответил, что советует ему молчанием, что надо молчать и не говорить много.
Хронограмма о том такая:
«В молчании спасение». (1789)
Однажды ночью, поздним гнилым летом, после долгого сидения в «Двух волах», Вера попросила меня провести ее домой. Пока мы шли по мосту Гаврилы Принципа и пересекали Душанов парк, шелестя первыми опавшими листьями, предвещавшими конец лета, я все задавался вопросом, с чего бы это вдруг она попросила меня. Мы поднимались вдоль Быстрика по крутой улице, что ведет к отрогам Требевича, по которой я еще ребенком скатывался на санках и коньках. С горных вершин в город стекал запах сожженной травы, щекотавший ноздри. На вершине этой сараевской возвышенности словно призрак стояла, на манер старой декорации, заброшенная австро-венгерская железнодорожная станция, на запущенном прокопченном фасаде которой все еще было написано на кириллице и латинице: «САРАЕВО». Узкоколейка, что вела от Дубровника через Сараево на север, давно разобрана; рельсы поснимали, шпалы вытащили, кроме метров десяти пути перед станционным зданием. Над когда-то застекленными дверями, теперь забитыми досками, виднелись надписи: «Зал ожидания первого класса, второго и третьего класса», а на стенах я разглядел какие-то заржавевшие железные приспособления, шкивы, цепи и рычаги, предназначенные, вероятно, для поднятия железнодорожных сигналов.
Таким образом, я наконец-то узнал, где живет моя подружка, дочь последнего дежурного по станции, который тут закончил свою трудовую биографию вместе с паровозами, которые, как бегемоты на суше, застряли у старой станции. Теперь он занимался ремонтом настенных часов, которых становилось все меньше, чтобы хоть как-то заработать к своей более чем скромной пенсии. Лестница отдавала гарью старых локомотивов, а стены пропитались запахами нищенской кухни. Вера отворила двери на втором этаже и тихо велела мне снять сандалии, и мы босиком тронулись по длинному коридору, стараясь шагать нога в ногу, как будто идет один человек. «Это ты?» – донесся из-за каких-то дверей печальный женский голос, в мелодии которого звучало все человеческое страдание нашего мира. «Я, тетя, я это…» – откликнулась она, пока мы в темноте пробирались сквозь храп и тяжелое дыхание уснувших людей. Вера шепнула мне, что это старшая сестра ее отца и кроме бессонницы она страдает странной болезнью под названием «агорафобия»: она уже сорок лет не выходит из дома на воздух, потому что боится в первый же миг рассыпаться в прах и умереть. В самом конце коридора была ее комнатка, в которую мы вошли, не зажигая света. Его и так хватало этой месячной ночью: лунный свет, проникающий через распахнутое окно, заливал Верину смятую постель и столик, на котором я увидел несколько самоучителей французского, а также мой подарок, «Маленький принц» Экзюпери. Над столиком висел в рамке рисунок маленькой арапки с кольцом в носу работы Драшковича. Со стен комнаты-коробочки на меня смотрели герои наших долгих ночных разговоров: артисты, шансонье, писатели – вырезанные из газет и обложек дешевых цветных журналов, виды Парижа, и все это было наклеено вплотную, вырезка к вырезке, по всем свободным пространствам стен. Идя по пути наших ночных мечтаний, Вера, похоже, все это отыскивала, вырезала, собирала и наклеивала так, будто украшала нищую часовню, в которой ночами молила мир о том, чтобы он принял ее в свои объятия. Я заметил тут и плакат фильма с Джеймсом Дином «К востоку от рая», а также множество фотографий Жерара Филиппа, который был тогда в большой моде. Рядом с постелью существовал и старинный шкаф с фибровым чемоданом наверху. Вместо люстры с потолка свисал открытый гостиничный зонт “Georges Cing”, название которого было написано по окружности золотыми буквами. Трудно даже представить, с каким трудом ей удалось раздобыть эту прелесть!
«Отвернись!» – неожиданно приказала мне она серьезным голосом, не терпящим ослушания, и я отвернулся к открытому окну. В самом низу, на дне, лежало Сараево – светящееся покрывало. Как будто все светлячки мира опустились этой ночью в котловину; почти живая ткань трепетала светом, и оттуда доносился приглушенный шум. Где-то далеко раздавались свистки поездов, уходящих в ночь. Я стоял, завороженный видом светлой колыбели, в которой я был рожден и укачан, желая, словно Питер Пен, оттолкнуться от подоконника и взлететь над городом. Я слышал скрип дверец шкафа и шуршание упавшего к ее ногам полотняного платья; тут же мою поясницу охватили две голые руки, которые принялись расстегивать сначала ремень на брюках, а потом пуговицы на летней рубашке. Впервые в жизни меня раздевала женщина. Мы стояли нагие над мерцающим городом, поеживаясь от возбуждения и холодного ночного воздуха, и тут комнатку и ночь вокруг заброшенной станции, словно звонкий любовный гимн, наполнил полуночный бой многочисленных стенных часов, которые ремонтировал Верин отец. Больше мне ни разу не доводилось слушать композицию, равную по звучанию «Лету» Вивальди из «Четырех времен года»: часы последовательно запаздывали с боем, и те, что помельче, напоминающие звуком звон треугольников, плели Моцартовы кружева, опираясь на прочную основу тех, что были, похоже, размером побольше, которые, отзвонив, дольше наполняли воздух тяжелым гулом почти кафедральных колоколов. И в самом деле, в разгаре этой волшебной ночи часы Вериного отца разбудили большие колокола Кафедрального собора, а затем и более слабые, православные звуки колоколов старой церкви в Башчаршии.
Я ощутил на теле ее чувствительные влажные губы и выступающие зубки, которые опускались в поцелуе все ниже и ниже. Бестелесная, почти невесомая, трепещущий символ нежности, она оседлала мое опустившееся на пол тело. Я провалился во влагу, мрак и сладкую боль. В светлой раме окна я видел только ее, казалось, бесполое, ритмично движущееся тело. Я вспомнил, что сказал ей старый психиатр, доктор Неджо, впервые увидев ее за нашим столом: «Вы, моя дорогая, пурильный тип, пробуждающий у мужчин латентные гомосексуальные наклонности!».
Она стонала с закрытыми глазами, а по щекам стекали крупные слезы и капали мне на живот. Сквозь ее тихий стон из-за стены доносились глухие причитания сумасшедшей тетки: «Господи Боже мой, Господи Боже мой, Господи Боже мой…» Вера, похоже, в экстазе совсем не слышала их. Мы лежали голые на узкой постели, укрывшись болезненным сернистым лунным светом как одеялом, когда этот полуночный концерт стенных часов закончился, и после него остались только приглушенные стоны и причитания больной тетки в соседней комнате. Наши тела, скользкие от слез и пота, кроме пьянящего запаха молодой кожи несли привкус кровосмешения, редкостного чувства грешных брата и сестры, занявшихся любовью, и все это сложилось ночью в необыкновенную гамму.
Никогда не думал, что это свершится со мною впервые в жизни в таком жалком месте, пропахшем нищетой, в комнатке заброшенной железнодорожной станции Бистрик, над ржавыми рельсами, ведущими в никуда, что это случится таким вот образом и с такой девчонкой, которую я совсем не желал. Конечно, я, как и все прочие, мечтал о красавице с пышной грудью и длинными густыми волосами, хотя такие меня даже и не замечали, и вот на тебе, пришпоривая костистыми коленями, на мне скакала похожая на арапчонка девушка, с короткими кудрявыми волосами и плоской грудью. Я чувствовал под ладонями ребра ее тощего тела, а ключицы выпирали, словно каркас обтянутой кожей эскимосской лодки. И уж совсем мне в голову не приходило, что много лет спустя именно такой тип женщин войдет в моду, изгнав из нее пышные формы.
Есть в жизни такие старинные друзья, с которыми ты связан почти родственными чувствами, и вдруг в один прекрасный момент, наверняка определенный звездами, эти чувства разом переходят в греховный инцест, в страсть, которая не может сравниться даже с самыми горячими привычными увлечениями. Покров долгой дружбы и все табу трещат по швам – и рождается настоящее чудо, при чем я и присутствовал в ту давнюю ночь, хотя и не осознавал этого.
Вера опять велела мне закрыть глаза и засунула в маленький ящичек столика у окна свою детскую ладошку.
«Теперь можешь открыть», – сказала она, и на протянутой ладони я увидел два картонных билета, на который стояло: «Сараево – Париж». Только туда.
Два билета в Вавилон лежали на ее узкой нежной белой ладони. На что ей пришлось пойти, чтобы купить для нас эти билеты? Сколько всего она должна была перепечатать, сколько часов, дней и недель просидеть за «Континенталем», от чего ей пришлось отказаться, чтобы привезти нас в город нашей мечты?
Я почувствовал, как судорожно сжался низ желудка. Боязнь возможного путешествия парализовала меня. Я возжелал, чтобы все это исчезло, не повторялось, мне захотелось, чтобы все это свелось к эротическому предрассветному бреду, чтобы я оказался как можно дальше от этой постели, этой комнаты и этой девушки, в своей кровати, внизу, в городе! А она, прикурив нам две сигареты одновременно, спокойно, словно это уже было решенное, само собой разумеющееся дело, сказала, что наш поезд отправляется через десять дней, так что мне хватит времени, чтобы собраться.
«А на что мы там будем жить?» – с ужасом выдавил я.
«Что-нибудь придумаем… – сказала она хрипло – Разве все вы не говорили, что там найдется работа для всякого? Впрочем, у меня хватит на первое время для обоих, пока не найдем работу».
«Но у меня нет паспорта!»
«Сейчас их всем дают, – сказала она – Энвер сделает, ты ему нравишься! Мне он уже достал…»
Только теперь я понял значение несколько таинственных, неясных взглядов и тайных знаков, которыми они изредка обменивались за столом: их связывало то, на что я, увлеченный непрерывными монологами, не обращал особого внимания.
Пока она голая, дымя сигаретой, лежала на постели, я дрожащими пальцами натягивал одежду, стыдясь того, что, наверное, выгляжу смешно в широких брюках, из которых выглядывают тонкие худые ноги. Мне все никак не удавалось найти левую сандалию, спрятавшуюся под кроватью. Я и в самом деле умирал от страха, а вслух говорил, что надо все обдумать, что я еще плохо говорю по-французски, что мое искусство родилось и должно расцвети здесь, в этом городе, на этой почве, под этим небом, и чего только еще не наговорил, но – в любом случае я скоро приеду и мы будем жить вместе, только надо доделать кое-какие неотложные дела, закончить и продать кое-какие очерки про Сараево и Муллу Мустафу Башескию, которые с нетерпением ждут в журнале, а два билета в Париж все еще лежали на ладони левой руки, вытянутой на смятой простыне, молча обвиняя меня в трусости, которую я продемонстрировал в первой же серьезной стычке с жизнью.
Она молчала и курила, а когда я пробормотал: «Ну, ладно… Я пошел, увидимся завтра в «Двух волах!», она поднялась с ложа, чтобы проводить меня по длинному коридору. Она шла впереди меня голая, держа в пальцах сигарету, которая, догорая, мерцала как светлячок. Я попытался поцеловать ее, но она увернулась. Затянулась в последний раз, и догорающий огонек осветил лицо, которое я никогда не забуду – со смешанным выражением разочарования и презрения.
Я сбежал по скрипучей деревянной лестнице, пересек часть уцелевшего рельсового пути перед зданием станции и как на крыльях слетел вниз по Бистрику, нырнув в надежность опустевшего города и мещанской квартиры, в которой была моя кровать, безопасное логово трусливого беглеца, избегающего внезапных приключений.
Я убаюкивал себя, спасаясь от пропущенной возможности. Ну и пусть. Пусть все уедут в этот их Париж! Я еще покажу им, когда придет мой черед! Но мне ничуть не помогали неустанные повторения того, что искусство должно родиться именно здесь, а не в Париже, который только и делает, что ждет новых идей и новых оригинальных творцов, именно таких, как я. Разве не об этом писали все, даже сам Иво Андрич?
Но ничего не получалось. Все причины, которые я находил, не помогали мне избавиться от боязни отвращения, которое мне придется пережить завтра утром, когда я буду бриться, глядя на свое лицо в потемневшем зеркале ванной родительского дома, который я все еще не смел покинуть.
Душич, кривой и безумный. Скончался девяноста лет, согнувшись так, что едва ходил. С ним всегда мать его ходила. Ничего не понимал, но всегда улыбался. Кого бы не встретил, у каждого ногти на руке рассматривал. (1776)
Мустафа, алемдар, по прозванию Туфо, из Давуд-челебииной махалы, слесарь, курильщик страстный. Ловко замки без всякого ключа отворял, так что его с этой целью, чтобы лавки открыть, люди, замки потерявшие, звали и просили его двери отворить. (1774)
Белобородый Муло «Голубятник», портной, из 50-го джемата, бобыль; умер за филджаном кофе.
Сумасшедший дервиш Хасан, одевался в женские шелковые платья и постоянно твердивший «Аллах бир» (Бог един). У каждого, даже у детей, целовал руку и при этом говорил: «Беним кардасим» (Брат мой!). Стал он секбан, ушел на войну и погиб. Была в нем какая-то печаль. (1771).
Черноглазый портной Мустафа регулярно совершал намаз. Приписывали ему, что он педераст, и задирали его из-за какого-то парня, а потом и вовсе повесили. (1778).
За лучше всего освещенным столом, словно на сцене, каждую субботу регулярно усаживалась странная пара, напоминавшая Санчо Пансу и Дон Кихота: два знаменитых сараевских педика – полный Цангл и картавый худой Ян Ухерка.
Они и в самом деле являли живописную пару: Фриц Цангл, настройщик, был круглым старичком с розовой кожей, похожий на закатанный кнедлик со сливами, с незащипанными краями. Он всегда приходил раньше своего приятеля Ухерки, кукловода сараевского детского театра, и нервозно вертелся на стуле, то и дело поглядывая на карманные часы. Изредка он вытаскивал из внутреннего кармана пиджака пудреницу, открывал ее и, посмотревшись в зеркальце, аккуратно пудрил свое пухленькое личико, кокетничая с посетителями за соседним столиком.
«Сараево и в самом деле проклятый город! – воскликнул однажды старый Хамза – Стоит только человеку попудриться в кабаке, как его тут же объявляют педерастом!»
Когда он вставал из-за стола, чтобы представиться кому-нибудь, и произносил свою фамилию – Цангл, – в ней чудился звон бокалов. Этот потомок австрийских коммивояжеров из Граца, отец которого был знаменитым сараевским часовщиком и первым продавцом механических граммофонов, едва, говорят, сумел сохранить жизнь в апреле сорок пятого, когда партизаны освободили город. Арестовали его по двум весьма серьезным причинам: во-первых, его звали Фрицем, и, к тому же, во время оккупации он настраивал немцам рояли.
«Да послушайте же, я вас прошу, гос’дин комиссар! – говорят, сказал он кряжистому партизанскому офицеру, который вот-вот должен был отправить его во двор на расстрел. – Если бы я не настраивал эти инструменты, вы бы не нашли здесь ни одного приличного рояля! Все бы пропали! Альзо, откуда я знаю, что они были фашисты? Для меня это были просто рояли… Меня кормят мои десять пальцев и слух! Что мне было делать в лесу, если там нет роялей! Там у вас только гармошки да гитары, прошу прощения, а я их настраивать не умею!»
Но все-таки то, из-за чего он должен был пострадать – а именно рояль, – спасло несчастному Цанглу жизнь: в тюрьму как на крыльях влетел курьер и прямо с расстрела увез Фрица на штабном джипе в Кошево, на виллу коменданта города, чтобы настроить его жене рояль, предварительно захватив дома инструменты и камертон.
«Прекрасная вещь! – рассказывал потом Цангл. – «Бехштейн» тридцать второго года; Рубинштейн мог играть только на такой модели – счастье, что эти дикари не истопили его в камине!»
Унаследовав от своей матери-польки слух, а от отца – точность часовщика, Цангл, который не мог посвятить себя карьере пианиста из-за коротких и толстых, как сосиски, пальцев, стал самым знаменитым сараевским настройщиком роялей, изучив еще до войны в Загребе это редкое ремесло. Он никогда не прекращал дерзко и заносчиво носить шелковые рубашки и галстуки-бабочки ярких цветов и рисунков, несмотря на упреки и оскорбления, которым его подвергали на улице. Сараево не тот город, в котором носят бабочки.
«Нет герцеговинца, который бы верил в то, что Земля круглая, – говаривал обычно дядюшка Ника, с улыбкой глядя на парочку педиков, – и в то, что в мире есть пидоры! Убогий дом!»
Старинный, еще с довоенных времен приятель Цангла Ян Ухерка родился в сараевской железнодорожной колонии, где его отец, чех, машинист по профессии, получил небольшой домик из темного кирпича, за которым располагался сад с самыми красивыми розами в окрестностях. Он разводил пчел и, как все железнодорожники, держал козу санской породы.
Ухерка был чрезвычайно высок и костляв, на его лице выделялись толстые, несколько пухлые, чувствительные губы и довольно-таки выпуклые водянистые серые глаза, испещренные коричневыми крапинками. Как и многие другие рано облысевшие люди, он старался возместить недостаток волос, перераспределяя оставшиеся длинные пряди, перебрасывая их с места на место по голому желтоватому черепу, усыпанному темными пятнами. «Зачем вам столько волос, – укорял он Цангла, у которого были хотя и седые, но длинные волосы, – ведь у настройщика в этом нет никакой необходимости!»
В 1946 году его вместе с другими парнями из Сараево, занимавшимися гимнастикой, послали в Прагу на Всесокольский слет, и он остался в этом прекрасном городе, увлекшись совершенно неожиданно кукольным театром. Шесть-семь лет спустя, когда драма раскола Восточного блока несколько поутихла, он вернулся в родной город и устроился на работу в Кукольный театр, который его друг Цангл презирал больше всего в мире, в первую очередь из-за малолетних артистов, озвучивавших свинопасов и принцесс на ниточках. Цангл был очень ревнив и часто устраивал Ухерке бурные сцены прямо в «Двух волах», что его другу, похоже, очень нравилось. «Я слышал, вас опять видели с этой вашей заколдованной лягушкой!» – истерично шипел Цангл, если Ухерка, как часто бывало, опаздывал на ужин. Несмотря на близость, они всю жизнь обращались друг к другу на «вы».
«Вы становитесь просто невозможным! – услышал я однажды, как Ухерка обращается к Цанглу. – Вы просто никак не желаете стареть!»
Однажды вечером, ожидая друзей, я случайно завязал с ними разговор, и они пригласили меня выпить за их столиком. Цангл, конечно, ревновал меня к молодости, но не слишком: шестым чувством он догадывался, что я не являюсь апологетом их сладостного порока.
«У вас какие-то такие… э-э… такие пакостные глаза», – сказал он мне, ерзая на стуле и старательно намазывая губы гигиенической помадой, чтобы они ненароком не потрескались.
«Замечаю, что у вас есть склонность к художественной литературе, – обратился ко мне Ухерка, который, очевидно, прислушивался к нашим разговорам за соседним столом. – Как было бы хорошо, если бы вы написали что-нибудь для нашего кукольного театра! Нам больше никто не пишет. Вот я, например, уже в пятнадцатый раз ставлю «Серую Шейку»!»
Я обещал ему как-нибудь обязательно написать кукольную пьесу, и он каждый раз, встречая меня в «Двух волах», спрашивал, как идут дела. Я даже вынужден был придумать сказку о заколдованном озере, где русалки утаскивают на дно пастушка и танцуют с ним в их подводном русалочьем дворце. Он остается там, на дне, всего несколько минут, ровно столько, сколько может выдержать без воздуха, но, вынырнув, понимает, что исчезло не только его стадо, но и его село, и все прочее: нет полей, нет знакомого леса… Оказывается, что за эти несколько минут забав с русалками на Земле пролетело целых сто человеческих лет. И вот теперь здесь стоит какой-то город с неоновыми рекламами, светофорами и автоматами…
«Вы только представьте, – пересказывал я ненаписанную кукольную пьесу, – этот парень в тулупе из овечьей шкуры, с пастушьим посохом в руках и пестрой торбой через плечо, а вокруг него варьете, секс-шопы и дискотеки… Причем важнее всего, – объяснял я Ухерке, у которого от сильного возбуждения выкатились глаза, в то время как Цангл от скуки зевал во весь рот, – музыка к этой пьесе уже написана! Начинаете с пасторальных мотивов из «Лебединого озера» или «Жизели», а сто лет спустя идут Стравинский или Бела Барток…»
«И как все это, прошу прощения, все это заканчивается?»
– спросил рассеянно Цангл.
«Поскольку он не может принять наш мир, – рассказывал я, – пастух возвращается на берег озера и, чудом уклоняясь от катеров, буксирующих воднолыжников, вновь бросается в воду, чтобы найти русалочий дворец».
«Назовите ее «Ундина», – встрял внезапно очнувшийся Цангл, – только вы забыли про Дебюсси и его «Отблески на воде».
Я был единственным, кого принимали за всеми тремя столиками, не переносившими друг друга: сидел и со старыми философами, и с Иваничем, и с Цанглом и Ухеркой.
«Господи Боже мой, – жарко шептал мне на ухо Цангл, окатывая волнами тяжелого запаха болгарского розового масла, – что вас так тянет к этим затасканным старикам?»
Старики, в свою очередь, спрашивали меня, что я нахожу в дружбе с Иваничем, который для них был коминтерновским убийцей, а тот, в свою очередь, предостерегал меня опасаться педерастов, быть с ними внимательнее, потому что все они – существа женской природы, склонной к предательству и сплетням.
Невозможно было сидеть за тремя враждующими столами одновременно, так что мне пришлось выработать специальную стратегию: начало вечера я проводил с Иваничем, составляя ему за ужином общество, поскольку он являлся первым, после чего пересаживался за стол к старикам, посидев по дороге с Цанглом и Ухеркой, чтобы не оскорбить их чувства.
Иванич все это время, не реагируя на шум, спокойно решал кроссворды в «Фигаро», Цангл и Ухерка шепотом обменивались своими сладкими тайнами, угощая друг друга кусочками, наколотыми на вилки, тогда как старики вспоминали забытых любовниц Иво Андрича двадцатых годов, объясняя его последовавший позже всемирный успех именно их влиянием.
И сколько я не просиживал с Цанглом и Ухеркой, никак не мог понять, кто в этой связи играет пассивную, а кто активную роль, пока клозет-фрау Роза без тени сомнения не отправила на моих глазах Цангла в женский, а Ухерку в мужской туалет.
На мосту, что ведет от Гази-Хусрефбеговой медресе к Чаршии, я каждый день встречал молодого тощего оборванца, с лицом, идиотически искаженным каким-то неописуемым удовольствием. Сидя на асфальте, просунув босые ноги сквозь решетку перил, он бросал в Миляцку обрывки бумаги. Рядом с ним лежали аккуратно сложенные старые коробки, самые разные бумажки и мягкий картон; все это он спокойно рвал на кусочки и бросал с моста, уставясь в уносившую их быструю воду.
Жители Сараево, люди отзывчивой души, когда дело касалось городских сумасшедших, бросали рядом с ним мелочь, но он не обращал на них внимания, не благодарил и не собирал разбросанные монетки, полностью сосредоточившись на своих рваных бессловесных посланиях реке. Наутро рядом с ним оказывалась новая груда бумаги, которую он откуда-то притаскивал; к полудню она уменьшалась наполовину, а к закату он заканчивал ее без остатка и куда-то исчезал.
Иногда я, прислонившись к перилам, простаивал рядом с ним по целому часу, глядя на пляшущий полет обрывков бумаги, словно меня тоже увлек и загипнотизировал шумный ток реки и времени – зачарованный, я не мог ни сдвинуться с места, ни даже закурить сигарету. Он поглядывал на меня своими светлыми, застиранными глазами и сочувственно улыбался. Наверное, каким-то особенным чувством он догадывался, что меня тоже занимает течение времени, которое он отсчитывал полетом и падением своих бумажных минут, а я – заполнением их писаными словами. Кто знает?
Один кривой тощий христианин суфия появился в Сараеве и принялся лечить безумных и больных. Говорят, ловок он был в своем ремесле. Лечил водою какой-то и легкой пищей. Так, лечил он в запертой комнате одиннадцать дней безумного Хаджимусича, но не вылечил. (1777)
Ежедневно в полдень по Набережной проходила одинокая прекрасная женщина в черном, на самом пороге зрелости, с волосами, непонятно почему выкрашенными в белый цвет. Она шла медленно и задумчиво, всегда по одной и той же дорожке. У нее не было ни друзей, ни знакомых. Никто не знал, как ее зовут и как она оказалась в Сараеве, говорили только, что она – метресса известного городского врача, доктора Меркулова. У нее были карие мечтательные глаза, и мы еще детьми были влюблены в нее, и она посещала нас в ночных снах, возбуждая своим зрелым, белым и тяжелым телом.
В Сараево привели женщину из провинции, у которой от рождения не было руки, так что она ногами пряла и другие дела справляла. Увезли ее в Истамбул, чтобы там показать. (1750)
На углу узкой улочки недалеко от «Двух волов», недалеко от Маркалы, городского рынка, днями напролет пролёживали сараевские носильщики со своими длинными ручными тележками. Настоящие богатыри, они были похожи на постаревших Атлантов, несущих весь город на своих широких плечах, с которых свисали крепкие и широкие ремни. Про одного из них, некоего Али, настоящего великана с краснющим от пьянства носом, говорили, что он может в одиночку унести на третий этаж рояль. Они пили ракию прямо из бутылок, закусывая горячим, дымящимся на утреннем морозце черным хлебом, купленным в соседней пекарне. Они разрывали его здоровенными ручищами и макали в жестяные тарелки с топленым салом, приправленным солью и красным молотым перцем. Заедали это дело головками репчатого лука. Иногда, скуки ради, они схватывались друг с другом: казалось, земля дрожала под их богатырскими ногами во время борьбы. Время роялей давно прошло. Печально было смотреть, как они, будто в шутку, немного стесняясь, несли чьи-то рыночные закупки, картошку или два-три сетчатых мешка сладкого перца для заготовок на зиму.
Так проходили дни болезненной сараевской весны, в которые свирепствовали гриппы, вызванные неизвестными доселе вирусами, и как грибы разрасталась легочная эмфизема.
Астма пошла по всему городу. (1758)
Отныне и в наступающем 1763 году записывать буду покойных моих приятелей. Ничем пренебречь не дозволено. Каждый пусть о себе заботится, пусть поучение черпает и пусть о том помнит, что и он помрет.
Умерли два наших старика, правда, из тех, что реже прочих сиживали в «Двух волах», но и они нам были дороги. Профессор на пенсии Исаак, деревянный гроб которого мы по очереди на плечах поднимали на высокое и крутое еврейское кладбище над Ковачем, а также историк Идриз, на похороны которого мы не явились, потому что в тот день на Сараево обрушился страшный ливень, настоящий потоп, небывалый в истории города. Вздувшаяся Миляцка едва не снесла Дрвенин мост, который ведет к Женской гимназии. Ее течение набрало неожиданную скорость, а вода покраснела от земли, смытой с окрестных склонов.
Поднялась Миляцка и порушила плотину на Бендбаше и сотворила яму высотой в минарет, притащила много верб и потекла туда, куда прежде не затекала. Из города и большие и малые смотреть сбежались. Каждый сильно тому дивился и перепугались многие, когда вода вдруг с одного майдана крышу снесла, чьим хозяином кофейщик один был. Поднявшаяся вода великая и мельницу одну свалила в Касанском квартале, и несколько лавок в Казанджилуке. Весь квартал затопило, и крытые рынки водою налились. Вода до половины кровати поднялась. Потоп многий ущерб причинил и расходов много. Много собак потопло, а еще два человека смерть свою в воде нашли, один из которых сразу утоп, а другой позже номер. (1767)
«Эй, чей черед теперь пришел?» – спросил дядюшка Ника, глядя на поэта Хамзу Хуму.
«Нету смерти до Судного дня», – отвечал тот, продув ненабитую трубку и пропустив полный стаканчик красного. Он не любил болтать о смерти.
Он посмотрел на нас, сидящих за столом, и запел:
Страшно мне подумать, что в стране вот этой, на краю Европы звать меня Хамзой.В то лето я своими собственными глазами, почти им не веря, увидел у Беговой мечети Симону де Бовуар и Жана Поля Сартра. Я слышал, что они, возвращаясь из Дубровника, на день застряли в Сараево. Их окружала местная знать, преподаватели французского и писатели. В свите я увидел Энвера в элегантном сером костюме с галстуком, и он заговорщецки подмигнул мне на ходу. Сартр курил трубку. В какой-то момент он нагнулся и завязал распустившийся шнурок. Ростом он был меньше, чем я ожидал. Он вошел во двор мечети и заинтересованно наблюдал, как верующие моют перед молитвой ноги в каменном фонтане. И я подумал, что, наверное, достаточно неопределенно долго просидеть в прохладном дворе этой мечети и тогда увидишь всех тех, кого мечтал повидать.
В нынешнем году оцинкован фонтан во дворе Хусрев-Беговой мечети, в целях чего потрачено было более тысячи грошей. (1772)
В Сараево прибывает тысяча верблюдов, которые привезут от трех до четырех сотен тюков с порохом для арсенала. Глашатай по сему случаю объявил, что по улицам запрещено курить табак. Случилось это в двадцатый день земхерия. Да будет известно то! (1778)
Однажды, в сентябрьский полдень, вдруг размножился Фил, Андричев «Слон везиря» из Травника. По Главной улице прошла вереница из шести слонов, и пара городских пьяниц, Кило и Пупа Хава, ужаснувшись, поклялись больше не брать в рот ни капли, поскольку им стали мерещиться белые слоны. А были это слоны из цирка «Medrano», который в то воскресенье гастролировал в нашем городе, и на них восседали с кнутами в руках ядреные итальянские акробатки с возбуждающе голыми ляжками.
Каллиграф, куриный торговец Хасан-эффенди, привел в Сараево страуса и двух странных баранов. За их представление обществу собрал довольно денег. (1776)
Вслед за слонами в качестве гуманитарной помощи в Сараево каким-то чудом попали облезлые красные двухэтажные автобусы, пожертвованные городом Лондоном. Все ринулись на второй этаж, чтобы насладиться чудом, и автобусы на поворотах заносило, словно пьяных, и они рискованно наклонялись. Здесь можно было курить. С такой высоты, наверное, как и с белых слонов, улицы выглядели необычно, а прохожие на тротуарах внезапно уменьшились в размерах. Катаясь на лондонских развалюхах, мы представляли, что едем не по зеленой Илидже, а катим, по меньшей мере, через Гайд-парк.
На конечной станции в пригородном поселке знаменитый сараевский весельчак Жано приказывал крестьянам разуться перед тем, как войти в автобус, потому что, говорил он, таков там, в Лондоне, адет, обычай, и они влезали в «лондонец» с обувками в руках.
Во время меж мухаремом и концом зилхиджи нынешнего года потратил я на писание в малой лавке у Сахат-башни 564 листа бумаги. (1767).
Появилась газета Савти Истамбол (Голос Царьграда). (1765)
Ян Ухерка, который кроме кукловодства и своих тайных страстей занимался потихоньку организацией концертов, залучил в Сараево, черт его знает как, знаменитый американский «Голден Гейт квартет». Три старых негра и одна древняя негритянка в фиолетовом парике с удивлением рассматривали «Битву при Сутьеске» и «Форсирование Неретвы» на стенах концертного зала Дома армии, распевая о том, как Иегова выиграл битву под стенами Иерихона. «Oh, my Lord!»
А потом, когда они своими кастрированными голосами затянули «Nobody knows, the troubles I’ve seen, nobody but Jesus», зал затуманился от слез.
Интересно, что самый крупный из них, настоящий джинн, пел ангельским тенором, в то время как самый маленький, сухощавенький, был наделен самым глубоким басом, который мне доводилось слушать в жизни. Для меня до сих пор остается тайной, как это в те времена четверку негритянских певцов занесло в Сараево.
В только что открытом кафе «Парк» на Главной улице художник Воя Димитриевич нарисовал на главной стене первую кубистскую фреску в Сараево. Лакомясь рахат-лукумом и потягивая крепчайший кофе, посетители с подозрением разглядывали раскрашенные шары, кубы и конусы, исполненные в стиле раннего Андре Лота, размышляя одновременно о том, что бы это могло значить. Похоже, фреска так и не привилась, так что лет десять спустя, когда она осыпалась, ее совсем замазали.
На сараевский пикник вечером много народу собиралось посмотреть. На этом пикнике присутствовал один человек из некоего селения, который сделал фейерверк. Он многое вытворял с помощью пороха и разные забавы устраивал. С этой же целью он собрал значительно денег. (1777)
Одним прекрасным вечером в «Двух волах» появился и Свенгали Пети, фокусник, проездом через наш город, в котором он не мог остаться, но и уехать из него тоже не получалось. Собственно, потому, что в гостинице «Белград», пристанище для коммивояжеров поскромнее, кто-то украл у него всю фокусническую аппаратуру: коробки с двойным дном, гибкие стаканы, искусственные куриные яйца и белого кролика, которого вытаскивают из цилиндра – и даже сам цилиндр. Оставшись без необходимого инструмента, он две недели питался у шьор Анте, земляком которого оказался, вместе со своей тощей ассистенткой, хрупкой и молчаливой женщинкой, на которой любая одежда выглядела на два размера больше. Чтобы заработать на жизнь, он демонстрировал фокусы с картами, которые у него не украли, и, обходя столы в «Двух волах», длинными гибкими пальцами незаметно снимал у стариков часы с рук и вытаскивал бумажники, которые, естественно, потом возвращал. Когда он попытался незаметно вытащить бумажник у Иванича, который, как обычно, сидел в одиночестве в углу трактира, тот крепко ухватил его за запястье и едва не сломал руку, что вызвало в зале довольно неприятное волнение. Старый опытный лис, похоже, никогда не попадался на подобных трюках. Потом его худая ассистентка обходила столы и собирала добровольные пожертвования в пользу честного вора – артистичного карманника.
Целых два часа я однажды протрясся в толпе под островерхой скалой по имени Ековац, ожидая, когда с ее верхушки бросится самоубийца в драной белой рубахе, но он, похоже, в этот раз отказался от своего намерения, так что слегка разочарованный народ разошелся по сторонам.
Среди тех, кто иногда, долго либо на короткий срок, посещал эту кабацкую философскую школу, где за столами перманентно шел платонический пир в сопровождении отечественных закусок, подкрепленных энциклопедическими цитатами, было довольно много молодых людей, склонных к искусству и художникам. Таланты и поклонники. Странно, но их жизни были куда как интереснее жизни их учителей.
Некоторое время сиживал здесь и Владимир Балванович, кинорежиссер, стройный молодой человек в очках, похожий на портреты Олдоса Хаксли. После нескольких короткометражных фильмов Сараево изгнало его за границу. На пороге успеха он вместе с молодой женой Рене погиб на парижской улице в автомобильной катастрофе. Сгорел в своем маленьком жестяном «ситроене», чуть-чуть не дождавшись исполнения всех своих желаний.
Другой, молодой хорват Томислав Ладан, завоевал их расположение своими невероятными знаниями. Он часто поправлял их латинские цитаты, поскольку закончил семинарию в Баня Луке, а со своим собственным отцом переписывался на латыни, отправляя ему желтоватые картонки открытых писем. Помимо санскрита и латыни он ловко пользовался английским, французским, итальянским, даже шведским, с которого неплохо переводил. Юноша с бледным худым лицом, скуластый, с глазами, горящими от невероятного внутреннего напряжения, с волосами, которые он зачесывал на лоб, как принято у католических священников, этот молодой выученик инквизиторов много лет спустя придумал и воплотил в Загребе основной корпус хорватского новояза.
Больше других проводил время со стариками Предраг Матвеевич, сын украинского эмигранта, который, как ни странно, несмотря на изгнание своего отца, был страстным леваком. Он идеально говорил по-французски, переписывался с Мальро и написал по-итальянски «Средиземноморский молитвенник», который неоднократно переводился и имел в Европе большой успех. Он стал профессором Римского университета. Из-за какого-то давно забытого литературного спора он не разговаривал с Томиславом Ладаном. Страдал невероятной бессонницей и целых четыре года не смыкал глаз.
Но интереснее всех был, конечно же, Мелви Альбахари, автор драмы «Ближний твой» (1960), которую с успехом поставили в театре «Ателье-212», а в ту пору – молодой студент Технологического факультета из Белграда, уроженец Сараево, приходивший за этот стол во время зимних и летних каникул. Сирота военного времени (его родители-партизаны погибли в первые же дни войны), Мелви, в отличие от Бель Ами, выросшего в доме своего деда, детство и юность провел по приютам и детским домам, и мы сошлись с ним еще в начальной школе, подружившись в девятилетием возрасте, весенним днем на Требевиче, где на уроке военного дела с деревянными винтовками в руках ожидали нападения противника, лежа на сосновых иголках за стволами деревьев (шишки служили нам ручными гранатами). Мы дружно решили не сдаваться немцам живыми. Мелви был настоящим атлетом, низкорослым, жилистым, с крепкими мышцами. Он занимался тяжелой атлетикой и каждый день, совсем как жевательную резинку, которая тогда в наших краях была субстанцией неизвестной, растягивал, словно гармошку, резиновые жгуты, доводя таким образом свое тело до совершенства. Мелви был ничуть не хуже хафизов, которые знали Коран наизусть до такой степени, что могли полностью восстановить текст, если бы все книги каким-то чудом были уничтожены, и выучил назубок весь Ветхий Завет, от корки до корки, и старики сумели по достоинству оценить это странное знание. А когда шьор Анте в один прекрасный вечер вынес к столу особое блюдо, далматинского козленка в молоке, а Мелви отказался даже попробовать его, то дядюшка Ника спросил, почему это он не желает попробовать такой гастрономический раритет. Тот ответил ему цитатой из Пятой книги Моисеевой: «Не вари козленка в молоке матери его», что привело в ужас всех присутствовавших при этом, а некоторым даже испортило все впечатление от ужина.
Существовал он на нищенскую пенсию за погибших родителей, которую ему нерегулярно выплачивал Союз партизан города Сараево. Чаще голодный, нежели сытый, Мелви питался летом грибами, собранными на Требевиче, зимой ел их же, только сухие, приготовляя многочисленными, одному ему известными способами. Этому его научил философ Иван Фохт, также одна из живописнейших сараевских личностей, худой, сгорбленный мужчина средних лет с густыми рассыпающимися волосами, профессор эстетики, которому осточертел Темный Вилайет, – вот он и запил. Пытаясь излечиться, по совету врача, прогулками по лесу, он открыл мир грибов. Пить тем не менее не прекратил, но, похоже, изобрел идеальную закуску. Он ел и ядовитые грибы, наслаждаясь их особенным вкусом, предварительно приняв лекарство, нейтрализующее грибной яд. Таким образом, он неоднократно умирал – оставаясь при этом живым. Автор «Введения в эстетику» был бы, наверное, забыт еще при жизни, если бы не написал и не выпустил в свет знаменитую книгу «Все о грибах», которая неоднократно издавалась и была переведена на основные языки мира. И профессор Фохт, и Мелви Альбахари, похоже, предпочли общество грибов обществу людей.
Впрочем, Мелви не только верил в свою принадлежность к избранному народу, но и убедил себя в том, что Господь отметил его ранней плешью на темени, как у ветхозаветных жрецов. Эту мысль поддерживал его духовный отец, белградский композитор Энрико Иосиф, и Мелви часто, сняв с себя всю одежду, стоял нагой на вершине Требевича, словно живая скала, разговаривая без посредников с небом, ветхозаветными пророками и Иеговой. Он овладел английским, заучивая словарь по алфавиту, статья за статьей, начиная с «а», неопределенного артикля, или обозначения кораблей первого класса, кончая последней, «zymosis» – кипение или ферментация. Целый год в белградском Еврейском доме на Космайской улице, который одновременно служил синагогой, он питался только закупленными оптом по дешевке яблоками, потому что вычитал где-то, что в этом фрукте присутствуют все элементы, необходимые человеку для жизни.
Я, ребята, Мойьиа Альбахари, Как бы мне за это не набили харю… —напевал ему Хамза Хумо, у которого было много друзей среди сараевских сефардов.
Он дружил с Исааком Самоковлией, сараевским врачом, который бесплатно лечил бедняков и писал рассказы о своих соплеменниках, грузчиках и старьевщиках из Бьелавы.
Мелви неодолимо притягивал Большой мир и жизнь в нем, о которой рассказывали нам в «Двух волах» старики. Молодой атлет с непривлекательной внешностью, кривым сефардским носом и выдающейся нижней челюстью, он мечтал однажды оказаться в нем, считая себя избранным в этой сумрачной котловине, которую дядюшка Ника называл «караказаном».
Последний вечер перед уходом в армию мы провели за столом со стариками, после чего разошлись по домам за своими фанерными солдатскими сундучками, выкрашенными, согласно уставу, в СЗК – серо-зеленую краску. Мы загрузили в них все свое тогдашнее имущество, но они все равно оставались полупустыми. Специальный состав для новобранцев с деревянными лавками в купе ожидал нас на Новом сараевском вокзале. Вдоль него по бетонным перронам, словно кавказские овчарки при стаде, носились с лаем злые офицеры, не разрешая нам даже выйти из вагонов, чтобы напиться из водоразборной колонки. Я чувствовал себя примерно как те бритые каторжники на Старом вокзале, скованные одной цепью и повернутые лицом к стене.
«Я точно не пробуду там целый год…» – доверился мне Мелви, пока состав в облаке шипящего пара катил к нашим гарнизонам.
«И как же ты думаешь выкрутиться?» – спросил я.
«Господь меня вызволит», – произнес он.
Это было совершенно невероятно, но через месяц я получил известие о том, что Господь действительно вызволил его. Короче говоря, за неделю до принятия присяги Мелви Альбахари вежливо доложил коменданту гарнизона в Сом-боре, что не может принять торжественную присягу. Тот жестоко запаниковал: Мелви был лучшим новобранцем в призыве, служил безропотно, после многих лет голодания был более чем удовлетворен пищей, поднимал самый тяжелый груз, бегал быстрее всех и замечательно преодолевал полосу препятствий. И вот теперь он, на которого была вся надежда, сообщает, что не желает принимать священную присягу, как все прочие.
Господь вызволил его.
И в самом деле, хотя полковник не принял всерьез его заявление, когда весь гарнизон на одном дыхании кричал, что «клянется верно, ценой собственной жизни служить социалистическому отечеству и его вождю маршалу Тито», один-единственный человек в паузе между двумя фразами крикнул: «Я не клянусь!».
Несмотря на это, церемония присяги была продолжена, но уже в следующей паузе, когда солдаты набирали в легкие воздух, одинокий голос опять повторил, что он не клянется. Наступило гробовое молчание, и после некоторой паузы Мелви отволокли на полковую гауптвахту, куда уже на следующий день прибыли два офицера госбезопасности в высоких чинах, чтобы сопроводить его в белградский военный госпиталь, где в течение недели Мелви обследовал консилиум. Все-таки речь шла о сыне погибших народных героев, к тому же еврее, а не о ком-нибудь из побежденных национальностей. Поскольку он в рекордно короткие сроки прошел через все запутанные тесты и быстрее чем кто-либо составил разнокалиберные фигурки, сочтя эти занятия развлечением, Мелви подвергли целой серии психиатрических исследований на предмет изучения его физического и психического здоровья. Когда докторам уже больше ничего не оставалось, они попытались объяснить происшествие сексуальным воздержанием молодого атлета, но и эта теория не прошла после того, как он рассказал им о своей бурной эротической связи с одной белградской балериной, а также сообщил, что уже целый год женат на белградской художнице Лиляне Петрович. Психиатры доказывали ему, что Бога нет, а он смиренно опровергал их тезис, используя новейшие открытия в области атомной физики, которая, похоже, в те годы зашла в полный тупик со своими протонами и нейтронами. Скрипучим мелом он рисовал им на доске сложнейшие схемы структуры атома и доказывал их полное согласие с космосом и Богом, а они в ответ странно смотрели на него, предлагая подписать простое заявление о том, что он психически неуравновешен и склонен к паранойе, и тогда его навсегда освободят от воинской обязанности. Мелви один выступил против всех и наотрез отказался.
«Так что тебе, боже ты мой, надо?» – спросил его под конец обезумевший председатель комиссии, знаменитый полковник от психиатрии.
«Хочу отказаться от гражданства, – спокойно произнес Мелви: – Не желаю я тут больше жить».
«Какого черта, куда ты хочешь уехать?»
«В Израиль».
Я не мог проводить его, потому что все еще находился в дисциплинарном батальоне в Винковцах, но Мелви в самом деле уехал в Землю обетованную, где его встретили как героя, в одиночку восставшего против коммунистического государства. Он получил место инженера-технолога на маленькой фабрике у самого моря, в городе Хайфа. В свободное время, которого у него, похоже, было более чем достаточно, Мелви наконец-то стал использовать весь огромный объем своих легких, занявшись подводной охотой. Вскоре он стал добывать столько рыбы, что просто не знал, куда ее девать, и принялся продавать ее на местном рынке, убедившись вскоре, что таким образом он зарабатывает намного больше инженера, вынужденного тратить на службу восемь часов в день. Он уволился и занялся рыбалкой, а также переводами с русского на иврит, который выучил между делом. Он одиноко проживал в нескольких беленых комнатах без мебели, в голые стены которых забил гвозди; на них висела его скудная одежда и фотографии Сараево. Он отошел от иудаизма, потому что ему опротивели агрессивные ортодоксальные евреи со своим чувством исключительности. Легенда свидетельствует, что так он и жил одиноко, пока однажды ночью не наткнулся под стеной порта в Хайфе на скрюченную женскую фигурку в обносках. Это была оголодавшая девочка, которую огромная волна мирового движения хиппи выбросила, словно больную рыбу, на израильское побережье. Ей негде было переночевать, нечего было есть, так что холостяк Мелви отвел ее в свою квартиру и по-библейски принял на житье. Она прожила у него несколько месяцев, и они не то что не дотронулись друг до друга, но даже и не поговорили толком. Каждый из них нес в душе какое-то свое потаенное горе. Они даже и не заметили, как у них родились двое детей. Через несколько лет такой жизни она предложила Мелви съездить к ее родителям в Уэллс, чтобы показать внуков, и Мелви, хотя и без всякого удовольствия, согласился. Во время поездки он скучал. Британия, кроме Шекспира, совершенно не интересовала его. Когда они наконец-то прибыли в Кардифф, оказалось, что ее родители – судовладельцы, а папаша – лорд, и живут они во дворце, что, естественно, ничуть не удивило Мелви. Он был Божьим человеком, и ему очень нравилось, как Христос изгонял торговцев из Храма.
Он не пожелал остаться там, и давняя любовь к далеким мирам, навсегда привитая ему в нашем караказане, привела его аж в Новую Зеландию, откуда он написал мне одноединственное письмо, в котором пытался отвратить меня от искусства, доказывая, что оно есть всего лишь искусственный заменитель настоящей жизни, которую он обнаружил на этом далеком зеленом острове.
Он никогда не пил и не курил, но в 1998 году умер от рака легких в счастливом городе Веллингтоне (о котором за столом в «Двух волах» даже и не слыхали), ни разу так и не посетив Сараево, о котором всегда говорил как о проклятом городе. Один наш общий друг до сих пор хранит открытку с видом Штросмайеровой улицы, по чьим тротуарам несется бурный кровавый поток, который пророчески подрисовал красной тушью Мелви Альбахари.
Мы собрались на вокзале, чтобы проводить Веру, с дешевым букетом маргариток и натянутыми на нос шарфами. Здесь были Мелви, Сеад, молодой прозаик, который позже в Сараево обретет громкое имя, Влада Балванович и художник по кличке Граф, а также еще некоторые случайно встреченные по дороге люди, возжелавшие хоть как-то прикончить скучный вечер. Все-таки вокзал означал проводы, намек на возможность куда-то отсюда уехать.
Мы застали ее сидящей на фибровом чемодане, ожидающей объявления посадки. По кругам под глазами несложно было определить, что она плакала, но тем не менее теперь улыбалась, принимая цветы и не зная, что с ними делать. Она совершенно очевидно боялась Парижа, но насколько она была храбрее нас, обычных болтунов! И пока мы, как обвиняемые, переминались с ноги на ногу, не зная, о чем следует говорить, она смотрела на нас уже издалека, как будто нет уже здесь ее старых друзей.
Неожиданно тут, на бетонном перроне, рядом с пыльным вагоном «Югославских государственных железных дорог», я впервые понял, что, по сути, влюблен в эту худую девушку с короткими кудрявыми волосами и выступающими передними зубками. Как долго я сопротивлялся и делал вид, что не замечаю ее любви! А теперь, когда она уезжает навсегда, опустел и город, и котловина, и мелкая речушка, площади и здания, и поселилась здесь огромная пустота. Мне захотелось поцеловать ее вспухшие бледные губы и прижать пальцами ямки на щеках, но все это было уже слишком поздно, к тому же мы были не одни – рядом с нами стояли друзья, соревнующиеся в плоском остроумии и произношении звука «р» на французский манер.
Кто-то сказал ей:
«Ne pas se pencher en dehors de la fenetre!»
«Е pericoloso sporgersi», – продолжил другой, но Вера даже не улыбнулась, когда третий добавил: – «Nicht hinaus lehnen».
Я понял, что не знаю, как дальше жить, а было мне всего двадцать. Я не знал, что делать с днями и ночами, ожидающими меня впереди. Значит, опять буду каждый вечер сидеть в «Двух волах» со стариками, до тех пор пока однажды сам не стану одним из них. Без Веры от Миляцки там, наверху, в каньоне, останется пересохшее речное русло. Я знал, что кофе останется сладким, но жизнь будет горькой.
И так вот, глядя на нее, я думал о том, как она наивно поверила в нашу болтовню о том, что где-то там есть другой мир, в котором больше смысла и радости, так отличающийся от нашего родного караказана, в котором ночью раздаются только вопли пьяниц и собачий вой во дворах, и только изредка – звон разбитого стекла и чей-то плач. Наконец-то я понял, что все мы, кроме нее, на которую никто даже и не надеялся, обыкновенные трусы и никогда нам не удастся завоевать Европу. Однако нас ожидали хорошо знакомые кухни, безопасность родного дома, в который мы возвращаемся и ужинаем холодным паприкашем, читая завтрашний выпуск местной газеты. А что, если она там ничего для себя не найдет?
Когда она встала с чемодана и выпрямилась, ее хрупкая невесомая фигурка неожиданно приобрела невиданную величину: Вера превратилась в Жанну д’Арк.
А потом она поднялась в вагон, но оконная рама никак не хотела опускаться, так что мы видели ее будто в каком-то пыльном аквариуме.
В это мгновение в глубине перрона показался Бель Ами с полотняной сумкой за плечами. Едва сдерживая бурное после быстрого бега дыхание, он остановился рядом с нами и огляделся. Его серые кошачьи глаза остановились на мне. Мы смотрели друг на друга секунду, две, может, год, а может – и двадцать… В этом взгляде было все: и детские керамические шарики, и развалины, и чтение на два голоса, долгие ночные мечтания, купание в каньоне, прогулки по главным улицам, одна сигарета на двоих с затяжками по очереди и ломти хлеба, намазанные смальцем и посыпанные красным молотым перцем – словно пришло время поделить наконец совместно нажитое имущество: вот твое, а это – мое! Точно так же десять лет тому назад мы делили тайные сокровища из старого комода в разрушенном бомбами доме, в который вернулись хозяева. Тогда ему достался «Тимпетил – город без родителей». Ему всегда удавалось получить лучшую долю.
Мы даже не пожали друг другу руки, как когда-то, заключая перемирие, он только процедил: «Ну, вот…» – и прыгнул на подножку медленно тронувшегося вагона.
Тогда я видел его последний раз в жизни, взволнованного и бледного, схватившегося за металлический поручень вагона, и волосы его лохматил легкий ветерок.
«Бель Ами, ты куда, с ума сошел?» – спросил его Мелви, шагая рядом с вагоном, направившимся к концу перрона.
«В Прагу, к дяде!» – крикнул он, появившись рядом с Верой в окне, медленно уводившем их в мутную ночь.
Они стояли рядом, словно в тумане, до тех пор, пока окончательно не пропали из вида.
Я не шел за вагоном, как остальные, я просто не мог сдвинуться с места, шага не мог сделать. Мне казалось, что бетон перрона еще не схватился, его только что залили, и он не дает мне сделать ни шага. И не только перрон – весь город превратился в каторжное ядро, прикованное к моей ноге. В горле пересохло, а по загривку струился ледяной пот.
Мой последний шарик оказался в кармане у Бель Ами – он отобрал у меня последнюю игрушку.
Один только я знал, что он уехал в Париж по билету, предназначавшемуся мне.
«Странное совпадение, – произнес Сеад, закуривая сигарету, – как это им удалось попасть в один поезд?»
«А разве поезд в Париж идет через Прагу?» – спросил Граф.
Никто из нас не знал, куда направляются поезда и судьбы.
Мы возвращались пешком с вокзала в город, пиная ботинками пустую консервную банку. Сначала мы хотели завернуть в «Два вола», чтобы отпраздновать Верин отъезд, но наш трактир уже был закрыт. Некоторое время мы слонялись по улицам, провожая друг друга, но на самом деле просто боялись остаться в одиночестве этой ночью, которой мы внезапно стали взрослыми – неожиданно примиренные с судьбой. Мы боялись за нашу младшую сестру, думали о том, что она прежде всего сделает после двух дней и двух ночей в поезде, оказавшись на вокзале «Gare de Lion». Куда пойдет она? Где проведет первую ночь? Что будет есть? Как будет общаться на своем школьном французском?
Разберется как-нибудь…
Как бы я хотел увидеть тебя там, в этом незнакомом мире!
Ну и что? Я бы тоже как-нибудь…
Что же ты не уехал с ней?
А почему именно я? Мне и здесь хорошо…
Тебе? Что это с тобой?
У меня паспорта нет!
И потом, когда уже некуда было идти, мы разошлись, каждый по своим делам. Занималась заря, и люди уже отправлялись на работу.
Я лег в кровать, обещая себе однажды, когда настанет подходящее время, уехать туда, где рестораны не закрываются в одиннадцать вечера и где оркестр играет даже по понедельникам, но, как я ни старался, не получалось выбросить из головы видение головы Бель Ами, покоящейся на Верином плече по дороге в Вавилон, куда ее загнали наши глупые разговоры. Я видел, как она, завернувшись в старый дождевик, несется сквозь ночь в поезде, преодолевающем огромное расстояние – километры и века – между двумя такими разными городами, и упрямо глядит в затуманенное окно, сквозь темные стекла которого пробивается только свет в окнах одиноких сельских домов и ее молодых глаз.
Я знал, что утром она будет пить кофе из термоса, есть жареного цыпленка и лупить вареные яйца на чемодане, который примостится на ее коленях. Два дня она будет смотреть на неизвестные чужие города, поля, леса и виноградники, после чего прибудет в Париж, где наймет комнатку в мансарде, станет есть их сыры и хлеб под названием «багет» – начнет жить, как в кино.
Я прислушивался к стуку колес их поезда – монотонный ритм совпадал с ударами моего сердца – и наконец заснул.
Тем не менее, как говаривал старый мудрец, «это у меня и после смерти болеть будет».
Вспоминая мудрецов из «Двух волов» и время, проведенное за их столом, я пытаюсь понять, действительно ли они тогда были старыми, и прихожу в ужас, осознав, что я нынешний, сочиняющий эти строки, уже достиг их возраста. Мы звали их стариками, а ведь иные только перевалили за пятьдесят! Как изменилось понятие старости…
В «Старосветских помещиках» Гоголь описывает главного героя Афанасия Ивановича Товстогуба как живого старичка шестидесяти лет!
Ника Миличевич был старше меня на сорок лет, а его закадычный друг Хамза Хумо – на сорок два. Несчастному карикатуристу Драшковичу, которого я часто встречал за стойкой в «Двух волах», было пятьдесят восемь… Это были старосветские люди, которых почти невозможно было увидеть без галстука, жилетки, костюма и шляпы, хотя это и сильно старило их. Их сегодняшние ровесники носят джинсы или бегают в кроссовках и тренировочных штанах. Мы живем во времена террора молодости и карьеризма, а наши старики принадлежали к уже давно исчезнувшей цивилизации людей старинной выработки.
Если кто-то начинает разбрасываться своей молодостью, я обычно советую не хвастаться молодыми годами: время быстро лишит этого преимущества, он даже заметить не успеет!
Так или иначе, теперь они напоминают мне стаю волшебников, которые только ради нас слетели в Темный Вилайет во главе с Нико-Мерлином, чтобы вытащить нас оттуда.
Каждый, кто мог, сбежал из Сараево, и вместо слишком чувствительных его детей город заселили лютые провинциалы, старательные и экономные, упрямые и настойчивые, принявшиеся скупать все живое и мертвое, даже места в литературе. Город оккупировали полные нерастраченной энергии жители гиблых предместий, горных деревень и хуторов, которым доверяли больше, чем необузданной и сомнительной городской молодежи. Сараево захватили братья Энвера.
А в самом центре тьмы караказана ясность ума, память, стиль и радость существования сохранили только старики из «Двух волов». Мы, их ученики, разбежались по всему белу свету.
Хай, хай, Алкалай!
Их ученики очутились в Белграде, Загребе, Новой Зеландии, Париже, Женеве, Нью-Йорке и в многих других городах планеты, перенеся туда и сохранив там частицу стиля своих учителей.
«Ну так вот, построили родной дом Иво Андричу в Травнике, – рассказывал дядюшка Ника, – слетелась туда тьма-тьмущая башибузуков и разбойников, главарей, начальников и начальничков. Приперлись и лютые беги Диздаревичи (аж пожелтевшие от язвы желудков, потому как сами себя поедом ели в силу великих амбиций), и разжиревшие сальные Поздерцы; случалось, и они Андрича почитывали… Дом, ничего не скажешь, красивый, просторный, новенький, с иголочки – убогий дом! – а Иво все время мрачный такой, молчит и все оглядывает это чудо. Ну, как вам ваш родной дом, товарищ Андрич, спрашивает его Хасан, а глазки его бегающие будто в сале растопленном плавают, словно он брат родной Эвет-эффенди из “Омер-паши Латаса”. “Ничуть не похож”, ответил тот с омерзением».
Умирали они или в нищете и забвении, в больницах, на кроватях домов для престарелых, на прогулках от удара, или же окруженные многочисленным потомством, а иных даже хоронили с высшими государственными почестями, как, например, Хамзу Хумо в его родном городе Мостаре. Сараево, как обычно, слишком поздно обнаружился их ценность, и тогда принялся осыпать оставшихся в живых почестями и наградами. И дядюшка Нико перед самым своим концом получил значительную премию за совокупное творчество. Однажды летом я встретил его в Стоне, на террасе у моря, недалеко от Машкарича, где он ел устриц, запивая их, вопреки всем правилам, красным вином. Я как раз привязывал к причалу лодку, когда он принялся бросать раковины в море.
«Дядюшка Нико, с устрицами пьют белое», – сказал я ему, когда мы обменялись рукопожатиями.
«Знаю, Момчило, знаю я это прекрасно… Но у них тут только красное. Я спросил, чего это они так, а этот Франо показал мне на виноградник вон там и сказал, что белая лоза не сможет расти на этих камнях, не приживется. А я ему показал на заправку и сказал, что она совсем рядом, так, может, скоро бензин пить начнем. Нет конца…»
«Я вас поздравляю, дядюшка Ника!» – сказал я, радуясь нашей встрече.
«С чем это, Момчило?» – спросил он, высасывая устрицу из раковины.
«Как же, с премией!»
«С какой еще такой, блин, премией?»
«Ну, за совокупное творчество…» – пробормотал я.
«Какое еще такое совокупное творчество, блин? – заразительно расхохотался он – Откуда у меня совокупное творчество? Я только еще собираюсь начать совокупляться!»
Ему тогда было за семьдесят.
Кто не унес с собой ни одной горсточки земли Темного Вилайета, тот раскаялся, а кто унес их всего несколько, до самой смерти каялся, что не унес больше. В карманах и в сердце я унес этот рассказ, а был бы поумнее – смог бы рассказать еще больше.
Недовольные своими ровесниками и наследниками старики незаметно делали из нас, своих приемных внуков, нечто вроде секретного оружия, с помощью которого надеялись завоевать то, что сами не успели захватить. Более того, они сформировали, вылепили из нас свидетелей своего неправедного забвения в старости, доверив нам сохранить в наступающей эпохе их след.
«Слушай, Момчило! – сказал мне однажды доверительно дядюшка Ника, который всегда называл меня только полным крестным именем, и никак иначе – Бегом беги из тех мест, где хвалят только воздух и воду, – там ничего другого и быть не может!»
Двадцать лет спустя оставшиеся в живых старцы, похоже, все еще устраивали свои уроки перипатетики в кто знает каком захудалом буфете, где служил уважаемый шьор Анте, и внимали им какие-то новые «портреты художника в юности». Однажды он подарил молодому тогда сараевскому поэту половинку сломанного дуката, посоветовав «ни за что не жить в городе, где нет посольств и консульств».
Четверть века спустя этот поэт, посланник дядюшки Ники, и я соединили обе половинки сломанного золотого и пришли к выводу, что, хотя мы и оказались в Белграде, где много консульств и посольств, воздух и вода здесь ни к черту не годятся.
В середине шестидесятых, когда я появился на так называемой литературной сцене, мне показалось, что обретаюсь на ней уже долгие годы, настолько все было здесь знакомо. Стратегические ходы, литературные кланы, хитрости, заговоры… Мерлин и его старые оруженосцы, похоже, выковали для меня невидимую броню, которую никто не был в состоянии прошибить.
Лед, сломанный той осенью, когда мой первый рассказ опубликовали в провонявшем потом, мочой, лежалой бумагой, лаком для ногтей, спермой и дешевым табаком «Будущем», уже позвякивал в моем стакане виски на раутах в столичных клубах. Но это питье ничем не напоминало упоительный вкус вин шьора Анте, которых мне так недоставало на заре моего пьянства.
С тех пор мне ни разу не удалось напиться.
Господи, чего я только не вытворял, лишь бы добраться до Парижа! Столько муки, и все зря! Когда я наконец оказался там, Европа, говорят, была уже при смерти.
Из дверей американского драгстора «Мак-доналдс» на Елисейских Полях, перед которыми дрожали и томились в ожидании арабы в легких пальтишках, облаками вырывался дух гамбургеров. «Купол», о котором мы так мечтали, был забит японцами с фотоаппаратами, а на Сен-Жермен-де-Пре, который некогда воспела Жюльет Греко («Я вечно жду тебя на Сен-Жермен-де-Пре…»), дымилась еще одна американская гамбургерная. Париж превратился в старый луна-парк, с аттракционов которого давно облезла позолота и краска.
Я сутками не мог прийти в себя, слоняясь по остаткам своей мечты. И вот однажды ночью, перед рассветом, когда Пон Неф максимально приблизился к туманному оригиналу Альбера Марке, кто-то затащил меня в «Распутина», где цыгане пели новым разбогатевшим Карамазовым «Гори, гори, любовь цыганская…». Я пробивался к стойке сквозь ночной осадок, скопившийся в этой отменной и дорогущей дыре, переполненной эмигрантами и пьяными предрассветными исповедями, когда все движения мертвенны и свинцово заторможенны, а лица оторопелые и бледные от затаенной вины, дыма и наркотиков.
Она сидела у стойки на высоком табурете в длинном вечернем платье, мерцающем, как миллион мелких звездочек, если смотреть на них, лежа на спине, с вершины Требевича. Белые костлявые плечи были открыты. Мелкие кудри маленького арапа украшала тонкая седина. Я узнал ее по семи родинкам на спине, которые все еще складывались в подковку созвездия Северная Корона.
Мы были совсем рядом, но нас разделяли века. Когда я произнес ее имя, она как раз обучала соседа слева, одетого в безупречный смокинг и уже прилично пьяного, как следует хулиганить и тихо, практически незаметно, бить бокалы из-под шампанского, нажимая указательным пальцем на их краешек.
Она обернулась и посмотрела на меня темными глазами, в которых уже не было прежнего сияния. В их уголках смех либо слезы нарисовали несколько мелких морщинок. Ямки на щеках сохранились на прежнем месте, но только теперь она очень хорошо знала цену их привлекательности.
«Я приехал, – вымолвил я, – правда, запоздал немного, но это неважно. Я здесь!»
Ее сосед справа, также в смокинге, посмотрел на меня с нескрываемым презрением к языку, на котором я окликнул ее.
Я смотрел на нее так, как много лет тому назад в Сараево, на вокзале, и мутное вагонное стекло все никак не опускалось, даже теперь.
«Ты ничуть не изменилась!» – солгал я.
«А ты изменился», – ответила она и вернулась к битью очередного бокала.
Много лет спустя, однажды зимой я заехал на пару дней в Сараево, где туман уже давно превратился в удушливый смог. Увлеченный богатством и строительством город сам себе накинул на шею бетонную петлю новостроек, блочных домов и небоскребов, которые на манер крепостных стен не позволяли ворваться ветрам из Сараевского поля. Исчезло благодатное дыхание ветерка, пауки заткали небо.
В Сараеве городе объявился червь странный, который все листья поел на абрикосах, а потом и на черносливе. Черви эти так размножились, что во многих местах по садам и по траве стали паутину прясть, так что дерево из-за этой паутины обобранным кажется. Наконец черви почали паутину прясть и по дворам, и по летним кухням, и по диван-ханам и софам. Столько их навалилось, что иные жители, как я слышал, свои дома оставили и переселились в иные места. Коротко говоря, Бог знает, что подобное бывает в пятьсот лет один раз, а есть и такие страсти, что раз в тысячу лет являются. Так что все сады городские и деревья были как пепел от сгоревшего табака. Картину эту печальную наблюдал я с Нишана и других возвышенностей. Фруктовые деревья голые, и нигде ни следа от травки зеленой. Прошел месяц, и черви бабочками обернулись. (1777)
Сараево, улицы которого планировались и строились под фиакры, трамваи и под редкие совсем еще автомобили, запрудили газующие ядовитыми свинцовыми выхлопами машины.
Даже неприкосновенную площадь перед Кафедральным собором, откуда начинались все процессии и демонстрации, оккупировали таксисты с подозрительными лицами, некоторые из которых украшали шрамы. Вместо фуг Баха, некогда доносившихся из собора, из машин с распахнутыми дверями гремела примитивная новая музыка с восточным привкусом.
Я прошел старым, натоптанным, хорошо знакомым путем от Кошева до Башчаршии и не встретил ни одного знакомого лица. Я стал чужим в родном городе – блудный сын, вернувшийся из эпохи до всеобщего благосостояния.
И тем не менее, прогуливаясь, я заметил, что нищих стало куда как больше, а монет в их шапках куда как меньше, нежели в те времена, когда все мы были нищими.
В нынешнем году люди часто лжесвидетельствовали в погоне за богатством. (1782)
Занюханные пришлые обитатели нищих пригородов и диких сел с золотыми цепями на шеях правили бал на Чаршие, которая трусливо скрылась за ставнями своих домишек.
Башчаршию захватил туристический кич.
Неспешное распитие можжевелового чая заменили «Чи-вас» и кока-кола.
Состарившиеся муэдзины больше не пели с башен минаретов, призывая народ к молитве, вместо них надрывались мощные динамики, расставленные на все четыре стороны света.
Бродячие цирки давно уже не заглядывают сюда. Сараево стал для них слишком серьезным городом. Похоже, он потерял свою детскую душу.
Люди стали наглыми, надменными и грубыми.
Город захватили длинноволосые ребята из рок-групп и молодые баскетболисты, которые, в отличие от нас, некогда рахитичных и скептически настроенных умников, вышли ростом под два метра.
Правда, девушки стали намного красивее, чем в наше время, когда блондинок можно было пересчитать по пальцам одной руки; они дерзко и вызывающе шагали по улицам с дымящимися сигаретами, что в наши дни невозможно было даже представить. Но их голоса огрубели, словарный запас свелся к сотне слов, к которым липла вечная жевательная резинка, так что и они с трудом прорывались сквозь пухлые зовущие уста. Они ругались и пили наравне с парнями. Говорили, что они лезут в постель без предварительного ухаживания и покидают их без любви и обязательств. Секс перестал быть строжайшим табу – исчезли эротические сновидения, страдания и боль любви.
Тимпетил – город без родителей.
Это был бы настоящий рай для Бель Ами, если бы он не погиб в 1972 году, пилотируя свой маленький личный самолет “Piper” в окрестностях Ньюпорт Бич, недалеко от Лос-Анджелеса, в котором он жил в последние годы. Он налетел на провода линии электропередач и рухнул недалеко от Тихого океана, рядом с проходящей там автострадой А1. Он был телевизионным продюсером, богатым человеком, воплотившим свою старую киношную мечту.
После внезапной, совершенно необъяснимой вспышки в одиннадцать вечера, когда я что-то читал, в моей комнате на другой стороне планеты беспричинно пропало электричество. Я понял, что с Бель Ами случилась беда.
Он завершил свой давний первый полет, когда из множества вещей в мае сорок пятого на складе УНРРА выбрал тяжелый летный шлем и, надев его на голову, босой пролетел мимо развалин нашей улицы.
Шел снег.
Я протянул руку, чтобы ухватить первые снежинки, но на ладонь мою упал динар, который Бель Ами много лет тому назад подбросил, чтобы решить, куда мы отправимся этой ночью: в «Европу» или в «Два вола»? Орел – решка. Если бы монета упала на его ладонь, наверняка бы выпал орел, и мы бы выбрали Европу, куда он и отправился первым из нас.
Но на деле-то «Два вола» и были Европой в самом лучшем смысле этого слова, только мы этого не понимали. Сопровождаемые непрерывным платоническим пиром, хотя и нищенским, они были и Афинами Сократа, и Дублином Джойса… Потому как где теперь встретишь группу мудрецов, что ежевечерне цитируют Тацита и «Советы молодому другу» Сенеки, где плещутся цитаты из «Гаргантюа и Пантагрюэля», где афоризмы Паскаля звучат словно произнесенные только вчера, где еще может встретиться мудрость забытых средневековых хронистов с прожорливостью и жадностью к жизни Кола Брюньона, где найти скатерть, на которой каждый вечер давался «Урок анатомии профессора Тулпа» над раскрытыми книгами фальшивой значимости? Что есть Европа, как не мрачная берлога, в которой маются проповедники, призраки, фантасты, пропащие гении, извращенные мечтатели, любопытствующие фигуры, библиофилы, бляди, романтики, сомнамбулы и авантюристы? Здесь, под готовыми рухнуть сводами старого города, уставшего от истории и чудес, смешались молодость и старость, гибель и надежда, мечты и разочарования. И все это за скудной трапезой, в беде и всеобщей нищете, которая стимулирует мечты и мифотворчество. Следовательно, «Два вола» были эмбрионом, символом того, что мы называем Европой, а отель «Европа» – просто бледной и далеко не первой копией австро-венгерских забегаловок и кафе.
Но затертая небольшая монетка, годами парившая высоко в небе, решая, какой стороной упасть, которую так долго ждал Бель Ами, давно ушедший из этой жизни, безошибочно свалилась на мою ладонь решкой вверх, так что я направился в «Два вола», веруя в то, что именно там спрятан конец Ариадниной нити, призванной вывести меня из лабиринта пресыщенности, в котором я очутился.
Я не нашел это место. И улица, и лавки на ней изменились полностью, а витрины дома, где, как мне показалось, как раз и помещались «Два вола», были закрыты серыми металлическими ставнями, присыпанными многолетней пылью. Старики, похоже, перебрались в легенду.
На их могилы пали крупные тяжелые и влажные снежинки, покрыв их безутешной белизной, на которой я пальцем начертал слова этой повести в их честь.
Последний рейс на Сараево
Лиляне, без которой не появилась бы эта книга.
Gaudeamus igitur
В июне Белград сходит с ума от выпускных вечеров. Город не спит ночь напролет и встречает рассвет с головной болью, пытаясь хоть немного погасить похмелье холодной водой из пожарных гидрантов. Ничто в мире не может помешать даже самой бедной семье сшить своей любимице-выпускнице бальное платье для выпускного вечера. Сколько примерок у соседской портнихи, сколько булавок в губах и сколько слез из-за того, что платье то чересчур длинное, то слишком прозрачное, а то и сидит не по фигуре!
И вот наконец соседи выходят из подъездов и повисают в окнах, чтобы проводить свою Золушку на самый важный бал в жизни, на котором, кто знает, может, и появится принц. А она, в длинном платье, ковыляет на непривычных шпильках и влезает в такси с бабушкиной сумочкой из колечек альпака, бал Круга сербских сестер, 1937 год.
– Боже, когда успел этот ребенок вырасти? – вздыхают матери.
– Осторожнее! – кричат ей. – И постарайся пораньше вернуться!
А кое-кто и слезу обронит, пока такси сворачивает за угол.
Тысячи Золушек с окраин спускаются на свой первый бал в сердце города.
Так случилось, что в отеле «Югославия», в одном и том же торжественном зале, справляли два выпускных вечера – на одном гуляли выпускники, а на втором праздновало тридцатилетие окончания школы поколение, родившееся в последний год Второй войны. В одном конце зала визг, смех и возбужденный гул восемнадцатилетних, в другом – молчаливый, затурканный островок выпускников средних лет, затерявшихся в море молодости. С одной стороны белые зубы и розовые десны, непокорные пряди молодых волос, на другой – седые мужики и неубедительные, цвета воронова крыла, прически дам. Нет ничего печальнее этих встреч выпускников, куда каждый приходит, страшась встречи со старостью. Представьте себе, как надо готовиться, чтобы победить внешним видом ровесников, сколько раз приходится задаваться вопросом: неужели и я выгляжу так же, как они? И вот все они смотрят на выпускников, повизгивающих и танцующих какие-то совершенно незнакомые танцы, каждый сам по себе, и задаются вопросом: чему они радуются и подозревают ли вообще эти дети, что ждет их в жизни? На любом праздновании тридцатилетия окончания школы в итоге оказывается, что мужчины растолстели и облысели, а хуже всех выглядит первая красавица выпуска. У нее остались только буйные волосы, которые она, по старой привычке, все еще отбрасывает со лба. Те, другие, которых в школе никто не замечал, с годами похорошели, лица у них стали уверенными – они нашли свой стиль. И, конечно же, здесь самая толстая девчонка в школе, в очках с огромными диоптриями. Ее из года в год освобождали от уроков физкультуры и оставляли в классе стеречь одежду. Такие девчонки пробиваются в жизни выше всех, но сердца их остаются навсегда разбитыми, потому что они вечно были безответно влюблены в тех, кто даже не желал смотреть в их сторону. Вот и эта, за столом празднующих в «Югославии» свой юбилей, тоже ничуть не изменилась. Непонятно как, но именно перед ней оказалась двойная порция взбитых сливок с сиропом. Оральное наслаждение! Она все еще влюбленно смотрит на Боба, безработного стюарда. Словно позабыла, что она теперь крепкая деловая женщина, директриса филиала большого сараевского банка – сегодня ночью она опять влюбленная девчонка.
В отличие от великолепного Кафкиного Грегора Замзы, который в одно прекрасное утро проснулся на потолке отвратительным насекомым, абсолютно обыкновенный Слободан Деспот, по прозвищу Боб, даже не заметил, как после долгого кошмара очнулся в небе меж континентами красавцем-мужчиной нарасхват. По правде говоря, это долгое превращение стоило ему сознательного отказа от очень много: длительные отвратительные диеты, изматывающие теннисные партии и часы, проведенные в зубопротезных креслах лучших дантистов; целыми сезонами он жарился на солнце, а когда лето кончалось, он, благодаря профессии стюарда, выбирал длительные полеты на далекие континенты, где можно было загорать, заниматься серфингом, плавать и нырять… Не следует забывать и о том, что счастливый Боб Деспот, переживший инфаркт, который выбил его на год из привычной колеи восхитительной профессии, ежедневно накручивал на велосипеде без колес по пятьдесят километров, полностью погрузившись в себя самого и в свое превращение. И вот он опять не летает. Мир оградил его страну блокадой, на неопределенное время прервав полеты отечественной авиакомпании.
И вот он теперь он приземлился в «Югославии», на праздновании тридцатилетия окончания школы, которое, по сути дела, вовсе никакой не праздник, а просто сбор отчаявшихся земляков из его бывшего родного города Сараево, потерпевших кораблекрушение и плывущих теперь по бурным волнам всеобщего несчастья, в панике хватаясь за уцелевшую столешницу из капитанского салона, чтобы не потерять друг друга.
The green, green grass of my home
Как они собрались? Их школьный товарищ, некогда самый плохой ученик Первой мужской гимназии в Сараево (Деспот даже не был уверен в том, что он получил аттестат!), ныне чрезмерно богатый человек с головным офисом своей компании в Женеве и представительствами в Белграде, Ларнаке и Вене, торгующий нефтью, химическими удобрениями, и самый большой в Югославии экспортер замороженных фруктов, собрал их всех и вывел на этот гала-ужин – цинично провозгласив это небольшое торжество годовщиной окончания школы, хотя только несколько присутствующих были настоящими одноклассниками. Прочие были свежими беженцами из города, в котором уже целых три года шла война. Каждый из присутствующих приезжал сюда с застывшими глазами, видевшими ад, и в поисках первой помощи находил белградское бюро бывшего соученика.
Деспот встретил его недавно, совершенно случайно, ночью, в «Писательском клубе». Он увидел его сидящим с двумя мужчинами в черных кожаных куртках, и было очевидно, что они никого в «Клубе» не знают. Он послал им через официанта бутылку белого вина, решив, что и он, его старый школьный товарищ, тоже стал одним из сараевских беженцев, ежедневно прибывающих в Белград. Обнявшись через столько лет, Деспот заметил, что его товарищ почти не изменился: все тот же сломанный боксерский нос, дерзкие маленькие глаза прирожденного задиры, атлетические плечи и потертые джинсы. Он предложил ему помощь, но тот весело улыбнулся и махнул рукой. Оказалось, что двое в кожаных куртках – пилоты его личного самолета.
Милован Иованович по прозвищу Мики и до этой войны был состоятельным торговцем, но свое солидное состояние удесятерил за последние два года, хотя все его движимое и недвижимое имущество (кроме денег) пропало в захваченном Сараево. Его караваны цистерн с нефтью прорывали границы и рогатки между воюющими сторонами, а огромные буквы “MIKI TRADE” и вооруженная личная армия сопровождения, набранная в основном из бывших боксеров и звезд криминального мира, о которых говорили, что вместе они тянут больше чем на тысячу лет каторги, обеспечивали безопасный проход караванов по ничьей земле и театрам военных действий, через таможни, блок-посты, международных наблюдателей, и они прибывали туда, где за них платили звонкой монетой. Однако, несмотря на все это, Деспоту казалось, что Мики на самом-то деле продолжал свою детскую войнушку с ребятами из чужого района, хотя теперь ставкой были уже человеческие жизни и миллионы долларов. Он не глядя помогал каждому, кто обращался к нему, не успевая принять благодарность, вечно спеша и опаздывая куда-то, непрерывно изрыгая мат и сараевские блатные словечки, из которых слушатель понимал едва ли два-три. В шутку говорили, что ему нужен переводчик, или, по крайней мере, надо пускать понизу титры. Его белградское бюро размещалось в шикарнейшем “Hyatt Regency”, три сотрудницы которого буквально перевернули с ног на голову весь город, чтобы отыскать всех сараевских беженцев, ровесников их хозяина, и пригласить их на ужин в «Югославию».
И половины из них Деспот так и не смог узнать! Только мысленно расправив с брезгливой сосредоточенностью их слишком рано состарившиеся лица, сбросив с них поношенную одежду и избавившись от почти забытого глухого сараевского говорка, он смог, словно реставратор, извлечь из-под непрозрачной пленки некоторые из их присных имен. Женщины повзрослели вдвое, а мужики стали настоящими стариками! Их глаза, утонувшие в худых лицах, обтянутых пергаментной кожей, смотрели на него из глубинного мрака Темного Вилайета[1] с тем усталым сожалением, с которым люди, только что коснувшиеся дна пропасти страдания, смотрят на тех, кто чудом остался невредимым и не созрел для несчастья. Бывшие земляки с ног до головы одели их в одежду, какую те давно не нашивали. Им отдали старую мебель, необходимую посуду и вилки с ложками. Те, кто был в состоянии, тайком засунули им в карманы толику денег, тайно наслаждаясь при этом своей добротой и щедростью. Директриса банка открыла для них текущие счета, на которые первой положила символические суммы. И при этом не могли скрыть ни от себя, ни от этих несчастных определенное наслаждение неожиданным превосходством, возникшим в результате того, что переехали в Белград намного раньше, точнее говоря, вовремя, что помогло избежать повторения несчастной судьбы их земляков. Каждый из них не без известной доли самодовольства узнавал за столом на беженцах свои пиджаки и сорочки. Конечно, львиная доля печальной славы перепала хозяину и добродетелю, Мики, который в конце вечера полностью оплатит грустный банкет, еще раз продемонстрировав, чего он, самый слабый ученик, добился в этой жизни. Он даже не удосужился надеть парадный костюм и повязать галстук, так и остался в своих выцветших джинсах, только тяжелую черную кожаную куртку перебросил через спинку стула.
Последние годы они прожили в самом сердце тьмы, прислушиваясь с рискованно близкого расстояния к его зловещему стуку. Они выживали без еды и без воды – за которой надо было ходить к дальним колодцам, подвергаясь смертельной опасности, – без электричества и без отопления, после того, как вырубили и сожгли деревья из парков, разобрали паркет и, в конце концов, спалили собственные библиотеки; месяцами в подвалах и в очередях за хлебом, где людей в куски разносили гранаты и косили снайперы, но это еще было не все! Городом овладели психопаты и прочий сброд, отбросы и башибузуки. Унижение было хуже всего. Все это время они, граждане второго сорта, должны были доказывать лояльность зверствующим властям и смотреть, как муджахеды, захватившие их город, средь бела дня, на глазах у родителей тащили в публичные дома воспитанных девочек из лучших сараевских семей. Под предлогом поисков спрятанного оружия в их дома врывались разнузданные пьяные полицейские и выносили все, что их душа пожелает. Они обязаны были выдать полиции дубликаты своих ключей, чтобы можно было врываться в их жизнь, когда заблагорассудится полицейским. У каждой уличной банды были личные тюрьмы в подвалах конфискованных домов. Больше всех свирепствовали уголовники, имена которых нагоняли страх на весь город: Юка, Череп, Цаца… В подвалах местечковых владетелей были найдены сотни изуродованных трупов. Рассказывают, что жившие неподалеку от Зоопарка несколько ночей подряд слышали крики детей, которых бросали в клетки к изголодавшимся хищникам: «Мама, не отдавай меня! Я больше не буду…»
Они выбирались из Сараево как Бог на душу положит. Тут способности и ловкость смешивались с везением. Они еще не смели рассказать все – чтобы не выдать тех, кто помог им выбраться. И в Белграде их преследовал дикий страх. Художник, которого с молодых лет называли Леонардо, преподаватель сараевской Академии, получил справку, которая позволяла ему выехать в Париж на учебу. На тот момент ему исполнилось шестьдесят, и он собирался на пенсию. Он сидел на заднем сиденье переполненного автобуса, который должен был под охраной солдат Объединенных Наций перевезти пассажиров в сербский район Сараево, когда муджахед, проверявший разрешения на выезд, обратил внимание на его профессию и возраст.
– Кто это? – спросил он сопровождавшего автобус. – Какая еще учеба в Париже? Что за фигня? Чему он там научится? Если до сих пор не выучился, значит, никогда не научится!
Его все-таки выпустили. Перед тем как пропустить в автобус, внимательно досматривали весь багаж и отнимали украшения, ценные вещи и деньги, особое внимание обращали на письма. По воле случая Леонардо обыскивал сын его доброго друга Сеада, молодой человек с убийственным блеском в глазах, в зеленом форменном берете. Он знал его с рождения – мальчик вырос на его глазах, всегда вежливый, тихий и очень замкнутый. Когда праздновали рождение, он положил ему под пеленку золотой. Его звали Неджад, и теперь он с сомнением на лице вытаскивал вещь за вещью из полотняной сумки, в которой уместилось все имущество Леонардо. И так он вытащил сверток рисунков профессора, перехваченный резинкой. Это были наброски и этюды к будущим картинам и несколько гравюр, которые он намеревался продать по прибытии в Белград – чтобы хоть как-то прожить первые дни изгнания. Неджад разглядывал лист за листом, рисунок за рисунком, словно это были секретные планы укрепрайонов и места расположения артиллерийских батарей, после чего серьезно и тихо произнес:
– Это нельзя вывозить, дядя Леонардо! Запрещено… – и отложил сверток в сторону.
– Делай свою работу, сынок! – сказал Леонардо, вспомнив весь цикл невидимых картин, которые хранились у него в голове и которые никто не сможет у него отнять.
La vie en rose
Казалось, что на Сараево упал огромный скользкий осьминог, наглухо закрывший своим телом небо, и без того все время зажатое вечным смогом. Кто мог, тот бежал сломя голову, в чем был, в крайнем случае с имуществом, которое запросто умещалось в пластиковом мешке, бросив все, что наживал целую свою жизнь – движимость и недвижимость, честное имя, авторитет и даже ближних своих!
– Снесите его начисто, заклинаем вас! – дрожащими голосами умоляли они первых встреченных в горах над Сараево бойцов – Сравняйте его с землей! Но сначала разбомбите мой дом! Я вам его покажу…
Они тыкали пальцем вниз, в котловину города, а в глазах их стоял непреходящий ужас, от страха они потеряли дар речи, их до смерти напугало гигантское чудовище, которое не оставляло попыток вновь засосать их в свое чрево, смердящее пороховой серой, кровью и спермой. Не случайно сараевский поэт-беженец записал:
Я разнесу тебя, проклятый черный город, Но твой несчастный дух скитаться обречен…Похоже, этому городу суждено время от времени сбрасывать свою привлекательную шкуру и демонстрировать всему миру кровавое переплетение мускулов, сухожилий и кровеносных сосудов, вплоть до самого скелета и прогнившего костного мозга, чтобы вытащить заглушки и выпустить на волю потоки смрада и тьмы. И тогда Чаршию охватывают древние приступы всеобщего безумия. Из вчера еще симпатичных каменных фонтанчиков хлещут кровавые струи, а из турецких бань и крытых рынков, из постоялых дворов и сквериков тянется запах смерти, сопровождаемый глухим завыванием имамов и воплями женщин, ударяющих в бубны, барабаны и кастрюли, в то время как крутые поселковые жители крушат город, счищая с его лика европейскую облицовку. В подсознании каждого жителя Сараево жива память о разгроме и ограблении отеля Ефтановича «Европа» накануне убийства эрцгерцога Франца Фердинанда в 1914 году или о погроме еврейской синагоги в 1941, когда в приступе ненависти и мракобесия толпа сбросила даже бронзовые пластины с ее крыши…
Этот потаенный зверь мог спрятаться и на полвека. В мирное время он изредка давал знать о себе глухим рыком или предательским блеском в уголке глаз какого-нибудь случайного прохожего, в неожиданном, исподтишка, ударе кулаком в случайной городской драке или в процеженном сквозь зубы грязном ругательстве. Тайное существование зверя чувствовали только коренные жители Сараево – другие, приезжавшие в этот привлекательный город, не замечали ничего необычного. Поколения приходили на смену поколениям, жизнь шла своим чередом, город умывался и чистил перышки к олимпийским торжествам, а в схронах под его фундаментами рычал затаившийся зверь, присутствие которого, несмотря на тридцать лет скитаний по всему миру, все время ощущал Слободан Деспот.
Вслушиваясь в позвякивание кубиков льда в стакане, Боб спрашивал себя, в чем он так согрешил перед Богом, что этот город, словно злой рок, всю жизнь преследует его? Одно только его название, записанное в паспорте на видном месте, с начала войны вызывало сильные подозрения на всех пограничных и таможенных пунктах. Его изолировали от прочих членов экипажа, словно он преступник, объявленный в международный розыск, и заставляли часами ожидать, пока на него отыщутся хоть какие-то сведения в компьютерных базах, как будто это он лично произвел судьбоносный выстрел во Франца Фердинанда. Теперь счастье отвернулось от него! Не так давно он сам так же подозрительно приглядывался к жалким смуглым черноусым пассажирам, в паспортах которых стояло название несчастного города Бейрута, некогда бывшего «маленьким Парижем Ближнего Востока». И вот наступила очередь Деспота.
Он лучше других знал дух Сараево и скрытое присутствие в нем жуткого зверя. Его отец, родившийся в других местах и, похоже, так и не привыкший к этому городу – всю свою жизнь он прожил в нем как бы временно, – с детских лет учил сына остерегаться и быть внимательным, даже с наивными друзьями детства… Деспот полагал, что это была привычная врожденная нетерпимость патриархально воспитанного сельского паренька ко всему городскому, но оказалось, что старик со знанием дела говорил, что «если в этом городе опять начнется резня, то будет она в сто раз страшнее той, что была в прошлую войну»! Так и случилось! И сейчас Деспот ощущал горечь жесточайшего поражения. Разве полвека мирной цивильной жизни, полвека домашних хлопот по хозяйству, смешанных браков, путешествий, чтения книг и наслаждений искусством ровным счетом совсем ничего не дали жителям его родного города, разве все эти годы прошли впустую?
И вот сидит он за одним столом с теми, кто на собственной шкуре испытал то, о чем так часто говорил его отец. Он слушал их скупые исповеди, мог потрогать этих людей, заглянуть в их погасшие глаза, и музыка в исполнении оркестра «Ностальгия» казалась ему почти непристойной на этих поминках по родному городу, в которые время от времени, словно варварские орды, врывался гремящий рок. Все сидящие за столом прекрасно знали, что больше никогда не увидят улиц, на которых они выросли и с которых их, ни в чем не виноватых, изгнали навсегда. И хотя Деспот уже давно не жил в своем городе, он врезался в его память глубоким незаживающим шрамом, отделяющим глубокую любовь от страстной ненависти. Он знал, что, куда бы его не забросила жизнь, ему вечно будет не хватать колыбели города в котловане, в котором невозможно толком рассмотреть, где кончаются светящиеся окна вползающих на крутые склоны кварталов и где начинаются сияющие звезды.
«В будущем жизнь моя будет подобна этим кубикам льда в стакане, бездумно звенящим до тех пор, пока совсем не растают!» – думал Деспот, ничуть не радуясь тому, что еще в давно минувшие беззаботные годы радости и благосостояния он понимал, что однажды зверь проснется.
Волшебник страны Оз
В детстве Боб не обещал ничего особенного. Был он довольно неудачливым и слишком чувствительным ребенком, больше всего на свете жаждущим любви, которой никто ему в то время дать не мог. Его пугливость выражалась в болезненной застенчивости, он страдал куда больше прочих молодых людей и куда сильнее их влюблялся в посредственных девушек, интересы которых, в свою очередь, в куда большей степени были на стороне успешных юношей, к которым Боб Деспот не принадлежал ни в малейшей степени. Несчастные влюбленности стали вехами, обозначившими его путь в общественную жизнь. В поисках любви он отчаянно работал над собой до тех пор, пока не достиг таких высот, на которых его многочисленные недостатки обратились симпатичными достоинствами. Он начинал учиться на разных факультетах и бросал их, как только становилось скучно. Так, записался он на курс по истории искусства, но несколько вводных лекций о неолите, шумерах, ассирийцах и вавилонянах напрочь отбили интерес к теме… Ему было скучно даже тогда, когда он физически коснулся пальцами праха и пепла Вавилона, показавшегося ему «заброшенным пыльным кирпичным заводом». Ему хотелось заняться искусством двадцатого века, а его преподавали только на последнем курсе. Так что не оставалось ничего иного, как распрощаться с факультетом и взяться за изучение английского, однако некоторое время спустя он обнаружил, что там на самом деле изучают английский, а не американский вариант этого «общего языка, который разделяет два народа». Так получилось, что Боб научился этому языку еще в детстве. Он вырос рядом с американским консульством – красивой виллой Мандича довоенной постройки, с небольшим парком, царящим над сараевскими крышами, ниспадавшими к городскому рынку Маркаламе (Markthalle), а Пегги, дочь консула, стала его первой любовью. Они играли в ее парке и в его саду, и консул настоял, чтобы маленький Слободан учил его дочь сербскому языку, а она, в ответ на эту услугу, обучила его английскому. Большую часть свободного времени он проводил в консульстве, поражавшем его своими чудесами. Комнаты, от стены до стены застеленные толстым, чувствительно мягким белым ковром, голландские люстры и мраморный камин разительно отличались от сумрачной квартиры Деспотов, скромная обстановка которой насквозь была пропитана тяжелым духом плесени и вареной баранины. Здесь, в консульстве, Боб впервые в жизни украшал невиданную елку: ее макушка упиралась в потолок, а сверкающие шары, рождественские посохи из марципана и витые полосатые конфеты прибыли аж из самой Америки. Но самым большим чудом, сразившим его, был большой ледомат, который, словно стенные часы, отсчитывал замерзшие минуты выпадающими из его недр кубиками льда. Консул, высокий мужчина лет тридцати пяти с типичным англосаксонским лицом, курил трубку, и дивный сладковатый запах ароматизированного табака плавал в комнатах. Поскольку он не был перегружен работой в этом Богом забытом балканском городе в прихожей Востока, то целыми днями слушал грампластинки с музыкой Чарли Паркера и Диззи Гиллеспи. Боб впервые услышал здесь раннего Дюка Эллингтона – таинственно переплетающиеся лианы нереальных звуков и инструментальных вскриков. Рыжая Пегги с лицом, усыпанным веснушками, была на год младше Боба, ей исполнилось девять.
– What is your name? – учила она его первым английским словам.
– Му name is Peggi? And yours?
– My name is Slobodan.
– I’ll call you Bob! – окрестила его маленькая Пегги, и это прозвище осталось за ним на всю жизнь; вся улица теперь звала его Бобом.
Они вместе пели:
Twinkle, twinkle little star, how I wander what you are.И несколько раз, скорчившись за портьерой из тяжелого бархата медового цвета, они испуганно смотрели на улицу перед консульством, которое милицейский пост охранял от распоясавшихся демонстрантов, тыкавших сжатыми кулаками в сторону виллы Мандича, выкрикивая при этом какие-то непонятные Бобу и Пегги угрозы. Это случалось во времена знаменитых сараевских массовых помешательств, которые городские власти устраивали против американцев. Консул во время этих выходок спокойно покуривал трубку и глотал бурбон, делая вид, что ему страшно скучно.
В течение этих нескольких лет английский навсегда врезался в Бобову память, а его гортань приняла такой облик, что он выговаривал чужие слова совсем как коренной житель Нью-Йорка. Потом, годами стараясь избавиться от бедности, усредненности и серости, он мечтал опять вернуться в те счастливые консульские дни и в те прекрасные светлые ласковые комнаты, в которых жила маленькая Пегги.
Помимо английского до самого конца он оставался верен теннису. Играть он начал с пятнадцати лет. В его сараевском доме жил старый господин, довоенный теннисный тренер. Заметив однажды, как маленький Слободан с друзьями гоняет тряпичный мяч, он отозвал его в сторонку и пообещал отвести на теннисный корт, где у него все еще оставалось несколько знакомых.
– Вот вырастешь, и стыдно будет пинать мячик, а теннис тебе в жизни еще как пригодится! – сказал он ему.
И вот он стал стюардом.
Ничто так не украшает мужчин, как успешная карьера, а Боба к тому же несколько отличали и мрачные черточки, присущие одинокой трагической личности, которая, на первый взгляд, была совершенно самодостаточной.
Прошло всего лет двадцать, и спортсмены его родного города, прекратив играть в футбол, боксировать и таскать штангу, отрастили пивные животы, в то время как он, известный в гимназии слабак, располнел ровно настолько, чтобы в свои пятьдесят оставаться стройным и гибким.
Гоняя ночами велотренажер марки «Триумф», он часто посещал родной город, кружил по его опустевшим улицам, мчался по газонам Большого парка, по футбольным полям, после чего на максимальной скорости бросался в горы и поднимался по Осмицам на зеленые высоты Требевича, так утешавшие его в дни печальной юности. На головокружительной скорости он мчал по самым крутым переулкам и тупикам на своей машине времени без колес, ничуть не хуже невидимого героя Г. Дж. Уэллса. Он спускался по той же Широкаче, по которой со свистом в ушах мальчишкой проносился на салазках, отчаянно тормозя пятками и судорожно цепляясь в дюралевый прут передка этого примитивного сараевского боба. Мальчишки орали во все горло: «Дышло береги, кобыла слепая!» – или вопили со страшной силой, когда кто-то сзади врезался в них: «Шандара-а-а-ах!», в то время как в Белграде кричали: «Та-ара-а-а-ан!». Наверное, его первая, самая большая и, с уверенностью можно сказать, единственная настоящая любовь, Елена, была теперь замужем за одним из этих старых облезлых спортивных львов, давно потерявших силы и волосы. (Они могли бы и дух потерять, если бы он у них был – злобно думал Боб Деспот, опускаясь из белых облаков на аэродром своего родного города). Пролетая над этой зеленой котловиной, он размышлял о том, насколько любимый пейзаж напоминает его первую любовь: слегка затуманенный, приглушенный, влажный и привлекательно страшноватый, совсем как ее оленьи глаза, глядящие из-под сверкающих черных волос, взявших в рамку бледное скуластое лицо. Жаль, что в нашей нищенской жизни женщины так быстро угасают, думал Деспот: лишние килограммы, тупая жизнь, смог, эти вечные деньги, дети… Он провел пальцами по гладко выбритому лицу, удостоверившись, что щеки его похудели ровно настолько, насколько нужно, и что на них нет ни единого лишнего грамма. Несчастная Елена – теперь она, скорее всего, располневшая матрона, которая обманывает себя и других, крася свои когда-то черные, а теперь поседевшие волосы в темно-сизый, вроде вороньего крыла на белом снегу, цвет! Кого это хотят обмануть его ровесницы? Их конец обнаруживается прежде всего на руках и на шее. Именно потому они панически требуют украшений, с помощью которых надеются скрыть пожелтевшую кожу, морщины и предательские старческие пятна. Он думал о них со злобой, словно возвращая им старый, надоевший долг – как долго они не хотели его! Теперь мы в расчете. Тем не менее старое гимназическое возбуждение не покидало его, словно сейчас ему предстояло выйти на променад, зная, что где-то около семи мимо пройдет прекрасная Елена. Он мысленно, с превосходством светского человека, усмехнулся своим детским глупостям.
И Сараево, и мир выглядели на самом деле куда как лучше, чем их представлял себе Боб.
Only you
Время от времени он встречал прежних любимых. Сначала в самолетах, где он их нежно фаршировал мелкими услугами профессионала – от специальных напитков, лично наливая им стаканчики, до профессионального снятия страхов воздушного перелета, а потом в посольствах, консульствах, торгпредствах и местных клубах. Теперь они были скучающими супругами дипломатов и деловых людей, которые получили от мужей намного меньше ожидавшегося. Многие не могли припомнить его. И тогда ему приходилось массой деталей, воспоминаниями (а память у него была великолепная!) напоминать о себе, и тем не менее он понимал, что они не узнают в нем того худосочного замкнутого паренька с болезненно горящими глазами, которыми он прямо-таки заглатывал их, – но почти все они играли в сердечность, потому что их тешили воспоминания юности и общество такого очаровательного, можно даже сказать – светского человека, и приглашали его отужинать, чтобы рассчитаться за внимание, оказанное им во время полета, чтобы передать посылочку своим в Югославию или чтобы просто послушать последние сплетни с родины.
Годы и скитания сделали свое дело и превратили Боба Деспота в ловкого и внимательного, умного и опытного любовника, который, похоже, мог соблазнить кого угодно.
Сначала он совершенно случайно, почти от скуки, совратил супругу некоего дипломата в одном из азиатских посольств; когда-то он целый год был влюблен в нее. Она была родом из прекрасной сараевской семьи и играла в теннис еще тогда, когда в городе был всего один корт, а он страстно ненавидел этот богатый сброд в белых костюмах, разбрасывавшийся форхендами и бекхендами. Часами он висел на стене из красного кирпича, следя за пластикой движений ее ножек; ему казалось, что на всей Земле нет ничего прекраснее симпатичных ямочек над ее нежно вылепленными коленками, а таинственная розовая плоть в тени коротенькой теннисной юбочки превращала ночи Деспота в настоящее эротическое безумие. Перед тем как заполучить ее – это случилось после нескольких коктейлей у бортика бассейна с лазурной водой, во влажном тепле испарений экзотических растений, – он был уверен, что уже много раз переспал с ней, так часто и долго он представлял и лепил в собственном воображении ее мускулистое, гладкое тело. Какое разочарование! Она была ничуть не лучше прочих: не лучше и не хуже, может, разве что куда надоедливее со своими бесконечными рассказами о великолепных поездках и шикарных отелях. Ему сделалось отвратительно в этом азиатском городе – ее сорокалетие вносило некоторую панику в эту случайную, никуда не ведущую связь.
Супруга одного из самых знаменитых хирургов его родного города, который теперь проживал в Швейцарии, ничуть не скрывая, изменяла с ним своему коренастому мужу. Она отправляла его спать (что он, по правде сказать, делал с удовольствием) и оставалась с Деспотом в гостиной, на первом этаже, где они блудили на софе, чья кардинальская алая бархатная обивка выгодно оттеняла ее роскошное бледное тело. Как ему теперь была отвратительна собственная старая, как некогда казалось, недостижимая мечта! И ее вычурная, скачущая походка, которой она, колыша бедрами, направлялась в ванную, ее неуместное, перезрелое кокетство, ее грязные слова в адрес их общей, для нее теперь уже бывшей родины, в которой теперь ей все мешало и воняло простонародьем, презрение к Балканам и нынешний день ее скучной швейцарской жизни, предсказуемой до самой последней детали – ее благосостояние стоило хоть чего-то лишь в сравнении с нашей родной нищетой.
– Где лучше кормят? В «Свисс Эйр» или в «Пан Америкен»? Бифштекс вот такой толщины, честное слово, в первом классе, шампанского сколько хочешь! И за наушники для кино или музыки платить не надо…
Господи! Деспота тошнило от ее монотонного стрекотания, в котором звенели монеты разных стран.
Неужели он в самом деле стал Дон Жуаном, как любили говорить? Никогда, даже в мечтах он не соглашался на этот примитивный, ласкающий слух титул завоевателя дамских сердец. Занимаясь любовью с женщинами, он вел своеобразный диалог с собственной жизнью: это был, похоже, затянувшийся разговор движений, пота, кожи и запахов. Но прежде всего это была месть, и он догадался об этом однажды летом в Дубровнике, когда соблазнил бывшую первую красавицу Сараево, прямо в гостиничном номере, где она жила с семьей. Окно выходило на бассейн, и, пока он придерживал ее за бедра, ухватив со спины, можно было прекрасно рассмотреть ее мужа, веселящегося с детьми, – он выбрасывал им из воды мячики, залетевшие в бассейн. В эти мгновения Боб ощущал себя мифическим мстителем, скачущим на розовом арабском скакуне и пронзающим копьем все свои прежние неудачи и поражения.
– Боже, да ты настоящий маньяк! – стонала под ним женщина. – Наверное, когда ты был молодым, баб из твоей комнаты выносили замертво!
«Сучка! – думал он. – Когда я был молодым, у меня ни комнаты не было, ни женщин…»
Все это время он смотрел на ее слегка вросшее в безымянный палец обручальное кольцо, пока ее ладони судорожно сжимали балконные перила, скрытые опущенными жалюзи.
Когда он время от времени приезжал (в основном по случаю похорон немногочисленных родственников) в родной город, который был вынужден покинуть побежденным, его принимали в самых замкнутых обществах, и он с вдохновением отлавливал бывших девчонок, в которых когда-то был влюблен. Некоторое время спустя у него скопилась приличная коллекция старых, прежде неоплаченных, а теперь наконец воплощенных любовных страданий, и каждая новая победа в этой долгой охоте за нежной зрелой дичью все больше опустошала и разочаровывала его, потому что навсегда освобождала от желаний и прежних заблуждений. Может ли быть что-то более трагичное, нежели судьба человека, который наконец-то получил все, что желал?
Почему он так невзлюбил этих женщин? За провинциальную сентиментальность – они любили цитировать и декламировать Есенина, Лорку и невыносимо печального Тагора – они цеплялись за него, видя в тайной связи одну из возможностей погрузиться в увлекательную жизнь, куда более приятную, чем существование с наскучившими мужьями, которым давно уже надоели. Для незамужних и разведенных – почему бы и нет? – он был одним из последних шансов, хэппи-энд в конце зря растраченной однообразной жизни, скучного кино, от которого они сейчас уж точно избавятся… Ему мешал их акцент, от которого он отвык и даже жалкие следы которого ненавидел в своем говоре, отсутствие воображения и утонченности, к которым он со временем так привык, но больше всего ненавидел за то, что они изо всех оставшихся сил и по всякому поводу выпячивали свои прежние прелести, тем самым сверх меры обнажая то самое волшебство, из-за скрытности которого он их некогда обожал. Бывшие обладательницы буйных причесок и теперь не упускали возможности время от времени как бы закидывать назад некогда роскошные гривы, прежние длинноногие красотки то и дело забрасывали ногу на ногу, а те, у которых ноздри некогда были совсем как у породистых кобылиц, демонстрировали теперь дрожащие кроличьи мордочки…
Ни в одной из многочисленных драм, романов и опер про Дон Жуана, сына испанского адмирала четырнадцатого века, ставшего символом покорителя женских сердец, не разъясняется до конца роль его матери. Наверное, Дон Жуан, как и Боб Деспот, с раннего детства страдал без материнской любви. Этот неудовлетворенный соблазнитель, любовник и сокрушитель женских сердец, по существу, был самым несчастным созданием в мире. Напрасно он постоянно пытался спрятаться от жизни в нежном и пахучем женском естестве, в панике пытаясь обрести там защиту, а если ему на короткое время и удавалось нечто подобное, то он быстро догадывался, что эти нежность и запах не имеют ничего общего с туманным воспоминанием о потерянной матери. Вот чего хотели Дон Жуан и Боб Деспот – найти в одной женщине и любовницу, и мать! Слишком часто сурово обходящийся с брошенными женщинами, Боб одновременно был самым ранимым любовником в мире.
Nobody knows the trouble I’ve seen
Боб Деспот в течение многих лет одну за другой хоронил прежние иллюзии, со страхом и отчаянием приближаясь к первой и самой большой любви – прекрасной Елене. Если и она, как прочие ровесницы, превратилась в монстра средних лет, и если он, думал Боб, наконец завоюет ее и разочаруется в долгожданной добыче, все долгие годы невыразимой страсти, которые он мечтал о ней, сотворяя образ из собственного пламенного воображения, пропадут пропадом. Что тогда станется с его жизнью? Не станет ли она бессмысленной? Какой-то частью своего сознания Боб желал иной победы: хотелось увидеть Елену, сломанную жизнью, – он, который сегодня выглядел куда лучше двадцатилетнего Дориана Грэя, вечно молодого соблазнителя, у которого старились только спрятанные на чердаке чувства. Он много лет оттягивал эту встречу, собирая разрозненные сведения о Елене, но, вопреки самым пессимистическим прогнозам, не мог погасить старое, болезненное желание. Он боялся завоевать ее, остаться, добившись окончательного успеха, без ничего, опустошенным, высохшим, заледеневшим трупом на покрытой вечными желаниями вершине Килиманджаро. Эта девушка никогда не любила его, он перенес из-за нее многократные муки и унижения. Казалось, что все, чего он добился в жизни, было сделано ради того только, чтобы она заметила его, полюбила и хотя бы недолго побыла с ним. Она была соучастником многих его ночей, проведенных на грани самоубийства; только ради нее он побеждал куда как более сильных противников, искал дьявола и находил его, сталкиваясь лицом к лицу, – рисковал, потому что ему нечего было терять. Только из-за нее он вел свою тайную личную войну против всех, а она все это время даже не замечала его. Жила собственной исключительно усредненной жизнью в их родном городе Сараево, не интересуясь доказательствами своей привлекательности, совершенно равнодушная, далекая как никогда… Он крепко держал вожжи своей жизни и мог делать все, что хотел, но становился меньше макового зернышка, стоило хоть чуть приблизиться к ней, пусть даже во время звонка из телефона-автомата. Набрав заученный на память номер телефона Елены (математическое выражение любовного шифра, который он шептал словно молитву), он вслушивался в хрипловатый, чувственный голос, тягуче повторяющий: «Аллооу? Аллооу?» – и молчал, проваливаясь от стыда сквозь землю, придерживая трубку около уха до тех пор, пока она не бросала свою. Короткие гудки. В тысячный раз он понимал, что находится в ее власти, и молил о том, чтобы выйти из этой схватки победителем. Если кто-то должен в ней погибнуть, то пусть это будет она, состарившаяся мещанка, с помощью странной магии установившая над ним таинственную власть.
Он боялся увидеть ее, и, как ни странно, ни разу не встречался с ней после того давнего выпускного вечера, который с такой болью и на все времена выжег на его характере и жизни унизительное клеймо. Это случилось много лет тому назад, и тем не менее однажды весною Боб Деспот, прогуливаясь по набережной Миляцки, вдыхал все тот же пьянящий запах, как будто ничего не изменилось после того самого проклятого выпускного. Навстречу ему шли распоясанные группы выпускников, пьяными голосами орущие “Gaudeamus igitur”, обегая взявшейся за руки змейкой фонарные столбы и деревья. Он знал, что нынешней ночью, а может, завтра вечером, в отеле «Европа» будет дан большой бал, на котором, возможно, такое же поражение выбросит, словно катапульта, в небо какого-нибудь нового молодого Деспота, после чего жизнь его будет определяться любовью, отвращением и страстным желанием мести.
Он вышел из номера и заглянул в сад отеля «Европа». Первая мысль была о том, что не следовало бы столько пить и курить. Несколько специалистов уже внимательно выслушали его измученное сердце средних лет, а он все еще чувствовал себя молодым и потому искренне удивлялся, замечая, что задыхается на лестничных ступеньках или что не может перемахнуть через низкую ограду или что утро, которое встретил в ресторане, следующие два дня дает о себе знать сонливостью, похмельем и мелкой дрожью всех нервов. Тем не менее он выпил в саду вермута – настоящий иностранец среди своих бывших земляков, читающих газеты и перемывающих косточки ближним. Потом встал и прошелся по гостиничному парку, с большими претензиями разукрашенному карликовыми грибовидными фонарями, а потом, кто знает в который раз, подошел к плакучей иве, печальные ветви которой переплетались с высокой некошеной травой. Да, здесь начались его скитания в ту ночь, когда он, пьяный от вермута, выпитого пополам с ромом, вдруг потерял Елену и, шастая за ней по саду, обнаружил ее ноги, равномерно колышущиеся в воздухе. Белые чулки, спущенные до колен, плясали в ритме, от которого у него окаменел мозг. Немой, парализованный, униженный и отчаявшийся более, чем любой другой юноша в долгой всемирной истории любовных унижений, он стоял совсем рядом, скрытый тонкими ветвями плакучей ивы, падающими наподобие занавеса перед входом в провинциальную парикмахерскую, и смотрел, как она спаривается с баскетболистом, которого он знал только в лицо. Он слышал ее дыхание и видел часть мокрой щеки, влажные ресницы, пальцы на плечах спортсмена (впервые покрытые бледным лаком), отброшенные трусики, видел все. В то мгновение ему казалось, что его ноги приковали к мягкой земле гостиничного газона; он развел руками занавес из веток и без оглядки бежал, заклиная себя, что это были другие, что все это ему привиделось, потому что он смешал вермут с пивом. Забудь, забудь, забудь, – но прекрасно знал, что не сумеет. Сам не понял, как оказался в русле реки, забранной каменной набережной. Он зарыл пылающее лицо в мокрую гальку, слизистую и скользкую от водорослей, и замер так до утра: помятая, мокрая куча рыдающего несчастья…
Боб вернулся за стол, который оставил ненадолго, и заказал еще один вермут. Обыватели покидали свои постоянные столики и направлялись домой на обед довольными, полными достоинства шагами. Очень важно! Вся планета спаривалась, обманывала, вновь влюблялась, забывала, ненавидела, оставалась равнодушной, как будто под той самой ивой трава навсегда осталась примятой. Кто знает, может его могила будет выглядеть таким вот именно образом, подумал Деспот, и решил отобедать. Накопившаяся в нем горечь прекрасно сочеталась с полынным духом вермута. Сколько бутылок вермута можно выжать из моей утробы, подумал он. За обедом выпил две бутылки токайского. Потом заказал шампанского, что удивило официантов, вспотевших, разыскивая серебряное ведерко со льдом. Он раскачивался на стуле и размышлял, не завершить ли обед чем-нибудь более серьезным. Остановился на коньяке, после которого смыл всю боль мира двумя бутылочками холодного «туборга». Этот город дурно влияет на меня, решил он, не стоит больше возвращаться сюда…
В самом деле, почему бы и нет? Разве не имеет права человек, так сильно страдавший, еще раз посмотреть на место своего юношеского унижения? Осмелев от выпитого, он двинулся вдоль реки, пересчитывая мосты. Как во времена детства, он вел пальцем по низкому каменному парапету набережной, ощущая его возбуждающую шероховатость. И вот сам даже не заметил, как (похоже, спиртное разобрало его сильнее, чем он думал) оказался перед желтым домом с декадентской лепниной и двумя пузатыми балконами: он поднял взгляд на осыпавшийся фасад, но от этого движения у него слегка закружилась голова, и он шагнул в полумрак парадной – запах приправ, смешанный с вонью холодной золы, и тут же, с левой стороны, над черными пластиковыми мешками с мусором, нашел потемневшие следы вырезанных слов: люблю, люблю, люблю, люблю, люблю, люблю тебя, люблю, Елена. Миновал полдень. Сейчас все наверняка спят, подумал он. Почему бы и нет, имею право: гляну опять на двери с бронзовым колокольчиком и глазком, на табличку с ее фамилией! Он все поднимался, поднимался, придерживаясь рукой за отполированные деревянные перила. Он чувствовал, как его заливает пот и рубашка прилипает к спине и груди. Поднялся почти на четвереньках, задыхаясь и хватаясь за сердце, охваченный всепрощением: позвонит и увидит ее, пропащую, никакую, толстую и поседевшую, в засаленном халате, но все же они ровесники – поколение. Кто есть у них ближе и кто их еще помнит влюбленными и молодыми в парке, полном июльских светлячков?
Он позвонил и, прислонившись к косяку, заметил, что разбил стекло на своих часах «картье». Не важно, теперь ничего больше не важно, он чувствовал себя героически спокойным, прислушиваясь к звонку и приближающимся шагам. Двери распахнулись, в них стояла Елена в белом выпускном платье и со шпильками в губах (наверное, что-то доделывала в последнюю минуту, готовясь отправиться на выпускной бал в «Европе»).
Господи, Господи! Он видел ее сияющие оленьи глаза под застрехой черных прядей волос, ее гибкую фигуру, ее кожу – топленое молоко со вкусом марципана, – она вытащила булавки изо рта, и меж полуоткрытых, от удивления слегка припухших губ Боб увидел ее зубки, с детства слегка деформированные, потому что она никак не могла отучиться сосать палец. Наконец-то Дориан Грэй, вечно молодой и неуязвимый, шагнул в забытую комнату на чердаке Оскара Уайльда и, столкнувшись с ничуть не изменившимся взглядом Елены, начал внезапно стариться и рассыпаться, моментально побежденный годами и суетой, истраченный и прижатый к стене. Задыхаясь и падая на потертый половик, он понял окончательно и бесповоротно, что проиграл свою долгую войну. Он так и не услышал последней фразы: «Мама, тут какому-то мужику перед нашей дверью плохо стало…».
Fascination
Универсальный оркестр «Ностальгия» в составе пяти музыкантов (клавишные, гитара, саксофон, контрабас и ударные) был одним из ансамблей, переживших разные моды и стили – от выступлений на провинциальных танцплощадках через заговорщицкую импровизацию во времена строго запрещенного джаза и до захлестнувшего все и вся рока, который они, правда, с некоторым презрением, восприняли, но только хлеба насущного ради. Несколько сезонов они играли на американских военных базах в Германии в качестве чистого диксиленда, но не гнушались и свежесочиненной народной музыки на хорошо оплачиваемых деревенских свадьбах. В самом деле, сербы любят начинать свои праздники европейской и американской музыкой, но в конце, распустив узлы на галстуках и на пару дырочек ослабив ремни, неизбежно отплясывают коло. А если говорить непосредственно о музыке, то они, похоже, больше всего на свете любят самые громкие оркестры. Вот и «Ностальгия», несмотря на свое нежное название, владела огромными черными динамиками, от звука которых вздрагивали хрустальные подвески на люстрах отеля «Югославия».
Пианист, согбенный худой пятидесятилетний мужчина, в прежние времена бывший надеждой белградского джаза, давно уже наплевал на себя и на джаз. Это расставание оставило на его лице две глубокие морщины, придающие ему презрительное выражение, полное отвращения к исполняемой им музыке, но еще большего – к тем, кто ее слушает. Время от времени, в перерывах, из-под его длинных, тонких, пожелтевших от табака пальцев возникала вдруг, словно песня канарейки в клетке, короткая симпатичная фраза, вступление или отрывок какой-нибудь знаменитой джазовой композиции: например, коротенький мотивчик Эррола Гарднера “Remember April”, или начальные такты “A night in Tunisia” «Модерн джаз квартета». Он отправлял эти маленькие музыкальные записки, зашифрованные на всякий случай послания, случайному слушателю, который поймет, что музыка в его исполнении далеко не всегда соответствует его вкусу и знаниям; а может, он просто вспоминал свою молодость, когда джаз был святой обетованной землей, а джазмены – ее апостолами. Прошли годы, но он все никак не мог привыкнуть к своему цирковому костюму – серебристый пиджак с перламутром, переливавшийся вроде змеиной кожи – и никак уж не мог забыть старые белые тапочки, джинсы и кожаный жилет тех лет, когда он пытался играть, как Телониус Монк. Его мучила невыразимая скука; будучи философом-скептиком, он заранее знал, как закончится любой из вечеров, за каким именно столом вспыхнет первая жестокая драка, которая из дам напьется первой и затянет песню своим любительским сопрано, кто кого отведет домой и кого из гостей он застанет в туалете блюющим в глубоком поклоне над унитазом.
Музыканты его банды (кроме молодого барабанщика, который бесенел с палочками в руках, так что его нередко приходилось приструнивать) также были опытными профессионалами, и каждый из них играл на нескольких инструментах. Саксофонист, профессиональный духовик, музицировал на кларнете и флейте, а время от времени, чтобы доставить удовольствие публике, извлекал окарину и вытворял на ней настоящие чудеса – от национальных коло до подражания птичьему щебету. Контрабасист, тайный пьяница, играл на любом струнном инструменте, в то время как гитарист, если было необходимо, становился певцом.
Нигде в мире нет таких универсальных оркестров, как у нас. Разве можно дождаться от любого французского ансамбля, чтобы он сыграл что-нибудь, кроме шансона или вальса, или чтобы джаз-оркестр исполнил польку или саккомпанировал итальянскому бельканто? Так называемые «венские анимир-оркестры», некогда весьма популярные в Центральной Европе, а ныне вымирающие вместе с отелями, подражавшими стилю непревзойденного «Сахера», играли в основном увертюры и попурри из оперетт Франца Легара, Зуппе и Штрауса и даже в страшном сне не смогли бы сыграть ничего другого, кроме своих засахаренных мелодий для горничных и унтер-офицеров. В отличие от них, «Ностальгия» с легкостью необыкновенной перескакивала с греческого сиртаки на блюзы Бурбон-стрит, забавляясь попутно эвергринами, чтобы потом вернуться в Сорренто и, внезапно встряхнувшись, если надо, сбацать «Лихорадку субботнего вечера». Не гнушалась она и старых «междугородних» романсов (как язвительно пианист обзывал «городские» песни), а также как никто другой умела мигом переодеться, задрапироваться в патриотизм и выжать слезу из слушателей, грянув «Марш на Дрину»[2].
Распоряжался этим акустическим цирком, объявлял номера и сыпал сальными шутками и рискованными анекдотами знаменитый Александр Балканский, который под своим помпезным псевдонимом прятал абсолютно незначительную фамилию.
Балканский напоминал Деспоту гуттаперчевого Валентина с афиш Тулуз-Лотрека; разве что одет он был не в черный сюртук, а в пурпурно-красный пиджак со шлицами и широкие клоунские панталоны, которые, как шаровары, болтались вокруг его тощих ног в белых носках и черных лакированных ботинках. Он гордо выступал перед оркестром, изображая из себя дирижера, обходил столики, сыпал шутками и раздавал броские визитные карточки, в которых стояло: «Александр “Саша” Балканский – Мастер Эстрады – Менеджер – Конферансье – Пародист».
В самом начале вечера он протанцевал мимо всех столиков, выдав каждой паре по номерку, начертанному на картонных квадратиках, сообщая одновременно уважаемым гостям о том, что речь в данном случае идет о конкурсе. Боб Деспот, сидевший рядом с толстой директрисой, получил номер 37.
Костлявые пальцы Балканского украшали многочисленные перстни, а на тощем запястье позвякивал массивный золотой браслет. Его ухоженные волосы, сами по себе достойные отдельной песни, зачесанные с затылка на лоб, прикрывали лысину, которую невозможно было скрыть даже от поверхностного взгляда. Змеевидные меандры малочисленных истонченных прядей мертвых волос приклеились к коже, прикрывавшей череп, в то время как другие, буйные, были завязаны на затылке в хвостик. Только с близкого расстояния можно было рассмотреть в Балканском жилистого, весьма пожилого мужичка с пожелтевшими зубными протезами и мышиными какашками блудливых глазок, плавающих в растопленном жире.
Музыканты презирали этого клоуна, загримированного под молодого человека, который прорывался по жизни, превратив пустую болтовню в профессию, но они уже привыкли к нему – как шарманщик привыкает к сингапурской макаке, сидящей на плече и кормящейся от его трудов. Впрочем, иногда Балканский мог быть и полезным. Он помогал с аппаратурой, вел переговоры и ругался с хозяевами залов и ресторанов, где им приходилось играть, а в случае необходимости даже исполнял блюзы, выдумывая никому не известные английские слова. Его, такого мелкого и никакого, Господь наделил неожиданно роскошным и глубоким голосом. Американцы, слушая его, поражались, как здорово он исполняет “When the Saints go marching in”, но при этом не могли разобрать ни единого слова своего родного языка. Короче говоря, Балканский был душой и сердцем каждого праздника, на котором выступала «Ностальгия»; он первым сокрушал лед, который сковывал гостей, оказавшихся вдруг среди незнакомых людей, когда редко кто решался нарушить девически чистую площадку для танцев. Он прорывался к столикам, хватал какую-нибудь одуревшую домохозяйку, по вздрагивающим ногам которой определял, что она с удовольствием бы станцевала, если бы не была спутана чрезвычайными обстоятельствами начинающегося вечера. Он, словно гуттаперчевый мальчик, совершал вокруг нее немыслимое количество невероятнейших телодвижений до тех пор, пока прочие не отваживались пуститься в пляс.
Однако сегодня вечером необходимости в таких действиях не было. Как только «Ностальгия» врубила свой убийственный механизм диско, молодежь, не вынимая изо рта жевательной резинки, принялась бешено скакать, словно выполняя какую-то серьезную и трудную работу. Их связывал одинаковый ритм тела – казалось, всех их произвело на свет чрево гигантской музыкальной машины, непрерывно рожающей живых марионеток, нити которых где-то высоко в небе держит в руках Генеральный маг Великой культуры рока.
Stardust
Пришло время накрывать праздничный ужин, и юное будущее охотно взялось за холодные закуски и теплые прикосновения под столом.
«Ностальгия» не закусывала – она была сыта всем этим, – так что большей частью пила, восседая над своими инструментами. Пианист просто так, походя, послал мощному знатоку коротенькую тему “Les nuages” Джанго Райнхардта, и у Деспота защипало глаза. Он протянул в сторону музыканта бокал, кивнув головой в подтверждение того, что сигнал принят, и пианист продолжил наигрывать прелюдию, поглядывая в направлении столиков юбиляров. На блошином рынке Клианкур в Париже есть старая, на скорую руку сколоченная корчма «Кружка, полная блох», в которой Деспот несколько раз слушал цыган из племени мануш. Это племя было родным и для Джанго Райнхардта, легендарного гитариста без трех пальцев. Его соплеменники, швейцарские цыгане, хранили память о гениальном музыканте и играли в его стиле, венчая в глубине чрева Парижа европейскую традицию с американским джазом. Инструменты у них были старенькие, заклеенные пластырем и связанные проволочками. «Облака» Джанго долетели до сараевского столика и укрыли его своим туманом.
Все вокруг ели, и только беженцы едва притрагивались к пище, словно их испугало ее изобилие. Они голодали больше двух лет. Кочан подгнившей капусты стоил на черной бирже целое состояние. Они не могли вспомнить, когда в последний раз видели картошку или листья салата. Днями напролет питались липкими макаронами и консервами, у которых давно истек срок годности. Направляясь в гости, вместо цветов приносили драгоценный пучок морковки. Вокруг уличных котлов с тошнотворной похлебкой без единого кусочка мяса толклись голодные люди и брошенные собаки. Неужели здесь, в Белграде, все это время, пока они щелкали цинготными зубами, питались так роскошно? Редкие кусочки застревали у них в горле. Аппетита не потеряла только директриса банка, которая радостным клекотом встречала каждую перемену блюд, но чем восторженнее она набрасывалась на еду, тем глубже впадала в депрессию, и ею овладевало чувство вины за то, что бесповоротно исчезает еще одна возможность стать хоть чуточку стройнее. Принимавший их хозяин заказывал все, что предлагал метрдотель, хотя на столах уже было тесно от множества тарелок и блюдечек с закусками и соусами. Сам он ел сумрачно, молча, как будто и теперь был занят накоплением денег и власти, людей и поместий.
Погрузившись в собственные мысли, Деспот изредка и рассеянно что-то жевал. Едва начатый гусиный паштет с надкушенной маслиной унесли у него из-под носа, так что ему пришлось неестественно горячо расхваливать действительно изумительную кухню и прекрасного повара, одновременно извиняясь за то, что он так плотно перекусил перед ужином. Он разглядывал гостей, пока те молча жевали за своими столами. Разговоры окончательно стихли. Половину из них вообще никак было не припомнить. Он оставался на второй год в шестом классе, а в седьмом его вообще на некоторое время исключили из гимназии, так что он утратил связь с ровесниками и даже не мог вспомнить теперь, с кем именно получал аттестат зрелости. Впрочем, сегодня это было совершенно не важно! Все они, сидящие за этими столиками, потеряли право праздновать годовщину окончания гимназия, лишились классных комнат, в которых они учились, и старых парт с вырезанными на них именами, потеряли и саму гимназию, которая при разделе города отошла противной стороне, лишились и своего родного города, в который уже никогда не смогут вернуться, своих друзей-иноверцев и бывших любовниц, которые наверняка теперь обвиняют их в том, что они – или их народ, все равно – развязали кровавую войну. И вот они оказались в совсем другом городе, который знаком с их проблемами поверхностно, в той мере, в какой это было описано в газетах. Ваше здоровье! И он, для того лишь только, чтобы чем-то занять себя, поднял бокал за их здоровье. Оно им очень понадобится. Они ответили ему, подняв свои бокалы. Алкоголь потихоньку смягчал атмосферу поминок. Кто-то даже отважился на анекдот, а Мики Trade заказал очередную партию бутылок.
В это мгновение молодой ударник отстучал по краю барабана палочками четыре такта – сигнал «Ностальгии» играть помпезный туш, а Балканский, легко вспрыгнув на подиум, объявил, размахивая руками:
– Дамы приглашают кавалеров!
Долгая, роскошная, почти импрессионистская прелюдия, виртуозно исполненная на клавишных, несущая в себе намек на «Полуденный отдых фавна» Дебюсси и одновременно на черные звуки Оскара Питерсона, раздвинула цветастый потолок гостиничного зала, и на столики просыпалась «Звездная пыль» Хогги Кармайкла… Пока дамы решали, с кем им не страшно показаться перед собравшейся публикой, наступила привычная секундная растерянность. В это мгновение, пока директриса банка боролась со своим желанием пригласить на танец Боба Деспота, от полупрозрачного занавеса, разделявшего юбилействующих одноклассников и юных выпускников, отделилась светлая, трепещущая фигурка и пересекла все еще пустующую танцплощадку Она ступала в снопы света прожекторов и пропадала в их сиянии, шагая прямо, уверенно, ничуть не пугаясь пустого пространства. Совсем бесплотная, напоминающая скорее символ молодости и красоты, в коротеньком платьице, подчеркивающем тонкую талию, красивые бедра и длинные ноги в молочно-белом шелке, девушка с длинными прямыми золотистыми волосами вызвала любопытство всего зала.
Она остановилась перед Бобом Деспотом. Заметив ее, он отложил в сторону программу вечера, снял очки и побледнел, как мел.
– Разрешите пригласить вас! – тихо произнесла девушка и, не дожидаясь ответа, грациозно протянула тонкую руку, нежно-розовая кожа которой была усыпана золотистыми пятнышками. Боб тревожно оглядывался.
Ее глаза сияли голубым светом – смесью юношеской робости и дерзости.
– Разрешите пригласить вас! – повторила девушка повелительно. Боб медленно поднялся из-за стола, и зал закружился вокруг него. Девушка шла впереди, ведя его за руку, как ангел со старых литографий, сопровождающий в рай нищих.
Разочаровавшись, директриса глубоко вздохнула и отдалась карамельному крему.
– Да, ну и Боб… – протянул кто-то за столом. – И в самом деле, совсем не меняется.
– В дочки ему годится! – бросила директриса, утирая с губ подливу из жженого сахара.
По ту сторону занавеса также были удивлены.
– Кто этот старикан? – спросил парень с серьгой в ухе.
– А ей всегда старики нравились! – буркнула девушка напротив.
– Он ей в отцы годится! – сказал парень, которого никто не пригласил на танец.
– Идиот! – донесся из облачка марихуаны голосок блондинистой девушки. – Он и есть ее отец!
Living on the frontline
Боб Деспот и припомнить не мог, когда танцевал в последний раз. Но танцевать разучиться невозможно, как и ездить на велосипеде или плавать. Он удивился, когда ноги сами по себе начали двигаться в ритме «Фронтлайна», хита в стиле регги, который некогда запустил певец Эдди Грант. Последовав примеру Боба и его дочки Белы, прочие гости принялись осваивать краешки танцевальной площадки, постепенно захватывая и ее середину. Бела танцевала легко и мягко. Боб почти не чувствовал под пальцами ее тело, идеально откликавшееся на каждое его движение, будто она читала отцовские мысли. Некоторое время они танцевали молча, потом Бела прижалась к нему и тихо промолвила:
– Совсем забыла, как произносится это слово: папа!
Боб промолчал. Несмотря на то, что со времени их последней встречи миновал год, судебный процесс продолжался. Он вдохнул запах ее волос.
– “Eternity”, Кальвин Кляйн, – произнес он. Он был одним из тех немногих мужчин, что легко распознавали женские духи. Кроме того, он продавал их во время рейсов, а еще ему частенько приходилось вдыхать ароматы женской кожи.
– “Eternity” – повторил он. – Прекрасное имя для вечности…
– Мамины, – объяснила Бела.
– Как она? – спросил Боб ради приличия.
– Разве я тебе в прошлый раз не сказала, чтобы ты не вспоминал про нее? Ты для нее умер. И она для тебя!
– Родители мертвы, – усмехнулся Боб, – значит, ты сирота?
– Не пытайся острить! – оборвала его Бела. – Я и есть сирота.
Его поразило, насколько этот ребенок похож на свою мать. С ней всегда все начиналось с незначительных, обычных фраз, запускавших в действие адский механизм! Однажды мать Белы позвонила ему в нью-йоркский отель “Biltmor”, где останавливались экипажи. Он с коллегами праздновал в номере день рождения, когда вдруг раздался звонок. Боб мог поклясться, что это именно она, – даже телефон приобрел какой-то особый, резкий, тревожный тон. Он поднял трубку и выслушал необычно любезное поздравление с днем рождения, которое, однако, не предвещало ничего хорошего.
– Прекрасно, что сегодня вечером ты не одинок! – сказала она. – Похоже, вас там много. Что пьете?
Он ответил, что пьют они подаренный ему “Dom Perignon”. Неожиданно в ее голосе прозвучала невыразимая ненависть:
– Ну конечно же, в то время как господин Деспот пьет в Нью-Йорке французское шампанское, я с ребенком голодаю в Белграде, где, кстати, нет даже электричества!
Потом она умолкла. Боб вслушивался в гул эфира и шум разделявшего их океана. Ему словно сунули кулак в живот и с наслаждением его там провернули. Жена точно знала, где и когда нанести ему наиболее чувствительный удар. Ее негативная энергия была настолько сильна, что просто сочилась из телефонной трубки. Все в комнате смолкли. Праздник был испорчен. Он рухнул на кровать как боксер в нокдауне, бледный как мел, не выпуская из руки трубку.
– Послушай! – сказал он ей. – Если у тебя хватает сил, чтобы достать меня здесь, а другом берегу Атлантики, какого же черта ты не сносишь горы, не роешь шахты, не добываешь руду и алмазы, не роешь тоннели? Зачем ты тратишь все силы на меня? Я ведь никто для тебя!
Раздались короткие гудки, связь прервалась. Она добилась того, к чему стремилась. Праздник окончен. Гости молча расходились по номерам. Дни и ночи он ломал голову над причиной такого ее поведения. Огромная любовь, которую когда-то мать Белы испытывала к нему, превратилась со временем в точно такое же количество невыносимой ненависти. Он не мог понять, откуда в этой хрупкой, грациозной женщине берется столько страшной силы, чтобы портить ему жизнь, сделать ее непереносимой. Похоже, чем больше она тратила энергии на ненависть, тем больше ее накапливалось. Невероятно, но точно. Эта женщина желала увидеть его мертвым.
– Почему ты бросил маму? – в который раз за несколько последних лет обвиняла его Бела, а у него не доставало силы сказать правду: именно из-за таких разговоров, которые сводили его с ума! Просто Боб не переносил скандалов. Ему легче было уклониться от ссоры. А брак этот, за исключением первых лет, стал большой непрерывной ссорой, в которой он был подозреваемым или обвиняемым, не суть важно, кем именно, а жена превращалась в пристрастного следователя. Он возвращался домой с готовностью принять любое обвинение. Скандалы были жестокими, долгими или короткими и длились часами, ночами и месяцами и заканчивались угрозами наложить на себя руки (что заставляло его почувствовать себя еще более виноватым), слезами или поцелуями, примирениями, которые они праздновали походами в рестораны, где в ожидании десерта они вспыхивали с новой силой, с битьем бокалов и швырянием салфеток. Схватки продолжались на кухне, где Боб, чтобы легче перенести новые сцены, открывал бутылку чего-нибудь покрепче, а в ответ на него сыпались дополнительные обвинения, на этот раз в алкоголизме. Сколько раз после бессонной ночи он отправлялся в ранний утренний рейс, измученный тяжкими обвинениями и страстями, исцарапанный ногтями, а пару раз даже искусанный! Он стоя спал в самолете, проваливающемся в воздушные ямы, раздавал пассажирам налево и направо вымученные улыбки, пока его, совсем обессиленного, какая-нибудь коллега-стюардесса не уводила в полупустой первый класс, где укладывала в кресло и, словно большого несчастного ребенка, укрывала теплым пледом.
И вот однажды хмурым октябрьским утром Боб проснулся в номере гостиницы «Москва». Под потолком комнатки на мансарде проходила бетонная косая балка, на которой можно было с комфортом повеситься. Открыв глаза, он мучительно долго вспоминал, в какой город занесла его судьба. Его измучила девятичасовая разница во времени, потому что минувшей ночью он вернулся из Торонто. Он решил, что домой больше не пойдет.
– Уважаемые пассажиры, через несколько минут мы совершим посадку в аэропорту Белграда. Прошу проверить, правильно ли застегнуты пояса безопасности, подняты ли спинки сидений, закреплены ли откидные столики. Прошу погасить сигареты, если вы еще курите. Спасибо!
Механически произнося обычные при посадке слова и фразы, он смотрел на светящийся в ночи под крылом самолета город и вдруг мгновенно принял решение – история его семейной жизни банальна, просто это одна из бесчисленных трагедий, разыгрывающихся сейчас под этими вот абажурами и люстрами! Его история не может послужить сюжетом даже для рассказа в дамском журнале.
Тем не менее следовало считаться и с этой женщиной, которой выпало на долю стать супругой тайного Дон Жуана, переодетого в униформу стюарда. Она вышла за него замуж слишком молодой, покинула уютный дом уважаемых родителей, пережила долгие годы бытовой неустроенности и воспитания девочки, которая с возрастом все больше походила чертами характера на своего несерьезного отца: легкомыслие, преувеличенное пристрастие к необязательным вещам и, в конце концов, непредсказуемость и склонность к бессмысленным тратам. Она рассчитывала, что их любовь будет длиться вечно, до самой смерти, как это обычно кажется, но уже через несколько лет стала замечать, что Боб время от времени как бы отсутствует (часто он исчезал, вглядываясь мысленно туда, куда ей доступа не было), и все сильнее в ней оживали черты характера матери, которая в любую минуту своего брака точно знала, где находится муж и чем он занят, когда он уйдет на службу и когда с нее вернется. Но с Бобом все было не так! Он уходил из дома, когда его просил к телефону незнакомый голос, иногда посреди ночи, иногда на заре, зачастую по воскресеньям и праздникам, когда все мужья, независимо от рода занятий, проводили время со своими семьями. Его ночи чаще проходили в гостиничных номерах, а не в супружеской постели, а постоянное присутствие стюардесс, вечно привлекательных и улыбающихся женщин, которые могли позволить себе самые дорогие наряды и самую дорогую косметику, пробуждало в ней неприкрытую ревность, часто доводившую ее до отчаяния. Рассеянный Боб возвращался из долгих рейсов по теплым морям с карманами, полными пляжных фотографий, на которых рядом с ним всегда было несколько красавиц из экипажа, которые обнимали и целовали его прямо перед объективом. Она часами рассматривала их, пытаясь угадать, которая из них есть та самая разлучница, которая навсегда уведет у нее мужа. Мещанская заботливость и строгое семейное воспитание боролись в ней с несколько авантюрной профессией мужа. И хотя Боб Деспот рос по службе, превратившись из обычного стюарда во флайт-директора, а затем и в главного инструктора, хотя он и старался, чтобы его случайные связи не подвергали испытаниям на прочность семейную жизнь, верить ему было нельзя. Никто, кроме тех, для кого полеты – профессия, не знает, насколько это тяжкий труд. Несколько раз Боб летел из Чикаго, Торонто и Сиднея, получив сообщения о том, что самолет заминирован. Он парил над океаном, размышляя о том, в какое именно мгновение его, самолет и пассажиров разнесет на миллионы кусочков. Частые опоздания и посадки в тяжелейших условиях, многочасовая разница во времени и молниеносная смена климата, которые вынужден терпеть и перебарывать организм, а также агрессивные пассажиры, убивающие алкоголем страх перед полетом, – все это делает жизнь членов экипажа совсем не такой, какой ее представляют себе другие. После каждой авантюры Боб осыпал свою маленькую семью тысячами мелких знаков внимания и горами подарков. Он отправлялся с ними в прекрасные и увлекательные путешествия, лишь бы подавить в себе чувство безмерной вины перед ними. Внешне казалось, что он – самый внимательный муж и отец в мире, но на деле вина его перед любовницами и семьей становилась все глубже. В последние годы брака жена вообще отказалась выходить с ним куда-либо. Ее преследовала мысль о том, что все вокруг знают о тайных связях Боба, что все за спиной издеваются над ней. Любое случайно оброненное замечание или двусмысленность, произнесенная в ее присутствии, могла выбить ее из колеи и превратить последующие недели их жизни в настоящее пекло. Наконец, когда Боб на самом деле ушел из дома (часто она клялась, что без него жила бы в сто раз лучше), она возненавидела его за то, что, как ей показалось, он опять перехитрил всех, избавившись от семейных обязательств – мальчишка, который все никак не старится, – присвоив при этом самое драгоценное, что только было и есть в их жизнях – Белу, которая, несмотря на то, что безоговорочно приняла в конфликте сторону матери, все-таки любила его, хотя никогда в этом не признавалась. Для нее отец всегда был кем-то вроде волшебника, все время в прекрасном настроении и красивой униформе, с входным билетом в самые интересные места мира, куда многие и не мыслили добраться. Матери, конечно, оставалась менее выигрышная роль домохозяйки, вынужденной постоянно решать неинтересные, скучные ежедневные проблемы готовки, стирки, глажки, суровой экономии и исполнения кучи прочих мелочей, в то время как отец спускался с неба, надевал накрахмаленные и выглаженные рубашки, чтобы вновь взлететь в облака. Когда ее оскорбленное самолюбие решило уничтожить мужа, оно избрало самую страшную месть – запрет встречаться с Белой, обосновав жестокое решение новой любовной связью Боба с молоденькой моделью, которая якобы заставит тратить на себя и свой исключительно дорогостоящий гардероб все деньги до копейки, ничего не оставляя дочери. Почувствовав, что за этим кроется, Боб увеличил выделяемые на содержание Белы суммы вдвое, но и это не помогло – дочь не желала видеть его.
Он провел ночь в горячке, не снимая униформы. Утром поднялся и подошел к окну, а под ногами у него все еще колыхалась Атлантика. Снаружи шел дождь. Площадь Теразие пересекал наискосок мокрый пес. Было воскресенье. Он почувствовал пугающее одиночество. Он провел неисчислимое количество ночей в гостиничных номерах, но до сих пор ни один из них не становился его жильем. Его дом был в нескольких сотнях метров от гостиницы «Москва». Стоило только прийти и открыть дверь своим ключом, чтобы все изменилось. Но он не мог этого сделать. Посмотрел на свою не распакованную дорожную сумку, безмолвно лежащую посреди комнаты на ковре. В ней было все его имущество. Он открыл ее и вытащил бутылку виски. Он даже не заметил, как сумрак, словно шпион, просочился в номер. Бутылка опустела, решение стало окончательным. Назавтра он позвонил домой. К счастью, трубку сняла Бела. Сообщил, что он сейчас в Белграде, остановился в гостинице «Москва». Ничего не меняется, продолжил он, просто папа некоторое время поживет отдельно от них. Она молчала. Спросил, когда ему лучше зайти за вещами, и она ответила, что в любое время. Мамы здесь не будет, добавила она.
Он попытался открыть дверь подъезда, но замок заменили. Он позвонил, и появилась Бела в розовом балетном трико. Они обнялись, не произнеся ни слова. Он привез ей новые коньки и балетные туфли. Она молча положила их на стол и продолжила упражняться перед большим зеркалом.
– Мама сказала, ты можешь взять все, что захочешь… – крикнула она ему, выполняя pas des deux. Он не отобрал почти ничего. Пробежал взглядом по книгам и понял, что почти все их прочитал, а другие читать вообще не станет. Открыл дверцы платяного шкафа с таким чувством, с каким, наверное, змея смотрит на свою только что сброшенную шкуру. Вся эта одежда была, собственно говоря, всего лишь коллекцией неутоленного самолюбия. Он взял только потертые джинсы, ставшие для его второй кожей, черный кашемировый джемпер, с которым у него были связаны многочисленные воспоминания, и свой пистолет, «беретту». Да, и еще вьетнамскую куртку, которую купил в Чикаго, в живописной лавке “Army shop”, где продавалась бэушная военная амуниция. Он любил эту поношенную куртку за четыре огромных кармана, в которых могла поместиться куча вещей, и за капюшон, который можно было при желании вытащить из воротника. Боб, кстати, терпеть не мог зонты и головные уборы. Потом он заглянул в комнаты. Всюду был идеальный порядок. Он почувствовал себя вором, проникшим в чужой уютный мещанский дом. Наконец-то он стал здесь совсем посторонним. Он оставил свои старые, теперь уже бесполезные ключи на комоде перед зеркалом и не спеша вышел из дома, не прерывая вдохновенный танец Белы. Точнее, прокрался как вор, сопровождаемый танцем белого лебедя, умирающего под музыку Петра Ильича Чайковского.
I will survive
Так он потерял в своей жизни очередной дом. Сам удивился легкости, с которой перенес утрату, которая любого другого бросила бы в бездну отчаянья, но, похоже, Деспоты за всю историю своего рода выработали генетическую способность легко захватывать и терять государства, страны, феоды, села и очаги, не говоря уж о мещанских квартирах.
Вскоре он покинул слишком дорогую гостиницу, в которой у него не хватало уже духу лгать администратору, что дома идет ремонт, и, сменив несколько тайных убежищ, некоторое время ночевал в плавучем ресторане, бросившем якорь у берега Ады Цыганлии[3], в комнатке временно отсутствующего ночного сторожа. Боб дружил с хозяином дебаркадера и ночами сидел в ресторане, дожидаясь ухода последнего клиента. Странно, но именно в то время он пользовался бешеным успехом у женщин. Их как будто притягивал этот одинокий, замкнутый человек, все время пьющий без закуски за одним и тем же столиком. Он был самым внимательным слушателем, ничего не рассказывал о себе и своей жизни, но его окружала какая-то особенная аура. Казалось, он полностью самодостаточен. В то время он действительно много пил. Проснувшись, начинал с чего-нибудь крепкого, чтобы успокоить трепещущие нервы, потом переходил на пиво (убеждая себя в том, что ему необходим витамин В), а вечера заканчивал белым вином. Он оставался на дебаркадере, который легко колыхался на волнах Савы, воображая себя во время долгого путешествия сквозь ночь капитаном. За иллюминатором слышалось натужное гудение буксиров, которые тащили баржи вверх по реке, которая по утрам в белом тумане выглядела девичьи чистой, словно только что родилась на белый свет.
Однажды октябрьским утром, когда на дебаркадере закончилась вода, он разделся до пояса и направился к водоразборной колонке на берегу. Он шел по толстому бревну, соединявшему дебаркадер с берегом. Балансируя над рекой (трап был поднят), Боб заметил, что с берега на него смотрит цапля. И вдруг расхохотался словно сумасшедший: будто он покинул собственное тело и с берега впервые увидел серьезного мужчину средних лет, замершего в центре бревна с туалетными принадлежностями под мышкой. Что это за смешной мужик и что он делает ранним утром над рекой, похмельный, небритый, с жесткой седеющей щетиной на лице? Он что, один остался в городе, фасады которого виднелись вдалеке, под мостами, разве нет у него собственного крова, нет мебели, гардероба, картин, книг, которые собирал годами? Испугавшись смеха, цапля взмахнула крыльями и, сохраняя достоинство, взлетела на безопасную высокую крону. Некоторое время спустя он снял небольшой мезонин в дворике на Чубуре[4], которая всегда ему нравилась. Друзья подарили ему самую необходимую мебелишку, стены домика были белые, как в монашеской келье. Бела ни разу не побывала в этом домике, она даже не знала, где живет отец, как будто боялась застать там настоящую оргию или оду из его любовниц. Ей был известен лишь номер телефона, а встречались они только в кафе, ресторанах и клубах. Боб начинал волноваться за несколько дней до свидания. Он старался быть элегантным, чисто выбритым, в начищенных ботинках, чтобы как можно тщательнее скрыть следы падения и приближающейся нищеты. Иногда случалось, что у него не было денег на подобную торжественную встречу, и тогда он брал в долг у друзей или продавал им что-нибудь из вещиц, которые им когда-то нравились. На прощание, после обеда или ужина, Бела получала несколько банкнот, независимо от того, как шли его дела. Он возвращался в свою берлогу во дворе с пустыми карманами, но с сердцем, переполненным любовью. Впрочем, он жил там в промежутках между двумя рейсами или сменами, а летал он больше других, соглашаясь на рискованные чартерные рейсы в горячие точки с таинственным товаром, которые оплачивались в двойном размере. Много раз с погашенными огнями его самолеты садились в Багдаде, когда там разрывались ракеты, освещая город как во времена тысячи и одной ночи.
Он питался готовой упакованной пищей от аэродромной обслуги и все время пил – днем виски, ночью седативные препараты, – но ему не удавалось напиться. Стюард, который уже пережил подобную ситуацию, выработал для него терапию и стратегию поведения.
– У тебя должен быть точный план на ближайшие два часа жизни! – советовал он. – Следующие два часа обедаю, а когда они пройдут, говоришь себе: теперь два часа сплю! Потом два часа лечу или гуляю. Так планируешь до тех пор, пока не станет немного лучше и ты не сможешь планировать уже на три часа вперед. Завтрашний день для тебя – далекое будущее! У тебя больше нет права на него!
К следующей встрече с дочерью Боб выбрался из кризиса. Он уже мог планировать жизнь на два дня вперед!
Короче говоря, началась самая важная битва в его жизни – борьба за Белу, которая попала в заложницы к собственной матери. Боб, как и многие отвергнутые отцы, регулярно платил за свои прежние грехи и старался успокоить свою нечистую совесть.
Наступили трудные времена. В мае 1992 года Великая всемирная блокада прекратила полеты отечественных самолетов. Боб Деспот, стюард международных авиалиний, приземлился на неопределенное время. Очень многие также остались без работы. Стюардессы радовались, когда удавалось устроиться на работу администратором или в какую-нибудь лавку, а летчики покидали страну в поисках полетов на любых условиях или брались за любое дело, лишь бы выжить. Однажды Боб увидел молодого капитана «боинга», который на Бульваре продавал с капота чьей-то машины набор инструментов в металлической коробке и африканские сувениры. Он прошел мимо, сделав вид, что не заметил пилота. Но в следующее воскресенье уже не сумел избежать встречи с флайт-директором, вместе с которым облетел всю планету; тот продавал свою коллекцию маленьких бутылочек с напитками, которые собирал долгие годы. Они открыли пузырек двенадцатилетнего “Chivas regal”, чтобы отпраздновать встречу.
Боб Деспот, который всю жизнь занимался стариной и живописью, возобновил старые знакомства и занялся посредничеством в торговле антиквариатом, по которому внезапно обогатившиеся нелегальные поставщики оружия и боеприпасов просто сходили с ума. Во время Великой блокады был уничтожен средний класс, и на рынке появилось много антиквариата и произведений искусства. Боб стал тем, кого в таких делах называют «первой рукой» – посредником между бывшими владельцами и крупными торговцами антиквариатом. Поспособствовав продаже одного Брака периода кубизма и двух симпатичных рисунков Кокто, он купил картину Савы Шумановича 1938 года и перепродал ее в несколько раз дороже. Большую часть своих заработков (Бог ему в том свидетель) он отдавал Беле. Только после этого он мог есть сам и выпивать с более спокойной совестью. Он ждал, когда вновь сможет полететь, и каждую ночь ему снилось, как самолет парит над облаками. Оставляя дом, он вовсе не надеялся, что Бела остановит свой выбор только на одном из родителей. Но сегодня ночью, после годичного перерыва, Бела предъявляла ему одно обвинение за другим, одно тяжелее другого. Со стороны казалось, будто они улыбаются друг другу, почти рекламная парочка: девушка невероятной красоты, на которую лился золотистый свет «Югославии», и элегантный, исключительно воспитанный голубоглазый мужчина с сединой в волосах. Никто даже не мог предположить, что в него одна за другой впиваются невидимые острые стрелы. Боб, конечно, был далеко не святым, но в эти минуты он чувствовал себя святым Себастьяном с сотней тонких стрел в теле, из-под наконечников которых стекают тонкие струйки крови.
Короче говоря, он был виноват во всем, и в первую очередь – в несчастной юности Белы! Раньше она не могла бросить ему в лицо всю правду, потому что была еще ребенком, но сегодня ночью она официально стала взрослой, так сказать, зрелой личностью, и теперь ему пора услышать всю горькую правду! Ее легко было обмануть, говорила она, и слова, словно пулеметные очереди, настигали одно другое, легко было врать глупой девчонке и покупать ее расположение подарками из дальних стран, разными там сережками и тряпками, которые наверняка выбирал не он, а его бляди, лишь бы доставить ему удовольствие. В самом деле, разве мог он, мужчина, выбрать именно такое боди или платье для коктейлей от Клода Монтано?
– Ты успокаивал свою совесть! – бросала она ему прямо в лицо. – Вот чем ты был занят!
Неужели он верил в то, что откупится от нее жалкими алиментами, которые адвокат вручал ей с гнусной улыбкой, будто маленькой нищенке? Он убивал время в лучших отелях мира и на пляжах, ел в китайских ресторанах и был загорелым уже в марте, в то время как они с матерью мерзли в холодной квартире, потому что денег не хватало даже на отопление! Или он думает, что осчастливил ее походами на эти скучные обеды и ужины в дорогих и модных белградских кабаках, во время которых распускал перед ней хвост, знакомя ее с величайшими снобами города, которых она дико презирает? Да эти ебаные обеды, которые выставляли его перед обществом в выгодном свете, были просто настоящей мукой для нее! «Тебе бланманже или фаршированные блинчики?» И каждый раз избегал той единственной правды, которую все-таки надо сказать, прямо в глаза.
В глазах Белы сияло мерцающее бешенство победительницы, наносящей последний удар своей жертве. У пришибленного Боба здесь, на танцевальной площадке, обращалась в прах и пепел годами взлелеянная иллюзия дочерней, пусть даже и тайной, любви и обожания; он танцевал, стараясь не ступать на осколки своей мечты. Он не смог произнести ни единого слова.
Тут «Ностальгия» прекратила играть и грянула помпезный туш, который, несмотря на невероятную громкость, не мог заглушить грохот пульса, на каждое обвинение отвечающего мощными ударами в виске Боба. Краешком уха он слышал, как неутомимый Балканский объявляет начало какого-то конкурса на звание лучшей танцевальной пары «Югославии», обещая победителям семидневное пребывание для двоих «в солнечной Венеции – этой прекрасной королеве Адриатики», и все это благодаря нашей самой знаменитой туристической фирме, генеральный директор которой одновременно будет председателем жюри, составленного из нашей уважаемой публики. За длинный стол, украшенный, как иконой, рекламой турфирмы, уселись члены жюри, среди которых Боб увидел своего гимназического друга Чоркана, беженца из Сараево, который под сиянием софитов напоминал летучую мышь, пришпиленную гвоздями к стене мрака. Все, что он слышал, было многократно усилено колонками. До него доносились слова типа «маркетинг», «оффшорные компании», «круизы»… И все это время Бела не прекращала обвинительной речи.
– Да ты хоть понимаешь, кто ты такой? – спрашивала она сквозь слезы, закипая от злобы и отвращения. – Ты… ты предатель! Ты предал нас. Ты меня предал!
Словно ребенок, разбивший драгоценную вазу, Бела вдруг испугалась своих слов. Они стояли в толпе танцоров и молча смотрели друг на друга, не решаясь ни разойтись, ни продолжить начатую ссору. Бобу было неловко отправляться к столам выпускников, а ей казалось невозможным присесть за стол юбиляров. Третьего места для них не было, и потому им оставалось только стоять и ждать, чем все это завершится.
Бела глубоко и с облегчением вздохнула. Наконец-то она освободилась от тяжкого груза, который так долго угнетал ее. Но вдруг ей стало жалко этого раненого человека, ее случайного отца, который стоял перед ней, опустив руки, не в состоянии даже принять более приличествующую случаю позу. Целый год она ждала этого момента, тщательно подбирая каждое слово, которое она бросит ему в лицо при встрече, но сейчас от ее триумфа ничего не осталось, кроме пустоты и боли, вызванной общим несчастьем и бессмысленностью произошедшего. На плече его блейзера она заметила два седых волоска, и это тронуло ее: едва удержалась, чтобы не стряхнуть их.
– Папа… – попыталась произнести она, но голос подвел ее, оставив лишь бледный след на дрожащих губах.
Антракт
– Нет, с меня на самом деле хватит! – сказал Боб. – Я тебе скажу кое-что: не бывает бесконечной любви. Я свою растратил до последней капли. Забудь, что у тебя есть отец, и отправляйся-ка за свой стол. Впрочем, меня не так уж и трудно забыть. Сообщи только номер счета, на который я буду перечислять тебе деньги. Чао!
Он отправился к своему столу. Голова налилась кровью, сердце бешено стучало, порываясь выскочить из грудной клетки. Он почувствовал, как трещит его череп. Дикая боль поднималась от грудины к горлу и сдавливала его. Не хватало воздуха. Он ощупал внутренний карман в поисках таблеток, которые прописал ему доктор именно на такой случай, но они остались в старом костюме. Смешно было платить смертью за элегантность! Хотя бы глоток виски… Но напитки были далеко.
В этот миг перед ним нарисовался Балканский.
– О, вы решили покинуть нас? – воскликнул он с отчаянием в голосе.
– Совершенно верно, я решил покинуть вас! – ответил Боб.
– Когда-нибудь ты пожалеешь об этом! – кричал откуда-то с верхотуры его отец. – Будут у тебя свои дети, и они рассчитаются с тобой за меня!
– Но ведь это невозможно, совершенно невозможно! – верещал Балканский. – Конкурс начался, и вы в нем участвуете! Неужели вы нам все испортите?
– Я не участвую в конкурсе! – сказал Боб.
Бела замерла и побледнела.
– Божественная пара! – воскликнул Балканский. – Какая пара! Встреча поколений! Молодость и красота танцует со зрелостью и элегантностью! Неужели вы в состоянии бросить юную даму?
– Я его дочь, – сказала Бела.
– Да здравствуют дети наших родителей! – вскричал Балканский. – Символично! Великолепно! Отец и дочь! Только этого нам не хватало сегодня ночью!
В голове у Боба стучало. Хотя бы глоток чего-нибудь покрепче!
– Почему вы не уговариваете папочку станцевать? – насел Балканский на Белу, которая дрожала, как тростник на ветру.
– Папа, прошу тебя… – через силу прошептала она, коснувшись его длинными бледными пальцами. – Останься ненадолго!
Почему бы и нет, подумал он. После всего случившегося это, пожалуй, единственное, что он может дать Беле: пару сумасшедших танцев на дурацком конкурсе, а потом жюри все равно спишет их. Кто знает, когда еще у него появится возможность побыть с ней наедине? Он уже пожалел о своих словах про растраченную любовь и деньги. Все Деспоты вспыльчивы, но отходчивы. По глазам Белы он понял, что одержал победу, но это его не обрадовало. Он победил плоть от плоти своей, родную свою кровиночку. Победил единственное оставшееся у него дорогое существо. Это была Пиррова победа.
Боб задыхался. А вдруг это – последний шанс все исправить?
– Какой у вас номер, уважаемый? – Балканский заглянул ему в лицо, хватаясь за внезапно всплывшую соломинку. Деспот с ужасом обнаружил, насколько стар этот фальшивый юноша. Его лицо, покрытое толстым, потрескавшимся слоем актерского грима, напоминало морщинами и складками пустыню в Эмиратах, увиденную с птичьего полета. Лысина, по которой ползли редкие пряди, сильно вспотела. Он вдохнул дешевый запах одеколона и прочитал в его глазах мольбу: отказываясь танцевать, Боб лишал его куска хлеба. Его охватила жалость к этой большой потасканной кукле, отчаянно боровшейся за существование.
– Номер у вас какой, уважаемый? – опять взмолился Балканский.
Боб вспомнил, что в начале вечера ему всучили какой-то номерок. Появился прекрасный повод добраться до спасительной бутылки виски.
– Он на столе… – ответил он. – Пойду принесу.
Бела стояла в балетной позиции номер один, следя за ним огромными глазами, исполненными надежды. Он и забыл, когда видел такой взгляд. В последний раз, когда на Каленичевом рынке она просила его купить щенка-овчаренка, ворочающегося в картонной коробке.
«Придет смерть, и у нее будут твои глаза…» – пронеслись в его сознании строки Павезе. Кровь хлынула в голову; казалось, она вот-вот разлетится на миллионы осколков. В ушах страшно гудело – это его траченый организм в панике ударил в набат.
Беле стало страшно – она поняла, что переборщила. Она не знала, что сказать или сделать, а Балканский все скакал вокруг них, непрестанно бормоча что-то о символичности их танца, о встрече двух поколений, о красоте любви и танца, которая может спасти мир.
Холодный пот струился по спине Боба. Смерти он не боялся. Страшно было пережить удар и остаться неподвижным. Кто станет ухаживать за ним? Последние годы он провел как одинокий волк, весьма довольный таким способом существования. Да, мог спасти револьвер, но как дотянуться до него, если это все-таки случится именно сейчас? Он часто задумывался о возможности самоубийства. Прыжок из окна неприемлем. Слишком много останется времени для того, чтобы задуматься о встрече с асфальтом. Повешение казалось ему отвратительным, таблетки не гарантировали абсолютного успеха. Резать вены – Боб на дух не переносил вида крови. Если на медосмотре ее брали у него на анализ, он отворачивался и закрывал глаза, даже если кровь брали из пальца! Газа в Белграде давно уже не было. Он вспомнил старое высказывание Жана-Ришара Блока о том, что мещанин – свинья, желающая умереть естественной смертью.
Он направился к юбилейному столу, стараясь шагать прямо и уверенно. Залпом выпил бокал виски, лед в котором уже давно растаял. Пока он наливал вторую порцию, директриса оторвала взгляд от пищи и спросила, не кажется ли ему, что он слишком долго танцует с девушкой?
– Это моя дочь. Я давно не видел ее.
Все облегченно вздохнули, устыдившись похабности собственных мыслей.
Он вернулся на танцплощадку, вытащил из нагрудного кармана блейзера картонный номерок, который все время там и покоился, и протянул его Балканскому.
– Ваша фамилия, уважаемый? – спросил Балканский.
– Деспот, – коротко отрезал Боб, ощущая, как вместе с виски в жилы возвращается жизнь.
– Пара номер тридцать семь, семья Деспотов! – ухватился за микрофон Балканский. – Отец и дочь Деспоты!
Так Боб, спустя много лет, опять начал соревнование.
An der schönen blauen Donau
Хотя в Сараево все еще водились господа, Господином называли только его. «Господин идет!» – неслось по коридорам классической гимназии, и он появлялся в дверях класса как праздник, который всегда с тобой, в своем блейзере, на груди которого сияли золотые пуговицы с гербом британского Королевского военно-морского флота, напоминающие звезды, светящиеся в вечной тьме хмурой сараевской скуки. В то время преподавателей положено было называть «товарищ профессор», но он никогда не требовал от учеников называть его именно так, и для всех них, независимо от возраста он был Господином. Высокий, всегда осанистый, с импозантным носом, сорокалетний мужчина с зелеными кошачьими глазами, усыпанными множеством рыжих крапинок, с роскошными каштановыми волосами, которые прядями ниспадали на невероятной белизны воротник, словно не был родом из Боснии (а родился он, сын землемера, в крохотном провинциальном городке). Он шел по Башчаршие мимо источенных червями деревянных ставен ювелирных, шорных, седельных и портновских лавок совсем как Лоуренс Аравийский, обходящий золотые ряды на базаре в Абу Даби. И в тот же миг эта фантастическая картина, пропахшая горелым маслом и едким дымом мангалов, превращалась в кадры из фильма, отснятого в какой-нибудь экзотической стране. Наверное, он был единственным преподавателем, которого никогда не подвергали «выкликанию» – подлому сараевскому школьному обычаю, когда за спиной жертвы кто-то, оставаясь незамеченным, непрестанно «выкликает» имя жертвы, доводя ее до белого каления.
Господин был первым, в самом деле первым господином, с которым Боб Деспот познакомился в своей жизни и который навсегда остался для него непревзойденным arbitrum elegantorum – неизменной мерой элегантности в одежде, даже в годы, когда он уже познакомился с величайшими достижениями знаменитейших модных домов мира. Нигде и никогда больше, кроме как в свои юные сараевские годы, Боб не видел, чтобы кто-нибудь носил в специально сшитом маленьком карманчике зимнего пальто из черного кашемира роскошно уложенный белоснежный платочек! Он будто специально провоцировал одеждой и поведением город, бесенеющий от невысказанных угроз и проклятий, город, который никогда и никому не прощал более мелких выходок.
Всю свою прекрасную и редкостную одежду, совершенно неизвестную жителям Сараево, он привозил из Франции, куда ездил два раза в год (во время зимних и летних каникул) вроде как к своему старому дяде, откуда возвращался еще более элегантным, с утонченным взглядом и побледневшим лицом, изможденным в результате каких-то тайных наслаждений. Создавая собственный воображаемый гардероб, Деспот не мог избежать мощного влияния неисчерпаемого, казалось, гардероба Господина, из которого щедрым потоком вываливалась неслыханно рафинированная одежда: твидовые пиджаки с кожаными заплатами на локтях, серые брюки из чувственно-мягкой фланели, плюшевые жилеты цвета спелой вишни, сдержанно полосатые рубашки с белоснежными воротничками и галстуки приглушенных оттенков с едва различимым рисунком, не говоря уж о практически декадентских замшевых башмаках на толстой резиновой подошве, в которых он двигался мягко и эластично, словно дикая, слегка сонная кошка. Как Деспот ни старался, ему так и не удалось добиться хотя бы частичного сходства с блеском черных шевровых ботинок Господина, сияющая поверхность которых, идеально повторяющая облик ступни хозяина, отражала Сараево, словно Господин ступает не по его грешным, летом пыльным, а зимой грязным улицам, усыпанным окурками и покрытым жидким слоем вечной грязи.
Много лет спустя, уже летая, он оценивал пассажиров не глядя на лица и одежду, исключительно по блеску их обуви, и ни разу не обманулся в них. Это было не хвастовство левантийских бездельников, одежда которых вечно не подходит к начищенной обуви (они ходят к чистильщикам со скуки), ни идеальный блеск мокасин “college” американских дипломатов, подошвы которых ступают исключительно по белым коврам посольств и лифтов (их блеск стерилен). Идеальная чистота и блеск обуви Господина были куда выше – это была частица непреходящей схватки с примитивным, привычно унизительным образом существования человека, которого боснийская грязь разъедала от подметок до макушки.
Никто не помнит, когда он как-то послевоенной осенью вернулся из Загреба после окончания курса истории искусства, но вскоре, благодаря своей экстравагантности, стал одним из самых примечательных символов города. Фанатичный холостяк, который всем своим образом жизни старался доказать и продемонстрировать бессмысленность существования института брака, он жил в небольшой комнатке, в которой никто никогда не бывал, а питался в «Европе», в тихом и всегда полупустом обеденном зале, на стенах которого во множестве висели картины малых боснийских и австро-венгерских художников начала века, старательно отображавшие сараевские мотивы. Обычно его обслуживал обер-официант Франц в бакенбардах, который вечно хвастал, что в этом самом зале он сервировал последний ужин эрцгерцога Фердинанда. Господин сидел всегда за одним и тем же столиком, а летом, когда иностранные туристы кишмя кишели в Сараево, он, помимо обычного, заказывал еще три тарелки супа и ставил их перед пустыми стульями – чтобы защититься от захватчиков.
– Занято! – объявлял он им на пяти или шести безупречных по произношению языках, после чего долго и задумчиво курил над медленно остывающим в тарелках супом.
Он любил повторять, что промахнулся в выборе эпохи. Если бы ему предложили, он выбрал бы время, в котором достраивали соборы в Шартре и Реймсе, или те благословенные годы, когда непревзойденный Леонардо ругался с гениальным горбуном Микеланджело Буонаротти на Piazza della Signoria, или во Флоренции, его самом любимом городе. Да, и хорошо было бы немножко послушать Амадея, сочиняющего «Реквием», обычно добавлял он.
Он с презрением относился к нашему провинциальному искусству, потому что оно было всего лишь далеким эхом того настоящего, всемирного, а иногда перед избранными раскрывал свою тайну, заключавшуюся в том, что он много лет работает над большой сравнительной энциклопедией искусства, которая в корне изменит наши привычные представления о надуманных авторитетах и их значении. В этой энциклопедии, где прославленный «Аполлон» всего лишь обычный телефонный справочник, в алфавитном порядке будут напечатаны сведения о лицах и их деяниях, частично соотнесенные со временем и точными датами. Несчастный хромой Вук[5], говорил он, публикует первый «Словарь» нашего языка в 1818 году, точно в тот год, когда лорд Байрон, также хромой, пишет “Child Harold”, произведение, исполненное такого сплина, высоты которого, by the way, мы до сих пор не достигли. В 1907 году Пикассо заканчивает «Девушек из Авиньона», именно в то время, когда наша славная девица Надежда Петрович привозит из Мюнхена импрессионизм и ее оплевывают за это никчемное новаторство! Вот и посмотрите, где мы с вами живем! В своей болезненной утонченности он заходил так далеко, что начинал ненавидеть даже море. «Поверьте мне, это так ужасно! – говаривал он, возвращаясь из поездки на курорт. – Невыносимое количество ультрамарина!»
Есть люди с абсолютным музыкальным слухом, а в некоторых сараевских художественных салонах про Господина говорили, что он обладает абсолютным вкусом. Он любил «отнимать» у художников незавершенные работы, восклицая: «Нет, нет! Ни мазка более! Это – Вы! Еще один взмах кисти, и все испортите!»
Он пользовался идеальным литературным языком, а в отдельные мгновения прибегал чуть ли не к речитативу, а сараевский местечковый говор, проглатывание некоторых гласных и вечная путаница с мягким и твердым «ч» доводили его до бешенства. Он рассматривал это как атаку на слух и непристойное поведение в обществе. Расхаживая между партами, он с легкостью раздавал оплеухи и затрещины маленьким раздолбаям, восклицая во весь голос:
– Так можно разговаривать на рынке, но не здесь! Это Первая классическая гимназия в Сараево, в которой учился некто Иво Андрич[6]!
Он словно предчувствовал, что вскоре наступит диктатура сброда и даже дети из отменных сараевских семей, чтобы как-то защититься, прибегнут к мимикрии и начнут говорить как уличная братва:
– Ну чё, мужики, куда, блин, кости бросим? Ну чё, бабки есь? У мня ни шиша! – Слово «мужик», обычное сараевское присловье, обозначающее городских парней, приятелей, приводило его в невменяемое состояние.
– Круто, блин, наш Господин – прикольный мужик! – похвалил его однажды один из выпускников.
– Какой я вам мужик? – вскричал он. – Мужик – человек низшего сословия, невоспитанный, невежа! Я же – свободный образованный человек, а не презренное стадо, не скотина!..
– Ну, вздрочился… – прокатились по коридору комментарии, и в жестких согласных почувствовались падающие на пол капли яда.
– Брешет! – порешили другие, и вскоре по Гимназии пошли слухи о том, почему именно Господину так нравятся мальчики и отчего он избегает дамского общества. Кольцо ненависти и презрения все туже стягивалось вокруг него, словно шелковый шнурок какого-то катул-фермана. Вскоре разгорелся большой скандал. Оказалось, что Господин вовсе не закончил Факультет истории искусства, просто после войны не очень-то обращали внимание на такие вещи. Короче говоря, из гимназии его уволили. Реже стали приглашать на чашку чая в сараевские салоны, а молодые художники, за творчеством которых он лишился возможности следить, уже не обращались к нему как к третейскому судье. Не случайно старый Рахалеи Моше Леви записал на первой чистой странице Талмуда: «Человек похож на корабль: когда он тонет, все покидают его».
Прошло много лет, и однажды, когда экипажи Югославских авиалиний размещались в гостинице «Европа», Деспот спустился в старинный австро-венгерский ресторан, чтобы увидеться с Господином, но за его столом сидели незнакомые посетители.
– Господин давно нас покинул! – сообщил ему новый обер с лицом здорового крестьянина, обрамленным баками, и рассказал, что цены для него стали слишком высокими, и Господин переехал в дешевую гостиницу «Централь», но сейчас его и там нет. Похоже, след его простыл. Боб обнаружил его в ресторане самообслуживания на Главной улице. Сначала ему было весьма неприятно, что его застали за тарелкой фасоли без мяса и салата, но минуту спустя Господин засверкал былым величием:
– О, юный Деспот слетел в наше родное пекло прямо с неба! Увы, теперь даже ностальгия не такая, как прежде!
Несмотря на убогий обед и неприличное общество, несмотря на то, что в заведении не было салфеток, Господин заложил за галстук белый платочек. Его некогда густая и блестящая копна легионера поредела, и сквозь истонченные волосы просвечивал череп, усыпанный старческими пигментными пятнами. Свежая маргаритка украшала лацкан пиджака, издали напоминающего его прежние блейзеры. Он ощупал пальцами материал лацканов и сказал:
– Подумать только, будто у «Бови» купленный, а на самом деле в десять раз дешевле. Правда, название фирмы совершенно идиотское! Нет, вы только посмотрите: «Первый партизан»!
Но больше всего Деспота поразила обувь Господина, пара глубоких заскорузлых ботинок, покрытых засохшей грязью.
Вскоре Деспот узнал, что Господин умер в одиночестве (говорили, как крыса) в своей комнатке, где его обнаружили только несколько дней спустя. Было похоже, что он страшно мучился. Руки были искусаны, а вся домашняя утварь разбита вдребезги. Боб расспрашивал знакомых, но никто не слыхал, чтобы среди его вещей была «Сравнительная энциклопедия искусства».
Деспот не любил размышлять о последней встрече с Господином. Он хотел запомнить его на вершине сияющей славы, в тот давний вечер в большом зале отеля «Европа», когда Господину выпала честь открыть выпускной бал всех сараевских гимназий. Иоганн Штраус: «На прекрасном голубом Дунае». Стройный и гибкий, словно тростинка, Господин деликатно и нежно обнял свою прекрасную партнершу, преподавательницу физкультуры из Женской гимназии, и, словно скользя по льду, увлек ее в нежный вихрь вальса. И в то время, как все танцевали, кружась то в левую, то в правую сторону, он вращал свою партнершу исключительно против часовой стрелки, вызывая своим танцем гул восхищения. В мощном водовороте музыки и движения он был одинокой струей, рвущейся против течения.
И Боб Деспот, припомнив движения Господина, повел Белу влево, сметя для начала с пути пять-шесть молодых пар, понятия не имевших о том, что такое вальс.
C’est si bon!
Во время танца Боб Деспот вспомнил старый французский фильм, в котором Морис Шевалье с розой в петлице и в соломенном канотье, задорно сдвинутом на затылок, распевал эту песню, выбивая чечетку по парижским улицам. Цветочницы вступали с припевом, Париж сиял под апрельским солнцем. В партере кинотеатра «Козара» под ногами потрескивала шелуха от подсолнечных семечек. «Се си бо! По аллеям бродить твоим, воспевая любовь… – перепевали шансон певцы за железным занавесом. – И увидев едва нас с тобой, позавидует нам любой! Се си бо!»
Пианист поменял клавиши на вульгарную гармонику, но даже из нее он сумел извлечь типично французские аккордеонные звуки.
– Как дедушка? – спросила Бела.
«Это дитя и в самом деле умеет задавать уместные вопросы в подходящее время» – подумал Деспот и ответил:
– Дедушка умер.
– В самом деле? Как жалко… – сказала Бела. – Ты был на похоронах?
Нет.
– Почему?
– Было бы двое похорон одновременно… – ответил Боб. – Если бы вообще похороны состоялись!
– И где же его похоронили? – спросила Бела.
Не знаю.
«Типично семейный разговор! – произнес про себя Боб. – Во время танца отец сообщает дочери, что ее дедушка умер. Нормальный европеец, услышь он нас, наверняка бы подумал, что мы сошли с ума! Я беседую с дочерью о смерти неугомонного деда, и мы оба даже не знаем, где и когда его похоронили!»
– Когда это случилось? – продолжила Бела.
– Не знаю. Может, в прошлом году, может, в позапрошлом… Я сам об этом только полгода тому назад узнал.
– Ах, как мне жалко дедушку! – вымолвила Бела, вытанцовывая изящное па.
Боб знал, что она говорит это всего лишь для приличия. Ее мать терпеть не могла отца Деспота. Он был для нее слишком патриархальным, строгим человеком, старательно подчеркивавшим свое крестьянское происхождение. Некогда он был чиновником Государственных железных дорог и, рано овдовев, сам воспитывал единственного сына. Наверное, раньше самого Боба он узнал, что его сын несчастлив в браке.
Вот оно! По аллеям бродить твоим, воспевая любовь! Се си бо!– Как тебя зовут, красавица? – согнулся с эстрады в сторону эффектной рыжеволосой дамы-красавицы Балканский.
– Белоснежка! – отвечала та, не прерывая танца.
– Великолепно! Лучше семь раз с Белоснежкой, чем один раз с семью гномами!
Старый Деспот никогда не называл своего сына Бобом.
Для него он был Слободан[7] – имя, которым впервые в истории сербов назвался знаменитый профессор юстиции и публицист Слободан Иованович, довоенные издания которого он хранил на почетной полке даже в то время, когда автор попал в проскрипционные списки. Ему также не нравилось, что его сын ходил в американское консульство (обожал русских), но не препятствовал ему Несмотря ни на что надеялся, что ему это поможет в дальнейшей жизни.
Джордже Деспот был старосветским человеком со сложившимися привычками и распорядком жизни, которых он придерживался так истово, что по нему можно было сверять часы. Всю жизнь он читал только «Политику», за обед, который готовила ему старая незамужняя родственница, садился в половине третьего, ужинал в восемь и вставал в шесть.
Самой сложной задачей для Боба в молодости было проснуться до того, как отец вернется со службы. Он вскакивал за несколько минут до этого, мгновенно одевался, не умывшись, наскоро застилал смятую постель, открывал книги и делал вид, что прилежно занимается с раннего утра. Старый Деспот не мог понять людей, которые привыкли долго спать и ничего не делать. И когда Боб, в один прекрасный день завернувший в Сараево, сообщил ему, что устроился на работу стюардом, отец процедил сквозь зубы, что не для того он давал ему образование, чтобы сын стал «летающим официантом». И больше ничего.
Боб не припоминал, чтобы отец целовал его или ласкал. Максимальная нежность, на которую тот был способен, заключалась в приобнимании на ходу за плечи или в рассеянном похлопывании по плечу. Он почти ничего не знал о своей матери. О ней в доме никогда не говорили, после нее осталось всего лишь несколько фотографий, и, рассматривая их, он тайком рисовал в своем воображении ее портрет, расплывчатый, туманный, неотчетливый. На одной из таких фотографий она держит за руку маленького Боба, одетого в плюшевый костюмчик с галстуком-бабочкой, указывая другой, куда надо смотреть, пока тебя фотографируют. Только эту фотографию он взял с собой, покидая Сараево, и хранил ее как священную реликвию.
Мона Лиза, вот какое имя тебе дали… Потому, что так чудесен голос твой. Или, может, потому тебя прозвали, Что испуганно ты прячешь норов свой?«Ностальгия» раскручивала вертушку старых шлягеров.
– Им невмочь, а у нас впереди вся ночь, выжмем из нее все до копейки! – ворвался Балканский в песню, едва не проглотив микрофон.
Одна молодая пара покинула площадку: похоже, соревнование наскучило им.
Боб ощутил болезненную пустоту за грудиной. Он никогда не был близок с отцом, никогда ни в чем не уступал ему, каждый разговор с ним завершался бессмысленным препирательством, но теперь, когда старик ушел из жизни, он почувствовал, насколько не хватает общения с ним. Не было дня, чтобы он не припомнил его; часто ловил себя на том, что копирует его жесты, интонацию, манеру курить, даже перенял привычку вздремнуть после обеда, несмотря ни на что…
«Бессаме, бессаме мучо…» – это пианист бросил под ноги Деспоту пыльный ковер воспоминаний о первой семнадцатилетней любви. В памяти воскресли теплые летние ночи, когда под шум моря они с друзьями тайком просачивались на бетонные танцплощадки при гостиницах, смешиваясь с постояльцами, и песок с мелкими пляжными камешками скрипел под их ногами. «Бессаме, бессаме мучо…» И вечно там появлялся местный красавец в белом костюме и черной рубашке с выпущенным на лацканы воротничком, открывавшим золотую цепочку с Господом на курчавой груди. Обычно этот черно-белый альбатрос прижимал к груди затянутую в корсет пышнотелую туристку с Севера, кожа которой сочилась жаром летнего дня, проведенного на пляже. Обычно они с ребятами висели на невысоком заборе и с завистью рассматривали веселящихся людей, которые в состоянии были заплатить за пиво и большую порцию мороженого. Деспот явственно ощутил соленый запах моря и сосновой смолы. Ладонь Белы была теплой и доверчивой.
«Этот ребенок живет в мире утраченных запахов…» – подумал Боб с нежностью и грустью.
American patrol
Он никогда не видел, чтобы отец танцевал. И вновь его охватило давнее чувство вины за то, что занимается чем-то несерьезным и не совсем приличным. Мужчины не пляшут.
Он вспомнил отцовских друзей, которые вечерами собирались в их сараевском доме, хмурых и серьезных, похожих на заговорщиков. Они теснились на кухне (в то время зимой обогревались только кухни) и до глубокой ночи вели беседу. Все они были уроженцами Кордона, так и не привыкшими к Сараево. Они годами жили в этом городе, но не доверяли ему. Джордже Деспот был старшим, своего рода дуайеном небольшой компании, а поскольку он был вдовцом, его кухня с молчаливой старой родственницей в черном стала чем-то вроде земляческого клуба. Деспот еще помнил их странные фамилии: Мраович, Мамулла, Бакрач, Деврня, Ркман, Тепавац, Бастай, Пекеч… Были среди них судья и офицеры в отставке, но приходили и два носильщика – настоящие богатыри с огромными ручищами, похожие на джиннов из сказки. Старая родственница днями напролет стряпала вымоченную в вине вяленую баранину с капустой и картошкой, и дом насквозь пропитывался духом кухонного дыма и ветрами далеких гор. Они почти набожно ели эту пищу своего родного края, запивая ее тяжелым красным вином из Джеврсака, после которого в стаканах оставался густой осадок. Беседовали тихо, почти шепотом, а иногда запевали вполголоса песни, в которых нельзя было разобрать ни слова – только протяжное, утробное подвывание, которое неожиданно обрывалось страшным вздохом: о-ой!
Уйдя на пенсию, отец Боба принялся чертить большое родословное древо. Ему полагался бесплатный проезд по железной дороге, и он добирался до дальних родственников, где бы те ни проживали, лишь бы дорисовать еще одну веточку на раскидистой кроне дерева, корни которого уходили глубоко в золотые земли, которыми владели деспоты из туманных преданий и легенд, обладатели византийских титулов, самодержавные господари утраченной прародины. Подводя итоги долгой и тяжкой жизни крестьянского сына из села Деспоты, что в Коранских Лугах, на левом берегу изумрудной речки Кораны, который всю жизнь учился и выслужился наконец до должности чиновника Государственных железных дорог, старый Деспот нашел утешение в розысках собственных корней. Он считал, что жизнь не будет прожита напрасно, если он сумеет отыскать и переписать всех предшествовавших ему Деспотов, потому что сам он всего лишь мелкое звено в долгой цепи войн и страданий, былой славы и поражений. Это была серебряная нить, которая вела его сквозь тоскливые пенсионные годы. Это была надежда.
Он ходил по государственным архивам и монастырским хранилищам, искал списки “Statut Valachorum” 1630 года, на основании которого воины Деспоты поселились на Кордоне, чтобы защищать христианский мир от турецких набегов. Они пустили корни на караульном посту Деспоты, вокруг которого возникло одноименное село. Там и по сей день можно увидеть фундамент их сторожевой башни и остатки некрополя с грубо отесанными каменными надгробиями. В народе их зовут Церквина и Сватово кладбище. Как и многие другие сербы, Деспоты поселились тут, чтобы стать пограничниками, и подчинялись они не хорватским феодалам, а только Австрийскому двору. Они сражались с османами и в Великую турецкую войну 1683 года.
Они пришли на ничейную, опустошенную и выжженную землю. Непреодолимый пояс укреплений и караулов назывался красивым и таинственным французским словом Cordon. Парижские друзья Боба, у которых он останавливался между рейсами, удивлялись, почему он предпочитает прекрасному шампанскому “Moet et Chandon” куда более дешевое “Cordon rouge”.
– Это шампанское из моих краев! – обычно отвечал он, и все улыбались. – Только у нас оно называется «Кровавый Кордон»!
Так старый Деспот одинокими ночами путешествовал во времени вместе с поколениями своего рода, отыскивал гайдуков и повстанцев, капитанов и священников (один из Деспотов был в XVII веке игуменом монастыря Гомирье), узнавал имена офицеров и командиров «зеленого кадра» – дезертиров из австро-венгерской армии, разбойничавших на Петровой горе. Он хотел оставить сыну Слободану хоть какое-то наследство, искренне сомневаясь в том, что тот хоть чего-то достигнет в своей жизни. Ему, в сущности, хотелось опустить на грешную землю прадедов первого в истории рода Деспотов стюарда. На славном фамильном древе он отмечал, как и полагалось, только мужские имена: Марко Милош Николин; Иован Перо Джурин; Симо Алекса Йоков; Павле Сава Лукин; Дабо Стефан Тодоров; Петар Ачим Кузманов; Спасое Пека Джорджев; Заре Авакум Машев; Васил Яков Милутинов; Мате Митар Антов; Богич Видак Гаврилов… Единственное женское имя на родословном древе, на самой высокой веточке, расположенное вопреки всем правилам, было… имя Белы! Бела Слободана Джорджева.
Боб был из того поколения, которое научилось танцевать в спортивных залах, где по субботам и воскресеньям устраивались настоящие сиротские балы. Танцевали и в залах разных культурно-просветительских обществ, гимназистами иногда ходили на танцы, что устраивались в окрестных фабриках – табачной и чулочной, где девчонок всегда было больше, чем парней. Однажды в зале табачной фабрики Боб танцевал с невероятной красавицей. Когда она положила свою ладонь на его руку, Боб с удивлением обнаружил, что кожа на ней грубая и с трещинами. Бедная девушка нарезала на станке табачные листья. Впервые в жизни парень кожей ощутил социальные различия и устыдился этого.
В танцевальном зале «Согласие», куда приходили молодые люди и девушки из городских семей, танцы превращались в настоящий праздник – теплая мешанина молодых тел колыхалась под звуки джазового оркестра, который старался подражать Глену Миллеру. С возбуждением и дрожью Боб отправлялся туда, позаимствовав отцовский пиджак (широковатый в плечах) и его красный полосатый галстук, расстраиваясь из-за брюк, которые не вписывались в ансамбль, или из-за пятен на манжетах рубашки. В то время, когда Боб начал ходить на танцы, еще не было специальных курсов, да и нынешней свободы, когда каждый танцует так, как ему хочется. Все движения были строго расписаны, и каждый партнер должен был соблюдать правила. Тогда было очень трудно найти партнершу, так что каждый учился танцевать в одиночку, в лучшем случае держа в руках стул. Закрыв глаза, можно было представить себе любую девушку, не опасаясь наступить ей на ногу. Стулья позволяли делать с собой что угодно. Правда, они были несколько костлявы – молодые люди прекрасно ощущали их жесткие ребра. Невероятная картина: сотни и сотни сараевских ребят в пубертатном возрасте, вдохновенные, с отсутствующим взором, разучивают па «инглиш-вальса», держа в объятиях старые кухонные стулья с высокой спинкой и напевая:
Домино, Домино, Снова встретились мы в этом зале, Домино, Домино, Мы так долго об этом мечтали…Там, в «Согласии», сначала пугливо, с самого краешка зала, он совершенствовал свои первые шаги в танго, «инглиш-вальса», свинга и рок-н-ролла, отдаваясь на волю девушек, которые были недостаточно красивы для того, чтобы за них бились молодые люди, но, вопреки мелким недостаткам, были вполне достаточны для наслаждения самим танцем и, к тому же, обладали незаурядными педагогическими талантами. Там почти все были шапочно знакомы, ходили в одни и те же гимназии и в одни и те же часы гуляли по сараевским улицам. В туманной золотой пыли и запахах дешевых духов, смешанных с молодым потом, крылось волшебство, которое никогда более не открывалось Бобу в этой жизни.
Истанбул – Константинополис. Время от времени в танцевальный зал заваливались банды с окраины – группки опасных парней, глаза которых светились необъяснимой ненавистью. Они являлись, чтобы затеять ссору, ревнуя счастливых по сравнению с ними гимназистов и студентов, и вскоре начиналась драка; визг и треск раздираемых рубах, после чего струя крови из разбитого носа или с балкона проливалась на лощеный паркет или чье-то белое платье. После этого уже невозможно было восстановить порядок.
Злобная компания очень любила врываться в кинотеатры, где, скрываясь в темноте, срывала демонстрацию фильма выкриками и свистом, матом и разными прочими ругательствами, а если кто-то из зрителей начинал протестовать или просто сердито оборачивался в их сторону, то моментально подвергался настоящей пытке. В него швыряли шариками жеваной бумаги, семечками и галькой, а еще у них были небольшие металлические рогатки, и выпущенные из них согнутые гвозди запросто могли выбить глаз. Прочие делали вид, что увлечены фильмом; никто не смел противостоять им. Обычно они дожидались самого лирического эпизода, как правило, нежного поцелуя или затянувшейся кончины кого-то из героев, и тогда кто-то из них начинал орать: «Прикончи его, не хер ему страдать!» – или громко рыгал, или громогласно портил воздух, что вызывало особый энтузиазм прочих членов банды. В то время ходить в сараевский кинотеатр с девушкой, на которую желаешь произвести хорошее впечатление, было весьма рискованным занятием. Наметив жертву, они со всех сторон зрительного зала, разметав зрителей, бросались на него, натягивали на голову его же собственное пальто и лупили от всей души, словно мешок с зерном, после чего, по какому-то тайному, бесшумному сигналу исчезали под покровом тьмы, оставляя в зале униженную публику. После этого мужчины долго не смели заглядывать в глаза своих спутниц.
Однако Боба больше всего злили и переполняли бессильной злобой не эти вульгарные выходки во время сеанса, а то, что прочие зрители льстиво хихикали и подбадривали невидимых хулиганов. Ничего подобного Боб не встречал нигде в мире. Даже в самых страшных кварталах Нью-Йорка накачавшиеся наркотиками «черные пантеры», украшенные цепями, с кольцами в носу, в полной тишине кинотеатра спокойно смотрели порнофильмы. Если же решали кого-то ограбить, избить или убить, то делали это без всяких предисловий, чисто и профессионально, не привнося ничего личного, а уж тем более без унизительной увертюры.
В этих неожиданных, быстрых и предательских налетах Боб очень быстро увидел другую, тайную душу Сараево, которая никогда и никому не противопоставляла себя открыто. Целью этих людей было не победить, а унизить выбранную жертву, навсегда оставить в ее душе позорный шрам. Унижение было самым страшным секретным оружием в Сараево. В таком противоестественном и подавляемом провинциальном духе, уходящем глубокими корнями во времена турецкого рафинированного издевательства, у жертвы отнимали последнее право достойно, покоряясь судьбе, в чистоте уйти с этого света – перед этим ее следовало вывалять в грязи и унизить всеми возможными подлыми приемами и средствами – начиная с лживой сердечности на грани издевки, через добровольный отказ от всего, что было для жертвы родным и святым, до покорного склонения головы на плаху в ожидании, когда же наконец палач поставит точку. Эти образцы высочайшей подлости, знакомые Бобу с детских лет по улицам, танцам, стадионам и вечерним бульварам, казалось, ждали момента, когда можно было появиться из мрачной тени кажущегося благополучия этого города, выстроенного на лжи и затаенном, хорошо скрытом насилии, мимо которого жители Сараево проходили тихонько, не желая вмешиваться, не замечая его. А если и замечали, то начинали твердить, что такое, как ни крути, случается обычно с теми, кто заслужил такое обращение, и не пристало вмешиваться в такие дела.
И вот это зло наконец открыло свою сущность, вынырнуло 1 марта 1992 года перед маленькой православной церквушкой Святых Архангелов на Башчаршии, в которой некогда крестили Слободана Деспота. Три мелких городских уголовника, появившись внезапно, из ниоткуда, попытались отнять и сжечь сербскую православную хоругвь, которую несли сваты. Это не была героическая атака на вражеский стяг, как поется в народных песнях; подлый налет, точно как когда-то на танцевальные площадки в Сараево – просто обычный прием шпаны и мелкой дряни, которая спускается из крутых окраинных селений в город, чтобы ограбить кого-то или налететь со спины, после чего стремительно скрыться в спасительном мраке своих грязных переулков. Сваты воспротивились им, тогда бандиты вытащили оружие, убили выстрелом в спину отца молодожена, ранили священника и моментально исчезли, как и много раз до этого, по своему скользкому восточному обычаю. Сараево взорвалось! Знаменитый «боснийский котел» вскипел под крышкой фон Папена, и мощное, более полувека нагнетавшееся давление разнесло в клочки и сам котел, и поваров, и кухню, и дом, и улицу, и город, и наконец всю Боснию.
На позавчера еще, казалось, мирных улицах за ночь выросли баррикады, перед которыми не успевали подбирать мертвецов. Стаи в тысячи ворон хлопали крыльями в метре-полутора над асфальтом, не в силах взлететь под перекрестным огнем с гор над городом, но и на дне этого ужасного котла также невозможно было оставаться. Птицы нападали на людей, и кое-кто пытался объяснить это странной ионизацией воздуха в Сараево, в то время как другие восприняли это как страшное предсказание! Городом завладели уличные банды во главе с уголовниками и религиозными фанатиками. Началась торговля людьми, их существование очутилось на грани жизни и смерти. Самые приспособившиеся и ловкие, которых исторический опыт приучил к тому, что не стоит в бурные времена оставаться в Сараево, сумели вовремя выбраться, побросав все, что у них было. Прочие превратились в заложников, физическое существование которых зависело от воли случая или власти фанатеющих идиотов и психопатов.
When the saints go marching in
И вот сквозь апокалиптически разрушенный город, по насквозь простреливаемым площадям и асфальту, исковерканному снарядами, плетется колонна сараевских сумасшедших. Держа друг друга за руки или за полы длинных светло-голубых полосатых халатов, ведомые длинным, наголо обритым парнем в развязанной смирительной рубахе с фонендоскопом на груди, брошенные больные, словно колонна «Слепых» Брейгеля, плетется под перекрестным огнем снайперов и свистом мин, не тронутые ни единым осколком. После нескольких дней обстрела района психиатрическую лечебницу в Ягомире покинули врачи, санитары и охранники, а несчастные пациенты напрасно ждали, когда их накормят, дадут лекарства и примутся лечить электрошоком. Наконец они направились в больничный сад, где убедились, что ворота обесточены и распахнуты настежь. На одной из дорожек лежала мертвая собака. Они взялись за руки и спустились в центр города, жители которого намного превзошли их в сумасшествии. Они видели горящие дома и перешагивали через трупы, глядя на страшный пейзаж с дебильно любознательными улыбками – причудливой смесью вежливости и понимания: наконец-то их сумасшествие уравнялось с помешательством всего мира! Никто их не трогал. Где-то им давали еду и воду, где-то они снимали с трупа ботинки и кое-что из одежды, тут же надевая все это на себя, поверх больничных халатов. Занятые ненавистью, местью и спасением собственной головы, жители Сараево уступали дорогу слабоумной стае, блуждающей по городу В этом городе еще с турецких времен живут суеверный страх и уважение к тем, у кого Бог отнял разум. На них, как и на городских голубей, никто не смеет поднять руку или причинить иное зло.
Несколько дней спустя группа сумасшедших сама по себе распалась. Некоторых из них видели, как они голыми валяются по газонам Большого парка, испуская печальные звуки, совсем как спаривающиеся куницы. Один долго стоял посреди сквера на Мариндворе в позе распятого Христа, словно принимая на себя и искупляя все грехи этого города, в то время как другой, по прозвищу Свистун, ночами бродил по Сараево, насвистывая во всю мощь легких знаменитую мексиканскую песню «Мама Хуанита», которую некогда так здесь любили.
Рассказывают, что мудрого Иво Андрича однажды спросили, правда ли, что на каждом базаре каждого боснийского городишка есть свой сумасшедший. Он ответил, что теперь там можно найти одного умного!
– Око за око – паста для зуба! – взвизгнул Балканский.
Когда началась война, отец Боба отказался покидать Сараево. Ему еще надо было восстановить несколько боковых ветвей на родословном древе. Престарелая родственница умерла, и он остался один в холодной пустой квартире, в которую больше не заходили его земляки с Кордона. Многие стали беженцами, некоторые скончались, а те, что остались, боялись, как бы их встречи не были истолкованы превратно. В Сараево можно было лишиться головы за куда более безобидные поступки. Умер ли он от голода и холода или настигла его пуля снайпера, потому что ходил он очень медленно, а может быть, его порешил случайный осколок гранаты – неизвестно. Город был полностью изолирован от внешнего мира. Любой проникший в него не мог выйти оттуда живым. Так что никто никогда не узнает, где похоронили Джордже Деспота. Сараевские кладбища перенаселены, и людей теперь хоронят в парках, на спортплощадках, пустырях, в братских могилах, без гробов и заупокойной службы, просто в пластиковых мешках, если таковые удается найти. Говорят, убитых и умерших хоронят стоя, чтобы как можно больше покойников поместилось в яме. Так Сараево получило свою подземную армию мертвых. Исчезли дрова, топить стало нечем, в ход пошли даже кресты с кладбища: многие теперь не смогут найти могилы родных и близких.
Так Боб остался и без отца, и без родословного древа. Оно сбросило его со своих ветвей. Отцовский дом ограбили, в нем поселились мусульманские беженцы из Восточной Боснии. Он отправил несколько писем по своему прежнему адресу, умоляя новых неизвестных жильцов сохранить родословное древо, а дом и всю обстановку пусть навсегда оставят себе, однако никто ему не ответил. Кто знает, что сталось с огромным ветвистым деревом, нарисованным на стене? Скорее всего, и его пустили на растопку. Деспоты привыкли исчезать в огне. Вот так вот и сгорели их узловатые корни.
– Остановите планету, я хочу сойти! – крикнул Балканский, прерывая «Иезавель».
Я знаю, что дьявол есть, это ты, Иезавель! Иезавель,
единственная…
Боба охватило страшное раскаяние, непростительное чувство, что он ничего не сделал для своего отца. В столичных городах мира он крутил легкие, забывающиеся через пару дней романы (теперь его любовницы лишь небрежно кивают ему при встрече), тратил деньги на дорогущие отели и ужины, подарки и украшения, а отца даже не свозил в Грецию, которую тот так хотел увидеть хотя бы раз в жизни. Старик казался ему вечным. Теперь ничего уже нельзя было исправить. Он пытался представить себе его смерть. Долго лежал на асфальте, сраженный пулей, истекая кровью, с рассыпавшимися седыми волосами и бумагами вокруг, или скончался, свернувшись в клубок, в углу кухни, запахнувшийся в старое зимнее пальто? В очередной раз город отомстил ему за то, что он избежал его смертоносных объятий.
На глаза навернулись слезы.
– Папа, что с тобой? – спросила Бела.
– В глаз что-то попало… – ответил он, не прекращая танцевать бегин.
«Не годится, никуда не годится… – подумал он. – Становлюсь сентиментальным. Нервы никуда не годятся».
Он держал в объятиях девушку с шелковистыми волосами, осознавая, что она – все, что осталось от золотой ветви Деспотов.
– Экономьте энергию – любитесь медленнее! – советовал Балканский на ходу обнявшимся в танце парочкам.
Жюри решило помочь им в этом занятии и исключило из дальнейшего соревнования пары номер восемь, двадцать шесть и пятьдесят два.
– Большое спасибо за участие. Танец – всего лишь вертикальное выражение желания перейти в горизонтальное положение! – напутствовал их Балканский.
Sex machine
Стараясь, видимо, отстраниться от своего старомодного названия, «Ностальгия» превратилась в убийственную дискомашину для перемалывания звуков. Молодой ударник, который до этого момента откровенно скучал, «отгоняя мух от губ этих музыкальных трупов» (так он называл «вечнозеленые» мелодии), моментально оживился и начал вздрагивать, строго подчиняясь внутреннему ритму. Этот монотонный, слишком громкий ритм, который вообще не нуждался ни в какой мелодии (он был совершенно самодостаточен), и, как паровой молот, принялся насмерть заколачивать в землю любые другие ощущения, кроме тех, что вели к общему экстазу. Бобу казалось, что по равнине катится армада гигантских бульдозеров, сметающая все на своем пути, растаптывая и перемалывая в прах и пепел весь мир вчерашней музыки. В панике, топча раздавленную гусеницами «Greenfields», несется обезумевшая «Eine lcleine Nachtmusik» Моцарта, ломается нежный стебелек «Маленького цветка», который десятилетиями поливал кларнетом Клод Литер из «Hot club d’France». Ничего не осталось от многочисленных «Roses are forever»… Даже бас-гитарист отложил свой инструмент, который ему больше не нужен, потому что он слишком уж тих, и взялся за литавры. По его лицу струился пот. Но это был не ритм Джимми Крупа, полный внезапной фантазии, взлетающих вверх барабанных палочек, бурной радости бытия, это был не взрывной талант Макса Роуча – будоражащие синкопы паровоза, несущегося по стальному мосту, в мгновение ока превращающиеся в удары сердца, приступы бешенства и эхо одиноких каблуков на мокром асфальте ночи.
Однажды Деспот слушал этого барабанщика в Сан-Франциско, в джаз-клубе «Kirshon Comer», где при входе ему поставили на ладонь печать, чтобы он мог выходить и входить в течение ночи сколько ему заблагорассудится. Там курили гашиш, ели кадаиф, потому что джазмены в то время переходили в ислам, чтобы быть как можно ближе к афромузыке и наркотикам. Он слушал, как обезумевший Макс исступленно ударяет в свои барабаны, аккомпанируя зловещему вою сирен пожарных и полицейских машин, мчащихся по широким авеню. Джаз рождался здесь, прямо на его глазах. Боб любил настоящие вещи, а профессия стюарда давала ему возможность знакомиться с ними без посредников. Больше всего он ненавидел венгерский диксиленд, а также сербский рок, музыку, которая воняла провинцией и ее древним желанием имитировать высшее общество, предлагая всем его собственную трактовку. «То же самое, – говаривал он, – если бы ньюорлеанские джазмены попытались сыграть «Трепала баба лен» так, как это делают трубачи из Драгичева!»
Шум усилился до такой степени, что разговаривать стало просто невозможно. И только неутомимый Балканский успевал подначивать оркестр:
– Интересно, как рокеры в кровати обходятся без усилителя? – орал он, оскалив зубы. – Занимайся любовью, а не войной, это тебе дешевле обойдется!
«А может, эта музыка и создана для того, чтобы не разговаривать?» – подумал Боб, мерно раскачиваясь в пояснице, словно тронулся, не сходя с места, в долгий путь. Спортивная ходьба на длинные дистанции. Он обвел взглядом соревнующихся – на танцплощадке он был самым старым.
В последние годы с ним часто случалось такое. И тут он ощутил страшное одиночество своего шестого десятка. Вокруг него была молодежь, которой полегчало от того, что больше не надо разговаривать. Они танцевали, полностью отстранившись от партнеров, иногда даже теряя их из виду среди прочих танцующих. Они полуобморочно повторяли одни и те же па, не пытаясь проявить в танце хоть какую-то оригинальность. Если музыка делалась громче, они визжали и вскидывали вверх руки, и это было все. Глаза у них остекленели, как будто они уходили в полную бессознательность, прислушиваясь к барабанщику, своему верховному жрецу.
– Sex machine! – вопил молодой барабанщик, которому Балканский подсунул микрофон.
– Sex machine! – вторил, словно дервиши в трансе, молодой хор.
Он с неудовольствием и ревностью заметил, что дочь его смотрит таким же пустым взглядом, как и ее ровесники. Она танцевала здесь, перед ним, но была где-то далеко, вне досягаемости Боба. Словно эта убийственная музыка украла у него ребенка. Изредка ее увлекал за собой какой-нибудь вихрь танцующих, и он временно терял ее из виду, а потом она возвращалась к нему, потная, восторженная, на первый взгляд безумно счастливая. В ее движениях не осталось ни следа от многочасовых занятий балетом. Она уже не была одной из Деспотов – она стала членом всеобщего планетарного стада.
Как это не похоже на танцы его поколения! Для них это была единственная возможность прикоснуться к тому, что можно было любить только издалека. Какое это было возбуждение – почувствовать запах запретной кожи, щекочущий девичий локон у ноздрей, коснуться на спине запретной застежки бюстгальтера (в то время девушки еще носили бюстгальтеры)! Танец был исполнен затаенной эротики – касание бедрами, животами, зашифрованные пожатия ладоней… Правда, в каждом танцевальном зале встречалась парочка-другая танцевальных эксгибиционистов, которые копировали танцевальные па из какого-то фильма, желая с помощью срисованной на глазок хореографии доказать собственную причастность к недостижимому миру на противоположном берегу океана, но их обычно воспринимали как некую разновидность провинциального цирка. Иногда, когда некоторые фигуры им действительно удавались, вокруг них формировался кружок зевак, которые ритмично хлопали в ладони и некоторое время подбадривали их.
Вот и сегодня вечером в «Югославии» танцевала одна такая пара: низкорослая пышка с затянутой талией и роскошной гривой волос и ее, вероятно, ровесник и муж, бывший красавец, одетый по моде шестидесятых, с уже неприлично обозначенным животом. Их танец был взрывным и непредсказуемым. Заученными движениями они проскальзывали под руками друг друга, партнер время от времени бросал свою даму через бедро или протаскивал меж широко расставленных ног, ни на секунду не меняя сосредоточенное, почти окаменевшее выражение лица. Чувствовалось, что они всю жизнь танцуют вместе. Наверное, они встречались (существует ли более глупое определение любви?!) с детства – начиная с гимназии вплоть до окончания учебы, и звездные их часы приходились как раз на танцы: они венчали долгую связь и просто обязаны были вызвать удивление и зависть зрителей. Мгновенно в голове у Деспота пронеслась вся их жизнь, танцевальные вечеринки детства, летние соревнования на кубок лучших танцоров Макарского побережья и приз – торт со свечками, который толкал на сервировочном столике сам шеф-повар ресторана, различные праздники и балы, встречи Нового года и, наконец, дни рождения их детей, на которых они оказывались неожиданно и включались незваными в танцы, пугая собственных наследников и их маленьких ровесников необузданными па рок-н-ролла из фильмов с Элвисом Пресли. Если получится, они встанут из колясок и точно так же станцуют на праздновании Нового года в доме престарелых! Но в этот раз вокруг не было кольца воодушевленных зрителей, так что им чего-то не хватало для полного вдохновения. Никто не обращал внимания на их ловкость, но они танцевали все исступленнее и исступленнее, насквозь пропотевшие, с лицами, искаженными неимоверными усилиями. Окруженные впавшей в транс молодежью, трясущейся не сходя с места и не прекращающей жевать резинку, они олицетворяли некий давно исчезнувший стиль – настоящие заблудившиеся во времени танцоры.
Деспот танцевал, экономя силы, сдержанно, едва обозначая движения, словно ему все это надоело. Так оно и было. Он чувствовал себя опустошенным. Словно его вышвырнули из большого танца и заземлили в этом белградском отеле, и это после всех блистательных залов всех пяти континентов, где он танцевал со своими бесчисленными партнершами. Он прекрасно понимал, что это вовсе не настоящий звук, а его имитация, хотя и довольно приличная. Не хватало ни настоящего места, ни настоящей музыки. Он вспомнил «Студио 54» в Нью-Йорке, где на невероятно чистый, сверкающий зеркальный пол танцплощадки регулярно напускали ароматный туман, настолько густой, что танцоры исчезали в нем. Время от времени с потолка спускались бархатные джунгли разноцветных ленточек или весь зал превращался в трепещущий и прерывистый фильм, демонстрируемый с помощью стробоскопа, в бликах которого неожиданно возникали призрачные лица. В старом бродвейском театре, превращенном в самую знаменитую дискотеку мира, в его овальных галереях кресла были превращены в обтянутые фиолетовым плюшем софы, на которых возлежали пары. Древние римляне едали лежа. Повсюду были мраморные бассейны, напоминающие эпоху падения Римской империи. Там каждый танцевал как хотел, нисколько не руководствуясь стилем того сезона. Именно в этом и был стиль. Один дремлющий негр, стиль которого присвоил себе сегодня Боб, почти не двигался в танце. Ленивый и обмякший, со слегка откинутой назад головой, он чуть подергивался на одном месте, словно был центром мироздания, или осью, вокруг которой вращается вся эта карусель.
– Папа, ты великолепно танцуешь! – бросила ему Бела сквозь грохот, от которого дрожал под ногами мраморный пол.
В этом ее открытии он услышал не только удивление, но и укор. Чтобы научиться танцевать так, как Боб, надо было отказаться от других, куда более важных и серьезных дел.
В самом деле, Беле казалось, что сегодня она танцует с чужаком, который случайно возник в ее жизни и теперь выражением лица и манерой танцевать даже не старается скрыть снисходительность и легкое презрение к обстоятельствам, в которых он оказался.
Пианист заметил сдержанную манера Боба. Глядя на него, он не мог отделаться от впечатления, что видит человека, который бывал в местах куда как получше «Югославии». Он танцевал, не придавая танцу почти никакого значения, а просто участвуя в нем, весь такой благообразный, несколько усталый и чуть сторонящийся всего этого спектакля.
– Старый лис… – пробормотал он, пожелав себе одновременно такого друга, как Боб.
– Наверное, ты наплясался в последние годы? – спросила его Бела не без иронии.
– Похоже, вся моя жизнь прошла под лозунгом: «Дамы приглашают кавалеров!».
I found my love in Portofino
Боб сам не понял, в какое мгновение его захватил дух соревнования. Но по мере того, как пара за парой сдавали позиции, а он оставался на поле боя, начинал думать, что их победа вовсе не так невозможна, как ему казалось в самом начале ужина. Кроме того, здесь была еще одна вещь: Бела не скрывала, что всем своим существом стремится к победе! «Умоляю, помоги мне победить!» – кричали ее расширенные, огромные глаза. Если бы она танцевала сама, то наверняка бы победила, думал Боб, прекрасно знающий, насколько она с детских лет захвачена желанием танцевать. Он несколько лет водил ее в хореографические школы, с начальной для детей дошкольного возраста до первых классов средней, в любую погоду, сидел в сумрачных раздевалках, прислушиваясь к пианино, бесконечно повторяющему все те же несколько тактов. Школу наполняли звуки музыки. Он курил и терпеливо ожидал момента, когда двери зала распахивались и в них с шумом и топотом врывалась пестрая толпа маленьких балерин Дега, среди которых была и Бела, счастливая и запыхавшаяся. Он наслаждался их рано пробудившейся женственностью и утиной походкой с вывернутыми набок пальчиками, детским кокетством, с которым они подходили к ожидавшим их матерям. Были у них и свои тайные ритуалы: после уроков обязательно ходили в одну и ту же кондитерскую, садились за один и тот же стол, где Бела торжественно съедала два своих миньона – пирожные, которые она любила больше всего. Ей была знакома каждая игрушка в витринах магазинов по дороге из дома в хореографическую школу, и перед каждой из них она останавливалась, словно навещала любимых подруг. Она любила тыквенные семечки, но не умела их разгрызать (была еще слишком маленькой), так что Боб сам внимательно чистил семечки и кормил ее так, как кормят птенцов. Как все маленькие девочки, влюбленные в отцов, Бела на вопрос, за кого она выйдет замуж, когда вырастет, самым серьезным образом отвечала: «За папу!». Боб просто обожал этого ребенка, и только полученное им строгое воспитание не позволяло ему всегда носить с собой ее фотографии. Он считал, что это слишком патетично и непристойно. Он ревновал дочь к сверстникам, мальчишкам, но старательно скрывал это. А она страшно злилась на каждую красавицу, которая бросалась ему на шею во время их прогулок по улицам или в ресторанах, и упрямо твердила, что ни разу не встречала создания более уродливого и смешного, чем эта особа. Он никогда ничего не запрещал ей, и все-таки это дитя было избаловано ничуть не более прочих. Когда в белградские школы начали проникать наркотики и родители приходили в ужас от одной только мысли, что дети начнут их употреблять, а когда Бела рассказала отцу, что в ее школе все «подкуривают», и спросила, что это означает на самом деле, он привез отличную колумбийскую марихуану, скрутил сигаретку, зажег и дал ей затянуться. Она закашлялась, из глаз потекли слезы.
– Ну, чувствуешь что-нибудь? – спросил он.
– Ничего! – ответила она. – Только голова немного кружится!
Он объяснил ей, что это забава для бездельников. Она спросила, «подкуривает» ли он? Боб с отвращением заявил, что не «подкуривает» и что предпочитает вино, на котором выросла вся греческая цивилизация. И больше к этому не возвращались. Он всегда был крайне предупредителен с ней, словно с маленькой дамой. Открытая бутылка кока-колы могла простоять перед ней весь вечер в ожидании, пока кто-нибудь не наполнит ее стакан. Он научил ее садиться на заднее сиденье автомобиля и не прикасаться к ручке дверцы, пока ее не откроет мужчина. Первые опыты светского поведения, предполагающие обязательно подавать дамам пальто, отодвигать и придвигать стул, когда дама садится и так далее, были призваны устранить невоспитанных претендентов на ее маленькое сердечко. Он научил ее сразу, едва присев за ресторанный столик, закладывать за воротник салфетку, хотя ей это казалось нелогичным. Они часто развлекались, вычисляя в модных ресторанах нуворишей – считали нетронутые свернутые салфетки перед посетителями, убеждаясь в их невоспитанности.
Ему были положены бесплатные авиабилеты, и каждые зимние и летние каникулы он возил красавицу дочку в какую-нибудь страну, чтобы ребенок осознал, что он «живет не в самом лучшем из миров». Она танцевала рядом с Миком Джаггером в знаменитой дискотеке «Лавалбон» в Лондоне, отплясывала касапико в афинском «Диогенесе», попирая осколки битых белых тарелок на площадке перед оркестром, разучивала шаги сиртаки в портовой корчме пирейской пристани Турколимани, вертелась под плач скрипки и аккордеона на улицах Парижа, когда там их застал День республики 14 июля… Она познакомилась с Нью-Йорком, когда ей еще не исполнилось пятнадцати, сорвав в дискотеке «Маджик» громогласные аплодисменты, исполнив танец на роликовых коньках. Собственно говоря, в этом нью-йоркском клубе каждую ночь устраивали сюрпризы. Именно в тот вечер, когда Боб привел туда четырнадцатилетнюю Белу, вход в танцевальную часть клуба разрешался только на роликах. Боб едва не рухнул уже в гардеробе, но Бела направила его и подтолкнула в глубину зала, где располагалась стойка бара, за которую он ухватился как потерпевший кораблекрушение. Она начала танцевать сама, передвигаясь на роликах так виртуозно, словно родилась в них. Многие сочли, что Бела работает в «Маджике» на профессиональной основе. В Мадриде они танцевали фламенко, за что получили в подарок веер всех цветов радуги и пару кастаньет. Так что Бела, благодаря профессии своего отца, побывала во множестве стран и городов, что было недоступно большинству ее сверстниц. По воле случая она обрела немалое богатство.
Существует ли в мире более абсурдный образ жизни, чем жизнь летно-подъемного состава? Боб, как и прочие его коллеги, был родом из очень небогатой семьи. Все они были городскими детьми, родители которых принадлежали к низам среднего класса и едва сводили концы с концами. Бедное детство, незавершенное образование, вечное желание одеться чуть получше и страсть к дальним странствиям совершенно случайно привели их в привилегированную летучую стаю. В годы нищеты и серой ничтожной жизни, когда их страна была окружена ненавистью и разнообразными блокадами, у них была редкая привилегия летать по миру и привозить оттуда необыкновенные и красивые вещи. Они жили в маленьких комнатенках, съемных квартирах и родительских домах, но большую часть года ночевали в пятизвездочных отелях, плавали в их прекрасно охраняемых бассейнах, играли в теннис на гостиничных кортах. Возвращение в родную бедность напоминало им водворение в сиротский приют.
Экипаж ужинал морепродуктами и омарами на пляже отеля «Чикаго Бич» в Дубае, а ранним утром уже погружался в ледяной смог январского Белграда. Встречали Новый год в Сингапуре, в самом знаменитом на Дальнем Востоке китайском ресторане «У Фетиса», смеялись над дорогущей машиной, производившей при температуре плюс тридцать пять настоящие снежинки для детей, которые никогда не видели зимы, а пятнадцать часов спустя брезгливо перешагивали через настоящие белградские лужи.
Существует два типа летного состава: те, кто экономит деньги, и другие, которые не могут лишить себя за границей ни одного мало-мальски доступного удовольствия. Первые экономят командировочные и практически не выходят из номеров и ресторанов с оплаченным питанием, в то время как другие, к которым принадлежал Боб Деспот, редко когда прикасались к гостиничным завтракам, а в своих комнатах спали только тогда, когда было с кем. Одни торгуются и покупают товары, которых у нас нет или которые слишком дороги, в то время как первые привозят только мелкие подарки и сувениры. Экономящие обычно строят семейные особняки или же вкладывают деньги на черный день в банки, а они легкомысленно залпом выпивают все, что им дает жизнь, оставляя мелочь на такси до дома и покупая в аэропорту на последние копейки сигареты.
Виллы в Далмации в самом начале этой войны отобрало новое хорватское государство, а иностранная валюта в банках пропала после развала нашей страны. Так что многие повидали в мире только гостиницы и аэродромы. Жизнь грубо подшутила над муравьем из старой басни Лафонтена.
Вместо того, чтобы строить дом, Боб созидал Белу, которую несколько лет тому назад отняла у него ее мать, запретившая им встречаться.
Venti quatro mille baci
Можно сказать, что Боб и Бела были идеально сыгранной парой, но при этом они ничуть не походили на дуэт супружеских эксгибиционистов, которые смотрели на них исподлобья с плохо скрываемой ненавистью.
Собственно, молоденькой звездой была Бела, а он – просто теневой партнер, идеальный кавалер, состарившийся Принц, сопровождающий растанцевавшуюся Жизель. Его руки всегда были начеку, предотвращая возможное падение молодого тела, которое исполняло рискованные танцевальные па.
Звучит парадоксально, но тем не менее балерины, как правило, хуже всего исполняют современные подвижные мелодии. Их стилизованный классический танец противится современным ритмам и стилю, родившемуся вдалеке от плюшевых коробочек старых театров. Современные хореографы пытались свести воедино оба этих стиля, но успехом такие попытки не увенчались.
Бела же, будучи профессиональной балериной, органично объединила два непримиримых подхода – естественную дерзость типичной белградской девчонки-гамена и строгость классического образования, надежно спрятанную в синкопах рока.
Кроме извечной супружеской пары Боб заметил еще одного серьезного конкурента: он назвал их Даркерами. В восьмидесятые годы в Белграде появилось множество молодых людей, одетых в черное. Они называли себя «даркерами», что по-английски означает тьму. Эта мода, как и все прочие, с некоторым опозданием пришла из Лондона, ознаменовав конец эпохи неограниченной власти панков. Стройный черноволосый юноша с геометрически четко подрезанной челкой и его партнерша в блестящей коже, продернутой сверкающей металлической ниткой, танцевали без усилия, натренированно и точно, как будто только что сошли со сцены какого-нибудь мюзик-холла. Ее мускулистые ноги в черных чулках и туфлях на высоких каблуках с окованными железом носками напоминали смертоносное холодное оружие. Связанные друг с другом невидимыми нитями, они походили на танцевальную машину с заученными улыбками, которые ни на секунду не сходили с их лиц.
Похоже, они были членами какого-нибудь современного балетного ансамбля или слушателями курсов похудания посредством танцев. Во всяком случае, Боб понимал, что с ними тягаться практически невозможно.
Еще одна пара привлекла его внимание. Красавец лет тридцати с длинными светлыми волосами, в идеально сидящем сером фланелевом костюме, и молодая коротко стриженая женщина в фиолетовом платье, провокационно облегающем бедра с вызывающе торчащими тазобедренными косточками, выделялись особым стилем. Их танец явно был чем-то большим – явным признанием в любви, вызовом всем, кто мог бы воспротивиться ее проявлению. Бела объяснила Бобу, что красивая брюнетка – их учительница английского, в которую тайно влюблена вся школа, что у нее двое детей, а два года назад она развелась как раз из-за этого симпатичного преподавателя музыки, но он, похоже, не собирается бросать законную супругу. Про этот страстный роман знает вся школа. Их часто видят в неприметных кафе, где они сидят, взявшись за руки (она, как правило, плачет), а во время экскурсий ночуют в одной комнате. Их тела даже в самом бешеном ритме не могли оторваться одно от другого, они напоминали сиамских близнецов. Было похоже, что они с нетерпением ожидают, когда «Ностальгия» начнет играть что-нибудь нежное и медленное, в то время как Даркеры даже самые романтические композиции исполняли как на сцене кабаре. Вечная же супружеская пара под любую музыку исполняла один и тот же десяток заученных па.
Все прочие были молоды, полны необузданной силы и желания победить в этом соревновании. Тут были молоденькие красавицы в длинных бальных платьях, но хватало и девиц в облегающих брючках кричащих расцветок. Молодые люди в элегантных костюмах танцевали рядом с ровесниками в распахнутых рубашках, а один нарядился во фрак на голое тело с галстуком-бабочкой на шее. Вместо лакированных ботинок у него на ногах были грязные, некогда белые, тапочки. У некоторых были длинные, собранные в пучок волосы, другие остриглись коротко, на манер американских морских пехотинцев, а несколько ребят обрили черепа, оставив несколько торчащих, выкрашенных фиолетовой краской, пучков напоминающих рожки инопланетян. Но у всех перед глазами одинаково стояла позлащенная Венеция – град обетованный по ту сторону Большой блокады, семидневное пребывание в котором обещала им сегодняшняя победа! Бобу, который никогда не сражался даже за многонедельные летные смены в Лос-Анджелесе, Пекине или Сиднее, эта победа была совершенно ни к чему, но он заметил, что всякое восторженное упоминание Венеции, которое дьявольский иезуит Балканский бросал на арену молодым разгоряченным гладиаторам, заставляло лицо Белы страдальчески меняться. На самом же деле она хотела вернуть старые времена, приехать с отцом туда, где они когда-то были так счастливы.
Когда Беле исполнилось пятнадцать лет, в зимние каникулы он отвез ее в Венецию. Уже на пароходе «Serenissima» та объяла его трухлявым покрывалом своих темных вод и старых воспоминаний о любви. По случаю какого-то праздника все гостиницы были переполнены, и после долгого и приятного скитания по пьяццам и улицам, скользким от рыбьей чешуи, они нашли наконец ночлег (но какова ирония!) в маленькой альберго[8] «Казанова», недалеко от Понте Риальто. Сан Марко сверкал, словно танцевальный зал, убранный к началу великолепного бала. Он отвел Белу на ужин в ресторан «Анджело», в котором привык ужинать в первый день каждого приезда в Венецию. Он любил сидеть за столом под рисунками Моранди с бутылками и формами для печенья. В «Анджело» двадцать лет подряд заправлял метрдотель, которого Боб считал самым красивым мужчиной в мире – некий курчавый муллат с безупречными манерами, по которому сходили с ума все посетители, желая, чтобы их непременно обслуживал только он. Невероятно сдержанный, он ни малейшим жестом не давал понять, что кто-то из посетителей уже сиживал за этим же столом, но с другой дамой. Непонятно почему, но муллат всегда обращался к Бобу, называя его «принчипе»[9]. Он был свидетелем нескольких его любовных ужинов с токайским и обязательными слезами под десерт, но, судя по сдержанному поведению, в тот вечер он отказывался одобрить связь с такой молоденькой девушкой. Даже для старой, извращенной Венеции, погрязшей в пороках, это было слишком непристойно.
И только когда Боб, приступив к заказу, произнес: «Для моей дочери ризотто с черным рисом и мидиями и салат из каракатицы» – у него словно камень свалился с сердца.
– Oh, Principe, avete una figlia belissima! – расцвел Отелло в белоснежной куртке. – Vedete – произнес он, проводя ладонью по своим курчавым, теперь уже совершенно седым волосам, – tuti е due abbiamo i capelli griggi… capelli bianchi come les neiges d’antan!
С годами он значительно отяжелел, под глазами повисли приметные мешочки. Узнав, что Бела вовсе не подружка, а дочь Боба, он принес ей фруктовое фраппе.
Они днями напролет блуждали по венецианским лабиринтам, часто совсем теряясь в переплетениях каналов. Так, однажды в ядовитых сумерках они оказались перед обветшавшим дворцом на берегу канала, у пристани, где висела мраморная доска: «Casa di Giovanni Jacopo Giacomo Casanova (1725–1798)». Дом откликался пустым влажным эхом, точно так же, как и вся жизнь Боба. В тот вечер, благодаря непревзойденному дамскому угоднику восемнадцатого века, который уже во второй раз подал ему знак, Деспот осознал бессмысленность завоевания женских сердец. В какой заболоченной лагуне гниют теперь кости любовниц Казановы, ради которых он столько раз рисковал не только собственной, но и чужими жизнями? И кому сейчас есть дело до его побед на любовном фронте? И какая разница между Дон Жуаном и венецианским кавалером! Первый презирал и стремился уничтожить женщин, в то время как второй обожал их, стремясь обрести в них мать-актрису, которая покинула его в детстве.
– Папа, а кто такой был этот Казанова? – спросила его Бела.
– Великий неудачник… – ответил он.
Боб был лучшим проводником по Венеции из всех, кого только можно было себе представить. Он не был обычным туристическим чичероне, он мог показать этот золотой город, пропустив его через собственные чувства, – он отвел Белу в кафе «Флориан» на площади Святого Марка, чтобы с этого момента девочка могла сравнивать все прочие кафе с этим святилищем в стиле рококо, с грациозными стульями из розового дерева, французскими шпалерами и фаянсовыми сервизами, из которых они пили жасминовый чай, рассматривая портреты знаменитых посетителей минувших эпох. Он отвел ее в музей Академии, где Бела влюбилась в белого венецианского пуделя, выглядывающего из черной гондолы на большой картине «Чудо Святого Креста» кисти Витторе Карпаччо. После венецианских пейзажей Франческо Гварди он прокатил ее на гондоле вдоль мест, запечатленных великим мастером. В «Харрис-баре» он выпил любимый коктейль Хемингуэя «дайкири», а Беле заказал настоящий американский чизбургер с жареной картошкой и кетчупом, приоткрыв тем самым маленькую тайну этого легендарного местечка. На Понто Риальто он купил ей маленького шелкового Арлекина, а уличный художник, отказавшись от платы, вырезал из черной бумаги ее нежный профиль. Беле больше всего понравился рассказ о Каньоше Мацедоновиче, который убил бандита Фурлана за то, что тот оскорблял Венецию, и отказался от всякой награды за свой поступок, попросив только назвать участок берега перед Дворцом дожей, где его Паштровичи выгружали товары из своих парусников, Славянской набережной (Riva degli Slavoni), потому что венецианские обещания, как утверждал автор, «были не прочнее кошкиного замужества».
Утомленные прогулками и покупками одежды для Белы, вечером они засыпали как дети после долгого дня, проведенного в Стране чудес. Вот почему Беле так хотелось победить в конкурсе и заполучить конверт, которым размахивал Балканский. Тем более что дело было не столько в Венеции, сколько в возвращении к Бобу и тем счастливым дням, которые теперь казались всего лишь прекрасной сказкой.
За прошедшее время Венеция, как, впрочем, и весь Старый свет, погрузилась в море еще на пятнадцать миллиметров.
– Я бы заснул; но ты плясать должна… – пробормотал Боб строку старинного северного поэта Шторма. Усталость все сильнее охватывала его, особое чувство сонливости, когда ноги наливаются свинцом и земля неодолимо притягивает к себе тело, а лица, свет и музыка сливаются в нереальный, фантастический, мутный хоровод. Сквозь подвижную стену танцующих Боб вдруг увидел юбилейный стол. Сидящие за ним с нескрываемым вниманием следили за танцами, избегая таким образом исповедальных бесед и мучительных разговоров. Директриса знаками просила Боба приблизиться к ним, и он, обняв Белу, стал медленно приближаться к краешку танцплощадки. Когда они добрались до места, где свет рефлектора отрезает танцующих от полутьмы зала, директриса встала и, легко неся свое дородное тело, подскочила к нему с бокалом виски в руке, точно так, как тренер и врач подбегают к одинокому бегуну на длинные дистанции, чтобы протянуть ему стакан подслащенной воды. Не прерывая танца, Боб неспеша выцедил спиртное, и новая, неожиданная сила влилась в его тело. Не отворачиваясь от него, директриса вернулась к своему месту. Подкрепившись, Боб с энтузиазмом вновь рванулся на ринг.
Начинался второй час танцевального марафона.
Три пальмы на острове счастья
После нескольких быстрых танцев, которые словно были нанизаны друг на друга, Деспот вновь ощутил невыразимую усталость. Пот лился по лицу и выедал глаза. Заметив это, пианист тронул за локоть гитариста и что-то прошептал ему на ухо. Гитарист с поседевшими короткими рыжими волосами и козьей бородкой, бледный, со слегка выпученными глазами, увеличенными толстыми линзами очков, наблюдал за танцующими будто из своего музыкального аквариума. Он кивнул пианисту, отложил электрическую и взял в руки лежавшую рядом акустическую гитару, положил ее, будто цитру, на колени и, быстро настроив ее, извлек из инструмента долгое чувствительное вибрато, которое проросло в сердцах людей среднего возраста будто давно забытый росток нежности, а «Ностальгия» подстелила под этот звук чувственный ковер, изукрашенный прихотливым тканым орнаментом. Балканский в тот же момент передал микрофон гитаристу, и тот после нескольких аккордов запел на удивление гнусавым тенором:
Давно я не слышал гавайскую песню, Рыдающий голос гитары твоей… Давно не глядел в высоту поднебесья, Не слушал я рокота синих морей.Деспот улыбнулся и тихо напел Беле на ухо, строго придерживаясь терции:
Три пальмы, три тайны, три тени, Наш рай, наше небо, наш дом, Загадочный лик красотки Елены Я в сердце храню своем…– Ты что, слова знаешь? – спросила его дочь.
– Откуда… – попытался ответить Боб. – Откуда мне знать?
Он вечность не слышал гавайской гитары. За это время многие успели родиться, прожить жизнь и умереть, ни разу не услышав музыки Гавайских островов. Услышав поддельные гавайские звуки, он замер, почти перестал двигаться, как будто перед ним выросло привидение, пришедшее почти неслышными шагами из обрывков давнего кошмара. Из этой почти забытой мелодии вырастали послевоенные годы с их неутолимой жаждой жизни и путешествий, невыразимой тоской по неким счастливым островам, где нет нужды ежемесячно отоваривать карточки на питание и мануфактуру, далеких от хоровых песен из репродукторов, прибитых к столбам, залепленным рукописными объявлениями.
Полинявшие ветераны музыки походили на небольшой холмистый остров, выросший на сцене, вокруг которой бушевали прекрасные загорелые молодые тела поколения, которое – на тебе! – сорок лет спустя тоже оказалось в осаде звуков, разрывающих сердце глиссандо обычных гитар, настроенных и приспособленных к гавайскому вибрато.
Никто не знал, как, откуда и почему в Сараево тогда объявилась именно гавайская, а не какая-нибудь другая музыка, но именно ее приторно печальный напев завоевал все танцульки буквально в течение ночи.
Улицы, как, впрочем, и сегодня, были заполонены гавайскими рубахами, которые в то время носили навыпуск, с двумя изысканными шлицами по бокам. Но то были не нынешние, фабричные, покупные, с цветным рисунком сорочки.
Нищие сараевские красавцы, заразившиеся Гавайями, собственноручно вручную раскрашивали белые общегражданские рубахи, после того как их матери вручную перешивали их на машинках «зингер». Несчастье было в том, что, когда рубашки во время танцев промокали от пота насквозь, краски расплывались и пальмы, парусники и маленькие негритята, особенно на спине, приобретали психоделический характер.
Казалось, весь город был готов бежать на Гавайи. На тугой коже бас-барабанов собранных с бору по сосенке оркестров рисовали пальмы в стиле Таможенника Руссо. Обезумевшие влюбленные пары судорожно обнимались в ритме медленного, так называемого «инглиш» вальса, отплывая к песчаным отмелям как можно дальше от серой действительности и от возвращения в нищие кухни Кошева и Мариндвора, где на остывшей плите их ждал чугунок холодных сливовых кнедликов с несвежей подливой. Гавайи были волшебной страной, загадочной, как трепещущий зеленый глазок на довоенном радиоаппарате марки «Телефункен», которые теперь стали страшной редкостью.
Прошло много лет, и Бобу казалось, что он завоевал мир, по которому так страдал. Побывал на Гавайях, убедился, что и там все – фальшивка, а реальна только немалая стоимость всех этих декораций в стиле хула-хула. Ну, а потом, как всем известно, мы опять попали во всемирную мышеловку, и символом полной безнадежности нашего положения опять стало это упоительное глиссандо.
«Боже, хватит ли у меня сил и желания выдержать все то, что последовало после гавайских гитар? Первые развязные буги-вуги, а еще раньше странный танец под названием рашпа, фокстрот и свинг, рок-н-ролл, ча-ча-ча, босанова, румба, самба, твист и все прочее, свалившееся на нас! Я прекрасно знаю: если появляются гавайские гитары – значит, страна опять в блокаде, причем надолго».
Он повел босоногую Белу длинной песчаной отмелью, перешагивая через гребешки волн на пляже «Waikiki», а те, замирая на бегу, прижимались к их ногам. «Отлично, хоть передохнул немного», – убедился пианист, еще раз окинув взглядом Боба, собиравшего морских звезд и ракушки, и рассыпал по клавиатуре роскошное вступление к «Saturday night fever».
Из соревнования исключили молодую амбициозную пару номер четырнадцать, которая не справилась с гавайским танцем, но сочла это очевидной несправедливостью.
– Закройте глаза – и все, что вы увидите, будет принадлежать вам! – церемонно, в глубоком поклоне, обратился к ним Балканский.
Боб не любил Сигапур – город, вся история которого могла уместиться в единственной фразе бедекера, причем достойной полного забвения. Если бы там были самодвижущиеся тротуары, то он стал бы идеальным городом-универмагом! Без сколько-нибудь значительного прошлого, но с комфортным настоящим и будущим, задохнувшийся в благосостоянии, Сингапур, лежащий на пути из Дубай в Сидней, был тепленькой ванной, насыщенной испарениями тропических растений и жужжанием электронных кассовых аппаратов. Бывая на Дальнем Востоке, Боб часто задавался вопросом: от чего тот, собственно, далек? Для сингапурцев, низкорослых человечков с малыми потребностями и мелкими интересами, не привыкших к бурным страстям и широким жестам, не знающих истории и искусства (кроме того, что приукрашивает их лично), этот остров был центром мироздания, а страна Боба – всего лишь далеким-далеким северо-западом.
Слоняясь по скучному Сингапуру, в относительно старом районе города, который еще не успели разрушить и возвести на его месте стеклянный супермаркет, Боб обнаружил китайский храм, укрытый стволами растения, похожего на олеандр.
На его пороге, отгоняя веером мух, сидел старик. Прислонившись к резному фасаду, рядом с ним скучала миниатюрная китаянка в фиолетовом кимоно. На своем птичьем английском она спросила, не желает ли Боб, чтобы дедушка прочитал ему по ладони будущее. Он не верил в хиромантию, и тем более собственное будущее мало интересовало его… Он все еще придерживался дружеского совета не иметь права на будущее, так что планировал свою жизнь только до следующего рейса, то есть до завтра. Но поскольку заняться было совершенно нечем, он согласился, и втроем они вошли в храм, где возлежал толстый позолоченный Будда, украшенный цветами. Сначала они зажгли пучки благовонных палочек и помахали ими на все четыре стороны света, и дурманящий запах заполнил ноздри и легкие; после этого старик и девушка взяли его, уже слегка одурманенного, за руки и отвели под фиолетовое дерево. Сначала колдун, ощупывая ладонь Боба, смотрел на него стеклянными непрозрачными глазами допотопной старой черепахи. Боб утратил представление о времени. Он смотрел на него, может быть, две-три секунды, а может, целый день или несколько лет, и только воспрянув от этого бодрствующего сна, исполненного ужаса и сладостного трепета, он понял, что за все время не услышал ни одного слова. Затем девушка сказала: дедушка сообщает ему, что он счастливый человек и будет танцевать до самой смерти.
Он заплатил старику пять долларов, подумав, не доплатить ли еще столько же за девушку, которая призывно смотрела на него. Чуть позже, нырнув в бассейн отеля «Империал», он оставил на поверхности теплой воды пророчество, которое ничего для него не значило и не открывало ничего нового.
Следующим утром, рассматривая в иллюминатор красную австралийскую пустыню, усеянную кротовыми кучками опаловых рудников, Бобу показалось, что красивая китаянка, ее дедушка и пророчество ему просто приснились. В тот день реальным было единственное – вечность ухода, когда он тонул в глазах колдуна, ничего не замечая вокруг себя.
Когда в последний раз цвела черешня…
В конце апреля 1992 года Боб в последний раз попытался вывезти состарившегося отца из Сараева. Телефоны замолкли, и он послал несколько телеграмм, умоляя его добраться хотя бы только до аэродрома, откуда он перебросит его в Белград. Самолеты «Югославского аэротранспорта» больше не летали в Сараево, но зато объявился списанный «Боинг-707», собранный в начале шестидесятых, на котором летал друг Боба, безумно храбрый доброволец капитан Попов. Самолет этот носил имя «Кикаш», в честь международного контрабандиста оружия, у которого в начале апрельской войны захватили и самолет, вынудив его приземлиться на загребском аэродроме, и его смертоносный груз. Капитан Попов хранил в пилотской кабине вместо амуллета забытый Кикашем пиджак. В «Боинге» не было пассажирского салона с креслами, и Боб, забравшись в трюм, чувствовал себя как Пиноккио в утробе кита.
Так он после длительного перерыва увидел наконец с высоты птичьего полета свой родной город: пресно-зеленую краску гор, окружающих его, и белые пересекающиеся дороги, восходящие к небу, те самые, что в детстве, стоило лишь глянуть на них с сараевских улиц, манили его к путешествиям. Собственно говоря, жители Сараево, едва открыв глаза на мир, видят вокруг своей колыбели зеленые стены. Их присутствие защищает от прочего мира, который находится по ту сторону гор, там, куда вечерами закатывается солнце. Может, потому они так и любят свою неприметную котловину с множеством минаретов, напоминающих пук белых остро заточенных карандашей в зеленом стакане. И Боб, который уже решил, что навсегда избежал чарующе сладкой отравы этого города, нигде в мире не мог с таким удовольствием напиться водой, как из родника перед Беговой мечетью, куда она проникала из какого-то горного источника. Неважно, что медики восставали против ее употребления и доказывали, что она вызывает болезни горла, – для него она была самой вкусной водой в мире! Глядя с высоты на Сараево, пока «Боинг-707», со свистом выпуская закрылки, снижался на Сараевское поле, а капитан Попов, отдавая команды правому пилоту и бортинженеру, закладывал крутой вираж, Боб не обнаружил ничего странного на этом пестром ковре, рассеченном сверкающим лезвием реки, но когда они приземлились на аэродроме, где не было ни единого самолета, он ощутил дискомфорт, смешанный со зловещим предчувствием. Едва стихли двигатели, к ним рванулась толпа, сбивая, словно бегуны, на своем пути металлические барьеры, и было их две или три тысячи.
Молнией пронеслась в его голове догадка: подземный зверь проснулся и медленно, но верно ползет к аэродрому. Это ясно читалось в ужасе, охватившем тех, кто, потеряв разум, несся к самолету, в их безумных жестах и бешеном упрямстве, по безрассудности, с которым они сбивали с ног и топтали бегущих впереди и рядом с ними. Боб не заметил никого из аэродромной обслуги – только несколько перепуганных солдат, отброшенных толпой к металлическому ограждению. И все же кто-то пригнал трап, и Боб открыл капитану дверь. Попов был в военном летном комбинезоне, на плече у него висел «хеклер». Ступив на трап, он увидел, как разъяренная толпа повалила девочку, оторвав ее от матери, которая держала на руках малышку. Девочка кричала, прикрывая худенькими ручками голову, а бегущие, не перепрыгивая, топтали ее. Капитан моментально вскинул «хеклер» и дал очередь в воздух. Только после этого лавина замерла. Сбежав с трапа, он проложил себе дорогу сквозь толпу, поднял девочку и заявил, что никто не улетит из Сараево, пока не организуют очередь. После чего передал девочку Деспоту, который отнес ее в пилотскую кабину.
Боб протолкался сквозь толпу и обыскал все здание аэропорта. Он обошел даже туалеты – старого Деспота нигде не было. В один момент ему показалось, что заметил его, и начал прокладывать локтями путь сквозь толпу, пока не пробился к старику, у которого была такая же безликая серая шляпа и седые усы, как у его отца. Тот судорожно ухватился пальцами за рубашку и принялся умолять Боба провести его в самолет, что тот и сделал, не обращая внимания на проклятия и упреки прочих беженцев. Двигатели взревели, самолет набрал максимально возможную скорость и, пересекая на бреющем полете вражеские позиции, взял курс на север. Капитан обещал оставшимся, что вернется и никого не оставит на аэродроме, но те все равно сломя голову мчались по взлетке вслед за «Кикашем». Рейс, который в обычных обстоятельствах длился тридцать пять минут, они закончили за двенадцать.
Это был самый странный полет Боба! Люди, словно селедки, набившиеся в «Боинг», лежали, сидели и торчали на корточках, в то время как некоторые стояли, прислонившись к бортам, а в туалетах разместилось по четыре человека. Это был рейс без воздушного коридора и номера, без кофе, чая и соков, без объявлений о погоде и времени прибытия. Они высаживали несчастных на военном аэродроме в Батайнице и, не заглушая двигателей, сразу возвращались в Сараево за новой партией обезумевших беженцев. Бобу казалось, что он старается спасти и вывезти из родного города все, что можно погрузить в самолет. Эвакуировав несчастных жителей, они вернутся за зелеными горами, рекой и самыми любимыми сараевскими уголками – может быть, за башней с часами Копельмана или за каким-нибудь из самых дорогих мостов…
Все эти дни он пребывал в лихорадке; без еды и питья, урывая для сна один-два часа, он почти сошел с ума. Из «летучего официанта», как обзывал его старый Деспот, Боб превратился в ангела-хранителя, опускающегося в Сараево, чтобы спасти кого еще возможно. Они летали с раннего утра до поздней ночи. Хвост старенького «Кикаша» изрешетил зенитный пулемет. Незащищенная взлетная полоса расположилась между двумя армиями: с одной стороны были злобные санджаклии[10], обосновавшиеся в Храснице, с другой – хорватские легионеры[11], захватившие Киселяк. Безумный капитан огромной стальной птицы летел так низко, что почти срезал их поднятые головы, поднимая дико ревущими двигателями такие облака пыли, что на землю пластом валились даже самые отчаянные солдаты! Второго мая был побит личный рекорд – перебрасывая сараевских беженцев и изгнанников, они сделали шестнадцать рейсов.
В полдень того дня в битком набитый самолет направилась большая группа сараевских евреев, покидающих город, памятуя погромы полувековой давности. В высоко поднятых руках они держали… авиабилеты!
– Что это у вас такое? – крикнул капитан Попов. – Какие еще билеты?
Они испуганно пояснили, что сию минуту купили их в здании аэропорта, заплатив за каждый по пятьсот дойчмарок. Разозлившись, капитан выскочил из «Боинга» и в сопровождении двух десантников влетел в переполненное здание аэропорта. И в самом деле, перед одной из застекленных стоек выстроилась очередь из не прекращающих толкаться и спорить людей. Нервозный, потный служащий выдавал билеты, ударяя на них какую-то печать. Благовоспитанные сараевские дамы пытались перехватить его взгляд, посылая полные мольбы улыбки, а человечек во весь голос материл тех, кто тянул к нему ладони со смятыми банкнотами, обзывал их скотами, понятия не имеющими, что такое порядок, время от времени успокаивая их заявлениями о том, что билетов у него сколько душе угодно, лишь бы денежки у пассажиров были! Ящик стола доверху был набит валютой. Десантники ухватили его под мышки и оторвали от стула, после чего вывели из здания аэропорта, где его следы затерялись навечно.
Боб, сопровождавший капитана, пока тот наводил порядок в аэропорту, не прекращал искать взглядом людей, у которых из багажа были только сумки и пластиковые мешки. Он пытался обнаружить отца, не желая признаться себе в том, что все время ждет, когда откуда-нибудь появится Елена, которую он молча ухватит за руку и отведет в самолет. Это был бы его полный триумф, которого он дожидался столько лет.
Он звонил отцу из брошенной диспетчерской. Как ни странно, местная сеть все еще работала, хотя почтамт был охвачен пламенем. Несколько гудков, и на другом конце провода отозвался запыхавшийся мужской голос.
– Это квартира господина Деспота? – спросил Боб.
– Откуда мне знать, чья это квартира, кто в ней жил? Здесь, братишка, такая стрельба стоит!
И в самом деле, в трубке раздалась автоматная очередь. Кто-то кричал:
– Хамо, Хамо, ответь Юке! Хамо, вон китаеза из консульства! Давай, блин, хуячь, а то убежит! Убежит…
Вдруг капитан Попов заметил двух ребятишек, прижатых толпой к стене. Мальчик, похоже, лет десяти, в одной руке держал картонный чемоданчик, а другой обнимал младшую сестренку.
– Что вы тут, ребята, делаете? – спросил он. Они молча смотрели на него огромными, испуганными глазами.
– Мы хотим попасть в самолет! – ответил мальчик серьезно, почти как взрослый.
– С кем вы здесь?
– Ни с кем… – потупился мальчик, еще крепче обняв сестру.
– Где же ваши родители?
– Их убило… – отозвалась девочка, потому что брат промолчал.
Капитан взял ее на руки, она обняла его за шею, и вместе с мальчиком, ухватившимся за комбинезон, направился к самолету.
Капитан плакал…
– Куда ты их тащишь? – закричал на него обезумевший офицер, оседлавший верхнюю площадку трапа. – Разве не видишь, что некуда?
Свободной рукой Попов снял с плеча «скорпион», снял с предохранителя и наставил на офицера:
– С дороги или сдохнешь!
Все время полета до Белграда на его коленях сидел мальчик, не снимавший рук со штурвала.
– Смотри, я веду самолет! – то и дело кричал он сестре радостно.
Посреди ночи, когда они в пятнадцатый раз приземлились в Батайнице, какая-то женщина, сделав пару шагов, замертво рухнула на бетонку. Сердце не выдержало перенапряжения.
В тот день у них родила одна из пассажирок. Это случилось в момент, когда они летели над высокой горой. Бобу пришло в голову, что ребенку (оказалось, это был мальчик) страшно повезло: в его документах не будет значиться, что он родился в Сараево. Какое ему напишут место рождения, если оно началось еще до прибытия в Белград? Может быть, небо? Это был первый сын «небесного народа», которого Боб увидел в своей жизни.
– Назовите его Звездан, – предложил он счастливой матери.
Que serà, serà
В гудящем и дрожащем самолете, то и дело проваливающемся в воздушные ямы, Боб заметил старую школьную подругу, красавицу Лею, прижавшуюся к молодому человеку, голова которого покоилась на ее плече. Он подумал, что это наверняка ее сын, однако Лея представила Бобу своего хрупкого юного спутника как супруга, после чего рассмеялась своим горловым сефардским смехом и рассказала о том, что с ней приключилось сегодня. Этот молодой человек, на двадцать лет моложе ее, несколько раз пытался выбраться из Сараево, причем дважды его избивали до полусмерти, а однажды, только чудом избежал расстрела. Лея знала его с детских лет. Они были соседями по лестничной площадке, и она очень старалась помочь ему, но еврейская община позволяла эвакуироваться из Сараево только им, евреям, а также их ближайшим родственникам. Поскольку она уже много лет была в разводе, то предложила заключить фиктивный брак и таким образом выбраться из города. Они зарегистрировались сегодня утром в городской общине. Юноша, прятавшийся на другом конце города, прибежал под огнем снайперов в условленное место, а она пробралась через баррикады, перелезая на пути в старую общину через каменные стены. Один из свидетелей прибыл с букетом бумажных цветов (настоящих в Сараево уже давно не было), его ранило в ногу, когда он перебегал через открытую площадь у гостиницы «Холидей Инн». Пока служащий общины зачитывал пассажи из Закона о супружеских отношениях и обязанностях и объяснял, что молодожены должны сохранять верность друг другу до самой смерти, а в случае развода поделить приобретенное имущество на равные части, в общину попал снаряд из танковой пушки и в зале торжественной регистрации браков обрушилась половина потолка. Репродуктор оборвал на полуноте «Свадебный марш» Мендельсона, поскольку прекратилась подача электроэнергии. Расставшись после первого и последнего в жизни поцелуя, они разбежались каждый в свой район, чтобы вновь встретиться на еврейском сборном пункте, откуда их, продемонстрировавших свидетельство о браке, перевезли на аэродром.
– Завтра мы разводимся… – с легким вздохом, в котором прозвучала нотка сожаления, произнесла Лея и растрепала пальцами русые волосы юноши.
– Это самый счастливый брак из всех, которые я знаю. Он продлится всего лишь день! – воскликнул Боб.
Старый Деспот не явился и на последний рейс из Сараево, третьего мая. Напрасно Боб в который раз обходил все закоулки здания аэропорта, в котором не осталось ни единого целого окна, напрасно расспрашивал о старике – никто ничего не слышал о нем. Город полностью блокировали самодеятельные войска и уличные банды. Когда он шагал по хрустящему ковру из битых стекол аэропорта, над взлетной полосой с воем пролетали мины. Пуля снайпера врезалась в стену у самой головы Боба, и он выковырял ее – на память. Офицер войск ООН, оказавшийся в этот момент рядом, во всю длину своей новенькой белой униформы рухнул в жидкую грязь.
Потом опустилась ночь, так, как она в прямом смысле слова падает в Сараево болезненно теплыми весенними вечерами, без предупреждения, будто кто-то там, наверху, бесшумно опускает черное покрывало, гася даже звезды. Издалека доносился гул орудийных выстрелов, подчиняющийся какому-то странному ритму, напоминающему стук босых пяток танцующих дервишей. Давно, еще мальчиком, Боб однажды ночью видел дервишей. Они с друзьями слонялись ночными сараевскими улицами, пропитанными возбуждающими и раздражающими ароматами апреля, и вдруг, кто знает почему, решили подняться узкими переулками в нагорную часть города, вдоль сельских домиков, в которых за цветущими деревьями уже давно царил сон, сопровождаемый воем дворняг.
И так по запутанным улочкам, словно сквозь лабиринт, сами не понимая как, ребята вдруг оказались перед Синановой текией, из двора которой доносился тупой убийственный ритм тимпанов и трещоток, а также глухой стук босых ног в утрамбованную землю. Они перелезли через внешнюю стену, бесшумно пробрались через цветник Синанова сада и приблизились к скрытому от любопытных глаз уголку текии, где голые по пояс дервиши, впавшие в транс, вели хоровод, освещенный пламенем факелов. Они были так близко, что Боб почувствовал запах масла, которым были смазаны их тела, смешанный с потом, стекавшим по их спинам. Он мог бы при желании коснуться их пальцами. Двое, скрестив по-турецки ноги, сидели на земле и, закрыв глаза, мерно ударяли ладонями по натянутой коже, в то время как прочие все глубже погружались в экстаз, сгибаясь до земли и отбрасывая потом назад головы, увенчанные тюрбанами, и вздымая к небу жилистые, худые руки. Они двигались медленно и с достоинством. Их предводитель, старец с нездоровым лицом цвета желтого воска, в белой галабии, раздал сверкающие стальные иглы длиной с вязальные крючки. Онемев от страха, Боб смотрел на странное тайное действо, спрятавшись за густыми ветвями черешни, на которую он успел взобраться. Его парализовал этот внезапно открывшийся анатолийский ритуал, вершащийся всего в пятнадцати минутах пешего хода от лежащего внизу европейского города с Кафедральным собором и старыми австро-венгерскими зданиями, в которых жили люди, даже не подозревавшие, что в Сараево может происходить нечто подобное. С ужасом он увидел, как дервиши, полностью впавшие в бессознательное состояние, в трансе протыкают длинными иглами щеки и покрытые шрамами тела, не оставляя при этом ни единого кровавого следа, как они продолжают танцевать, подрагивая всеми, даже мельчайшими мышцами, по которым струится пот. И только время от времени все они хором выкрикивали одно непонятное ребятам, но наполненное для них самих тайным смыслом, слово, после чего продолжали прокалывать себя сверкающими иглами.
Они танцевали перед белой стеной, на которой в лунном свете был виден нарисованный магический круг, разделенный на сектора, обозначенные какими-то тайными знаками.
Вспоминая теперь эту давнюю весеннюю ночь в Синановой текии, Боб был почти уверен, что в том страшном магическом круге было написано все, что случилось впоследствии с городом Сараево и с несчастной страной Боснией. Дервиши своим танцем воспевали и пробуждали спящего сараевского зверя, а те давние иглы превратились сегодня в лучи лазерных прицелов и трассирующие пули, изрешетившие родной город Боба.
Наконец в самолет сел последний пассажир. У взлетной полосы, перед расстрелянным зданием аэропорта и диспетчерской башней с погасшими маячками, осталось несколько офицеров разлагающейся армии – даже солдаты улетели в Белград.
Взвыли двигатели, и капитан в который уже раз заложил свой бреющий левый вираж. Два тупых удара встряхнули самолет – это пули вонзились в хвостовое оперение. Боб смотрел на ночной город, в котором мерцали редкие огни. Прекрасная Елена опять победила его. Он бежал из Сараево, а она осталась в умирающем городе, как будто опять решила доказать, что желает только одного – в очередной, кто знает в который раз выставить Боба позорным трусом. Сараево и она слились в одно целое. Он заметил в нескольких местах отблески пожаров и вспышки артиллерийских залпов, но сюда не доносилось ни звука. В горах над городом полыхали, словно в Иванов день, небольшие костры. Около них грелись те, кто решил покинуть город, чтобы продолжить борьбу.
Внизу, в жерле, мерцая серными испарениями, глубоко, громко ревел вновь разбуженный зверь, переваривающий проглоченные сегодня жертвы. Бобу казалось, что он слышит скрежет его черных зубов, и что даже сюда, на небо, проникает его смертоносная, жирная вонь.
Ровно в десять вечера Боб вернулся из последнего рейса на Сараево.
Восточный коктейль
Напоминая старого кота, у которого в запасе девять жизней, Балканский лавировал между парами и солирующими танцорами, неустанно извергая бог знает где подобранные шутки.
– Секс – далеко не все, есть кое-что и в том, чтобы подержаться руками! – ощеривался он, танцуя сам с собой.
Похоже, членам жюри надоел конкурс и они возжелали поскорее закончить его. Балканский наскоро переговорил с ними и нашептал на ухо пианисту, который решил задать танцорам задачу посложнее – сыграть танец, который выведет из конкурса рокеров, составляющих явное большинство. Универсальный оркестр «Ностальгия» по его сигналу заблеял попурри из восточных танцев. Саксофонист отложил свой инструмент и ухватился за кларнет, запищавший под его пальцами как зурна на темном фоне тамбуринов и тимпанов. Балканский тряс маракасами, время от времени ударяя в бубен.
Застигнутая врасплох внезапным перелетом на Восток Бела с недоумением посмотрела на отца, но Боб, со знанием дела воздев руки горе, моментально перевоплотился в старого ходжу, и шаг за шагом начал движение в тяжелом восточном ритме, одновременно приподнимая согнутую в колене правую ногу. Бела рассмеялась. Так они еще никогда не танцевали. Наверное, она еще не все знала о своем отце. Сориентировавшись, она выбрала для этого танца роль одалиски из «Шехерезады» Римского-Корсакова, которая оказалась ей весьма к лицу.
А Боб вдруг оказался в «Хан Марджане», каменном багдадском здании шестнадцатого века в старом квартале, сохранившемся со времен «Тысяча и одной ночи». В городе было затемнение, поскольку на него падали иранские ракеты, а на крыше его гостиницы «Эль Мансур Мелия» расположилась зенитная батарея с двадцатимиллиметровыми стволами, на которые он каждый день любовался, плавая в бассейне, выкопанным в форме сердца. В тот день ракета поразила один из самых роскошных багдадских отелей, превратив его в груду стеклянных осколков, но иракцы не обращали на это внимания – жизнь продолжалась в стране, где, в отличие от прочих арабских государств, было позволено открыто торговать в розлив алкогольными напитками. Мрачные курды с ножами за поясом под галабией, изнеженные черноволосые кувейтцы в обязательных очках «рей бан», саудиты и безобразно богатые шейхи из Эмиратов приходили в «Хан Марджан», чтобы спокойно выпить виски и от души повеселиться. Мужчина без усов чувствовал себя здесь голым. «Хан Марджан» был самым знаменитым арабским святилищем макамы – особой манеры исполнения, верховным жрецом которой стал Юсуф Омар, слепой певец и виртуозный исполнитель на длинношеей четырехструнной восточной гитаре под названием «джоза». Певцу аккомпанировал струнный инструмент, напоминающий цимбалы, который в арабском мире называется «канун». Со всех сторон он был окружен десятками миниатюрных тимпанов, которые стучали совсем как капли дождя по медным куполам хана[12]. Слепой бард гундосил старческим голосом балладу «Диш даша субга нил» – «Платье цвета цикламена», в которой поэт восхищается своей возлюбленной, описывая ее волосы, которые «так густы, что в них не заметен даже пробор». В его пении было столько тоски по давно прошедшей молодости и исчезнувшим багдадским садам, что под древними сводами слышалось только позвякиванье льда в стаканах с виски. И тогда он незаметно менял ритм и окраску голоса, чтобы погрузиться в «дабаку», напоминающую плач или причитания, и запеть «Хаб алхава» – «Дует ветер пустыни»… Место для танцев перед оркестром покрывал огромный темный персидский ковер, настолько красивый и легкий, что Боб ничуть бы не удивился, если бы он взлетел, как в сказке. Словно подавая общий сигнал, на ковер с достоинством шагнул босоногий старец в вышитых одеждах и с тяжелым серебряным кальяном на голове. Он начал легкий танец с торжественно вытянутой головой, ни разу не подняв руки, чтобы поддержать кальян. Он двигался все быстрее и быстрее, как иссохшая птица, подхваченная вихрем пустынного ветра, а вслед за ним, словно повинуясь немому призыву, двинулись бедуины с «ролексами» на запястьях и тяжелыми золотыми цепями на смуглых шеях. Танцевали как в трансе, ступая мягко и бесшумно, слышалось только хлопанье долгополых галабий, трепещущих на невидимом ветру…
В ту ночь Боб со своей последней любовницей, стюардессой Лиляной, был в гостях у крутивших дела в Багдаде наших деловых людей, получателей груза, прибывшего с чартерным рейсом. Лиляна, стройная длинноногая брюнетка родом с юга Сербии, дрожала от желания вступить в танец, и Боб помог ей подняться на возвышение перед оркестром, где ее широкая белая юбка тут же закружилась среди трепещущих галибий. Танцевали, как обычно, босиком. Светловолосая пара белых моментально привлекла внимание богатых арабов. Они спрашивали, что это за парочка, которая танцует совсем как они, но только темпераментнее и с большей тоской, с какой-то неизвестной печалью в движениях? Они и представить не могли, что восточные ритмы глубоко врезаны в само их естество, что они текут в Лиляниной крови, что именно так они танцуют на свадьбах, перед самым рассветом, где-нибудь в Куршумлии или во Вранье, и что Боб той ночью вновь погрузился в тенистый сад Синановой текии и превратился в дервиша из своего старого сна. Он, собственно, танцевал партию Сараево, о котором до боли напоминали ему серые каменные стены хана, багдадские крытые рынки и базары, торговцы, сидящие со скрещенными ногами и спокойно покуривающие в дверях лавок, нищие в лохмотьях, смирившиеся со своей судьбой, шум воды в фонтанах, запах жареной баранины, завывание ходжи с минарета, знакомый стук деревянных подметок по мостовой – множество запахов и звуков его детства. Родной город причинял ему в Багдаде куда больше боли, чем в любом другом месте, и хотя он уже несколько раз слышал свист ракет и глухие взрывы (тем не менее никто не прекращал танцевать), Боб не мог даже предположить, что ракеты, которые промахнулись по Багдаду, будут лететь в пространстве целых четыре года, пока не угодят в Сараево.
Толстый и веселый полупьяный кувейтец с тяжелыми синими мешками под глазами на смешном английском предложил Бобу за его жену трех верблюдов. Боб попросил добавить небольшую нефтяную скважину.
Взяв отчаянно высокое «до», кларнет пробил пелену времени, а впавший в прострацию Боб выскочил из «Хан Марджана» и неожиданно оказался не только в настоящем времени, но и в «Югославии». С удивлением он обнаружил, что на танцевальном ринге осталось всего три пары. Он не заметил, как выбыли другие танцоры, а вокруг танцплощадки столпилось много народу; в первых рядах стояли его друзья, болевшие за них что было сил. Он видел, как несчастные беженцы в подаренной одежде с чужого плеча пританцовывали на самом краешке освещенного круга, словно болельщики, поддерживающие своего изможденного марафонца на последних километрах трассы, умоляя его выдержать еще немного и не рухнуть перед самым финишем. Слишком долго они проигрывали, и только проигрывали. И вот наступил крайний срок, когда кто-то из них прервет наконец, пусть даже на ничего не значащем танцевальном марафоне, бесконечную цепь поражений. Друг Бобовой молодости, Чоркан[13], член жюри от публики, поднял вверх оба больших пальца, призывая его выдержать до конца. Губы его приоткрылись от напряжения и восторга. Знаменитый на весь город дамский угодник, которого война застала в сербской части Сараево, где он жил, имел тайную любовницу в мусульманском квартале. Когда в городе начались первые стычки и выросли баррикады, он воспользовался этим как редчайшей счастливой возможностью и объяснил жене (которая измучила его своей ревностью), что его мобилизовали, и в связи с этим он будет некоторое время отсутствовать. В общей неразберихе, благодаря многочисленным знакомым по ночной жизни Сараево, он пробрался на другую сторону, оказавшись в тайном любовном гнездышке. Он полагал, что весь этот хаос продлится несколько дней, пока не остынут горячие головы. Какой прекрасный случай для влюбленного на стороне! Его не интересовала ни политика, ни история, ему нужны были только несколько этих свалившихся с неба дней и ночей без страха быть застуканным знакомыми или женой. Но заваруха все не прекращалась. Уже никому не удавалось перебраться с одной стороны на другую, а кратковременный счастливый брак, похоже, поднадоел его подруге, которая всеми силами демонстрировала желание как можно скорее избавиться от гостя. Участились полицейские облавы, и прятать в доме незарегистрированного мужчину становилось все опаснее. Кроме того, наступило известное пресыщение. Одно дело – короткие тайные встречи, украденные у наскучившей семейной жизни, и совсем другое – жизнь вдвоем с пробуждением в общей кровати, с привычками, о которых партнер ранее и не подозревал, без походов в хорошие рестораны, где теперь разные вооруженные формирования разместили свои штабы. Деян Чорович, по прозвищу Чоркан, был одним из главных инженеров сараевского «Водоканала», часть канализации которого он проектировал лично. Он решил пробраться на другую сторону под городом. Простился с любимой, которая с облегчением опустила над его головой крышку канализационного люка. Брел по пояс в вонючей жиже, в которой плавали крысы, проползал сквозь осклизлые трубы и преодолевал смердящие туманные скопления, вдыхал аммиачные испарения и через два дня хождений и плутания по боковым ответвлениям вышел на сербской стороне с привычным чувством вины, возникавшим по утрам, когда он возвращался домой, придумывая самые невероятные оправдания своего долгого отсутствия. Но теперь нужда в оправданиях отпала. Небоскреб, на верхнем этаже которого была его квартира, лишился двух последних этажей, а фасад, утративший все стекла, стал черным от нестихающего пожара. В этом доме больше никто не жил. Он расспрашивал о жене в подвалах и укрытиях, а люди бежали от него, не выдерживая смрада, источаемого его одеждой. Никто ничего не мог сказать ему. Несколько дней спустя, одолжив у кого-то одежду, он уехал в Белград. И вот теперь его, представляющего в жюри публику, внезапно, как в раю, окружили красавицы, требуя от него справедливого решения.
«Ностальгия» не прекращала играть, и даже Балканский, почувствовав, что происходит нечто необыкновенное, прекратил бросать в толпу сомнительные шутки и анекдоты.
Это больше не танец. Это стало слишком серьезным делом, подумал Боб, в то время как старая, предательская боль, поднимаясь откуда-то из груди, сжимала ему горло.
Мост через реку Квай
«Ностальгия» завела карусель мелодий, и она кружилась все быстрее и быстрее, не позволяя каждому танцу завершиться как следует, и музыка превратилась в нескончаемую кавалькаду музыкальных цитат. После «Восточного коктейля» из тумана вынырнул «Мост через реку Квай», скорее марш, нежели подвижный танец. Пространство перед оркестром моментально превратилось в воинский плац, и Боб принялся маршировать под резкие такты этой старинной киномузыки. Однажды зимой он с каким-то чартерным рейсом залетел в Таиланд, в вечное влажное лето, и оказался там на болотистой реке Квай, ступив вместе с группой сентиментальных англичан на легендарный мост. На опушке доисторического леса, у моста, он увидел, как вокруг небольшой пыльной арены сиамцы делают ставки на мангуста и кобру. Только ощутив вблизи теплую гниль джунглей, где все зовет прилечь под дерево и уснуть мертвым сном, превратиться в гумус, из которого вырастет нечто более полезное, нежели человеческое существо, только увидев маленького подвижного мангуста величиной не больше белки, как тот расправляется с королевской коброй – только тогда человек начинает понимать, что победить таиландцев невозможно и что здесь все войны умирают. В ту же ночь, благодаря собственной болезненной тяге к самым мрачным местам, он оказался в бангкокском «Родо Сиаме» – самой мрачной и самой вонючей дыре, в которой ему довелось побывать, где сотня абсолютно голых сиамок танцевала с гостями под марш «Мост через реку Квай». Подпольные вертепы Пляс Пигаль и Сорок второй улицы Нью-Йорка, краснофонарные салоны Брюсселя и Антверпена, порноклубы амстердамской площади Дам, афинские кварталы трансвеститов были просто детским садиком по сравнению с этим прокуренным подвалом, в котором распускались картины, на голову превосходящие самые болезненные мечты свихнувшегося эротомана. Нескончаемая вереница голых таиландок занималась любовью (если это вообще можно назвать любовью) во всех возможных и невозможных позициях, которые только могут взбрести в голову маньяку, в то время как остальные, временно не занятые девочки налетали на посетителей так, будто от согласия зависела их жизнь. Без конца чередовались сцены, в которых роли любовников исполняли змеи, бутылки кока-колы, бенгальские огни, превращавшие девушек в живые факелы… Ни одной из этих маленьких рабынь с целомудренными восточными лицами и телами блудниц не было больше пятнадцати. Разыскивая туалет в зале, по которому плавали тонкие струйки дыма наркотической травки, Боб случайно открыл какие-то двери и увидел крутую лестницу, на которой сидело множество голых девочек, готовых заменить своих сестер. Его замутило от одного вида этой партии молодого желтого мяса. Посреди гнусного ада, за длинной стойкой, трудились с десяток серьезных чиновников в возрасте, подсчитывающих заработок сиамских рабынь. Девушки подходили к лысому шефу и с почтительным страхом выставляли на его стол пробки от бутылок с кока-колой и пивом, доказывая право на свой нищенский процент. И все это время на мосту через реку Квай грохотали доски под колесами автомобилей. Каждый раз, заслышав этот марш, Боб вновь ощущал тошноту, вызванную ужасной нищетой и унижением. Из «Родо Сиама» он вышел другим человеком, совсем не таким, каким был прежде.
Еще до того, как «Ностальгия» перешла к следующему танцу, жюри исключило из соревнования вдохновенную учительскую пару, которые под ритмы марша продолжили исполнять любовный танец тетеревов в период спаривания. Поражение они восприняли на удивление легко.
На сцене, кроме Боба и Белы, остались только Даркеры и Вечная супружеская пара.
Ламбада
Год, когда появляется какой-нибудь новый танец, вписывается в историю легкой музыки золотыми буквами. Таким стал 1988 год, когда латиноамериканская ламбада в течение ночи завоевала весь мир. Боб совершенно случайно присутствовал при ее рождении (тогда он оказался в Каракасе, столице Венесуэлы) в корчме, где собирались кубинские эмигранты. Это опасное место называлось «Вьеха Хабана», и его заполняли коренастые, темнокожие кубинцы, лишенные родины, с черными прилизанными волосами, умащенными бриллиантином. Они носили двубортные пиджаки, левые лацканы которых слегка оттопыривали пистолеты. Их жены, коротконогие, пухленькие, широкобедрые негритянки с темным страстным блеском в глазах, до упаду танцевали ламбаду, гордясь тем, что мужья и любовники привели их в такое изысканное местечко, как «Вьеха Хабана», где пьют ром «баккарди» с лимоном и молотым льдом, а на закуску подают тортильи из кукурузной муки и сыра. Как бы неуклюже они не выглядели, кубинцы, как только начиналась ламбада, превращались в латинских грансеньоров, гордо и прямо несущих верхнюю часть тела, в то время как ноги и бедра творили настоящие чудеса, неустанно переплетаясь и становясь в самые изысканные позиции. Этот танец, что-то вроде ускоренного аргентинского танго с элементами самбы и мамбы, делал их как бы невероятно подвижными и легкими: он исходил из самой глубины их души. Глядя на них, Боб готов был поклясться, что в танце они хорошеют, забывают про толстые животы и короткие кривые ноги. Он пытался подражать им, танцуя со своей гостеприимной хозяйкой Мерседес, но даже близко не мог сравниться с ними, потому что музыка проникала в них, похоже, сквозь источенный червями пол, через ноги в каждую частичку их низкорослых тел. Это была короткая, но хорошо оплаченная поездка. Он провел в Каракасе всего одну ночь, и утром следовало вернуться в Нью-Йорк, чтобы присоединиться к экипажу. Он контрабандой протащил через таможню два свернутых в рулон полотна старого белградского художника (белоруса по национальности, эмигранта Колесникова), которые дедушка Мерседес просил передать своей внучке, полагая, что той удастся продать их и обеспечить тем самым безбедную жизнь. Когда они размотали их на ковре ее гостиной, бело-голубой снег Колесникова замел всю Венесуэлу.
– Ты принес нам первый снег! – смеялась Мерседес. Он был почти готов навсегда остаться в этом душном городе, но загодя купленный обратный билет «Америкен Эрлайн» через Сан-Хуан и Пуэрто-Рико был действителен в течение всего трех дней. Чтобы хоть как-то отблагодарить Боба, Мерседес научила его танцевать ламбаду по-настоящему. А до Белграда этот танец докатился лишь несколько месяцев спустя.
Вечная супружеская пара выкладывалась до последнего. Они отдалялись, сближались и отскакивали друг от друга в бешеном ритме. И тут случилась беда. Наверное, от усталости, а может, из-за вспотевших ладоней, в момент, когда муж собрался ухватить протянутую руку жены, та выскользнула из ладони партнера и жена, отлетев к эстраде, изо всей силы ударилась о ее край и одновременно о гигантскую колонку. Она вывихнула ногу! Для них соревнование закончилось. Болельщики унесли ее со сцены под аккомпанемент тихого плача.
Казачок
Оркестр перешел на совершенно убийственный ритм. Грохот стоял невыносимый. «Похоже, они решили нас добить», – подумал Боб, теряя дыхание.
Музыканты, как один человек, грянули хором:
Раз, два, три, казачок!– Еще немного, папа! – крикнула отцу Бела. – Потерпи немного!
И она, скрестив руки на груди, заплясала как русская крестьянка на ярмарке. Боб изображал пьяного казака. Даркеры с новыми силами принялись механически точно демонстрировать сцену из мюзикла «Скрипач на крыше». Похоже, чувственность была не самой сильной стороной их жизни. Боб смотрел на одетого во все черное парня (за которого болела молодая часть ресторанного зала), как тот эластично отталкивается от пола, будто это не паркет, а батут. Он танцевал и в самом деле превосходно, свежий, как будто только что включился в соревнование.
Раз, два, три, казачок!Было видно, что Боб уже не в состоянии тягаться с молодым Даркером. Годы и усталость одолели его. Последний нокдаун состарившегося боксера. Его маленькая берлога во флигеле на Чубуре казалась ему недостижимым раем.
Я бы заснул; но ты плясать должна…– Потерпи еще немного, улыбайся, улыбайся! – шептала ему Бела. – Прошу тебя, пожалуйста…
И когда все уже решили про себя, что пара номер тридцать семь будет исключена из соревнования ввиду явного преимущества Даркеров, Бела разошлась и три раза подряд сделала вокруг них «звездочку», после чего подпрыгнула высоко в воздух, прямо к люстрам, упав оттуда на идеальный «шпагат». Зал взревел от восторга, а Бела все продолжала вращаться вокруг собственной оси на паркете, словно живая розовая юла, превратив на несколько минут старинный русский крестьянский танец в настоящий нью-йоркский «брейк дэнс». Боба даже испугала ее манера исполнения. Она без видимого усилия летала по воздуху, а едва коснувшись грешной земли, мгновенно превращалась в Щелкунчика Петра Ильича Чайковского (она несколько раз танцевала его партию на праздничных вечерах в хореографическом училище), и Бобу не оставалось ничего иного, как только смотреть и пытаться устоять на собственных ногах. Этим танцем ее тело праздновало возвращение к отцу, их вновь ожившую близость.
Безупречный танец Даркеров был доведен до совершенства, но в нем не было души, так что жюри пришло к выводу, что их шансы сравнялись; отсюда следовало, что обе пары должны сойтись еще в одном танце. Что за танец это будет – решит руководитель оркестра.
Взявшись за прелюдию, пианист вынырнул из «казачка» и волшебным образом превратил клавиатуру пианино в звонкое бузуки, выбрав для танца касапико.
Только касапико дает возможность мужчине, охваченному тоской, упасть на колено и, ударяя ладонью в ладонь, задать ритм танцовщице, парящей вокруг него как голубь вокруг корабля. Пианист понадеялся, что Боб воспользуется этим, переведет дыхание и хоть немного отдохнет.
Хозяйка
Размахнув руки, словно крылья, Боб взлетел над танцующими, над «Ностальгией» и тесным кругом болельщиков, над «Югославией» и Дунаем, над устьем впадающей в него Савы и темной Паннонской равниной, над Белой и над самим собой в освещенном круге танцплощадки… Одним движением он сбросил блейзер и метнул его юбилярам; пиджак поймала директриса, как незамужняя дружка хватает на лету брошенный свадебный букет, надеясь на скорую собственную свадьбу. Однако прежде чем она вцепилась в него, пиджак задел за плечо одного из болельщиков, и из карманов посыпалось черт те что: связка ключей, документы, ручка, мелочь и очки, одно стекло которых разлетелось на мелкие кусочки. Все бросились собирать Бобовы вещи и запихивать их в карманы, а он, оставшись в насквозь мокрой рубашке, прилипшей к телу, танцевал касапико так, будто оказался на вершине горы Пили-он – в стране кентавров, где он и обучился движениям этого старинного танца. Под его ногами лежал город Волос, из пристани которого аргонавты отплыли за золотым руном, а море на исходе дня выглядело как лежащее меж берегов зеркало, по гладкой поверхности которого скользили розовые вечерние облака. Они танцевали в Рождество, на гумне, а небо было близким как никогда – казалось, его можно было коснуться пальцами. Боб танцевал с хозяйской матерью, миниатюрной старушкой в черном, вспоминая свою бабулю, которую тоже видел не иначе как только в черных одеждах. Разве в нашей стране хоть один человек танцевал со своей матерью или бабушкой? Здесь, в Греции, это было принято, и та старая черная птица, совсем как Боб сегодня вечером, танцевала, поднимаясь над тяжкой жизнью и горькой судьбой, почти не касаясь стопами каменных плит гумна, еще хранивших тепло завершившегося дня. Вдруг Бобу захотелось курить. Он даже не заметил, что не зажигал сигарету почти два часа, с самого начала конкурса. Он медленно приблизился к своим ровесникам, которые с распахнутыми руками кружились вдоль кромки танцевальной площадки, напоминая стаю пьяных чаек, и вытащил сигарету из губ Мики. Теперь он танцевал с сигаретой в уголке рта, как это принято в Греции. Он развязал мокрый галстук, сдавливающий шею, и выкинул его в темноту.
Уморился я, пока не познакомился с тобой, Со хозяюшкой веселой, молодой…Старушка была невероятно легкой, почти бесплотной. Бобу казалось, что он танцует с собственной тенью. Она не понимала ни единого английского слова, он совсем не умел говорить по-гречески, тем не менее они прекрасно понимали друг друга, пока старуха учила его основным движениям танца. Время от времени она хватала его за руку и уводила к кромке гумна, будто желая вместе с ним воспарить над Волосом в облаке пахучего дыма ореховой скорлупы, над костром из которой вращался насаженный на вертел ягненок. Она шаг за шагом открывала ему тайны древнего цехового танца, который веками исполняли в ее семье – и как же он отличался от нелепой стилизации, которую сегодня исполняют в Греции на радость туристам! Ее касапико напоминал изысканность и трагизм последнего полета чайки: он был весь в себе, его танцевали для себя и для собственной души. Может, это была и не обычная старуха (а откуда бы ему самому взяться на Пилоне?), но сама смерть сбежала из античной драмы, чтобы шаг за шагом той весной научить Боба не бояться смерти, заставить его понять, что смерть – всего лишь небольшая часть танца, который мы осуждены исполнять над руинами суеты и смертоносной праздности времени. Боб продолжил полет – и в этом полете с расправленными руками он, совсем как «Боинг-707» над трассирующими очередями зенитных пулеметов, закладывал на бреющем полете левый поворот, спускаясь на бесшумное море огней Нью-Йорка и на неосвещенную полосу аэродрома в Багдаде. Он как лепесток кружился над Сараево, а потом, как и предполагал пианист, упал на колено, чтобы перевести дух, но то была не просто хитрая уловка, чтобы отдохнуть во время танца. Боб упал на колени перед Белой, умоляя ее о прощении за все, что он не успел сделать для нее в этой жизни (но – Бог свидетель, он пытался сделать все, что было в его силах, и даже больше!), а Бела парила вокруг него, легкая и неуловимая, как свет и мечта.
«Боже, что я оставлю ребенку? Ничего!» – думал Боб. А что вообще в этой стране может человек оставить потомству, кроме имени и цвета глаз? Он потерял отцовский дом и родословное древо, которое отец годами взращивал для него и которое он никогда больше не сможет восстановить (свидетели погибли вместе документами, хранившими имена и даты), точно так же, как у старого Джордже Деспота отняли дом и имение его отца, Бобова деда, а у всех их вместе – страну и владения предков. В каком мире и с чем я оставляю Белу? А она все равно танцует, всем своим существом демонстрируя страстное желание победить, быть первой – последний росточек лозы Деспотов, которая изо всех сил цепляется корнями за жизнь, куда бы ее не занесло, даже на эту танцевальную площадку! Да, наверное, это самое ценное чувство из тех, что он сумел привить ей.
Боб поднялся из последних сил, которые стремительно покидали его мышцы и кости, и закружился в касапико, а в вертикальном положении его удерживали только теплый колышущийся воздух, упрямство и злость – элементы, из которых состоит этот древний разбойничий танец мясников[14]. Его больше не интересовал ни конкурс, ни Даркеры, исполнявшие какую-то безумную вариацию на тему сиртаки, как его обычно танцуют в туристических ресторанах афинской Плаки: все для него потеряло всякое значение – кроме танца, исполняемого над жизнью и смертью.
Он, оглушенный восторженными криками болельщиков, даже не слышал, как перевозбужденный Балканский, полностью утратив душевное равновесие, объявляет лучшей танцевальной парой этого вечера номер тридцать седьмой. Сквозь туманный вихрь он едва разглядел Белу, совершающую бегом круг почета по танцевальной площадке, радостно размахивая двумя белыми конвертами. И еще на мгновение его глаза остановились на побежденных Даркерах, нерешительно замерших на месте, не знающих, куда им теперь деть руки, с исчезнувшими с лица полупрезрительными улыбками безусловного превосходства. Она плакала, и слезы пробивали дорожки в толстом слое грима. Он жалел их. Если бы не Бела, он подарил бы им эту Венецию в утешение. Он стоял, а по телу струился пот; брюки прилипли к бедрам. Он потерял дыхание, а невыносимая боль поднималась из солнечного сплетения в грудную клетку – кто-то все сильнее стягивал черную мертвую узду Чтобы глотнуть хоть немного свежего воздуха, Боб направился к выходу из зала, пытаясь прорваться сквозь живую стену болельщиков, целовавших, обнимавших и хлопавших его по спине, но все эти лица в ужасном шуме смешавшихся голосов и музыки, которая под каскады тушей объявляла о славной победе и восхваляла агентство, обеспечившее замечательное путешествие, яркие огни и дым – все это в бешеном темпе вращалось вокруг Боба страшной цирковой стеной смерти. Из мерцающего водоворота выплывали давно забытые лица. Выпрямившись, стоя зарытый в братской могиле, плечом к плечу с прочими подземными мертвыми воинами из Сараево, смотрел на него с печалью и немым укором отец Джордже Деспот. Он ведь говорил, что Деспоты не умирают на танцах! Вновь, как и несколько лет тому назад, Боб сбежал со ступеней Елениного дома на Набережной, когда он сумел увидеть ее на мгновение сквозь приоткрытые двери, ничуть не изменившуюся, в белом выпускном платье. Он отчетливо расслышал ее крик: «Мама, тут какому-то мужику перед нашей дверью плохо стало…» Увидал и китайца-колдуна, вновь потонув в его темных зрачках, а юная китаянка шептала, что он «счастливый человек и будет танцевать до самой смерти». Маленькая Пегги из американского консульства послала воздушный поцелуй, кокетливо сдув его с ладони; непревзойденный Господин, на удивление опять элегантный, как в лучшие дни, грозил пальцем, упрекая за то, что Боб присвоил себе его стиль, после чего исчез на карусели, поставленной на сараевской цирковой площади, а та завертелась все быстрее и быстрее, увлекая за собой горы, окружившие город, пригороды на склонах и переплетения белых дорог. Падая на руки сараевских друзей, он услышал, как «Ностальгия» продолжила исполнение танцевальных мелодий (“Living in America”) в сопровождении громких голосов и грохота прочих диско-звуков, но у него в мозгу били тимпаны и бубны и раздавались удары босых ног дервишей, а их длинные светлые иглы пронзали грудь, и опять, как ни странно, на коже не выступило ни капли крови. Он слышал, как Мики Траде приказывает всем разойтись, чтобы Боб мог свободно вздохнуть, он видел Белу, рухнувшую на него, размахивая белым конвертом. Она кричала, что отец не смеет сейчас сделать ей это, сейчас, когда они победили, когда их опять ждет Венеция!
– Я прошу тебя, папа, я прошу! – кричала она ему прямо в ухо, будто он оглох. Боб попытался сказать, чтобы она поехала туда с мамой, она ведь никогда не была в Венеции, но не сумел выдавить ни звука; только беспомощно шевелились губы. Все вокруг закружилось еще быстрее, втягивая его в огромную зеленую воронку, наполненную чем-то темным и липким. Пока последняя игла дервиша не вонзилась ему в сердце. Длинная белая прядь волос Белы, пахнущая духами «Eternity», прикрыла его глаза.
Хроника потерянного города
Расстрел сватов перед старой православной церковью в Сараево 1 марта 1992 года, в воскресенье, возвестил начало гражданской войны в Боснии и Герцеговине, которая, как и Вторая мировая война в Югославии, началась 6 апреля, чтобы продлиться почти четыре года.
В соответствии с соглашением, подписанным на американской военной базе в Дейтоне (штат Огайо) в Архангельский день (21 ноября) 1995 года, Сараево отошло к мусульмано-хорватской федерации разделенной Боснии, после чего из города в течение февраля и марта бежали сто пятьдесят тысяч сербов. В городе остались только те, которые не могли или которым некуда было бежать.
– Бог в помощь!
– Помогай и тебе Бог… – отозвался старый монах. – Ты, братец, весь мир обошел, а в Хиландар только сейчас собрался! – произнес он с упреком.
– Признаюсь, грешен, отче! – покаялся я, склонившись, чтобы поцеловать ему руку, от чего он вежливо уклонился, спрятав ее за спину.
Он указал мне, где можно оставить пыльную сумку, а потом и железную кровать, на которой я буду спать в просторной комнате для гостей, где из мебели были только стол и стул, после чего вышел, оставив меня в одиночестве.
Я спустился по источенной червями скрипучей лестнице в пустой монастырский двор и присел на каменную скамью. Потом, совершенно утратив чувство времени, я понял, что существую и что ничего не желаю. Горячий воздух, пропитанный стрекотом кузнечиков, кипел в окружении монастырских стен. Значит, вот где заканчивается мир, вся его пустопорожняя тщета и неумеренное любопытство.
Легкий упрек старого монаха принудил меня подвести итоги. Да, я побывал всюду. Проплясал по всей планете, не стремясь накапливать впечатления и восторги – просто меня швыряло туда-сюда помимо собственной воли. Последние четыре года, пока длилась война, я практически не бывал за границами родины, которая из месяца в месяц, изо дня в день становилась все меньше, пока не стала такой крохотной, что теперь ее можно пересечь на машине за один день. Наблюдая ее усыхание, я как будто и сам съеживался. Я шагнул в седьмой десяток; наверное, следовало бы составить окончательное описание мест, городов, островов, родни, друзей и любимых – всего, что потерял в последние годы. Сколько в мире улиц, о которых я мечтаю и где, окажись я на них, меня сразу бы убили или, в лучшем случае, арестовали! И первая в этом списке, оказавшаяся в водовороте жестокого сведения счетов с жизнью, та, на которой я родился.
Но вот наконец место, которое, уверен, никогда не потеряю! Исчезали и менялись государства, в которых я жил, менялись их названия и правители, а здесь, в Хиландаре, все это время, как и много веков тому назад, трепетал едва видимый, слабенький язычок пламени в лампадке, который не сумели загасить ни крестоносные грозы, ни гибельные азиатские ветры.
«Мертв я до самой смерти, – писал святой Сава в двенадцатом веке, глядя в этот самый двор, – и до суда сам себя каре подвергну, и до бесконечной муки себя мучить стану, от отчаяния…»
Итак, я здесь. Существую.
В последний раз я видел Сараево в снежном сумраке после великого исхода сербов из города. Дорога, по которой я направился к свободным горам, была призрачно пустынной. За поворотом, в местечке под названием Осмице, откуда я любил ребенком скатываться на санках, за темной стеной соснового леса, Сараево вдруг раскрылось передо мной словно сизый веер. Оно лежало здесь, под моими ногами, как серебряный поднос, укрытый беловатой пеленой ядовитого тумана, который кто-то напустил в пространство среди заснеженных вершин. В одно мгновение, будто освещенное всполохом молнии, я увидел на этом подносе всю свою жизнь: лабиринты улиц, переулков и тупиков, дома, площади, мечети и церкви, обледеневшие тополя – так, рассказывают, перед смертью в сознании человека проносится память о прожитых им днях. Сонное, набухшее тишиной Сараево дышало серыми кубиками домов на метафизической скатерти детства и юности.
Мой спутник молча протянул пистолет, после чего передернул затвор своего автомата и опустил заднее стекло джипа, изготовившись к стрельбе, потому что мы пересекали вражескую территорию. Он тихо приказал мне стрелять без предупреждения в любого, кто попытается нас остановить. Я, сидя с левой стороны, как завороженный вглядывался в Сараево, зная, что вижу его в последний раз, в то время как за правой обочиной, в лесу, метались опасные темные тени тех, кому принадлежал этот участок земли. Вот так четверть века спустя мы с ужасающе близкого расстояния, глаза в глаза, смотрели друг на друга – мой родной город, который неоднократно и самыми разными способами пытался убить меня, остановить на пути к свободе, и я, его сын, с пальцем на холодном спусковом крючке. Пахло предстоящим снегопадом и смертью.
В тот полдень я оказался на самой границе самого далекого сараевского пригорода, где начинался просто пейзаж и ничего более. После заключения мира этот пригород отошел к сербам в качестве утешительного приза, и в него добирались через горные отроги по только что прорубленным кружным тропам, идущим сквозь раскорчеванный кустарник и буераки, по запущенным землям и кручам. Ни с одной точки этой практически еще не проторенной, но безопасной тропы, далекой от демаркационной линии, Сараево не просматривается, а я так хотел увидеть его еще раз. Потому и принял предложение воеводы А. проехаться с ним на джипе по другой, старой асфальтированной дороге, которую одним росчерком пера рука неизвестного дипломата где-то далеко, в штате Огайо, разрезала в двух местах и тем самым отдала противной стороне. Теперь по ней проезжают только танки и бронетранспортеры иностранных солдат, машины с журналистами и колонны грузовиков с вооруженным сопровождением – прочим, рискнувшим сунуться на ее, никто не гарантирует жизни.
– Идем сквозь турок! – коротко отрезал воевода и загнал патрон в патронник своего «хеклера». Невысокий, плотный, плечистый и с широкой грудью, на которую падала черная как ночь борода произнес это тоном проснувшегося в нем сказочного гайдука времен войн с турками. Война закончилась, но он не снимал выцветший камуфляж. Его голова стоила в немецких марках целое состояние; на него устраивали засады и американские морпехи, и муджахеды из Ирана, но он, словно заговоренный, дразнил судьбу, кружа по дорогам в черном, изрешеченном пулями «ниссане» с потрескавшимися стеклами, само появление которого вгоняло в столбняк охотившихся за ним, потому что они знали: воевода не отправится на тот свет, не прихватив с собой по крайней мере с десяток противников. Правой рукой он крутил руль, левой придерживал снятый с предохранителя автомат, а в глазах его поселилась смерть.
Я забываю про засады и как зачарованный смотрю на запретный город, который, с отвращением вздрагивая, укутывается драным и грязным покрывалом тумана.
Теперь я наконец понимаю: он набросился на меня со всей своей предательской силой и не позволит спокойно прожить остаток жизни.
В ледяном сумраке я принимаю решение раз и навсегда избавиться от него. Если удастся выпутаться живым, клянусь уехать на Святую гору, где буду поститься и молиться за спасение своей души. Уже восемь веков, как туда заказан путь злым духам. Если кто и освободит меня от болезненных чар, так только Хиландар.
Ожидая пароход на Святую гору в маленьком порту Уранополиса – Небесного града, я встретил небольшую группу отдыхавших здесь уроженцев Сараево.
Как отчаявшиеся пассажиры потерпевшего крушение корабля, судорожно ухватившиеся за оторванные двери судового бара, которых неугомонные волны несут по океанским просторам, мы сидим под зонтом портовой корчмы «У Костаса», вспоминая навсегда утраченное для нас Сараево. Лето случайно собрало нас в таверне, людей, чьи печальные, озабоченные лица так отличаются от счастливых лиц туристов со всех концов Европы. Июль здесь просто невыносим из-за духоты, а в Сараево, собираясь вечером посидеть на террасе гостиницы «Европа», надо было надевать джемпер, печально заключаем мы под очередную рюмку узо.
С нами сидит один светский человек, торговец по профессии, которого наша наивная жалость к самим себе удивляет. Прекрасный знаток международной жизни, он объясняет, что потеря Сараево была неизбежной. Он говорит о сложности отношений между великими державами и об утрате равновесия сил в связи с распадом Советского Союза и ликвидацией Берлинской стены, о разделе Европы и усилении Германии, которой Америка уступает роль вождя Старого континента, в то время как сама подвергается шантажу со стороны арабского мира, которому должна огромные деньги и от нефти которого полностью зависит. По его мнению, утрата одного города ровным счетом ничего не значит. Грядет новый мировой порядок, спланированный на компьютерах и беспощадно претворяемый в жизнь, и тут уже не до таких мелочей, как чей-то родной город, традиция, происхождение или принадлежность к какому-нибудь народу. Мир поворачивается лицом к будущему – говорит он – и не оглядывается на прошлое. Тот, кто не поймет это вовремя, будет, буквально или образно говоря, просто раздавлен, это уж точно!
И в самом деле, с планетарной точки зрения тоска по Сараево нам самим кажется совсем уж ничтожным делом. Отступая год за годом вместе с проигравшей армией, я устал от утрат… – говорю я. И задаюсь вопросом, хочу ли я вообще хоть где-нибудь остановиться и успокоиться? Вот, сейчас я здесь, на берегу Эгейского моря, но не на адриатическом пляже, где купался и загорал каждое лето.
Если вы постоянно думаете о том, что оккупировали какой-нибудь ваш берег или город, разъясняет наш собеседник, то это означает куда более страшную вещь – следовательно, кто-то оккупировал и вашу голову, причем изнутри! Вы когда-нибудь были в Новой Зеландии или на Ибице? Вы прожили хотя бы год на Карибах? Разве вам не интересно некоторое время пожить на Тибете?
Признаюсь, я не бывал в тех местах.
Вот видите, говорит он, перед вами открывается весь мир, бескрайний, захватывающий, волнительный, но кто-то подавил ваше любопытство, пробрался в ваш мозг. Вы не должны стать его заложником. Идите вперед! Никогда не возвращайтесь к старой любви! Не позволяйте обкрадывать себя!
Я размышляю. Но ведь потеря Сараево не просто потеря родного города – это куда более значительное явление. Это прежде всего потеря молодости, прощание с красотой, которой нас лишают наши собственные годы; по высоте домов этого города и по ширине улиц, которые уменьшались и сужались по мере нашего роста, мы измеряли остроту собственного зрения. Нас никто больше не будет помнить молодыми, а мы верили, что эту тайну до самого конца сохранят деревянные переправы и каменные мосты, старые ворота и часы Копельмановой башни на углу Главной улицы, под которой мы назначали свидания, никогда не упоминая ее названия, произнося просто: «В семь под часами!». На самом-то деле мы ощущали наступление перемен и прислушивались к приближающемуся грохоту нового порядка и истории, которая именно в это время нарождалась на наших глазах, но мы легкомысленно надеялись, что как-нибудь выкрутимся в собственной мелкотравчатой жизни, что она, занятая более серьезными людьми и делами, минует нас, но вот тебе на, теперь она здесь, перед нами, и даже отняла у нас право на прошлое, право посидеть в какой-нибудь сараевской корчме за столами, покрытыми белыми скатертями в красную клетку, вспоминая под красное винцо добрые старые времена.
Какие-то совершено неизвестные нам, чужие, живущие где-то далеко люди решили создать новый мир по своим меркам; может, более удобный, практичный и разумный, но все равно не такой, в каком мы родились, и это уже никакой не политический триллер – этот новый порядок вещей уже здесь, и, как мощный бульдозер, ломает, крушит и ровняет все, до чего нам есть дело.
И во всем этом, что важнее всего, как бы нет ничего личного, как будто какие-то всемогущие старики-волшебники, уничтожая нас, все время повторяют: «Nothing personal! Ничего личного!».
В итоге мы потеряли право даже на беседу со своими покойниками, а живых рассеяло по белу свету.
Время от времени я по всему миру встречаю детей потерянного города… Внешне они ничем не отличаются от обыкновенных прохожих, но посвященные в таинство легко отличат их по известной неуверенности, которая выдает их при встрече, и они, сами того не желая, пытаются скрыть ее за преувеличенной сердечностью, игрой в отличное настроение или упрямым стремлением сохранить особый, сараевский жаргон, который теперь служит им чем-то вроде пароля. Если снять с них маску непринужденности, то откроется печать страдания.
Они клянутся, что никогда в жизни ногой не ступят в Сараево, но именно в таких пафосных заявлениях кроется глубокое оскорбление, нанесенное им их же городом. В то же время им кажется, что они наказывают город, отказываясь от него, но в этой чувственной сопряженности опять-таки прячутся доказательства огромной любви. Кто-то ездит в Сараево на день-другой, теперь, когда наступил относительный мир. Обычно это люди, которые не согрешили перед тамошними властями, которых не будут преследовать за участие в минувшей войне. Они едут, чтобы посмотреть на брошенное имущество, попытаться продать за любую цену опустевшие квартиры, дома или землю, но в своих жилищах застают незаконно вселившихся беженцев. Иные из новых жильцов грубы и отвратительны, а другие встречают их вежливо, но заявляют, что новые власти выделили им эти квартиры, потому что они потеряли собственные дома в местах, которые отошли к сербам. Так что посидят люди в бывших своих жилищах (крепко их ограбили в военные годы), посмотрят в окошко на до боли знакомые пейзажи, после чего уходят, раскаиваясь в том, что вообще приехали в город, на улицах которого больше не увидишь ни одного знакомого лица, и это становится окончательным, не подлежащим пересмотру прощанием. Те, которым въезд в Сараево закрыт навсегда, окружают их после возвращения и расспрашивают о каждом шаге их невероятной поездки. С болью в голосе спрашивают о знакомых, любимых уголках и прочих местечках, которые так много значили для них.
– Это уже не тот город! – говорили те, что вернулись. – Он никогда не будет прежним!
По улицам слоняются какие-то полудикие люди – мухаджеры, покинувшие заброшенные села и местечки и переселившиеся в брошенные квартиры и дома. Сидят на корточках вдоль стен, перевозят коз в трамваях, а мусор выкидывают в окна небоскребов прямо на тротуары. И нет в том их, несчастных, вины: они впервые поселились в городе, и пройдет еще много времени, прежде чем они привыкнут к нему. И они потеряли свои дорогие сердцу места, поля и сливовые сады, хижины, в которых родились. Всеобщая беда перетасовала всех, словно колоду карт. Даже река теперь совсем не такая. Некогда взнузданная, связанная и приученная течь туда, куда следует, она наконец опять проявила свое истинное сущее-тво; выбивающиеся из щелей каменной кладки набережной тонкие зеленые ростки, на которые раньше никто не обращал внимания, превратились местами в густой кустарник. Под мощным боснийским влажно-зеленым натиском верб, которые проклевываются и растут посреди речного русла, трещит жесткий каменный австро-венгерский ошейник набережной. Скоро вместо реки здесь будет струиться настоящий лес!
И на белградских рынках я узнаю братьев по происхождению; они составляют извечную касту поставщиков, скупщиков, маклеров и продавцов всего и вся, которая толчется, зазывает и уговаривает каждого, кого удается ухватить за полу одежды, купить или продать все равно что, и которая отличается от прочей рыночной публики исключительной резвостью, смекалкой и глазами, зыркающими по сторонам в поисках добычи или в предчувствии смертельной опасности. Среди них и наперсточники – виртуозные уличные крупье с тремя пустыми спичечными коробками, под которыми мечется малюсенький бумажный комочек – тебя ожидает огромный выигрыш, если угадаешь, под каким коробком он спрятался! Легковерные столичные граждане, которые никогда не смогут сравняться с ними лукавством, наваливаются и просаживают большие деньги, предварительно немножко выиграв. Ловкие пальцы наперсточников мечутся на камнях тротуаров, борясь за выживание в чужих краях.
Среди беженцев есть и богатеи. Это знаменитые сараевские рэкетиры – страх и трепет торговой Европы, известные тем, что никогда не занимались своим ремеслом в Сараево, где они отдыхали после рискованных экспедиций и тратили награбленные деньги. Они ездят на дорогих машинах, носят драгоценные часы на запястьях и толстые золотые цепи на шеях, одежду самых знаменитых модных домов мира, но все равно заметно, что им чего-то недостает в заслуженном благосостоянии. Ремесло их, разумеется, процветает, как и прежде, но некому больше продемонстрировать плоды своих успехов, потому что потеряно гнездо, из которого они улетали завоевывать Европу и в которое возвращались, чтобы отдохнуть от опасностей жизни и постоянного риска.
И только когда пароход «Неарода» отвалил от пристани и принялся резать носом вспененные гребешки волн, я заметил, что на палубе нет ни одной женщины. В порту их было много.
Старухи в черном, с узлами и оплетенными бутылями вина и оливкового масла сновали мимо откормленных северянок с вызывающе обнаженными грудями и загорелых нимфеток с гибкими голыми руками.
Не увидел я никого и на пустынных песчаных берегах под горами и крутыми скалами, когда мы вошли в воды православия, что начинаются в двух милях от портового городишки, сразу за каменной грядой, отделяющей светское от святого.
Часто в своей жизни мне доводилось бывать в чисто мужских местах – в казармах, на фронтах, но и там обязательно встречались случайно затесавшиеся женщины – поварихи, пастушки, курьерши из штаба или медицинские сестры; ни разу не доводилось мне бывать на палубе парохода без того, чтобы там не зашуршала чья-нибудь юбка или не раздался кокетливый женский смешок. Это же был молчаливый, мужской корабль, полный монахов, батраков и паломников. Монахи были в разных рясах и камилавках, от сизых, цвета голубиного пера, до темно-синих, почти черных. Некоторые походили на библейских пастырей в пропыленных и рваных одеждах. В руках у других были длинные суковатые посохи, которыми обороняются от собак и змей, в то время как третьи щеголяли солнцезащитными очками «рей баи» и дорогущими, изукрашенными драгоценными камнями, крестами на грудях. Отличались они и языком, и багажом. Здесь русский мешался с греческим, армянский с болгарским и румынским. Под их ногам рядками лежали торбы из козьей шерсти, переметные сумы и чемоданы «самсонайт»… И всюду на палубе царила тишина; только изредка раздавалось вполголоса произнесенное слово, будто мы вошли в очарованные воды, святость которых может разрушить любое неверное слово. Даже туристы притихли, почувствовав себя неловко из-за слишком громкого жужжания своих кинокамер.
Мы плыли к миру без женщин. Последняя из ступивших на Святую гору в 1347 году, в Хиландар, была Елена, жена царя Душана Сильного, и именно потому, говорят, что (прячась, кстати, от чумы) привел жену в мужское святилище, этот властелин сербов и греков так и не был причислен к лику святых.
Молча мы плыли в гости к вечности.
Святая гора находится на полуострове Атос, за каменным кольцом, соскользнувшим с последнего из трех пальцев кого-то из колчеруких античных гигантов, пытавшегося дотронуться до Солнца и сунувшего страшно обожженную ладонь в Эгейское море. Испугавшись погибели мира, который пророчили Европе в тысячном году, эти суровые и пустые места населили анахореты – отшельники и постники, чтобы молиться в покое и быть ради спасения как можно ближе к Богу. Объявленного конца света в последний год первого миллениума не случилось, но он каждодневно свершается для тех, кто умирает и покидает этот мир навсегда. Что есть конец света, если не падение человека в бесконечное ничто, тьму и молчание? И сегодня, в 1996 году, перед концом следующего тысячелетия, вновь ширятся пророчества о конце цивилизации, который воспоследует в 2000 году. Не настало ли время помолиться на Святой горе?
В старых летописях значится, что в 845 году, во времена владычества византийской императрицы Теодоры, здесь в пятидесяти шести монастырях жило около двадцати тысяч монахов, занимавшихся иконописью. Сейчас их осталось около полутора тысяч, и только в двадцати монастырях теплится жизнь, среди которых и четвертый по величине – Хиландар, в котором возносят молитвы семнадцать монахов.
В двенадцатой статье «Типикона святого Савы» записано, что монастырь «свободен от всех здешних владетелей и не подлежит ничьей правде, ни царской, ни церковной…».
Мы плыли у самого берега под развалинами древних зданий и заброшенных орсанов – укрытий для лодок, – а на этих лодках некогда монахи отправлялись на рыбную ловлю. Куда не бросишь взгляд – ни человека, ни скотины, ни птицы.
Наконец пароход причалил у косы перед разрушенным зданием болгарского монастыря Зограф, перед которым трое босоногих и распоясанных греческих полицейских пили пиво из жестяных банок и переговаривались с кем-то по мобильному телефону.
Прибрежный монастырь, построенный в девятом веке при Льве Философе тремя монахами, Моисеем, Аароном и Иоанном, зловеще, как выцветший череп, смотрел в пучину пустыми глазницами окон. На потрескавшейся каменной крыше росла смоковница. Пароход отвалил от берега поспешнее, чем причаливал, словно опасался этого заколдованного места, где в тринадцатом веке приняли мученическую смерть от руки византийского царя Михаила Палеолога двадцать шесть монахов. Башня, единственный свидетель трагедии, укуталась в каменный плащ молчания.
Полицейские на своем горловом птичьем языке с сожалением объяснили мне, что до скита Иованица, откуда начинается дорога в Хиландар, надо идти пешком по диким пляжам, и я безропотно тронулся в путь, осознавая, что, как всякий паломник, должен заслужить право на хождение ко святым местам. Многие часы перешагивал я через камни, таща Сизифову суму, которая на припеке становилась все тяжелее, пересекал отмели (если это было возможно) и обходил прибрежные скалы, у одной из которых меня атаковала стая чаек. Они обрушились на мою непокрытую голову, подняв криками и хлопаньем крыльев неописуемый шум. Наверное, я нарушил покой на их гнездовищах. В неожиданной атаке птиц просматривалось некое тайное предупреждение: видимо, я слишком грешен для того, чтобы без искушения достичь святых мест. А может, то были души тех самых двадцати шести болгарских монахов, которые я невольно потревожил, пробираясь путем, которым кроме меня почти никто не ходил?
И вдруг, когда я уже давно распрощался с мыслью ступить на что-нибудь более удобное, нежели бесконечные округлые камни, напоминавшие абстрактную скульптуру, из-за мыса вынырнул хиландарский скит – большое обихоженное здание с террасой на первом этаже, небольшой часовней, к которой вели крутые ступени, и с запущенным орсаном, в котором колыхался катер с мощным мотором марки «ямаха». Вьющийся виноград, укрывающий тропинки, ульи и горшки с цветами посреди каменной пустыни, выдавали руку заботливого хозяина. Над колодцем была прибита табличка с надписью кириллицей: «ВОДА ТОЛЬКО ДЛЯ ПИТЬЯ НЕ ПРОЛИВАЙТЕ ЕЕ У НАС ЕЕ ОЧЕНЬ МАЛО НЕ БЕСПОКОЙТЕ НАС ПОКА МЫ С ЧАСУ ДО ЧЕТЫРЕХ ОТДЫХАЕМ».
Я попробовал открыть хоть какие-нибудь двери (даже в часовне), но все они оказались заперты. Ко мне подошли приласкаться две серые кошки, и всё. Было заметно, что кошки домашние и очень хорошо воспитанные. И тут на террасе, сразу над головой, я увидел силуэт черноризца, который спокойно смотрел в море, не обращая на меня ни малейшего внимания.
Позже я узнал, что он по национальности немец, который больше двадцати лет тому назад перешел в православие, приняв монашеское имя Пантелей. С германским упрямством он поднимал из руин заброшенный скит. Меня вновь охватило странное чувство, будто со всех сторон меня рассматривают невидимые глаза, изучая, созрел ли я для того, чтобы продолжить путь. Они ждали, какие действия я предприму: буду ли звать, просить, чтобы мне открыли, накормили и позволили переночевать, или еще что-нибудь. Но я ничего не сделал – подложив сумку под голову, прилег на деревянную скамью перед запертой часовней, которая, похоже, не желала принять меня. Не знаю, сколько прошло времени (может быть, я даже заснул); мне казалось, что могу лежать вот так сутками, и тут неизвестные глаза поняли, что я никуда не спешу, и послали полугрузовой фургон марки «ниссан», который в облаке пыли перенес меня кочковатой, похоже, только что проложенной дорогой через горы, сквозь густое чернолесье, прямо в Хиландар. Отец Пантелей даже не шевельнулся: он окаменел на террасе, глядя в море.
Прежде чем ступить на его землю, я раскрыл книгу и прочитал, что «монастырь Хиландар снаружи похож на большое продолговатое укрепление неправильной формы длиной около ста сорока и шириной примерно семьдесят пять метров. Его окружают стены высотой до тридцати метров и толщиной от метра до полутора, а на восточной и южной стороне возвышаются две старинные высокие башни – пирги. Внутренние стены монастыря скрыты за многоэтажными киновиями».
Потом по крутым и скользким ступеням я поднялся на самый верх башни святого Савы, касаясь пальцами стен, которых касались персты этого монаха и святителя двенадцатого века. С тридцатиметровой высоты я смотрел на монастырский двор с главным храмом Введения Богородицы (увиденная так, с высоты птичьего полета, он вполне мог бы разместиться на ктиторской длани короля Милутина), каменным баптистерием и двумя кипарисами такой высоты, каких мне еще не доводилось видывать.
Я повидал многие из чудес света, но это строение поразило меня больше, чем храм Святого Петра в Риме или Зимний дворец в Санкт-Петербурге; площадь Святого Марка в Венеции, конечно же, просторнее и симметричнее неправильного двора, истертые булыжники которого посыпаны песком, но все эти шедевры мировой архитектуры покоятся на фундаменте тщеты, стремящейся поразить паломника и низвести его своим величием до состояния ничтожного червя, частицы пустого праха. Двор же Хиландара, похоже, ничуть не полагался на собственную красоту и византийский стиль – здесь веками свершалось нечто куда более важное; он стал великим поприщем, ареной, на которой несовершенный человек, пытаясь достичь неба, сражался с самим собой, с миром и с искушавшим его дьяволом. Дух этой жесточайшей и волнующей драмы и сегодня словно пропитывает июльскую дымку, и уже не кажутся фантастическими рассказы американских астронавтов, которые, глядя из космоса, заметили: некоторые святые места ночью испускают непонятное сияние.
Многие монахи, прибыв, Хиландар, до конца жизни не покидали его. Мне показали тощего старца, который старательно поливал цветы перед своей кельей. Целых сорок лет он провел в посту и молитве, ни разу не выйдя за стены. Говорят, монах Арсений последний раз подходил к монастырским воротам больше десяти лет тому назад, когда из Сербии приехал навестить его отец. Увидев сына с длинной белой бородой, выглядевшего много старше его самого, отец рухнул как подкошенный. Едва только его привели в чувство и подняли на ноги, он посмотрел на сына и опять потерял сознание. Рассказывают, монах Арсений мягким жестом дал знать, чтобы отца унесли, после чего спокойно направился в свою келью.
Наверное, не случайно посреди хиландарского двора растут два самых высоких кипариса, которые мне довелось видеть. Два благородных ствола выросли как бы не из собственных корней, а из многовековых монашеских устремлений вознестись от скудной, неухоженной земли и праха к астральным духовным высотам, которых способны достичь только избранные, да еще те, что страдали больше иных, – сконцентрировать собственную пробившуюся сквозь густые темно-зеленые ветви веру на кончике самой высокой и самой тонкой веточки кипариса, которая, словно перевернутый громоотвод, источает в небо веру.
В два часа пополуночи (по нашему времени) меня разбудил звон малого колокола, означавшего, что пришло время всенощного бдения. Я спал не раздеваясь, только снял кеды, шнурки которых едва сумел завязать в абсолютной темноте безлунной ночи. Чуть позже о предстоящей молитве напомнило и било, или, как его называют греки, симандро – отрезок доски, привязанный веревкой к ветке, по которой ударяют деревянной дубиной; его удары заставили меня устыдиться опоздания, и я вылетел из комнатки, очутившись в темном лабиринте коридора. Много раз я ложился спать в два часа ночи, а чаще еще позже, в сером утреннем свете, но не могу припомнить, чтобы просыпался в такой час, причем в полной темноте, когда даже звезды, казалось, потухли. Я блуждал по темным коридорам, нащупывая стены и время от времени чиркая зажигалкой «зиппо», пламя которой обжигало пальцы, спускался по деревянным лестницам, разыскивая открытые двери, руководясь только струйкой проникавшего снаружи свежего пахучего ночного воздуха. Может быть, это блуждание во тьме было еще одним искушением: если найду путь, значит, мне суждено найти и церковь, силуэт которой наконец я рассмотрел на фоне неба и колышущихся монашеских теней.
Главный храм Введения Богородицы был робко освещен потрескивающими восковыми свечами. Следовательно, я оказался в самом ритмично сокращающемся сердце православия – посреди его величайшей святыни. Без малого девять веков тому назад ее воздвигли сербский правитель Стефан Неманя и его сын Сава, который позвал отца присоединиться к нему и принять монашество в Хиландаре. Век спустя, наверное, из-за плачевного состояния строения, в 1293 году сербский король Милутин выстроил на ее фундаменте новую церковь, в стены которой в память о предшественниках вмуровал самые прекрасные каменные орнаменты прежнего собора. Стефан Неманя, в монашестве Симеон, похоронен в саркофаге, из которого совершенно невероятно, вопреки всем законам природы, проросла и поднимается по внешней стене храма старая виноградная лоза, и по сей день плодоносящая. Говорят, что ее ягоды обладают чудесным свойством: бесплодные женщины, вкусив их, рожают детей. Эта лоза, наравне с колодцем святого Савы, есть еще одно чудо Хиландара.
Церковь, посвященную введению Богородицы во храм, возвел знаменитый первостроитель конца тринадцатого века грек Георгий Мармара из Солуна, вписав план в крест и воздвигнув симметричный купол, употребив в качестве материала кирпич цвета закаленной глины, чередующийся с серыми камнями. Мастерство зодчего выдает созданное им огромное пространство, охваченное каменной скорлупой почти что крошечного храма. Внутреннее пространство становится тем больше, чем дольше человек находится в нем, и достигает бесконечности, умноженной зеркалами души.
Совсем незаметно, без особого оповещения, долгое всенощное бдение начинается молитвой в два голоса, в то время как третий, бархатный баритон, скрытый колоннами и темнотой, откликается им аллилуйей… Кажется, что темные тени с мерцающими глазами вовсе не молятся, но – созерцают. Я не знал, сколько длится, как и когда завершится эта бесконечная молитва, звучащая вполголоса в прохладной и звонкой церкви, – время остановилось, и под ее куполом собрались все – мертвые и живые, слившиеся в вечности. В то время, когда Греция, Балканы и вся Европа пили, блудили или спали, страстно ворочаясь в сонной духоте ночи, эти люди молились за спасение их душ, за весь грешный мир, сопротивляясь князю тьмы. Их молитвы сливались в стройный тихий гул, который спокойно тек, словно невидимая река, и в котором можно было разобрать только отдельные слова – он воспринимался скорее как мелодия, а не мольба, время от времени прерываемая отчетливым «Аллилуйя» и «Аминь».
Погрузившись в волшебство, сотканное смиренными человеческими голосами, в голове у стоящего в тени проносятся самые разные мысли, и в одно прекрасное мгновение, после двух-трех часов молитвы, внутренность церкви начинает наполняться лицами и пейзажами его прошлого, и грозди живых и давно исчезнувших, проникая сквозь двенадцать узких окон купола, выступают из каменной мозаики на пространстве перед алтарем, поднимаются по колоннам, занимают свободные деревянные скамейки вдоль стен храма.
Не знаю точно, когда и в какое мгновение передо мной в облаке ладана начала выстраиваться сама собою, камень за камнем, бедная маленькая церквушка недалеко от сараевской Башчаршии, словно явившаяся из тьмы времен, чтобы поклониться этой, Богородичной, по которой уже девять веков сверяют все православные службы в моей стране, все монастыри и церкви, как бы ни были они велики.
136.1. При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе; 2. на вербах, посреди его, повесили мы наши арфы. 3. Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши – веселья: «пропойте нам из песней Сионских». 4. Как нам петь песнь Господню на земле чужой? 5. Если я забуду тебя, Иерусалим, – забудь меня десница моя; 6. прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселия моего.
Старая тетка, что воспитывала меня во время войны и еще год после ее окончания, была очень набожной женщиной, и каждое воскресное утро (если только это вообще было возможно) водила меня к заутрене в старую православную церковь Святых Архангелов в Башчаршии, где хранятся мощи святой Феклы и в которой меня крестили. В утренних походах в церковь во время войны, да и после нее, было что-то заговорщецкое, тайное. Когда мы подходили к паперти, тетка оглядывалась, чтобы удостовериться в отсутствии слежки, после чего мы оба быстро шмыгали в тяжелые деревянные двери с кованым молотком. В то же мгновение нас окутывали запах ладана и стройное гудение голосов, отвечающих аллилуйей на ектению священника. Как правило, в ней собиралось совсем немного народа, потому что наши соплеменники во время войны, а особенно после ее завершения, очень боялись безбожной власти. Эта маленькая, утонувшая в земле церквушка, похоже, сама пряталась от чужих взглядов: многажды разрушенная, ограбленная и сожженная, она стоит на фундаменте церкви двенадцатого века, ктитором которой, по преданию, был Андрияш, брат королевича Марко. Стройные каменные колонны с трех сторон поддерживали хоры, где располагались певчие, когда они были, и где, по древнему обычаю, молились старые богомольцы. Ее стены покрывали потрескавшиеся и закопченные иконы, пол выстлан отшлифованными каменными плитами, и все это венчал купол цвета византийской лазури, по которой, над облаками сизого дыма ладана, плыли золотые звезды. Под этим всепрощающим небесным покровом молились наглухо повязанные платками женщины в черном, похожие на узлы с безутешной печалью и страданием. Я часами простаивал рядом с теткой и смотрел в это небо, которое много лет спустя опять увижу на полотнах Шагала, но только теперь по нему будут летать обнявшиеся любовники, скрипачи и раввины, а не старики и нищие, рядом с которыми я стоял некогда, не понимая ни единого слова в молитвах, обращенных к прекрасной женщине – с глазами совсем как у моей матери,
– держащей на руках младенца. Я верил только в ангела-хранителя с довоенной раскрашенной литографии, парившего над двумя малышами, переходившими бурную реку по скользкому бревну. Я верю, что именно этот ангел и спасал меня. Вместе со всеми я подходил принять просфору и поцеловать большой серебряный крест в руках священника, крестился и выходил, как ранние христиане выходили из своих катакомб, из пахучей пещеры, в которой потрескивали восковые свечи, на паперть, где ползали и христарадничали те, кто был еще беднее нас – безногие калеки, передвигавшиеся на ладонях, обмотанных кусками мешковины, слепцы, юродивые и убогие, с палками и костылями, на крохотных деревянных тележках, словно только что сбежавшие с гравюр Жака Калло. Среди них обычно толкался калека, горба которого мне иногда удавалось коснуться со спины – я слышал, что это приносит счастье. Безденежная тетка открывала свою некогда элегантную сумку с серебряной застежкой, а ныне жеваный мешок бесформенной кожи с потрескавшимся лаком, доставала монетки и сокрушенно раздавала их нищим.
Летом, в первые послевоенные годы, в храмовый праздник все выглядело иначе. На вымощенной булыжником паперти, между старой церковной школой и храмом, расставляли длинные деревянные лавки и столы, на которые в беспорядке вываливали еду – куски жареной баранины, хлеб и калачи приносили романийские крестьяне в странных рубахах с короткими и широкими рукавами из белого плиссированного полотна и с головами, обмотанными красными шарфами, концы которых ниспадали на плечи. Они были сильными, высокими, с горделиво закрученными усами, загорелыми лицами и волосатой грудью. Своих горных лошадок они демонстративно оставляли на тротуарах перед папертью, а иногда кто-нибудь из этих богатырей, желая продемонстрировать силу группке бледных городских бездельников, которые с завистью и страхом следили за ними, поднимал своего коника и некоторое время удерживал его над головой. Еще одно событие врезалось в мою разгоряченную память: весной 1943 года усташи конвоировали по Главной улице колонну связанных романийцев. Их сопровождали полицейские в длинных кожаных пальто, со слипшимися волосами и прыщавыми лицами, настоящие городские подонки, вооруженные пистолетами и кинжалами, а измученные, исколотые, окровавленные крестьяне хромали по мостовой, как волки, попавшие в капканы, в то время как граждане Сараево плевали в них, а женщины врывались в колонну и расцарапывали им лица. В первые послевоенные годы новый режим из-за западных союзников еще не решался демонстрировать свое истинное безбожное лицо (слово «революция» появилось только лет через десять), и потому он терпеливо выносил церковные праздники и шумные походы горцев с вершин в город, где они открыто демонстрировали нежелание отступать от веры предков. Конечно, в этом был вызов и даже открытая враждебность и презрение к городу, который целых четыре года прозябал в рабстве, в то время как они в своих лесах оставались свободными. Время от времени это прорывалось в короткой драчке или в ругательстве, нередко в дело шли припрятанные ножики: тишину разрывал крик порезанного, кровь била струей, оскверняя праздничную белизну чьей-то сорочки. Именно поэтому их избегал находящийся под защитой государства городской сброд, который тогда называли пролетариатом, оставаясь в роли озлобленного наблюдателя, называя этих великанов, впрочем, как и сегодня, «папанами». А они были потомками тех самых честных людей, которые своей лептой и своим трудом построили эту церковь.
Презрение выползшего из закутков и подвалов городского общества к этим, как мне тогда казалось, вольным богатырям определило и отношение так называемых «городских сербов» к «примитивному» населению свободных горных районов. В давние времена лукавые стратеги сегодняшней передачи Сараево под восстановленную исламскую власть посеяли семена раздора между сараевскими сербами, определив первых как «райю» и назвав вторых «папанами». Принадлежность к райе была почти что признаком городского дворянства, означавшим, что любому сербу города Сараево принадлежащий к иной вере и нации человек, проживающий в его квартале, намного ближе и роднее самого родного брата, если тот живет в горах. И вот теперь сербы в этом исламском городе-государстве стали настоящей райей, то есть гражданами второго сорта, но уже не в прежнем ласковом смысле, но в настоящем, буквальном, вновь ожившем значении слова времен многовекового турецкого рабства. Таким образом, типичная городская неразбериха, которую мало кто принимал всерьез, вновь стала обозначать рабство и бесправие.
И по взглядам на верующих Сараево мало походило на прочие города. Всюду в мире регулярное посещение храма считается верным доказательством пристойности и надежности человека; коротко говоря, если человек верит, то и ему можно верить. И только в этом городе, особенно если дело касалось православных, на тех, кто ходит в церковь, смотрели с сомнением и подозрением, смешанным с презрением. Даже многие сербы хвастались тем, что никогда не ходят в церковь, полагая это подтверждением их крайней прогрессивности.
И сама маленькая церковь в Башчаршии строилась в свое время почти секретно, вопреки тогдашним законам, и что-то, наверное, сохранилось заговорщецкое в ее стенах и низкой звоннице, которая даже не смела, как в других городах, подняться выше соседних крыш. Как будто окольные здания прятали ее от дурного глаза и открытой вражды, которой новая безбожная власть отличалась куда как сильнее турецкой.
Рассказ о возникновении этого чувства можно обнаружить, пожалуй, в старых хрониках:
«Объявившись в Боснии, турки все вокруг порушили и пожгли, заодно снесли и старую православную церковь в Сараево. Прошло несколько лет, народ вернулся в город и просил у султана в Стамбуле разрешения построить новую церковь. Султан согласился и издал фирман, позволяющий строить церковь, но при условии, что ее фундамент будет не более распяленной воловьей шкуры. Народ сараевский горевал, пока не нашелся мудрый старец, который сказал: «Вырежем себе из воловьей шкуры тонкий ремешок, и отрезать будем по кругу, чтобы он из одного куска был, и какой будет тот ремень – такой и будет фундамент церкви». Народ послушался его, взял шкуру, вырезал из нее ремень, измерил его и заложил фундамент, и тут же построил нынешнюю Старую церковь.
Когда же турки это увидели, то принялись было рушить ее, потому как слишком большой она им показалась, но народ предъявил им султанов фирман и доказал, что султан позволил им построить церковь размером с распяленную воловью шкуру, и турки, делать нечего, оставили их в покое, а церковь и по сей день стоит, как стояла».
Имя города Сараево состоит из двух слов: турецкого «сарай» и сербского «эво» – вот. «Сарай» означает дворец, а наше «эво» на него указывает. Дворец везиря, из которого тот правил городом, до 1853 года находился в районе Беглук.
«На земле есть много городов по имени Сарай, – отмечает в путевом дневнике знаменитый путешественник Эвлия Челеби в 1664 году. – Ак-сарай в Анадоле, Табе-сарай между Персией и Джурджистаном и Дагестаном. Шехир-сарай на берегу реки Эредель… Визе-сарай в Румелии и другие. Но боснийский Шехер-Сараево из всех них самый лучший, самый красивый и самый живой…»
Сараевский поэт семнадцатого века Саблети поет в «Печали сердца»:
Как мне воспеть Сараево-город, если я сердцем печалюсь За жителей грустных его, в сердцах у которых нету любви, А только лишь ласка. Хоть для меня он гнездо, в котором родился и вырос, Что мне сказать про него, если здесь места для дружбы Не было, нет и не будет… Ведь слово мое похвалы никто не поймет, Потому что в нем правит нрав сатаны.Тем не менее для знаменитого дервиша Мехмеда Курании, подписывавшего в начале века восемнадцатого свои стихи именем Мейли, на земном шаре не было места более прекрасного:
Вздыхаю, когда при мне вспоминают Сараево юное; Расставание с ним жжет меня пуще огня. Только в раю ты найдешь такие воздух и воду. Сердце, скажи найдешь ли ты в мире город, равный ему?Долголетний пастырь сараевских католиков, францисканец Грго Мартич (1822–1905), заканчивает свою песню «Плач из Боснии» стихами:
В мире здесь мы жить не можем, А сбежать никак не смеем… Мы несчастны, но мы это заслужили.Словно предчувствуя, что сербы, изгоняемые из Сараево, век спустя будут выкапывать из могил своих мертвецов и увозить их тела в эмиграцию, Петар Кочич пророчески писал в своей «Молитве»:
Немилосердно изгоняют меня с кладбища, бичуют меня ужасно и слова у меня в горле замирают. Могилы остаются не напоены словами чистыми, не закапаны слезами искренними, а матери вдовствующие не утешены утешением ласковым, и восстает в жестоком гневе сердце Божие и человеческое, и мертвые тела в саванах вздымаются из неоплаканных могил и оглашают все окрест жуткими воплями и стонами, так что душа человеческая замирает и леденеет.
Для проклятого хорватского поэта Тина Уевича в Сараево, где он провел целых семь лет вроде как в добровольном изгнании, «суд, почта и телеграф, театр и Храм всего лишь коробки и ящики, над которыми катятся облака».
В то время как английский писатель и дипломат Лоуренс Даррелл писал в стихотворении «Сараево»:
История его кратка? Возможно. Только лишь Его зловещая и темная краса цветет во мраке, Застигнутая спектром умирающего стиля: Инстинкт деревни страшной процветает, Подчеркнутый пальбой из револьвера.Даррелл, похоже, имел в виду выстрел Принципа в эрцгерцога Фердинанда в июне 1914 года, когда Сараево превратился в один из самых зловещих городов мира.
«Я видел многие города в расцвете их красы, – пишет Роберт Монро в самом начале XX века в “Rumbles and studies in Bosnia-Herzegovina and Dalmatia”, – Дамаск и Иерусалим, Каир и Царьград, Венецию Севера и Венецию Юга, но ни один из них не восхитил меня так, как Сараево».
Для безымянного французского путешественника Сараево в 1890 году это «огромная корзина, полная садов, куполов и черепичных крыш, великолепная смесь зеленых масс и белизны; то тут, то там веретено какого-нибудь минарета вонзается в чистое небо, где и завершается искрящимся металлом..» Сравнивая альпийские города, которые он наблюдал у подножия высоких гор, автор подчеркивает, что «они, совсем не как Сараево, положили свои головы на грудь великанов и влюбленно приникли к ней… Пугающая картина исламской Боснии, ревниво оберегающей свое одиночество и свою свободу, – пишет он далее, – это убежище религиозных фанатиков и диких горцев, не походит на прочий мир обычаями и религией; веками она защищала свой дикий изоляционизм и скрывала свои тайны в изгибах своих ущелий…»
Создавая похвальное слово этому городу – «Взгляд на Сараево», – Иво Андрич все-таки не смог не сказать, что город напоминает паука, выглядывающего из горной расселины, но никогда не покидающего его.
Красота и несчастье переплелись здесь в вечном, нерасторжимом объятии. Может быть, в этом кроется древний секрет вечной притягательности Сараево? Кстати, в старинных турецких документах Сараево называют «очагом войн и цветком среди городов».
«Иногда мне кажется, что здесь я теряю сознание от тоски, что у меня кружится голова от здешней пустоты… – исповедовался во время прогулки сараевский писатель Исаак Самоковлия своему другу Ото Бихали Мерину. – Все прошло, исчезло все, что было здесь действительностью».
Тогда же Ото Бихали припомнил знаменитую корчму «Шедрван», этот фирменный знак ночной жизни в Сараево:
«Я знал это местечко. Гаремные реминисценции, подкрепленные фокусами в восточно-арабской стилистике, пальмами в кадках, пахлавой и танцем живота. Местечко с дурной репутацией, мечта недорослей, неодолимо притягивающее мелких людишек, офицеров, изображающих высшее общество, и иностранцев, желающих и ночью наслаждаться достопримечательностями города».
А вот и наши современники…
Поэт-изгнанник, Райко Петров Ного, разоблачает сущность Сараево в «Тумане» 1972 года:
Дух города по имени туман Высасывает соки моей жизни…В Сараево того же года другой поэт, Радован Караджич, пишет:
Дымится город как кусочек ладана, И в этом дыме наша совесть вьется.Самый молодой в долгом ряду поэтов, воспевших Сараево, Деян Гуталь, оплакивает свой город:
Молю тебя, Боже, дай мне увидеть весь мир, Но только навеки спаси от Сараево!На всех континентах есть множество городов, которые намного больше, счастливее и красивее Сараево, но у них никогда не было своих влюбленных в них поэтов и писателей, кроме тех, что пишут в путеводители. Чтобы хоть что-то значить в этом мире, городу недостаточно быть просто красивым и счастливым, так же как нет в истории литературы великих романов о счастливых женщинах без прошлого; главные их героини всегда несчастны – Манон Леско, Эмма Бовари, Анна Каренина или леди Чаттерлей…
Паук Андрича, который никогда не выползает из мрака расселины, натянул, похоже, над Сараево невидимую сеть, в которой, сами того не подозревая, мы, родившиеся здесь и писавшие об этом городе, запутались навеки. Эта липкая, прочная паутина из тонких ностальгических нитей, опутав, удерживает нас даже тогда, когда мы находимся в тысячах километров от родного города. Мы до конца остаемся его узниками, а когда умрем, наверняка станем добычей огромного паука, терпеливо поджидающего нас в засаде.
«– Сараево богато окрестностями, – сказал испуганный мальчик знаменитому репортеру, который остановил его на Главной улице.
Телевидение доставило эту фразу во множество городов, в бесчисленное количество квартир.
Так, например, я услышал ее, находясь в сотнях километров к северу.
«Сараево богато окрестностями…»
А другие города – нет? Я с открытыми глазами нырнул в эту фразу и вынырнул из нее полным приверженцем Сараево. В этих трех словах крылась тайна любви, состоящая из тупоумных школьных уроков и загородных экскурсий, во время которых гимназисты впервые видят новыми глазами волнующие тела девочек на мшистой земле горы Требевич. Господи, Сараево богато окрестностями…». (1970)
133.1. Благословите ныне Господа, все рабы Господни, стоящие в доме Господнем, во время ночи. 2. Воздвигните руки ваши к святилищу, и благословите Господа. 3. Благословит тебя Господь с Сиона, сотворивший небо и землю. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Рокочут и трепещут голоса монахов, творящих молитву, текущую по храму в ночи невидимой рекой. Его каменные стены теряют вес, превращаются в занавес, раскрываются и растворяются в темноте, открывая путь небу, которое бесшумно опускается на молящихся. И уже никому не распознать, всепрощающий ли Космос снизошел на нас или мы сами поднимаемся в небеса. Похоже, все становится возможным в эти благословенные часы, пока сменяют друг друга смиренные голоса обитателей Хиландара, попеременно читающих Псалмы Давидовы – словно во все века никогда и не прекращалось чтение Псалтиря; пока длится оно, мы – живые и давно усопшие – спасаемся и существуем. Наполненная теплыми человеческими голосами и верой хиландарская церковь поднимается и парит в темноте липкой средиземноморской ночи, освещая грешную землю вместо угасших звезд. Исчезает тяжесть в отекших от долгого стояния ногах, мы перестаем ощущать тело, а души наши раскрываются навстречу исчезнувшим лицам, которые встречались нам на жизненном пути. Они исполняют нас милостью всепрощения, проходят перед нами, задерживаются, смотрят на нас с доброй любознательностью и исчезают во тьме за колоннами или растворяются в серебристой дымке под куполом.
Когда-то давно жил в городе Сараево человек по имени Стефан Мезе. Он приехал с чужбины в нищую Боснию еще до Первой мировой войны; в нем смешались австрийская, венгерская и чешская кровь с примесью крови евреев-ашкенази. Стефан Мезе всю свою жизнь был официантом, но его блистательная карьера оборвалась в отеле «Европа» знаменитого Ефтановича одновременно с выстрелом юного Гаврилы Принципа.
Низенький, сморщенный, как печеное яблоко, вечно в потрепанном черном костюме с засаленной бабочкой и в полуцилиндре, Мезе был похож на ворона, которого пощадили и оставили каркать над развалинами сгнившей черно-желтой монархии.
Он жил в конуре на одном из углов Главной улицы, напротив Большого парка, над кондитерской и модной лавкой, торговавшей вуалями. Он был владельцем единственной в мире своеобразной коллекции меню, в числе жемчужин которой было меню последнего ужина эрцгерцога Фердинанда, а также карта вин с «Титаника», погреба которого опустошила соленая океанская вода. Я был хорошо знаком с господином Мезе и регулярно навещал его во время летних каникул, пытаясь извлечь хоть какие-то звуки из астматичной фисгармонии, работавшей от ножных мехов.
Каждый день ровно в полдень Стефан Мезе появлялся в окне своей конуры и кормил голубей. Поскольку он начал делать это еще в 1908 году, многочисленные поколения сараевских голубей привыкли к полуденному ритуалу, намертво врезавшемуся в их голубиные души, и с каждым годом их прилетало все больше и больше, полностью закрывая старенький домишко – его окна, трубы и крышу – сизым облаком трепещущих крыльев.
Потом, где-то в середине пятидесятых, дом снесли, его просто выдернули, как сгнивший коренной зуб, а площадку как следует разровняли – чтобы построить на ней универмаг. Стефан Мезе получил новую, приличную квартиру в новостройках Нового Сараево, но до самой смерти ежедневно ровно в полдень приходил на площадку, где некогда стоял его дом, с карманами, полными кукурузных зерен.
И вот чудо из чудес! В момент, когда церковный колокол возвещал полдень, небо над главной улицей меркло: со всех концов Сараево слетались голуби – с обрывов Бистрика и с Башчаршии, голуби из Чифутняка и Голубняка, из Ковача и Вратника, сизые птицы с Требевича и стаи с Берега – бесчисленные сараевские эскадрильи голубей.
Я наблюдал это сараевское чудо в 1959 году, что и записал на карте вин кафе «Парк»:
«Птицы падают на старика. Они у него на голове, на плечах, на ушных раковинах, изъеденных клювами, на носках его глубоких, старательно завязанных шнурками ботинок. Они цепляются за его улыбку, паря на высоте губ. Птицы зависают в воздухе, каждая на своем месте, где когда-то были их любимые окна, их трубы, их антенна радиоприемника «Блаупункт» 1926 года выпуска.
Неожиданно, так же как и прилетели, птицы одним мановением крыла, словно по какому-то молчаливому голубиному уговору, рванулись туда, откуда появились – каждая стая по своему курсу, каждая птица со своей стаей. На лице ощущается ветер, поднятый сухими, трепещущими взмахами их крыльев. Словно косяки рыб, словно тени, оставленные ими на песчаном дне, улетают маленькие сизые пятнышки, унося с собою запахи старого Сараево…»
Я вспоминаю это призрачное видение и нынешней ночью, когда родной город потерян для меня навеки. Но его древний дух еще парит над пожарищами наших душ.
Стою и невольно расправляю руки; и вот, смотри – со всех сторон, из ниоткуда, из ничего, в память мою, словно голуби покойного Стефана Мезе, слетаются лица утраченных друзей, первых любимых, родичей и художников, всех тех, кого я некогда любил и знал.
Я в отчаянии. В отличие от господина Мезе, я ничего не могу им дать.
Старое Сараево некоторое время парит в воздухе, после чего вновь исчезает, уставляя меня без утешения.
83.4. И птичка находит севе жилье, и ласточка гнездо севе, где положить птенцов своих, v алтарей Твоих, Господи сил, Царь мой и Бог мой!
Наш дом был на главной улице, на полпути между Кафедральным собором и Башчаршией, связывая некоторым образом, в миниатюре, Европу и прихожую Востока, две цивилизации и два мира. Это мрачная улица без единого деревца, похожая на серый коридор, по которому направляются прямо, не сворачивая, во что-то вроде наскоро сколоченной восточной сказки – переплетение переулков и тупиков, рынков и неожиданных площадей с фонтанами и множеством лавок и будок ремесленников, плавно переходящих в длинные и величественные склады самых разных товаров. Каждая улица зовется по ремеслу, которое на ней практикуется: Ковачи, Казанджилук (обработка меди), Кундурджилук (башмачники), Чизмеджилук (сапожники), Куюнджилук (ювелиры), Чурчи-лук (скорняки), Сарачи (кожевенники), Халачи (шерстопрядильщики), Абаджилук (суконщики). А меж них рассыпались портновские мастерские, будки часовщиков, прилавки травников, ящики угольщиков, тележки кондитеров и продавцов бузы. И над всем этим возносятся столетние тополя и, словно стрелы, вонзаются в небо белые минареты, на которые пять раз в сутки, днем и ночью, поднимаются муэдзины, чтобы пролить на Чаршию исламские причитания: «Аллах велик; нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад пророк его. Идите на молитву, идите в храм спасения». На самом краю улицы возвышаются синие стены гор и пригороды на крутых склонах, дома которых хранят в окнах последние отблески солнца, в то время как внизу, в городе, уже загораются уличные фонари.
В начале нашей улицы стоит православная церковь, а если свернуть вправо, на узкую улочку, можно попасть в сефардскую синагогу и бывший еврейский квартал, в котором эти работящие, в основном бедные люди жили с шестнадцатого века, когда королева Изабелла выгнала их из Испании.
Местоположение дома номер 26, в котором я жил в детстве до девяти лет, как бы определило мое место и в последующей жизни всегда между! Трехэтажное здание, выстроенное в стиле неоклассицизма, столь любимом австро-венгерскими колониальными властями, вечно было наполнено сизым сумраком; в него никогда не проникал яркий дневной свет, что придавало комнатам и коридорам некую таинственность, а прочим предметам и мебели – призрачный дух со слабым запахом плесени и тонкой пыли. Перед домом проходили рельсы единственной трамвайной линии, по которой до Мариндвора ходил трамвай маршрута номер, естественно, один. По этим рельсам катились разболтанные синие вагоны. Дом стоял на углу Главной улицы и тупика, завершавшегося сгнившим забором мусульманского двора, который не скрывал дом, а служил европейской маской, прячущей мистерию Востока, сливовые деревья и деревянные панели женской половины. На угловом доме крепился металлический держак для флага, под которым была табличка с названием улицы. Не думаю, что в Европе живет хоть один человек, у которого улица так часто меняла бы название! В самом начале, когда ее только проложили, она носила имя Императора Франца Иосифа, а в 1918 году стала Александровой в честь короля-объединителя Александра Карагеоргиевича. В апреле 1941 года в нашу квартиру на первом этаже, из окна которой приколачивали таблички с названием улицы, ворвались люди в длинных кожаных пальто и шапках с латинской буквой “U” на кокардах, сбросили предыдущую белую на тротуар и прикрепили новую с именем доктора Анте Павелича; четыре года спустя другие люди, также в кожаных пальто, но уже в фуражках, сорвали эту и прикрепили очередную, синюю – Улица маршала Тито. И вот в конце нынешней, последней войны название улицы опять поменяли – теперь это улица муллы Мустафы Башескии. На этот раз люди, ворвавшиеся в квартиру на первом этаже, были не в кожаных пальто, а в кожаных куртках и кроссовках, а на головах у них были зеленые береты с лилиями – еще одна алюминиевая табличка с названием упала на тротуар. Так что с младых ногтей, еще не осознавая важности преподанного урока, я усваивал тезис о тленности славы и власти, а звонкие удары алюминия об асфальт отмечали завершение отдельных эпизодов кровавого шествия тиранов.
Сегодня в Сараево все таблички с названиями улиц сменили синий цвет – на зеленый.
По Главной улице, под окнами нашей квартиры на первом этаже, протекала история.
Я видел королевских офицеров верхом на вычищенных до блеска конях, удерживающих в белых перчатках священные дубовые саженцы, чтобы зажечь их в Сочельник перед крохотной православной церковкой. В моих ушах все еще раздается глухой топот копыт по граниту, которым в то время была вымощена улица. Мы махали им из окна, а они – нам, и с улыбкой отдавали честь, в то время как мои тетки вздыхали и утирали слезы.
По этой улице проходили и похоронные процессии. Православные, с владыкой во главе, направлялись в Кошево, где было наше кладбище. Мусульманские дженазы и еврейские проводы двигались в противоположном направлении, потому что их могилы располагались на отрогах гор над Чаршией.
Под окнами протекла и река демонстрантов, когда 27 марта 1941 года сербское население протестовало против Тройственного пакта, который князь Павел подписал с силами Оси. Мы стояли, облокотившись о подоконник (тетка регулярно подкладывала под локти специальные подушечки), когда под нами в фиакре прокатил ее муж, Никола Н. Барош, в сопровождении двух гармонистов. Он помахал нам шляпой и крикнул: «Да здравствует король! Пусть война, но не жизнь раба!», – а воодушевленная толпа откликнулась: «Лучше в могилу, чем под чужую силу!».
Несколько дней спустя все по тем же трамвайным рельсам через полуразрушенный город прошли немецкие войска. Гремели бронемашины, укрытые маскировочными сетями и раскрашенные камуфляжными пятнами, надсадно гудели грузовики с солдатами в шлемах, а перед ними на мотоциклах с колясками катили офицеры. Я запомнил их серые перчатки и гладко выбритые лица. Наши соседи, мусульмане и хорваты, украсили окна своих домов коврами. Они упоенно хлопали в ладоши и бросали цветы в солдат и на танки. Многие плакали от счастья.
Месяцем позже по рельсам брели наши позавчерашние соседи евреи, утратившие право ходить по тротуарам, с желтыми повязками со звездой Давида на рукавах. Потом они бесследно исчезли.
По этой улице вершили последний путь связанные проволокой «предатели», как их тогда называли, колонны пленных, с которых кто-то поснимал обувь. В летние сумерки, с началом комендантского часа, по мостовой угрожающе прохаживались солдаты из фельджандармерии с металлическими полумесяцами на груди и винтовками на плече, и глухие удары подкованных сапог эхом отражались от фасадов опустевшей улицы.
По ней с посвистом проскакали на маленьких лошадках с длинными заплетенными хвостами черкесы – косоглазая желтая конница генерала Власова, сросшиеся, словно кентавры, со своими животными.
Безвольно шагали по улице домобранские отряды, а когда сотник кричал им: «А ну, ребятки, запевай!» – в ответ из глоток насильно мобилизованных воинов раздавалось нечто напоминающее тюлений рев.
Наблюдали мы и пафосный марш итальянских эскадронов, их по-левантийски сияющую, начищенную до блеска обувку, короткие карабины и колышущиеся перышки на каскетках, превращавшие воинские колонны в парад вооруженных до зубов петухов…
И возвращение этих армад наблюдали мы из-за задвинутых штор: колонны пыльных, некогда элитных подразделений разбитой армии Е, их ноги, замотанные в обрывки одежды и тряпки, перевязанные шпагатом, обгоревшие шинели, их палки и костыли, оружие, утратившее победительный блеск, покрытое коркой засохшей грязи, болтающееся на исхудавших торсах, а также открытые грузовики, в которых вперемешку лежали мертвые и раненые, уставившиеся в небо над домами пустыми взглядами отчаявшихся людей. В этот раз наши соседи провожали их плачем, визгом и восклицаниями: «Вы к нам вернетесь! Будет воля Аллаха, и вы вернетесь!», – а те смотрели на них отсутствующим взглядом, смертельно уставшие, невидящими побелевшими глазами из-под запылившихся ресниц.
За их спинами гремели глухие взрывы. Последний отряд, покидавший Сараево, поднимал в воздух все важные строения.
Дождались мы и освободителей. В сумерках 5 апреля 1945 года мы разглядели быстрые тени, перебегавшие улицу и прятавшиеся за углами домов. Перед нашей дверью установили пулемет и залегли за ним прямо на тротуаре, забросив патронташи на спину. Они кричали друг другу: «Связь! Держи связь!»
В полдень следующего дня они торжественно вошли в город. Впереди всех на пританцовывающем белом коне, высекающем копытами искры из гранитной мостовой, гарцевал стройный офицер в фуражке, украшенной красной звездой. Освободители не маршировали, как прочие военные: они шагали каждый по-своему, вольной крестьянской походкой, украшенные гранатами, пистолетами, опоясанные патронташами, с разномастным оружием в руках и на плечах.
Те же мужчины и женщины, которые сутки тому назад плакали, провожая разгромленных оккупантов, пришили на свои шляпы и так называемые «французские» береты большие пятиконечные звезды, небрежно вырезанные ножницами из красного сукна. Разве что только цветов не хватало в этот раз – все их поразбросали на вчерашних проводах. Через неделю самые горластые из них уже стали уличной властью. Оказалось, что во время войны они тайно поддерживали народно-освободительную борьбу. Относились они к нам враждебно, как к побежденным остаткам буржуазии. Многие из них стали идеологами новой власти, но всегда старались, опустив голову, отойти в сторону при случайной встрече с моей старой теткой, которая даже в те годы нищеты и насилия смогла сохранить идеальный блеск полированной мебели в гостиной.
С песней, хотя им вовсе не хотелось петь, прошагали по главной улице рабочие бригады, составленные из граждан, выгнанных из домов на разборку руин.
Несколько дней спустя по ней провели пожилого толстенького человечка в сером костюме, на груди которого висела табличка с надписью: «Я СПЕКУЛЯНТ. ПОКА ВЫ ГОЛОДАЛИ, Я БОГАТЕЛ». Затерявшийся в обозленной толпе, которая сопровождала его, избивая по пути, человечек спотыкался, постоянно пытаясь сохранить достойный вид и шляпу на голове, которая то и дело слетала с нее. Говорят, что его дочь, известную городскую красавицу, заставили первой плюнуть ему в лицо.
Иногда посреди улицы проходил оборванный цыган, ведя крупного боснийского медведя на цепи, которая до крови врезалась в линялую шерсть. Обычно его сопровождал мальчик, ударявший в бубен. «Танцуй, Мишка!», – кричал он и натягивал цепь, пропущенную сквозь кольцо в ноздрях животного, и несчастный медведь поднимался на задние лапы, совершая несколько движений, напоминавших танцевальные па, глядя на нас печальным кровавым глазом, совсем как его предшественник в сером костюме.
По мостовой проезжали верхами, с инеем в усах и с запахом гор, словно вытесанные из камня горцы, погоняя мелких лошадок, нагруженных пилеными и колотыми дровами для печей и мешками древесного угля, вопя во все горло: «Вязаночки, уголька!», а за ними следовали цыгане, ремонтировавшие зонты и починявшие посуду: «Лудить казаны, корыта, кастрюли!».
Кроме трамвая транспорта почти не было – изредка грузовик, военный джип, разукрашенный катафалк ближайшей похоронной конторы «Конкордия» или довоенное легковое авто. Через несколько лет после войны проложили еще одну колею, так что трамвай разворачивался на Башчаршии и продолжал вечное кружение, а гранитная мостовая уступила место асфальту.
Прошли годы, и улица опять закипела, когда по ней прокатились демонстрации против Италии, которая, проиграв войну, из которой мы вышли победителями, захотела отнять вроде как наш город Триест, хотя мы даже не знали, где он находится. На этот раз человеческая река направилась к американскому консульству, располагавшемуся тогда в симпатичном здании с садом над Маркалом.
В двухстах шагах южнее нашего дома возвышался Кафедральный собор, стройное здание из темно-серого камня, строгих очертаний, с единственным украшением – великолепной розой, сквозь цветочный орнамент которой воскресными утрами прорывался рокот исполняемых на органе токкат и фуг. Их тревожный звук, настолько отличный от всего, что можно было услышать в этом городе, кружил, отражаясь от роскошных фасадов Штросмайеровой улицы и перелетая через мелкую речку, сталкивался с жалкими поселками, ползущими вверх по склонам гор, после чего устремлялся прямо к небу Время от времени у Кафедрального собора появлялась католическая публика, чтобы сорганизоваться в процессию. Тогда выносились рипиды и богато вышитые хоругви, а также разукрашенные носилки, на которых сидела Богородица с младенцем Иисусом на коленях из полихромного дерева розовых и светло-голубых оттенков, украшенная золотом, кисеей и разноцветными гирляндами. Процессию возглавлял архиепископ, окруженный приходскими священниками и монахами в темных одеяниях, опоясанных белыми веревками с кистями на концах.
На углу, напротив Кафедрального собора, в витрине деликатесной лавки семьи Чорович раскланивался перед прохожими маленький арап в огромном тюрбане, величайшее чудо моих детских лет – реклама кофе «Франк». Я мог часами простаивать перед куклой, поражаясь тому, что она всегда закрывает глаза в поклоне и вновь открывает их, поднимая голову с блаженной улыбкой на устах. Эта шикарная бакалея была забита колониальными товарами – словно в ней хранились все вкусы и запахи Дальнего Востока: черные палочки ванили, корица, белые орешки, разнообразные приправы и пряности, странные, совершенно незнакомые сушеные рыбы, вяленые гусиные окорочка для еврейских пирушек, краска в пакетиках и миниатюрные картинки для пасхальных яиц, а на прилавке – с десяток перекошенных стеклянных коробок с самыми разными конфетами, от обычных, синих и красных, до зеленых жевательных и длинных шелковистых, какие вешают на елку… И после войны, во времена большой нищеты, в лавке Чоровича оставались приметы довоенной пещеры Али-Бабы, хотя совсем исчез сырой и жареный кофе в открытых мешках.
Сотней метров ниже, в продолжении нашей улицы, был книжный магазин “Simon & Katan”, облицованный от пола до потолка, включая высокие галереи с балюстрадой, темным дубом. Войти в него означало попасть в самую настоящую сказку. Книжки с картинками в лакированных цветных картонных обложках стояли рядом с букетами разноцветных карандашей «Koh-i-noor», а под стеклами витрин возлежали недоступные авторучки «пеликан», лупы для филателистов, микроскоп и прочие немыслимые чудеса. В этом волшебном магазине наша соседка, старая дева Сара Семиз, купила мне большую раскладную коробку акварельных красок «Faber» и кисточку с черной лакированной ручкой, совершенно случайный великолепный подарок, который безошибочно определил мою нынешнюю профессию.
«Помяни, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей моих и всех сродников по плоти: и прости их все согрешения вольные и невольные, даруя им Царствие и причастие вечных Твоих благ и Твоея бесконечныя и блаженныя жизни наслаждение».
Никола Н. Барош, муж сестры моей бабушки, оптовый торговец невыделанными кожами, приехал в Сараево обучаться ремеслу в конце прошлого века из села Черный Луг, что над Боснийским Граховым, откуда был родом и Гаврила Принцип. Молодым добровольцем в 1914 году он участвовал в боях на стороне сербской армии, вместе с ней перешел в Албанию. Вернувшись в Сараево, он быстро стал крупным экспортером кож в Грецию и Англию, а из его больших складов вонь дубленой кожи расползалась по всей улице Милоша Обилича в окрестностях Башчаршии. Шесть раз он банкротился и вновь поднимался, поскольку крестьяне приносили ему кожи на комиссию, за что он после очередного взлета платил им намного больше их действительной стоимости. В канцелярии, расположенной в парадной части склада, он обычно стоял за секретером темного дерева с бесчисленным количеством ящичков и тайничков, где он прятал дукаты и кудряво расписывался на договорах, водружая бумаги на зеленое сукно секретера. Он входил в круг знаменитых сараевских оптовиков, заселивших почти что целый район: Деспичи, Дунджеровичи, Пешуты, Ефтановичи, Прнятовичи, Бесаровичи и Куршумличи, – они держали в своих руках практически всю торговлю города… Да и по австро-венгерским кадастровым записям шестьдесят процентов Башчаршии – торгового квартала города – принадлежало сербским торговцам. Это были потомки уважаемых сараевских купцов Дамиана, Трипки и Иова, имена которых записаны в малой хиландарской церкви Покрова Богородицы, ибо они своими пожертвованиями обеспечили в 1740 году реставрацию храма. Оптовики ежедневно собирались в старой приземистой корчме «Дрина», скрытой от посторонних взглядов в глубине двора неподалеку от православной церкви. Обслуживала их сама хозяйка, баба Васса Стокич, и никто чужой не смел садиться за их стол. Это было настоящее мужское святилище, в которое вход женщинам был воспрещен. Здесь стоял резкий табачный дым, витал дух «мягкой» ракии и запах мужского одеколона. Пока он был помоложе, тетка страдала от того, что муж, бывало, на три дня и три ночи уходил в загул с восточными танцовщицами, мастерицами танца живота, в пользующемся дурной славой кабаке «Волга». В такие дни по городу ползли слухи, что Никола Барош закрыл «Волгу» для публики. Дядю Николу я помню в более поздние времена, по его серебряным усам, щетинистой седой голове и идеально скроенным костюмам из превосходнейшего английского сукна. Он носил жилеты с перламутровыми пуговицами, а на туфлях – гамаши с серебряными застежками, которые я снимал с него, когда он возвращался домой и точным движением бросал серую шляпу «борсалино» на крючок вешалки.
В апреле 1942 года его вместе с прочими уважаемыми сербами взяли в заложники, но он сумел подкупить тюремщиков и бежать в Сербию, о которой никогда не переставал мечтать. Эмигрировав в Белград, он торговал коврами и сидел в «Золотом бочонке» на площади Зеленого венца. Он вернулся в Сараево, но его фирму национализировали, директором поставили бывшего подмастерья, а его оставили для обеспечения торговли с прежними иностранными партнерами – страна нуждалась в валюте. Он не смог перенести их лености, бросил все, что наживал годами, и принялся пытать счастья в других делах, но они шли у него совсем не так, как прежде. Перестал ходить в «Дрину» к бабе Вассе, но каждый вечер выпивал на кухне в одиночку по пол-литра ракии, закусывая травницким сыром и слушая запрещенное «Радио Лондон». В эти годы я был единственным его собеседником и часто засыпал, положив голову на столешницу, пока он громко осуждал новый режим подмастерьев и международных авантюристов.
Все, чему меня до полудня учили в школе на уроках истории, дядя Никола в тот же вечер громил в пух и прах, и это помогало мне с младых ногтей понимать обе насмерть враждебные стороны. Он умер расстроенным и забытым, радуясь исключительно вкусу и запаху своего детства, запаху и вкусу вяленой баранины, которую ему два раза в год присылали родичи с хутора Сайковичи неподалеку от Черного Луга. Его крах был типичным явлением в истории падения старинных торговых семейств Сараево. Дорогие шляпы с щеголевато загнутыми полями, полосатые костюмы и рубашки с пристежными воротничками, манжетами и пластронами забрали цыгане в обмен на индюшек. Серые гамаши им не понравились.
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Тонкая кисточка для акварели и случайный комикс предопределили, похоже, всю мою дальнейшую жизнь, о чем я давно сделал следующую запись:
«Во время войны в Загребе несколько лет издавалась цветная детская газета «Забавник». На первой полосе всегда были прекрасные комиксы братьев Вальтера и Норберта Нойгебауэров, которые обрабатывали старые сказки и сочиняли совершенно новые, словно войны вообще не было. Я и сегодня не перестаю задаваться вопросом, как эти художники могли оставаться большими детьми в царстве страха, ужаса и насилия. На самом ли деле они были настолько наивны или же старались таким образом пережить тяжкие годы, занимаясь прежним, довоенным ремеслом, но только их комиксы более всего прочего разжигали мою буйную фантазию. Вехами моей маленькой одинокой жизни становились дни, в которые «Забавник» поступал в ближайший киоск. Мы, как и прочие граждане города Сараево, голодали, выживая с помощью чудесных случаев и энергии, с которой тетка старалась хоть как-то накормить нас во времена всеобщего голода. У нас не было денег на хлеб, не говоря уж про детские книжки, но одна добрая женщина, некая Эвита, работавшая в киоске недалеко от нашего дома, похоже, разглядела в моих глазах дикую жажду чтения и выдавала напрокат экземпляр «Забавника», иной раз даже разрешая унести его домой. Киоск пропах дешевым и вонючим табаком военного времени. Я сидел за прилавком и утопал в комиксах. Я пишу эти строки благодаря сказке, название которой напрочь забыл. Не вспомнить теперь, как звали ее главных героев, но речь в ней шла о несчастной гусыне, которую придворный повар какого-то прожорливого князя, обожавшего гусиный паштет и грибной супчик, принес с рынка в корзине с еще несколькими предназначенными к закланию птицами. Вам легче будет понять меня, если я скажу, что в те годы мы тоже были предназначены к закланию (только дата была неизвестна); среди прочих и по этой причине мои симпатии были на стороне гусыни, а не только из-за того, что она, ко всеобщему удивлению, говорила по-человечьи! Короче говоря, злобный и недалекий повар сохранил ей жизнь, потому что гусыня нашептывала ему секретные рецепты паштета и супов, превратив в скором времени его однообразную и бесталанную кухню в настоящий гастрономический храм. Князь оставил приготовившегося было к увольнению повара, повар не резал гусыню, а гусыня, словно Шехерезада сказки, должна была непрерывно выдумывать новые и новые рецепты, истощая собственный талант. История эта дышала жуткой неуверенностью в завтрашнем дне, совсем как наши жизни в течение тех недель, пока печатался комикс братьев Нойгебауэров. Вскоре моя гусыня дослужилась до звания первого помощника бездарного повара, нагло использовавшего ее исключительные способности к кулинарии и присваивавшего незаслуженные аплодисменты. Когда я трудился писателем-призраком, или так называемым «литературным негром» (это случалось в те времена, когда мое имя предпочитали не произносить в определенных кругах), то чувствовал себя в тени чужой славы совсем как та гусыня. Шеф-повара пользовались куда большей известностью, нежели мы, граждане второго сорта, которым нельзя было доверять до конца. Впрочем, разве можно вообще верить странной птице? Ни гуси, ни люди не признавали ее своей. Она была вынуждена всю себя отдавать за ничтожную привилегию не быть зарезанной, хотя всем непременно требовалась именно ее голова: и поварятам, ревнующим к ее способности угодить князю, и начальнику птичьего двора, да и самому шеф-повару, который никак не мог достичь ее уровня познаний в кулинарии, и потому страшно злился. Все это время несчастная гусыня ночами тайком выходила в дворцовый сад и там, в море травы, в панике искала некую чудотворную травинку, которая освободит ее от рабства. В клетку она возвращалась разочарованной и смертельно уставшей, сонно встречая каждый новый день как последний день своей жизни. И в следующую ночь она шла на очередной подвиг, прорываясь к воротам сада. Наконец, в последнем выпуске рисованной сказки гусыня находит спасительную травку и прячет ее под крылом, как раз в тот момент, когда ее хватают и обвиняют в колдовстве. Заинтригованные ее исключительным даром готовить вкуснейшие блюда, руководимые завистью и ненавистью, они наконец-то открыли секрет ее талантов и успокоились: гусыня получила то, что в придворной жизни называется этикеткой! Неважно, что теперь к обеду не будут подавать такие вкусные блюда, куда как важнее то, что они окончательно убедились: талант как таковой вообще не существует, а шедевры создают только с помощью темных сил и недозволенным способом. Короче говоря, на небольшой готической площади сказочного города должна состояться торжественная казнь гусыни; здесь собирается все общество, появляется и сам князь со свитой. И в тот момент, когда палач в алом капюшоне вздымает топор, чтобы отрубить гусыне голову, она отчаянным движением успевает взять в клюв ту самую травинку, и вот – в ту же секунду превращается прекрасного молодого златовласого королевича, которого кто-то когда-то заколдовал. Естественно, вновь явившийся королевич женится на единственной княжеской дочери и уезжает на белой карете, запряженной шестеркой белоснежных коней. Народ ликует. Конец.
И вот точно на этом месте начинается моя тайная связь с гусыней. Все, конечно, забывают о ней. На следующей неделе начинается новый комикс, а я все еще остаюсь под вечной угрозой заклания. Королевич счастливо избежал оккупации, а я остаюсь в киоске, еще более одинокий, чем когда-либо прежде. Я платонически влюбляюсь в гусыню, которую забыли на плахе. В моих беспокойных снах она продолжает искать ту самую травку у источающих опасность стен замка, полного мрачных теней.
Вот так мы появляемся на свет из себя самих, прежних сомнительных, приговоренных и униженных, превращаемся в олицетворение жизненного успеха, стряхивая вчерашние потускневшие перья. Приближаемся, как нам кажется, к счастливому концу своих личных сказок, но за спинами нашими остаются те, кто годами предоставлял нам убежища: иной раз и мы сами, прежние… Серые, тощие, неприглядные, пряча нищету – такими мы существуем теперь только на редких старых фотографиях, снятых в провинциальных фотосалонах или школьных дворах по случаю окончания очередного класса. Какие мы были смешные! – удивляемся вслух и не верим, что это и в самом деле мы, принявшие облик той трагичной гусыни, оставшейся с носом посреди площади, с головой на плахе и под злобными взглядами публики. Мы мчим в золотых каретах к истокам радуги, меняя друзей, семьи, комнаты, квартиры, дома, отели, пляжи, страны, языки, привычки, напитки, пищу, идеи, обязательства, образцы для подражания и идеалы; забываем о страдании, которое подняло нас над прочей публикой, бедность, превратившую нас в стоиков и победителей, забываем себя, освободившись наконец от власти местных князьков и бездарных поваров из провинциальных гостиниц – но та гусыня все еще разыскивает нас, чтобы свести счеты, и мы это осознаем слишком хорошо для того, чтобы удобно чувствовать себя в новых шкурах».
Господи, вспомни и Маэстро – первого настоящего художника, которого я увидел в своей жизни. Он был самоучкой, никто не знал, где и когда он научился рисовать и существовать за счет этого ремесла. Он выносил на улицу старый походный мольберт и укреплял на нем тугое полотно. Вешал на ножки обмотанный бечевкой кирпич, чтобы ветер не унес хрупкое сооружение, открывал прямо на тротуаре большую деревянную полированную коробку с красками, надевал на большой палец палитру и выдавливал понемножку масляной краски из почти пустых тюбиков, после чего принимался за свой любимый мотив – Малый Алифаковац, крутая улочка, застроенная турецкими домами, начинающаяся от кладбища под мечетью и заканчивающаяся, казалось, в небе над стройными тополями. На голове он носил шляпу, как у Рембрандта, а пальцы, замаранные краской, вытирал о застиранный и покрытый пестрыми пятнами халат, из кармана которого время от времени вынимал плоскую бутылку с ракией и, оглянувшись, чтобы никто не заметил, делал из нее долгий глоток. Небольшого роста, морщинистый, с длинными седыми волосами, ниспадающими на лохматящийся воротник рубашки с повязанной бабочкой, Маэстро был необыкновенно вежливым и усердным человеком, состоявшим несколько раз в браке – последний раз со служанкой, которая вела его хозяйство. Он жаловался, что его недооценивают и не позволяют занять в искусстве надлежащее ему место. Он содержал всех своих детей от разных жен, продавая по дешевке картины, не теряя надежды, что в один прекрасный день он все-таки создаст шедевр. Он великолепно рисовал цветы. На его полотнах они словно взрывались бесчисленными красками, невиданными прежде в Сараево. Отверстие в тяжелой палитре, покрытой слоями засохших красок, натерло на большом пальце огромную мозоль, которой он гордился, доказывая тем самым себе и другим, что он много и самоотверженно работает. И хотя художники-академики не считали его своим, время от времени позволяли выставить пару его цветов на совместных выставках. На вернисажах он в горделивой позе стоял перед своим полотном, вежливо раскланиваясь с посетителями, а его роскошный букет в вазе из белой керамики – настоящий праздник души! – внутренним светом, исходящим из самого далекого уголка выставки, освещал весь сумрачный павильон, увешанный учеными картинами.
Сумел ли Маэстро в солидном уже возрасте пережить нынешнюю войну в Сараево? В то время никто не покупал цветы. Неужели ему пришлось, чтобы не замерзнуть, топить печь багетом и простыми рамками своих картин?
Живого или мертвого, помилуй его, Господи.
108. 1. Боже хвалы моей! Не премолчи, 2. ибо отверзлись на меня уста нечестивые и уста коварные; говорят со мною языком лживым; 3. отовсюду окружают меня словами ненависти, вооружаются против меня без причины; 4. за любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь; 5. воздают мне за добро злом, за любовь мою ― ненавистью.
Первую живописную картину я увидел на стене нашей гостиной. Это было «Переселение сербов» Паи Иовановича в широкой и плоской деревянной рамке массового производства – одна из многочисленных хромолитографий, отпечатанных в Загребе в начале века, – в самом низу стояло, что «все права принадлежат Петару Николичу». Помимо «Переселения сербов» ни один приличный сербский дом не мог обойтись без аналогичной олеографии «Герцеговинское рабство» Ярослава Чермака, в то время как хорватские семьи держали в своих квартирах «Сон Гундулича» Влаха Буковца. У мусульман не было картин, поскольку им это запрещает вера. В молодости я встречал их только у тех, кто был близок к искусству; у прочих же кроме семейных фотографий на стенах висели только каллиграфически выписанные по-арабски суры из Корана, что оставляло впечатление какой-то тайны.
«Переселение сербов» было отпечатано в золотисто-желтых тонах ранней осени на бумаге, наклеенной на полотно. Когда меня пускали в полутьму столовой, где в резных ореховых буфетах за гранеными стеклами мерцали хрустальные сервизы, фаянс, статуэтки из раскрашенной майолики и начищенный мельхиор подсвечников, я мог часами разглядывать «Переселение», и мне совсем не было скучно. В парадную комнату, где только в исключительных случаях принимали уважаемых гостей, вместе с облаком желто-золотистой пыли непрерывным потоком вливались верховые мужчины и женщины с детьми на руках, стада овец и пастухи, а перед ними – усатый мужчина, завернувшийся в шкуру, с рукой, обмотанной окровавленной белой тряпицей, и с ружьем в другой. Возглавляли процессию два монаха на лошадях – позднее я узнал, что это были Патриарх Сербский Арсений III Чарноевич и его верный диакон Исайя, и с ними был знаменитый богатырь Монастерлия, который вел за собой копейщиков вперемежку с народом и скотиной. Я думал, что это единственная в мире картина, и потому почитал старую тетку наиважнейшей женщиной во всем городе Сараево, испытывая чувство благодарности за то, что она время от времени позволяла мне рассматривать картину, и я совсем не осознавал того, что это – обычная репродукция, которая есть практически в каждой семье. В начальной школе я даже однажды подрался с одноклассником, который утверждал, что у них тоже есть «Переселение сербов». Да такого просто не могло быть! Во время войны, когда в нашу комнату с обыском врывались усташские полицаи, мы прятали «Переселение» за парадным шкафом, отделанным «птичьим глазом»: на картине был изображен сербский флаг, и это могло вызвать дополнительное раздражение.
И вот так, по какому-то хитросплетению судеб, первая картина, которой я коснулся детскими пальчиками, ощутив под ними глухую поверхность типографского лака, картина, изображавшая страшную судьбу народа, к которому я принадлежу по странному случаю рождения – народа, осужденного на вечное изгнание, скитания и переселения, – она висела на стене дома именно в том городе, из которого триста шесть лет спустя сербы вновь потянутся в иные края, в неизвестность. Первое переселение, которое возглавил Арсений Чарноевич в сентябре 1690 года, – те тридцать-сорок тысяч семей, что вслед за своим Патриархом преодолели мутные воды великого Дуная, скрываясь от выигравших битву турок, спасаясь от их мести и гнета, вошедшие под беззвучный топот копыт и глухие шаги пеших беглецов в мое раннее детство, предопределили мне в зрелые годы еще одно испытание – зимой 1996 года потомки народа, изображенного на картине, еще раз покинули мой родной город. Последний исход невозможно было нарисовать, репродуцировать, размножить, обрамить и повесить на стены новых гостиных, как прежние переселения, которые висели над негасимыми лампадами и иконами святого Николая, безмолвно предупреждая нас о превратностях судеб. Только снежные вихри на заметенных дорогах и колонны несчастных, бредущих мимо застрявших грузовиков и легковушек. Сто пятьдесят тысяч изгнанников, пытающихся выбраться из отнятого у них проклятого города…
Некоторые из них добрались до Белграда со спасенными, свернутыми в рулон и потрескавшимися «Переселениями», вынутыми из рам. Они, как и я некогда, полагали, что обладают драгоценным произведением искусства, продажа которого обеспечит им будущее. Каково было их разочарование, когда галерейщики и музейные искусствоведы разъясняли им, что это обыкновенная, не стоящая ровным счетом ничего репродукция.
– Но ведь она же на полотне, очень старая! – говорили они. – Ее еще мой дедушка купил, она мне в наследство досталась!
Сколько сил напрасно ушло, чтобы добраться сюда, и сколько душевных мук пришлось пережить, чтобы отважиться на продажу семейной реликвии, на которую возлагалось столько надежд!
В сумерках 5 апреля 1945 года, когда последний немецкий солдат, покидая город, прошагал по Главной улице, пронесся жестокий слух: «Режут сербов на Башчаршии!».
Улица зловеще опустела. Мы слышали биение собственных сердец и ток крови в жилах. Освободители вот-вот должны были войти в город. Немецкая армия оставила пустое пространство – недолгого безвременья хватило бы на то, чтобы люди, только что проводившие немцев, стерли нас в порошок.
Окаменев, мы сидели за глухими шторами и ждали, когда начнется резня. Было бы, конечно, лучше, если бы нас расстреляли: в резне было нечто ритуальное, слишком личное и унизительное, человек ощущал себя беспомощной овцой. И в эти часы не было у меня существа ближе, чем гусыня из комикса. Я зажмурился и сунул за пазуху ладонь, отыскивая спасительную травинку из дворцового сада – ее и след простыл!
Наблюдая за исходом сараевских сербов в 1996 году, я рассмотрел в их глазах тот самый, хорошо мне знакомый апрельский страх. В полной тишине, которая, словно огромный снежный парашют пала на сербские кварталы Сараево, вновь пронесся ужасный шепот 1945 года: «Режут сербов…».
В своей грешной жизни мне часто доводилось стоять перед шедеврами мирового искусства. Я склонял голову то на одно, то на другое плечо перед «Страшным судом» Микеланджело в Сикстинской капелле, толкался с любопытным народом перед «Моной Лизой» в Лувре, ожидал смены «Ночного дозора» Рембрандта в Амстердаме, завидовал неповторимому мастерству мадонны Рафаэля в Ватикане… Но все же это были просто картины. На стене, дереве, полотне – все равно. Самые знаменитые охранялись лучше всего. Перед ними стояли сторожа в униформе, бдительно отслеживая каждое движение любознательных посетителей, или ограждали их белыми канатами на никелированных стойках так, чтобы к ним нельзя было приблизиться ближе чем на два метра. «Ночной дозор», например, в Рийксмузее спрятан глубоко за стеной из пуленепробиваемого стекла, а на изнанке каждой знаменитой мадонны установлена тревожная сигнализация, начинающая выть и свистеть, как только кто-нибудь коснется картины.
А если не потрогал – значит, и не видел.
Может быть, именно в этом кроется принципиальная разница между искусством Востока и Запада. Величайшая святыня православия, хиландарская «Троеручица», не нуждается ни в какой и ни в чьей защите. Она сама обороняет тех, кто молится пред ней. И хотя установлена она не в алтаре, как полагалось бы, а с восточной стороны юго-западной колонны храма, все взгляды и все шаги устремлены к ней, словно даже оборотная сторона излучает некую волшебную силу.
В череде монашеских теней шаг за шагом приближаюсь к «Троеручице». Черноризцы, подойдя к ней, глубоко кланяются, крестятся и падают ниц, касаясь челом каменных плит. И хотя в скудном освещении храма я не могу издалека отчетливо разглядеть ее облик, все равно вижу, как икона излучает непонятный, чудный свет – ничуть не похожий на искусственное освещение многих соборов Запада, в которых я бывал, где лучи софитов, направленные на знаменитых богородиц, безуспешно пытаются имитировать это чудесное сияние. «Троеручица» излучает собственный, внутренний свет, и я тоже, словно подкошенный, падаю на каменные плиты, потом поднимаюсь и, крестясь, целую золотой оклад иконы, вплотную любуясь ею – ближе, чем любым западным шедевром, который бы тут же засвистел, заверещал и завыл, призывая армаду вооруженных охранников. Я замечаю, что ее глаза понимающе смотрят в меня взглядом, полным соучастия, любви и всепрощения. И хотя я знаю все, или почти все, о византийской школе иконописи, о сортах древесины, на которой они пишутся, о предпочтительности липовой и черешневой, о времени, в течение которого должна отстояться древесина до начала работы, о нанесении слоев пигмента, из которого делается краска, о расщелачивании и позолоте, о каноне, которому надо следовать, все мои пустые знания, которыми я так гордился перед коллегами, исчезают, и в это хиландарское мгновение я ничем не отличаюсь от безграмотного юродивого, нищего, который ничего не знает об иконах.
Икона не просто картина. Она куда больше – это способ существования, олицетворенная молитва, битва с самим собой, в которой, трудясь старательно и покаянно, длительно постясь, только и можно достичь духовного совершенства. Икону следует понимать в первую очередь не как портрет во славу Божества, как это было, скажем, во времена европейского Возрождения, но как символ, дающий возможность духовно приблизиться к пралику, ощутить небесное посредством предмета, принадлежащего нашему миру.
Как написать чудотворную икону? Прежде всего, напластования краски на деревянной доске пропитаны глубокой верой иконописца. Его мощнейшая направленная энергия возвращается к тому, кто молится перед ней и кто также силой всего своего существа и веры дарует ей невиданную мощь.
В трактате начала XVIII века «Эрминия, или Поучение об искусстве иконописи» монах Дионисий из Фурны, ссылаясь на своего великого учителя и предшественника Эммануила Панселина из Солуна, который «лучами иконописного искусства воссиял как солнце» и который, помимо всего прочего, зарисовал знаменитые монастыри Атоса, наставляет каждого иконописца прочитать, приступая к работе по благословению духовного пастыря, следующую молитву:
«Господи Иисусе Христе, Господь наш, который святой образ Твоего пречистого лика на святом убрусе запечатлел, который Святым Духом вдохновил Твоего божественного апостола и евангелиста Луку начертать пречистый лик Матери Твоей, на руках Тебя держащей и глаголящей: «Благодать Этого, от Меня рожденного, да пребудет с сей иконою». И сам Ты, Господи, Боже святый, просвети и к разуму приведи душу, сердце и ум слуги Твоего, и направь руки его, дабы безгрешно и достойно изображал он бытие Твое, Матерь Твою пречистую и всех святых во славу Твою, ради украшения и прекрасности Святой Церкви Твоей, и для отпущения грехов духовно поклоняющимся святым иконам и со страхопочитанием лобзающим их, а уважение свое усмеряющих ко Пралику Твоему Избавь такожде его от всяческого дьявольского наваждения, ако будет он следовать заповедям Твоим, молитвам пречистой Матери Твоей, святого преславного апостола и евангелиста Луки и всех святых. Аминь».
Только после этой молитвы, придерживаясь строгого поста, иконописец приступает к работе. О глубине и силе их веры и степени раскаяния, с которыми они творили, лучше всего свидетельствует то, что большая часть их, те, кто пришел к полному самоотречению, никогда не подписывали иконы, отказываясь от праздной славы, признания и мирской суеты. Хиландарская «Богородица Троеручица» тоже не подписана.
Происхождение иконы «Богородицы Троеручицы» и по сей день покрыто завесой тайны. В монографиях по иконописи и истории Хиландара его главная святыня упоминается исключительно скупо. Знатоков, похоже, стиль интересует больше, нежели сущность.
Некий малограмотный монах убеждал меня перед «Троеручицей», что эта – одна из трех, написанных самим святым Лукой. Историки искусства утверждают, что это работа классической византийской школы XIV века, что исключает правдивость легенды о том, что в Хиландар ее веком ранее доставил из Иерусалима святой Сава, который ходил туда поклониться Гробу Господню.
Кажется, эта Чудотворная Богородица появилась из ниоткуда – просто спустилась с неба, чтобы утешить несчастных.
Одно только можно утверждать наверняка: ее третья рука, благодаря которой она получила имя, связана с преданием об Иоанне Дамаскине, неустрашимом борце с еретиками, которые требовали выкинуть из церквей и молельных иконы. В этом противостоянии он был тяжко ранен и потерял руку. И тогда на помощь ему пришла Богородица, сделав так, чтобы отрубленная рука его выросла. В знак благодарности он отлил руку из серебра и поставил ее перед иконой Богородицы. Так она получила третью руку.
Во всяком случае, эта икона считается чудотворной, и она в самом деле может творить чудеса. Живорад Лазич, автор «Жития игумена Данилы Иовановича Хиландарского», описал одно такое чудо, когда в 1924 году большой пожар, охвативший всю Святую гору, полыхал всего в ста метрах от монастыря Хиландар. Вот как оно было: «Все бежало от огня, все, кроме деревьев, которые сгибались и падали в челюсти прожорливого пламени, трескаясь от боли. Но Данило шагнул прямо в огонь, распевая псалмы и намереваясь погибнуть в нем с величайшей хиландарской иконой.
– Что он делает! Он с ума сошел! Заберите у него икону, пока не поздно! – кричала братия, но никто не отважился приблизиться и вырвать у него «Троеручицу».
Еще несколько десятков шагов, и горячий воздух задушит его, жар убьет его. Исчезнет и Защитница, свершится большой грех. Без иеромонаха прожить можно, но как монастырь обойдется без «Троеручицы»?
Пожар настолько приблизился к монастырским стенам, что черепахи завыли, как шакалы.
Где-то под землей загремело. И ветер, дувший до сего момента с севера, вдруг пропал одновременно с грохотом, а потом с новой устрашающей силой задул с юга. Смял он высокие огненные стены, и они, ослабев, опали. Сверкнула молния, пророкотал близкий гром. Данило с прочими сотворил Иисусову молитву. Над горящими окрестностями явственно раздалось:
– Иисусе Христе, Боже мой, помилуй мя, грешнаго!
Злой ветер пронесся лесом, ломая ветви, разбрасывая искры и раздувая пламя. И тут еще раз прогремел угрожающий голос Ильи Громовержца, и пролился такой дождь, что небо обрушилось на землю. Дьявол, остановленный у самой его цели, заскулил, но ливень удушил его водой, и он испустил дух, оставив за собой только обгоревшие пни и струйки дыма».
И еще раз, в начале семидесятых, Богородица Троеручица спасла Хиландар. Было лето, и на Святой горе вновь полыхал пожар, пожирая леса и монастырские строения. В борьбе со страшным пожаром погибли несколько солунских пожарных и полицейских. А когда пламя начало было лизать стены Хиландара, тогдашний игумен велел вынести из храма Троеру-чицу и двинуться с нею в крестный ход вокруг монастыря. В тот же час слетелись тяжелые, плотные облака, из которых вскоре выпал дождь и погасил пожар в тот момент, когда у всех уже опустились руки. Белградские газеты ядовито разъясняли, что речь идет о рядовом явлении природы, когда в результате жары и испарений собираются облака и начинается дождь, а фанатики и верующие привычно считают это чудом.
Некоторое время спустя игумена посетил начальник полиции Солуна, который тогда руководил тушением пожара, и спросил, почему тот не вынес чудотворную икону, не дожидаясь гибели людей?
– О, мой господин, – говорят, отвечал ему игумен, – «Троеручицу» не выносят без крайней нужды, пока у сербов пальцы не загорятся. Если бы ее выносили по любому поводу, то она стала бы в Солуне начальником полиции, вместо вас; штрафовала бы за неправильную парковку, карала бы женщин за прелюбодеяние, ловила бы мелких воришек…»
«Взбранная Воевода победительная, что избавляешь от злых, благодарствие возносим Тебе, рабы Твои, Богородице: но яко имущая державу непобедимую, от всяких нас бед, да взовем к Тебе: радуйся, Невеста Неневестная». (Акафист Богородице, Кондак 1).
Сменяются и переплетаются голоса монахов в Акафисте Богородице, молодые альты с бархатистыми зрелыми баритонами и хриплыми старческими, принадлежащими монахам с длинными седыми бородами, а отец Кирилл, монах карликового роста, сопровождаемый двумя огромными молодыми черноризцами, обходит нас, размахивая кадилом, из которого вырывается окутывающее нас облако пахучего ладана.
Я смотрел на их исхудавшие, спокойные, очищенные молитвой лица, на черепа, которые в один прекрасный день (никому не дано знать – когда) займут свои места на полках склепа вне монастырских стен.
Маленькая церковь Благовещенья на удивительно просторном хиландарском кладбище в зеленой лощине, огороженной каменной стеной, воздвигнута над склепом, в который я накануне случайно вошел и увидел целые ряды монашеских черепов.
«Каждому, кто попадает в наш монастырский склеп, – записал один из обитателей Хиландара, – кажется, что черепа с пустыми глазницами тихо нашептывают ему: побудь немного с нами, и мы раскроем тебе нашу тайну, мы посвятим тебя в твою собственную тайну; если ты не познаешь ее и не станешь жить с ней в сердце, то даже не сможешь умереть, ибо ты уже мертв!»
Испустивших дух обитателей Хиландара хоронят на маленьком кладбище, где их земные останки проводят три года. Потом могилы раскапывают, вынимают из гроба кости, моют их в вине и складывают на полках склепа, надписывая имя каждого графитовым карандашом на лбу черепа, и надпись эта, говорят, с годами не выцветает. По цвету костей посвященные монахи могут определить, каких высот аскетизма, посвященности и святости достигли покойные при жизни. Говорят, кости пречистых и достойных подражания розоваты, благоухают, и к ним не прилипает ни единая соринка, хотя они и пролежали целых три года в земле, в то время как у иных они гниют еще при жизни.
И вот лежат они здесь, как и останки их предшественников, скопившиеся за последние восемьсот лет, и поют славу Богородице:
«Радуйся, высота неудобовосходимая для человеческих помыслов: радуйся, глубина неудобозримая и Ангельскими очима. Радуйся, Ею же обновляется тварь: радуйся, Ею же поклоняемся Творцу. Радуйся, Невеста Неневестная». (Акафист Богородице, Икос 1).
Все это случилось в единое мгновение, после чего настала полная тьма. Вскрикнув, словно живое существо, старый турецкий дом, в который мы вбежали, чтобы укрыться от немецких бомб, обрушился на наши головы, скрипя досками и стропилами в облаках стертых в порошок черепицы и кирпичей. Опять эти взрослые что-то непонятное сделали, подумал я, успокоенный теплом материнского тела, которое прятало меня в этой странной, не знакомой мне игре. Потом появились светлячки: маленькие огоньки, идущие сквозь тьму, словно мелкие духи, нашептывающие, чтобы я схватил их и приручил. Некоторые приближались почти вплотную, но я не мог даже пошевелиться. На мне лежала мама, а на ней – весь дом, в котором погибли все, даже пестрый котенок, которого я все это время держал в руках. Снаружи раздавались крики и взрывы. Я ощутил на лице капельки воды, которая каким-то образом пробилась ко мне сверху. Светлячки пропали. Становилось все холоднее. Я подумал, что игра слишком затянулась для того, чтобы оставаться интересной. Во что-то подобное мы иногда играли в просторных комнатах нашего дома. Стол в гостиной, покрытый тяжелой парчовой скатертью с бахромой, был замком волшебника. Но здесь, похоже, никто не собирался найти меня. Кажется, на этот раз я слишком хорошо спрятался. Слышались крики. Мама молчала. Не знаю, как долго это тянулось; я даже немножко вздремнул. Кто-то потом рассказывал, что я провел там целый день, но я в это не верю, потому что, когда меня наконец откопали, сверкало солнце, по небу бежали облачка, настоящие, перистые, и какие-то другие, более шустрые, сизые, выпущенные зенитными орудиями. Я стоял на руинах, зажмурившись от яркого света, в обломках вчерашнего мира, среди груды битого кирпича, черепицы, стропил и домашней утвари, рядом с мертвыми, а в это время мужчина стаскивал перстень с чьей-то руки, торчащей из развалин. Я сдерживал рыдания до тех пор, пока у меня не отняли котенка и не бросили его на горящие балки. «Герцеговинцы никогда не плачут!» – говорил мне отец, который сейчас был где-то далеко, на войне.
Бабушка с мамой покинули город 13 апреля 1941 года и направлялись к отрогам Требевича, когда завыли сирены, почему и остановились в старом доме, во дворе которого расположилась зенитная батарея (наверное, «флаки» – Flieger Abwehr Kanonen калибра 20 мм), надеясь, вероятно, что она защитит их от немецких самолетов. Но немцы умудрились попасть именно в эти пушки, и теперь они стояли передо мной на весеннем солнце, с растаявшими стволами, согнувшимися, словно хоботы стальных мамонтов. Под ними лежали обуглившиеся тела артиллеристов. Из-под развалин меня вытащил дядя, но во время взрыва очередной бомбы осколок угодил ему в голову; его вместе с прочими ранеными доставили в какую-то больницу. Бабушка была мертва, а у мамы, закрывшей меня телом, был тяжко поврежден позвоночник. Она умерла несколько дней спустя. Под моими ногами лежало Сараево с поднимающимися к небу столбами дыма и пыли. Люди в панике бежали из него по направлению к Требевичу. Я подошел к первой пушке и поднялся на металлическое сиденье наводчика. Я целился и стрелял, бум-бум, в самолеты, которые все еще продолжали падать в пике на город. Это была последняя оборона города Сараево, но я не мог предчувствовать этого.
Потом я узнал, что под развалинами у меня обгорели ресницы и брови, а также чуб, все время падавший мне на лоб, но тогда мне никто не сказал об этом; все только перешептывались и как-то странно смотрели на меня и сразу замолкали, заметив, что я прислушиваюсь к ним. Иные госпожи вынимали из рукавов платочки и вытирали слезы. Я знал, что сразу после этого действия получу от них денежку или конфетку. После сидения на месте наводчика зенитки следы мои на некоторое время теряются. Кто-то снял меня оттуда и увел в горы. Мы спали в какой-то конюшне на колючей соломе. Я вдыхал нечто совершенно невообразимое – запахи гнилого сена и лошадиного навоза, смешанные с дымом очага. Для городского ребенка четырех лет это был грозный дух неизвестности.
В последнюю войну мне часто доводилось ночевать в конюшнях или в сараях, рядом с домашней скотиной. И тогда ноздри вновь заставляли меня вспоминать отметины давних странствий. Не знаю, сколько дней я, потерянный, скитался по горам над родным городом, кто вел меня за руку, кормил и укрывал, а потом исчезал в водовороте всеобщей погибели, в которой люди терялись, находились и снова исчезали. И только некий царский русский, имени которого я так и не узнал, который, словно доктор, спасал раненых и уносил их в больницы, отвел меня к себе домой, предположив, что мои родители погибли. У него и его жены, лицо которой я припоминаю как в тумане, не было детей, и они приняли меня, окружив грудой игрушек. Я смотрелся в сверкающую поверхность самовара, как в кривое зеркало, и только это вспоминаю наверняка. Супруги, бежавшие из царской России после Октябрьской революции, просто обожали меня. Бог им, словно в сказке, послал четырехлетнего господского сыночка, который только и знал, что он – герцеговинец и зовут его Момчило. Но события последних дней, недель, а может, и месяцев сделали свое мрачное дело – русский врач быстро распознал в моей горячке и полных бреда ночах симптомы скарлатины, так что меня отправили в Градскую больницу, где меня кто-то случайно опознал и сообщил остаткам семьи, что я наконец-то нашелся. Запахи сена и коровьих лепешек, а потом – чая и нафталина у приемных русских родителей сменились резкой вонью лизола и прочих дезинфицирующих средств, которыми в военное время разило от всех больниц. Наконец сестра бабушки и ее муж, уже опустившие руки и простившиеся с надеждой хоть когда-нибудь найти меня, водворили меня в родной дом и завели в мою честь старинный граммофон с пластинкой, на этикетке которой под изображением собаки с настороженными ушами было написано, что она слушает «голос своего хозяина» (His Masters voice), и по гостиной прокатились роскошные волны прекрасного «голубого Дуная» Штрауса.
10. 1. На Господа уповаю; как же вы говорите душе моей: «улетай на гору вашу, как птица»? 2. Ибо вот, нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем.
Сквозь гул монашеских голосов в мои уши пробивается и другое, далекое гудение моторов самолета марки «brege», который пилотирует наш далекий родственник, военный летчик. Он – знаменитый ас. Когда в трехлетием возрасте меня одолел страшный кашель, он посадил меня в свой «brege» и поднялся высоко в небо (тогда были убеждены, что таким образом излечиваются многие детские болезни), и я, кружась над Сараево, видел родной город – серебристо-зеленую чашу, наполненную мечтой, хотя сам еще не был в состоянии осмыслить это. Мой первый полет – я даже не уверен, что то было на самом деле, а не во сне. После него у меня в памяти остался лишь бледный след гула моторов и ветра в ушах, а также ощущение, напоминающее сон, в котором мы, дети, испытываем чувство падения, хотя на самом деле, как говорят, подрастаем в этот момент.
Вскоре после полета нашему родственнику запретили летать, так как он, говорят, в не совсем трезвом состоянии пролетел на своем самолете под Старым мостом в Мостаре, причем крылья едва не коснулись его опор. Теперь этот мост разрушен, и каждый может без особого риска пролететь здесь над изумруднозеленой Неретвой. Один мудрый человек записал, что «долговечнее любого каменного моста – тень, которую тот оставляет на воде».
Короче говоря, запретив полеты, ему разрешили директорствовать в летной столовой, чтобы он не слишком страдал без самолетов и друзей-летчиков. И хотя он больше не летал, все любили его и считали великим пилотом. 6 апреля 1941 года немецкие «мессершмиты» совершили ранним утром первый налет на город. Наш родственник, встревоженный и слегка похмельный, выбежал из столовой, в которой он жил, застегивая на ходу поверх пижамы летный комбинезон, вскочил в первый попавшийся боевой самолет и, запустив мотор, начал выруливать на взлетную полосу. Он хотел остановить немецкие эскадрильи, но то был старый, траченный биплан типа «потез», проволочные расчалки которого гудели на ветру, как эолова арфа. Немецкие истребители расстреляли его, не дав даже оторваться от земли.
Сегодня ночью он вновь летит, поднятый в небо мелодией монашеских голосов.
В нашем доме маму никогда не вспоминали, по крайней мере при мне. Ее имя было как бы покрыто ореолом болезненной тайны. По сей день не понимаю, почему это было именно так. Может быть, это было преувеличенное ощущение пристойности, какая-то странная деликатность, не позволявшая словами бередить старые раны, и для того, чтобы хоть как-то восстановить в памяти ее облик, я был вынужден годами, начиная с детских лет, собирать и сводить воедино кусочки случайно услышанных или даже украденных фрагментов ее облика, уничтоженного в апреле 1941 года на отрогах горы, возвышающейся над Сараево.
В толстых романах я обычно пропускаю описание детства главных героев. Продолжаю чтение книги только тогда, когда ее герой становится юношей. А когда речь идет о великих писателях, их детство обычно изображается как идиллическая, счастливая пора, что, похоже, пробуждает во мне нечто вроде тайной зависти. Единственные книги про детство, которые я на самом деле проглотил на едином дыхании, полагая их схожими с собственной биографией, были «Давид Копперфильд» и «Оливер Твист». Потому, наверное, я и не решился бы писать о своем детстве, если бы оно не было настоящим адом, который помогает по-настоящему оценить хронику потерянного города. Сейчас, сидя за этими строчками, я вдвое старше собственной матери, погибшей, защищая меня, и она в моем сознании неразрывно слилась с городом, в котором я родился, и это теперь двойная связь – то, что психиатры называют страхом отделения, который формирует нас с раннего детства. Старый турецкий дом, обрушившийся на нас в самом начале Второй мировой войны, вырос до невероятных размеров, и теперь на мою голову и плечи рушится целый город – колыбель, выглянув из которой я впервые увидел небо. Понятно, что жертва матери, принесенная во имя моего спасения, вызвала во мне глубокое чувство вины, и теперь потеря Сараево привела это чувство к крайнему пределу.
Случается, в молодые годы мы теряем близких и дорогих людей – своих сверстников, и вспоминаем их много лет спустя такими, какими они ушли от нас: стройными, кудрявыми, полными жизни. Им повезло вовремя покинуть этот мир, молодыми и красивыми. Они избежали старости и унижений, которые она приносит с собой.
И вот сейчас, рассматривая лицо матери, сохранившееся на нескольких случайных фотографиях (в то время люди фотографировались куда реже, чем теперь), я вижу высокую, стройную молодую женщину, которая, наклонившись, держит меня за руку, указывая, чтобы я смотрел на аппарат уличного фотографа. Не думаю, что ей довелось путешествовать куда-нибудь далее ближайшего курорта, как это было принято в то время; не знаю даже, видела ли она море, но ее строгая элегантность, темные костюмы с белыми кружевными манжетами, равно как и ее кокетливые шляпы, какие носили в те поры Джин Харлоу и Дина Дурбин, звезды серебряного экрана, выдавали в ней настоящую молодую даму. Говорили, что она играла на гитаре, а несколько вышитых ею ковриков свидетельствуют о склонности к романтическим пейзажам с ветряными мельницами и неприметными озерами, фоном для которых служили далекие голубые горы. Те, кто хорошо ее знал, уже умерли, а дата ее рождения – самое меньшее, что я должен бы знать о матери – записана в книгах запретного теперь для меня города. Следовательно, мне остается теперь только неверный, колышущийся свет, аура вокруг лика, который я не сумел запомнить, потому что был слишком мал, и всего этого – слишком мало и слишком много. Потому лик Богородицы, молодой женщины с Младенцем на руках, для нас, не запомнивших своих матерей, значит, наверное, куда больше, нежели просто библейский мотив.
Господи Иисусе Христе, Боже мой, помилуй мя, грешнаго!»
Однажды мне понадобилось написать автобиографию. Я написал:
«Моя покойная бабушка Иована, урожденная Петкович, из села Брани Дол над Моском, рано овдовела. У нее было четыре сына.
Старший сын уехал в Америку.
Каким-то образом добрался до рудника Гер в Индиане, куда устроился рудокопом.
В 1920 году он погиб на двадцать четвертом году жизни, когда в шахте на его голову рухнула балка.
В родное село моего отца Мириловичи (почтовое отделение Билеча) прислали американские накопления моего дяди и страховку горнорудной компании.
Прислали и его карманные часы марки «omega», парадный черный костюм, пять пар воротничков, пару красно-белых туфель с дырочками, гамаши и перламутровые пуговицы для сорочки.
Прислали еще и фотографию моего дяди: высокий лоб, светлые подбритые усики, невыразимая тоска во взгляде, пиджак с узкими лацканами, тугой воротничок и галстук-бабочка – все в тонах бледной сепии.
Бабушка разделила имущество между тремя оставшимися сыновьями.
Дочери в расчет не шли. Их у нее было, кстати, три.
Один сын построил новый дом и новый пруд в селе Мириловичи и жил здесь до самой смерти. Во время засух только в нашем пруде бывала вода, и все приходили сюда за ней.
Второй сын навсегда уехал на север, в Бачку, на самую венгерскую границу; купил имение и стал самым уважаемым человеком в тех краях.
Третий, мой покойный отец Гойко, которого бабушка, как самого младшего, больше всех любила и единственного отправила в школу, на деньги из Гера, штат Индиана, продолжил образование, стал господином, женился на девушке из старинной сараевской семьи Велимировичей, и, таким образом, я появился на свет в 1937 году в городе Сараево, где научился отличать Вивальди от Боккерини, «скоч» от «бурбона», Брака от Пикассо (периода кубизма), «Dorn Perignon» от «Laurent Perrier», то есть самым важным в мире вещам!
Если бы гнилая балка на руднике Гер, штат Индиана, незадолго до моего рождения не упала на голову несчастного дяди, я, наверное, никогда бы не стал писателем. В лучшем случае из меня вышел бы пастух, ночной сторож или министр культуры».
Оставшаяся во второй раз вдовой со скромной пенсией, двумя дочерьми и двумя сыновьями, моя бабушка по материнской линии, госпожа Елка Велимирович, чтобы выжить, содержала маленький пансион для серьезных холостяков на улице короля Петра. Обе дочери были красавицами и помогали матери вести дела. Довоенный капитан генерального штаба первого класса Павле Илич влюбился в мою тетку Милену и вместе с ней отправился на войну; в 1942 году тетку у Верхнего Милановца взяли в плен четники и передали ее немцам, которые повесили сто пятьдесят партизан на каждом пятом столбе вдоль дороги от Крагуевца до Белграда.
Бывший капитан закончил войну прославленным партизанским генералом, но никто в семье не желал видеть его, считая виновным в смерти Милены.
В этом маленьком, скромном пансионе жил и мой отец, в те времена высокопоставленный чиновник в финансовой сфере деятельности. Человек с устоявшимися привычками и правилами, строгий, а иногда даже и суровый, хорошо продвигавшийся по службе, женился на второй сестре, Бояне, которая очаровала его естественной утонченностью и музицированием на гитаре. Уроки ей давал какой-то таинственный холостяк, о котором в семье шептали, что он – секретный агент Коминтерна и что в Сараево он только проездом, по пути на некое загадочное задание. Что касается женитьбы моего отца, сельского парня, с великими муками получившего образование, на городской красавице высокого происхождения, то в ней кроется мезальянс – соединение почти враждебных миров, плодом которого по случайности стал я. Всегда идеально одетый, вечно, даже дома, в галстуке и жилете, отец до самой смерти был неразрывно связан со своими горными герцего-винскими краями, не порывая даже с языком своих предков.
В 1941 году он, офицер запаса, уходит на войну, где попадает в плен и на четыре года отправляется в офицерский концлагерь под Нюрнбергом. После войны новой власти понадобились специалисты-финансисты, и он, увлеченный строительством нового государства, только год спустя приезжает из Белграда в Сараево за остатками прежней жизни – мной и частично кем-то сохраненной домашней утварью. Не успели мы приехать в Белград, как его на два года посылают устраивать финансовые дела в наших новых посольствах в странах Северной и Южной Америки. Потом он основал много банков на родине и был их первым директором. Он часто говаривал, что я родился в семье нищего директора банка, что и в самом деле было святой правдой: после смерти на счетах отца оставалось ровно столько денег, чтобы хватило купить гроб и оплатить его транспортировку в Герцеговину. Уйдя на пенсию, он поселился в Дубровнике, чтобы быть поближе к Герцеговине, на горы которой он смотрел с веранды своего дома. Последние двадцать лет жизни, окруженный богатой библиотекой книг по истории, он, отыскивая собственные корни, создавал родословное древо, но так и не закончил работу над ним. Перед смертью он попросил меня зарыть его на сельском кладбище в Мириловичах, где нам пришлось рыть могилу с помощью динамита. Его выбор удивил меня: почему он не захотел почить с миром в Дубровнике, где так долго жил, в Бонинове, на одном из лучших кладбищ в Европе, откуда можно рассмотреть даже Италию? Почему его больше влекло сельское кладбище, на котором пасутся овцы и козы? Но что было для него море? Ничто! Прежде всего, этот спокойный, строгий, сероглазый человек обладал исторической памятью. Он словно предчувствовал, что в нынешнюю войны многие сербские могилы в Дубровнике подвергнутся осквернению, многие могильные плиты будут разбиты и никто из родни не сможет зажечь на них свечу.
Признаюсь, мы никогда не были слишком близки. Его раздражало мое странное ремесло, далекое от реальности, мое поведение и, вероятно, то, что я, сам того не желая, напоминал ему о том, что он хотел забыть – о семье моей матери. Как и прочие герцеговинцы, он ни разу не поцеловал меня, только приобнимал по-мужски и похлопывал по плечу. И все. Никогда не говорил о написанных мною книгах, хотя я непременно посылал их с дарственной надписью. Когда он умер, его вторая жена передала мне вынутую из письменного стола большую толстую пачку в желтом конверте, обмотанном резинкой. Я открыл его, и в руках у меня оказалась куча аккуратных газетных вырезок: тут было много моих статей, рецензии на мои книги и выставки, даже совершенно незначительные сообщения в несколько строк о том, где я бывал и с кем встречался; на каждой вырезке его аккуратная рука проставила дату и название газеты. Он никогда не ходил в церковь, хотя вовсе не был атеистом. Наверняка он сохранил плохое отношение к попам, которые изредка посещали его заброшенное село и которым по такому случаю устраивали настоящие пирушки, в то время как голодные дети, попрятавшись по углам, во все глаза смотрели на невиданное изобилие.
Мне стало по-настоящему недоставать его только после его кончины. Я виноват перед ним. Я ни разу не свозил его в Грецию, полагая, что всегда успею это сделать, а ему так хотелось этого!
И вот сегодня ночью он здесь, со мной, в хиландарской церкви, и я почти вижу, как ему неловко от того, что у него не получается следовать молитвенному ритуалу…
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя!
После Акафиста – хвалебной песни Богородице – я вынырнул из голубоватых облаков ладана и увидел деревянную террасу, на которой молча сидели монахи и поденщики, работающие в монастырском хозяйстве. Вскоре туда поднялся величественный старец с длинной белой бородой, и перед ним распахнулись двери в трапезную. Это был просторный прямоугольный зал с несколькими дубовыми столами и такими же лавками. Только один стол был накрыт человек на тридцать. Прочие были пусты, молча напоминая о сотнях монахов, которые трапезничали здесь еще с четырнадцатого века. Мы уселись, но никто не прикоснулся к пище, пока игумен не благословил ее, вознеся хвалу Господу за его дары. Перед каждым из нас были алюминиевая миска с лечо, приготовленным на воде, кусок ржаного хлеба, помидор и стакан красной монастырской рецины. В это мгновение молодой послушник начал читать житие какого-то святого из старинной книги на подставке, напоминающей нотный пюпитр. В полной тишине слышался только стук ложек поденщиков и звяканье приборов. Ужинали молча: казалось, никто не обращает внимания на еду. Я сидел с поденщиками и смотрел на их костлявые, темные лица, заросшие недельной щетиной. Они набожно поглощали скромную пищу, и ложки в их грубых руках были похожи на десертные. С длинной стены на нас бессловесно взирали глаза бесконечной череды монахов, владык, митрополитов, королей, царей и ангелов, которую в XVII веке написал знаменитый хиландарец Георгий Митрофанович. Странно было есть под фреской вместе с монахами и виноградарями, которые были настоящими близнецами нарисованных на стене.
Среди сидящих за длинным столом я не обнаружил ни одного толстяка или даже просто коренастого человека. Монахи придают гораздо большее значение посту и голоданию, нежели пище, о которой даже и говорить неприлично. С восхищением они рассказывали мне о братьях, которые, непрерывно молясь в подземных кельях, не вкушают пищи по сорок дней. Об их подвижничестве и самоотречении говорят только в восторженных тонах. Ни разу я не услышал в Хиландаре, чтобы кто-то припомнил вкусное или особенно хорошо приготовленное блюдо или отдал предпочтение какому-либо вину. Здесь вспоминали только воду из колодца святого Савы в южной части монастыря, которая и в середине июля была ледяной. Если бы ее пили из стеклянного стакана, то он бы наверняка запотел, но к ней прикладываются из жестянки – металлической кружки, предохраняемой от падения в колодец цепочкой, или же просто из ладоней. «Сократ, увидев мальчика, пьющего родниковую воду из ладоней, разбил чашу» (Загадочная фраза из моего детства).
Я с жалостью и отвращением припомнил свою жизнь и жизнь своих друзей, наши длительные походы по местам, где хорошо кормили, – не выучив наизусть ни одной молитвы, спокойно могли продиктовать названия закусок, главных блюд и десертов многих мировых святилищ жратвы. Мне показалось, что тело распадается под воздействием гниющего мяса, рыбы, соусов, моллюсков и кремов, которые я поглотил за эти годы.
Ужин начался ровно в шесть пополудни по нашему времени (в Хиландаре отсчет времени ведется иначе, от восхода до заката солнца), а закончился, похоже, всего полчаса спустя, когда игумен ударил ложкой по своей миске, встал вместе со всеми, перекрестился и поблагодарил Бога за хлеб насущный, который мы, может быть, заслужили сегодняшними трудами. А во время этого ужина, одного из самых коротких в моей жизни, время остановилось под взорами глядящих со стен монахов и ктиторов, и мне показалось, что все блюда, что мне довелось по сей день попробовать, уместились в одной-единственной сиротской миске постного лечо, а все винные погреба мира слились в глоток сладковатой рецины, отдающей бочкой.
В конце шестидесятых, во времена наивысшего расцвета Сараево, недалеко от старого бутмирского аэродрома, в бывшем имении семьи Ефтанович, открыли самый, наверное, странный ресторан в Европе – «Башня», который вскоре стал самым любимым местечком жителей города. На самом деле это была тюрьма, в которой официантами и поварами служили каторжники, возвращающиеся после смены в свои камеры. Метрдотелями были надсмотрщики, переодетые в смокинги с галстуками-бабочками, а швейцары, гардеробщики и сторожа автостоянок – тюремными охранниками. «Башня» считалась местом с лучшей кухней в городе, и столик для ужина надо было заказывать за несколько дней. Фирменным блюдом, горячо рекомендуемым надзирателями, помимо боснийских, унаследованных от турок, была дичь, приготовленная самыми разнообразными способами: оленина, фазаны, кабаны и зайцы из Сараевского поля – излишки богатых охотничьих трофеев местных политиков и придворной камарильи. Да и само руководство каторжной тюрьмы с удовольствием отправлялось поохотиться в окрестных горах и просторных полях, а каторжники, отличившиеся примерным поведением, служили загонщиками и охотничьими собаками. Прислуживать в «Башне» для отбывающих наказание было огромной привилегией: негласно разрешалось употреблять вместо скудной и безвкусной тюремной пищи объедки с тарелок, можно было собирать окурки из переполненных пепельниц, которые они потом потрошили, отделяя табак, шедший на самокрутки, от фильтров и пепла. Казалось, особый вкус изысканным блюдам придавала несчастная обслуга, идеально ведущая себя под бдительным присмотром надзирателей с серыми восковыми лицами, типичными для служащих полиции, редко покидающих мрачные помещения тюрем и казарм. А может быть, жители Сараево, независимо от веры и национальности (в «Башне» отбывали наказание и те и другие), тайно наслаждались тем, что жизнь, по какой-то странной причине, наделила их ролью посетителей, а не каторжан. Это было заметно по благосклонному и теплому отношению к молчаливым несчастным, по обращению к ним на «ты», по сигаретам, как бы забытым в пачке на столе вместе с почти израсходованной зажигалкой, а иной раз и по специально оставленной мелочи после оплаты счета. Это место было куда более утонченное и крутое, нежели «Проклятый двор», и управлял им, вместо мифического Караджоза, куда более скромный и гораздо более опасный Директор, человек, лицо которого после случайной встречи в «Башне» быстро забывалось, но только не глаза – два косых разреза, в которых, как в масле, плавали темные зеницы волкодава.
Но самым странным было то, что в «Башне» регулярно обедали видные представители сараевской интеллигенции, среди которых чаще всего преобладали знаменитые писатели, не находивших ничего необычного в обедах посреди кафкианской исправительной колонии.
Короче говоря, не случайно, что именно город Сараево, а не какой-нибудь другой, придумал «Башню», невиданный сплав каземата и гастрономического рая, непревзойденное место для наслаждений – идеальную картину мира, который и сам есть всеобщая каторга, управляемая всемогущей и всевидящей Дирекцией. Здешние посетители – всего лишь временные счастливчики, которые являются таковыми, пока ведут себя прилично и лояльно по отношению к властям. Как только их поведение выходит за рамки, они сразу меняются местами с заключенными. Во всем этом жители несчастного города не находили ничего странного, потому как были уверены в стабильности своего весьма удобного, особого положения.
Признаюсь, я тоже грешен. И я однажды побывал в «Башне» на обеде, но если бы этого не случилось, вы бы не прочитали эти строки. Несмотря на то, что гордыня считается одним из самых тяжких грехов, суетность, несмотря ни на что, заставляет писателя заглядывать в самые порочные и неприглядные места, и при этом он полагает себя свидетелем, которому все заранее прощается. Тогда я последний раз был в родном городе, и после долгой прогулки под раскидистыми кронами платанов, по тропе, что ведет к Источнику Боснии, затащила меня в «Башню» моя старая, так и не осуществленная любовь. Некогда хрупкая, бледная девушка с огромными сверкающими глазами цвета диких каштанов, той осенью уже отяжелевшая зрелая женщина – и лишь в глазах сохранялся еще блеск нежных лет, – предложила пообедать в местечке, где «великолепно готовят», чтобы там продолжить разговор о старых добрых временах. Так мы оказались в затаившемся пекле, тлевшем без дыма и ощутимого жара, а она, в остальном натура весьма утонченная и склонная к художественной литературе, совершенно не замечала этого, удивляясь полному отсутсвию у меня аппетита. Наверное, впервые в жизни я ощутил в «Башне» сущность бесчестия города, который сумел усыпить нежную и тонкую душу моей приятельницы. Сущность этого зла, помимо прочего, состоит в невероятной способности унизить и замарать все, чего коснется, все, что хоть чем-то отличается от его ценностей. Превратить профессора в кухонного мальчишку, чистящего картошку, заставить скрипача менять пепельницы своим позавчерашним слушателям из концертного зала, а собственника некогда приличного ресторана вернуть к началам и заставить прислуживать клиентам, которые еще вчера почитали за великую честь, если он спрашивал, довольны ли они ужином, – это мог сделать только Сараево, и никакой другой город. Я видел на последней войне генералов (перескочивших сразу через несколько званий), которые волокли за собой изголодавшихся преподавателей литературы, строчивших для них мемуары за жалкую койку и миску еды. «Нечего тебе думать, – полупьяно заявил один из них своему Эккерману, когда тот попытался что-то сказать. – Твое дело молчать и записывать все, что я ни скажу!» Мимо тех, кто время от времени, по той или иной причине восставал против такого порядка вещей и кого наказывали за это тем или иным способом, жители Сараево проходили молча, убеждая себя и ближних в том, что те, наверное, заслужили кару. Привычным оправданием перед собственной совестью стали слова:
– И оно ему надо было? Жил себе спокойно…
И постоянные посетители «Башни» успокаивали себя тем, что обслуживавшие их заключенные, у которых сараевское бесчестие отняло даже право на достойное каторжное страдание, всего-навсего лишь мелкие нарушители закона, фигуры с почти опереточными, комическими судьбами. Но наслоение многолетнего унижения, мучений и несчастья в этом, а также в других бесчисленных местах вызвало всеобщий взрыв мрака, уничтоживший и разорвавший на мелкие кусочки многолетнюю, так упрямо и умело создаваемую ложь. И не случайно, что «Башне» довелось стать символом. Словно в библейские времена, на нее обрушился огненный столб, разоривший некогда Содом и Гоморру, и сжег без остатка вчерашний мир именно в этом срамном и грешном месте.
Оказавшаяся непосредственно на демаркационной линии «Башня» стала чем-то вроде границы, разделяющей воюющие народы. Равнодушные картографы провели линию после подписания Дейтонского соглашения, и она, словно в абсурдном сне, прошла точно через это здание, отделив ресторан от кухни. Возникла проблема: как подавать гостям блюда из свинины, настрого запрещенной Кораном, если кухня находится на земле, принадлежащей исламу? В Сараево, кстати, осталась одна, единственная мясная лавка, где продают свинину, и в ней обслуживают исключительно хорватов. Конечно же, вовсе не специально демаркационная линия в этом случае отнесена на пристойное расстояние в глубину мусульманской территории.
Между тем во время войны, да и теперь, когда подписан какой-никакой мир, «Башня» продолжает функционировать как тюрьма. И не только: в «Башне» продолжает работать тот самый ресторан, в котором гостей обслуживают бывшие заключенные, поскольку им некуда деться. Некоторые из них по отбытии срока добровольно остались официантами и поварами, совсем как сараевские сумасшедшие, после долгих скитаний по разоренному городу вернувшиеся в палаты Ягомировой лечебницы, брошенной врачами и охранниками. В психушке все-таки меньше безумия, чем на свободе. Зловещий дух Сараево, выпущенный из разбитой бутылки, пересилил и побежденных, и победителей.
Господи, помилуй прежде других несчастных сараевских старушек, которые покинули нас в числе первых – тех, что жались к стенам и каждому уступали дорогу, тех, что пережили близких и неслышно шагали, словно извиняясь за то, что все еще существуют; тех смиренных старых женщин, что после закрытия рынков собирали с прилавков остатки, до того как уборщики смоют их в канализацию струями воды из шлангов; с вечными переметными сумами в руках (в Сараево их зовут торбами) – пустые сумы несчастья, в которые надо собрать все, что ни встретится по пути: позавчерашние газеты, щепки для плиты, куски черствого хлеба. Родившись в Первую мировую войну, они созрели к началу Второй и закончили жизнь в этой; пережили три войны, так и не поняв, ради чего они велись; не храня в сердце ненависти, просто старались хоть как-то поддержать слабенький огонек жизни. Их пепел развеяли ветры истории. Господи, помилуй их вместо меня, грешного! Кто знает, сколько их перемерло за четыре года войны, сжимавших в худых пальцах бутылочки из-под лекарств, которых больше нигде не было, сколько перемерзло холодными и безнадежными сараевскими февральскими вечерами, в которые кажется, что лета вовсе не было и больше никогда не будет.
Их находили заледеневшими и засохшими, совсем как погибших птиц, что случайно залетели в чужую комнату и не смогли из нее выбраться. Кто знает, сколько их зарыли в землю под посвист снайперских пуль и треск лопающихся от мороза стволов вместо молитвы. Сегодня ночью в Хиландаре я молюсь за их нежные души, какой бы веры они не были, потому как Бог – един.
70. 1. На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек. 2. По правде Твоей избавь меня и освободи меня; приклони ухо Твое ко мне и спаси меня… 9. Не отвергни меня во время старости; когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня.
Весной 1941 года Сараево захлестнула волна всеобщего безумия…
Толпа грабила еврейские и сербские лавки. Люди сгибались и падали под тяжким грузом нахватанного добра.
Словно насекомые, ползали они по крыше еврейской синагоги, отрывая от купола куски медных листов.
Они жгли флаги королевства и вывешивали новые, в красно-белую клетку. Восклицали здравицы в честь новоявленной Независимой Державы Хорватской и новых властей.
Как и все прочие сербы, мы должны были сдать радиоприемник марки «telefunken» и пишущую машинку системы «adler». Граммофон нам оставили, но мы больше не слушали музыку.
Время от времени появлялся тот русский, что усыновил меня. Он регулярно приносил шоколад и игрушки. Часто на нем была форма немецкого офицера. Он сажал меня на колени и, печально глядя, все время повторял: «Малое дитя, малое дитя…»
Однажды он вывел меня на прогулку. Мы столкнулись с большой группой людей, которые размахивали флагами и что-то кричали. Я, припомнив дядю Николу в фиакре, тоже крикнул во все горло: «Да здравствует король!», и все они в бешенстве повернулись в мою сторону. Русский затащил меня в ближайшую подворотню и сказал, чтобы я прекратил кричать что бы то ни было.
В непрекращающемся шепоте плюшевой коробки театра давали «Синюю птицу» Метерлинка. Это было первое театральное представление в моей жизни.
Зимой 1943 года я заболел брюшным тифом, который тогда был смертельной болезнью. Меня лечил доктор Алкал ай, наш семейный врач, единственный случайно сохранившийся еврей. Тетка, уверенная в том, что я умру, жгла свечку над моей головой. Я выкарабкался. Тиф в Сараево принесли с собой мусульманские беженцы – мухаджеры.
По воскресеньям мы ходили на кладбище ухаживать за цветами на семейной могиле. Я играл среди крестов и ангелов с поломанными бетонными крыльями, спускаясь в пустые, разграбленные склепы, наполненные зловещим эхом, пока тетка поливала растения.
На одном из крестов я по слогам сложил имя моей мамы:
БОЯНА КАПОР
Перед Олимпийскими играми в Сараево это кладбище перенесли в другое место. Теперь она покоится вместе с жертвами фашизма в братской могиле, которую я никогда не видел, потому что четверть века не приезжал в родной город. Задолго до нынешней войны он лишил меня права навещать своих покойников. Но это уже не имеет никакого значения.
Могила моей матери теперь в этой книге.
И вот в смертоносном и всеразрушающем вихре истории, сотрясающем фундаменты города Сараево с такой силой, что в гостиной звонко дрожат хрустальные люстры, моя старая тетка пытается любой ценой поддерживать внутренний порядок, как будто снаружи не происходит ничего необычного. Каждый день она старательно чистит оставшиеся ковры, те, которые мы еще не выменяли на еду, а я распутываю их свалявшуюся бахрому, пока мастика, которой только что был натерт паркет, не набивается мне под ногти; мельхиоровая ступка с пестиком и безмен на горке светятся тусклым блеском, совсем как в счастливые времена, белый кухонный кафель сверкает чистотой, завтрак, обед и ужин сервируются в давно и точно определенное время, даже если к обеду подают всего лишь по горсточке вареной кукурузы, зато сервируют ее так, будто предстоит довоенный воскресный обед. Эта маленькая состарившаяся женщина с толстым телом на коротких столбиках ног с запущенными венами и в туфлях на стоптанных низких каблуках поддержание порядка в маленьком гнездышке противопоставляет всеобщему хаосу, который одного за другим уносит ее ближних, уничтожает город, в котором она выросла, и гигантскими клещами вырывает, словно зубы, целые дома, дворцы и устоявшиеся привычки. И когда в грохоте эскадрилий, свисте бомб и взрывах исчезают еще вчера казавшиеся вечными соседние дома, она первым делом, вернувшись из укрытия, убирает рухнувшую с потолка на обеденный стол и картины штукатурку, как будто это привычная воскресная уборка.
Посреди Главной улицы дом номер 26, оказавшийся меж двух образов существования, являл собою в миниатюре последний оплот европейской цивилизации, и главным поприщем этого столкновения была кухня, чугунный под огромной кирпичной плиты с никелированными поручнями и рядами начищенной посуды над ней. Ближайший крытый рынок, построенный при Австро-Венгрии, называется «Маркале» (Markthalle), зелень для супа – «гринцайг» (Grünzeuge), а овощная приправа зовется «чутпайз» (Zuspeise), лапша – «мелшпайз» (Mehlspeise), суповая заправка – «айнпрен» (Einprensuppe). Здесь был и пирог к чаю под названием «милиброд» (Milchbrot), а в самых торжественных случаях подавался «сахер-торт» по рецепту недостижимого венского отеля «Сахер». Воскресный обед обычно состоял из вареной говядины «ринфлайш» (Rindfleisch) с хреном и томатным соусом, жареной картошки, зеленого салата, и в конце (в сезон) на стол водружались настоящие чешские кнедлики со сливами в темной закопченной посудине. Типичный европейский обед в трехстах метрах от многочисленных закусочных, на открытых прилавках которых дымились ленивая и в виноградных листьях долма, капустные голубцы с птицей и без, бамия, овечьи потроха и головы, кебабы и десятки самых разных пирожков и пит, начиная с картофельной начинки, сырной, капустной и тыквенной и кончая «питой просто так», без ничего, из слоеного теста – все эти экзотические блюда распространяли невидимую пелену чувственных восточных вкусов и запахов. Из ближайших домов доносилась вонь масла и жира, на которых готовятся турецкие блюда. В тупике – «чикме» – рядом с номером 26 сталкивались запахи Европы и Ориента – бурдюков и тортов, жира и сала, хлеба и лепешек «сомун».
Ни моя тетка, ни, конечно, я ведать не ведали, что упорная битва двух образов жизни, не стихающая здесь, совсем рядом с нами, есть всего лишь продолжение страшной многовековой вражды двух цивилизаций – христианской и исламской, которая началась задолго до нас и в которой мы вынуждены были принять участие помимо собственной воли, только по причине того, что судьба определила нам родиться в этом городе. Наш стиль жизни, который мягко направляло православие, начался после Берлинского конгресса, когда Австро-Венгрия, договорившись с прочими великими державами, в 1878 году оккупировала Боснию и Герцеговину, намереваясь – на словах, по крайней мере – навести там порядок, а также когда в крови было потоплено сопротивление боснийских турок, в котором решающую роль играли сараевские мусульмане под предводительством Хаджи Лоя.
Два французских путешественника (Chopin и Ubicini) в 1856 году записали, что «город этот слывет очагом фанатизма, а также центром боснийской аристократии, и его следует посетить ради того, чтобы познакомиться с настоящими турками и вырождающейся аристократией из славянских ренегатов…». Эта империя старалась европеизировать Сараево, канализировать и упрятать в белое каменное русло мелкую речку, которая время от времени сходила с ума и сметала все на своем пути, в том числе и тех, кто с детских лет пил ее воду; она старалась возводить мосты из камня и тумана, музеи, даже помпезный театр, в котором странствующие музыканты со всех концов монархии ухитрялись кое-как исполнять оперетты Франца Легара и Зуппе. И как бы она не стремилась по-своему сделать более пристойным лабиринт переулков и улочек, пять столетий особой жизни стойко и по-левантийски лукаво сопротивлялись, и если на эту борьбу глянуть сейчас, сто двадцать лет спустя, станет совершенно очевидно, что европейская культура здесь была всего лишь неудачной декорацией, которую в конце двадцатого века обрушил затаенный дух ислама, долго и терпеливо дожидавшийся мести.
85. 1. Приклони, Господи, ухо Твое и услышь меня, ибо я беден и нищ.
Похожий на состарившегося Сизифа, по моему детству и ранней юности бредет сгорбленный Песочник с мешком на плечах. Он обходит город, торгуя тончайшим песком, который добывает в верхнем течении реки Миляцки, в сокровенных местах меж скал; просеяв его сквозь сито, сушит и разносит по домам, зарабатывая таким образом кое-какую мелочь на пропитание. Никогда мы не слышали, чтобы он произнес хоть единое слово, кроме тихого «спасибо». Тетка, приобретя котелок песка, впускала его на кухню, где он сжимался на стуле, чтобы стать как можно неприметнее, и давала чего-нибудь поесть здесь и что-нибудь с собой, а мы смотрели на него как на божьего человека, который, словно ветхозаветный король, переодевшийся в нищего, приходил испытывать искренность нашей доброты. Хозяйки в то время мыли посуду щелоком, прокипятив в воде золу с небольшим количеством каустической соды, которая разъедала руки. Но прежде чем воспользоваться щелоком, они оттирали казаны для варки повидла и мыла, медные тазы и сковородки речным песком, который лучше всего удалял нагар открытого огня. Песок времени, словно через живые часы, тек сквозь старческие ладони, знаменуя близкое начало эпохи синтетических моющих средств. Похоже, легчайшая струйка песка ценой в полушку практически бесшумно засыпает тонким слоем мои воспоминания о тех временах.
40. 2. Блажен, кто помышляет о бедном [и нищем]! В день бедствия избавит его Господь.
Целых четыре военных года бродит, как проклятый, по Сараево городской сумасшедший Никола Тяжкий Работник, и все, о чем никто в городе не смеет даже прошептать, приписывают ему. Так трагическое время создает своего мифического героя из душевнобольного бедняка Николы, довоенного столяра, у которого от прежнего ремесла осталась только деревянная рейка, которую он судорожно сжимает худой костлявой ладонью – пошепчется с ней, взмахнет, потрясет с угрозой, не прерывая одному ему известный бесконечный монолог, полный бешеного клекота.
Тощий и долговязый, вроде кузнечных клещей, этот сорокалетний мужик одет в брошенный кем-то фрак с короткими рукавами, подвязанный веревкой. На коротко остриженном черепе у него пыльный полуцилиндр на два номера меньше положенного. Из рукавов выглядывают посиневшие уродливые кисти, а грудь украшают разные значки, жетоны и награды, собранные на какой-то свалке. Никола Тяжкий Работник, о котором говорили, что он был прекрасным столяром родом откуда-то из Чехии, поспешно шагает сквозь мои молодые годы, почти летит, не касаясь грешного сараевского асфальта, словно волшебник, который все может и все смеет. На широкой площади между новой православной церковью и Маркалой немцы сразу после прихода воздвигают высокий обелиск и венчают его свастикой с сидящим на ней огромным серым орлом с распущенными крыльями. Никола ходит вокруг него и машет рейкой, провозглашая во весь голос, что «хлеб будет, если только эта ворона из Сараево улетит!». В городе есть еще два знаменитых сумасшедших – Мушан, который со всей силой бьет себя руками по голове и кричит во весь голос: «Ей Богу, умер!», и глупый Лазар, с которого во время сна кто-то постоянно снимает башмаки без шнурков, – однако Никола Тяжкий Работник в любом случае самый знаменитый.
Сараевская легенда гласит, что в последний год войны его убили немцы: увидев, как они маршируют совсем как оловянные солдатики, Никола изо всех сил крикнул: «Хальт!». Выдрессированные, какими их Бог и создал, немецкие солдаты остановились как вкопанные. «Только мы с Гитлером и можем вас остановить!» – ощерился Никола Тяжкий Работник, продемонстрировав беззубый рот, и рухнул, скошенный очередями из «шмайсеров» на берегу Миляцки, неподалеку от моста Гаврилы Принципа, заплатив головой за последнюю шутку. Однако, скорее всего, его порешили освободители Сараево, на которых он тоже ругался, а в новые времена юмор такого рода не пользовался большим успехом. Но, как бы оно ни случилось, с исчезновением Николы Тяжкого Работника город сам как бы остановил собственную сумасшедшую карусель, которую сдвинули с места и разогнали эти благородные безумцы.
Говорят, однажды Иво Андрича спросили, правда ли, что в боснийской провинции, как и прежде, все еще есть обязательные городские сумасшедшие, на что он ответил, что теперь в каждом из городков есть по одному умнице!
Так вот, граждане этого маленького Вавилона перемешавшихся народов и верований жили вместе, потому что должны были жить и выживать, мусульмане рядом с сербами и хорватами, евреи, словно одинокая стая испанских птиц, небольшая армянская колония – многочисленное семейство мелких торговцев. Болгары, знаменитые огородники широкого Сараевского поля, неизвестно как попавшие в этот город, чехи – в основном машинисты и музыканты, венгры – землемеры и пивовары, некогда застрявшие здесь во время последнего отлива ослабевших австро-венгерских волн, малочисленные настоящие турки с экзотическими, декадентскими лицами и достойным поведением, которых предки, отступая назад, в Малую Азию, забыли в этой влажной и сумрачной котловине. Жили здесь и «царские» русские, бежавшие от Октябрьской революции в Королевство Югославия (врачи, офицеры и балерины), и еще тысячи иных пришельцев – крестьяне, самостийно спустившиеся с гор вниз, в город, чиновники Австро-Венгерской монархии и прочие люди самых разных судеб и происхождения. Каждый из них, сам того не осознавая, лелеял старинные традиции своего народа и своей веры – и наследовал подозрительность и нетерпимость, врезавшиеся в вековую историческую память. Их ненависть, подавлявшаяся в течение долгих периодов времени, моментально вспыхивала, как только складывались подходящие обстоятельства – перевороты, кризисы и войны. Тогда статисты, занятые в этих спектаклях, сбрасывали маски, поверив, что в истории наконец-то пробил их час. И все эти народы и вероисповедания занимали одну либо другую сторону, формируя временные союзы, чтобы выиграть время; так мусульмане во времена Независимой Державы Хорватской становились «хорватскими цветами», а белые русские надевали униформу со свастикой, в то время как сербам, цыганам и евреям в этих драмах обычно доставались роли жертв.
Существуя вроде бы вместе и на первый взгляд дружно, каждый в отдельности чувствовал себя отрезанным от прочих. Мусульмане так и не сумели расстаться с зеленой мечтой об Оттоманской империи, да и сербы не забывали, кто именно уничтожил прежнее царство, берега которого омывали оба медитерранских моря. Хорваты продолжали жалеть о том, что проникновение католицизма в глубину Европы остановил Предимарет – непреодолимая граница, перед которой замерли серые многоэтажные дома и гостиницы, а за ней расцвели домишки и крытые рынки под черепицей и мечети. Сефарды никогда не забывали свою испанскую родину, из которой были изгнаны и последние следы которой они хранили в домашних обрядах и языке; армянам сердце не позволяло забыть погромы, во время которых турки вырезали их предков, и даже последний чех-гобоист из оперного оркестра считал себя обиженным, потому что играть приходилось в этой балканской дыре, а не в пражском «Дивадле».
Тем не менее нас, детей, привлекал своей таинственностью закрытый исламский мир, который мы видели только снаружи, с улицы. С позиций нашей чахлой гражданственности он казался нам живописным, загадочным и чувственным; мы не были вхожи в дома наших лучших друзей магометанской веры, да нас никогда туда и не приглашали, однако иногда удавалось заглянуть в них сквозь окна, зарешеченные деревянными рейками-мушебаками, во дворы, прячущиеся за высокими глинобитными или кирпичными стенами и воротами с колокольчиками. Дворы мостили белыми округлыми булыжниками, старательно выпалывая прорастающую меж ними траву, зачастую в них устраивали шедрваны – небольшие фонтанчики, и высаживали цветы. Женщины прятались от наших взглядов – мы замечали лишь трепет их юбок из пестрого шелка. Мы обедали за столами, ели из тарелок, пользуясь столовыми приборами-эсцайгами (Esszeug), в то время как они сидели «а ля тюрк» за низкими столами-синиями, на коврах, и пальцами макали кусочки лепешек в общую мелкую миску из глазурованной керамики. Их отцы были непререкаемыми владыками в семьях. Во время поста «рамазан» наши ровесники строго придерживались запретов на употребление пищи и воды в дневное время. В школе они ничем не отличались от нас, православных и католиков, разве что были обрезанными и говорили чуть мягче нас, зачастую не отличая мягкое «ч» от твердого, да и клялись не по-нашему, заявляя: «Дина мне!».
Веками считалось, что Босния – а особенно город Сараево – защитник чистейшей исламской веры, в отличие от Цариграда, который все больше склонялся к европейским новшествам, и потому в Боснии то и дело вспыхивали восстания, которые Оттоманская империя была принуждена подавлять силой. Так и турецкий полководец Омер Паша Латас, родом из Лики, потурченец, перебежчик из австро-венгерской армии, в 1858 году прибыл с карательной экспедицией в Сараево, чтобы навести порядок в этом Темной Вилайете и наказать чересчур окрепших сараевских и боснийских властителей. И когда Кемаль Ататюрк еще в двадцатые годы нашего века запретил в Турции чадру и паранджу, они оставались в Сараево вплоть до 1945 года, когда их запретили в законодательном порядке, что вызвало всеобщий протест мусульманского населения. Нам было странно видеть соседок по улице, идущих в длинных паранджах с темными сетками на лицах (мы узнавали их только тогда, когда они на мгновение приподнимали чадру и улыбались нам), равно как и наших преподавателей, направляющихся на поклонение в мечеть Гази Хусрев-бега, с достоинством неся на головах черные фески. В прохладном дворе этой мечети мы видели ходжей и религиозных фанатиков с восковыми лицами и огромными темными глазами, горящими как в лихорадке; приходили туда и дервиши из забытых уже сект, мужчины в чалмах, нищие и юродивые с бритыми затылками в лохмотьях, убогие и мудрецы с длинными седыми бородами. Они мыли ноги в фонтанах под журчащими струями прозрачной святой воды, надевали деревянные сандалии и отправлялись на молитву.
«Имам всплеснул руками, и стадо верующих бросилось на колени, производя шум, напоминающий стук ружейных прикладов, ударяющих по команде о землю, – писал неизвестный путешественник в «Revue des deux Mondes» в 1890 году. – Несколько минут я наблюдал лишь пятки босых ног и кучи красных, синих или черных тряпок. Спины выпрямляются, сгибаются, колышутся в идеальном единстве, словно на маневрах. И впечатление производят вовсе не гротескное. Эта однообразная гимнастика, где никто не стремится превзойти соседа, преподает великолепный урок унижения…»
Это действовало на нас, христиан, у которых коммунисты пытались отнять право на нашу веру, весьма экзотично, совсем как американский цветной фильм, действие которого происходит на Ближнем Востоке. Нам казалось, что мы стали богаче, познав еще один мир, который для большинства европейцев так и останется непознанным.
Время кофе.
Его варит послушник в небольшой чайной кухне на верхнем этаже удивительно высокого строения, откуда монастырский сад, напоминающий ковер с геометрическим абстрактным рисунком, виден как из самолета. Тридцатилетнее лицо послушника в рамке короткой черной бороды выдает глубокое смирение и сосредоточенность, словно он занят самым важным в мире делом. От других я уже знал, что он закончил два факультета и сделал в своем городе приличную карьеру, но теперь он здесь, и никто не знает почему. Крайне неприлично расспрашивать здешних обитателей о прошлом, если только они сами не заведут разговор на эту тему. Прошлое стерто из жизни.
Получив свою порцию кофе, я машинально схватился за сигареты и зажигалку, но тут же вернул их в карман. Мало того что курение в Хиландаре запрещено – оно здесь считается грехом. К моменту прибытия табака в XVI веке из Америки в Европу монастырь существовал уже более трех веков. С тех пор дурманящий серо-голубой дым монахи считают не просто обычным пороком, но дыханием Сатаны. Так что если мне невтерпеж покурить, я выхожу за сводчатые монастырские ворота, за его стены, и, сидя на камнях, курю сигарету за сигаретой с поденщиками – братьями по привычке. «Наверное, это единственное серьезное дело, которым я занимаюсь ежедневно с шестнадцати лет, не пропустив ни дня!» – говорил мне Данило Киш. Наверное, когда мне не удается закурить, движения делаются нервозными, что и заметил послушник, глядевший на меня из-под стекол с большими диоптриями с сожалением и необычным сочувствием, словно приметил обуянного нечестивым христианина.
– Смотрю, брат, тебе покурить охота… – спросил он, принеся кофе. – Если не удержаться, я тебе на балконе поставлю.
Я вышел на узкую террасу под крышей и сквозь щели меж старых досок под ногами углядел пропасть. Я курил, глубоко затягиваясь, и выдыхаемый дым ветер уносил к черной стене леса за монастырскими стенами – так было нормально – в то время как послушник остался стоять в дверях, прислонившись к притолоке. Похоже, он про себя молил Господа, чтобы Тот избавил меня от зловредной привычки. Мы молчали, прислушиваясь к стрекоту сверчков, которых жар летнего полудня выманил из щелей.
– Ты давно послушником?
– Два года.
– И чем занят все это время?
– Всем, что велят.
– Не слишком ли долго, брат? Почему тебя в монахи не принимают?
– Это от них не зависит.
– А от кого?
– От меня самого. Когда созрею…
– А разве ты еще не готов?
– Нет.
– Почему?
– Я за собой еще не все убрал.
– Ты разве еще не отрекся от мира?
– Да, но в этом еще самому увериться надо.
– Что же тебя мучает, брат?
– Иногда мне снится, что играю в преферанс, например, – произнес он, глядя на носки резиновых калош, – пас, черви! Не может хотеть монах в карты играть. А иной раз и женщины снятся…
– И что делаешь, если согрешить тянет?
– Исповедуюсь духовнику. У каждого послушника есть духовный отец, которому тот каждый день исповедуется во всем, что душу мучит. Духовник лучше всех знает душу послушника, и в один прекрасный день решает, созрел ли тот для того, чтобы стать монахом и совсем отказаться от мирской жизни.
Я курил сигарету за сигаретой, чтобы использовать привилегию, дарованную мне послушником, раздумывая над тем, кто мог бы стать моим духовником, насколько он должен быть грешным, непростым и опытным, чтобы понять мою исповедь. Как можно кому-то исповедоваться во всех своих предательствах, сомнениях, трусости и кражах, которые каждый художник совершает в своей уединенной алхимической лаборатории? Признать болезненное стремление к славе, жажду пустопорожних признаний, лукавство и мелочные суетные стратагемы… Как объяснить безнадежность нью-йоркских сумерек или похоть, возникшую в порту Антверпена, человеку, который там никогда не был? В самом деле, кто мог бы стать моим духовником? Тех, с кого я брал пример, которыми восхищался и на которых равнялся, уже давно нет в живых. Иные из них похоронены уже несколько веков тому назад. А может быть, это вообще не должен быть классик или человек с громким именем, может быть, для этой роли лучше других подошел бы кто-нибудь из старинных сказителей, которые добровольно отреклись от славы и собственный божественный дар тратили наугад, там, где случайно оказались, на нас, малочисленных поклонников и случайных слушателей. Но гуру подобного типа обладают одной исключительно дурной особенностью – обычно они сами держат монолог и никого при этом не желают слушать.
Я поделился с послушником своими сомнениями.
– Ты, брат, исповедуешься не человеку, но через него – Богу. Исповедником может стать любой, кто своей верой заслужил это право. А сейчас извини, мне пора на кухню, помогать…
Чуть позже на веранде, куда, словно привидение, неслышно проникал сумрак, напоенный страстью лета, ко мне подошел стройный монах лет тридцати пяти. Был час, когда на греческих пляжах отходит в небытие очередной растраченный день, замирают волны, а прилив тихонько подползает к ногам утомленных купальщиков. Этот монах, родом из Герцеговины, некогда был чемпионом в боевых искусствах. Теперь вместо черного пояса его талия перехвачена широким солдатским ремнем, которые, словно Божии ратники, носят все хиландарские монахи. Его босые ступни, пальцы которых напоминают каменные пальцы статуи Аполлона в Дельфах, обуты в апостольские сандалии из грубой кожи. (Когда некий любознательный посетитель Хиландара спросил монастырского сапожника, не сделает ли он ему настоящие апостольские сандалии, тот ответил, что не сможет – настоящие апостольские сандалии носили только апостолы!) Его длинные темные каштановые волосы заплетены в косичку, аскетическое костлявое лицо обветрело на полевых работах. Он вернулся в Хиландар после того, как некоторое время провел на герцеговинском театре военных действий, обходя окопы, читая молитвы над погибшими, причащая умирающих.
Мы разговариваем вполголоса, но до нас, кажется, все равно доносится поскрипывание гальки на далеких пляжах под босыми женскими ногами, от которых он навсегда отрекся…
– Когда меня обуревают грешные мысли, – рассказывает он, – а ведь я, брат, живой человек, из крови и мяса, то начинаю творить молитву Иисусу Христу Потому что, как говорит святой Иоанн Лествичник, непрестанное поминание и мысли об Иисусе должны слиться с твоим дыханием. Без святых слов, брат, битье поклонов превращается в пустое гимнастическое упражнение!
Святогорские монахи, пустынники и постники, как и за много веков до этого, и сегодня придерживаются правила Иисусовой молитвы следующим образом: монах тридцать три раза «свершает» четки, на которых нанизано сто камешков; следовательно, возносит молитву три тысячи триста раз. Число камешков на четках, как и число оборотов самих четок для произнесения Иисусовой молитвы, каждому в отдельности определяет духовник. С четками в сто камешков монашеское правило совершается следующим образом: первые двадцать пять раз земные поклоны кладутся при каждом вознесении Иисусовой молитвы; следующие двадцать пять раз совершается «малая метания» (глубокий поклон с касанием земли пальцами) при каждом произнесении молитвы. Третьи двадцать пять раз Иисусова молитва произносится вслух, но без положения на себя креста. Последние двадцать пять камешков молитва творится в уме, то есть проговаривается про себя, и при этом также не крестятся. Далее все повторяется по новому кругу, и так тридцать три раза.
«Эти святые слова наполняют пространство и время… – пишет некий теолог. – Они не только образуют молитвенную ауру, но и преодолевают страх существования. В такую молитву погружается весь человек, потому как только она обладает зримым и незримым смыслом, магнетическим и мистическим свойством. Потому что когда вытесняется Слово, начинается неизвестность; если его забывают – начинается насилие. Если Слово не обладает божественным воздействием, то порождает не любовь, но болезнь. А когда оно наконец пропадает, плодов ума не остается, ибо Слово тогда заменяет смерть. «Как смерть души есть настоящая, или главная, смерть, так и ее жизнь есть настоящая жизнь (святой Григорий Палама)». Спасение от неизведанного, конечного, эгоистичного, спасение от смерти и от легкомысленного любопытства, от всеосвобождающей свободы Князя тьмы, от допустимого, возможного и дозволенного – только в Слове. Потому оно есть точка нашего равновесия, потому что с ним мы являемся (первый плач), существуем (разгадка тайны жизни) и уходим (становимся Словом). По этой причине аура молитвенного языка оберегает нас в тайнах времен».
Интересно, что совсем на другом краю планеты, в Нью-Йорке, Джером Дэвид Сэлинджер, американский писатель, который в шестидесятые годы своими книгами так заметно воздействовал на формирование моего поколения, в романе «Френни и Зои» описал, что происходит с его молодой героиней. Френни, двадцатилетняя жительница Нью-Йорка, обнаруживает книжку незнакомого русского автора XIX века под названием «Путь паломника». Это рассказ о тридцатилетием крестьянине, который ищет ответ на вопрос, почему надо молиться непрерывно, как того требует Святое Писание. Он отправляется к Старцу, который научает его Иисусовой молитве по старообрядческой книге «Филокалия». Френни, еврейка по национальности, объясняет своему приятелю Лейну Иисусову молитву:
«Во всяком случае, Старец рассказал паломнику, что если слова этой молитвы непрерывно произносить и повторять – сначала разрешается только шевелить губами, – то далее молитва будет развивать сама по себе. Пройдет совсем немного времени, и что-то случится. Не знаю, что именно, но что-то произойдет, и слова сольются с ударами сердца того, кто их произносит, и тогда он в действительности будет молиться непрерывно. А это имеет огромное мистическое влияние на весь образ человеческого мышления. Это делается для того, чтобы добиться очищения всеобщего образа мышления и достичь совершенного нового понимания всего. Но суть в том, лучшее во всем том то, что, начиная молиться, ты вовсе не обязан верить в то, что делаешь. Я хочу сказать, что если ты и молишься, то не обязан верить в то, что делаешь. Я хочу сказать, что если даже тебя это страшно волнует, то все равно все в порядке. То есть ты никого и ничем не оскорбляешь. Другими словами, никто от тебя не требует, чтобы ты во что-то верил, когда в первый раз начинаешь молиться. Старец говорит, не надо даже и думать о том, что говоришь. Вначале важно только количество. Потом, позже, оно само по себе перейдет в качество. С помощью своей собственной силы или чего-то такого. Он говорит, что каждое упоминание имени Божьего – любого имени – обладает особой, свойственной только ему силой, которая начинает действовать, когда человек начинает произносить это имя… В сущности, в этом есть абсолютный смысл, потому что последователи буддийской секты Нембуцу постоянно повторяют слова «Nama amida bucu» – что означает «Слава Богу», и происходит та же самая штука… Абсолютно такая же…»
Той же ночью я молюсь вместе с молодым монахом… Вдруг он становится совершенно иным человеком. Его атлетическое тело гибко и без всякого видимого усилия падает ниц на каменные плиты церкви, но, встав на ноги, он словно превращается в столпника с фрески, который днями, месяцами и годами стоял на капителях колонн или на одиноких скалах, непрерывно творя молитву. Говорят, столпники сохраняли такую неподвижность, что на их темени птицы вили гнезда.
Некоторое время я пытаюсь подражать ему, но ничего не получается, потому что, похоже, его поза зависит не только от положения, занятого телом, но от чего-то непостижимого, что никогда мне не откроется. Он стоит. Существует. И только едва заметно шевелятся пальцы его правой руки, отсчитывающие на четках молитвы.
1. Господи Иисусе Христе, Боже мой, помилуй мя, грешнаго. 2. Господи Иисусе Христе, Боже мой, помилуй мя, грешнаго. 3. Господи Иисусе Христе, Боже мой, помилуй мя, грешнаго. 4. Господи Иисусе Христе, Боже мой, помилуй мя, грешнаго. 5. Господи Иисусе Христе, Боже мой, помилуй мя, грешнаго. 6. Господи Иисусе Христе, Боже мой, помилуй мя, грешнаго. 7. Господи Иисусе Христе, Боже мой, помилуй мя, грешнаго. 8. Господи Иисусе Христе, Боже мой, помилуй мя, грешнаго. 9. Господи Иисусе Христе, Боже мой, помилуй мя, грешнаго. 10. Господи Иисусе Христе, Боже мой, помилуй мя, грешнаго. 11. Господи Иисусе Христе, Боже мой, помилуй мя, грешнаго. 12. Господи Иисусе Христе, Боже мой, помилуй мя, грешнаго. 13. Господи Иисусе Христе, Боже мой, помилуй мя, грешнаго. 14. Господи Иисусе Христе, Боже мой, помилуй мя, грешнаго. 15. Господи Иисусе Христе, Боже мой, помилуй мя, грешнаго. 16. Господи Иисусе Христе, Боже мой, помилуй мя, грешнаго. 17. Господи Иисусе Христе, Боже мой, помилуй мя, грешнаго. 18. Господи Иисусе Христе, Боже мой, помилуй мя, грешнаго. 19. Господи Иисусе Христе, Боже мой, помилуй мя, грешнаго. 20. Господи Иисусе Христе, Боже мой, помилуй мя, грешнаго. 21. Господи Иисусе Христе, Боже мой, помилуй мя, грешнаго. 22. Господи Иисусе Христе, Боже мой, помилуй мя, грешнаго. 23. Господи Иисусе Христе, Боже мой, помилуй мя, грешнаго. 24. Господи Иисусе Христе, Боже мой, помилуй мя, грешнаго. 25. Господи Иисусе Христе, Боже мой, помилуй мя, грешнаго. 26. Господи Иисусе Христе, Боже мой, помилуй мя, грешнаго. 27. Господи Иисусе Христе, Боже мой, помилуй мя, грешнаго. 28. Господи Иисусе Христе, Боже мой, помилуй мя, грешнаго. 29. Господи Иисусе Христе, Боже мой, помилуй мя, грешнаго. 30. Господи Иисусе Христе, Боже мой, помилуй мя, грешнаго. 31. Господи Иисусе Христе, Боже мой, помилуй мя, грешнаго. 32. Господи Иисусе Христе, Боже мой, помилуй мя, грешнаго. 33. Господи Иисусе Христе, Боже мой, помилуй мя, грешнаго.
А может быть, и писать бы стоило так, как монахи молятся: каждый день или каждую ночь не более тридцати трех строчек – тридцать три черных камешка четок? Что есть, по сути, писательство, если не молитва о ниспослании любви? О привнесении порядка в окружающий нас хаос? Писать так, как монахи исповедуются духовному отцу, без остатка, не скрывая ни единой темной тайны, чувства или дурной мысли. И в конце концов писать ради одной-единственной цели – истины, которая, возможно, приносит спасение, не задумываясь о том, будет ли это хоть когда-нибудь напечатано, без тоски по издателю, кем бы он ни был, без расчета на успех или провал; наконец, не подписывая рукописи, как величайшие иконописцы не подписывали свои шедевры.
Оставив за собой тысячи печатных страниц, здесь, в Хиландаре, с губ моих срываются первые слова состарившегося безграмотного неуча.
138. 1. Господи! Ты испытал меня и знаешь. 2. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю; Ты разумеешь помышления мои издали. 3. Иду ли я, отдыхаю ли ― Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. 4. Еще нет слова на языке моем, ― Ты, Господи, уже знаешь его совершенно.
Константин Коста Петрович в последние годы жил в маленьком домике в мусульманском квартале, на самом верху Алифаковаца, с матерью Элоизой, ежом, хомяком и черепахой, с которыми делил скудную пищу, получаемую в качестве международной гуманитарной помощи. Он был переводчиком на пенсии. Перевел на сербский «Доктора Фаустуса» и поддерживал переписку с Томасом Манном. В одном из писем Томас Манн объяснил ему выражения, связанные с двенадцатитоновой системой Арнольда Шёнберга (додекафонией), пользуясь которой он сотворил в романе образ Андриана Леверкюна. Он также хранил пожелтевшую открытку с видом Венеции (Ponte Rialto), на оборотной стороне которой Манн благодарил его за перевод «Доктора Фаустуса», начиная словами «Уважаемый господин…».
Константин Петрович был из тех людей, которые не бросаются в глаза, но если бы вы присмотрелись к нему, то убедились бы, что он носит костюмы из великолепнейшего шотландского твида, правда, в значительной мере поношенного. Он ходил несколько сутулясь, с поникшими плечами, словно вечно искал на сараевском асфальте что-то давно и безвозвратно потерянное, а взлохмаченные седые волосы делали его похожим на внезапно состарившегося мальчишку.
Поскольку его мать умерла, друзья оставили, а женщины бросили, он перестал спускаться в город, занятый кормлением и ухаживанием за домашними любимцами. Он умер в одиночестве, во время последней войны, наверное, от голода, и труп его обнаружили только шесть дней спустя, когда он уже начал разлагаться. Письма и открытка от Томаса Манна исчезли без следа.
И так вот созреваем мы в этом тесном городе, словно личинки в некоем зеленом коконе, из которого в один прекрасный день, когда он лопнет и раскроется, вылетят в мир, воспарив над непреодолимыми высокими горами, только самые счастливые и самые несчастные. В эти дни нам кажется, что нет в мире города скучнее Сараево! Амфитеатрально окруженный с трех сторон горами, а с юга – просторным Сараевским полем, расположившийся будто в зеленой подкове, этот город навевает тоску на своих чувствительных граждан, которым кажется, будто живут они на дне огромного котла, под покрышкой густого тумана, давящего на души. Молочно-серая дымка, которая часто даже в летние дни укутывает сараевские улицы, парки и мелкую речку, придает всему поэтический вид – обветшалым зданиям и скукоженной траве в парках и скверах, сваленным в кучу отбросам; укутывая, словно пеньюаром, всякое дерьмо, она стирает острые углы, превращая обыденную прогулку по Набережной в несбыточную мечту За краями котла, на самом дне которого мы находимся и который один мудрец назвал караказаном, бурлит и кипит совсем иная жизнь, куда более богатая и интересная, чем та, к которой мы, как нам кажется, приговорены пожизненно.
В ту дотелевизионную эпоху, когда еще не началась революция молодых, два десятилетия спустя превратившаяся в настоящий террор молодости, мир был скроен по меркам взрослых людей: они диктовали стиль жизни, начиная с моды и кончая местами для свиданий и танцев. От своих отцов мы унаследовали пиджаки и книги, и единственными окнами, которые смотрели не только в вечные непрозрачные стены окрестных гор, были экраны кинотеатров, и было их несколько, носивших до войны громкие имена типа «Аполло» и «Империал», названные позднее «Партизан» и «Романия». Мы выходили из их бедных залов очарованными, не веря в то, что где-то на самом деле существуют города и люди, на которых мы таращились два часа. Немногие люди искусства с растрепанными и чуть более длинными волосами, нежели у прочих сограждан, казались нам призрачными мифическими существами. Они занимались совершенно недоступными нашему пониманию делами. Они с отрешенным и слегка рассеянным видом проходили по улицам, а мы с восхищением следовали за ними на пристойном расстоянии. Много лет спустя мы узнали, что это всего лишь провинциальные мазилы, малочисленные писатели, никому не известные за пределами родного города, или музыканты, влекомые по жизни желудком, требующим жратвы, случайно застрявшие в Сараево. Время от времени нам попадались и знаменитые столичные фигуры, поэты и артисты, заскочившие в Сараево, чтобы снять пенки со своей славы, но в общем и целом в городе царила бескрайняя скука. Один выставочный павильон, в котором сменяли друг друга местные художники, в основном пейзажисты, работающие в постсезанновом стиле; один театр все с теми же актерами и певцами бельканто, прибывшими из таких же провинциальных городов; несколько прилавков с книгами, в которых канцелярские товары лежали вперемежку со скучными классиками; еще дохлые мухи на предметах палеолита в мутных витринах Краеведческого музея – и все. В этой тоскливой жизни со скрипом вращался, как старая карусель на Zirkusplatz, вечный круг вечерних прогулок по Главной улице с девушками, которые красились и причесывались под Лану Турнер или Аву Гарднер, и молодыми людьми, которым повезло уродиться похожими на Монтгомери Клифта, а чуть позже – на Марлона Брандо. На них с восхищением и завистью глазела с половины седьмого до половины девятого бедно одетая молодежь, одинокие вуайеристы, гимназисты, студенты, приехавшие из еще более глухой провинции, местные хулиганы со свитами подхалимов – их объединяла на дне караказана невыразимая тоска, в которой они все вместе корчились.
Те, кто был влюблен, наслаждались два часа, прогуливаясь по Главной улице, держа за потные ладошки избранниц, а настоящие счастливцы уводили девушек из центра на ближайшие холмы, где любили друг друга под белыми каменными плитами на травянистых постелях… «Не знаю, игра ли это чувств или непостижимая логика ощущений, – писал Иво Андрич про эти маленькие турецкие некрополи. – Мне всегда казалось, что фруктовые сады всегда поднимаются вверх по склонам, а кладбища – спускаются с них».
Я говорю о невинных временах в Сараево, когда мы не чувствовали и не подозревали о существовании страшной власти, которая нас тогда совсем не интересовала, но которая железной рукой направляла наши маленькие сиротские жизни.
Сентиментальное воспитание в молодые годы, когда мы бежали от отечественной духовной усредненности, определялось великими образцами западного искусства. В старом деревянном сарае бега Сабурии над Ковачами, стены которого насквозь продували резкие сараевские ветры, занося в нанятую мастерскую даже зимний снег, жил неизвестно как попавший в Сараево художник. Его звали Франьо Ликар, и он открывал нам тайны современной итальянской живописи. Там мы впервые увидели выцветшие репродукции метафизических пейзажей Де Кирико, Карло Каро, Сирони и Моранди… Тогда мы не знали, что отстали от Европы почти на тридцать лет. У Ликара был один из первых электропроигрывателей в Сараево, на котором мы ночами крутили пластинки и слушали ледяные сюиты Баха и ранние безумные записи Стена Кентона. С деревянной террасы с уцелевшими кольями, на которые некогда бег Сабурия насаживал головы непослушной райи, Сараево было видно как на ладони. В городах, далеко отстоящих от моря или от больших рек и озер, я ощущаю острые приступы клаустрофобии, не могу вдыхать воздух полными легкими. Тем не менее река Миляцка, какой бы мелкой она ни была, виделась из дома Сабурии сверкающей светлой лентой, пересеченной мостами; она спасает город от безутешной изоляции от моря. Казалось, что речка дает лучик надежды, что ее течение, само того не желая, выведет нас из сырой котловины и уведет за собой к месту слияния с большой водой.
В соитии двух несоединимых звуков – холодной акустики органа, на котором исполняются токкаты и фуги Баха, и стонов и скрипов ветхого сарая Сабурии – скрывалась сущность раннего образования, раз и навсегда определившего нашу жизнь.
Короче говоря, небольшая группа молодых людей, страдающих по смутным очертаниям Запада, не могла в тот момент даже и предположить, что тот же самый Запад отвергнет их болезненную любовь и много лет спустя укажет им их место, где они обязаны сидеть и помалкивать и откуда нет никакой возможности бежать. Когда мы с восторгом, словно какие-то божества, встречали, дрожа с самого рассвета, на железнодорожном вокзале образцы высокого подражания из сказочной Франции – Жана-Поля Сартра и Симону де Бовуар, Ива Монтана и Симону Синьоре, Жерара Филипа, который в Сараево с Французским национальным театром играл «Сида» Корнеля в постановке Жана Вилара, когда мы Артуру Адамову, одному из отцов авангардистского театра, или миму Марселю Марсо показывали горы над Сараево, никто из нас и помыслить не мог, что французские «миражи» днями напролет будут бомбить те самые мирные местечки и умерщвлять их жителей, разрушать мосты и бедные сиротские дома, уничтожать скотину и загаживать землю, которая кормит трудолюбивый народ. Наблюдая метафизическое зрелище – сбитый над Пале «мираж», обгоревшие обломки убийственного французского самолета, – я словно оказался на развалинах своей старой любви: как будто преступление против сербов совершил некто другой, как сам Антуан де Сент-Экзюпери на своем военном самолете, уничтожив при этом в нас, кроме многих прочих людей, и Маленького принца. «S’il vous plait… dessine-moi un mouton!» – disait Le Petit prince. («Пожалуйста… нарисуйте мне овцу», – попросил Маленький принц.)
Но всех овец разбомбили.
И пока отечественные писатели в основном описывали распад и пропасть сельских родов или воспевали семь вражеских наступлений в мировую войну, мы спасались чтением Скотта Фитцджеральда, Фолкнера и Хемингуэя, слушали до бессознательности джаз и пытались понять забрызганные полотна Джексона Поллока, по свежей краске которых придурковато раскатывал велосипед или джип, наслаждаясь одновременно музыкой Джона Кейджа, о котором мы не знали ровным счетом ничего. В провинциальных залах нескольких сараевских кинотеатров мы воспитывались на ковбойских сказках о том, что хорошие в конце концов побеждают плохих, даже не предполагая, что в один прекрасный день сами окажемся в роли индейцев – загнанных подыхать не в Скалистые, а в наши собственные горы. Не позволив нам летать во время знаменитой операции «Запрещенное небо» и ежедневно совершая на нас налеты, американские самолеты типа F-16, которыми, как нам казалось, командовал лично Джон Уэйн, разрушили все, во что сумели попасть, но прежде всего убийственно точно – разбомбили нашу американскую мечту. Все начиналось достаточно наивно – появление гуманитарных организаций, оделявших воюющие народы пищей и лекарствами, срок годности которых давно истек; потом их становилось все больше, сначала дипломатов, потом европейских наблюдателей, потом небольшие отряды для их защиты от нас – дикарей, и в конце концов Сараево и всю Боснию придавила армия в шестьдесят тысяч до зубов вооруженных солдат с мощной поддержкой с воздуха и с сильным флотом на Адриатике. И все они были против нас. А когда мы пожаловались на них, мир, который мы некогда обожали, объявил нас параноиками. Так мы остались без города, без земли и, что хуже всего, без идеалов нашего сентиментального воспитания.
В темном зале кинотеатра «Романия», который еще хранил плюшевый шик довоенного «Империала», тишину неожиданно оборвал истошный крик Бель Ами – первый ряд партера, левая сторона:
– Есть здесь доктор? – крикнул он. Со своего места в ложе номер шесть поднялся самый уважаемый городской врач.
– Я доктор! – отозвался он не без некоторого самодовольства.
Кресла заскрипели, когда все зрители повернулись в его сторону.
– Ну и как вам фильм, доктор? – небрежно бросил Бель Ами поверх голов. Залом овладел истерический хохот.
Так иногда Сараево просыпается в Бель Ами. Оно время от времени охватывает его, а он и не замечает этого. И тогда он ударяет улыбкой. Здоровается как бы случайно апперкотом, вслепую ударяя протянутой ладонью прямо в солнечное сплетение. После чего скрывается за стеной толпы, неуязвимый, неуловимый, невидимый. Следя за его кошачьей прогулкой по главной сараевской улице, я обнаруживаю в ловких и осторожных шагах следы давно забытой битвы, которую безымянная махала десятилетиями вела с австрийским чиновничеством. Она каждое утро спускается на Главную улицу, их глаза настороженно выглядывают тысячи невидимых ловушек. Они спускаются во враждебный лагерь сецессиона и бетона, к скульптурным памятникам колониальной глупости и английским ватерклозетам, банкам и фонтанам, прямо в черно-желтый чиновничий зверинец, с единственным оружием – внезапностью и дерзостью – чтобы к акшаму вернуться в узкие переулки нагорной части, где взвинченные нервы отпускают, туфли слетают с ног еще на пороге, а отец, укутанный дымом дешевой «Дравы», так похож на божество.
Неизвестный снайпер убил достигшего среднего возраста Бель Ами на Набережной, когда тот возвращался из театра, заработав десять дойчмарок на перепродаже билетов премьерного спектакля Беккета «В ожидании Годо», который, в знак поддержки мусульманских властей, режиссировала известная нью-йоркская спасительница, мисс Сьюзан Зоннтаг.
«Господи, помилуй грешного раба Твоего Бель Ами!»
В начале шестидесятых годов Сараево стали покидать люди искусства, чему никто не придавал особого значения. Первыми ушли художники, за ними последовали поэты. Окружение объясняло исход болезненной жаждой успеха – город, говорили, стал тесен для них, для их неумеренных амбиций. Никому в голову не пришло, что в душах поэтов и художников есть тончайшие струны, которые прежде других начинают трепетать в ответ на малейшее ощущение тоски или ограничение свободы. Чтобы хоть как-то выжить, многие из оставшихся стали искать утешение в алкоголе. По неписаным правилам, голубей и пьяниц в этом городе берегут. Грех убивать их. Прочие же согласились творить лояльное искусство и служить властям, за что их богато вознаградили. Те, кто отказался добровольно покинуть город после того, как им нанесли то или иное оскорбление, были выдавлены из него позже, когда Сараево недвусмысленно объявило, что они здесь более нежелательны. Одного из самых упрямых поэтов полиция схватила среди бела дня прямо посреди Главной улицы как лицо БОМЖиЗ, после чего избила прямо в полицейском участке, якобы перепутав с неким уголовником; после этого и он упаковал вещи и отбыл. Талантливые и трудолюбивые люди искусства начали добиваться успехов в столице, но в Сараево это как бы не замечали и ни слова не сообщали об этом в городских средствах массовой информации.
В те годы, словно грибы после дождя, стали появляться все новые мечети (и ни одной православной церкви), открыли множество ашчиниц – национальных закусочных исключительно с восточными блюдами, которые неожиданно удачно стали сочетаться с кока-колой. Курбан – жертвенный баран, которого мусульмане режут в Курбан-байрам, стал фирменным знаком всех официальных и частных празднеств: им город встречал иностранных гостей, он стал преобладать даже в ресторанах исключительно европейского типа. Исламский дух одолевал не только души, но и тела жителей города.
В то время редко кто замечал, что искусство тоже начало исламизироваться. Сараевскую живопись заполонили белые надгробные вертикальные плиты, лики имамов, дервишей, восточные скакуны и квазиарабская каллиграфия с легким привкусом псевдомавританского стиля, в котором построена и Ратуша – вечный символ города, красующийся на всех открытках. Это австро-венгерское строение должно было стать главным образцом градостроительного стиля, навязанного Боснии, архитектурный монстр, создатель которого, по местной легенде, покончил жизнь самоубийством, не удовлетворившись, как говорят, светом, который должен был изнутри заливать его творение, проникая сквозь стеклянную сецессионную крышу Похоже, капризное, чаще всего облачное сараевское небо отказалось служить светильником для помпезной австро-венгерской Альгамбры с множеством столбов, столбиков, бифориев и трифориев, мозаик и витражей в стиле ар деко. После Второй мировой войны в здании расположилась центральная библиотека. Во время последней войны сербов обвинили в артиллерийском обстреле Ратуши, в результате которого она полностью выгорела изнутри, однако на фасаде нет и следа снарядных разрывов. Ее просто подожгли изнутри, предварительно эвакуировав мебель и книги, кроме отделений славистики и сербского газетно-журнального зала, которые исчезли в пламени. В этом акустическом пожарище, за год до окончания войны, состоялся концерт того, что осталось от Сараевской филармонии; оркестром дирижировал Зубин Мета перед малочисленной избранной публикой из числа религиозных государственных деятелей и армейских командиров – начальников со свитами, которые терпеливо выслушали Моцарта и Бетховена после третьей, послеполуденной молитвы в Беговой мечети. Это была еще одна безуспешная попытка представить Сараево в качестве новой Герники.
После живописи в литературу также постепенно просочился особый, так называемый «боснийский» стиль. Появилось множество стихотворений, рассказов, романов и драм из турецких времен; вновь ожил стиль древних арабских поэтов; появились романизированные биографии легендарных аг и бегов, пашей и ходжей, дервишей и фанатиков…
Гром прославленного сараевского рока, который пользовался единодушной поддержкой высших государственных властей, заглушил нежные европейские нотки. Потакая самым примитивным чувствам, эта музыка, комбинация американской попсы и боснийского фольклора, убийственным бандитским ритмом синкопированной любовной тоски, размноженная на миллионах пластинок и кассет, стала фирменным знаком искусства этого города.
После поэтов и художников город все в большем количестве стали покидать прозаики, архитекторы, которым надоело строить бетонные мансарды и эркеры, университетские профессора и врачи и в конце концов даже философы, потерявшие свой знаменитый философский мир.
Сотнями, без лишних разговоров, покидали они город: сербы отправились в Белград, хорваты – в Загреб, евреи – в Израиль, а многие просто разбрелись по белу свету, не чая, что стали провозвестниками предстоящего вскоре великого переселения. Собственно, на них, словно на подопытных кроликах, сараевские власти по-левантийски лукаво опробовали методы окончательной зачистки города от неверных, и в этом им дружно помогали сербы во власти, точно так же, как элиту османского войска составляли янычары – бывшие православные, принявшие турецкую веру. О том, кем они были и откуда пошли, свидетельствует в хрониках XIX века фра Грга Матич, многие годы бывший сараевским епископом:
«А эти ходжаки, те янычары, были отрядом, собранным по замыслу одного большого турецкого советника из плененных малых деток мужеского пола всякой веры и всяких народов, так что они, позабывши и отца и матерь, ни о чем другом и мыслить не хотели, кроме как о ратном своем деле и султановых повелениях. И вскормлены они под плетью одного великого дервиша, что звался Хаджи Бекташ. Те люди обет давали не жениться и в тот миг, что султан прикажет, отправиться войском и воевать за веру. По турецкому, глаголют, мнению, весь мир на две партии делится: дарул-харб и дарул-джихат; одни поборники веры Мухамедовой, а иные – которых бить следует, то есть все народы, что не верят в святого Мухамеда. Главный командир янычар звался керкебин колага, и был он агой над сорока тысячами. Ко всем этим солдатам были также иные приписаны, кто куда по всему царству, в Европе и в Азии, меньшими кумпаниями, ровно как филиалами главного цариградского ходжака. Так и в Боснии была записана сотня или тысяча босняков, которые с теми янычарами на войну ходили».
И новая сараевская власть с конца Второй мировой войны холила и воспитывала своих янычар, святым долгом которых было смотреть, чтобы сербы никогда не узнали и не поняли, кто они такие и кем были когда-то, и чтобы не пробудились они от многолетнего сна. Они вышли из отечественной войны (которую задним числом назвали революцией) молодыми победителями, почти мальчишками, в большинстве своем уроженцы деревень и городишек, и стали непререкаемыми хозяевами жизни и смерти, хотя в массе своей еще не доросли до ответственности власти. Их учителя и идеологи – недоучившиеся довоенные студенты, малочисленные салонные левые и профессиональные агенты Коминтерна – помогли им на скорую руку закончить вечерние школы, ускоренные гимназические курсы и сдать насмерть перепуганным профессорам университетские экзамены; многие из них даже защитили докторские диссертации в области общественных наук, на темы собственной идеологии и новейшей истории, в которых они были куда как сильнее своих менторов. Тем же, кто, несмотря на все послабления и привилегии, не смог одолеть вуз, участие в войне на основании закона было засчитано как высшее образование. Тем самым был создан тип нового человека, идеологического янычара – что-то вроде недоученного бастарда, ни тебе безграмотный крестьянин, ни образованный гражданин, у которого стерта историческая память, а вера в как бы бесклассовое общество полностью заменила христианскую религию предков. Гибкие и голодные, с костлявыми лицами и горящими глазами, новые янычары очень быстро обмякли и отяжелели, разнежившись в удобствах и привилегированном положении идеологической обслуги. Обычная одежда, по которой их легко можно было распознать, кроилась и хранилась в одних и тех же швейных мастерских и дипломатических складах: серый костюм вроде доспехов, плащи чуть светлее полицейских, значки и орденские планки на лацканах, белые рубашки, тугие воротники которых, как и красные галстуки, стягивали набрякшие шеи. Редко они появлялись в городе по одиночке; вечно окруженные телохранителями, шоферами, свитой секретарей и прихлебателей, государственных поэтов и придворных шутов, в своем облике они сливали воедино надменность бегов и коммунистическое притворство пополам с «верностью идеалам».
Если они пили, то делали это тайком, в виллах и клубах закрытого типа, а если кто-то из них вдруг желал заполучить чужую жену, то под тем или иным вымышленным обвинением арестовывал мужа и обещал вызволить его из тюрьмы только в ответ на согласие… Как и прежние, новые янычары стыдились своего происхождения, с большим удовольствием подчеркивая бедность предков, нежели их принадлежность к православию. Самыми лютыми врагами считали родных братьев, не отрекшихся от родни и принадлежности к своему народу. Боснийские темницы годами заполняли те, кто на свадьбах и в сельских корчмах осмеливался запеть старую гайдуцкую песню о славе и храбрости своего рода. На каторгу отправлялись за рассказанный анекдот, неосторожное заявление или обладание не понравившимися властям книгами; короче, за все то, что сараевский режим называл сербством. Священники отбывали срок за воскресные проповеди, учителя – за лекции или учебники, писатели – за рукописи. Над подземными казематами строился внешне счастливый город – лучший мир из всех возможных, который от всеобщей лжи, незаметно для правителей, пожирал сам себя до тех пор, пока не рухнул его блистательный фасад, воздвигнутый на гнилом фундаменте. Со смертью диктатора, которому они униженно и преданно служили, с падением коммунистической империи и старыми стычками между верами и народами, которые слишком долго тлели и наконец в один прекрасный день рванули так, что сделали смешной идею братства и единства, новые янычары трагически пережили дело своих рук, которое испустило дух на их же глазах. Оставшись до конца верными в презрении ко всему тому, чему принадлежали по праву рождения, они поступили в услужение новым исламским господарям, провозгласив вчерашних соседей, родственников, сонародников и братьев по происхождению и вере агрессорами, напавшими на город, который все они обязаны были покинуть и уйти в горы или в другие города. Таким вот образом коренные жители Сараево предстали в глазах ничего не понимающего и не знающего мира агрессорами, уничтожающими собственный город, точно так же, как фалангисты Франко в Гражданскую войну объявили земляков, тоже испанцев, захватчиками Мадрида, хотя все они родились в этом городе. Наконец-то многолетнее стирание исторической памяти принесло плоды: оказалось, что просвещенный мир вообще не знал, что в Сараево все это время вообще жили сербы! Новые янычары добротно и фундаментально сделали свое дело: за последние полвека мир привык узнавать город исключительно по фотографиям мечетей и крытых рынков, а с сербами они связывают только и всего лишь судьбоносный выстрел в австрийского эрцгерцога.
Когда Сараево некоторое время спустя станет первым исламским городом-государством в Европе, новые аятоллы избавятся от верных янычар, как избавился от них в 1829 году султан Махмуд II, отменив янычарский ходжак, когда их правоверность стала мешать реформам.
Потому особенно полезно описать их нравы и привычки: они обожали присутствовать на поэтических и музыкальных представлениях – рецитациях, которые прославляли их вымышленные подвиги, годовщины сражений (проигранных ими), важные даты и юбилеи вождей. Тучные и отяжелевшие, они сидели в первых рядах хорошо охраняемого театрального зала, в то время как на цене сменяли друг друга славные актеры, музыканты, оркестры, хоры и юмористы, богато вознагражденные за участие в программе.
Больше всего они любили охоту, драгоценное оружие и породистых охотничьих собак, а из украшений – тяжелые золотые перстни с черными камнями, на которых также золотом были выгравированы монограммы. Генетически привыкшие голодать, они умирали от последствий переедания и сердечных болезней, после чего объявлялся национальный траур, а в официальных некрологах писали, что они «сгорели» в труде, но их дело будет жить вечно.
И оно жило.
«Смотрю телевизор и прекрасно вижу: в родной город, который мне и наяву снится, приезжают авантюристы и прохвосты, хироманты, приезжают мошенники, закройщики нового платья короля, писатели-обжоры, дилетанты, циркачи, лжецы, клятвопреступники, похитители чужих страданий, заики-ораторы, певцы без слуха и проштрафившиеся учителя, профессора, отставленные от кафедр, продавцы тумана и прошлогоднего снега… И каждый из них заслуживает сообщения в прайм-тайм, залы, в которых они выступают, забиты до последнего стула. Правда, телевидение не дает звука, а показывает только картинку, и они открывают и закрывают рты, как рыбы на берегу, но среди публики – о, страшный сон! – я замечаю бывших друзей и соседей, первых любимых без любви, родственников и учителей: вижу, как с восторгом слушают они иллюзионистов, как похлопывают их по плечу и наивно вручают им ключи от города, награды, грамоты и венки, дипломы и медали, и я вижу, прекрасно вижу, что они и думать обо мне забыли, восхищаясь жуликами (чувствую, что они даже забыли, как я выгляжу), а ведь из всех городов мира я не могу вернуться только в родной город, независимо от того, что только я его и знаю и бережно сохраняю для него слова любви и только я знаю секретный волшебный пароль, который, произнесенный вслух, обращает лжепророков в прах и пепел. Но разве это хоть чего-то стоит, если я уже так долго нахожусь в добровольном изгнании, которое никто даже не замечает!». (1973)
Окруженный с трех сторон скалами, переходящими в высокие горы, город-амфитеатр с четвертой стороны открывается широким Сараевским полем, по которому течет река Босна. По австро-венгерским кадастровым книгам, которые считаются в Европе самыми достоверными, земля на горах и за ними, а также плодородное Сараевское поле испокон веков принадлежали сербам. Известно, что они владели примерно четырьмя пятыми этой земли, что совсем не удивительно, особенно если принять во внимание, что турки жили исключительно в старом городском центре Сараево, а сербы занимались земледелием и скотоводством.
Горы давали городу чистую родниковую воду, дерево, мясо и рабочую силу, а Сараевское поле – фрукты, овощи, дороги, ведущие в мир, и ветры, которые разгоняли нездоровый туман котловины.
После Второй мировой войны государство приняло закон, в соответствии с которым насильно, по смешным ценам выкупило у владельцев землю и построило на ней огромные жилые районы и множество фабрик, куда стекались люди из всех краев Боснии, в основном сельских, в поисках счастливой городской жизни. Стена высоких панельных строений поглотила плодородное Сараевское поле, перекрыла путь ветрам, и ядовитый смог начал душить население котлована. Город, возведенный по человеческим меркам, максимально для сотни тысяч жителей (перед последней войной в нем жило шестьсот тысяч), ненасытно пожирал людей, пространство и энергию, пока не начал задыхаться сам.
Новые жители, прибывшие за последние полвека в Сараево из боснийской глухомани, герцеговинской глубинки, из сел, деревень и городишек, в глубине души хранили древнее крестьянское недоверие к городу и его коренным обитателям, слившимся, независимо от веры и народа, к которым принадлежали, в единое, особое сообщество, жилистое, хитрованское и неистребимое, пустили корни в асфальт и – победили. Смешавшись, они жили в новостройках и спальных районах, но когда после нападения на сербских сватов перед старой православной церковью началась война, после недолгих размышлений, во время строительства первых баррикад, каждый выбрал для себя свою сторону и потребовал защиты для своей стаи. Так одни остались в новых кварталах, в то время как другие перебрались в старую часть города, хотя она не была для них родной. После первых расправ над сербами в пригородах Сараево началась настоящая городская война, принявшая все отличительные черты войны гражданской, религиозной и межэтнической, но вместе с тем и войны цивилизаций. Обнажившаяся древняя ненависть только теперь показала настоящее лицо многолетней лжи, в которой жили позавчерашние соседи. Целых четыре года город провел в настоящем аду, даже не осознавая, от чьих пуль он погибает. Мусульмане и хорваты обстреливали сербские районы, а сербы с окрестных гор отвечали снарядами.
Когда я писал эту хронику, жертвы с обеих сторон еще не были подсчитаны, но совершенно точно известно, что в боях вокруг Сараево и за него погибло пять тысяч молодых сербских ратников, а несколько тысяч сербов уничтожено в многочисленных пыточных самого Сараево руками исламских фанатиков, погибло на принудительных работах или в частных тюрьмах, которые содержали командиры бандформирований, состоящих из обычных уголовников.
Когда в 1876 году турецкий глашатай на площади в Подгорице объявил под удары барабана, что турецкое войско победило в битве черногорцев, уничтожив при этом пять сотен противников, кто-то из толпы спросил, велики ли турецкие потери.
«А вот это объявит их глашатай в Цетинье!» – ответил он.
Окончательной гибели этого города предшествовало разрушение языка, на котором здесь говорили. Считалось, что жители Сараево говорят чисто, внятно и мелодично, а туркизмы, которыми они пользовались, придавали говору известный узнаваемый шарм. Как чистая и холодная питьевая вода попадала в трубы города из горных источников, так и пришельцы с гор освежали и чистили язык, на котором здесь говорили, оберегая его от гнилья и прочих застойных явлений. Почти литературный язык коренных жителей, составлявших соль города, жил под вечной угрозой жаргона сараевского дна и особого говора, которым пользовались обитатели окраин, превратившие его в опознавательный пароль, что-то вроде условных фраз, которые произносились глухо, скрытно, с неясной артикуляцией слов и слогов – это был язык, который проглатывал согласные, а мягкое и твердое «ч» слились с «ш» в один звук.
Сараевский профессор Хиггинс, если бы таковой существовал, легко бы мог определить по говору, из какого окраинного района заявляется в город Элиза Дулитл и в каком языковом ручье утоляет она жажду; он смог бы даже определить, в чем она носит воду – в корчаге или медном кувшине.
Менталитет захудалой окраины с годами все вернее осваивал то, что в Сараево называлось городом, то есть пространство от Башчаршии до Мариндвора, и постепенно захватывал власть; искаженный, шипящий и ползучий язык вытеснял городской, и даже самые образованные люди, испугавшись атаки по всем фронтам, восприняли мутный провинциальный жаргон как мимикрию, защитную окраску. Если бы Элиза Дулитл как личность была сильнее профессора Хиггинса, он тоже начал бы говорить на наречии Ист-Энда, а пьеса Шоу «Пигмалион» выглядела бы совсем иначе.
Часто можно было встретить воспитанного и образованного жителя Сараево из хорошей городской семьи, а то и профессора литературы, говором подражающего хулигану из Быстрика или карманнику из Мейташа.
В отличие от парижского, к примеру, арго, насыщенного остроумными оборотами и гаменской фантазией, на котором даже написаны значительные литературные произведения, ленивого кокни лондонских предместий или белградского жаргона, который отличается обезьяньей сообразительностью, упрямством и особым отношением к абсурдной, смешной игре словами, сараевская феня скрывает в себе привкус опасности – она угрожает чужакам, не знакомым с ее тайным смыслом. Это особый язык перемешанных слогов, на котором вопрос: «Здравствуй, что новенького?» звучит как «Вуйздра, ночто кого?», а ответ: «Совсем ничего» – «Нивсем чегсо»! Этот особый говор сопровождается определенной мимикой, которая как бы подчеркивает презрение к остаткам человечества, исключенным из их волшебного круга, а также особой походкой и своеобразным вихлянием всего тела; точнее говоря, это не просто язык определенного городского района, а свое отношение к миру, образу жизни – особый стиль. Интересно, что на этом языке не написано ни одного стихотворения. Это язык не поэзии, а подозрения и презрения.
Всемогущий дух махалы сумел сделать литературный язык непристойным, даже смешным, в чем ему весьма способствовала полувековая диктатура посредственности над элитой. И не случайно, что сараевские власти сначала обрушились на писателей, заставив их под тем или иным поводом покинуть город – они были последними хранителями чистого литературного языка и добрых традиций повествования.
Время от времени я холодею от ужаса. Страшный говорок махалы, от которого скрывался десятилетиями, все чаще слышится на белградских улицах.
Он и здесь достал меня.
«Помолимся Господу, Спасителю рода человеческого, и за врагов наших ― пусть Господь Человеколюбивый отвратит их от насилия над православным народом нашим; и да не рушат они храмы святые и гробы наши, детей не убивают и народ не изгоняют, пусть и они встанут на путь покаяния, истины и спасения. Помолимся же миром: «Господи, помилуй!»
В старом английском романе, названия которого я и припомнить уже не могу, мальчик, которого отец немилосердно порет ремнем, молит про себя Бога, чтобы Тот не дал ему возненавидеть своего мучителя. Вот и сегодня ночью в хиландарской церкви я делаю то же самое, молясь, чтобы ненависть не охватила мою душу и не наполнила бы меня ядом.
Признаюсь, я обвинял махалу в том, что она отняла у меня родной город и язык, но что такое, в сущности, махала – всего лишь турецкое слово, означающее переулок, улицу, городской квартал… И кто суть жители сараевской махалы – слова, которое я до сих пор употреблял лишь как метафору? Обычные нищие люди на незначительной службе. Те, что столетиями едва сводили концы с концами; обитатели хибар, гроздьями висящих над городом, комнатенок с земляными полами, лачуг, конур, курятников. В одноэтажных поселках, низвергающихся на центр города словно остановленные в падении водопады, много скрытой красоты. Увидев их прелесть, знаменитый зодчий Ле Корбюзье открыл основные принципы урбанизма: ни один дом не смеет закрывать другому горизонт (право на вид), ни одно окно не смеет смотреть в чужой двор (право на частную жизнь). Какими бы в мое время не были бедными махалы, их маленькие домики всегда были идеально побелены, а в миниатюрных садах росли самые разные цветы и фруктовые деревья с выбеленными до середины стволами, а на крышах, крытых черепицей, рифленым железом или толем, произрастало странное растение – чуваркуча. Посещая время от времени эти хижины, я ощущал в них дыхание тихого покоя и видел идеально вычищенную бедную посуду: долгошеие кувшины ибрики, медные тазы бакрачи и миски саханы, круглые противни тепсии, сковородки тавы и кофеварки джезвы; полы покрывали скромные, но чистые ковры и паласы, а в иных домах на подоконниках в жестянках произрастали нежные лимонные деревца. Сегодня ночью я опять вижу согбенных отцов семейств – ремесленников и мелких торговцев, как они, приволакивая ноги, глядя только перед собой, поднимаются из чаршии к саду Бабича, на Бистрик, Ковач, Вратник или Ековац (скала, с которой многие бросались на дорогу к Бентбаше), придерживая под мышкой единственную добычу, отнятую сегодня у города – только что выпеченную буханку хлеба или лепешку – усталые, озабоченные, словно их гнетет тяжкий груз сараевского существования. И я вижу их прекрасных дочерей, взволнованных приходом ночи. «Печаль придет, как ночь падет, и махала огни зажжет…» Они ковыляли вниз по мостовой на первых своих высоких каблуках, стремясь к иной, лучшей жизни, которая надолго задержит их внизу, в городе, а возвращались в родные хижины босиком, с туфлями в руках, обманутые и разочарованные. Вижу шумные толпы босоногих замурзанных детишек, лезущих летом в горы за ягодами, а зимой с головокружительной скоростью катящихся по крутым переулкам на лигурах – небольших примитивных санках, подбитых отполированными снегом обручами от кадушек и обтянутых заячьими шкурками. «Ата-ас, береги кудри – слепая кобыла!» – раздавался их воинственный клич, когда санки вылетали на асфальт городской улицы, тормозя у подножия махалы. И годами, десятилетиями и веками смотрели они вот так вниз, на заколдованный сизый город из бетона, кирпича и государственной власти, из которого к ним поднималось только зло. Махалы торчали на корточках, словно огромные стаи белых птиц, разговаривая на особом языке, не похожем на городской. И если я согрешил против него (потому что это тоже Твой язык), то прости меня, Господи – обуяла меня уродливая страсть.
Но кто тогда виноват в том, что нас изгнали из собственного города? Потомки махалы, полусвет – ни крестьяне, ни горожане, или разбогатевшие в одночасье здоровенные громилы и грабители, которые древнее противостояние окраин и центра довели до белого каления, вызвав страшный пожар, в котором сгорело все?
А кто стоит за этим? Самые могущественные люди, которым подчиняется самая мощная сила в мире, вновь созидающие Вавилонскую башню – те, кто оккупировал мою страну своими белыми бронетранспортерами и танками, ее небо – смертоносными летательными аппаратами, а города – наемниками; те, кто на наших костях хочет воздвигнуть новый вавилонский супермаркет и с этой целью натравливает старую добрую махалу на позавчерашних соседей.
«Сизый пал туман на махалу».
«Господи, как много врагов против нас воюют и говорят, что нет нам помощи ни от Бога, ни от людей. Господи, протяни нам длань Свою, чтобы остались мы народом Твоим и по вере, и по делам нашим. А ежели суждено нам страдать, пусть то будет по правде Твоей и по истине Твоей ― не допусти, дабы то было по неправде нашей или по ненависти нашей к кому-то. Помолимся же миром: «Господи, помилуй!»
Нынешней ночью молюсь за отважных молодых людей, которые теперь мертвы или рассеяны по миру, которые в числе первых, сразу после Второй мировой войны, бежали из Сараево, потому что колыбель стала тесна им; они пешком преодолевали ледяные Альпы, бежали на катерах и весельных лодках (даже и на спортивных скифах) к обетованным золотым берегам Италии, прятались под вагонами между колесными парами, сбегали из спортивных команд, с которыми пересекали границы по коллективному паспорту, вынесли сборные центры и лагеря, голод и унижения…
Первый из них, Жанно, схваченный при попытке к бегству и возвращенный, оправдывался перед судьей:
– Да не бежал я вовсе, товарищ судья, мамой клянусь! Отдыхал в Дубровнике, купался на Локруме; прыгнул в море, плыву себе под водой, вынырнул, и на тебе – Италия!
Когда он умирал в больнице, по белой ночной тумбочке у изголовья прокатились три мандаринки. Он обвел взглядом собравшихся у смертного ложа и произнес слова популярного в то время шлягера:
– Que serà, serà.
Другой сараевский беглец по имени Мешак, преуспевший в Калифорнии, так и не сумел осуществить юношескую мечту. Он был известной моделью и знаменитым плейбоем, заработал кучу денег. Друзьям, которые иногда навещали его в Лос-Анджелесе, говорил:
– Все бы отдал за то, чтобы прокатиться на огромном открытом кадиллаке по Главной улице, и чтобы за рулем сидел черный шофер в ливрее!
Но вернуться он не мог.
50. 3. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои.
24. 7. Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай; по милости Твоей вспомни меня Ты, ради благости Твоей, Господи!
Знаменитый Хозн Второй, наследник еще более знаменитого старого Хозна, который получил свое прозвище за то, что постоянно носил хозен-трегеры, был самым искусным сараевским медвежатником, и слава его гремела по всей Западной Европе. После того, как в Брюсселе его сдали кореша, он получил десять лет каторги, но через три года его освободили за примерное поведение и некую услугу, оказанную бельгийской полиции: как-то раз лучшим криминалистам не удалось открыть сейф, ключи от которого были утеряны, и они вспомнили про Хозна Второго. Тот, зажмурившись, вскрыл его за три минуты. После подвига он обучал и посвящал полицейских в тайны ремесла, за что и был условно освобожден. На часть денег, оставшихся от последнего дела, он купил подержанный микроавтобус, а в газете «Le Soir» появилось объявление и номер мобильного телефона, по которому вы, потеряв ключи от квартиры, машины, кассы или сейфа, могли позвонить в любое время дня и ночи. Позже, разбогатев в результате грамотного вложения доходов, по пути на летний отдых у моря он ежегодно сворачивал на денек в Сараево, и тогда в пивных, кафе и ресторанах Башчаршии, где он оказывался ночью, все посетители ели и пили за его счет.
Сейчас этот добропорядочный человек проживает в знаменитом курортном местечке Кнок на бельгийском берегу Северного моря. Его богатые и благородные соседи считают исключительной честью, когда Хозн Второй раз в месяц приглашает их к себе на виллу «Ялия», на «боснийский котелок», который он лично готовит по маминому рецепту
36. 23. Господом утверждаются стопы такого человека, и Он благоволит к пути его: 24. когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку.
Шекспировский Томас Маубрей, герцог Норфолк, исполняя волю Ричарда Второго, отправившего его в пожизненное изгнание, говорит:
Прощай, мой государь! Передо мной Открыт весь мир, закрыт лишь край родной!Нет, в самом деле, и я не верю, что мир теперь мне недоступен! Но хотя передо мной открыто множество дорог, одна из них закрыта навеки – тот путь, что ведет в Сараево, на его Главную улицу У каждого человека внутри есть тепленькое местечко, хотя зачастую мы этого даже не осознаем. Без такого внутреннего оазиса – назовем его так за недостатком более точного определения – чего-то вроде сгустившейся ауры, мы превращаемся в мертвые тела, которые весьма часто добиваются успехов в повседневной жизни. Теплое прибежище спасает нас от пресыщенности; к нему мы прибегаем в поисках убежища и повода начать в жизни нечто новое, оно дает нам надежду и делает нас действительно живыми и добрыми. Может быть, это тлеющее чувство надежды из тех давних целомудренных времен, когда мы стремились к широким просторам непознанного, лепили картину мира из обрывков книжных листов и рукописей, рассказывавших о нем, или из уже забытой любви к кому-то, в кого были безутешно влюблены, а в ответ не получили ничего, или это было просто возбуждение, которое охватывает, когда приближаешься к родному городу и стук колес дружно согласовывается с ритмом ударов сердца? Сегодня, став взрослыми людьми, мы входим в самые прекрасные города с досадным чувством повторяющейся скуки. А может, наше сердце взыграло, если бы мы приблизились к родному городу? Может быть, мы ожили бы вновь? Потерять Сараево – город, который не похож ни на какой другой, означает погубить то самое теплое потаенное местечко в себе, превратившееся теперь в воспоминание, день ото дня теряющее неясные очертания. Если кто-то заработал в Сараево большие деньги и потерял их в новом великом переселении, но душой не сросшийся с этим городом, приобретет новое богатство в любом другом месте, потому как прав народ: «У кого есть, у того и будет!». Но те, у кого нет ничего, кроме этого живого клубка Ариадны, астральной нити с началом в Сараево, спасавшей их, помогая не затеряться в роскоши земного шара, никогда более не смогут найти в себе иное место, которое прибавило бы им сил, чтобы пережить трагедию.
Один боец, бывший таксист, вынужденный бежать из сербского квартала Сараево, защищавший его до самого приказа отступить, смотрит на свой город с далекого холма, на который вынужден был подняться, и говорит: «Хочется мне обвешаться гранатами, сесть в машину и спуститься вниз, и пусть будет, что будет!»
В этом так просто высказанном желании кроются чувства многих изгнанников, которые они не могут выразить: желание пусть даже ценой смерти соединиться со своей любовью.
И хотя я уже четверть века не ступал на тротуар Главной улицы, каждую трещинку которого и новые асфальтовые заплаты я знал наизусть, мне все еще кажется, что все авеню и бульвары прочих городов мира я измеряю ею, как палочкой для игры в «чижика».
Ни красотой, ни длиной она не превосходит окраинные улицы провинциальных городов Центральной Европы, таких, как Грац, Сегедин или Любляна; те же темно-серые фасады австровенгерских строений, на которых громоздятся сецессионные украшения, гирлянды и венки, все тот же тяжелый дух приправ и жалкого существования в мрачных подъездах с потрескавшейся черно-белой плиткой и в квартирах новостроек, которые вполне сравнимы по бездарности создавшей их архитектурной мысли.
И все же я зеваю от скуки, прогуливаясь по нью-йоркской Пятой авеню или по Елисейским Полям, не имея возможности выкинуть из головы Главную улицу, потому что в нее через подметки, которыми я мерил ее, прокралась магия старого тротуара.
Запретный город то же, что и большая любовь. Только забросив их, спасая здравый ум и нормальную голову, мы можем трезво разглядеть их, со всеми присущими недостатками. Но даже это никогда не освободит нас от очарования, которым они повязали нас. Разве Одиссей, хитрейший из всех обитателей Земли, не стремился целых двадцать лет вернуться на свою Итаку? И разве Джемс Джойс всю свою жизнь не описывал в мельчайших деталях каждый уголок родного Дублина, скончавшись так далеко от него? И где бы ни устраивал Пикассо свою мастерскую, ночами в нее врывались быки с арен Барселоны, в которую он не желал возвращаться.
Почувствовав отвращение к родному городу, который с негодованием отреагировал на публикацию эссе «Минотавр, или Отдых в Оране», Альбер Камю записал эпиграф к книге «Лето»: «Эссе написано в 1939 году. Читатель должен припомнить это, чтобы судить о том, каким бы Оран стал сегодня. Горячие протесты этого прекрасного города уверяют меня в том, что все недостатки будут (или уже) ликвидированы. А красоты, которые воспевает эссе, ревностно охраняются. Счастливый и реальный Оран более не нуждается в писателях: он ждет туристов».
Но все же нельзя забывать о том, что в Дублине живут ирландцы, а в Барселоне – каталонцы. В Оране сейчас французов меньше, чем было в то время, когда Камю писал о нем, однако и теперь их там немало, даже после начавшейся активности нетерпеливых фундаменталистов.
В Сараево сербов осталось ничтожное число: сто пятьдесят тысяч покинуло город только в феврале 1996 года.
Во всемирной истории нет прецедента: мы не только остались без города, но и без соплеменников в нем!
Осенью 1976 года я брал в Нью-Йорке интервью у писателя Бернарда Маламуда в его бедно обставленной квартире, окна которой смотрели на свинцово-серую реку Гудзон. Еврей украинско-польского происхождения, Маламуд всю жизнь писал о Нью-Йорке. Я спросил где его настоящий дом?
– Мой дом в моих книгах, – ответил он.
Он проводил меня до угла здания, чтобы заодно и самому немного прогуляться. Как раз в этот момент разрушали многоэтажное здание из прокопченного кирпича. В Европе оно бы просуществовал еще сотню лет. Мы остановились и в толпе любопытных долго смотрели, как огромный колышущийся стальной шар на высокой стреле влетает в чрево дома, примерно на высоте второго этажа. Дом сопротивлялся из последних сил, выдержав уже три-четыре удара, пока зеваки болели (не за дом, а за шар), после чего обрушился, так сказать, рухнул с глухим рокотом на колени, окутанный облаком пыли. Здания, на которые во времена моего детства падали бомбы, рушились совсем иначе – они просто раскалывались надвое, образуя разрез, который, словно соты, демонстрировал внутреннее убранство разных квартир, где на стенах под ясным небом еще висели уцелевшие картины и зеркала, настолько бомбовые удары были сильными и неожиданными.
Руины Сараево в эту войну отличались от предыдущих, потому что они возникли не от авиационных бомб, а от артиллерийских обстрелов. Кроме того, нынешние здания построены из армированного бетона – под разрывами снарядов конструкции только кривятся и сгибаются, так что после всего, когда вылетали стекла, выгорало дерево и расплавлялся пластик, оставались торчать призрачные скелеты, насквозь продуваемые ветрами.
Бернард Маламуд равнодушно смотрел, как рушится здание. Для людей, всю жизнь проведших в городах, на которые никогда не падали бомбы, эта картина в самом деле была просто разборкой небольшого строения, на месте которого поднимется куда более полезный и высокий небоскреб, и ничего более. Американцы вообще куда легче европейцев расстаются со своими гнездами. Если где-то на другом краю континента появится возможность заработать побольше, они без малейшего сожаления оставляют родной город, а если в один прекрасный день возвращаются в него (если вообще возвращаются), то застают свою улицу совсем не такой, какой ее оставили. Вместо старого деревянного дома с террасой и низкой оградой вокруг газона обнаруживают на этом месте супермаркет или бензоколонку. Вырванные с корнем еще до рождения, несомые ветрами через океаны и континенты, в нашей привязанности к тихо умирающим городам, к их патине они видят, наверное, болезненную сверхчувствительность.
Я пишу эту хронику потерянного города, воссоздавая его из снов и туманов, из лиц, запахов, уголков и улочек, вспоминая слова Маламуд а: «Мой дом в моих книгах».
Мое Сараево в этой обложке. И пусть им воздастся за то, что стало с этим городом!
«Чем глубже автор погружается в эту хронику, тем чаще он натыкается на продуваемые ветрами перекрестки с перепутанными, гнутыми и сломанными указателями, которые вводят его в заблуждение. В это мгновение он остановился, совершенно не зная, куда тронуться. Дилемма состоит в фатальном выборе между первым лицом единственного числа и первым лицом множественного. Я или мы – вечное проклятие писательского ремесла! Если пишем мы, то подвергаемся вероятности того, что многие мои ровесники с полным правом запротестуют: может, кто-то из них во время, которое я описываю, смотрели совсем другой фильм, читали другую книгу, имели другие взгляды, видели жизнь и события совсем в ином свете? Я, опять-таки, означает нескромность. Из двух зол выбираю меньшее, закрываю глаза и очертя голову прыгаю в опасное самолюбивое я, не задумываясь над тем, удастся ли вообще вынырнуть. А это я – маленький пугливый одинокий мальчишка, выросший на развалинах и улицах, склонный к кражам из витрин магазинов на Главной улице, когда те рассыпаются от разрывов немецких и союзных бомбардировок, готовый в любой момент сбежать от патруля, уклониться от разрывной пули, избежать насилия и прочих многочисленных опасностей, владелец нескольких тайников, закопанных в заброшенных бункерах и бомбоубежищах кладов, недоверчивый, без прошлого и будущего – ждет наступления новой жизни».
Судьба наделила меня печальной обязанностью стать свидетелем нового неудержимого погружения родного города в липкую тьму средневековья. Чувствую, что это рабство продлится долго, очень долго, наверняка дольше моей жизни…
Собственно, 1996 год на самом деле 1374-й по Хиджре – исламскому летосчислению, которое начинается 16 июля 622 года новой эры, когда Мухамед переселился из Мекки в Медину (совершил хиджру). Следовательно, случилось так, что Сараево со своим террором, ужасами и резней в самом деле вернулось почти на шесть веков в прошлое, и это абсурдное возвращение, как ни странно, свершилось под опекой просвещенного человечества. Как будто я случайно включил «Машину времени» Г. Дж. Уэллса и проснулся в ночном кошмаре, и аппарат мой окончательно сломался, и никто больше не сможет вернуть меня в то время, которому я принадлежу.
Четверть века я видел родной город не иначе как в кошмарных снах или в бинокль с передовых линий обороны на Требевиче, из окопа, где я, гонимый болезненным любопытством, появлялся в качестве военного репортера. Окопы пропахли уже давно забытым запахом серы, влажной земли, пороха и едкого дыма, от которого слезятся глаза, равно как и от костров, которые солдаты жгли в землянках. Я поднимался над бруствером, а они кричали, чтобы я нагнулся, потому что мои уже поседевшие волосы – слишком хорошая цель для снайпера. Родной город стрелял в меня каждый раз, когда я старался получше рассмотреть его. Его старая ненависть ко мне, годами высказывавшаяся словами, наконец отлилась в свинцовые пули, доведя вражду до логического конца.
Вокруг меня были люди с осунувшимися щетинистыми лицами и грозно светящимися глазами, какие обычно бывают у отчаявшихся мужчин; одетые в обгоревшие и выцветшие тонкие униформы, они топтались на снегу, чтобы хоть как-то согреться, в то время как внизу, под ними, под сизой пеленой дымки, лежал запретный город, из которого их выгнали и перед всем миром выставили дикой ордой, которую каждый имеет право безнаказанно расстрелять или разбомбить, если они попытаются защититься. Против них все: и моджахеды, слетевшиеся со всех концов мусульманского мира, ветераны исламской революции в Иране, боевики из Алжира и Турции (даже курды, которые веками сражаются за собственное государство), усташи, обученные на полигонах Австралии, американские военные инструкторы, псы войны – наемники из Великобритании, Германии и Франции, которых с неба оберегала самая убийственная и самая современная авиация Северо-Атлантического союза. А те, кто еще вчера были уважаемыми гражданами Сараево, а теперь глядящие со своих позиций на отобранные у них дома, лавки и мастерские, отчаянно сражались, обороняя гористую подкову, которая по-матерински приняла их под свою защиту. Когда они погибали, то становились уничтоженными бандитами и бунтовщиками, а если отвечали на огонь, то Сараево превращалось в невинный Рим, а они – в диких варваров, глубоко презирающих все городское. Последняя обороняемая ими гора превратилась в осаду миролюбивого города, на помощь которому устремился весь мир.
Сам канадский генерал Мак-Кензи, командующий международными силами, издерганный ложью, на одной из встреч сорвал с головы генеральскую фуражку и в бешенстве воскликнул:
– Что же это за осажденный город, в котором виски течет рекой?!
И в самом деле, во время так называемой блокады в Сараево не было ни одного дня, чтобы те, у кого были деньги, не могли купить одну из пяти вещей: виски, «Мальборо», кока-колу, кофе и бананы, которые, как известно, в этом городе не растут.
И весь до зубов вооруженный, хорошо оплаченный и обученный джихад-легион стадами полз вдоль стен города-караказана, в основном ночью, под защитой электронного зонтика, всевидящих «аваксов» и невидимых бомбардировщиков «стеллс», чтобы прорвать последнюю линию обороны несчастных. Они врывались в мирные поселки над городом, вырезали в них все живое и опять возвращались в город, под защиту озабоченного мирового сообщества.
Я как проклятый кружил вокруг города; обходил пока еще свободные сербские кварталы в новостройках, из стен которых торчало оперение впившихся в них и не разорвавшихся мин, – эти дома были словно сложены из решета и сита, дыр, дырочек и трещин, как подожженные придурком соты в улье, а окна без стекол использовались в них вместо бойниц. Мир видел развалины только по ту сторону фронта. Я поднимался в горы, ездил по разбитым сотнями снарядов дорогам; пули пробивали жесть на джипах, и все это время город был от меня на расстоянии вытянутой руки. Я прислушивался к его звукам и вдыхал знакомый запах его тумана.
Златиште – первая линия обороны над Сараево, на которой погибло больше всего сербов.
От окопов спускаются пристрелянные снайперами тропы, ведущие с Требевича в город. Это место называется Осмицы, отсюда мы детишками отчаянно скатывались вниз на санках, и ветер свистел в ушах, а девчоночьи волосы щекотали нам ноздри. Теперь здесь погибают.
Пока мы стоим в окопе, на нас падает все тот же пушистый снег, укрывая нашу мечту там, внизу, сонной белизной.
На стенах закопченной землянки за нашими спинами наклеены изображения голых красавиц, вырезанные из иллюстрированных журналов. Женщины здесь не бывают, слишком опасно. У оборванных защитников того, что осталось от Сараево, ладони прилипают к ледяному металлу оружия. Перчаток не хватает.
На позициях я не нашел ни одного бойца из тех, что были здесь прошлой зимой. Погибли все, кроме Вука, да и того след простыл. Одни говорят, что он где-то погиб, другие – что вернулся в Америку, где до начала этой войны он провел целых десять лет. Чем только он там не занимался: был спарринг-партнером у профессиональных боксеров, охранял автостоянки в Бронксе (Нью-Йорк), следил за порядком в дискотеках, работал каскадером и телохранителем. И все это время его спасала мечта – вернуться в Сараево и открыть хан, который с давних времен держали его старики у дороги, ведущей из Сараево. «Вряд ли где найдешь ты серба, что дедов своих видал!» – сказал поэт. Дед Вука погиб в Первую мировую войну, отца убили во Вторую. «Кто виноват, что дом воздвигли мы среди дороги!» – записал Йован Цвиич. А их хан и в самом деле стоял на дороге. В американской тюрьме Квентин, где он отсидел год за какую-то драку и незаконное ношение оружия, Вук завоевал симпатии соседей по камере, итальянских мафиози, которые сразу рассмотрели в нем отважного и решительного человека. После освобождения он стал правой рукой capo di famiglia Лучиано Гаппы, который помог ему завести собственное рыбное дело в доках Нью-Йорка. Вместо того чтобы остаться в Америке и богатеть, Вук сумел вовремя остановиться, ликвидировал дело и вернулся в родной город, где выкупил бывшую недвижимость своих предков и превратил старый хан в один из лучших ресторанов города.
Поняв, что начало войны – вопрос всего лишь нескольких дней, он широко распахнул двери своего ресторана, а из морозильника вытащил все запасы дичи, баранины, птицы и рыбы, устроив невиданный пир, который, как до сих пор вспоминают, длился целую неделю. Он бесплатно угощал сербов и хорватов, мусульман и евреев, а также многих иностранцев, случайно оказавшихся в городе. Когда была выпита последняя бутылка французского вина из его богатых подвалов и осушена до последней капли коллекция шотландского виски и американского бурбона, он взял карабин, а ключи повесил на звонок над воротами вместе с листком бумаги, на котором оставил записку будущему хозяину: «ПРИСМОТРИ, ПОКА НЕ ВЕРНУСЬ».
Целый год Вук с окрестных гор разглядывал в бинокль свой ресторан и, увидев однажды утром на крыше хана зеленый флаг с лилиями, лично зарядил пушку, прицелился с помощью наводчика и собственноручно дернул за шнурок, глядя, как его мечта поднимается на воздух.
Выкурил у пушки последнюю сигарету и исчез без следа, не дожидаясь, пока его мечта, превратившаяся в темное дымное облако, растает в сараевском небе.
Потом я возвращался в Пале – маленькую столицу зарождавшегося государства, где находил хорошо знакомую ограду над рыжей пашней, взбирался на нее и болтал ногами, вспоминая собственное детство.
«Пале, горное местечко на отрогах Яхорины, глубоко врезалось в мою память: почти у каждой приличной городской семьи в Сараево была своя сельская семья в Пале, которая из поколения в поколение доставляла в город молоко, сыр, каймак и жареную баранину. Раз в год, обычно на Пасху, мы отправлялись к ним в село вкусить ягненка на вертеле».
Но то была не обычная купля-продажа: со временем эти семьи почти сроднились с нами, мы записывали их детей в школы, находили для них работу, водили, если надо было, на прием к врачам, бывали у них свадьбах и похоронах. Они появлялись обычно ранним утром, нерешительно стоя в грязных сапогах с бидонами молока в передней, стесняясь войти и выпить предложенный кофе. Они были нам много ближе ближайших родственников, которых мы не видели годами. И вот теперь это село – кто бы мог подумать! – игрой случая и по прихоти судьбы стало точкой на глобусе. В которую устремились взгляды всего мира.
Старая вилла на опушке частого леса, с видом на колышущееся море трав, которая до войны была частной психиатрической клиникой и в которой в апреле 1941 года была подписана капитуляция Югославской королевской армии, приютила Президиум Республики Сербской.
В ночь с 20 на 21 февраля 1994 года, когда истекал срок ультиматума ООН, в соответствии с которым сербы должны были отвести тяжелое вооружение на двадцать километров от демаркационной линии, командир подразделения, базировавшегося над Сараево, светловолосый гигант, дом которого находился в непосредственной близости, велел испечь на вертеле вола. Обычный боснийский вол вызвал невиданный интерес у мировых телевизионных компаний.
Собственно, майор приказал развести на Видиковаце три огромных костра. Я хорошо знал это место по прежним временам. На Видиковац мы приводили девушек, в которых были влюблены, а также особо уважаемых гостей, чтобы показать им с необычной точки свой город. Рассматривать его отсюда означало также быть в некотором роде философом: огромные заботы, которые снедали нас внизу, в лабиринте зданий и улиц, рассеченном сверкающим клинком реки, становились мелкими, совсем незначительными. Там был установлен телескоп, так что мы могли увеличить любую деталь собственной жизни в те дни, когда не было тумана и дымки. А когда сизое море заливало котловину, над Требевичем все равно сияло солнце. Нам казалось странным, что под этой крышкой может существовать жизнь.
Три пылающих костра как будто демонстрировали неслыханную дерзость и упрямство ратников с гор, которые осмелились дразнить ими и без того раздраженные эскадрильи американских Ф-16 и британских «харриеров», которые ночами гремели над нашими головами, ожидая сигнала, чтобы сбросить свой смертоносный груз. Майор и его люди будто желали облегчить им гнусное дело, точно указав место, где они расположились.
Откуда-то из ночного леса, по снегу, двинулась процессия женщин в черном, будто вышедших из античной драмы. В руках они несли только что испеченные лепешки и соль на подносах, распевая печальные горские песни, словно волчицы, воющие на луну. Они уже потеряли своих ближних, и теперь были готовы принести в жертву самих себя. На вертеле вращался огромный вол, но мало кто подходил к нему, чтобы отрезать кусочек. Люди в форме, что вращали его, штыками отрезали куски мяса и передавали его другим на кончиках лезвий.
Глядя в небо, в котором искры костров затмили звезды, я прислушивался к вою очень низко летящих самолетов и гадал, о чем думает американский летчик, наблюдая за тремя непонятными кострами. Узнает ли он хоть когда-нибудь, что народ, населяющий горы, поминал сам себя, сомневаясь в том, что через сорок дней вряд ли кто останется в живых, чтобы организовать, как водится, сороковины. Наверное, тот пилот был слишком молод и ничего не знал про обряд принесения жертвы. Здесь, на этом костре, вол превращался в святого быка Аписа, на чьей спине вздрогнула Европа. Это был тот самый бык, что рогами прорвался в мещанское искусство XX века благодаря Пикассо, который отворил загон с быками Гойи из его «Тавромахии».
На вертеле в это время крутились все быки с закопченных стен пещеры в Альтамире; затрясся гранитный бык из Вавилона, которого я помиловал на заброшенной кирпичной фабрике за пять лет до этой войны. Провернулись над огнем Рудоня и Яблан Петара Кочича вместе с быками из Памплоны, которых описал Эрнест Хемингуэй, – необъятное стадо, в котором безымянному пилоту был знаком, наверное, только «Грохот быков» Зена Грея, рванулось к небу, по которому верхом на бомбах летели ковбои.
Интересно, что многие потом спрашивали меня, каково на вкус воловье мясо на вертеле, но никто – каков вкус смерти на нёбе, пока ожидаешь, когда же наконец тебя сотрут в порошок.
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Течет мутная вздувшаяся речка Миляцка, и в ее глухом рокоте, от которого дрожат каменные мосты, ржавеют железные и скрипят старые деревянные, несет историю… На Видовдан, 28 июня 1994 года, в Сараево мосту Гаврилы Принципа вернули австро-венгерское название – Латинский мост! Сняты таблички с названиями, и я ничуть не сомневаюсь, что залиты асфальтом отпечатки ног на углу, где когда-то парень из Краины подстерег эрцгерцога, произнеся при этом, как говорят, следующие стихи:
Ах ты, змей, что всех славян сжираешь, Что так долго ты по нашим городам гуляешь? Захотел ты Боснию в свои края включить, Да не выучился ты по-сербски говорить… Получай же сербскую грамматику Из нагана моего из автоматика!Много лет подряд, в молодости, я видел, как стоит в оттисках стоп Принципа знаменитый сараевский гид, профессор Бркич, согбенный, сухощавый старик с длинными седыми волосами и очками на орлином носу, как, вытянув руку с невидимым пистолетом, он прямо на глазах у испуганных пожилых туристов из Милуоки и Коламбуса, штат Огайо, стреляет в невидимого же Фердинанда. «Бац! Бац!» – стрелял покойный профессор Бркич, вдохновленный славным историческим событием, а ужаснувшиеся американские старушки смотрели, как пули рвут парадную униформу эрцгерцога Фердинанда и впиваются в роскошное декольте его супруги Софии.
И нынешней ночью я вижу в уголке церкви профессора Бркича, который размашисто крестится то ли по врожденной набожности, то ли не веря в то, что у самого знаменитого в сербской истории моста отняли его настоящее имя.
«Слава Тебе, Господи, что Ты вовремя прибрал его к Себе. Он бы этого не пережил!»
Может быть, сердце так сильно болит не из-за утраты этого города, а потому, что всех нас обманули; хуже того, нас обманывали годами напролет, а мы и не замечали этого, обезумевшие от своей любви к Сараево. В самом деле, этот город похож на капризную любовницу, в полной власти которой мы все пребывали. Посещая в давние годы Сараево, я внес свою лепту в создание этого увлекательного восточного мифа. Изнеженные и пресыщенные, мы страдали по необычным и редчайшим ощущениям, по чувственно громким словам (севдах и истилах, мерхамет и садака), отдавались созерцательным обрядам, доставшимся нам в наследство от разложившихся османских сластолюбцев. На подлете к Сараево, с высоты птичьего полета оно представлялось зеленой вазой вроде тех, в которых писатели так любят держать на столах белые отточенные минареты карандашей. Сколько раз я водил друзей и гостей по сараевским базарам и безистанам, по ханам, ашчиницам и кофейням вроде той, что притулилась к Воротной башне, принадлежавшей рахметли Вейсил-эффенди, который жареные зерна кофе не молол, а толок деревянным пестиком в каменной ступке, и где подавали пахучий можжевеловый сок; сколько раз кормил голубей перед Беговой мечетью у шедрвана, на котором было высечено, что это «камень от Ивана Качича из Пучишта на Враче», разгадывал арабскую каллиграфическую вязь во дворах, наслаждался столь различными вкусами турецких блюд, подаваемых в корчмах после пушечного выстрела, возвещавшего конец рамазанского поста – начало пирушек в старых мусульманских домах, застеленных коврами, на которых сидели босиком, скрестив ноги. И все эти годы, прячась за любезностью, улыбками и восточным притворством, зрел заговор, который отнял у нас город. Но и по сей день, после всего, что было, я не верю, что в том были замешаны старые честные сараевские семьи бегов, а также беднота, для которой величайшим благом была байрамская горячая лепешка, купленная прямо с доски на голове подмастерья пекаря – лепешка без кебаба, всего с несколькими каплями жира. («Если бы Аллах даровал нам так до самой смерти!» – вздыхали старые мусульманки.) Бедноте не до политики и не до истории! Это доказывает бегство честных обедневших беговских семей из родных дворов, равно как и мрачное пророчество Иво Андрича о том, что «настанут времена, когда умные смолкнут, дураки заговорят, а босяки разбогатеют…»
9. 22. Для чего, Господи, стоишь вдали, скрываешь Себя во время скорби? 23. По гордости своей нечестивый преследует бедного: да уловятся они ухищрениями, которые сами вымышляют. 24. Ибо нечестивый хвалится похотью души своей; корыстолюбивец ублажает себя. 25. В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа: «не взыщет»; во всех помыслах его: «нет Бога!».
Помолимся и за покойных сараевских любовников, убитых 18 мая 1993 года на мосту Врбаня, между турецким и сербским берегами.
Их называли сараевскими Ромео и Джульеттой, но любовникам из Вероны, которых и поныне оплакивает весь мир, было куда легче. Прежде всего, те были итальянцами и католиками, оба были родом из схожих патрицианских семейств.
Вражда Монтекки и Капулетти была детской игрой по сравнению с кровавой враждой обоих берегов Миляцки, где с одной стороны зарылись в окопы сербы, а с другой аж четыре армии: Санджакская, Хорватское вече обороны, воинские формирования спецслужб и, наконец, армия сараевских мусульман.
Девушка звалась Адмира Исмич, мусульманка, молодой человек Бошко Бркич был серб. Оба родились в 1968 году, им было по двадцать пять. Как только началась война, они, как и многие другие, мечтали убежать из города.
Парню все труднее и труднее было оберегать свою любовь в городе, охваченном ненавистью, и беспечно прогуливаться по улицам, где на каждом углу, прислонившись к стенам, торчали молодые, коротко стриженные бездельники в камуфляже и с серьгами в ушах, расчетливо поигрывая оружием и дерзко поглядывая на прохожих, особенно если среди них попадались красавицы вроде Адмиры. И в мирные годы, до войны, в Сараево было полным-полно немых угроз и смертельных ловушек для тех, кто дерзнул стать не таким, как все. Улица, для которой достоинство и воспитание были смертельными врагами, располагала тысячью способов оскорбить их, пригрозить и унизить. Бессовестный мат вслед парню, провожающему красавицу, подножка, даже удар в спину – вот что грозило каждому, кто отваживался продемонстрировать городу исключительное счастье своей любви. В первый же год войны, когда Сараево захватили вооруженные орды уголовников в камуфляже, такое поведение получило молчаливое одобрение властей. Быть молодым сербом и прогуливаться по городу с мусульманской красавицей автоматически означало подписать самому себе смертный приговор. Разве не Макс Лубурич, последний комендант Сараево, в апреле 1945 года хватал посреди улиц городских красавиц, затаскивал их в свой «мерседес» и увозил на пресловутую виллу в Скендерии, где их следы терялись навсегда? Во время последней войны существовало множество частных тюрем, публичных домов, битком набитых похищенными сараевскими красавицами. Городом единолично правил Исмет Байрамович по кличке Череп, довоенный уголовник. В подвалах его штаба на Бистрике и в окрестных ямах обнаружили сотни изуродованных трупов. Сараевские власти использовали старую османскую стратегию: в первые годы войны полностью развязали руки городским уголовникам, выпущенным с этой целью из тюрем и депортированным из Европы, чтобы уничтожить как можно больше сербов, после чего их также уничтожили, свалив всю вину за учиненные преступления на них.
Так перед всем миром власти остались совершенно чистыми.
Точно как в сараевских легендах о страшных пашах и бегах, которые иногда совершали добрые дела, чтобы распространить о себе хорошие вести, так и Череп, похоже, согласился помочь девушке уехать из города со своим сербским парнем, взяв с нее за услугу, говорят, восемнадцать тысяч дойчмарок. На самом ли деле он хотел помочь им или просто отказался что-либо предпринимать – навсегда останется тайной; однако наверняка подсказал им, когда следует рвануть по мосту Врбаня – в этот момент подкупленные снайперы должны были отвернуться.
9. 29. сидит в засаде за двором, в потаенных местах убивает невинного; глаза его подсматривают за бедным; 30. подстерегает в потаенном месте, как лев в логовище; подстерегает в засаде, чтобы схватить бедного; хватает бедного, увлекая в сети свои; 31. сгибается, прилегает, ― и бедные падают в сильные когти его…
И этой ночью, когда стоя молюсь в хиландарской церкви, ноздрей моих касается теплая струйка той майской ночи – гниловатый запах реки, в которой разлагаются убитые скуки ради собаки и кошки, старые матрасы и сожженные автомобильные шины, и я слышу ее убаюкивающий ток.
Вынырнув из тьмы, сараевские любовники побежали на сербскую сторону. Но Сараево не любит сказки с хорошим концом, а еще больше не терпит, когда кто-то счастливо вырывается из его паутины. Несмотря на уговор (если таковой вообще существовал), выстрелы с мусульманской стороны настигли молодых любовников и они рухнули друг на друга ровно на ничьей земле.
Они лежали там целых шесть дней, с 18 по 24 мая, а над их телами гремели дуэли снайперов. Родители наблюдали за их последними объятиями: Адмирины – с турецкой, Бошко – с сербской стороны. Равно как многочисленные иностранные корреспонденты и телерепортеры – когда воюющие стороны позволяли им высунуться из укрытий. Ночами мусульмане забрасывали трупы мертвых любовников «коктейлем Молотова» – чтобы скрыть следы преступления перед мировой общественностью, которая попыталась сотворить из этой любви новых Ромео и Джульетту, что-то вроде миротворческой сентиментальной мелодрамы о примирении враждующих сторон перед лицом смерти, не подозревая о коварстве города, убившего их, как и многих других, задолго до смерти этих несчастных. Собственно говоря, молодые любовники бежали не на какую-то определенную сторону – они направлялись к сербам только потому, что оттуда можно было свободно отправиться куда угодно. Они бежали из Сараево, из этого вместилища олицетворенного зла.
Но мировая общественность не отметила одну важнейшую деталь, которая характерна только для этого места, и никакого другого. Несмотря на огромную опасность, кто-то в эти дни сумел незаметно подобраться к мертвым и не только прибрать к рукам их скромный багаж, но и обчистить карманы. Вот почему даже в трагедии Сараево никогда не сравняется с Вероной. Несмотря на все старания, бутылки с бензином не долетели до трупов, и на шестую ночь сербские бойцы под командованием сержанта Марко Топича, рискуя собственной жизнью всего в двадцати пяти метрах от мусульманских окопов, сумели перетащить мертвецов на свою сторону и похоронить их на кладбище Вранеш в Лукавице, в одной могиле, вырезав их имена на общем кресте.
9. 32. говорит в сердце своем: «забыл Бог, закрыл лице Свое, не увидит никогда». 33. Восстань, Господи, Боже [мой], вознеси руку Твою, не забудь угнетенных [Твоих до конца].
В марте 1996 года счастливые обитатели глобальной телевизионной деревни получили возможность несколько раз очнуться от приятной дремоты и увидеть сцены, которых еще не знавала история современного человечества. Они смотрели, как сараевские сербы выкапывают гробы с останками близких и как грузят сырые деревянные ящики на машины и сиротские телеги, пристраивая их рядом с домашней утварью, а снег в это время покрывал их траурной белизной.
Напрасно священники уговаривали прихожан не выкапывать гробы, утверждая, что души покойных уже в царствии небесном, так что совершенно неважно, где покоятся их бренные останки. Не помогло, никто их не слушал.
Так что в этом исходе участвовали не только живые, но и мертвые. Интересно, задались ли счастливые телезрители вопросом, что же это за враги такие у несчастных, если они даже своих покойников не оставляют на их милость или немилость?
Кладбища, неприкосновенные святыни, кому бы они не принадлежали, во всей истории человечества оставались нетронутыми, в чьем бы владении не оказывалась их территория, за исключением одного случая – открытой ненависти ислама ко всему христианскому, особенно православному. Великое переселение мертвых началось намного раньше, еще в субботу, 27 апреля 1594 года, когда Синан-паша послал Ахмед-бега Очурса с войском доставить мощи святого Савы, что покоились в монастыре Милешево, чтобы в бессильном гневе сжечь их в огне костра на холме Врачар над Белградом. Пепел мощей развеяла весенняя кошава, а их мельчайшие крупинки проросли в душе каждого человека из этого народа. С тех пор по сегодняшний день во время переселений, которых было так много, первой и самой драгоценной вещью, уносимой в неизвестные, чужие земли, были мощи святителей: мумифицированные длани, ссохшиеся черепа, частицы сгнивших плетеных покровов или заржавевшие, изъеденные временем вериги, снятые с их тел.
О размерах ужаса, посеянного весной девяносто шестого, спавшим доселе, а теперь внезапно пробудившимся подпольным сараевским зверем, свидетельствует и то, что обычно равнодушная просвещенная публика запаниковала, увидев, что впервые в истории спасают не только мощи, кресты и колокола церквей, стены которых останутся на вражеской территории, но и совсем недавно захороненные тела молодых воинов, зрелых мужчин и женщин, только что родившихся и уже убитых младенцев, тех мучеников, которые дерзнули защитить право на дом, веру и образ жизни.
В сербской народной поэзии есть стихотворение, которое, пожалуй, лучше всего разъяснит не знающему, но интересующемуся иностранцу отношения между мертвыми сербами и живыми турками. Я цитирую его целиком, сам ужасаясь тому, что оно, словно в страшном кошмаре, буквально повторяет то, что уже случилось почти двести лет тому назад:
Куковала серая кукушка, Куковала утром в воскресенье Понад гробом Вишнича Йована: Хорошо ль тебе в могиле спится, Йово, Не мешают ли тебе дремать синицы И не давит грудь сыра землица? А оттуда некто отвечает: Хорошо мне здесь, в могиле, спится, Не мешают мне дремать синицы И земля сыра мне грудь не давит. Но наскучил турок мне Боичич, Что три дня в гробу меня тревожит, И на поединок смертный вызывает. Ну, а коль не выйду я на поединок, Что в воскресный первый день начнется, То могилу он мою разроет, Кости все мои спалит огнем суровым И развеет пепел мой по ветру. Так что ты, кукушка, отправляйся И уговори ты Сенянина Иво, Чтобы тот на поединок вышел — Мертвой кости не к лицу на поединке биться…Одна из женщин в черном, обычном для сербских жен цвете, ожидая, когда дойдет очередь вынимать из могилы гроб с телом сына, с огорчением произносит:
– Не так жалко было бы мне его второй раз хоронить, если бы они эти края в бою взяли…
Случилось так (случайно ли?), что несколько тысяч жителей Сараево выкапывали своих покойников 17 февраля 1996 года, в Страстной четверг – день, который православные сербы посвящают скончавшейся родне.
Пока день за днем шло выселение сербской части города, я с трепетом ждал последнего удара – падения Илиджи, точнее, капитуляции долгой череды платанов, выстроившихся вдоль Аллеи по направлению к роднику Босна, и в моем сознании все тише и тише отзывался изумительно монотонный цокот подкованных лошадей, влекущих старый фиакр: клип-клап-клоп, клип-клап-клоп, а я, запрокинув голову, созерцаю зеленые стропила их ветвей, сквозь гущу которых невозможно рассмотреть небо. Впрочем, кто только задолго до меня не терял это райское местечко, где, как мне казалось, в конце Аллеи кончался мой мир перед темно-зеленой стеной горы Игман, под которой шумела, журчала и била всеми своими ключами холодная речка Босна.
«Покорив иллирийцев, в девятом году нашей эры римляне на территории нынешнего Сараево основали поселение, резиденцию властителей края, рядом с термальными источниками на территории сегодняшней Илиджи». Еще ребенком я играл на каменных фундаментах римских вилл, у подножия невидимых колонн, топтал после купания босыми ногами фрагменты мозаики, покрывавшей некогда дно римского бассейна, не осознавая, что, играя на фундаментах дворцов, усваиваю один из важнейших уроков – о преходящести империй.
Это было в те годы, когда мы приезжали сюда на дачу к старой и богатой родственнице. Тогда туда была протянута узкоколейка, со станцией отправления в Мариндворе. Это была моя первая поездка, с промежуточными станциями Вилла Ченгича, Мост Али-паши, Ступ и другими, на перронах которых появлялись исполненные достоинства дежурные в красных фуражках на головах.
В марте 1945 года я пришел на маленький Мариндворский вокзал с молочным голубым бидоном, расписанным белыми цветами; там мне следовало дождаться какого-то крестьянина, привозившего из Ступа молоко и продававшего его тут же, прямо у вагона. Перрон был пуст. На столбах и соседних деревьях висели десятка два людей, покачиваясь на легком ветерке. Кто-то уже снял с них обувь. Повесил их накануне ночью Макс Лубурич. Под конец войны он установил в городе единоличную власть, материализовавшись в один прекрасный день из ниоткуда в Сараево вместе с бандой профессиональных убийц. Он медленно следовал по Главной улице в открытом черном авто, в которое его люди затаскивали каждую встреченную симпатичную девушку. В первые дни после освобождения (а Сараево освободили чуть ли не в самую последнюю очередь) нас всей школой водили смотреть виллу Лубурича. Мы видели котел, в котором варили жертв, пыточные клещи, ножи и мясницкие топоры, цепи и наручники, подвалы с окровавленными стенами и большой стол для разделки мяса, на котором, как говорили, усташи заставили одну сараевскую красавицу заняться любовью со своим парнем, чтобы потом здесь же разрубить их на куски. Макс Лубурич, усташский ветеран, прославившийся еще в Венгрии при Янко Пуште, начальник всех концентрационных лагерей, был убит топором много лет спустя, в собственной мадридской типографии. Убийцу так и не нашли. Как бы там ни было, в то время, когда счастливых американских малышей пугали добродушными ведьмами на метлах и безобидными чертенятами, сараевским детям не надо было рассказывать сказки – в наших жилах застывала кровь при упоминании Макса, которого мы сами видели кружащим по городу в черном «мерседесе», а один раз даже довелось рассмотреть его с расстояния в десять метров, когда он нанес визит в Бегову мечеть, где, одетый в долгополое пальто из блестящей кожи, сфотографировался в окружении ходжей. Эта фотография, отпечатанная в виде открытки, заполонила весь город, в то время как вся прочая страна уже вовсю праздновала освобождение.
По сей день перед моими глазами стоит зрелище на марин-дворском вокзале, достойное кисти Дали: мальчик с голубым молочным бидоном в руках под чуть колышущейся каруселью смерти.
На Илидже, куда в то время приходилось добираться несколько часов, в глубокой тени, скрытые густыми кронами платанов, стояли дачи знаменитых сербских семей: Иличей, Пеловичей, Босильчичей… с нарядными фасадами и крытыми террасами. Вилла наших родственников носила таинственное имя: «Мои repos». Здесь все было не так, как на нашей улице. Из цветущих садов выглядывали траченные здания гостиниц и пансионов, копировавших архитектуру Мариенбада. Неподалеку протекала горная речка – Железница, а на пляже стоял ряд розовых деревянных кабинок, сквозь щели в которых я возбужденно разглядывал нагие тела переодевавшихся купальщиц. Газоны, необычные, никогда ранее не виданные мною цветы, пересохшие фонтаны и остатки гостиничных стоек с разбитыми витражами, в цветных обломках которых еще можно было различить бестелесных длинноногих красавиц, увитых лилиями и плющом, намекали на совершенно другую, исчезнувшую жизнь. В этих гостиницах и дачах останавливались и ночевали великие имена: коронованные особы, светские львы, знаменитые куртизанки и богатые сараевские торговцы – их дух, казалось, еще витал в опустевших бальных залах и длинных запущенных коридорах. Покосившийся и изношенный, в парке все еще догнивал павильон, в котором некогда оркестры исполняли попурри и увертюры из венских оперетт. Возвращаясь вечером в Сараево, я чувствовал себя внезапно осиротевшим, будто окончился прекрасный сон, и вновь начинается погружение в нищету.
Я даже и подумать не мог, что в один прекрасный день разнузданные орды моджахедов слетятся сюда и разграбят остатки моего прекрасного детского сна. Слушая рассказы о великом разграблении Илиджи, я искренне верил, что платаны вдоль Аллеи рухнут сами по себе или, по крайней мере, засохнут.
Не случилось.
Кто знает, в который раз история повторяется самым банальным образом, и эти люди в занесенной снегом колонне чувствуют себя, наверное, так же беспомощно, как и христиане – древние жители Сараево 1435 года, увидевшие в весенний полдень, как запыленные оттоманские всадники с налитыми кровью глазами, со свистом и гиканьем спускаются на их мирный рынок. Это был окончательный крах мощной державы, простиравшейся до самого моря, которой правил Твртко I Котроманич – король Сербии, Боснии, Далмации, Хорватии и Приморья. От него останется только герб с лилиями, который позже, в 1992 году, неизвестно по какой причине, водрузят в Сараево на свои знамена, фуражки и автомобильные номера исламские боевики.
Они спустились с гор, чтобы остаться здесь на целые пятьсот лет, именно так, как в эти минуты въезжают они в христианские кварталы на полицейских машинах зеленого цвета с зелеными лентами на лбу со словами «Аллаху экбер», вооруженные вместо кривых дамасских сабель самым современным огнестрельным оружием, произведенным в Соединенных Штатах и просвещенной Европе. Люди испытывают от набега тот же самый, исконный, древний страх: войско Аллаха, которое целых четыре года не могло захватить сербские села вокруг Сараево, оставив на разделительной линии груды мертвых тел, теперь мстит тем, кто не мог покинуть дома – старикам, больным, детям и женщинам, сыновья, братья и дети которых ушли в горы.
С девяти лет я не живу в этом городе, но и теперь чувствую себя так, будто шагаю вместе с тысячами переселенцев, таща на горбу тяжкий груз воспоминаний. Не пристало оплакивать судьбу этого города тому, кто не оставил здесь, вроде других несчастных, никакого имущества, каморки, дома, сада, улицы, ничего не потерял, кроме запаха ночи в ноздрях и далекого шума реки, который усыплял меня в детстве. Если бы я оказался среди беженцев, мне не понадобился бы ни грузовик для пожитков, ни даже ручная тележка, которую мы называли «циварама» или «кариолама», – я бы ушел со своими братьями по бездомности, засунув руки в пустые карманы. Тяжелее всего в жизни мне досталась потеря тенистой улицы и гигантской вербы, которая смотрелась в Миляцку у «Театрального кафе»: шершавая, изборожденная морщинами кора дерева, на которой я, приезжая юношей в Сараево на лето, вырезал имя первой своей любви – шесть букв, слетевших с кончика лезвия перочинного ножа, с годами росли и росли вместе с деревом, пока не оплыли и не приняли окончательно в темно-сером цвете коры форму навсегда исчезнувшей мечты.
«Бесчисленное множество безымянных изуродованных тел, брошенных в котлы и на свалки, плывущих по Миляцке, разлагающихся на улицах и в мусорных баках; тысячи перебитых, изнасилованных, униженных, обесчещенных, обезумевших и убитых в казематах, лагерях, частных тюрьмах… Самое больное воображение не смогло бы придумать такого!» – написал в газете «Явност» анонимный очевидец исхода сербов из Сараево: «Политические авантюристы и торговцы оружием, преступники, каторжники, орды полудиких людей, пройдохи и религиозные фанатики, холуи своих вассалов такой же масти водили этот апокалиптический кровавый хоровод.
Чтобы не повторить трагическую судьбу земляков в предыдущих войнах, часть населения, среди которых были беженцы и изгнанники из Пофалича, Буча-Потока, Велешича… была вынуждена сорганизоваться ради защиты собственного достоинства, чести и векового домашнего очага. Защищались они героически: двенадцать тысяч погибших и раненых. Они отразили тридцать четыре атаки. Даже силы быстрого реагирования НАТО не смогли поколебать их!
И вот последний боевой выстрел! Все, что отстояли собственной кровью и жизнями, преподнесли врагу на тарелочке! Убили сто пятьдесят тысяч душ!
Нас уничтожили авторучкой!»
Человек прощается со своими краями; перед уходом он хочет помолиться за друзей, которых больше нет в живых, и он входит в сожженную церковь, где его крестили, крышу которой снесло снарядом; он зажигает несуществующую свечу перед разрушенным алтарем, а со стены смотрит на него с несуществующей иконы лик святого Георгия!
Пока колонна, засыпанная снегом, медленно тащится по дороге к спасительной горе, человек загружает маленький грузовичок остатками домашнего скарба. Потом усаживает среди узлов семью, а старуху с ребенком – в кабину Он отходит от машины, переходит заледеневший газон и еще раз входит в дом. Это солидное приземистое здание, типичное для пригорода. В опустевших комнатах, где по недавно положенному желтоватому паркету эхом отдаются шаги, остались кое-какие вещи: два платяных шкафа, слишком больших для того, чтобы взять их с собой, пустые каркасы кроватей без матрасов и белья.
Человек зарос двухнедельной щетиной, поскольку соблюдающие глубокий траур не бреются. Он поливает паркет бензином из военной канистры, некоторое время вдыхая его отвратительный запах, закуривает сигарету и бросает спичку на пол.
Не оборачиваясь, он выходит из дома, а языки пламени уже лижут оконные стекла.
Люди в колонне даже не оборачиваются на неожиданно вспыхнувший факел.
Внизу, вдоль дороги, дымятся и догорают ряды похожих домов. Сараево горит.
– Все это развивается по новому плану номер 43, – развлекает шутник ожидающих грузовик людей с пожитками. – Завяжи узелок, забудь свой уголок!
Американские телерепортеры снимают непривычные пейзажи, которые еще сегодня вечером, благодаря спутникам связи, появятся на всех телеэкранах планеты.
Государственный секретарь Соединенных Штатов заявляет в Вашингтоне, что «сербы пытаются сорвать усилия американской внешней политики…».
– Неужели он не понимает, что несчастные не то что понятия не имеют о внешней политике США, они даже не знают, где эта страна находится! – кричит мне в телефонную трубку друг из Женевы, родом из этих краев, который увидел по телевизору, как горит его село.
Понимает ли кто-нибудь, что значит поджечь собственный дом, построенный благодаря долгому отказу от очень многого, в котором человек собственными руками положил каждую черепицу на крыше и ощупал каждый кирпич, положенный в стену?
«Эти вчера еще такие надменные и как бы непобедимые сербы в панике оставляют Сараево, чтобы избежать справедливого наказания за совершенные преступления!» (Комментарий выпуска новостей Первой программы французского телевидения).
Хрупкая маленькая старушка в черном похожа на потерявшуюся в снегу ворону; она несет в руках пластиковый бочонок, в каком обычно солят на зиму овощи. Никто не хочет принять ее бочонок к себе – места нет ни единого. Ее уговаривают бросить тяжелый груз: легче будет добраться до перевала, но она отказывается и продолжает ковылять по дороге.
В бочонке лежат выкопанные кости ее сына, погибшего в самом начале войны. Она слишком бедна, чтобы оплатить транспортировку.
У дороги лежат три улья с пчелами, впавшими в глубокий зимний сон. Ульи, засыпанные снегом, оставил хозяин, чтобы вернуться за ними, как только доставит первые три.
Проснувшись весной и вылетев из улья, пчелы окажутся среди незнакомых полей: и цветы, и воздух, и роса на траве – все будет пахнуть не так. У нового меда будет особый, горький вкус.
Скрипят и проседают под тяжким грузом старые телеги, запряженные волами. Колеса часто застревают в ямах разбитой дороги, и хозяин подставляет широкие сильные плечи, вытаскивая телегу и подбодряя голосом волов. Укрытая ящиками и плетеными корзинами, в телеге покоится икона святого Иоанна Крестителя и маленькая неугасимая лампадка, словно одинокая звезда мерцающая в сизом сумраке. Древко с сербским флагом лежит среди холстов и постельного белья.
Мусульманские дети, сбежавшиеся из окрестных поселений, бросают камни в колонну, плетущуюся по разбитой дороге. Трескаются стекла у грузовиков и легковушек. На это спокойно посматривают международные полицейские, контролирующие движение переселенцев.
В бесконечной колонне тягачей, грузовиков, танков, конских и воловьих упряжек, пешеходов с тяжелыми узлами на плечах и пластиковыми мешками в руках я заметил голодного парнишку с большими светлыми глазами, который из-под брезента повозки, зажатый домашней мебелью, смотрит на крупные снежинки, падающие на город, который он оставляет навсегда. Я подумал: вот кто лет двадцать спустя, может быть, напишет великий роман о переселении и изгнании своего народа!
Коренные жители, мусульмане, потомки старых сараевских семей, сидя на покрытых коврами полах и попивая из филджанов сладкий кофе, озабоченно кивают головами:
– Валах, это добром не кончится… – вздыхают они, и в несчастье позавчерашних соседей видят знаки страшной грядущей беды.
Самые старые из них помнят, что некогда говаривали: «Не уходит из дома, совсем как чума из Сараево!» Жизнь полна видимых и невидимых знаков, которые давно, еще в XVIII веке, записывал в Сараево уважаемый Мулла Мустафа Башеския, летописец города, именем которого теперь названа моя бывшая улица.
«В месяце августе, когда ночью человек двадцать-тридцать развлекались в мевлевийском саду вблизи Мегары, послышался вражий шум и рукоплескание, как и бросание камней, каковое продолжалось часа три, и слышалась также в воздухе и по прекрасной погоде пальба из сигнальной пушки. В тот же год видал я своими глазами во дворе мечети Беговой, как выпала из песка на землю малолетняя дева, а песок остался на руках носильщика. В помянутый год, когда муэдзин возносил молитву на минарете Кантар-Беговой мечети, завыл густым голосом в тот же момент пестрый пес, на что люди предрекли, будто то есть знак чумы, что вскоре и приключилось».
И день и ночь спасался со своим народом сиротским, от города к городу, ровно ладья в пучине великого океана, бегству мы отдаемся, ожидая заката светила, чтобы день перемаяться и темную ночь переночевать, и зимнюю стужу, что на нас надает, одолеть. Потому что не имамо того, кто нам присоветует, как нет и того, кто нас от неволи спасет, и неволя наша от того умножается. И рек я в слезах: Доколе, Господи, Ты нас помнить перестаешь, Доколе врази восставать будут на достояние твое? Восстани, Господи! Что спишь Ты, почто лице Твое, Господи, отвратил Ты от нас? И воскресни вновь, Господи, помози нам имени Твоего ради! И так непрестанно рыдание на рыдание возлагаем, и нет нам помочи ниоткуда.Арсение Чарноевич (около 1633–1706) «Молитва уснувшему Господу»
Снег укрыл последние следы тех, кто навсегда оставил Сараево.
На старых географических картах новыми красками начертили новые границы. Установили их какие-то неизвестные мудрецы, которые никогда не пили воду из родников Босны, не видели сливовых садов над Сараево – картографы, никогда не читавшие имен, вытесанных на кладбищенских крестах, к которым больше никто не приносит цветов.
Народ переселяется с одного конца несчастной Боснии на другой или же уходит в соседние государства. Расторопные иностранцы надзирают за великим переселением из белоснежных броневиков с пулеметами. Другие, в цивильной одежде, носятся с одного края города на другой, обещая, угрожая, уговаривая, заполняя заявлениями телевизионные экраны и газетные колонки.
Изуродованные сараевские кварталы зализывают раны, словно коты после драки.
Ремонтируются крыши и вставляются стекла.
Кое-кто из покинувших Сараево возвращается, чтобы увидеть останки позавчерашней жизни и продать кое-что из сохранившегося имущества, если это получится.
И те, что поселились в их квартирах и домах, так же как и сербы, верят в то, что «отнятое – проклятое», и знают из опыта предков, что их настигнет огромная беда, если они не заплатят бывшим хозяевам хотя бы часть настоящей цены.
А если беда минует их, то наверняка постигнет детей и внуков, которые, собственно, ни в чем не виноваты.
Набравшись печального беженского опыта, другие возвращаются, чтобы, совсем как в старые времена, стать турецкой райей. Мусульманские власти благосклонно позволяют возвратиться сербам, которые во время войны не брали в руки оружие.
Но у кого его не было?
В Сараево могут вернуться и те, кто никогда не утверждал, что это – сербский город. Те, кто согласен продолжить здесь существование гражданином второго сорта, кто согласится на любые унижения ради корки хлеба и крыши над головой. Их детей опять лишат права на историческую память. Отпечатаны новые школьные учебники, в которых нет сербских имен, истории и литературы. Детей с малых лет принуждают учить арабский и отказываться от свинины. Растет поколение новых янычар.
Христиане лишены права занимать в этом исламском городе-государстве мало-мальски значительную должность.
Переименованы улицы и площади.
Вокруг города на пограничных переходах процветает торговля.
Ловкие и оборотистые люди с обеих сторон составляют богатства, верша междоусобную торговлю.
Нефть, бензин, ракия, американские сигареты и виски, баранина с окрестных гор, сыр и электроника – все в обороте, все имеет свою цену. Идет обмен упаковками и сведениями о пропавших без вести.
Подкуплены охранники, отечественные и иностранные солдаты. Здесь все покупается и продается, от ворованных вещей до живых людей, проникновение которых в Сараево и выход из него имеет четко установленную цену.
Сюда приходят встретиться те, кого разлучила война.
Опасающиеся мести остаются на своей стороне, другие же, которые ничем не провинились перед властями, переходят границу, чтобы повидаться с первыми.
Сидят на земле, курят, плачут и рассказывают о том, что с ними приключилось за то время, что не виделись.
Таксисты-мусульмане подъезжают к демаркационной линии и провозят сербов в город за большие деньги, гарантируя им безопасность, потому что хорошо знакомы с охранниками и патрулями и подкупают их.
Вновь появляется особый род ловких и оборотистых людей, перекупщиков и оптовых торговцев, скупающих все и вся, род людей, одолевающих историю и войны и которых не интересует ничего, кроме голого существования и обогащения. Это тот самый древний менталитет, что сотворил самых богатых сербов-ташлиханов еще во времена турецкого ига, которые получили прозвище по названию исчезнувшего Ташли-хана, в котором им было дозволено держать небольшие лавки.
Ташли-хан был массивным каменным квадратным строением с крытым мощеным двором, с очагом в центре, у которого грелись извозчики. Внизу находились конюшни и небольшие лавки с разнообразным товаром и упряжью, востребованной путешественниками, а на втором этаже – комнаты для ночлега. Сербские торговцы, получившие привилегию на торговлю в Ташли-хане, внешне совсем не отличались от турок: они, как и турки, носили фески, черные шальвары с большой мотней и доломаны. Предприимчивые и экономные, со временем они так разбогатели, что один из них, Ефтанович, когда Ташли-хан сгорел, купил землю и построил на его месте знаменитый отель «Европа».
Ташлиханы, эти некогда мелкие, униженные торговцы, со временем стали всесильной сараевской аристократией.
На новых границах между сербами и мусульманами, еще вчера воевавшими между собой, создаются новые капиталы. Небольшой киоск с двумя столиками и кегом самого дорогого в Европе пива в один прекрасный день превратится в роскошную гостиницу. Те, кто сегодня торгуют бензином в пластиковых бутылках из-под кока-колы, вскоре станут хозяевами сети бензоколонок. У денег нет национальности – на развалинах позавчерашнего Сараево рождаются новые ташлиханы, опьяненные страстью приобретательства, с торговыми связями по обе стороны границы, которым все равно, кто правит в Сараево, лишь бы только не вмешивался в их дела.
Словно грибы после дождя, вырастают барахолки, фри-шопы и свободные экономические зоны, в которых ходят любые деньги.
Этот новый деловой дух открывает автобусные линии, и совсем скоро самолеты свяжут аэродромы некогда смертельных врагов.
Мертвых забудут.
Живые – те, кто потерял глаза, руки, ноги и надежду – будут просить милостыню перед мечетями и уцелевшими церквами, точно как после предыдущих войн.
Богатый арабский мир засыплет золотом Сараево, единственный правоверный город-кантон в Европе, и в него в поисках хорошего заработка, опять начнут стягиваться пришельцы разных национальностей и верований, а с ним и многочисленные жадные сербы – предлагать знания и услуги новым господам, и никто в этом не обнаружит ничего странного.
Только те не вернутся в Сараево, кто слишком любил его, чтобы увидеть изнасилованный и оскверненный город, но таких будет очень мало.
Сербы строят новое Сараево. Разработку планов футуристического проекта доверили знаменитому строителю и урбанисту Ивану Античу, который вместе с коллегами разработал проект города на двести пятьдесят тысяч жителей. Мы стоим в гостинице «Бистрица» на Яхорине над гигантским макетом будущего Сараево, которое устремилось в небо, на горы, вытягиваясь вдоль их хребтов. Я смотрю на новый город и отыскиваю его новую Главную улицу, протянувшуюся под горным перевалом, которая ведет меня к центральной площади с Соборной церковью, Театром, Университетом и зданиями министерств. Из нового города изгнанники смогут видеть тот, старый – если его не укроет смог. Как будут выглядеть его завтрашние жители? Во всяком случае, они будут на тысячу метров ближе к звездам, в отличие от нас, которые так редко видели их, когда это позволял рассеявшийся туман.
И так вот будет жить одно Сараево над другим. И в новом, и в старом дети опять будут воровать в ближайших садах черешню, а слова «я тебя люблю» в устах восемнадцатилетних будут звучать как только что найденные, произнесенные впервые в жизни.
И вновь весенние цветы покроют старые раны и шрамы.
Только это будет совсем не тот город, который мы любили.
Это будет то самое вечное, подпольное зло, которое станет терпеливо ждать ровно столько, сколько потребуется, чтобы вдруг, в один прекрасный день, когда никто не будет думать об этом, разбудить древнюю ненависть, вздыбить на своих плечах асфальт и мостовые и так встряхнуть землю, что вздрогнут окрестные горы и начнет чудовище пожирать окрест все живое и мертвое.
И хотя военный огонь потушен толстыми резиновыми подметками чужих солдатских сапог, под пеплом осталось достаточно жара для того, чтобы снова вспыхнул этот город – «очаг всех войн».
150.1. Хвалите Бога во святыне Его, хвалите Его на тверди силы Его. 2. Хвалите Его по могуществу Его, хвалите Его по множеству величия Его. 6. Все дышащее да хвалит Господа! Аллилуйя.
Молочно-серая заря, что все сильнее врывалась сквозь окна купола, растворяла очертания колонн, иконостасов и монахов в море бледного света – церковь медленно превращалась в корабль, бесшумно плывущий на встречу с берегом нового дня. Псалтирь и в эту ночь, кто знает в который раз, был дочитан до конца.
Лица и пейзажи, улицы и история города Сараево терялись и таяли в бледном свете раннего утра, навечно сливаясь со стенами, каменными плитами и колоннами, вновь поднимаясь к куполу, который, казалось, поднимался словно дирижабль.
Все, что я когда-то любил и чем владел, я видел будто в стеклянном шаре судьбы, подсвеченном горящими восковыми свечами, и вот все это исчезло с наступлением утра, как сверкающий мыльный пузырь, растворившийся в небе над Хилан-даром.
Я навечно оставляю их здесь, на Святой горе, где все утопает в вечности времени, застывшем на месте и никуда не текущем…
Прощайте, сладкие тени потерянного города! Я молча вышел из церкви с монахами, расходящимися по своим каждодневным делам.
Я отправился с теми, кто ухаживает за монастырским садом. Они заткнули полы ряс за кожаные ремни, чтобы не мешали работать. Согбенные, окапывая деревья и пропалывая овощи, они продолжали молиться про себя. Что может быть усерднее молитвы, обращенной к нежным росткам, что прорастают из святой хиландарской земли?
Как я завидовал их миру и спокойствию! Но мир, которому я принадлежу, нетерпеливо ожидал моего возвращения, чтобы продолжить исполнение моего пожизненного наказания. Тем не менее я чувствовал, что уже не смогу оставаться прежним. В голове у меня звучала тихая, вполголоса произнесенная фраза отца Митрофана:
– Наше только то, что отдаем другим!
Уезжая из монастыря по пыльной разбитой дороге по направлению к морскому берегу, я оглянулся и еще раз посмотрел на Хиландар, который продолжал притягивать к себе, несмотря на скрывающие его высокие кипарисы, похожие на отряд витязей, охраняющих святыню.
Монах Пантелей стоял все на том же месте, на террасе, глядя в пучину, словно за время моего отсутствия не шелохнулся.
Меня опять подобрал пароходик «Неарода», палубы которого казались черными от монашеских ряс. Я прилег под трапом, ведущим на капитанский мостик, сунув сумку под голову, и смотрел на стаю чаек, которые, вскрикивая и ныряя в пенящиеся волны, сопровождали пароход. Я попытался пересчитать их в полете, но ничего не получилось. Тем не менее, я готов был поклясться, что их было двадцать шесть, и что это были те самые птицы, которых я встретил у монастыря Зографа, поверив, что в них вселились души давно погибших монахов. И вот, о чудо! Когда мы доплыли до пограничной каменной стены, отделяющей Святую гору от остатков полуострова Атос, откуда начинается светская земля, будто по какому-то молчаливому сигналу чайки замерли в воздухе: они словно столкнулись с невидимой стеной, развернулись и направились к югу.
Вскоре мы бросили якорь в порту Уранополиса, откуда поднимались облака дыма, запахи жареного на углях мяса, сувлаков, пайдакиев и гиросов, сквозь которые пробивался говор полуголой толпы, упоенной летом, продававшей и покупавшей все, что попадало в руки.
Я сошел с парохода, закинув за плечо сумку, которая стала намного легче. Наверное, потому, что я оставил на Святой горе свой тяжкий сараевский багаж.
Пока меня опутывала лившаяся из громкоговорителей липкая восточная музыка малоазиатских греков, я вспомнил притчу о хиландарском игумене Даниле, которому летом 1924 года во время усердной молитвы явилась тень Георгия Хиландариоса, строителя разоренного монастыря, на фундаменте которого сербы воздвигли Хиландар: словно прозревая будущее, Георгий, говорят, произнес перед монахом Данилой семь слов пророчества:
– Полумесяц опять угрожает кресту… Будет плач великий.
Меня потом спрашивали, долго ли я пробыл в Хиландаре?
День, ночь и всю жизнь!
1996
Примечания
1
Вилайет (тур.) – провинция; «темный вилайет» в сербской мифологии – царство мрака.
(обратно)2
Марш сербского композитора Ст. Бинички времен Первой мировой воины
(обратно)3
Остров на р. Сава при ее впадении в Дунай
(обратно)4
Периферийный район Белграда
(обратно)5
Вук Караджич (1787–1864), автор первой грамматики и словаря сербского языка
(обратно)6
Иво Андрич (1892–1975), сербский писатель, лауреат Нобелевской премии (1961), уроженец Сараево
(обратно)7
Свободный (серб.)
(обратно)8
Гостиница (ит.)
(обратно)9
Принц (ит.)
(обратно)10
Здесь – жители области Нови Пазар мусульманского вероисповедания.
(обратно)11
Хорваты в подавляющем большинстве исповедуют католицизм.
(обратно)12
Здесь «хан» – гостиница (турец.)
(обратно)13
Здесь – Кривой (серб.)
(обратно)14
Касапин (тур. – серб.) – мясник.
(обратно)

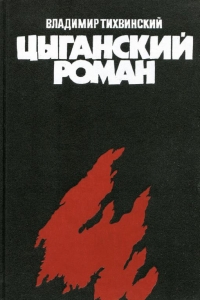


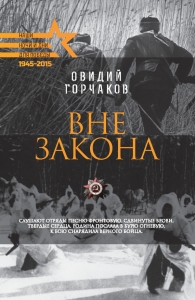
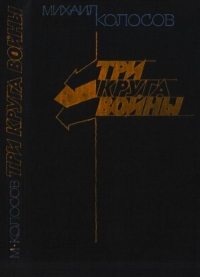

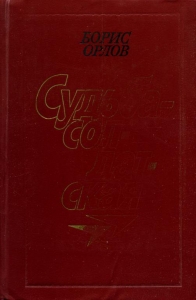




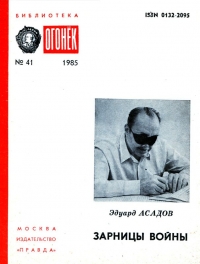
Комментарии к книге «Хроника потерянного города. Сараевская трилогия», Момо Капор
Всего 0 комментариев