Василий Камянский ЗВЕЗДЫ НЕ МЕРКНУТ Повесть
1
Когда красное знамя торжествующе распахнулось по ветру высоко над крышей вокзала, Кириллу Атласову захотелось увидеть всю Калугу. Оставленные города он знал, но это был на его пути первый освобожденный…
Не обращая внимания на пули, еще прилетавшие откуда-то из-за составов, забивших пути, он побежал к железной лестнице, по которой только что взобрался наверх со знаменем сержант Андреев. Вдоль перрона, заваленного снегом и брошенным военным имуществом, стояли платформы с немецкими танками. На борту одного из них Кирилл увидел Поддубного. Разведчик полулежал, мечтательно дымя большой трофейной сигарой. Полы его изорванного маскировочного халата были раскинуты, за поясом, между гранатой и запасным диском к «ППШ», торчал вороненый парабеллум, на груди висел трофейный автомат, а свой лежал рядом, под рукой. Заметив командира взвода, Поддубный выдернул сигару изо рта, но позы не изменил.
— Бегом к старшине! — остановился Кирилл. — Отведешь пленных в штаб полка. Улица Огарева, сто семь, куда ночью водил.
— То есть, — медленно сел Поддубный, — Альбатрос не будет фотографироваться? Остальные — герои, а он, выходит, дерьмо?
— Не понимаю…
— Какое неуважение к красоте, товарищ лейтенант!.. Вы забыли ту симпатичную цыпочку с «лейкой», что приходила из газеты перед наступлением? Она ведь определенно обещала всему взводу: «Буду на вокзале разом с разведчиками. Страна увидит героев!» Альбатрос ждет.
— Вот оно что!
— Законный факт! Или, может, Поддубный не проливал свою молодую кровь за этот город Калугу?! Или не он час назад вскочил в эту дохлую керосинку, — разведчик пнул пяткой танк, — и не долбал фрицев из их же пулемета, пока товарищ лейтенант гранатами снимал прислугу с паровоза?! Мировая работка!.. Тридцать два танка — вот они, как на блюдечке! — Он повел длинными диковатыми глазами вдоль эшелона, затянулся и великолепным жестом отшвырнул сигару. — Пишите в штаб, товарищ лейтенант. Скорее пишите! Иначе нашу славу умоют. Вот!.. — привскочил он и указал автоматом в сторону водокачки, где на железнодорожные пути группами хлынули из переулка бойцы соседнего полка, охватывавшего вокзал с юго-запада. — Видите, сколько еще героев?..
— Да-а, — улыбнулся Кирилл, обрадовавшись подмоге. — Придется делить славу.
Он снял ушанку и стал вытирать ею лоб, прислушиваясь к звукам быстро угасавшего боя и все еще не веря, что отбитая сейчас контратака была последней. Настывший плотный мех приятно холодил кожу. Нервное возбуждение проходило. Атласовым овладевали усталость и то сложное душевное состояние, какое всегда переживал он в первые моменты после удачного боя. То было чувство огромного облегчения, вновь обретенного простора и какой-то грустной радости, словно перевалил он через крутую гору, все страшное осталось позади, но там же навеки осталась и частица чего-то очень дорогого.
— Придется делить славу, солдат! — повторил он и рассмеялся, видя, как закрутил разведчик горбатым носом. — Не согласен?
— Поддубный не из тех, кто на своем горбу возит других в рай! Вокзал и танки брал наш взвод, и мальчик из Анапы желает послать в родной город точный документ об этом.
Он развалился в прежней живописной позе и, не поворачивая головы, постучал прикладом в башню:
— Эй, цуцик, покажи товарищу лейтенанту свою заграничную морду!
Из люка показался толстый эсэсовец в черном мундире с отодранным воротником, со следами крови в углах мясистого рта. Подняв руки, он злобно отвел в сторону глаза.
— Что за номер? — нахмурился Кирилл. — На кой черт ты воткнул его туда?
— Солидный пейзажик?..
— Встать!
Мгновенным и точным прыжком Поддубный соскочил на перрон, вытянулся.
Кирилл поерошил темные волосы, от которых шел пар, надел шапку чуть набекрень, как всегда.
— Пора знать порядок, Поддубный. Месяц в армии. Опусти руки, — приказал он эсэсовцу по-немецки.
— Разрешите доложить, товарищ лейтенант?
— Короче.
— Абсолютно вкратце! Когда в родном городе Анапе Альбатросу требовалась картинка с его личности, он шел на Золотой пляж, где работал самый дорогой «пушкарь» Сеня Цукерман, просовывал голову в круглую дырку и через пять минут имел то, что надо: вороной конь, черкеска в серебре, сабля наголо! Любая девочка при виде такой красоты млела, как ставрида на горячем песке! Но то было золотое мирное времечко. Искусство могло делать даже из такого простого колхозного рыбака, как Ваня Поддубный, роскошного абрека. Пожалуйста! Вреда никому, а дурам нравилось. А сейчас… — разведчик с хлестом набросил ремень автомата на плечо, — сейчас все у нас должно быть правдой!.. Этого типа, — презрительным движением подбородка указал он на эсэсовца, — этого черного гада пришлось по кусочкам вынимать из его «оппеля», там, за путями, когда он собрался драпать. Зато получится не фото, а натуральный Репин: «Иван Поддубный бьет фашистов, или капут Гитлеру». Идейно?
— Значит, воткнул его в танк для фона?
— То есть?..
— Как декорацию, говорю.
— Абсолютно! Ну… потом… на ветру он подох бы в своей паршивой робе, а в коробке не дует.
Неожиданно из-под платформы выскочил юный лейтенант Демьяненко — командир роты соседнего полка, обрадованно сунул Кириллу цепкую ладошку:
— Здравствуй, Атласов! У тебя есть какая-нибудь связь?
— Рация…
— Дай, браток, поговорить с полком. Мою долбануло снарядом еще там, за водокачкой… Похоже, фриц собирается контратаковать меня от арсенала.
— Проводи товарища лейтенанта, Поддубный! Пленных убери немедленно с вокзала. Старшине скажи, чтобы взвод держал в кулаке. Я на минутку поднимусь на крышу к Андрееву. Что-то он копается…
2
Город лежал перед Атласовым истерзанный боем, который восемь дней неумолчно гремел на окраинах, а затем бурно хлынул в неширокие улицы и клокотал еще два дня — на земле и в небе…
Первоначальный план командования — пробиться в Калугу с юга излучиной Оки — не удавался.
Отходившие сюда из-под Алексина и Тулы соединения 43-го армейского корпуса генерала Хейнрици успели закрепиться на рубеже Ахлебинино, Никольское, Секиотово, превратив эти села в опорные пункты, и не только ожесточенно оборонялись, но и часто контратаковали, пользуясь большим перевесом в личном составе, артиллерии и особенно в танках. А из города приходили вести одна тревожнее другой: фашисты истязали калужан, жгли дома и предприятия, лихорадочно грузили в эшелоны заводское оборудование, расшивали железнодорожную колею. Тогда 885-й стрелковый полк и был внезапно, в ночь на 25 декабря, развернут фронтом на восток. Без артподготовки, штыковым ударом во фланг полк взял Никольское, истребив там батальон 431-го полка 131-й пехотной дивизии, и к утру был уже в Криушах — на левом берегу Оки. За ним пошла вся дивизия. По шоссе Тула— Калуга, на плечах врага, головные подразделения утром 26-го ворвались в Турынино. Отсюда, с просторных белых высот, Атласов тогда впервые увидел Калугу, рядом, в черных дымах.
Командованием дивизии была обещана награда полку, который первым выйдет к Московскому вокзалу, а также бойцу или командиру, который водрузит на нем красное знамя. «Калуга нас ждет, товарищи! — говорилось в приказе, напечатанном в дивизионной газете „За правое дело“. — Ждут советские люди! Вперед за Родину!» Но враг понимал, что потеря турынинских высот означала для него потерю города; фашисту бросили сюда свежую пехоту, танки, авиацию. За четыре дня боя от красивого села Турынино остались одни чадящие головешки. Только к полудню 30 декабря, обтекая высоты с севера, лесом, бойцы 883-го полка мелкими группами пробились к железной дороге у окраины города и захватили арсенал, наполовину подорванный. Сражение потекло в улицы. В пятом часу утра 31-го разведчики Атласова увидели наконец перед собой маленькую привокзальную площадь. Каменное здание на той стороне дышало огнем. Гитлеровцы стреляли из окон и дверей… Лишь к вечеру, когда соседняя дивизия, наступавшая с юга, от Секиотово, форсировала Оку, враг панически рванулся из города на северо-запад.
…Освещенная красным закатным солнцем, Калуга была хорошо видна Атласову с крыши вокзала — вся, до промятой снежной дороги через Оку на южной окраине. Снег на домах сверкал и местами казался забрызганным кровью; зияли проломами стены; разрушенные кварталы чернели вдали, как пропасти, со дна которых курились белесые дымки. Но Кирилл, окинув все это одним взглядом, спешил найти арсенал.
В бинокль он показался рядом — низкий, темно-красный на белом квадрате двора. Над рухнувшим южным крылом висело желтое облако; от него внутрь здания тянулась узкая полоса дыма, похожая на шланг. За арсеналом, в окраинных проулках и оврагах, скапливалась вражеская пехота; прятались за домиками артиллерийские тягачи и крытые фургоны, изредка проползали танки. Но Демьяненко ошибся: контратаковать немцы не собирались. Одна колонна поспешно вытягивалась на шоссе к Анненкам, другая уходила снежной целиной на север, в сторону разъезда Азарово.
— Что копаешься, орелик? — весело крикнул Кирилл сержанту, который вдруг снова стал прикручивать обрывками проводов древко знамени к железной стойке с множеством изоляторов.
— А чтобы до победы стояло, товарищ лейтенант!
Он выпрямился, широко разодрал губастый рот и простуженно закричал «ура». Снизу отозвались ликующими криками, автоматными очередями.
Они стояли на самом гребне крыши, держась за стойку, лейтенант и сержант, оба невысокие, плечистые, оба красные от мороза, и удивленно, радостно глядели на город. Знамя над ними трепетало, хлопало на крепнущем ветру. Оно было самой яркой точкой в центре широкой мрачной панорамы — словно солнце, которое уже опустилось на щербатый лесистый горизонт, кинуло все последние лучи на это родное полотнище.
— До победы, Миша?..
Кирилл взял сержанта за плечо, заглянул в растерянные от счастья глаза. Похожие глаза он уже видел однажды: в первый день наступления, в Маслове…
— А теперь, видать, не так уж долго… — Андреев встал поудобнее. — Теперь дело пошло куда как веселее.
На привокзальной площади, на улицах, во дворах, в садиках — всюду видны были пушки, легковые и грузовые машины, табуны мотоциклов, танки, зарядные ящики, патронные ящики, пулеметы, минометы, штабеля снарядов, мешки с вещевым довольствием, тюки, штабные автобусы, конные фургоны, снова пушки, пушки, машины…
Все было перепутано, сцеплено, искорежено, брошено кучами. Все говорило о беспощадной ярости отбушевавшей тут битвы, о повальном бегстве врага. Куда?..
Следуя взглядом за толстым пальцем сержанта, Кирилл увидел невдалеке, против белого здания, похожего на театр, обширную заснеженную площадь, наверное центральную в городе. Вся она была уставлена бесконечными тесными ровными рядами березовых крестов под черными касками. С жестоким чувством удовлетворения глядел Атласов на это железное кладбище. Тысячи касок! «За все вам, проклятые, за все!» — думал он. Одновременно его охватила боль. Прежде чем увидеть эту враждебную равнину пустых касок бывших солдат 31, 131 и 137-й пехотных дивизий, там, вокруг города, на иссеченных снарядами опушках, он видел иные могилы. Над каждой печально стоит четырехгранный столбик с красной звездочкой. Химическим карандашом по свежеоструганной сосне трогательно выведены фамилия, воинское звание. Иногда есть еще фотография, приколотая товарищем… Дорогие сердцу скромные, родные могилки под сенью леса, на околицах, в чистом поле…
Солнце зашло. Ветер, посвистывая, рвал на лоскуты багровое облако у горизонта. В улицах до крыш поднялась темнота. На южной окраине сильнее разгорался пожар. Через привокзальную площадь тянулась пехота…
— А верно, товарищ лейтенант, будто Гитлер лично в Калуге был?
— Ставку ему готовили.
Сержант захохотал.
— Ну, мы вставили ему!..
Он спрятал пунцовые уши под шапку, которую, подражая своему командиру, никогда не отворачивал, посмотрел в поле.
— А здорово, видать, завьюжит к ночи. Вон как вздымливает!
— Похоже.
— Нам теперь плевать! В городе не страшно. Организуем квартирку потеплее, чаек и — на боковую! Оторвем за все дни, как пошли с Тулы. Я сегодня сплю на ходу. Кроме шуток, товарищ лейтенант! А с Мирошей прямо цирк! Контратака эта вот, последняя, а он уснул в окопе, а пулемет не отдает. Я так, я сяк, снегу ему за шиворот — никак! У такого слона разве отнимешь!
— Отдохнуть надо бы…
— Уж куда как! Тоже город поглядеть охота. Известный России город! Папаша — он у меня знатный машинист на Октябрьской — отсюда родом, и ужасно строгий. Он непременно после войны потребует за чаркой: «А ответствуй-ка, меньшой Андреев, в каком таком виде ты отобрал у Гитлера Калугу?» А я что?.. «Извиняйте, мол, папаша, сигал из воронки в воронку носом вниз, не разглядел». Хо, тут такое сражение выйдет — страшнее сегодняшнего! Да и калужанам, я считаю, интересно поглядеть на меня. — Он горделиво выставил ногу. — Какие мы есть освободители.
— На тебя персонально?
Кирилл сбоку, вприщур посмотрел на сержанта.
— А что? — даже несколько обиделся тот. — Не хуже людей. А согласно приказу — то и герой. Во! — указал он на знамя. — Далеко видно!..
— Молодец, тут ты молодец, сержант! — тряхнул его Кирилл. — Но дело ведь не только в тебе. Не ты, не я — так другие сейчас были бы тут. Все равно были бы! И для калужан сейчас каждый наш солдат — герой. В любом из нас они сегодня видят всю Красную Армию, ей рады.
— Верно! — сразу согласился Андреев. — Вот я вам расскажу. Вчера, только мы выскочили на эту Кригштрассе…
— Улицу Огарева.
— Ну да, только фрицы понаприбивали там таких дощечек!.. На углу и ранило Зарубина. «Тащи в дом, в тепле перевяжем», — велю я Мироше. Взошли в угловой домик, а там хуже, чем на воле: голые стены, а на них снег нарос! Фрицы подчистую ограбили, даже печь сломали. Семья на полу, от пуль спасается: сам — по одежке видать, свой брат, железнодорожник, — хозяйка, малышни куча. Увидели нас — мать честная, не отобьешься! — и обнимают, и целуют. А девочка — верите, вот чуть поболе валенка, и худющая страшно! — обхватила Мирошу за ногу и так трогательно выговаривает: «Дяденька красноармеец, не уходи больше, нам страшно!» Мирон обомлел, губы трясутся, шепчет мне: «Товарищ сержант, что делать? У нее сердчишко колотится… Тут…» — и показывает на свое колено!.. Стали уходить, и хозяйка взмолилась: «Родные, как турнете проклятого из города, еще зайдите! Праздник:то какой: и освободили нас, и Новый год тут! Зайдите, всей семьей просим!» Ну, сам — тот построжей, больше молчал, а потом взял пулемет Зарубина и — с нами. Тут его перед вокзалом и убило. Теперь непременно пойти надо к тем сироткам…
— Разведчика к командиру полка! — раздался внизу резкий крик ординарца майора Барабина.
— Сидор-маленький!.. — упавшим голосом прошептал Андреев. Лицо у него потухло. — Что за чертячья жизнь у разведчиков, мать честная!..
3
— От взвода осталось семь человек. Седьмой — я…
Майор покашлял, с усилием поднял на Атласова запавшие глаза.
— Приказ комдива, — тихо сказал он.
В комнате, где недавно распоряжался немецкий комендант, печь еще дышала густым теплом, но майор зябко ежился, все пытался плотнее запахнуться в полушубок, накинутый на плечи.
Кириллу стало неловко за свой резковатый тон.
— Я только докладываю…
— И обязан! — Сухой огонь в черных глазах майора совсем темнил его обветренное лицо, неподвижное от напряжения. — И отдохнуть вам давно пора, понимаю. Но дело важное, солдат. Нельзя допустить осечки! Фашисты угнали сорок паровозов и пятнадцать эшелонов с заводским оборудованием, представляешь? Всю Калугу разоружили!
— А кто сказал, что это все застряло перед Азаровом?
— Железнодорожник оттуда пришел. Час назад. Раненый. Стрелки взорвал. Бывший начальник разъезда. Фамилия его Мацейко, Илья Федорович. Запомни на всякий случай. — Майор снова склонился над картой. — Немцы теперь чинят стрелки. Им потребуется на это десять-двенадцать часов, по словам железнодорожника. А ты возьмешь свой взвод…
Вернулся Сидор-маленький, поставил на стол бутылку водки, дымящийся котелок чаю. Потом стал вынимать из противогазной сумки и молча раскладывать на полотенце хлеб, сало, стручок сухого красного перца…
Майор с упреком следил за ним.
— Ворожишь, турок?
«Турок» было его любимое присловье, которое он, смотря по обстоятельствам, произносил то ласково, то укоризненно, то строго.
На длинном лице ординарца появилось плаксиво решительное выражение.
— Ладно вам! — прикрикнул он, вытирая кружку. — Нельзя ж больному человеку другие сутки морить себя голодом! Перекусите, пока придет кухня.
— Потом, Сидор.
— Слыхал уже. Поешьте!..
Командир полка откинулся на спинку стула, передохнул.
— Ты что на меня кричишь, вроде на батька? Вот отдам в разведку, там научат субординации. Атласов — он научит, сам знаешь! Как, лейтенант, возьмешь его?
— Куда мне такой семафор? За пять километров видно.
Майор безнадежно закрыл глаза.
— Что же делать с тобой, Сидор?
— Поешьте! — не отступал тот, кутая его колени. — Ей-богу, скажу доктору!..
— Вот болячка! А еще земляк, горловский шахтер!
— Так от простуды ж самое верное крутой чай с горилкой та перцем! Дите вы, не знаете?.. Двести граммов — и что бабка пошепчет! А аппетит — юрунда! Можно через силу.
— А может, лейтенант, действительно разбомбим эту чертяку? — постучал майор ногтем по запотевшей бутылке. — Меня и вправду что-то корежит.
Сидор из-за спины майора умоляюще кивал Кириллу.
— Да я, по совести, не прочь! — снял тот шапку. — Сегодня еще не ел…
— Все! Еще кружку, турок! — Командир придвинул к себе сало. — «Харч в обороне — главное!»— так говорилось у нас до декабря, да? Но добрый харч и в наступлении…
Загудел зуммер.
— «Река» слушает! — зашипел Сидор в телефонную трубку, но тут же, округляя глаза, передал ее майору. — Комдив!..
Майор удобнее расставил локти, собрался с силами:
— Слушаю, товарищ двенадцать… — Пальцы свободной правой руки заученно потянулись к седеющему завитку над лбом, крутнули его, как ус. — Да, я тут уже. «Сынки» пошли дальше… Нет, «ниточек» к ним еще не имею… Есть! Есть!.. Да кто вам наговорил, товарищ двенадцать?! Чепуховый насморк… Конечно, в такой день пусть лучше врагу будет кисло! Кстати, трофейщики уже дали мне сводку. Получается, что мы здорово таки пощипали нашего старого знакомого — генерала Хейнрици. Тут не шерсти клок, как говорится, а прямо вилы в бок! Я пошлю вам сводку… Сейчас, по телефону?.. Есть! — Майор вытер повлажневшее лицо, достал из-под карты желтоватый листок, вырванный из полевой книжки, придвинул свечу. — Слушаете, товарищ двенадцать?.. Это по городу только, на моем участке, и, думаю, не точно: не успели все подсчитать… Есть. Докладываю: тридцать два исправных танка… без горючего, кстати… сорок тысяч снарядов, более шести миллионов патронов, сорок восемь орудий, сто пулеметов, двести сорок вагонов с военным имуществом, двенадцать паровозов, более четырехсот автомашин. Слушаете?.. Пока все. Нет, виноват! — Майор поспешно перевернул листочек. — Самое интересное забыл. Эшелон новогодних подарков из Берлина… Да, да, оттуда! И главное, подошел час назад… Именно как кур во щи!.. Вина, сладости, зимние вещи. Побор со всей Европы, конечно. На каждом вагоне плакат: «От фюрера — героям Калуги»… Ну, тут ваше слово, товарищ двенадцать, кого теперь считать героями Калуги…
За окном скрипели полозья, слышались окрики ездовых. Издали накатывался низкий железный гул, и вот цементный пол, и стол, и белые свечи, которых Сидор-маленький зажег целый десяток, начали мелко дрожать: через привокзальную площадь пошли танки.
Накручивая седой клок на палец, майор говорил, дыша с присвистом:
— Нет, нет, товарищ двенадцать, мой сосед дрался хорошо, но вокзал и танки — это наше… Да, да, Атласова работа, именно его!.. Виноват, не слышу… Вот за это спасибо, большое спасибо, Иван Алексеевич!.. Конечно достойны!.. Кирюша! — прикрыл майор трубку. — Тебе за Калугу «Красное Знамя», и Андрееву…
Теплая волна радости подняла Кирилла.
— A-а… как же?..
— Атласов спрашивает, а как же остальным его орлам, товарищ двенадцать?.. Да нет, это он интересуется. Он интересуется, говорю!.. Да вот он, передо мной… Сало резал, а сейчас стоит, переживает… И вовсе я не жадный, просто они у меня все герои… Так ваша школа, товарищ двенадцать! Ваша, ваша!.. Вот это справедливо! Еще раз — спасибо! Сейчас же пришлю на всех наградные… Нет, нет, Атласова не задержим. Он сейчас выходит… Да, сам пойдет, как вы и распорядились… Конечно, лучше его кто же сделает?! Есть! Всего доброго!
Возвращая трубку Сидору, майор задержал взгляд на исхудалом лице разведчика, посопел:
— Поспать бы тебе. Глаза у тебя ненормальные… Иди сюда!
Кирилл обошел стол. Глаза у него жгло, точно их запорошило песком, знаки на карте сливались в рябое зеленоватое пятно. Он потер веки, положил локти на стол. От маленького тела командира шел сухой жар.
— Выйдешь севернее Азарова, сюда. — Майор показал карандашиком место на карте. — Пока немцы чинят стрелки, ты подорвешь рельсы. Иначе наша пехота не успеет… Немцы хотят скорее протолкнуть эшелоны к Тихоновой Пустыне, а мы не дадим! Тихонова Пустынь — очень важный пункт. Смотри: мы берем эту станцию и перерезаем противнику пути отхода на Вязьму по железной дороге, перерезаем дорогу Москва — Сухиничи. Понимаешь?.. Немец на это легко не пойдет. Драка будет. День, может, неделю, черт его знает. Эшелоны за это время — тю-тю! Поплывут в Германию.
— Ясно, товарищ майор.
— Дорога, конечно, охраняется…
— Ясно.
— Выполнишь задание, двигай вперед, в лес, сюда, на эту тропку, к Горенскому. Доложишь по рации.
— Есть.
— И чтоб пехота на пятки не наступила!
— Есть!
— Действуй, солдат!..
4
Первым шел Кирилл в белом маскхалате, с автоматом на груди. Следом цепочкой двигались шестеро — тоже в белом. Чтобы не потеряться в темноте, держались теснее. Шли третий час, а им казалось — целую вечность: так мотала вьюга, застигшая еще у города.
Там, где шоссе круто забирало к северу и надо было оставлять его, наткнулись на обгоревший немецкий танк.
— Отдохнем! — крикнул Кирилл, оборачиваясь к Андрееву.
Сержант с ходу толкнул его головой в грудь, выпрямился, рукавицами загородился от снега.
— Пришли?
— Садись! — приказал Кирилл.
— Припоздаем, товарищ лейтенант, — с тревогой сказал старшина.
— Нет! Отдохнем.
Ноги у Кирилла дрожали и подкашивались. Он привалился плечом к броне, еще дышавшей теплой гарью, натянул на лицо капюшон халата.
Бойцы молча устраивались рядом. Радист Пчелкин выгреб в сугробе ямку и сел, доверчиво прижимаясь узкой спиной к ногам лейтенанта.
Ветер пронзительно свистел. Сухая крупа стучала по заледеневшим халатам, как по жести.
В тепле щеки у Кирилла горели до боли. Потом это прошло. Навалилась дремота. В гаснущем сознании возникали картины пережитого, то смутные, словно плывущие в тумане, то яркие, как ракеты ночью. Вот улица в Калуге, похожая на огненный туннель. Из сизой хмари вываливается черный «юнкере», роняя железную каплю, и четырехэтажный домина раскалывается, точно полено под топором. Из трещин льется пламя и растекается по мостовой, липкое, как кровь. Падает срубленный снарядом телеграфный столб, а через него острыми плечами в пылающую дверь валится, проглотив крик, ариец в кургузом мундирчике. День или вечность назад он, Атласов, убил его? Каска летит прочь, и огонь хватает лохматую голову врага. День или вечность назад это было? Огромно время на войне!..
Жестоким усилием ноли Кирилл заставляет себя проснуться, испытывая колющую боль под черепом. А через минуту засыпает опять. И опять перед ним четкая, но теперь далекая-далекая, как в перевернутый бинокль, картина. Меж двумя пирамидальными тополями, строгими, как древки знамени, высится братская могила. В небо вознесен тонкий обелиск, и над ним плавно летит навстречу белым облачкам красная звезда. Мальчик, в полотняной рубашке, загорелый, как ржаной сухарь, и молодая темноволосая женщина стоят у насыпи, еще не поросшей травой, и, подняв заплаканные лица, всматриваются в колонку имен на узкой грани памятника.
У его основания врыт серый камень-валун. На камне высечено крупно:
«Спите, орлы боевые.
Вы заслужили славу и вечный покой».
Вправо, по склону к сверкающему лезвию Кубани, горят хаты. Высоким огнем горят…
Женщина сжимает кулачок сына в черствой ладони, шепчет:
— Смотри, Кирюша! Смотри, горький мой, и не забудь батько!..
Мальчик обращает к ней серые, узкого степного прищура глаза под выгоревшими неласковыми бровками и молчит. Горе, которому никогда не выветриться, нежность, упрек в его глазах, но маленький рот не по-детски сжат…
«Мамо, мамо! — горячо шепчет во сне Кирилл, торопясь теперь сказать то, что не сумел тогда выразить словами босоногий, заплаканный казачонок. — Не говори так, мамо! Под каждую слезу твою я подставляю сердце, как ладони, и ни одна материнская слеза не упала на землю… И разве не твои губы отпивают по капле мою боль, когда мне кричать хочется, а сердце затыкает горло и душит?.. Я — маленький, мамо, и мне очень хочется, чтоб и меня, как других, счастливых, погладил по голове отец. Мой отец — самый лучший на свете! А он уже не придет. Никогда, никогда!.. Я все знаю и все помню. Утром тогда страшная была степь. Вытянулась, как и порубанные казаки, и лежала синяя, и также не откликалась никому. Бабы голосили, а крик падал рядом и глох в бурьяне. Эскадроны шли в пешем строю к яме, а степь молчала. Казаки шли, опустив головы, каждый вел в поводу коня и нес в шапке землю. Я помню, мамо! Ленты на шапках были красные, а земля черная. А следом шла станица. Краю не было людям! И все сыпали землю. Она текла вниз, а могила росла. Я помню!..»
Мать строго указывает вверх, на колонку имен.
— Не забудь!
И читает:
— Мак-сим Ат-ла-сов.
Губы ее блекнут от горя.
Степью они пошли к синим кущам на горизонте. Оттуда, с полустанка, по станице, захваченной белыми, редко било орудие.
Мальчик вздрагивал и оглядывался. Каждый раз он видел над тополями, тонкими, как пики, (немеркнущую звезду…
Еще в полусне Кирилл делает широкий шаг, привычно кладя руки на автомат. Так же пронзительно свистит ветер, сечет лицо жестким снегом, наметает сугробы у каждого бугорка.
…Силы начали сдавать. Порой даже мысль, что надо двинуть ногой или рукой, пронизывала тело болью. Кирилл все чаще застревал в сугробе и только старался закрыть лицо рукавицами. Всякий раз у него за спиной жался в комочек Пчелкин и вполголоса переругивался с Андреевым из-за места; и всякий раз, слыша их сердитую возню, Кирилл испытывал теплые чувства к обоим, прилив сил. Загораживая плечами юного радиста, он кричал: «Жив, Пчелка?.. Все тут?»
Дождавшись ответа от замыкающего — старшины Доли, Кирилл смотрел на компас и опять шагал воющим полем — все время на запад.
Иногда их оглушала внезапная тишина. Только привыкнув к ней, ухо ловило звенящий шорох белой пыли, оседающей косыми потоками.
Вдруг они словно вышагнули из бури, увидели белую насыпь, высокую, как стена.
Минуту-другую Кирилл выжидал, вскинув голову и держа палец на спуске. Затем воткнул автомат прикладом в снег и глубоко передохнул.
— Пришли!..
После трепки на поле тут, под защитой насыпи, казалось тихо, даже тепло.
Стояли еще минуту, слушая гул и свист в клубящейся высоте.
Затем, по знаку лейтенанта, Поддубный, а за ним сапер Гайса Кулибаев поползли вверх. Пока один полз, другой оберегал его. Пять автоматов внизу готовы были защитить обоих. Неожиданно верхний сорвался и подмял Гайсу. Кирилл подвинулся к снежной куче, сползающей сверху.
— Зачем ты такой глупый? — ругался шепотом маленький казах. — Возьми нож!..
— Без психики, душа мой, — успокаивал друга Поддубный. — Что для нас эта сопливая горка!..
Приладил на спину автомат и снова пополз, вбивая в лед финку. И снова сорвался, столкнул сапера. По черному льду, заковавшему почти отвесный бок насыпи, ветер ударил снежной пыльцой, закрутил ее высокой пружиной, сдул…
Тогда огромный Мирон Избищев отдал Пчелкину его рацию и лег ничком на лед, найдя упор для ног. По нему перебрался и лег выше такой же огромный старшина Доля. Затем полезли Поддубный, Гайса… И сержант Андреев уже смог дотянуться рукой до рельса.
Ночь притихла.
Разведчик животом скользнул на площадку, замер. Рыльце автомата нюхало шорохи…
Проглянула меж тучами белая луна. Пустынно молчали поле и насыпь.
Сержант встал, подал Гайсе руку:
— Давай!..
Они вышли южнее заданного места. Кирилл понял это, как только увидел слева, рядом почти, семафор. За ним угадывалось низенькое здание. И так же сразу поняли все, что на разъезде пусто. Ни звука не долетало оттуда, ни искорки не мелькнуло там…
— Дела-а! — озадаченно выдохнул старшина. — Припоздали-таки, товарищ лейтенант…
В осипшем басе его слышалась тревога.
— Не может быть, — неуверенно ответил Кирилл, чувствуя, как ему вдруг становится жарко. — Мы шли два часа сорок минут. Столько же, допустим, добирался к нам железнодорожник. А немцам требовалось десять-двенадцать часов, чтоб исправить повреждение…
— Значит, не было его, повреждения. Обман! — зло сказал Андреев. Он все еще не мог примириться с потерей ночевки в городе. — Доложить надо, чтоб шлепнули ту заразу! Шпион, наверное…
— Ох ты мать честная! — тянул Доля, прилаживая на плече ремень автомата. — Не было хлопчикам такого сраму…
Луну захлестнула туча. В темноте, за близким лесом, встало до неба яркое пламя. На сугробах забились отсветы. Вьюга завыла, пошла полем. Красновато закурилась земля…
— Страшно! — сказал Мирон.
Кирилл обернулся.
Разведчик стоял выпрямившись, комкая шапку в пятерне. Снег набивался в его стриженые волосы, слепил глаза. А он смотрел, не мигая, на пожарище, багровый в его свете, и по широкому лицу его ветер гнал слезу, как искру по камню.
— Россия горит!..
Другие молчали. Старшина все возился с ремнем.
Огонь рос.
— Светит фашист, чтоб мальчик из Анапы не сбился с дороги…
Похоже, Поддубный хотел побалагурить, как всегда, но злоба сдавила ему горло.
Кирилл тронул Мирона за плечо:
— Шагай!..
5
Маленькое служебное здание на разъезде Азарово одиноко жалось к высоким сугробам. В черных окнах дрожали холодные отсветы пожара. Дверь, ведущая к путям, поскрипывала петлями, полуоткрытая…
Гайса, прижимаясь спиной к простенку, тихо-тихо потянул дверь на себя, занес гранату. Из-за палисадничка с заметенными кустами крыжовника целились в дверь и окна еще четверо. Гайса подождал, заглянул в темноту, спокойно вернулся.
— Бежал немец! — доложил он, улыбчиво поблескивая раскосыми глазами. — Вонь остался. Совсем холодный вонь. Давно бежал.
Кирилл вылез из сугроба. Этого он и ждал. Еще там, у семафора, увидев за лесом огонь, он понял, что немцев на разъезде и вблизи нет, что враг сумел оторваться на этом участке от наших войск.
— Проверь халупку, Гайса, — распорядился он, вешая автомат на грудь. — Мин тут небось понатыкано…
Смахнув с бровей ледок, он постоял, осматриваясь и опять выслушивая ночь. Огонь за лесом пылал все так же ярко. Подожжено, конечно, Горенское. В том направлении нет других населенных пунктов. Но раз так, значит, фашисты откатываются еще дальше — на Тихонову Пустынь. Вот уж когда действительно надо пехоте наступать на пятки разведчикам!
— Пчелка, ты как?..
— Ка-ак штык, товарищ лейтенант!.. — стуча зубами, ответил тот.
— Разворачивай рацию.
— Есть!.. Связываться с-с «Р-рекой»?
— И быстрее!
Кирилл поднялся на полотно. Следом, прикрывая командира со спины, беззвучным своим шагом двигался Поддубный. За плечами у него взлетал крылом, хлопал расстегнутый маскхалат.
— Застегнись, — сказал Кирилл.
— Альбатрос любит ветерок…
Поперек рельсов осел на брюхо паровоз. Под откосом лежали разбитые товарные вагоны, станки. Сквозь вьюгу, метрах в двухстах, чернел поселок. Там выла собака. В будке возились Андреев и старшина.
— Усе в порядке, товарищ лейтенант! — успокоенным баском сказал старшина, спрыгивая на землю. — Хлопчики не виноватые…
— На этом нас не объедешь! — засмеялся Андреев и тоже спрыгнул. Нахлестанное ветром мясистое лицо его выглядело совсем черным в полумраке, от недавних огорчений не осталось и следа. — Три годика лечил паровозы, товарищ лейтенант. Что-нибудь понимаем!
— Яснее.
— Своим ходом пришел сюда паровозик! Потом его рванули. Пропустили эшелоны — и фу-ук! Часиков пять-шесть назад.
— Пять-шесть?
— Если не больше. Будьте надежны, товарищ лейтенант! Слесарь Андреев всегда считался на высоте в депо Калинин. Паровозик насквозь мерзлый уже. Паропровод лопнул. А на это нужно, самое малое, пять-шесть часиков при таком морозе.
— Пять часов назад мы еще дрались в Калуге…
— Об чем и речь! — переминаясь с ноги на ногу и постукивая одубелыми валенками, сказал старшина. — Нет нашей вины!
— А главное, стрелочки, товарищ лейтенант, целые! Хоть сами проверьте. Новенькие, как сегодня с завода! Купил нас тот гад! Никакой он, видать, не железнодорожник, а сука первого разряда…
— Чепуха! — рассердился Кирилл. — Нельзя разведчику делать скоропалительных выводов. Говоришь, железнодорожник хотел обмануть нас. Допустим. А кому это надо?
— Врагам! Совсем ясно.
— Совсем? А какой смысл им сообщать нам, что эшелоны застряли перед Азаровом? Ведь они торчали тут какое-то время. Видишь, часть станков пришлось даже бросить!
— Категорически верно… — раздумчиво прогудел Доля.
На Кирилла рухнул с паровоза снег. Он нагнулся, начал трясти капюшон.
— Мишенька! — зашептал Поддубный, надвигая Андрееву шапку на нос. — Сколько раз Альбатрос популярно говорил тебе, что подкручивать гайки в паровозе — одно, а мыслить логически — совсем другое. Логически, понимаешь?.. Инструмент у тебя не тот! Надо верить культурным товарищам.
— Пошел ты… камбала!
Поддубный почти нежно улыбнулся и вдруг намертво схватил сержанта за грудь.
— А вы… заклепка, знаете эту черноморскую рыбку?
Старшина разнял их, как котят.
— Разговорчики!..
— За наши ошибки, Андреев, другие поплатятся жизнью, — все еще нагнувшись, говорил Кирилл.
— Эшелоны-то ушли, товарищ лейтенант…
— Так надо узнать, хоть как они ушли, раз уж мы тут, а не сочинять догадки. А то еще и в штабе заподозрят человека. А ведь он наш, русский…
— Позвольте наведаться до хаток, товарищ лейтенант, — попросился старшина. — Мне вот… с Альбатросом… этим. Там-то есть живые, расскажут.
— И живые, и мертвые есть, — выпрямляясь, сказал Кирилл и предостерегающе поднял руку. — Слышите, как воет собака?
— Подозрительная симфония, — кашлянув, хрипло сказал Поддубный. — Один и тот же песик грустит, а слышно с разных мест. Какой-то ненормальный псих гоняет его, похоже…
— В поселок пойдет Андреев… со мной, — сказал Кирилл.
…Два-три часа назад это действительно был поселок. Хороший рабочий поселок на седьмом километре от Калуги. Кирпичные домики в два порядка, яблоневые садики, школа, клуб. Все уничтожено жестоко и тупо… В черных печных трубах, воющих в низкое, куда-то несущееся небо, разведчикам еще чудился вороний голос врага. Ветер вздымал душный, тяжелый пепел, мешал со снегом, кружил. «А люди, что жили тут, где они? — сурово, как виноватого, спрашивал себя Кирилл, пробираясь от развалины к развалине. — Ни звука живого! Даже собака перестала выть. Почему бы?.. Пепел, только жирный пепел!.. Вот кроватка, бутылка с соской, одеяльце из разноцветных лоскутов… Не богата она, эта железная кроватка, пощаженная огнем! Чтобы иметь ее для своего ребенка, рабочему с разъезда Азарово не потребовалось чужое добро… Нет, никогда не зарились мы на чужое! И путь нам в жизни указывали не пожарища войн, а мирная звезда над серпом и молотом. Так почему же эти Керзоны и Чемберлены, Вильсоны и Гитлеры, — почему все эти пауки уже который раз пытаются и следы наши на земле замести пеплом?! Где люди, что жили тут?»
Метель гнула черные сучья, чесала ими свои косы…
Вдруг Андреев, перебегавший впереди, замер, подался к стене.
Они были теперь на дальнем конце поселка, почти у леса. Долетал тревожный гул вершин.
— Человек! — шепнул Андреев. — Бежит сюда…
Щелкнул предохранитель. Поток снега пронесло. Под ветром клонился одинокий куст…
— Черт знает что мерещится! — передернул плечами разведчик. — Хоть бы стреляли… Муторно.
Кирилл плотнее прижал его локтем к стене. Сейчас уже ему казалось, что на опушке от ствола к стволу движутся, медленно удаляясь, люди.
— Видишь, двое?
— Не вижу…
— Вон, к сухой сосне… Несут что-то.
Но то, что казалось силуэтами людей, на глазах расплывалось, принимало загадочные, фантастические очертания, уносилось с ветром.
Разведчики продвинулись еще вперед.
Между соснами в гудящей тьме клубился снег. За спиной, в мертвых стенах, что-то падало, дышало близко, подкрадывалось…
— Ни живых тут, ни мертвых! — звенящим голосом сказал Андреев. — Хуже, чем на кладбище!..
Кирилл помолчал, первым пошел назад, ступая в свои следы, еще кое-где заметные.
Когда поравнялись с развалинами клуба, он вдруг остановил сержанта и глазами, в которых сверкнули огоньки далекого пожара, указал на уцелевшую арку. С высокого полудужья свисали, плавая по ветру, две веревки.
— Виселица?..
Сержант невольно качнулся к Атласову. Тот потеснил его с открытого места за квадратный столб арки, присел.
— Тут вот люди были. Недавно! — Голос его, всегда глуховатый, низкий, зазвучал резко. — Видишь, как утоптан снег?.. А стул вон?..
— Вижу.
— Разведчику надо видеть все с одного раза!
Андреев рукавицей вытер большегубый рот.
— Тех, значит, — он не решился снова глянуть вверх, — сняли?
— Да, и унесли. Потому и собака перестала тут выть. Ушла за мертвым хозяином. А вот куда?..
Кирилл выпрямился, рукой провел по лицу сверху вниз, словно вытирая что-то, глубоко передохнул.
— Нервишки у нас, что у барышни, меньшой Андреев, а? — Он скупо улыбнулся. — Не замечал!
— Виноват, товарищ лейтенант. Одни мы тут… Хуже, чем в бою.
— Разведчик всюду в бою. Ладно, доложу обстановку и вернемся, если время будет.
К разъезду пошли прямиком — через поле, задымленное метелью.
В той стороне, где осталась Калуга, небо внизу тоже отсвечивало пожаром.
Еще на пороге Кирилла встретил ненавистный чужой запах. Пахло одновременно трупом, холодной баней, какими-то мазями и чем-то еще приторным, стыдным. В блиндажах, в траншеях, в домах — всюду, где хоть недолго жил враг, стойко держался этот гнусный запах. Казалось, им пропитывалось и железо.
У потолка горел кондукторский фонарь, где-то раздобытый разведчиками. Окна были занавешены мешками из морской травы (в таких мешках гитлеровцы хоронили своих убитых.) Пчелкин вместе с Мироном возился у рации. Это обстоятельство Кирилл отметил сразу.
Не так давно этот гигант с широким кротким лицом подходил на цыпочках к железной попискивающей коробке и разглядывал ее, словно лукошко с цыплятами, явно сомневаясь в полезности такой хрупкой штуки на войне. Теперь же при всякой возможности Мирон был неотлучно возле радиста и помогал, чем умел. А в походах непременно сам таскал рацию, против чего щупленький, добродушно лукавый и сам услужливый Пчелкин нисколько не возражал.
Тут же у рации полулежал Поддубный в обычной своей позе весьма утомленного человека и курил. На его бледном лице с черными усиками застыло выражение абсолютного равнодушия к окружающему.
Старшина и Гайса осматривали помещение.
Дощатая переборка, отделявшая крошечный зал от служебной комнаты, была сломана, и вдоль всей стены, обращенной к платформе, белели нары из березы. Кирилл невольно отвел глаза. Береза!.. Так можно и возненавидеть ее, любимицу русской песни. Там, на родных опушках, в белом платьице, солнечная, лепечущая небу ласковые слова, она прекрасна! Она всегда манила его к себе и, озорная, убегала на дальний пригорок, шепталась там с ветром, зовуще распуская густые косы, или вдруг встречала на тропке у реки и ждала, задумчиво потупясь в кроткое серебро воды. Там хорошо было с нею — своей, нежной, песенной — идти по звонкому простору! А тут она — чужая. Тут кладбищенской белизной она говорит только о врагах и смерти…
Почему эти нахальные, жадные иноземцы так упорно тащат ее к себе, от любви или от ненависти к жизни? Вопрос не суть важный, но он всегда возникал у Кирилла при виде окопа или могилы врага: окоп обшивался березой, могилу венчал березовый крест…
На полу, покрытом толстым слоем захламленной соломы, валялись чужие противогазы, похожие на собачьи намордники, ребристые цилиндрические коробки для них, как правило, всегда набитые ворованным тряпьем, пестрые пачки из-под турецкого табака и французских сигарет, короткие металлические пулеметные ленты с выпавшими местами патронами, словно челюсти с выбитыми зубами. За круглой печкой, обитой черной жестью, виднелся канцелярский столик. На нем вокруг недоеденного окорока стояли, как пивные бутылки, гранаты с длинными деревянными ручками.
Окинув все это медленным, ничего не упускающим взглядом хмурых, запавших глаз, Кирилл молча прошел к рации, положил на пол автомат, швырнул на него рукавицы. Пчелкин покосился на командира выпуклым, сразу насторожившимся глазом, усерднее закричал в микрофон:
— «Река», «Река»! Ты слышишь меня? Я — «Чайка». Прием.
Мирон встал с колен, вытер ладонь о ладонь:
— Молчат, товарищ лейтенант…
Сунул руки в карманы халата и загремел там гранатами, словно грецкими орехами.
— Мироша, — сказал в пространство Поддубный, — переживать можно, не играя на нервах общества…
Мирон послушно вынул руки.
— «Река», «Река»! — звал Пчелкин.
— Хлопчики!.. — вдруг охнул в дальнем углу старшина и расхохотался. В его басе, отмеренном на степную ширь, пропал, как сосулька в реке, ломкий тенорок радиста. — Что я покажу вам, хлопцы!.. — Старшина с шумом выбрался из-за нар. — Категорический каюк Адольфу!
Поддубный посмотрел вдоль горбатого носа на цигарку в зубах, далеко сплюнул сквозь зубы.
— Мальчику из Анапы уже заливали такое… — И тут же хищно поднял сухое тело. — О-о, это новое!..
В круг жидковатого света под фонарем старшина поставил соломенный валенок… размером едва ли не с детскую коляску.
Все, даже радист, притихли.
— Ты, значит, чув про такое? — почему-то шепотом спросил у Поддубного старшина, и его белые, с подпалинкой понизу, усики на круглом, налитом жаркой кровью лице, дернулись. — Може, и видел, а?..
По железной крыше ударила буря. В щель под дверью со свистом ворвался снег.
— А нам не попадалась такая морока! — выкрикнул старшина, неожиданно закипая. — Это ж срам, а не солдатская справа! Як заспивав бы ты, Поддубный, получив от меня такие гарные валенки, а?.. Нет, вы, хлопци, без смеху… вы категорически гляньте на эту срамоту. Мы, значит, только починаем воевать как надо, только в охоту входим, а фюрер уже поясок у галифе на другую дирочку подтягивает. По всему ж видно! Пушечки бросает? Бросает! Аж от самой Тулы до Калуги скучают в снегу германские пушки. Наши идут, а те скучают!.. А яки дуры, видели? Земля под ними гнется! По Москве, гад, собирался стрелять, а кишка лопнула… А танки без горючего? А солдаты в жиночих платках на морозе?.. Усе ж это одна ниточка, а она доведет до клубочка. Доведет! — Старшина потряс рыжим кулаком. — Вот, бандюги, уже обувают своих вояк в солому! Так ты скажи, — опять крутнулся он к Поддубному, — варит котелок у того Адольфа или он ему нужен только для высокого картуза?.. Молчишь? Може, ты вроде скаженного фюрера, не понимаешь, что этот валенок поможет ему, як мертвому кадило?! Всурьез, товарищ лейтенант, как о нас понимают фашистские стервы? Ну, допустим, поначалу они думали, что отвернуть нам голову можно, як курице, а зараз, когда получили по сусалам, должны же они понимать, что Россия — это мощь?! На что у них расчет?..
Кирилл молчал, глядя на валенок. Измученное долгой бессонницей обветренное лицо его было суровым. Тени в провалах щек лежали, как сажа.
Выдумка гитлеровского интендантства поразила и его. Но поразила не своей нелепостью. Удивительным был труд, вложенный в дурацкий валенок. Кропотливый, умелый и… покорный труд, прежде всего бросившийся ему в глаза.
— «Река»! «Река»! Я — «Чайка»! — осторожно начал Пчелкин…
Мирон Избищев просительно показал на валенок:
— Товарищ лейтенант, что это?..
«Что это?! — повторил про себя Кирилл и глянул в растерянное лицо солдата. — Я тоже хотел бы знать, что стоит за этим соломенным уродцем: презрение немецкого рабочего к тем, кто начал эту ненужную ему войну, или одна тупая покорность?»
— Товарищ лейтенант!..
— Ну что, Мирон?
— Что это?
— Новогодний подарок фюрера своим солдатам!..
Кирилл отшвырнул ногой валенок, присел к рации, забрал наушники у Пчелкина.
В больших доверчивых глазах Избищева мелькнуло недоумение. Он виновато улыбнулся, вздохнул.
— Несчастные, видать, люди в Германии…
— Золотые слова. Мироша! — подхватил старшина. — Ты глянь, глянь всурьез на эту мороку: способно солдату воевать в такой амуниции?! Да ему на морозе в ней весело, як мухе в кипятке. И черт с ним, не жалко, раз слушает своего фюрера и палит наши хаты. Палит, а потом драпает. А куда, спрашивается, он утечет от нас в такой справе?!
Пятно света шевелилось на задранном широком носу валенка, обтянутом желтой кожей. Казалось, валенок морщится, спесиво глядя на разведчиков.
— Генерал фюрера плен идет! — засмеялся Гайса и пальцем показал на валенок.
— Как?.. — не понял старшина и вдруг ударил себя по коленям, ахнул. — Похоже! Мать честная, похоже! Грудку вперед и — гусачком, гусачком, як генерал Мюллер топал передо мной по Калуге, когда я гнал его в штаб! Ну-у, отмочил штуку Адольф, щоб его гром убил! Одним словом, други, самый крайний срок, а в сорок втором сделаем фашистам категорический каюк! Капут, по-ихнему. Ясно, Альбатрос? — уже благодушно тряхнул старшина Поддубного, пододвигая к нему валенок. — Смотри, хлопче, и учись понимать, з якой хмари дождь бувае.
— Логически мыслить учись, — шепотком растолковал эти слова Пчелкин, смешливо морща остренький нос.
— Во-во! — хохотнул старшина и подтолкнул Поддубного. — Ходим, Иван, печку растопим.
— Этим эрзацем?
Поддубный двумя пальцами поднял валенок за короткое голенище, повертел.
— А что такое эрзац, Ваня? — с той же виноватой улыбкой шепотом спросил Мирон, мягко беря Поддубного за локоть. — Ей-богу, не знаю!
— «Ей-богу»?! Деточка, да вы сплошное чепе по линии сознательности! Повышайте уровень. И, между прочим, не лапайте без разрешения! — Поддубный поставил валенок, вытер пальцы о халат, снял с губы окурок. — Альбатрос, деточка, сказал: эрзац. Научно говоря, дерьмовая копия с солидной вещи. Непонятно?.. Кошмарный случай! Попробуем подойти к вопросу популярно…
С видом терпеливого учителя он откинул полу халата, выставил ногу в белом мягком валенке. Подвернутое сверху голенище ловко, щегольски даже облегало тугую икру в синей суконной штанине.
— Это — картинка, Мироша, или, как популярно выражаются, — о-ри-ги-нал. В таком оригинале, — он крепко стукнул пяткой в пол, — мальчик из Анапы свободно протопает до… До? Товарищ старшина.
— Спрашиваешь!
— Альбатрос уточняет, товарищ старшина. Уставом разрешено. До Берлина?
— Категорически!
— Вам ясно, детка, что такое эрзац?
Мирон отвернулся.
— «Молчание — это приличное „да“, — кому-то подражая, жеманно потупил глаза и вздохнул Поддубный. Но внезапно лицо его стало грустным. Он вяло кинул окурок и пояснил — Так сказала однажды вечером мальчику из Анапы его девочка. В последний мирный вечер… — И вдруг, бледнея еще больше, зашептал — То был не вечер, а симфония! Слышите?.. Мировая симфония! Ваня Поддубный сдал бригадиру баркас, полный улова, и культурно отдыхал. У ног лежало все Черное море, а рядом — девочка. Как золотая рыбка на песке!.. — Он глотнул воздух. — Черное море!.. Такое море и такие девочки есть только в нашей Анапе!.. Может, и там теперь гуляют арийские блондины?!
Поддубный бешено сгреб валенок, рванулся к печке.
— О-эй! — удержал его Гайса. — Сперва гляди!..
На щеколде дверцы желтел обрывок провода.
— Мина! — строго сказал Мирон и отобрал валенок.
…В наушниках монотонно скрипел и скрипел ржавый голос. Враг находился где-то близко. Слышно было, как с всхлипом заглатывал он воздух, а передохнув, опять частил цифирью. Механически переводя ее, Кирилл ждал, что радист скажет что-либо в открытую. Но шифровка была, очевидно, срочной, немец все реже делал паузы и, не повышая голоса, скрипел и скрипел: „Сто тридцать шесть — семнадцать, триста девяносто девять — двенадцать…“
Кирилл повертел ручку настройки. Нет, передатчик у врага сильнее и пока работает на волне, указанной Пчелкину, услышать что-либо другое нельзя. Но вдруг ржавый голос повело в сторону. Он тух, тух и — пропал.
Огромный таинственный мир, так явственно ощущаемый за трепетными пластинками наушников, разом ожил. Из неведомых, шепчущих далей полетели тоненькие свисты, суровые гулы, треск, вкрадчивое поскребывание, лихорадочная дробь ключа, обрывки фраз, шелест, вздохи… Кирилла всегда захватывала эта хаотическая музыка эфира. Забываясь, он воображал, что в стремительном потоке звуков, тихих и громких, понятных и загадочных, есть и звуки, пришедшие из родных ему мест. И если хорошенько вслушаться, можно уловить и тоскливый вздох матери там, в хатенке над Кубанью, и звонок в школе, оставленной им так внезапно в роковом июне больному завучу…
Кирилл даже вздрогнул, когда прямо в ухо ему молодой голос объявил с начальственной непререкаемостью:
— Голову сниму, если к утру в сестрах не будет семечек по норме. Ясно? А Бороде скажи, чтоб лапти ко мне тянул. Немедленно!..
Кирилл усмехнулся. Этот „код“ был ему понятен! Кто-то, должно быть комбат, приказывал доставить в роты („сестры“) патроны („семечки“), а командиру танкового подразделения двигаться к нему с машинами („лаптями“).
И этот голос ушел.
Миллионы тоненьких свистов прокалывали бесконечность.
Потам стукнул в мембрану робкий ноготок: тюк— и подождал. И еще — тюк… Кто-то из бездны шутил с Атласовым, заставлял его до предела напрягать слух. А „Река“ — молчала.
— Вызывай! — отдал он Пчелкину наушники, сам прилег рядом, опершись на локоть.
У печки Гайса шепотком, чтобы не слышал лейтенант, отчитывал друга, сидя по-степному перед круглой металлической миной:
— Сперва глазом глядеть, хорошо глядеть, думать, потом рукам работать. Не так делать — худо делать. Видишь, твой смерть, всем смерть близко был, в печке ждал…
— Фатум! — вздохнул Поддубный.
Он стоял, привалясь плечом к печке, скучающе поигрывал рукояткой финки.
— Фатум, душа мой… Поплыл в море — страх на берегу оставь.
Гайса осторожно положил на меховую рукавицу вывинченный взрыватель, похожий на желтый карандашик. Серую чугунную лепешку, начиненную пятью килограммами тола, поставил на ребро, толкнул. Она покатилась к порогу, легла там с тяжелым стуком.
— Слово, какое сейчас говорил, умный слово?
Длинные, тоскливо жестокие глаза Поддубного смотрели прямо в черные, с лукавинкой глаза.
— Красивое. Альбатрос красоту уважает.
— Вай, плохо! — качнулся Гайса. — Слова красивый, дела худой. Совсем плохо!
— А ты, Альбатрос, того, — строго вмешался старшина, ломая, как спичку, планку от нар, — подмени-ка Андреева на часах. Давно стоит хлопец, нехай обогреется. — Положил дрова в топку, понаблюдал за хлопотливым, все слышнее лепечущим огоньком. — Красота люба не всякая, Иван. Бывает, красна ягодка, да на вкус горькая…
Поддубный поднял взрыватель, покидал на ладони:
— Везет мальчику!..
И пошел к двери, недобрый, похожий на хищную птицу. Распоряжение старшины имел он в виду или то, что снова разминулся со смертью, — никто не понял…
— „Река“, „Река“, я — „Чайка“! „Река“, я — „Чайка“! Прием…
Слушая потускневший, усталый голосок Пчелкина, Кирилл думал о том, что сегодня над всей великой Родиной прозвучит голос мощный и спокойный — голос Москвы, в котором миллионы людей в эти дни черпают мужество и веру. „От Советского Информбюро. Оперативная сводка за…“ Как это слушается! Это и на фронте пьешь, как воду в зной! А в тылу?! „От Советского Информ…“ Нет, сначала будет приказ Верховного Главнокомандующего: „Войска Западного фронта, развивая стремительное наступление, сегодня штурмом взяли Калугу…“ Вся Россия вздохом облегчения ответит на это краткое, емкое „взяли“!.. А ведь первыми произнесли его сегодня пересохшие губы вот этого белоголового паренька, что измученным голосом зовет и зовет затерявшуюся в метели „Реку“. Первыми, в семнадцать ноль-ноль… Еще стоят перед глазами: улица, похожая на огненный туннель… алое знамя в руках Андреева… изломанные торжествующим криком губы Пчелкина у микрофона— там, на Московском вокзале, еще гулко повторяющем разрывы гранат и автоматную дробь… И затем — голос Москвы над Родиной!..
Вот они — пути истории и ее творцы. Все очень просто и величественно!
Взволнованный Кирилл свернул цигарку, набрал полную грудь сладкого махорочного дыма. Закружилась голова.
— „Река“! „Река“! — словно бы издали доходил к нему голос радиста. На остреньком носу Пчелкина блестел пот.
„И отдохнуть вам пора“, — вдруг вспомнил Кирилл шепот больного майора и кивнул согласно. — Да, сегодня это законное дело! Сколько дней мы не спали по-человечески?»
Он с наслаждением вытянул ноющие ноги, закрыл глаза, принялся было считать, но тупая тяжесть давила на мозг, и в памяти не было ни дней, ни чисел. Неслась сплошная стремительная лента: горящие села, снежные косогоры с черными силуэтами врагов, костры в лесу, дороги, тропы… Ни дней, ни ночей, ни чисел! Только рев орудий, гул чужих самолетов, пламя в лицо и — железное слово: «Вперед!» Только первые дни, первые отнятые пепелища отчетливо врезаны в память.
— Почему? — спросил себя Кирилл.
6
Восьмого декабря 290-я стрелковая дивизия в составе ударной группы войск 50-й армии прорвала фронт противника северо-западнее Тулы — в районе деревень Маслово, Ямны — и повела наступление в общем направлении на Калугу. В лютую морозную ночь на 28 декабря части дивизии подошли вплотную к этому городу.
Двадцать дней промелькнули, как один!
Не давая противнику оторваться, дивизия днем и ночью гнала его на запад, освободила десятки населенных пунктов, взяла много пленных, огромные трофеи. И все это время лейтенант Атласов был в самом пекле. Но в те редкие часы, когда можно было передохнуть, подумать, вспомнить пережитое, он прежде всего вспоминал и отчетливее всего видел первый день, первый бой — за Маслово, обугленную деревушку на западном берегу Упы, хотя бой за нее был и не так жесток (если можно так говорить о бое), а лейтенанту Атласову притом же досталась в этом бою и вовсе пассивная роль, не в пример тем, какие пришлось ему играть потом.
Двадцать дней — как один!
И если бы в любой из них Атласову довелось взглянуть на карту командующего армией, он увидел бы на ней красную стрелу, которая, упираясь широким основанием в Тулу, устремлялась далеко на запад и распарывала самое нутро 4-й армии фельдмаршала Клюге, в числе других орд нацеленной на Москву. Оценив оперативное значение этой грозной стрелы и узнав, что острием ее является 290-я стрелковая дивизия, Кирилл Атласов, вероятно, почувствовал бы законную солдатскую гордость, так как в самой высшей точке этого разящего острия он мысленно увидел бы себя со своими отчаянными «ореликами»: ведь его 885-й стрелковый полк наступал в первом эшелоне дивизии и, следовательно, он, лейтенант Атласов, командир взвода полковой разведки, шел в наступлении первым.
Двадцать дней!..
Возвратясь из разведки или ворвавшись с пехотой в село, не успев остыть, Атласов уже слышал знакомое: «Разведчика — к командиру полка!» — и наизусть знал дальнейшее.
Сидя со своим неразлучным Сидором-маленьким где-нибудь под уцелевшей стеной или у плетня, майор Барабин, все время шедший с передовыми подразделениями, встречал разведчика нетерпеливым взглядом черных, сухих глаз, тыкал остатком карандаша в километровку на коленях и говорил отрывисто:
— Действуй на Коптево, солдат, вот, у развилки… Полку приказано взять его к семнадцати ноль-ноль. В твоем распоряжении…
Тут командир полка обычно начинал рыться в своих карманах и рылся долго, поочередно заваливаясь то на правый, то на левый локоть крепким, маленьким корпусом и строго посапывая. Разведчик стоял недвижимо, понимая, что командир сейчас снова, может в сотый раз сегодня, занялся своей неустойчивой, стремительно меняющейся «бухгалтерией»: сколько осталось в строю офицеров и солдат, сколько и какого вооружения, сколько и каких боеприпасов, где все это, где сейчас кухни, медпункт и т. д. и т. п., сколько (самое малое) нужно времени, чтобы все это сосредоточить для нового удара, сколько дать людям отдыха, чтобы, остановившись, полк не потерял наступательного порыва, и сколько, учитывая все это и еще многое другое, можно дать времени на разведку. Наконец он извлекал из кармана ручные часы такой внушительной величины, что, глядя на них, трудно было не улыбнуться, и требовательно стучал карандашиком по стеклу. Разведчик подступал ближе.
— В твоем распоряжении, солдат… Будем считать… Будем считать… Хо-о, куча времени! — Поднимал голову и пристально смотрел в глаза разведчику. — Три часа!..
— Есть, товарищ майор!
— Маловато. Но успеть надо.
— Есть!
Майор прятал часы.
— Значит, Коптево. Достань свою карту. Вот, сто дворов. Уточни, сколько тут противника, где пулеметы, артиллерия. А главное — подходы, подходы разведай, отсюда, из лесочка. «Языка» возьми…
— Есть!..
— Действуй, солдат!
И Атласов действовал — вечером и в полночь, на рассвете и днем, когда пехота готовилась к наступлению и когда пехота отдыхала после наступления… Он делал все, что положено делать полковому разведчику, и еще дважды столько же, чего «не положено». И это «неположенное» почти всегда было одним и тем же: «орелики» разворачивались в цепь и наступали в качестве стрелков — потому что в 885-м полку было всего… Впрочем, кто же из участников великого декабрьского наступления в Подмосковье не знает, сколько штыков было тогда в полках?!
За Коптевом лежало в снегах Зайцево, за ним — Бредихино, потом Воскресенское, Веригино… Дубна…
Двадцать дней — как один!
Постепенно Атласов обнаружил, что слово «окружение», такое страшное для него в августе и сентябре, вдруг стало в десятеро страшнее врагу; понял не теоретически, как знал это давно, а исходя из собственного тяжкого опыта, — а это далеко не одно и то же! — что незачем переть в лобовую атаку на какую-нибудь Песочню, торчащую на косогоре, когда легче взять ее с фланга; увидел, что при первой же угрозе обхода враги бегут.
«Фрицы драпают!»
Любой повозочный уже за первую неделю наступления сто раз увидел, как здорово умеют гитлеровцы «драпать».
А видеть это для бойца так же важно, как важно уметь стрелять, когда стреляют в тебя, не залегать под минометным обстрелом, не убегать от самолета и танка. И чем опытнее становился лейтенант Атласов как воин, тем лучше понимал он то, что произошло в Маслове…
18 декабря утром полки дивизии вышли к реке Черепеть, у села Ханина. Тула осталась далеко позади. Она теперь была — пережитое. По счету мирного времени до нее было километров семьдесят по прямой. Но война не ходит по прямой, и солдатская дорога не меряется километрами. За эти дни Кирилл Атласов прошел безмерный путь от учителя до воина.
Огромно время на войне!
От Ханина красная стрела на карте командующего армией повернула свое острие на северо-запад.
Перед 290-й стрелковой дивизией была поставлена новая задача: стремительным маневром по тылам врага отрезать войскам 43-го армейского корпуса генерала Хейнрици пути отхода из-под Алексина на Калугу.
Перед лейтенантом Атласовым задача осталась прежней: идти головным по черному следу. Между пулеметом врага и грудью разведчика остались прежние триста шагов смертного пространства, накаленного морозом и ненавистью.
…Алёшково, Зябки, Крутые Верхи, мертвая Мужачь на черном бугре, изрытом бомбами, Никольское на высоком берегу Оки, головешки в Турынино… Села, деревни, деревеньки. Метели снежные и свинцовые. Зеленые трупы на снегу и железное слово: «Вперед!»
Двадцать дней!
А день, как вечность.
Тек жестокий декабрь 41-го года.
На исходе его однажды в ночи встала перед Атласовым пылающая Калуга.
7
— «Река»! «Река»! Я — «Чайка»! «Река», я — «Чайка», ты слышишь меня, я — «Чайка», прием…
За время наступления Кирилл так привык к тому, что рядом с ним всегда, в бою и на отдыхе, в любое время суток звучит детский тенорок Пчелкина, что и теперь, усталый и полусонный, он совсем не отвлекал его от дум. Наоборот, комариный голосок этот вплетался в воспоминания живой ниточкой и как бы крепче связывал события в единую цепь, придавал им большую, порой удивительную отчетливость, помогал все глубже уходить в пережитое.
«Двадцать дней!.. — глубоко вздохнул Кирилл, совершенно позабыв о цигарке, дымно дотлевавшей в его худых, напряженно выпрямленных пальцах. — Почему же именно Маслово помнится так хорошо, лучше, чем Калуга даже? — настойчиво спрашивал он себя, с непонятным ему самому волнением доискиваясь ответа. — Ведь таких деревушек много осталось позади, но именно Маслово стоит перед глазами самой памятной, немеркнущей звездочкой. Почему?!»
8
До Тулы дивизия три месяца отступала. А разве в те дни ее солдаты и офицеры не были храбры? Дрогнул кто из них тогда в Почепе, дымным вечером 19 августа, когда к мосту через Судость рванулись гремящей лавиной вражеские танки?!
«Ахтунг, Панцирен!»[1] — задолго до этого прокаркал миру коричневый убийца, и Европа легла под звенящие гусеницы.
— Внимание, танки! — крикнул командир стрелкового взвода, тогда еще младший лейтенант Атласов, и в каждой руке зажал по тяжелой гранате.
И пусть голос его прозвучал высоко и сдавленно — греха в том не было, — то был его первый бой, а катились на предмостный окоп в Почепе не просто танки, окутанные пылью: то в мертвом громе шел фашист, окутанный ужасом и проклятиями многих побежденных народов…
— Внимание, танки! — тверже повторил Атласов.
Через два дня в «Правде» появились снимки: «Танки Гудериана, разбитые на брянском направлении…»
Это сделали солдаты 290-й дивизии на дороге Почеп — Брянск.
Им трудно было.
Вчера они стояли у станков, у классных досок, водили тракторы. А сегодня стояли посреди войны. Перед ними по всему горизонту горели села, а позади горел Брянск. Сверху черными стаями кружили самолеты и рвали их бомбами.
Но танки не прошли. Никто не был трусом. А дивизия… шла на восток.
14 сентября 290-я отшвырнула германскую пехоту и танки за железную дорогу Жуковка — Клетня. Это семьдесят километров западнее Брянска. Враг пробрался за Десну севернее.
Дивизия шла на восток.
В ночь на 5 октября, с марша, полки 290-й разгромили кавалерию и моточасти гитлеровцев под городом Ивот и развернулись фронтом на запад. Враг через день вышел к станции Фаянсовая и Людинову, грозя ударом в спину.
Дивизия пошла… на восток.
Севернее серо-зеленая орда устремилась на Калугу. Южнее пали Орел, Карачев, Орджоникидзеград… Будто всю русскую землю затопили грохочущие железные волны, и ветер по ней гулял свинцовый. Чернели солдатские лица от горя и тлели от соленого пота гимнастерки. Листва на деревьях желтела, потом ее сбил ледяной дождь. Ранний снежок упал тонким покрывалом на обожженные поля. Дивизия шла на восток.
В октябре перед нею легла Рессета.
Кто из солдат 290-й забыл это слово?.. Рессета легла перед ними, как страшный рубеж. Слово «окружение» жуткое, но смутное до тех пор вдруг воплотилось в жестокую явь, более жестокую, чем все пережитое с июня. Война сгустила тут до предела свои ужасы и от каждого потребовала:
— Решай!
Кто знает Рессету, тот знает: выбор был мал и беспощадно огромен — умереть бойцом или жить предателем…
И впервые тут Кирилл Атласов увидел тех, кто не нашел в себе сил с честью сделать выбор. Поднять руку на них, как повелевал воинский долг, у Атласова тогда еще недостало мужества, но сердце его наполнилось извечной гадливостью к предателям. Их были единицы. Но они были, те, кто поверил, что в горьком дыму, вставшем над Родиной, померкли ее звезды. Презренные имена их стерлись в памяти бойцов прежде, чем разошлись круги над винтовками, которые эти предатели бросили в темную воду Рессеты.
Но Рессету солдаты помнят.
…Километрах в пятидесяти к северо-востоку от Брянска, там, где кончаются его темные болотистые леса и начинаются леса светлые и сухие, уходящие к Брыни, лежит песчаная плешинка с десятком сел на крутых буграх, изрезанных оврагами. С юга и востока плешинку эту охватывает полукольцом речка Рессета — перед тем как ускользнуть на север, в светлые леса. Узка она тут, Рессета, и ничтожно мелка, да широки и гибельно топки болота, родившие ее.
На плешинку эту, на бугры, в большие села Буяновичи, Нехочи и Хвастовичи — к Лихому болоту перед Рессетой и вышли пасмурным утром 13 октября полки 290-й стрелковой дивизии.
Дальше путей не было.
Болото — впереди, направо — болото; влево, к северу, — бугры, на буграх — другие большие села: Пеневичи, Слободка, Подбужье, а в селах тех пьяный от побед, жаждущий крови враг. Свежие 52-я и 112-я пехотные дивизии были спешно выброшены гитлеровцами к Рессете еще 10 октября и ждали. С юго-востока подошла и стала за рекой, на шоссе Карачев — Хвастовичи, 18-я танковая дивизия из армии Гудериана, усиленная по личному приказу Гитлера отдельным моторизованным пехотным полком «Великая Германия». Танки, мотопехота, самоходная артиллерия 47-го танкового корпуса, десантники ждали на юге — вдоль железнодорожной ветки Гутовский завод — Брянск.
Путей не было!
А через железную дорогу Москва — Брянск, в неширокую брешь на перегоне Батогово — Березовка, оставленную войсками 43-го армейского корпуса, текли и текли наши подразделения — батальоны, дивизионы, штабы, медсанбаты, пекарни — арьергард энской армии Брянского фронта.
Они текли от переправ через реку Болву в Любохне беспрепятственно. Враг знал: впереди — Рессета…
К полудню тринадцатого октября на голом «Лихом болоте» у Рессеты, против Гутовского завода, скопилось столько людей, повозок, автомашин, пушек, тягачей, что пройти можно было только пробираясь под животами коней, под дышлами бричек или щелями меж машинами. Болотная земля прогибалась под ногами, как парусина; под колесами она лопалась с глухим выдохом. Пушки, подводы ложились брюхом на прихваченную морозцем ржавую, затоптанную жесткую траву, и вытащить их было нельзя, и тащить их было некуда. Но все же люди еще куда-то стремились, тащили машины, подводы. Возникали водовороты и потоки. Человек или трактор, захваченный ими, уже не мог выбиться в сторону. Кругом скрежетало, лязгало, ржало, ругалось «в бога и гроб», крутило, корежило и несло к переправе.
Переправы не было.
Каждые пять минут в реку, туда, где еще виднелись остатки бревенчатого моста, пачками ложились снаряды. Рессета разверзалась до нутра, потом швыряла в пасмурное небо фонтаны коричневой грязи, бревна, колеса, орудийные стволы, клочья тел.
Переправы не было.
Из водоворота у реки вырывались потоки людей и машин и устремлялись прочь, на бугры — под огонь танков. Машины вспыхивали. Мертвые оставались. Живые текли вниз, к Рессете.
Кто забыл это?
Сто вариантов собственной смерти увидел тут каждый. А кого и когда устраивал хоть один? Можно ли забыть, как воздух кричит от горячего свинца и в лицо тебе брызнула кровь из головы стоящего рядом (в тесноте ему некуда падать!), а ты ждешь, что вот сейчас и твоя кровь так же брызнет кому-то…
Нет, Рессету солдаты 290-й помнят!
К полудню 13 октября не стало полков, батальонов. Ни батарей, ни служб! Все перепуталось. Управление войсками рухнуло.
Под вечер отошли наши цепи, оборонявшие Хвастовичи, Нехочи, Буяновичи.
Под вечер потекли с бугров к Рессете раненые…
Ими еще с Десны были переполнены медпункты. Раненые и больные лежали на машинах, на повозках, на тропинках у реки, на снежной простыне в чахлом осиннике.
Одни лежали молча, обратив к близкому небу прозрачные, отрешенные от всего лица, другие пытались встать, тянули навстречу идущим руки, плакали:
— Братцы!..
— Не бросайте, родные!
— Друг, убей!..
Солдаты опускали глаза и стискивали зубы.
Только сестры метались над ними, как чайки.
Прекрасные, мужественные девушки в серых шинелях! Сколько видели ваши глаза, сколько вместило ваше сердце, сколько вынесли вы! Доброе слово скажет всегда о вас Родина и воин, о самоотверженных и чистых дочерях России в белых косынках с красным крестом!
Заскорузлыми от холода и крови, нежными, как сердце, руками сестра приподнимала голову раненого, убирала со лба влажные волосы, смотрела в полные муки, надежды и веры глаза и шептала:
— Сейчас, миленький! Потерпи, родненький! Помогу.
Чем?!
В слепой злобе ревел германский снаряд. Падал!
И от всего— от надежд и великого сердца — оставалась только воронка. Она дымилась недолго, потом земля впитывала кровь.
Земля и кровь были русские…
Под вечер фашисты ударили из пушек по всему Лихому болоту. Снаряды, впрочем, клали не густо. Ударят с Пеневичских высот — и ждут. Осядет синий султан разрыва — бухают из Нехочей. Потом у Буяновичей ухнут, совсем с другой стороны. И вдруг рявкнет орудие рядом, в Стайках…
Фашисты готовились к последнему удару и внушали: «Видишь, Иван, мы есть тут, унд дорт. Кругом! Думай, Иван, зер гут думай и решай».
…Зю-ююю-аах!
В самую высь рос синий султан.
…Ночь пришла страшная.
Разъединила солдат холодной темнотой в час, когда они больше всего нуждались во взгляде, в слове товарища, в твердом голосе командира. Ночь же оставила каждого наедине с его думами.
Сидели у машин, у подвод, в ямках.
Молчали.
Ветер ходил по Лихому болоту, а все другое было неподвижно. Кони стояли как каменные, словно и они знали, что сейчас на каждый звук откликается только смерть.
На кашель, на лязг, на скрип отвечал из заречных кустов пулемет. «Вас ист дорт?» — чугунно спрашивало с бугров орудие, и в небе шелестел снаряд. Шелест превращался над головой в свист, свист — в стремительный вопль; этот вопль обрывался у самой земли, и в могильной тишине отчетливо чмокал удар в зыбкую корку болота. Вспыхивал беззвучный сине-белый ослепительный огонь, и затем ужасный треск рвал сердце.
«Зер гут! Думай, Иван!..»
Думали.
Иногда Кирилл, коротавший ночь в неглубокой ямке, замечал, как из тьмы появлялась фигура, склонялась к сидящим, всматривалась в лица, вполголоса бросала:
— За мной!..
Уходили к реке.
Ветер хлопал вслед сырыми крылами, стряхивая с них снежинки, гнал по былью тепловатый запах болота.
Истекал час, может, меньше, и за рекой заполошно вспыхивала автоматная трескотня, ее тут же приглушали гулкие, холодные голоса крупнокалиберных пулеметов, низко загорались ракеты, и на болото с бугров налетал артиллерийский шквал. Рессета кипела — десять минут, двадцать.
Внезапно все опять стихало.
Только в глазах Кирилла долго еще плыли огненные хлопья.
Четырнадцатого октября, после многих пасмурных дней, показалось солнце низко над горизонтом, разбухшее, с перламутровым переливом. Лучи его были холодными, как ножи.
Когда солнце встало над прозрачными, чуть фиолетовыми вершинами осин, негусто обступивших Лихое болото, прилетели самолеты. Деловито, по очереди они высыпали бомбы на остатки переправы и ушли, просматривая Рессету вниз по течению. Один самолет остался и вычертил в небе над окруженными войсками просторное, розовое от солнца кольцо дыма. И тогда разом со всех сторон и как бы состязаясь в быстроте, ударили пушки. Дальние швыряли снаряды через розовое кольцо, ближние били прямо по цели. Запылали машины. Взлетали повозки с толом. Дым закрыл небо. Лихое болото становилось синим и все более пустым…
Внезапно все смолкло. Снова нависли самолеты. В тишине они медленно замкнули круг и начали бомбить.
А когда, насытившись, эта кровожадная стая потянулась к Брянску, опять отвалил один и пошел над самой землей. Приглушив мотор, летчик кричал в рупор:
— Иван, кончай войну! Иди к нам! Москва — капут! Ленинград — капут! Аллес Русь — капут!.. Иди к нам, Иван! Ждем час!..
И швырял листовки.
Подлыми словами фашисты подбивали на самое страшное — на измену Родине. В центре мерзкого, как плевок, листка в черном круге стояло: «ШВЗ» («Штыки в землю») — как печать Иуды, как пароль в бесчестье.
И они действительно ждали час. А когда прошел этот бесконечный час, осенний ветер принес на Лихое болото… похоронную музыку! Она текла из оврагов и лощин, где за вражескими танками стояли громкоговорители, текла вместе с волнами густого дыма, становилась все настойчивее. Жалобная и неотвратимая, эта музыка гадюкой ползла к сердцу, сосала его.
«Уж лучше бы снаряды и пули!»— с отчаянием, с ненавистью думал Атласов, постаревший за эти дни лет на двадцать, и такие же мысли читал в глазах других, потухших, глядящих внутрь глазах…
Снаряд и пуля рождали ответную ярость. А эта кладбищенская нудь смертным холодом лилась к сердцу, сжимала спазмами горло. Люди не плакали, вероятно потому, что прежние муки уже выпили все их слезы, и теперь каждый был суше пороха.
Вдруг наступила тишина, в ней отчетливо, гулко ударила пушка, будто стукнул молоток по гробу, вколачивая первый гвоздь.
И пошло! Умолкнут пушки — льется, плывет на волнах синего дыма погребальный марш. На самой высокой и скорбной ноте его обрывает пушечный залп…
Но чем мучительнее жег нас враг, тем чище, тем крепче становилась наша любовь к Родине, тем страшнее делалась наша ненависть к врагу. Сознание бессмертия нашего правого дела рождало у солдат и командиров мужество, пределов которому мы сами не знали.
Не имея больше путей, мы пошли самым тяжким: к Москве!..
Кто первый подал команду? Никогда никто не ответит на это. Может быть, каждый услышал ее только в своей груди. Но, услышав ее, Кирилл Атласов оставил щель. Он поднял вверх почерневшее, как земля, лицо и, не увидев неба сквозь дым, не вздохнул, а лишь крепче стиснул тяжелые челюсти.
— По четыре стано-вись!..
Глуховатый голос его придавил на миг все звуки вокруг и был услышан многими.
Взяли только раненых.
…От вражеского орудийного грома окрест качнулась у Рессеты земля и оделась в дым. И потом все стонала в дыму. Падали сосны. Горело железо. А наши колонны шли. Дорогу прокладывал штык…
И Атласов узнал: если в сердце нет рубежей, их кет на земле!
…В ночь на 25 октября Тула приняла 290-ю в свои затемненные пустые улицы.
9
— «Река», «Река», я — «Чайка»! «Река», я — «Чайка»…
Круг замыкался. Стремительная лента воспоминаний замедляла бег, возвращаясь к исходной точке. И чем ближе была она, и чем ближе к ней во времени стояли разные другие события, тем значительнее казались они Кириллу, тем все пристальнее вглядывался он в пережитое.
Внезапно заскрипела дверь. Пронзительный звук оборвал монотонный голосок Пчелкина, заставил Кирилла вздрогнуть и сесть.
У порога стоял Андреев, стряхивал снег.
— Как дела, орелик? — спросил Кирилл.
— В порядочке, товарищ лейтенант. Вьюга. Пожары кругом. Все, как было.
Он устремился к печке, срывая на ходу автомат и рукавицы.
— Давай, давай, солдат! — заулыбался старшина, уступая место перед распахнутой дверкой. — Ой, да ты холодный як лед!
— Аж звон от меня идет! — дурачась, постучал зубами Андреев и плюхнулся на пол между Гайсой и старшиной. — Морозик завертывает, мать честная, столбы трещат! — Он потер перед огнем посиневшие руки и распустил в блаженной улыбке губы. — Альбатрос передает вам, товарищ старшина, что если вы через полчасика не проявите чуткости, то из него сделается нормальная сосулька, размером один метр семьдесят два сантиметра.
— Не брешет?
— Ну, метр семьдесят. Парень добавляет два сантиметра на гонор. Жалко разве?.. Так и морозик же, поимейте в виду!
— Категорически час будет стоять! — неуступчиво ответил старшина. — Пусть ему дурь трошки выдует из головы.
— А как в поселке, Андреев? — поинтересовался Кирилл, подгребая себе солому почище. — Слышно что-нибудь?
— Ничего не слышно, товарищ лейтенант. Мертвый.
— Люди тут есть… рядом где-то. И очень они нужны нам! Без них мы что в темном лесу. Одни догадки… Да-а, орелики, великое дело для разведчика — связь с населением!
— Так дозвольте-таки сходить в поселок, товарищ лейтенант! — взялся за автомат старшина. — Мне вот, с Гайсой или Мироном. Раз вы говорите, что там есть живые, значит, они есть, и я найду их! Не первый раз!..
— Нельзя. Быстро этого не сделаешь, не зная, где искать, а штаб каждую минуту может дать срочное задание. И обязательно даст! По обстановке вижу. Вот свяжемся с майором, тогда, может быть… — Кирилл снова лег и слегка распустил ремень на полушубке. — Вы пока грейтесь, ребята. Можете даже подремать одним глазком. А ты, — он похлопал по спине примолкшего радиста, — вызывай. Гебе нельзя спать, Пчелка! Попробуй на запасной волне.
— Про-бо-вал… — протяжно зевнул Пчелка. — На переходе «Река», не иначе…
— Еще попробуй.
Сухо щелкнул переключатель.
— «Река», «Река», я — «Чайка»…
По крыше громко топала буря, трясла одинокую хибару. В щель под дверью врывались снежинки. Язычок свечи ложился набок, тени вздрагивали…
Кирилл закинул руки за голову, вытянулся удобнее и почувствовал, что ему не уснуть. Еще десять, пять минут назад дрема то и дело накатывалась на него теплыми, вяжущими волнами, а сейчас — он знал это наверняка — ему не уснуть даже при желании. Недавнюю усталость будто рукой сняло. Ноги и плечи перестали ныть, исчезла тупая боль в темени. Голова стала ясной.
Тогда Кирилл закрыл глаза и снова погрузился в воспоминания. Но теперь он уже не позволял пережитому нестись перед ним сплошной стремительной лентой. Он воскрешал в памяти лишь то из недавнего прошлого, что прямо вело к событию, которое представлялось ему самым значительным и постоянно волновало его чем-то очень радостным, что еще не вполне им осознано, но что осознать до конца совершенно необходимо ему, Кириллу Атласову, постигающему жестокую и так необходимую сейчас науку войны.
Что же все-таки случилось в Маслове, деревушке, от которой остались только название на военной карте да упоминание в первой советской ноте о фашистских зверствах? Почему происшедшее там жило в памяти Атласова как самое радостное событие за все эти месяцы войны?
10
…Восьмого декабря 290-я стрелковая дивизия, оборонявшая северо-западную окраину Тулы, перешла в наступление.
Полки начали форсирование Упы в семнадцать ноль-ноль. 878-й пошел на Ямны. Левее, на Маслово, наступал 882-й. За ним, составляя второй эшелон дивизии, двигался 885-й.
Когда лейтенант Атласов со своими разведчиками вышел на лед, уже стояли густые сумерки. Снег под валенками звучно скрипел. Атласов, однако, не чувствовал мороза. Руки в меховых рукавицах и щеки на ветру горели одинаково приятно. Тело было легким и послушным. Лейтенант любил такое состояние. Всякий раз, когда он выслушивал боевой приказ, тело его начинало как бы «подсыхать», то есть как бы становилось меньше, легче и даже менее чувствительным. В одних случаях это происходило быстрее, в других медленнее, в зависимости от продолжительности времени между получением приказа и «Ч» — началом его выполнения. Но как бы там это ни происходило, а к моменту наступления могущественного и всегда жутковатого «Ч» Атласов чувствовал, что тело его было сжатым, как пружина, безотказным. Всем существом лейтенанта овладевало напряжение и словно бы даже неподвластное ему, пришедшее откуда-то извне спокойствие; мысль работала быстро. Сначала и до конца он неподкупно управлял всеми движениями своей души, умел сразу подавлять одни и давать волю другим — тем, что вели его к исполнению долга. В бою Атласов действовал стремительно, четко («красиво», как говорил командир полка) и всегда так, как в данное мгновение было наиболее правильно. В обычных обстоятельствах, то есть вне боя, такой способности к быстроте мысли и поступков за ним не замечали, и потому товарищи нередко называли Атласова тяжелодумом.
…Полки шли, прикрываясь левым берегом. Правее, по широкой пойме, цепочкой тянулись лыжники — боковое охранение. Атласов видел, как всякий раз, когда темное небо впереди начинал быстро точить искристый червяк немецкой ракеты, лыжники застывали на месте, а потом снова скользили вдоль колонны, белые и неясные.
Километра через три, в том месте, где к реке вплотную подходит недостроенное шоссе Тула — Клешня, полки поднимутся на правый берег. На бугре будет Маслово…
Путь, хорошо знакомый Атласову!
Немало походил он тут со своими ореликами, наведываясь ночами то в Маслово, то в Ямны, а затем и в другие места. Однажды пришлось добраться и до Харина — это уже километров на пятнадцать в глубину расположения противника. Двое суток рыскал он оврагами вокруг этого большого села, битком набитого вражескими танкистами, и только на третьи вернулся с «дичью» — поповским сынком, за которым охотился. То был староста села — явление новое для советских людей. Но граждане села Харина разобрались в нем сразу и хорошо. Об этом свидетельствовала их горячая просьба, изложенная комиссару полка пожилой колхозницей, задержанной ночью у одного из передовых постов: «Поймайте Христа ради и повесьте аспида! Половину села уже продал гестапе, и сам у них за палача…» В результате Атласову и пришлось побывать в тех местах.
Случай этот, сам по себе не такой уж значительный, неожиданно повлек за собой дела неизмеримо более важные и опасные.
О намерении гитлеровцев создать вокруг города «зону пустыни» командование Тульского боевого участка догадывалось, но теперь предатель, вымаливая жизнь, сообщил важные подробности и сроки. Были, оказывается, сформированы команды поджигателей из разной антисоветской швали, подобной этому харинскому старосте, и одеты в нашу форму. Под видом разведчиков они должны были по ночам врываться в населенные пункты, где не квартировали фашисты, поджигать дома, школы, клубы, хозяйственные постройки, взрывать церкви, а жителей поголовно выгонять в поле, в лес — на мороз, непокорных или неспособных уйти — убивать. Этой провокацией гитлеровцы рассчитывали вызвать у крестьян ненависть к Советской Армии, лишить защитников Тулы связи с окрестным населением.
Конечно, коварный враг просчитался. Но чего стоило это Кириллу Атласову и многим другим офицерам и солдатам, а также людям, оставшимся в тылу врага для подпольной работы? Сколькими хорошими жизнями за это заплачено!
Незаметно подобраться к тульской, даже к самой, казалось бы, глухой и сонной, деревушке вдруг стало невозможно! При малейшей опасности (а сигнал о ней всегда поступал без осечки!) начинали действовать «самочинно» возникшие группы самоохраны. Они бодрствовали неусыпно и не только прогоняли ночных непрошеных гостей, но, бывало, и ловили одного-двух. И тогда все последующее, где бы это ни случалось, протекало везде примерно одинаково. Пойманных хорошенько выдерживали на морозе, а потом вели в ближайший немецкий штаб.
Дело было щекотливое и поручалось оно старикам — из таких, разумеется, что еще не положат охулки на руку. И те, ценя мирское доверие, неизменно оправдывали его.
Как и подобает пожилым людям, старички шли путем-дорогой не спеша, степенно и, само собой, часто отдыхали. Но, остановившись отдохнуть (непременно в лесочке или в буераке), время на ветер не веяли, а обстоятельно, без запальчивости и словесных излишеств втолковывали «шелудивым псам», как опасно «озорничать с огнем». При этом форменные ушанки с «разведчиков» снимали и клали в сторонку — молчаливо и свято чтя красную звезду. А покончив с этим, потирали ушибленные кулаки, всласть курили с устатку, недоумевали:
— Откуда они берутся, ошметки такие?
— Ума не приложишь, истинный бог! Намедни, когда в Мерликовке фашист грабил…
— Буде брехать, Северьяныч!..
— Язык-от, чума его возьми, без костей, ну и брехнет чего ни то. В Мерликовке, говорю, германец яйки да шпик… того, стало быть…
— Знамо дело, «новый порядок»!
— Во-во, это самое! Так ихний офицер сказывал, будто Красную Армию подчистую замели. А энти — бродют.
— Неприкаянные, знать…
Осуждающе покряхтев, старички поднимались и шли до следующей недальней остановки в лесочке…
А в штабе они уже с юношеским пылом и наперебой выражали всяческие чувства возмущения «большевицкими обсевками» и «препоручали» их, чуть живых, «по всей форме и, стало быть, в самые руки господ немцев, чтоб, значит, без греха, в аккурат и по справедливости…» Со стороны это выглядело умилительным свидетельством высокого авторитета «нового порядка» среди «руссиш бауэрн». Гитлеровцам только и оставалось, что скрепя сердце помалкивать. Чтобы как-то отыграться, они фотографировали такие сцены и потом печатали снимки в листовках и в газетенке «Новое время», которая с ноября выходила где-то в Калуге.
По деревням же вскоре узнавалось, что, прогулявшись со старичками, поджигатели уже не смели и спичечный коробок положить в карман…
Места, в общем, знакомые лейтенанту! И многое, связанное с ними, оставило в его душе благотворный след. Да и все, что увидел в Туле Кирилл Атласов, уже мало походило на виденное и пережитое им в летние месяцы.
В Туле, как-то неожиданно для себя, он уловил перемену в общем облике войны. Что это за перемена, он понял не сразу. Вначале это было только смутное чувство, что со всем происходящим вокруг случилось что-то важное, кончился какой-то этап и начался новый, и что этот новый этап несет ему, Атласову, нечто лучшее…
Прежде всего Кирилл заметил, что здесь, под Тулой, война вдруг замедлила свой бег, точно решила передохнуть.
Утром однажды, это было еще в начале ноября, проснувшись и выглянув из окопа, который был отрыт посреди шоссе, он поразился необыкновенной тишине. Она была глубокой и обнимала все: город, поля, туманные перелески, простиралась за горизонт. Непривычная тишина встревожила. Но затем из самой глубины его души поднялось чувство облегчения. Прямо перед собой лейтенант увидел серое шоссе, пролегшее на перевал к Косой Горе, справа — огромный корпус механического института, позади — уютное здание детского сада, слева — зеленые базарные лари и склады. Обычная городская окраина, торжественная тишина раннего утра. Забывшись, он ждал заводского гудка, а его не было… не было… И вдруг тоска ударила в сердце: «Да ведь война!..»
Долго тянулся этот день, непонятный, бесконечный, как дорога без цели. Не было стрельбы, не было распоряжений… Потом наступил второй. Война молчала, словно кто-то вдруг перекрыл поток ее трагических событий, которые ослепляли, оглушали и вертели Атласова четыре месяца так, что порой ему казалось, будто на свете только и есть что измученные люди в шинелях, бессильные вырваться из бесконечного кошмара…
И неделя минула. Война молчала. Фашисты отогревались невдалеке: в Маслове, Ямнах, Михалкове, в крестьянских избах, над которыми с утра до вечера стояли, как сосны, столбы дыма.
Кирилл Атласов все больше приходил в себя.
Теперь он уже с недоумением вспоминал о пережитом в Брянском лесу, когда вся прежняя жизнь его — города, электричество, книги — представлялась только давним-давним сном…
В середине ноября 290-ю стрелковую дивизию перебросили с южной окраины Тулы на северо-западную, на рубеж разъезд Некрасово — Плеханово — совхоз Приупский, с задачей: не допустить прорыва противника на Московско-Тульское шоссе, не дать ему сомкнуть клещи вокруг города.
Взвод Атласова оборонял Плеханово.
С высокой кручи, по которой двумя длинными порядками тянулся этот поселок, Кирилл теперь видел всю Тулу изо дня в день. Разделенная пополам неширокой Упой, она лежала на белой равнине, словно макет на столе, — то видимая до отдельного кубика-домика, то затянутая морозным туманом.
Подолгу смотрел Кирилл на черный город, поднявший к глухому небу каменные копья заводских труб, и думы его становились все спокойнее.
Как-то, будучи в городе, он увидел на Дульной улице бойцов тульского рабочего батальона — добровольцев. Они строили баррикаду. Атласов остановился потрясенный: кожанки, замасленные картузы, гранаты у пояса, пулеметные ленты через плечо, и в лицах суровая отрешенность и воля. «Да ведь это они штурмовали Зимний!..» — крикнул себе Кирилл, жадно и с благоговением разглядывая лица рабочих, их одежду, оружие. Особенно поразила его винтовка австрийского образца в руках высокого старика. Извлеченная после долгих десятилетий откуда-то из недр арсенала, она воспринималась скорее как реликвия былых побед, а не как оружие сегодняшнего дня. Длинная, с неуклюже вычурной широкой магазинной коробкой, эта винтовка выглядела наивно и смешно рядом с автоматом. И однако же, вместе с улыбкой она вызывала чувство почтения: такую винтовку семилетний Кирюша впервые увидел в руках своего отца, в день, когда бились красные казаки у станичного моста с конной сотней есаула Клеща и легли порубанные. Детство встало перед Кириллом, словно и не было между тем днем и нынешним двадцати одного года. Отчетливо, как никогда прежде, в его памяти возник дорогой образ. И, стремясь отцу навстречу, Кирилл протянул руки… и взял бережно тяжелую винтовку с ложем, темным от времени и ладоней…
Подолгу смотрел Атласов на черный город, раскинувшийся среди равнины, полоненной врагом, и глаза его становились зорче, а виски незаметно белели.
Впервые в жизни он не отвлеченно, не по-книжному представлял, а своими глазами видел и огромность Родины и Народа, и вечное единство их судеб; и ему открылись условность понятия «армия» и смысл торжественного слова «бессмертие». Он как бы разглядел наконец свое место на великой карте событий и времени, и то, что это место оказалось крохотным и схожим, как ячейка в сотах, с местами тысяч и тысяч других советских людей, не только не укололо его гордости, а, наоборот, осознание схожести и общности своей жизни и дел с жизнью и делами миллионов сделало его спокойнее и словно бы мудрее и устойчивее на земле.
Полки шли уже час.
Теперь Атласов чувствовал, какой леденящий ветер дул навстречу, но был рад ему: ветер гасил предательский скрип снега, помогал. Минут через двадцать головной полк должен выйти на правый берег. На бугре будет Маслово…
Вдруг Атласов остановился. Скрип снега за его спиной начал быстро отдаляться назад по тропке.
Лейтенант слушал, вскинув голову и почти закрыв глаза, — как делают, когда хотят разом слышать все кругом.
В ритме шагов, звучащих впереди, ухо разведчика улавливало какую-то скованность, нерешительность.
Шли медленно.
И тут Атласов поймал себя на мысли, что давно заметил это. Больше того: ему хотелось, чтобы движение по реке продолжалось дольше.
«Почему?» — недоуменно спросил он у себя и ощутил холодок у сердца.
Холодок этот тронул его сердце днем еще, в штабе полка, когда отдавался приказ о наступлении, но в заботах и спешке, всегда неизбежных после этого, Атласов забыл о нем.
Он оглянулся.
Цепочка людей, повторяя изгибы тропки, терялась в гудящей тьме. Каждый ждал, когда шагнет передний. Перед Атласовым никого не было…
«Почему? Неужели я не хочу этого наступления, боюсь его?..»
Подбежал запыхавшийся Сидор-маленький и передал распоряжение командира полка пропустить вперед второй батальон, а разведчикам двигаться за штабом.
Атласов уступил тропку.
Снежок покрутился у его ног белым песиком, лег.
В тишине замелькали перед разведчиком толстые, неуклюжие в зимнем обмундировании фигуры, странно схожие, горбатые от вещевых мешков с двухсуточным «неприкосновенным запасом». Они шли недружно, неровно. То один, то другой солдат отставал, задумавшись, потом, глянув кругом, кидался догонять товарища. Шли в абсолютном молчании. Атласов слышал прерывистое дыхание настороженных людей.
Опять заныл ветер… Какой-то солдат, нескладный и длинный, что веха, начал обгонять цепочку, придерживая каску, нахлобученную поверх ушанки. На бегу он поскользнулся, и каска грохнула о лед. Строй нервно подался в сторону. Неуклюже нагибаясь за каской, нескладеха подфутболил ее огромным валенком дальше.
Пчелкин хихикнул.
— Что особенного? — равнодушным тоном сказал Поддубный. — Малютка вспоминает роскошное детство. Как говорится, пост фактум.
— Что?! — подался к нему Пчелкин, приплясывая от холода. — Что ты сказал?
Из темноты подвинулась к ним строгая фигура старшины.
— Что это «пост фактум»? — приставал Пчелкин. — Скажи, Ваня!
— Альбатрос — не тетя из дошкольного учреждения, чтобы объяснять шпингалетам популярные термины.
— Ух ты! — прыснул Пчелкин. — Не знает, а говорит! — И, поеживаясь, толкнул плечом Мирона, который стоял безмолвный, как башня. — Алло, там, наверху, ты вообще слышишь, как внизу заливают?
— Вообще, — поднял голос Поддубный, — мальчик из Анапы не любит, когда баланду травят. Он сказал: «Все в прошлом». Культурно сказал. Соплякам рекомендуется иметь хотя бы карманный словарь Блокгауза и Эпрона…
— Разговорчики!..
По тому, как это было сказано, Атласов догадался, что старшина не в духе. А час назад он выходил из Плеханова веселым и бравым, празднично выпустив из-под каракулевой кубанки холеный ковыльный чуб. «Категорически, сто!.. — с самым искренним видом уверял он тогда, перехватив строгий взгляд лейтенанта и вытягиваясь в великолепную стойку. — Сто, як и усем к обеду, и ни малюсенького грамма поверх! Ни боже мой!.. — И ни разу не отвел родниково холодных и только как бы слегка запотевших голубоватых глаз. — Ни-ни! Усе в норме, товарищ лейтенант!» И действительно, выглядел в «норме», хотя Атласов не сомневался, что «поверх» старшина пропустил, конечно, никак не меньше трехсот «малюсеньких».
— Отставить разговорчики! Сто разов кажу!
Пчелкин поднял к старшине расплывчато белеющее в темноте лицо и, подражая бравому солдату Швейку, рассказы о котором Доля очень любил слушать, доверительно заговорил:
— Осмелюсь доложить, товарищ старшина, вы совершенно правы. Один мой хороший знакомый загнулся именно потому, что не знал, когда молчать: до того, как бандиты стукнут его, или после. А фашисты, как теперь известно всем, это же стопроцентные бандиты! Другой мой хороший знакомый, из Анапы — вы его знаете, он всем заливает, что чуть не женился там на золотой рыбке! — так этот знакомый клянется, что фрицы терпеть не могут русского голоса перед своими окопами и, когда слышат его, плюются из минометов на чем свет стоит. Так что, категорически, лучше отставить всякие разговорчики.
— Усе? — глухо спросил старшина. — Наряд вне очереди… После боевой операции.
— Но, товарищ старшина!..
— Два наряда! За то, что, як и твои знакомые, не знаешь, когда молчать.
— Есть! — кротко вздохнул радист и незаметно для Доли подмигнул ухмыляющемуся Андрееву. — Только осмелюсь уточнить, товарищ старшина: после какой по счету боевой операции прикажете топать в наряд?..
Доля плюнул и так зыкнул на пробегавшего мимо солдата, у которого гремели насыпанные прямо в котелок патроны, что беднягу будто ветром отнесло в сторону.
— Шире ша-аг! — тут же накинулся старшина на двух других, подозрительно быстро охромевших солдатиков южного облика, явно не торопившихся вперед. — Спите на ходу!
— Окопчики, товарищ старшина, — тем же равнодушным тоном сказал Поддубный. — Психология, коротко говоря.
— Яка тут к чертям психология! — не вникнул сгоряча в сказанное старшина. — Збаловались за месяц в траншеях, так теперь на открытом и жмутся друг до дружки, як курчата на холоде! Шире шаг, друзья! Тула, а там Елец — и фашисту конец!
Он потоптался около лейтенанта, пожаловался:
— Не наступление, а, категорически, похоронное шествие…
Прошел командир полка с группой штабных и что-то негромко сказал Атласову. Ветер и скрип шагов погасили слово, но ласковый кивок разведчик увидел и невольно ответил тем же. На душе его стало спокойнее, как всегда, когда он бывал рядом с майором или хотя бы знал, что тот неподалеку.
Кирилл очень любил майора Барабина и часто думал о нем, стремясь разгадать удивительную тайну его почти безграничной власти над людьми — власти даже в минуты, когда человек, казалось бы, уже ничему не подвластен, кроме страха. А когда Кирилл видел, как маленький, приземистый майор врастал каменным идолом в курган где-нибудь посреди боя, а рваный металл выл и не смел коснуться, душу его охватывали и гордость, и страх за любимого человека, и горячее желание быть похожим на него. Не раз Кирилл пытался объяснить себе свои чувства к майору. Но как только начинал думать об этом, тотчас из дальней дали перед ним возникали дорогие отцовские глаза, на которые, как ему верилось, были так похожи горячие сухие глаза майора Барабина. И дальше его мысли не шли. Да, может быть, это и было главным. А вернее всего, главным была война. Как и многие из его сверстников, Кирилл Атласов вырос, мало думая всерьез о войне, а когда она грянула, чуждая всем его прежним устремлениям, ему нужна стала крепкая духовная опора. И он нашел ее в лице большевика Саввы Юрьевича Барабина, чья шахтерская молодость, как и молодость кубанского хлебороба Максима Атласова, ярко отцвела под знаменами легендарных конников Буденного…
Полки без помех форсировали Упу. Головные подразделения заняли по бугру исходные рубежи для атаки.
885-й полк, без обозов и служб, оставленных за рекой, расположился на льду, под береговым обрывом. Солдаты нарыли ямок в сугробах и отогревались. Кое-кто уже спал, но большинство сбилось в кучки и вело ту, без начала и конца, состоящую главным образом из междометий и пауз, «балачку», какую только и можно услышать в последние минуты перед боем, когда слова и мысли у человека текут параллельно, когда мысли — самые сокровенные и важные, а слова часто служат лишь для того, чтобы сократить сроки к тому неведомому, что наступит с минуты на минуту, а сейчас холодными губами сосет сердце…
Мирон и Пчелкин выгребли в плотном снегу под берегом пещерку и для лейтенанта. Но ему не хотелось спать в такой час. Пристроившись на камне в затишке, Атласов угрюмо курил, пряча огонек в рукаве, и напряженно, как все, ждал атаки. Но близилась полночь, а на бугре было тихо.
Далеко на южной окраине Тулы протяжно вздохнула, словно бы во сне, «катюша». По горизонту волной прошла нервная перекличка вражеских ракет.
— Хочу поглядеть, солдат, что там, в первом эшелоне, творится, — неожиданно послышался рядом недовольный голос командира.
— Лощинка левее, товарищ майор, — встал Атласов. — Я ходил ею в Маслово…
— Веди!..
Пока взбирались по косогору, ветер высоко поднял тучи, выстелил их по небу узкими полосками. Освещенные сверху тусклым, летучим, как дым, светом, тучи казались белыми половичками на черном полу. В промежутках светились звездные пробоины.
— Луна тебе нужна, разведчик? — останавливаясь, спросил майор. — Неделю мело, а сегодня, как на зло, черти выносят луну!..
Он постоял, тяжело дыша, сердито отстранил Мирона с пути и двинулся передним, глубоко разгребая валенками снег. Сидор-маленький попытался было обогнать его, но майор зыкнул, и ординарец побрел позади всех.
На выходе из лощинки остановились. Неподалеку лежала реденькая цепь.
Фигуры людей на снегу с каждой минутой проступали отчетливее. Между цепью и всплывающей луной на близком гребне косогора чернели остатки стен и стропила в Маслове.
— Луна нужна, как дырка на мосту… — ворчал майор, взбираясь на льдистый, обдутый ветром бугорок.
Большой, как барабан, красноватый диск тяжело выкатился на гребень и посунулся по горизонту к левому флангу цепи. Иногда луна словно застревала в сугробе, тускло золотя его вершинку…
В цепи внезапно поднялся во весь рост солдат и взмахнул винтовкой. Атласову почудилось, что приклад сейчас стукнет по лунному диску и на всю округу раздастся медное, предательское «бе-е-мм».
— Ура-а…а! — отчаянно и одиноко закричал солдат в морозной тишине.
Стало еще глуше.
— Псих… или пьяный? — тревожно прошептал Сидор-маленький.
Солдат немного пробежал, потом, выронив винтовку, постоял на подламывающихся ногах и опрокинулся. И в тот же миг рядом с Атласовым оглушительно разорвалась мина.
Волна горячей тьмы сшибла его, ударила затылком о землю. Он вскочил, но обмякшие ноги не удержали. Как сквозь вату дошел к нему тревожный выкрик Мироши:
— Товарищ лейтенант!..
Сильные руки взяли его под мышки, поставили. У ног остро воняла серой воронка. Над Масловом лихорадочно ввинчивались в небо сигнальные ракеты. На белый, мертво осветившийся косогор оседала огненная разноцветная паутина: красные, желтые, зеленые нити трассирующих пуль выгибались дугой, переплетались, опутывали кого-то. Взахлеб бил наш «максимка»…
«Не вышла ночная бесшумная атака! — сквозь треск и гул разобрал Атласов слова командира. Майор стоял все там же — на льдистом бугорке, заложив руки за спину, и смотрел на Маслово. — Не умеем наступать ночью, не видя соседа, боимся еще!..»
Атласов видел, как он снял рукавицу и нетерпеливо шевельнул пальцами. Сидор-маленький выхватил из кармана и подал ему папиросу. Не взяв ее, майор пошел вниз.
На льду сказал:
— Ложись спать, разведчик! Огневой бой ночью — дело затяжное и, как сам знаешь, мало полезное. Теперь нас потребуют не раньше как утром. А ты выспись. Потом — не дам!
Война приучила Атласова использовать для сна каждую подходящую минуту и в любых условиях. Но в этот раз, затиснувшись до колен в пещерку, где уже высвистывал носом что-то хитренькое Пчелкин, он уснуть не мог. Болела голова, внутри все мелко дрожало: то ли озноб одолевал после быстрой ходьбы, то ли это была запоздалая реакция на пережитую нервную встряску.
Он закурил.
Близко разговаривали солдаты. Первая же фраза, в какую он вник, заставила его прислушаться внимательнее.
— Может, отменят наступление, — утешал кого-то гундосый, тягучий голос. — И возвернешься к ней. Морозить на реке не станут.
— Ох, милачок, кабы так, кабы так! — сокрушался тот, должно быть, кого утешали. — А только навряд, что отменют. Навряд, чует мое сердце!
По писклявому, скопческому голоску Атласов узнал Цветкова — ездового из штаба полка, сегодня попавшего в строй после очередной чистки «тылов».
Гундосый спросил:
— Взаправду хороша хозяйка али треплешься?
— И-их, милачок! — запел Цветков. — Пол-России протопал туда и в обрат, а подобную такую одну и ветрел!
— Чем уж?
— А всем, как есть! Что на личность, что на прочее. Глазочком только ее приголубишь — и враз в тебе кажная жилочка взбодрится, свет милее станет.
— Спикировал? — с завистью спросил гундосый.
— Мысля скоромная проклюнулась, отрицаться не буду, — без смущения сознался Цветков. — А чтоб до дела — не дошло, нет.
— Дурак, — сказал гундосый.
— Эт как рассудить, милачок. Об таких ли делах думать, когда кругом беда. Потом же я супротив ее что пистолет супротив «катюши».
— Так об чем жалкуешь тогда, зануда рыжая? — рассердился гундосый.
— О блинах же! Сказываю тебе: месяц ее, лебедушку, охаживал: «Изделай ты мне, говорю, Дарь Игнатовна, чего ни то домашненького, чтоб сердцу в приятность. Иссох, мол, до кости на казенной грече!» А она все жмется, на военное время жалится. А сегодня, как зашла промеж нас с нею речь о наступлении, гляжу, тащит мисочку мучицы. «Ради такого святого дела, говорит, ничего не жаль, Лександра Иваныч! Будь моя, говорит, возможность— на всю армию испекла бы блинков. А сейчас поешь хоть ты за всех наших воинов. Только прогоните скорее немого с нашей земли, возверните народу светлую жизню!» Чмокнул я ее, сахарную, в щечку от всего моего чистого сердца, и затворили мы блины к вечеру. А игде я вечером?! — В голосе Цветкова послышались рыдающие нотки. — И почему это завсегда нам первым идтить в наступление? Обидно ить!
— Соседняя дивизия тоже наступает, — громко сказал молодой голос. — С иголочки дивизия, сибирская. Дадим жизни фашисту!
— Дадим… — промычал гундосый.
— Не веришь? — с задором спросил молодой.
— Не больно-то есть чем давать…
«Не верит, — понял Атласов, и давешний холодок резнул его сердце. — Я сам не верю в это наступление!..»
Да, за горькое время великого отхода Атласов сжился с мыслью, что будущее наступление Советской Армии — а он страстно ждал его каждый день! — явится внезапной и неудержимой лавиной, которая вмиг сметет врага с родной земли. Лавина! Пехота, артиллерия, танки, авиация, дивизионы «катюш»…
А в действительности?
Потирая пылающий лоб, Атласов подсчитывал: в первом полку — сто шестьдесят, во втором — сто восемьдесят, в третьем — триста штыков с ездовыми и поварами. Автоматы только у разведчиков. Артиллерии — две пушчонки!.. На том берегу, в Плеханове: полевая и горная. На Рессете стрелковый батальон был больше такой «дивизии».
«На Рессете!..»
Вспомнив о ней, Атласов скрипнул зубами, поднял воротник полушубка и лег.
Разбудила тишина.
Мгновений, какие обычно требуются большинству людей, чтобы прийти в себя после сна, Кирилл не знал. Он открывал глаза и входил в действительность, словно и не выключался из нее.
Сероватый, как заношенное белье, без бликов и теней, день и тишина стояли кругом. Далекая пулеметная строчка только подчеркивала тишину.
«Одиннадцатый час?!»
Атласов выскочил на лед.
Ни души.
Тишина и — нервная строчка: та-та-та… та-та…
Он кинулся туда, где ночью размещался штаб. За поворотом на отвесной круче стояли его разведчики, другие солдаты, командир с комиссаром — весь полк. Люди стояли тесно и молча, не заботясь о том, что их может заметить противник, и напряженно смотрели в сторону Маслова.
Атласов быстро поднялся.
Цепи, прижатые к земле недавним огнем, лежали неподвижно. 882-й полк успел все же зацепиться одним флангом за деревню. В зеленый домик на окраине перебегали из цепи солдаты.
По всему полю, изрытому воронками, виднелись маленькие фигурки убитых.
С пригорка за Масловом полз новый враг. Черный, длинный прямоугольник пехоты — до батальона — резко печатался на чистом снегу.
Поле молча, подавленно ждало его.
— Снарядом бы!.. — вздохнул бледный солдатик впереди Атласова.
— Нахально прет, гад! — прогудел рядом бас.
— Колонной, в открытую!
— Победители… У-у, гады!
— Снарядом бы, а?! — вздыхал бледный.
— Не будет снаряда! — рявкнул бас. — Штык примкни!
Но снаряд пришел.
Нетерпеливое, горячее шуршание послышалось в сером небе, притягивая сердца и взоры, и перед черной колонной блеснуло сизое перышко разрыва. Колонна остановилась: так идти или податься в сторону?..
— Еще! — попросило поле единой грудью.
— Скорее!..
Разрыв блеснул сбоку, вплотную к строю, и сжег сомнения врага. Черные фигурки брызнули врозь, потом сбились в кучу. В середину грянул снаряд… другой… сразу два! Еще два!! Еще!!!
Артиллеристы за рекой творили чудо: казалось, стреляют не две, а двадцать пушек.
— Драпают!.. — вдруг заголосил кто-то на весь косогор. — Браточки, ей-богу, драпают! Ура-а-а!..
— За Родину, урра!! — одним долгим голосом в сотни простуженных глоток ответило поле и — рвануло вперед.
Подхваченный тем неистовым нетерпением, что, как вихрь, взметнуло и бросило вперед все подразделения, Атласов бежал и все яснее слышал не вражескую стрельбу впереди, а нарастающий тяжелый топот многих ног за спиной. Лейтенант почти физически ощущал, как окрылившийся гнев сотен, их клокочущее трудное дыхание заполняют все кругом и словно приподнимают его над землей, толкают в спину и несут! Спроси его кто-нибудь в эти мгновения, куда он спешит, Атласов поразился бы нелепости и кощунству вопроса. Он спешил к черте, которую нужно было достичь как можно скорее. Где была эта черта — на поле боя или в душе, — он не знал. Но она была. К ней рвалось его сердце с первого дня войны…
А ноги несли Атласова на пулеметчика, что стрелял из-за плетня. Ствол пулемета на треноге задрался в небо, но фашист не замечал этого. Стоя на коленях, вцепившись руками в спуск, он бился вместе с пулеметом горячечной дрожью и строчил, строчил, словно хотел оглушить самого себя. А когда вдруг кончилась лента, он повесил руки вдоль зеленого туловища и медленно осел на пятки. Иссиня-бледное, грязное лицо его словно вытекло все через выпученные трясущиеся глаза. Но глаза эти видели не лейтенанта, занесшего приклад автомата. Что-то еще более страшное притягивало их.
Атласов оглянулся.
Все поле бежало на врага.
Молча.
И этот молчаливый бег был бесповоротен.
Лица у солдат были новые, незнакомые. С такими лицами останавливаются, и то не сразу, лишь наткнувшись на смерть…
Пронесся, обдав Атласова хрипом и ветром, длинный боец в каске поверх ушанки. Он так спешил, что, перемахнув через плетень, даже приклада не поднял: ударом валенка в лицо опрокинул врага, ухватил пулемет за ствол и помчался дальше.
«Нескладеха!» — узнал Кирилл солдата, что ночью футболил на льду каску, и долго смотрел ему вслед, пораженный чудом преображения.
А бой, подобно летнему степному пожару на ветру, стремительно летел широким фронтом за деревню, на бугор.
Приподнятое, почти праздничное настроение охватывало Кирилла Атласова не сразу, однако, а постепенно, точно радость забыла пути к его сердцу и теперь с оглядкой нащупывала их.
…Когда взвод разведчиков собрался, лейтенант повел его прямиком через яблоневый сад, изъеденный пулями, к зеленому домику, где по оси движения их полка должен был развернуться штаб.
На выходе из сада разведчик увидел землянку, прикрытую дрекольем, соломой и мерзлой глиной вперемешку со снегом. Из круглой дыры, заменявшей дверь, полз человек. Выбравшись на свет, он, держась за крышу, поднялся на широко расставленные, нетвердые ноги и стал озираться, готовый опять исчезнуть в норе. Человек был седоголов и страшно тощ, в незастегнутом рыжем кожушке. Наклонившись, он что-то крикнул в черную дыру, вскинул вверх руки неровно и слабо, как подбитые крылья, и побежал навстречу разведчикам мелкими шажками, старчески выкидывая в стороны колени.
Он остановился перед взводом, прижал кулаки к синей костлявой груди и глядел, обессиленный радостью. На его бескровном и вовсе еще не старом лице плакали глаза. И — сияли! Из них лился такой пронзительно чистый, ликующий свет, каким бывает только солнечный луч, брызнувший сквозь грозовую тучу. А губы тряслись, безмолвные. Человек упал на Атласова, со стоном прижал его к груди, потом, распахнув руки, запрокинул омытое слезами, оживающее лицо, шагнул навстречу людскому потоку, стрельбе, гулу — всему огромному, что возвращалось к нему вместе с родным советским солдатом, и закричал:
— Спасибо! Спасибо! С победой!..
11
Кирилл порывисто сел, чувствуя, как застучало у него сердце.
— В этом же все дело! Победа! — вслух сказал он и минуту сидел неподвижно.
Пчелкин дремал, опустив на колени кулачок с микрофоном, трое у огня тоже примолкли, склонив устало головы, и только дрова трещали, как сороки, перекидываясь звонкими искрами; да топала буря по крыше.
«Победу увидели мы в Маслове — впервые за войну. В этом все дело! — думал Кирилл, напряженно глядя в клочковатый мрак, пляшущий за полосой света перед топкой. — И там же в зримом образе перед нами раскрылся священный смысл войны, смысл наших мук…»
В его воображении возникли, заслоняя все, сияющие глаза советского человека в яблоневом саду, изъеденном пулями, — человека, возвращенного к жизни победой над фашистом. Кирилл потер вдруг похолодевшие ладони.
«Много, очень много мучительных километров шли мы в огне и дыму, пока увидели эти глаза! Но когда увидели, сами стали иными. — Ему тотчас же вспомнился нескладеха, орлом налетавший на гитлеровцев в Маслове, и он скупо улыбнулся. — Да, победа словно подарила каждому из нас крылья! За Масловом было Коптево, за Коптевом — Зайцево, Бредихино, Воскресенское… Дубна… Сегодня была Калуга. Но Калуга — только этап, а Маслово — начало, родничок, вдруг выбившийся на свет в гремящем Подмосковье. Теперь их множество. И если закрыть глаза, можно представить, как сотни таких родничков, становясь все шире и стремительнее, текут по дымной России и там, далеко-далеко у едва различимой светлой черты, сливаются в неоглядную реку. Победа!.. Сколько нас дойдет?»
Кирилл вздохнул и, стараясь не тревожить Пчелкина, поднялся на ноги.
«Мир! Какое это огромное слово. Его и осмыслить невозможно! Только подумаешь — и сердце сжимает щемящая боль. А ведь наступит время, когда все люди разом радостно скажут: „Мир!..“ Какой станет в этот день земля? Какими будут люди после войны? Хорошими должны быть — мудрыми, чуткими, щедрыми, как Родина, спасенная ими. Да, из такой купели выйдут только хорошие люди! Человек, которого убивали много дней подряд, будет очень любить жизнь и делать все, чтобы она стала прекрасной».
— «Река»! — внятно сказал Пчелкин во сне и облизал припухшие губы.
Кирилл тихонько взял его под мышки, чтобы уложить, но Пчелкин с тихим стоном разодрал мутные глаза и попросил виновато:
— Не надо, товарищ лейтенант…
— Ляг как следует и поспи, — шепотом, ласково велел Кирилл.
— Нет, нет, честное слово, нечаянно!..
Поправив свечу в фонаре, Кирилл вынул из планшета карту и, усевшись опять возле рации, начал обдумывать свой маршрут на Тихонову Пустынь, не сомневаясь, что приказ о разведке этой станции он получит с минуты на минуту.
Когда Пчелкин думал, что лейтенант не наблюдает за ним, он наклонялся к рации и кончиками пальцев касался маленькой фотографии, приклеенной над зеленым глазком настройки. С фотографии сдержанно, одними глазами улыбалась женщина лет сорока, с крупным приятным лицом — мать Пчелкина, работница московского метро. Фотографию Пчелкин получил два дня назад, перед самым штурмом Калуги, в письме, помеченном еще концом сентября. Кириллу запомнились сердечные и торжественные строки из этого письма: «Ненаглядный, родной Егорка! — писала Анна Флегонтьевна. — Нет, я не сержусь, что ты ушел не спросясь, тайком от меня, и ты больше не тревожь себя этим. Я только сперва испугалась: так ведь я — мать, а ты совсем дитя, и до призыва у тебя еще год был. Но и как мать я теперь еще больше горжусь тобой. Благославляю тебя, сынок, и говорю: ты еще не рабочий, и не инженер. Ты только мог быть любым из них. И ты будешь, кем захочешь, когда победим фашиста. А без этого все равно никем не будешь, потому что и жизни нам не будет. Так воюй храбро, сын мой! Да хранят тебя Родина и мои слезы!»
Пчелкин нежно касался фотографии и прижимал кончики пальцев к губам… Затем звал все более сонным голосом:
— «Река», «Река»! Я — «Чайка»…
Наконец тенорок его совсем оборвался, кулак с микрофоном снова упал на колени, белая стриженая голова поникла, как подсолнух.
Кирилл бережно уложил радиста. «Да хранят тебя Родина и мои слезы!» — про себя повторил он строку из письма и подумал со вздохом: «Сколько матерей в России теперь шепчут такие слова».
Взял из холодного кулачка микрофон, надел наушники.
Тоненькие свисты прокалывали беспредельность. Рядом дышало что-то неведомое, опасное. Первобытная буря шла по России — стлала белую постель убитым, терзала живых. За бурей, за сугробами, за пламенем где-то молчала «Река».
Тоска тяжелой лапой взяла Кирилла за сердце. Он кинул на рацию наушники, посмотрел вокруг. Хлам, грязь, ненавистный запах врага… Ему вдруг представилось, что весь мир теперь, как этот разбитый полустанок. «Когда, когда это кончится?!» — подумал он и с трудом удержался от стона…
12
Трое у печки сидели, примолкнув, завороженно глядя в огонь. Пастух из Казахстана — Кулибаев Гайса, кубанский хлебороб Павло Доля и рабочий-тверяк Миша Андреев. Пятна света и черные трепетные тени бились на покрасневших сонных лицах, то густели, то блекли и ускользали. Тепло вливалось щедро в могучие изнемогшие тела, и хмельная дрема обнимала солдат. Хорошо было! Даже думать не хотелось, страшно было думать, что где-то сейчас в метельном поле идут товарищи, бьет их снег, бьют пули. Раненые коченеют и медленно тонут в сугробах…
Круглый уголек упал на ладонь старшины. Он покатал его, как горошину, кинул. Тихо спросил, кладя на плечо маленькому казаху свою пудовую длань:
— Уморился, Гайса?
Сапер улыбнулся кротко и застенчиво. В раскосых щелочках перекатились влажные черешенки, бархатно погладили постаревшее, в светлой щетинке, лицо старшины, столкнулись с его шалыми глазами и опять ускользнули в недоступную тоскующую темень девичьих ресниц.
— Немножко шибко уставал, Павлуша.
— Думаешь все?
— Дома был…
— Зря мучаешь себя. Поверь, скоро придет письмо. Придет, и окажется: усе в норме! Да як же иначе, Гайса? Что у вас там, в селе вашем, людей добрых нет? Или, может, советской власти не стало? Усе ж есть, категорически! И братикам допомогут, и тебе отпишут, случись беда. Потом же сам комиссар послал туда бумагу!
— А Гайса нет письма. Полгода — нет!
— Так и дорога до вас не близкая! Я сам уже месяц листа з дому не держу. Другой раз так за душу возьмет— прямо б на шматки рвал почтарей, а подумаю — и сердце охолонет. Ну какая теперь почта?! То нас окружали, теперь мы окружаем. По тридцать-сорок километров рвем в сутки. Поспеешь за нами? Да еще в таких снегах!
— Гайса письмо нужен, Павлуша.
— Оно так-то!.. Закурить хочешь?.. Ну, вольному воля! Ох, и не люблю я, что ты такой индивидуал! Все молчишь, не куришь, водку не пьешь. Трудно ж тебе! Какая солдату радость еще?
— Точно! — зевнул Андреев и потянулся с хрустом. — Убьют, и такой не узнаешь.
— Гайсу не надо убивать.
— Чудак человек, кого надо? А только на войне чего не случается.
— С Гайса не случится! — В голосе казаха зазвучал гнев. — Гайса головой воюет, а не как вы с Поддубный — сердце один слушаетесь. У Гайса — шесть братьев в Сагиз-кишлак. Совсем еще маленький люди. Мать умер. Отец шибко больной. Как жить будут?
Старшина достал из-под халата большой, синего шелка, расшитый кисет.
— A-а, подарочек с тыла! — оживился Андреев и шумно потянул носом воздух, словно принюхиваясь к тому, что было в кисете. — Вкусное, должно быть! В Калуге я видел у начпрода полные сани таких кулечков.
— Штучку он… уступил! — ухмыльнулся старшина. — В счет того, что нам причитается…
В кисете были безопасная бритва, флакончик одеколона, два носовых платка и записочка, в которой неведомая, но сразу ставшая близкой разведчикам О. С. Сорокоумова (Москва, Плющиха, № 55) ласково поздравляла «дорогого защитника» с Новым годом и наказывала беспощадно громить фашистов. В бумажном пакетике оказалось еще несколько пряничков домашнего приготовления — несколько кусочков серого, крепко запеченного теста, нарезанного в форме сердечек.
— Шлют вот… — дрогнувшим голосом сказал старшина, держа на широченной ладони крохотный пряничек. — А дома, может, детям и хлеба не хватает…
В глазах его сверкнули слезы. Пряча их, Доля опустил голову.
— Возьми!.. — через минуту положил он кисет на колени Гайсе. — А мы закурим. Закурим, сержант? Ты не откажешься, знаю.
— А зачем отказываться? — удивился Андреев. — Мы даже с полным нашим удовольствием!
— Жадный ты, хлопец! На тебя и махры не напасешься.
— Верно! Мы, Андреевы, до всего жадные. Что покурить, что выпить, что поесть. Особенно поесть люблю! — Сержант обстоятельно свертывал огромную цигарку, стараясь не замечать насмешливо зоркого взгляда старшины. — И работать я тоже ужасно как люблю. В депо, бывало, две нормы в день — как закон! Если бы не война, уже в бригадирах ходил бы, факт. Ну, я догоню!.. Может, мы и чайку организуем к пряничкам, товарищ старшина? — неожиданно предложил он. — Вы, известно, не так чтоб любитель этого дела, а оно не вредно, особенно с такого мороза. Очень даже не вредно! А заварочка у нас имеется. Заварочка — такое дело, что всегда при нас, да-а!.. Благодарствуем за табачок! Солидно курнем! А котелочек мы добудем у Мироши. Как, товарищ старшина?
— Полцигарки назад, хлопче!
— Павел Тарасович, с утра не куривши!..
— Сыпь, кажу! Ще вопрос, когда теперь начпрод догонит нас. Снегу намело — танки тонут. А курить ты захочешь и сегодня не раз. Не заставлю ж я героя Калуги смоктать навоз!
Старшина показал Андрееву пачку трофейных сигарет в желтой обертке с черными готическими вензелями и размахнулся, чтобы кинуть ее в печь. Однако раздумал:
— Черт его знает, когда и вправду начпрод догонит…
— Ну ладно!
Покряхтывая, будто ему рвали зуб, сержант отсыпал махорку в кисет.
— Вот и гарно, Миша! У нас с тобой усе по доброму согласию!.. А котелочек, и правда, возьми у Мироши. Та не разбуди!
Но Мирон Избищев не спал. Он сидел на полу, между печкой и дверью, обняв колени, уперев могучую спину в черные бревна стены, и смотрел на трофейный валенок, задравший перед ним широкий нос. Смотрел и думал. Кому другому его мысли могли показаться наивными, а для Избищева они были очень важными. Может, именно в этот час раздумья он и признал себя, наконец, солдатом, хотя священное звание это и носил четвертый месяц. Да ведь звание — не шинель, Мирон понимал это и мучился из-за своей, как он считал, солдатской ненастоящести. Ему все казалось, что он не такой солдат, как его товарищи, а хуже: мягче сердцем, слабее духом, и что этим он в чем-то обманывает их. Вон Поддубный. Тому и пленный попадется на глаза — так он прямо белеет от злости, а у него, Избищева, этого нет. Сколько «языков» прошло через его руки, и всякий раз он только с дурацким любопытством разглядывал чужого офицера или солдата— того, что вот сейчас старался убить его — и уже чувствовал к нему не злобу, а только тревожное любопытство. Силился и не мог представить, что вот этот человек и есть тот гнусный, жестокий враг, который принес Отечеству столько страданий и которого надо ненавидеть и уничтожать беспощадно. Нет, этой священной ненависти у него было еще мало! Были щемящее недоумение и стыд за человека…
«Человек — это звучит гордо! Человек — самая большая ценность на земле», — учили Мирошу и школа, и вся советская действительность. Привыкнув за свои двадцать четыре года соотносить эту великую гуманистическую формулу с советским человеком, в котором он ни разу не обманулся, — с человеком, который, видя свое назначение на земле в том, чтобы творить людям добро, героически созидал социалистическое общество, с человеком, которого общество почитало за его труд на благо коллектива, за преданность Родине, прокладывающей человечеству путь к счастью, Избищев как-то незаметно для себя начал переносить это гордое, торжественное звание Человек и на всех людей, стал наивно представлять всех людей на земле похожими на советского человека. И эта неосторожная душевная щедрость помешала ему сразу разглядеть звериную сущность фашиста, враждебную самой человеческой природе.
Огромные и жестокие события, в пекло которых попал Мирон с конца лета, потрясли его. День и ночь низкий земляной гром бомбежек, горящие золотые нивы и сады, гибнущие, как богатыри, города, и черные километры на восток, все на восток, и убитые вчера и сегодня, в траншеях и на дорогах — все это воспринималось им как страшный сон! Понятия «фашизм» и «война» в его оглушенном сознании слились в один образ, и в этом образе долго не было ничего от человека. Это было Нечто — непостижимо большое, железно-огненное, беспощадное: слепая, всепожирающая машина. Человека в ней не было! Не мог Мирон сразу отождествить этот образ слепой машины с реальным обликом врага, которого он убивал или пленил в сражении, — с обликом человека, нередко с таким же, как у самого Мирона, тяжелыми, натруженными руками и лицом без всякой особой капиталистической мечты. На этом лице он видел только мольбу о пощаде…
Но чем дальше на восток шел Избищев, а за ним неотступно шли гитлеровские орды, тем все очевиднее становилось ему, что человек человеку рознь, что есть он, Мирон Избищев, советский человек, который защищает Родину и социализм — светлый мир, несущий людям свободу, благополучие, культуру, и есть человек в танке со свастикой, вероломно напавший на этот новый мир, человек, борющийся за капитализм, принесший людям фашизм и эту страшную войну.
«И тут, пожалуй, не важно, какие у тебя руки, — все чаще думал Мирон, — а важно, что ты делаешь этими руками, что ты несешь ими людям: радость жизни или смерть…»
Желтое пятно враждебно светилось на широком носу валенка. Когда вздрагивало маленькое пламя свечи в фонаре, пятно шевелилось, ползало, словно валенок брезгливо морщился, хотел выше задрать нос.
Это сердило Мирошу, мешало думать.
Если бы это соломенное страшилище было сделано кое-как, если бы мастер, чьи руки творили его, выразил чем-нибудь свое отрицание этой затеи, свою насмешку над нею, валенок, возможно, и не произвел бы на Мирона такого впечатления. Но уродец был сделан «честно». Кому же, как не Мирону, было понять это! Каждая соломинка, скрученная в виде толстой нити и туго переплетенная с другими такими же соломинками, каждый стежок крепкой, надежно просмоленной дратвы, положенный на два миллиметра от края идеально обрезанной новой кожи, которой были обтянуты верх голенища, носок и задник; каждый железный гвоздик, вбитый так, что широкая квадратная шляпка соприкасалась углом с соседней и вместе они образовывали рант, намертво прикрепляющий головку к подошве, и, наконец, сама эта деревянная массивная подошва, отполированная до темного глянца, — все это говорило о труде умелом и сильном, о руках, наследовавших рабочий опыт многих поколений. Словом, это была та работа «на совесть» — надежная и ладная, цену которой Избищев знал и любовь к которой у него была кровной и безотчетной, как любовь к родной Волге. Но было в этой работе и обидное что-то для него, что-то холуйское, глубоко враждебное его душе потомственного мастерового, творца, одного из тех, кто делает вещи простые и нужные, которые радуют человека, служат долго и честно, переходят от дедов к внукам как эстафета поколений на бесконечном пути народа к лучшему.
«Рукам работа — душе праздник», — внушал Мироше с детства его отец и учил делать сапог, «чтоб веселым был и обнимал ногу, как песня душу». Любил песню Корней Избищев! Знаменитейший мастер, организатор и первый председатель калязинской артели «Красный сапожник». И веселое озорство любил. От него и погиб в тридцатом году, когда вздумал под хмельком поозоровать в ледоход с матушкой-Волгой. Но больше всего любил Корней дело. Переливал в него всю свою веселую силушку, все тепло щедрого сердца. Работал азартно, наслаждаясь трудом. Мял и гладил кожу, кроил, тачал, играл молотком хлестко, с одного удара вгоняя шпильку в подошву, пел и не забывал повторять сыну: «Зорчей гляди, Мирон! Дерево гляди в плодах, человека — в делах. Окромя — ничего нет!» И любовался своей работой, радовался красоте ее и той ответной радости, какую принесет она другому…
«А эта работа, валенок этот, какой душе праздник? Кому в радость? — с обидой думал Мирон. — Какие холодные, жестокие люди сказались в этом безрадостном деле!»
Медленно перед ним пошли его «языки». Отчетливо, как наяву, он видел каждого в отдельности и всю их понурую, виноватую толпу. «Они?..» Он смотрел на них уже без любопытства, с пренебрежением и знал: они. «Но ведь и бомбы, и огонь по советской земле тоже они! Их жестокое дело… Бомбы, огонь… война!.. — Мирона обдало жаром — Война?» Ошеломленный выводом, он попробовал вызвать в воображении знакомый страшный образ: слепую всепожирающую машину — и не смог. На развалинах, в дыму он видел только эту зловещую, обшарпанную толпу. «Окромя — ничего!..» Впервые Мирон постиг смысл отцовских слов: на земле — только человек и его дела, «окромя — ничего!»
Бледное личико калужской девочки, с глазами, налитыми мольбой, возникло перед ним, и он вновь ощутил всем могучим телом голубиный трепет ее сердечка: «Дяденька красноармеец, не уходи больше, нам страшно!..»
Он рванул с головы ушанку, затылком прижался к холодному бревну. Чтобы не видеть ничего, закрыл глаза. Но тотчас же увидел валенок — еще более огромный и нелепый, чем в действительности. Валенок стоял посреди ночного снежного поля, мрачный, как гроб, а в этом гробу топтался скрюченный морозом черный убийца в высокой фуражке. Круглыми, как у филина, глазами фашист следил за Мироном, вцепившись пальцами в плоский автомат, готовый стрелять, стрелять, стрелять во все живое на земле…
И впервые за войну Мирон Избищев почувствовал себя так, будто кто-то милосердный вдруг развязал ему руки. Он вздохнул с облегчением, поднял их, надежные свои руки с плоскими бугорками отполированных мозолей и беспощадно обрушил на плечи врагу…
— Ты очумел?! — вскрикнул Андреев, от неожиданности чуть не проглотив цигарку.
Оба, держась друг за друга, поднялись.
— Почудилось во сне, или чего?.. — с обидой спросил сержант, поводя занывшими плечами. — Угробить мог! — Правая рука его, запущенная под халат Избищева, не выпускала дужки котелка. — Чего вызверился? Котелочек дай!
Мирон молча взял его пониже локтей и рывком, как горячий чугунок на плите, отставил в сторону.
— Вот! — ставя соломенного уродца перед старшиной, сурово сказал Мирон. — Сожги!..
Подернутые дымкой шалые глаза Доли нехотя скользнули по каменному лицу великана, встретились с его ожесточившимися глазами и сразу стали ясными и зоркими.
— Нет! — сказал старшина и тяжело положил руку на валенок. — Нет, друже! Палить его в печке не треба. Раз это такая добрая наглядная агитация, мы сбережем ее комиссару. Понимаешь, солдат? В полку еще немало таких, как мы с тобой, сыроватых Мирош…
— Понимаю…
— Вот и гарно! А котелочек все-таки дай.
Андреев убежал за снегом.
— Избищев! — позвал от рации лейтенант. — Подежурь-ка за Пчелку.
Подойдя к печке, Атласов присел, обнял за плечи Гайсу и старшину и залюбовался яркими завитками пламени.
— Надо бы сменить Поддубного, — сказал он, когда буря сильно тряхнула халупу. — Замерзнет наш Альбатрос…
В этот момент, второпях гремя пустым котелком о дверь, вернулся Андреев.
— Товарищ лейтенант! — с порога крикнул он. — Поддубный слышит голоса. В лесу, за поселком…
— Останешься тут, старшина! — поднялся Атласов. — Доложишь обстановку, когда штаб ответит.
13
На том месте, где час назад Кириллу показалось, будто он видит на опушке людей, разведчики остановились. Долгий, приглушенный бурей вопль, который они слышали дважды, пока пробирались поселком, больше не повторялся. Но Атласов приметил направление, откуда шел этот вопль.
Метель утихала, и на опушке тревожно гудящего леса теперь хорошо различалась высокая сухая сосна.
— Держи на нее, — приказал Кирилл Поддубному. Сам он пошел вторым, замыкал Гайса.
У леса перебрались через овражек и сразу увидели между елями след, точно пропаханный в снегу: очевидно, люди, которые оставили его, несли что-то тяжелое. «Повешенных, из поселка», — без колебаний решил Атласов. По следу вошли в густой ельник. Впереди мигнул сквозь ветви близкий огонек, и тут разведчиков снова остановил жуткий вопль. Но теперь было ясно, что кричит женщина. Вопль оборвался, точно женщине закрыли рот, и донеслись неясные в гуле вершин голоса — женские или мужские, разобрать нельзя было.
Уйдя со следа, разведчики двинулись на огонь.
В полукольце мохнатых елей, нижние могучие лапы которых, сплетясь, образовали непроницаемую для ветра стену, вокруг костра ютилась большая группа людей. Мальчик и девочка лет по семи, укутанные одним тулупчиком, сидели на зеленой хвое, прижавшись головенками друг к другу, и смотрели в огонь неподвижными глазами. Рядом, на бревне, тоненькая девушка в белом свитере, с рассыпанными по плечам светлыми волосами, всхлипывая, жалась к старику, коченевшему в одной рубахе, и пыталась накрыть его и свои плечи коротенькой шубейкой. И еще не менее десяти по-разному и наспех одетых женщин, отрывисто переговариваясь, жались к огню. Потом из темноты вышла приземистая, без платка, старуха в желтом полушубке и бросила в костер охапку валежника.
Она первой увидела разведчиков — за кругом света, под деревьями — и сразу двинулась навстречу сердитыми шагами.
— Здравствуйте, мамаша! — ступил вперед Кирилл.
Старуха, не отвечая, остановилась. Ее косматая голова заметно тряслась. Глаза настороженно сверкали из-под тяжелого лба.
— Что, мамаша?.. — голос Кирилла сорвался на шепот. — Не веришь? Свои…
Старуха шагнула ближе, нерешительно подняла руку, потрогала звезду на шапке.
— Господи! — дрогнули ее губы. — Никак, вправду!.. — Она повернулась к огню и пронзительно закричала — Бабы, да што же вы… ослепли?! Заступники пришли!
У костра будто метелью всех подняло. Троих разведчиков мигом обступили. Женщины растерянно улыбались, спрашивали разом, утирали слезы, ахали, трогали оружие, одежду…
— А мы вас как ждали, сыночки! Как ждали, соколики ясные! — то шептала, то выкрикивала косматая старуха, припадая к плечу смущенного Гайсы. — Сердце сгорело ждавши. Только и жили тем: вот придут! Вот придут! Пришли, заступники вы наши!.. Господи, да ты, никак, не русский? С теплых краев. Ах, сердешный, поди холодно тебе в снегах? Дай поцелую, сыночек!..
Старик тоже поднялся — высокий, белобородый — и, простерши руки, силился шагнуть. Качнулся и упал на руки девушке.
— Ничего, ничего, Оленька, — бормотал он. — Ноги затекли…
Помогая усаживать старика, Кирилл коснулся ледяной руки девушки и с невольным состраданием задержал ее. Девушка глянула в глаза Кирилла огромными, бездонными глазами и ответила слабым благодарным пожатием.
В этот момент вспыхнул трескучим пламенем костер, темнота отодвинулась, и разведчики оцепенели.
За костром, на поваленном дереве, сидела молодая женщина с голым трупиком ребенка на коленях. Черные косы се разметались и почти закрыли малютку.
Увидев людей с оружием, женщина запрокинула голову и завыла моляще и злобно, потом прянула в сторону. Ее усадили, укрыли свалившейся с плеч шалью, стали успокаивать:
— Лизанька, свои это. Наши! Красная Армия… Ну, отдай нам Петеньку, отдохни, горе ты горькое.
Женщина отбивалась, что-то умоляюще бормотала скороговоркой. Неожиданно она затихла, уставилась в огонь безумными глазами и стала укачивать трупик.
По пути из лесу Атласов узнал почти все, что произошло в этот день на разъезде и в окрестности. На это он и рассчитывал, стремясь найти кого-нибудь из местных жителей.
Стрелки действительно были взорваны Мацейко, под вечер уже, когда фашисты густо двинули из Калуги эшелоны с оборудованием и войсками. Команда эсэсовцев сразу же оцепила поселок, повесила двух первых попавших ей в руки железнодорожников и по очереди взорвала дома, клуб, школу. Из людей в живых остались только те, кому удалось бежать в лес. Никто не знал, как сумели гитлеровцы быстро исправить дорогу и пропустить поезда, но зато Атласов получил другие, куда более важные сведения: во-первых, что из Горенского, единственного и крупного населенного пункта между Азаровом и Тихоновой Пустынью, фашисты поспешно ушли еще днем, разрушив дотла это село (старуха в желтом полушубке и пришла оттуда искать пристанища у своей азаровской родни), и, во-вторых, что у Тихоновой Пустыни вчера кем-то взорван большой железнодорожный мост и что, следовательно, все эшелоны, которые прошли сегодня на эту станцию из Калуги, застряли там.
Понимая, как важно скорее передать эти данные командованию, Атласов торопился к своей рации.
Но у самого выхода из поселка, где улицу перемело высоким сугробом, старуха в полушубке, все время споро шагавшая рядом с лейтенантом, вдруг подергала его за халат и попросила, задыхаясь:
— Подожди, сынок! Ноженьки не идут больше. Сил нет! — Она торопливо отстегнула крючок у горла и задышала, округляя рот. — Да и ты пожалел бы свои ножки. Им еще ходить да ходить. Ох, много им еще ходить!.. А Мацейко живой там? — неожиданно осведомилась она у женщин. — Не застрял бы в снегу. Совсем ослаб с такой беды.
— Вы о ком говорите, мамаша? — удивленно спросил Кирилл.
Старуха в свою очередь удивленно посмотрела на лейтенанта, но, сообразив, что тому и впрямь, может быть, невдомек, о ком речь, зашептала, притягивая его к себе:
— Дед же, какому ты отдал в лесу полушубочек свой, он отец Ильи Федорыча, Мацейки-то. А девушка, которая при нем, — внучка евоная, студентка. Дочь, стало быть, Ильи Федорыча, царство ему небесное. Уразумел?
— Так Мацейко жив! — воскликнул Кирилл.
— Жив?!
— Конечно.
Старуха не стала вникать в подробности.
— Оленька! — закричала она, отодвигая ближайших к ней женщин с тропки. — Беги ко мне, ягодка! Отец-то живой! Командир вот сказывает.
Девушка мигом оказалась рядом.
— Жив?.. Папа жив?! — крепко ухватив Кирилла за руку, спрашивала она задыхающимся голосом. — Вы его видели?
Снова ее огромные, с темным блеском, глаза оказались близко от глаз Кирилла, и на миг что-то певучее отозвалось в груди разведчика. Теперь он заметил, что у девушки тонкое лицо и крупный рот.
— Дедушка, папа жив! — не отпуская Кирилла, кричала она старику, спешившему к ним с мальчиком на руках…
14
— Товарищ лейтенант, «Река» на приеме! — с порога услышал Кирилл голос Мирона и уловил в нем нотки тревоги и нетерпения.
Старшина, не спрашивая ни слова, взял на себя заботу о спасенных.
— Давно?.. — прилаживая наушники, спросил Кирилл.
— Уже двадцать минут. Сам!.. Ругался. — Мирон забрал у лейтенанта автомат, отряхнул с ватника снег.
— «Река», я — «Чайка», — немного отдышавшись, громко сказал Кирилл в микрофон. — Я — «Чайка». Хорошо меня слышите? Прием.
— Я — «Река», — сразу же отозвался усталый голос командира полка. — Не глухой. Слышу. Докладывай скорее.
— Нахожусь четвертый час на триста пять…
Кирилл сел, достал карту и четко доложил обстановку.
— Я — «Река». Понято, — майор помедлил: — Будь на приеме.
В наушниках послышались тоненькие свисты, далекий голос немца. Затем майор спросил:
— Относительно двести девять не сомневаешься?..
«Двести девять» по кодированной карте означало Тихонову Пустынь.
— Нет! — быстро ответил Кирилл. — Иначе они не стали бы уже тут, где я, подрывать составы. Насчет двести девять можно также уточнить у того человека, в санбате. К нему тоже утром приходили с двести девять с этим сообщением. Кстати, его отец и дочь живы и здоровы. Они тут, со мной. Может, передадут ему?..
— Хорошо. Жди…
Теперь «Река» молчала долго. «Докладывает комдиву», — понял Кирилл и начал скручивать цигарку.
Разведчики вполголоса разговаривали с женщинами. В топке гудел огонь, отбрасывал на лица теплые блики.
— «Чайка», ты слушаешь? — спросила «Река».
— Я — «Чайка». Слушаю. Прием.
— Твоя задача — прежняя. Направление — двести девять. Связаться немедленно по выходе туда. «Река» переходит на триста пять. Как понято? Прием.
— Направление двести девять. Задача — прежняя. Связь — немедленно.
— Действуй, солдат!..
— Собирайся! — приказал Кирилл, поднимаясь.
— Есть! — вытянулся старшина.
Спешить он, однако, не стал. Переглянулся с разведчиками и повел бровью на спящего Пчелкина. Мирон взял радиста, словно ребенка из люльки, тряхнул, поставил на ноги. Поддубный кликнул сержанта, дежурившего за дверью.
Пятеро с автоматами на груди, пристроившись к старшине по ранжиру, замерли. Лица у всех стали торжественными.
— В чем дело? — удивился Кирилл.
— Дозвольте спытать, товарищ лейтенант: сколько зараз часов?
— Двадцать четыре ноль-ноль.
— Категорически?
— Без пяти.
— А число сегодня?..
— Тридцать первое декабря, — повысил было голос Кирилл и вдруг отступил, схватился за голову: — Да ведь я забыл, орелики!..
— Усе в порядочке, товарищ лейтенант! — довольный, забасил старшина, высоко поднимая руки. — Встретим, як люди! — В одной руке он держал флягу, обшитую серым сукном, а в другой — знакомый разведчикам раздвижной стаканчик. — У сем найдется по сто, товарищ лейтенант, и ни малюсенького грамма поверх! Ни единого! — покрутил он чубатой головой.
При общем внимании, бережно, до краев была налита первая рюмка.
— С Новым годом вас, Кирилл Максимович… товарищ командир! — в тишине произнес Доля и подал рюмку лейтенанту.
— Спасибо, друзья! И вас поздравляю с новым, тысяча девятьсот сорок вторым годом!
— С победой! — ответил строй.
Какая-то женщина у печки заплакала.
Когда настала очередь Поддубного, он вышел на два шага вперед, повернулся лицом к строю и с улыбочкой принял рюмку.
— Альбатрос бодро приветствует Новый год!.. — в обычном своем снисходительно ироническом тоне начал он и вдруг осекся. Горбоносое лицо его побелело, а глаза стали жестокими от тоски. — Солдат Поддубный… — тихо заговорил он опять, — пьет за Россию! — И заскрипел зубами, не в силах удержать слезы, покатившейся по худой щеке.
— Выпей, Ваня! — чуть слышно сказал Гайса…
— Товарищ командир! — неожиданно раздался сиплый голос старика. — Я так догадываюсь, что тебе велено идти на Тихонову Пустынь. Куда же иначе, раз весь герман туда подался. Так вот, бери меня. Я тут и лесом, и полем пройду и выйду с завязанными глазами куда угодно, и тебя проведу. Не бойся, что я старый. Я еще похожу по земле.
Кирилл не нашелся сразу что ответить.
— Ты, детка, не смотри, что я в одной сорочке, — подступил ближе к нему старик. — Одежку свою возьми, а мне бабы дадут. Да в лесу и не так холодно.
Косматая старуха тотчас же начала расстегивать свой желтый полушубок. Старшина, поймав взгляд командира, вопросительно стукнул пальцем по фляге. Кирилл кивнул.
Выпив, старик постоял, глядя в пол, — то ли думая о чем, то ли просто прислушиваясь к теплу, что сейчас влил в свое большое высохшее тело, потом ладонью вскинул вверх широкую бороду и взял у старухи полушубок.
Внучка помогла ему одеться, припала к груди.
Кирилл вдруг почувствовал, что ему жаль расставаться с девушкой. Сердце говорило: случись эта встреча не на военном перепутье, он бы многое сделал, чтобы она не оказалась мимолетной.
— Что ж, Оленька, — отстранился старик, — надо идти. Война такая — надо воевать всем.
…У семафора постояли.
Перед ними пролегла в темноту, на запад, железнодорожная насыпь — прямая и пустынная. Над головами сумрачно гудели провода. Слева курилось квадратное поле в черной раме леса. За лесом притухало зарево. Красные глаза пожара недобро следили за разведчиками в просветы меж соснами.
Блеснула летящая луна. Резкий свет упал на белую землю и грозные облака. Между темными громадами, высоко-высоко, Кирилл увидел звездочку. Она плыла на запад… И он вспомнил другую звезду — над могилой отца меж родными тополями, строгими, как древки знамен, и слова на камне: «Спите, орлы боевые…»
Кирилл Атласов пошел на запад.
Примечания
1
«Внимание, танки!» — книга Гудериана.
(обратно)


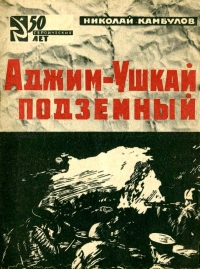
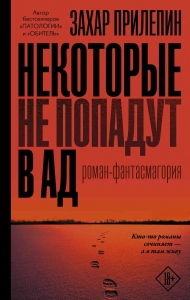



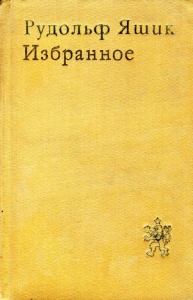



Комментарии к книге «Звезды не меркнут», Василий Кириллович Камянский
Всего 0 комментариев