Эммануил Казакевич
― ЗВЕЗДА ―
Повесть
Глава первая
Дивизия, наступая, углубилась в бескрайные леса, и они поглотили ее.
То, что не удалось ни немецким танкам, ни немецкой авиации, ни свирепствующим здесь бандитским шайкам, сумели сделать эти обширные лесные пространства с дорогами, разбитыми войной и размытыми весенней распутицей. На дальних лесных опушках застряли грузовики с боеприпасами и продовольствием. В затерянных среди лесов хуторах завязли санитарные автобусы. На берегах безыменных рек, оставшись без горючего, разбросал свои пушки артиллерийский полк. Все это с каждым часом катастрофически отдалялось от пехоты. А пехота, одна-одинешенька, все-таки продолжала двигаться вперед, урезав рацион и дрожа над каждым патроном. Потом и она начала сдавать. Напор ее становился все слабее, все неувереннее; и, воспользовавшись этим, немцы вышли из-под удара и поспешно убрались на запад.
Противник исчез.
Пехотинцы, даже оставшись без противника, продолжают делать то дело, ради которого существуют: они занимают территорию, отвоеванную у врага. Но нет ничего безотраднее зрелища оторванных от противника разведчиков. Словно потеряв смысл существования, они шагают по обочинам дороги, как тела, лишенные души.
Одну такую группу догнал на своей машине командир дивизии полковник Сербиченко. Он медленно вылез из машины и остановился посреди грязной, разбитой дороги, уперев руки в бока и насмешливо улыбаясь.
Разведчики, увидев комдива, остановились.
— Ну что, — спросил он, — потеряли противника, орлы? Где противник? Что он делает?
Он узнал в идущем впереди разведчике лейтенанта Травкина (комдив помнил в лицо всех своих офицеров) и укоризненно покачал головой:
— И ты, Травкин? — И едко продолжал: — Веселая война, нечего сказать, — по деревням шататься да молочко попивать… Так до Германии дойдешь и противника не увидишь с вами. А хорошо бы, а? — спросил он неожиданно весело.
Сидевший в машине начальник штаба дивизии подполковник Галиев устало улыбался, удивляясь неожиданной перемене в настроении полковника. За минуту до этого полковник беспощадно распекал его за нераспорядительность, и Галиев молчал с убитым видом.
Настроение комдива изменилось при виде разведчиков. Полковник Сербиченко начал свою службу в 1915 году пешим разведчиком. В разведчиках получил он боевое крещение и заслужил георгиевский крест. Разведчики остались его слабостью навсегда. Его сердце играло при виде их зеленых маскхалатов, загорелых лиц и бесшумного шага. Гуськом, друг за дружкой, идут они по обочине дороги, готовые в любое мгновение исчезнуть, раствориться в безмолвии лесов, в неровностях почвы, в мерцающих тенях сумерек.
Впрочем, упреки комдива были серьезными упреками. Дать противнику уйти, или, как это говорится на торжественном языке воинских уставов, дать ему оторваться, — это для разведчиков крупная неприятность, почти позор.
В словах полковника чувствовалась гнетущая его тревога за судьбу своей дивизии. Он боялся встречи с противником потому, что дивизия была обескровлена, а тылы отстали. И в то же время он хотел встретиться наконец с этим исчезнувшим противником, сцепиться с ним, узнать, чего он хочет, на что способен. Да и, кроме того, пора было просто остановиться, привести людей и хозяйство в порядок. Конечно, не хотелось даже себе самому сознаваться, что его желание противоречит страстному порыву всей страны, но он мечтал, чтобы наступление приостановилось. Таковы тайны ремесла.
А разведчики стояли молча, переминаясь с ноги на ногу. Вид у них был довольно жалкий.
— Вот они, твои глаза и уши! — пренебрежительно сказал комдив начальнику штаба и сел в машину.
Автомобиль тронулся.
Разведчики постояли еще минуту, затем Травкин медленно пошел дальше, а за ним тронулись и остальные.
По привычке прислушиваясь к каждому шороху, Травкин думал о своем взводе.
Как и комдив, лейтенант и желал и боялся встречи с противником. Желал потому, что так ему повелевал долг, и потому еще, что дни вынужденного бездействия пагубно отражаются на разведчиках, опутывая их опасной паутиной лени и беспечности. Боялся же потому, что из восемнадцати человек, имевшихся у него в начале наступления, осталось всего двенадцать. Правда, среди них — известный всей дивизии Аниканов, бесстрашный Марченко, лихой Мамочкин и испытанные старые разведчики Бражников и Быков. Остальные были в большинстве вчерашние стрелки, набранные из частей в ходе наступления.
Этим людям пока очень нравится ходить в разведчиках, шагать друг за дружкой маленькими группами, пользуясь свободой, немыслимой в пехотной части. Их окружают почет и уважение. Это, разумеется, не может не льстить им, и они глядят орлами, но каковы они будут в деле — неизвестно.
Теперь Травкин понял, что именно эти причины и заставляли его не торопиться. Его огорчили упреки комдива, тем более что он знал слабость Сербиченко к разведчикам. Зеленые глаза полковника глядели на него хитроватым взглядом старого, опытного разведчика прошлой войны, унтер-офицера Сербиченко, который из разделяющей их дали лет и судеб как бы говорил испытующе: «Ну, посмотрим, каков ты, молодой, против меня, старого».
Между тем взвод вступил в селение. Это была обычная западноукраинская деревня, разбросанная по-хуторскому. С огромного, в три человеческих роста, креста смотрел на солдат распятый Иисус. Улицы были пустынны, и только лай собак по дворам и едва приметное движение домотканных холщевых занавесок на окнах показывали, что люди, запуганные бандитскими шайками, внимательно присматриваются к проходящим по деревне солдатам.
Травкин повел свой отряд к одинокому дому на пригорке. Дверь открыла старая бабка. Она отогнала большого пса и неторопливо оглядела солдат глубоко сидящими глазами из-под густых седоватых бровей.
— Здравствуйте, — сказал Травкин. — Мы к вам отдохнуть на часок.
Разведчики вошли вслед за ней в чистую комнату с крашеным полом и множеством икон. Иконы, как солдаты замечали уже не раз в этих краях, были не такие, как в России, — без риз, с конфетно-красивыми личиками святых. Что касается бабки, то она в точности походила на украинских старух из-под Киева или Чернигова, в бесчисленных холщевых юбках, с сухонькими, жилистыми ручками, и отличалась от них только недобрым светом колючих глаз.
Однако, несмотря на свою угрюмую, почти враждебную молчаливость, она подала захожим солдатам свежего хлеба, молока, густого, как сливки, соленых огурцов и полный чугун картошки. Но все это так угрюмо, с таким недружелюбием, что кусок не лез в горло.
— Вот бандитская мамка! — проворчал один из разведчиков.
Он угадал наполовину. Младший сын старухи действительно пошел по бандитской лесной тропе. Старший же подался в красные партизаны. И в то время как мать бандита враждебно молчала, мать партизана гостеприимно открыла бойцам дверь своей хаты. Подав разведчикам на закуску жареное свиное сало и квас в глиняном кувшине, мать партизана уступила место матери бандита, которая с мрачным видом засела за ткацкий станок, занимавший полкомнаты.
Сержант Иван Аниканов, спокойный человек с широким простоватым лицом и маленькими, великой проницательности глазками, сказал ей:
— Что же ты молчишь, как немая, бабуся? Села бы с нами, что ли, да рассказала чего-нибудь.
Сержант Мамочкин, сутулый, худой, нервный, насмешливо пробормотал:
— Ну и кавалер же этот Аниканов! Охота ему поболтать со старушкой!..
Травкин, занятый своими мыслями, вышел из дома и остановился возле крыльца. Деревня дремала. По косогору ходили стреноженные крестьянские кони. Было совершенно тихо, как может быть тихо только в деревне после стремительного прохода двух враждующих армий.
— Задумался наш лейтенант, — заговорил Аниканов, когда Травкин вышел. — Как сказывал комдив? Веселая война? По деревням шататься да молочишко попивать…
Мамочкин вскипел:
— Что там комдив говорил — это его дело! А ты чего лезешь? Не хочешь молока — не пей, вон вода в кадке. Это не твое дело, а лейтенанта. Он отвечает перед высшим начальством. Ты нянькой хочешь быть при лейтенанте! А кто ты такой? Деревенщина. Попался бы ты мне в Керчи, я бы тебя за пять минут раздел, разул и рыбкам на обед продал!
Аниканов беззлобно рассмеялся:
— Это верно. Раздеть, разуть — это по твоей части. Ну, и насчет обедов ты мастер. Об этом и говорил комдив.
— Ну и что? — наскакивал Мамочкин, как всегда уязвленный спокойствием Аниканова. — И пообедать можно. Разведчик с головой обедает получше генерала. Обед смелости и смекалки прибавляет. Понятно?
Розовощекий, с льняными волосами Бражников, круглолицый веснущатый Быков, семнадцатилетний мальчик Юра Голубовский, называемый всеми «Голубь», высокий красавец Феоктистов и остальные, улыбаясь, слушали горячий южный говорок Мамочкина и спокойную, плавную речь Аниканова. Только Марченко — широкоплечий, белозубый, смуглый — все время стоял возле старухи у ткацкого станка и с наивным удивлением городского человека повторял, глядя на ее маленькие сухонькие ручки:
— Это же целая фабрика!..
В спорах Мамочкина с Аникановым — то веселых, то яростных спорах по любому поводу: о преимуществах Керченской селедки перед иркутским омулем, о сравнительных качествах немецкого и советского автоматов, о том, сумасшедший ли Гитлер или просто сволочь, и о сроках открытия второго фронта — Мамочкин был нападающей стороной, а Аниканов, хитро щуря умнейшие маленькие глазки, добродушно, но едко оборонялся, повергая Мамочкина в ярость своим спокойствием.
Мамочкина, с его несдержанностью бузотера и неврастеника, раздражали аникановская деревенская солидность и добродушие. К раздражению примешивалось чувство тайной зависти: у Аниканова был орден, а у него только медаль; к Аниканову командир относился почти как к равному, а к нему почти как ко всем остальным. Все это уязвляло Мамочкина. Он утешал себя тем, что Аниканов — партиец и поэтому, дескать, пользуется особым доверием, но в душе он сам восхищался хладнокровным мужеством Аниканова. Смелость же Мамочкина была зачастую позерством, нуждалась в беспрестанном подстегивании самолюбия, и он понимал это. Самолюбия у Мамочкина было хоть отбавляй. За ним утвердилась слава хорошего разведчика, и он действительно участвовал во многих славных делах, где первую роль играл все-таки Аниканов.
Зато в перерывах между боевыми заданиями Мамочкин умел показать товар лицом. Молодые разведчики, еще не бывшие в деле, восхищались им. Он щеголял в широченных шароварах и хромовых желтых сапожках, ворот его гимнастерки был всегда расстегнут, а черный чуб своевольно выбивался из-под кубанки с ярко-зеленым верхом. Куда было до него массивному, широколицему и простоватому Аниканову!
Происхождение и довоенный опыт каждого из них: колхозная хватка сибиряка Аниканова, сметливость и точный расчет металлиста Марченко, портовая бесшабашность Мамочкина — все это наложило свой отпечаток на их поведение и нрав, но прошлое уже казалось бесконечно далеким. Не зная, сколько еще продлится война, они ушли в нее с головой. Война стала для них бытом и этот взвод — единственной семьей.
Семья! Это была странная семья, члены которой не слишком долго наслаждались совместной жизнью: одни отправлялись в госпиталь, другие еще дальше — туда, откуда никто не возвращается. Была у нее своя небольшая, но яркая история, передаваемая из «поколения» в «поколение». Кое-кто помнил, как во взводе впервые появился Аниканов. Долгое время он не участвовал в деле — никто из старших не решался брать его с собой. Правда, огромная физическая сила сибиряка была большим достоинством: он свободно мог сгрести в охапку и придушить, если понадобится, даже двоих. Однако Аниканов был так огромен и тяжел, что разведчики боялись: а что, если его убьют или ранят? Попробуй вытащи такого из огня! Напрасно он упрашивал и клялся, что если его ранят, он сам доползет, а убьют — «Чорт с вами, бросайте меня! Что мне немец, мертвому-то, сделает?» И только сравнительно недавно, когда пришел к ним новый командир, лейтенант Травкин, сменивший раненого лейтенанта Скворцова, положение изменилось.
Травкин в первый же поиск взял с собой Аниканова. И «эта громадина» сгреб здоровенного немца так ловко, что остальные разведчики и охнуть не успели. Он действовал быстро и бесшумно, как огромная кошка. Даже Травкин с трудом поверил, что в плащ-палатке Аниканова бьется полузадушенный немец, «язык» — мечта дивизии на протяжении целого месяца. В другой раз Аниканов вместе с сержантом Марченко захватил немецкого капитана, при этом Марченко был ранен в ногу, и Аниканову пришлось тащить немца и Марченко вместе, нежно прижимая товарища и врага друг к другу и боясь в равной степени повредить обоих.
Рассказы о подвигах многоопытных разведчиков были главной темой долгих ночных разговоров, они будоражили воображение новичков, питали в них горделивое чувство исключительности их ремесла. Теперь, в период долгого бездействия, вдали от противника, люди пообленились.
Плотно поев и сладко затянувшись махоркой, Мамочкин выразил желание остановиться в деревне на ночь. Марченко неопределенно сказал:
— Да, спешить тут нечего… Все равно не догоним. Здорово тикает немец.
В это время дверь отворилась, вошел Травкин и, показывая пальцем в окно на стреноженных лошадей, спросил хозяйку:
— Бабушка, чьи это кони?
Одна из лошадей, большая гнедая кобыла с белым пятном на лбу, принадлежала старухе, остальные — соседям. Минут через двадцать эти соседи были созваны в старухину избу, и Травкин, торопливо нацарапав расписку, сказал:
— Если хотите, пошлите с нами кого-нибудь из ваших ребят, он приведет лошадей обратно.
Это предложение понравилось крестьянам. Каждый из них отлично знал, что только благодаря быстрому продвижению советских войск немец не успел угнать всю скотину и сжечь деревню. Они не стали чинить препятствий Травкину и тут же выделили подпаска, который должен был отправиться с отрядом. Шестнадцатилетний паренек в овчинном тулупчике был и горд и напуган возложенным на него ответственным поручением. Распутав лошадей и взнуздав их, а затем напоив из колодца, он вскоре сообщил, что можно трогаться.
Через несколько минут отряд конников пустился крупной рысью на запад. Аниканов подъехал к Травкину и, косясь на скачущего рядом паренька, тихо спросил:
— А не нагорит вам, товарищ лейтенант, за такую реквизицию?
— Да, — ответил Травкин подумав, — может и нагореть. А немца мы все-таки догоним!
Они понимающе улыбнулись друг другу.
Погоняя лошадь, всматривался Травкин в безмолвную даль древних лесов. Ветер свирепо дул ему в лицо, а кони казались птицами. Запад озарился кровавым закатом, и, как бы догоняя этот закат, неслись на запад всадники.
Глава вторая
Штаб дивизии расположился на ночлег в большом лесу, в центре забывшихся неспокойным сном полков. Костры не зажигались — над лесами на большой высоте назойливо гудели немецкие самолеты, нащупывая проходящие войска. Высланные вперед саперы поработали здесь полдня и построили красивый зеленый шалашный городок с прямыми аллейками, четкими стрелками указок и опрятными, покрытыми хвоей шалашами. Сколько таких недолговечных «потешных» городков построено было за годы войны саперами дивизии!
Командир саперной роты лейтенант Бугорков дожидался приема у начальника штаба. Подполковник не отрывал глаз от карты. Зеленые пространства ее, с нанесенным на них положением частей дивизии, выглядели очень странно. Обычных линий, проведенных синим карандашом и обозначающих противника, не было вовсе. Тылы находились чорт знает где. Полки казались угрожающе одинокими в нескончаемой зелени лесов.
Лес, в котором дивизия остановилась на ночлег, имел форму вопросительного знака. Этот зеленый вопросительный знак словно дразнил подполковника Галиева издевательским голосом командарма: «Ну как? Это вам не Северо-западный фронт, где вы полвойны сиднем просидели и немецкая артиллерия стреляла по часам? Маневренная война-с!»
Галиев, не спавший уже которую ночь, кутался в бурку. Подняв наконец глаза от карты, он заметил Бугоркова:
— Тебе чего?
Лейтенант Бугорков не без удовольствия оглядывал построенный им превосходный шалаш.
— Я пришел узнать, где разместится завтра штаб, товарищ подполковник, — ответил он. — На рассвете я вышлю туда взвод.
Ему очень хотелось, чтобы дивизия задержалась в этом лесу хотя бы еще на сутки. Веселый шалашный городок был бы хоть немного обжит, и хоть кто-нибудь да похвалил бы Бугоркова за это чудо шалашного строительства. А то и оглянуться не успеешь, как новенькие шалаши будут покинуты и в них начнет хозяйничать весенний ветер. Бугорков был сыном и внуком прославленных плотников и каменщиков — неудовлетворенная гордость строителя говорила в нем.
Подполковник кратко сказал:
— Дай свою карту, — и начертил на карте Бугоркова флажок на опушке какого-то другого леса, километрах в сорока от нынешней стоянки.
Бугорков подавил вздох и направился к выходу, но в эту минуту плащ-палатка, занавешивающая вход, раздвинулась, и в шалаш вошел начальник разведки капитан Барашкин. Подполковник Галиев встретил его очень неприветливо:
— Командир дивизии недоволен разведкой. Сегодня мы встретили лейтенанта Травкина с его людьми. Что за вид! Незаправленные, обросшие. О чем вы думаете?
Подполковник помолчал и вдруг выкрикнул отчаянным голосом:
— И будьте любезны, капитан, скажите мне наконец, где противник?
Лейтенант Бугорков выскользнул из шалаша и пошел готовить взвод саперов к предстоящему выступлению. Он решил по дороге отыскать Травкина, чтобы предупредить его о слышанном. «Пусть срочно пострижет и побреет разведчиков, — благожелательно думал Бугорков, — не то ему будет здоровая нахлобучка».
Бугорков любил Травкина, своего земляка-волжанина. Прославленный разведчик, Травкин оставался тем же тихим и скромным юношей, каким был при их первой встрече. Встречались они, правда, довольно редко — у каждого хватало собственных служебных забот, — но приятно было иногда вспомнить, что здесь, где-то недалеко, ходит приятель и земляк Володя Травкин, скромный, серьезный, верный человек, ходит вечно на виду у смерти, ближе всех к ней…
Травкина Бугоркову найти не удалось. Сунулся он в шалаш Барашкина, но тот был еще не в себе после полученного нагоняя и на вопрос Бугоркова ответил:
— Чорт его знает, где он! Охота мне получать за него замечания…
Капитан Барашкин славился в дивизии как сквернослов и лентяй. Зная, что начальство относится к нему плохо, и каждый день ожидая, что его отстранят от работы, он и вовсе перестал что-либо делать. Где его разведчики и чем они занимаются, он так толком и не знал в течение всего наступления. Сам он ехал в штабном грузовике и «крутил роман» с только что прибывшей новой радисткой Катей, светловолосой задумчивой девицей-солдатиком с красивыми глазами.
Бугорков вышел от Барашкина и очутился в самом центре построенного им недолговечного человеческого гнезда. Слоняясь по прямым аллейкам, он думал о том, что хорошо бы покончить наконец с этой войной, поехать в свой родной город и там снова делать свое дело: строить новые дома, вдыхать сладкий запах строганых досок и, взбираясь по лесам, обсуждать с бородатыми мастеровыми замысловатые чертежи на помятой синьке.
На рассвете Бугорков, уложив на повозку лопаты, кирки и прочий инструмент, отправился в путь во главе своих саперов.
Болтовня первых птиц разносилась по лесу, смыкавшему над узкой дорогой кроны старых деревьев. По обочинам дороги ходили в накинутых поверх шинелей плащ-палатках продрогшие за ночь часовые. У дороги и вокруг стоянки были вырыты окопы, и в них дежурили у своих пулеметов сонные пулеметчики. Солдаты спали на земле на елочном лапнике, тесно прижавшись друг к другу. Утренний холод будил людей, и они бросались собирать шишки и ветки для костров.
«Вот она, война! — думал Бугорков поеживаясь. — Великая бездомность сотен и тысяч людей».
Пройдя километров десять, саперы увидели быстро приближающиеся с запада фигуры трех всадников. Бугорков встревожился: он знал, что впереди нет ни одного красноармейца. Всадники неслись галопом, и вскоре Бугорков с облегчением узнал в одном из них Травкина.
Не сходя с лошади, Травкин сказал:
— Немцы недалеко, с артиллерией и самоходками.
Он на карте Бугоркова показал расположение немецкой обороны, проходившей как раз по опушке того леса, где Бугорков собирался строить очередной шалашный городок.
— А два немецких броневика и самоходка стоят вот здесь, наверное в засаде.
Напоследок Травкин сказал:
— Вот видишь… Аниканов ранен в стычке с немцами.
Аниканов неловко сидел на лошади, виновато улыбаясь, словно он по неосторожности причинил всем большую неприятность.
Бугорков спросил растерянно:
— А мне что делать?
Условились, что саперы подождут здесь. Травкин доложит начальнику штаба, а потом передаст Бугоркову распоряжение Галиева. Травкин стегнул большую гнедую лошадь с белым пятном на лбу и снова пустился вскачь.
Посреди шалашного городка, возле своей машины, стоял полковник Сербиченко. Вокруг собрались командиры полков, подполковники и майоры, а немного поодаль — адъютанты и ординарцы. Травкин круто остановил лошадь, слез с нее и, прихрамывая после непривычно долгой верховой езды, доложил:
— Товарищ комдив, немцы недалеко.
Его обступили, и он кратко рассказал, что на ближней речке расположены немецкие позиции в виде сплошной траншеи. Он видел там же артиллерийские позиции и шесть самоходок. Траншеи заняты немецкой пехотой. Километрах в двадцати отсюда два броневика и самоходка стоят в засаде.
Комдив отметил на карте данные Травкина. Началась легкая суматоха: командиры полков и штабные тоже вынули карты, подполковник Галиев скинул с плеч на землю свою бурку, вдруг перестав зябнуть, а начальник политотдела пошел собирать политработников.
— Значит, ты думаешь, что оборона серьезная? — спросил наконец комдив, проведя последнюю черту синим карандашом на карте, развернутой по капоту автомашины.
— Так точно.
— И самоходки ты сам видел?
— Так точно.
— А ты не сочиняешь трошки? — неожиданно заключил свои вопросы полковник, вскидывая на Травкина зеленовато-серые прищуренные глаза.
— Нет, не сочиняю, — ответил Травкин.
— Ты не обижайся, — примирительным тоном сказал комдив. — Это я для верности спрашиваю, ибо знаю, козаче, что разведчики приврать любят.
— Я не вру, — повторил Травкин.
Где-то уже давали команду «В ружье!» Лес глухо зашумел. Это подымались подразделения.
Комдив, глядя на карту, приказывал:
— Полки идут походным порядком, как раньше.
Авангардный полк высылает вперед усиленный батальон в качестве передового отряда. Полковая артиллерия следует с пехотой. На фланги выбрасываются разведчики и автоматчики. Достигнув высоты 108,1, передовой полк развертывается в боевой порядок. Его командный пункт — высота 108,1. Я — на западной опушке этого леса, возле дома лесника… Галиев, готовь боевое распоряжение! Доложи в корпус. — И вдруг сказал негромко: — Смотрите, товарищи начальники! Артполк отстал. Снарядов и патронов мало. Мы в невыгодном положении. Будем честно выполнять свой долг.
Офицеры быстро разошлись по своим делам, и у машины остались только комдив, Галиев и Травкин.
Полковник Сербиченко оглядел Травкина и его взмыленную лошадь и, усмехнувшись, произнес:
— Добрый козак.
— У меня Аниканов ранен, — смутившись, поведал ни с того ни с сего полковнику Травкин.
Комдив ничего не ответил, отдал последние распоряжения Галиеву и уехал к полкам.
Вокруг Галиева забегали штабные офицеры. Он был неузнаваем. Повеселевший, шумливый, он вдруг стал похож на проказливого бакинского мальчишку, каким был лет тридцать назад. «Галиев немца чует», говорили про него в такие минуты.
— Поезжай к своим людям! Следи за немцем и присылай нарочных! — крикнул он Травкину.
— Есть! — крикнул в ответ Травкин и снова вскочил на лошадь.
Сопровождавший его разведчик между тем сдал Аниканова санинструктору и, ведя на поводу лошадь без седока, присоединился к лейтенанту.
Травкин застал Бугоркова на прежнем месте в тревожном ожидании. Травкин спешился, рассеянно выпил предложенную Бугорковым водку и показал ему на карте месторасположение штаба дивизии.
— Значит, снова война начинается, — сказал Бугорков и посмотрел в серьезные глаза Травкина.
Разведчики пришпорили лошадей и пустились вскачь навстречу неизвестному.
А саперы тронулись в путь, тихо рассуждая о том, что вот снова начнутся бои и конца этим боям не видать. Не видать конца этим боям…
Бугорков сказал:
— Ну, ребята, теперь вместо шалашстроя будет нам блиндажстрой.
Травкин вскоре присоединился к своим людям, ожидавшим его на лесистом холме, неподалеку от безыменной речки, за которой окопались немцы.
Марченко, наблюдавший немцев с верхушки дерева, слез и доложил лейтенанту:
— Эти немцы в броневиках и самоходке покрутились здесь полчаса, потом повернули и переехали речку — к своим, значит, убрались. Речка мелкая, я видел. Вода доходила броневикам до середины.
Разведчики поползли к речке и залегли в кустах. Паренька с лошадьми Травкин отправил домой:
— Езжай все прямо по этой дороге. Лошадей возьмешь не всех — две останутся у меня еще на день. Пришлю их завтра, а то донесения не на чем посылать.
Затем Травкин подполз к своим людям и стал наблюдать немецкую оборону. Траншея была вырыта недавно и еще не закончена. Перебегающим по ней немцам она едва доходила до плеч. Впереди траншеи — проволочное заграждение в два кола. Разведчиков отделяла от немцев неширокая речка, поросшая камышом. На бруствере траншеи во весь рост стоял человек и смотрел на восточный берег в бинокль.
— Сейчас отправлю его к гитлеровой бабушке, — шепнул Мамочкин.
— Не дури! — сказал Травкин.
Он смотрел на немецкую оборону, оценивая ее. Да, вот та чуть приметная серая полоска земли — вторая траншея. Место для обороны немцы выбрали хорошее: западный берег гораздо выше восточного и густо порос лесом. Высота возле разбросанных домиков хутора — командная, на карте она обозначена цифрой 161,3. Немцев в траншее много. На восточной окраине хутора стоит самоходная пушка. Травкин вдруг вспомнил об Аниканове, но вспомнил как-то вскользь, неопределенно. Так вспоминают сошедшего ночью с поезда пассажира, недолго побывшего среди остальных и сгинувшего неизвестно куда.
Мамочкин прошептал:
— Глядите, товарищ лейтенант: фрицы выходят на экскурсию.
Человек тридцать немцев вышли из лесу и пошли к реке. Здесь они рассредоточились и, с опаской вглядываясь в противоположный берег, вошли в мутную воду.
Травкин сказал лучшему стрелку взвода — Марченко:
— Пугни-ка их!
Последовала длинная очередь из автомата. От пулевых ударов подскакивали фонтанчики. Немцы выскочили из реки обратно на свой берег и, суетливо оглядываясь и гогоча, как гуси, залегли. В траншее заволновались, забегали, раздалась гортанная команда, засвистели пули.
Самоходная пушка, стоявшая на окраине хутора, вдруг затряслась, заверещала и выпустила один за другим три снаряда. Через секунду ударили немецкие орудия. Их было не меньше десятка, и они в течение трех-четырех минут били по бугру. Снаряды яростно взрывали землю, оглушая странным воплем молчаливые леса.
Гул артиллерийского налета услышал передовой отряд дивизии — усиленный батальон. Люди остановились. Командир батальона капитан Муштаков и командир батареи капитан Гуревич замерли на своих лошадях. Муштаков сказал:
— Вот что значит отвык… Больше месяца не слышал этой музыки.
Взрывы следовали равномерно один за другим.
Постояв с минуту, усиленный батальон двинулся дальше. На повороте солдаты увидели паренька в овчинном тулупчике, с лошадьми. Он сидел, сгорбившись, верхом на лошади и, вытянув шею, прислушивался к мощному гулу орудий.
Командир батальона, поровнявшись с ним, спросил:
— Ты что тут делаешь?
— Поспишайте! — испуганным шопотом сказал паренек. — Там на ричци нимцив багато-багато, а разведчикив двенадцать чоловик…
Глава третья
То, что на военном языке называется переходом к обороне, начинается так:
Части развертываются и пытаются с ходу прорвать фронт противника. Но люди измотаны непрерывным наступлением, артиллерии и боеприпасов мало. Попытка атаковать не имеет успеха. Пехота остается лежать на мокрой земле под неприятельским огнем и весенним дождем вперемешку со снегом. Телефонисты слушают яростные приказания и ругань старших командиров: «Прорвать! Поднять пехоту и опрокинуть фрицев!» После второй неудачной атаки поступает приказ: «Окопаться».
Война превращается в огромную землеройку. Земляные работы ведутся по ночам, освещаемые разноцветными немецкими ракетами и пожаром зажженных немецкой артиллерией ближних деревень. В земле растет запутанный лабиринт звериных нор и норок. Вскоре вся местность преображается. Это уже не лесистый берег небольшой реки, заросшей камышом и водорослями, а изъязвленный осколками и разрывами передний край, разделенный на пояса, как Дантов ад, лысый, перекопанный, обезличенный и обвеваемый нездешним ветром.
Разведчики, сидя по ночам на бывшем берегу реки (теперь это зовется нейтральной полосой), слушают стук немецких топоров и голоса немецких саперов, тоже укрепляющих свой передний край.
Между тем нет худа без добра. Понемногу подтягиваются тылы, на скрипучих повозках подвозятся снаряды, патроны, хлеб, сено, консервы. Подъехали наконец и остановились где-то поблизости, маскируясь в ближних лесах, медсанбат, полевая почта, обменный пункт, ветеринарный лазарет.
Прибывает и артполк, встречаемый всеми с великой радостью. Орудия вкапываются в землю и ведут правильную пристрелку по целям, производя, к полному удовольствию наших солдат, буйные налеты на немецкие траншеи и блиндажи.
Начинается сравнительно тихая жизнь, мокрая жизнь, жизнь липкая, дрянная, земляная, но все-таки жизнь. А когда подходит ближе полевая почта и накопившиеся за месяц наступления письма целыми пачками доходят до продрогших солдатских рук, — это уже почти счастливая жизнь.
Сидя в окопчике на самом берегу реки, среди камыша и гниловатых водорослей, прочитал свои письма и Травкин. Писали мать — учительница из небольшого волжского городка, и сестра из Москвы. Все письма матери, в сущности, были невысказанной горячей просьбой: не погибнуть.
Сестра Лена, студентка Московской консерватории по классу скрипки, писала о своих успехах. Она писала о Бахе и Чайковском с юношеской фамильярностью: дескать, «старик Чайковский оказался не так уж труден, как я думала раньше… Этот старый немец Бах…» и так дальше. Лепет юности, ровный свет электрических плафонов, тусклый блеск скрипок — как все было далеко! Травкин даже, по правде сказать, обиделся, что люди ходят в театр, слушают музыку, влюбляются, учатся, в то время как он, Травкин, и другие сидят здесь под страхом смерти и — что еще хуже — под проливным дождем.
— Что вам пишут, товарищ лейтенант? — спросил сидящий рядом с биноклем в руках Марченко.
Травкин ответил:
— Живут помаленьку и на нас посматривают — скоро ли мы кончим.
Марченко, улыбнувшись, кивнул головой. При этом он не отрываясь глядел в бинокль на вражеские позиции и заметил:
— Немцы что-то шевелятся.
Травкин взял бинокль: немцы выкатывали из лесу орудие. И он засмеялся, вспомнив слова сестры, которые теперь прозвучали так: «Этот старый немец Б-бах! Ба-бах!».
Травкин сообщил по телефону Гуревичу:
— Смотрите, Гуревич, они орудие выкатили на прямую наводку — два пальца правей разрушенного дома. Видите?
— Спасибо, Травкин! — глухо прозвучал в телефонную трубку голос вечно бодрствующего артиллериста. — Сейчас накрою.
Просунув голову сквозь влажный камыш, появился Мамочкин:
— Кушать будете, товарищ лейтенант?
Он принес Травкину полгуся на завернутой в газету фарфоровой тарелке.
Травкин, поделив гуся с Марченко, вдруг подумал о том, что Мамочкин последнее время частенько приносит различные лакомства «невоенного образца». Он хотел спросить Мамочкина, откуда вся эта снедь, но тут же забыл, отвлеченный новым замечанием Марченко насчет поведения немцев.
Мамочкин действительно разбогател. Никто не знал, откуда он добывает всю эту пропасть яиц, масла, птицы, соленых огурцов и квашеной капусты. На вопросы разведчиков Мамочкин, ухмыляясь, отвечал:
— Что ж, сумей…
А дело было простое и очень даже некрасивое. Отводя по приказанию Травкина оставшихся двух лошадей в деревню, Мамочкин не повел их по назначению, а отдал «на время» старику-вдовцу в ближний хутор, не взяв платы, но выговорив право получать у старика различные продукты. Время было горячее — надо пахать и сеять, и старик не скупился.
Молодые разведчики смотрели на Мамочкина с восторгом, удивляясь его хитроумию и удачливости. В лице красавца Феоктистова он имел верного адъютанта, старавшегося походить на Мамочкина во всем и даже отпустившего усики по примеру своего кумира.
По вечерам Мамочкин рассказывал новичкам устную летопись взвода, особо выделяя, конечно, свои собственные заслуги. Правда, и Аниканова он снисходительно похваливал: Аниканов уже стал историей и не мог повредить славе Мамочкина.
Разведчики, слушая Мамочкина, часто ловили его на несуразностях и противоречиях. Он мало смущался этим. Только в присутствии Травкина красноречие Мамочкина сразу же тускнело. Травкин ненавидел неправду. Иногда в свободные вечера он сам начинал рассказывать эпизоды боевой жизни, и такие вечера были для новичков настоящим праздником, ибо чуяли они в его словах правдивость и убежденность и в ходе его рассказа улавливали не один только внешний ход событий, а внутреннюю их закономерность. Они начинали понимать, почему нужно действовать именно так, а не иначе, и при каких обстоятельствах.
При этом их поражала его скромность. Он рассказывал об Аниканове, о погибшем старшине Белове, о Марченко и о Мамочкине, а себя как-то обходил, выставляя неким очевидцем.
— Надо учиться действовать так, как Аниканов, — нередко заканчивал он свой рассказ, и Мамочкин ревниво ерзал в своем углу.
Молоденький Юра Голубь в эти вечера усаживался у ног лейтенанта и глядел на него влюбленными глазами. Он мог сколько угодно восторгаться преувеличенной лихостью Мамочкина, но образцом для него был только этот замкнутый юный и немножко непонятный лейтенант.
Впрочем, Мамочкин тоже любил эти вечера. Лейтенант, обычно молчаливый, в эти редкие минуты как-то раскрывался. Он знал много разных историй и иногда рассказывал о жизни ученых и полководцев, а Мамочкин был любознателен.
Травкину он носил яства из своего никому неведомого источника не потому, что хотел задобрить командира. Разбираясь в людях, Мамочкин понимал, что добиться таким путем от лейтенанта каких-то там льгот или поблажек невозможно: Травкин ел гусей, даже не замечая толком, что он ест. Мамочкин «покровительствовал» Травкину потому, что любил его. Любил именно за те качества, каких не хватало ему самому: за самозабвенное отношение к делу и за абсолютное бескорыстие. Он с удивлением наблюдал, с какой точностью Травкин делит получаемую водку, наливая себе меньше, чем всем остальным. Отдыхал он тоже меньше всех. Мамочкин не мог этого понять. Он чувствовал, что лейтенант правильно и хорошо поступает, но прекрасно знал, что на месте командира действовал бы далеко не так.
Отнеся лейтенанту очередную порцию «конины», как он про себя называл гусей, кур и прочую снедь, получаемую за «прокат» коней, Мамочкин отправился к овину, где обосновались на жительство разведчики. И тут он чуть не наткнулся на командира дивизии полковника Сербиченко, встречи с которым всячески избегал из-за своей зеленой кубанки и желтых сапожек: комдив не терпел отклонений от установленной формы одежды.
Рядом с полковником стояла беленькая девушка со стриженными по-мужски волосами, одетая в обычный солдатский костюм, с нашивками младшего сержанта на погонах. Мамочкин не знал ее, а он знал здесь всех женщин наперечет. Комдив разговаривал с девушкой, ласково улыбаясь.
Полковник Сербиченко относился к женщинам с покровительственной нежностью. В глубине души он считал, что женщинам не место на войне, но он не испытывал к ним поэтому пренебрежения, как многие другие, а жалел их жалостью старого солдата, хорошо знающего тяготы войны.
— Ну как? Нравится тебе у нас? — спрашивал полковник.
Девушка застенчиво отвечала:
— Ничего… как всюду.
— Разве как всюду? У меня не так, как всюду. У меня, милая моя, дивизия прославленная, краснознаменная! Никто тебя не обижает?
— Нет, товарищ полковник.
— Гляди! Будут обижать — приходи и жалуйся смело. Девушек у нас мало, и я их в обиду не даю. А ты не крутишь с парнями?
— Зачем они мне? — засмеялась девушка.
— Смотри не обманывай… Все знаю. Тебя с капитаном Барашкиным не раз видели. Смотри держись хорошо, — сказал он вдруг серьезно.
Он попрощался с ней и пошел по направлению к своей избе, а девушка осталась стоять под деревом.
Тут перед ней и предстал Мамочкин:
— Мое почтение, барышня!
Она удивленно оглядела его с головы до ног.
— Разведчик сержант Мамочкин! — лихо пристукнул он каблуками.
Девушка улыбнулась.
— Я вас раньше, так сказать, не встречал, — увязался он за ней. — Вы из другой части или с неба упали?
Она рассмеялась и пояснила, что ее перевели сюда из другой дивизии.
— А с разведкой вы там дружили?
— Я в штабе тыла работала.
Они шли рядом. Она беззаботно посмеивалась, а он блистал портовым остроумием:
— Советую вам, Катюша (он уже узнал ее имя), в дальнейшей жизни дружить с разведкой. Кто лучший кавалер? Ясно, разведчик. У кого всегда выпивка плюс закуска и часы? Обратно, у разведчика. Кто самый самостоятельный и отчаянный? Безусловно, разведчик! Понятно? И неужели вы никого из разведчиков не знаете? — продолжал он, игриво ухмыляясь. — А небезызвестный нам капитан Барашкин как? А?
— Вы откуда знаете? — удивилась она.
— Разведчики всё знают!
Итти гулять с ним она отказалась, но обещала зайти как-нибудь в гости. Мамочкин обиделся было, но потом снова развеселился, и они расстались друзьями.
Придя в овин, Мамочкин застал там негромкую, но напряженную возню, как всегда перед выходом на задание, и вспомнил, что Марченко сегодня отправляется на поиск во главе группы в четыре человека.
Марченко только что пришел с переднего края и, сидя в углу, у старой, ржавой молотилки, писал письмо. Люди, отправлявшиеся с ним, надевали маскхалаты, привешивали гранаты, как-то сосредоточенно суетились и ежеминутно взглядывали на Марченко — не пора ли итти.
Марченко писал жене и своим старикам в город Харьков. Он сообщал им, что жив и здоров и у него все по-старому, а письма задерживаются потому, что почта отстала из-за наступления. Хотя все это были обычные вещи, но писал он на этот раз по-особому, за каждой строкой подразумевая другую, более проникновенную. Когда он кончил писать, он был взволнован. Письмо отдал дневальному, а сам негромко сказал:
— Ну, ребята, пошли, значит. Все готово?
Он выстроил свою четверку, испытующе осмотрел ее, затем спросил:
— А саперов-то нет?
Из дальнего угла, из глубины наваленной соломы, послышался спокойный веселый голос:
— Как так нет? Саперы на месте.
Облепленные соломинками, поднялись два сапера, присланные Бугорковым для сопровождения группы Марченко.
— Я старший, — произнес ранее говоривший голос, принадлежавший коренастому солдату лет двадцати.
— Тебя как звать? — осведомился Марченко, одобрительно оглядев сапера.
— Максименком звать, земляк твий, — ответствовал «старший» под общий смех.
— Откуда? — засмеялся, блеснув жемчужными зубами, Марченко.
— З Кременчуга.
— Да, почти земляк… Задачу свою знаешь?
— Знаю, — так же бойко отвечал Максименко: — розминирувать нимецьки мины, розризать нимецьку проволоку, пропустыть вас у цей розриз и итты до дому на комсомольске собрание, бо у нас завтра вранку собрание, а я комсорг. Такая наша задача.
— Молодец, хлопец! — еще раз засмеялся Марченко. — Мы, значит, дважды земляки: я тоже у нас тут комсоргом. Пошли!
И группа гуськом по обочине дороги двинулась к переднему краю, где ее ожидал Травкин.
Глава четвертая
На пятый день после ухода Марченко Мамочкин снова встретил Катю и пригласил ее к разведчикам.
Он расстелил в углу сарая белую скатерть, разложил аппетитную закуску, поставил бутыль самогону и, пригласив Феоктистова и еще нескольких друзей, уселся рядом с Катей.
В разгар пира в овин зашел Травкин, которого никто не ожидал.
Приход лейтенанта вызвал некоторое замешательство, во время которого Мамочкину удалось спрятать бутыль и кружку. По правде сказать, Мамочкину не очень-то приятно было обнаруживать при девушке свою робость перед командиром, но было еще менее приятно получить от лейтенанта суровое замечание.
Травкин покосился на сидящих в углу разведчиков и незнакомую девушку. Разведчики встали, но он тихо сказал: «Вольно!» и лег на свою постель в дальнем углу. Он не спал третьи сутки. Позапрошлой ночью должен был вернуться Марченко, но Травкин напрасно ждал его в траншее, борясь с тяжелой полудремотой. Странно и тревожно было, что не вернулись и два сапера, которым надлежало вернуться немедленно после прохода разведчиками минного поля. Вся группа, бесшумно скрывшаяся в непроглядной темени, пропала, исчезла, и следы ее замыл дождь.
Травкин улегся на байковое одеяло и заснул беспокойным сном.
Притихшие разведчики снова выпили по чарке, а Катя негромко спросила:
— Это ваш командир? Тихий такой и молодой!
Травкин метался во сне и вдруг заговорил:
— Ты чего не приходил так долго? Странный ты человек! И саперы не приходили. А мы Чайковского слушали. Чудак! А ты все не приходил. Ч-чудак…
Речь его не была похожа на речь говорящего во сне. Он произносил слова обыденным, нормальным голосом бодрствующего человека. Разведчикам стало не по себе. Они поодиночке разбрелись по овину, оставив Мамочкина одного перед белой скатертью.
Катя неслышными шагами подошла к Травкину и остановилась над ним. Его глаза были полуоткрыты, как у спящего ребенка, выцветшая гимнастерка расстегнута, а на лице застыло выражение горькой обиды. Она тихо сказала:
— Какой он у вас хорошенький!
— Не буди его! — грубо отозвался Мамочкин, но она не обиделась, почуяв в его словах такую же нежность к спящему, какая охватила и ее. — Беспокоится наш лейтенант, — пояснил Мамочкин угрюмо.
Да, вечеринка была вконец испорчена, это почувствовали все.
И только Катя вышла из овина в каком-то приподнятом, печально-торжественном настроении. Идя по зеленеющему лесу, она с беспокойством и даже с некоторым удивлением ощущала это свое настроение. Что могло ее так задеть, разнежить, наполнить такой радостной грустью? Перед глазами ее стояло почти детское лицо лейтенанта. Может быть, она увидела в нем свое собственное отражение, что-то похожее на боль, глубоко затаившуюся в ее душе, — еще не утихшую боль девушки из маленького города, встретившейся на войне с тяжестью жизни в самом ее жестоком проявлении?..
Катя все чаще и чаще стала забегать в овин разведчиков. Мамочкин, да и все остальные прекрасно разобрались в душевном состоянии девушки. Мамочкин даже обрадовался. Считая себя покровителем лейтенанта в житейских делах, он решил, что небольшой роман с Катей отвлечет лейтенанта от тяжелых дум. А Травкин заметно затосковал после очевидной гибели Марченко и его группы.
Разведчики наперебой приглашали Катю в гости, рассказывали ей все новости о лейтенанте, бегали в роту связи сообщить: «Наш-то с передовой пришел», — одним словом, всячески старались сблизить Катю с Травкиным.
Единственный, кто не замечал всей этой кутерьмы, был сам Травкин.
Однажды он, придя в овин, увидел, что угол его отгорожен плащ-палатками и вместо одеяла, разостланного на сене, там стоят настоящая кровать и столик, а на столике — вазочка со свежими подснежниками. Он спросил:
— Это что такое?
— А что? — с невинным видом ответил Бражников. — Это Катя, связистка, для вас старается, товарищ лейтенант.
Травкин густо покраснел и спросил:
— Почему вы впускаете в расположение взвода посторонних людей?
Бражников виновато промолчал, а Мамочкин, узнав об этом разговоре, развел руками:
— Что за человек! Все о немцах думает и больше ни о чем! Всё схемы немецкой обороны рисует, над картой сидит и по переднему краю целыми днями рыщет…
Что касается Кати, то она вначале была обескуражена замкнутостью и юношеской застенчивостью Травкина.
Потом она вдруг почувствовала себя вдвойне счастливой: ее любимый был не обычный человек, нет, — он суровый, гордый и чистый. Таким он и должен быть. Она непривычно робела в его присутствии, сама удивляясь своей робости.
Каждый день она приходила в овин с цветами и веточками пушистой вербы. Но не в цветах было дело: она приносила с собой благоухание милой женственности, по которой тосковали одинокие сердца бойцов. Разведчики даже порицали своего командира за равнодушие к девушке, хотя одновременно и гордились его неприступностью.
Приехавший в дивизию начальник разведотдела армии полковник Семеркин застал Катю в момент, когда она ставила свежие цветы в синюю вазочку. Полковник зашел в овин посмотреть, как живут разведчики, но в овине никого не оказалось, кроме повара, дневального и этой девушки.
— Вы кто такая? — спросил полковник.
— Радист, младший сержант Симакова! — отрапортовала она.
— А я думал, что вы тут цветами торгуете, — пробормотал желчный полковник и вышел.
Затем он долго беседовал с командиром дивизии. Они вежливо, но основательно поспорили.
— Вы ничего не знаете о противостоящем противнике, — упрекал командира дивизии полковник Семеркин. — Разве у вас есть ясное представление о его группировке и замыслах?
Полковник Сербиченко, стараясь сдерживать себя, отшучивался:
— А откуда я могу знать? Командир дивизии иногда не знает, что у него самого в войсках творится. Откуда же ему знать, что делает противник? Вот послал я разведчиков в поиск, а они не вернулись. Для вас семь человек — это так, мелочь. Вы — армия. А я человек маленький, для меня гибель семи — большая, оч-чень большая потеря! Разведчиков у меня повыбило в боях.
— Это верно, — сказал полковник Семеркин. — А вы посмотрите, что у вас в разведке делается. Прихожу к ним в овин — никого нет. Дневальный и не знает, где они. Правда, девица там с цветами ходит. Какая идиллия! А следователь вашей прокуратуры только что мне сказал, что к нему поступила серьезная жалоба на ваших разведчиков. Да, товарищ полковник, вы не знаете, а я узнал. Жалоба какого-то села. Вот вам и причины плохой работы разведки.
Полковник Сербиченко велел вызвать следователя.
Незаметный, спокойный, чуть рябой, с большим выпуклым лысым черепом, вскоре явился следователь прокуратуры капитан Еськин.
Следователь подробно рассказал о жалобе жителей недальнего села на то, что разведчики забрали у них — самовольно! — тринадцать лошадей, из которых вернули только одиннадцать. К заявлению приложена расписка с неразборчивой подписью.
— А почему вы думаете, что это сделали именно наши разведчики?
Следователь, не робея под грозным взглядом комдива, ответил:
— Это еще точно не установлено.
— Так установите точно, потом доложите. Можете итти.
Следователь вышел, а комдив устало сказал полковнику Семеркину:
— Что ж, группу в тыл мы пошлем. А вы постарайтесь пополнить нас разведчиками.
Когда все разошлись, полковник Сербиченко тоже вышел из избы, на ходу бросив вскочившему в прихожей ординарцу:
— Скоро приду.
Полковник пошел по направлению к лениво вертящейся мельнице и, подойдя к одному из разбросанных здесь овинов, спросил у дневального возле входа:
— Разведчики?
— Так точно, товарищ полковник, — ответил дневальный и громко крикнул в полутемный овин: — Встать! Смирно!
Овин зашевелился и замер. Комдив пытливо осмотрелся. В сумерках овина стояло человек восемь разведчиков, руки по швам. Один из углов был отгорожен плащ-палатками. Комдив молча подошел к этому углу, приподнял плащ-палатку и увидел там Катю, тоже ставшую «смирно». На столике в синей вазочке стояли цветы, лежали книжки и тетрадки.
Сердитый взгляд командира дивизии чуть смягчился. Он внимательно посмотрел на Катю и спросил:
— Ты что тут делаешь? — Затем, обращаясь к подбежавшему с рапортом дежурному сержанту, осведомился: — Где ваш командир?
— Лейтенант на передовой.
— Когда придет, пришли его ко мне.
Он направился к выходу, потом оглянулся:
— Побудешь здесь, Катя, или со мной пойдешь?
— Я пойду, — сказала Катя.
Они вышли вдвоем.
— Ты чего застеснялась? — спросил комдив. — Ничего плохого тут нет. Травкин — парень хороший, разведчик смелый.
Она промолчала.
— Что? Влюбилась? Хорошо! А капитан Барашкин как? В отставку?
— То — ничего, — сказала она, — то было просто так, глупость…
Полковник заворчал, потом, внимательно поглядев на опущенные ресницы Кати, вдруг спросил:
— А он, Травкин, что? Рад? Девица хоть куда, да еще цветы приносит!
Она ничего не ответила, и он понял:
— Что? Не любит?
Его умилила старинная трагедия неразделенной любви в образе этой пичужки с погонами младшего сержанта. Здесь, в самом пекле войны, затрепетала молодая любовь, как птичка над крокодильей пастью. Полковник усмехнулся.
Они встретили военфельдшера Улыбышеву, и комдив пригласил ее с Катей к себе пить чай.
Придя в избу полковника, Улыбышева с Катей принялись хозяйничать, при помощи ординарца вскипятили самовар и сели за стол, весело болтая о всякой всячине.
Через некоторое время пришел Травкин.
— Садись, — сказал комдив.
Катя заволновалась, боясь, что полковник станет подшучивать над ее чувствами к Травкину, но он не проронил об этом ни слова. Разговор шел о каких-то лошадях, а Катя робко смотрела на лейтенанта, на его молодое серьезное лицо, слушала его ясные, четкие ответы комдиву, хотя и не вникала в их смысл. И ей стало нестерпимо горько.
«Ну какая я ему пара? — думала она. — Он такой умный, серьезный. Сестра у него скрипачка, и сам он будет ученым. А я? Девчонка, такая же, как тысячи других».
Травкин ни в малейшей степени не догадывался об истинных чувствах этой девушки. Она вызывала в нем досаду и недоумение. Ее неожиданные приходы в овин, непрошенные заботы о его удобствах — все это казалось ему чем-то неприличным, навязчивым и глупым. Он стыдился своих разведчиков, которые при ее появлении многозначительно переглядывались, неуклюже стараясь оставлять его с ней наедине.
Теперь он крайне удивился, увидя ее в комнате командира дивизии, да еще за самоваром. И когда комдив заговорил об истории с лошадьми, Травкин сначала подумал, что это Катя, узнав о лошадях из разговоров разведчиков, насплетничала комдиву.
Он вкратце объяснил полковнику, как было дело, и перед комдивом вдруг воскресли те дни наступления, беспрестанные марши, короткие схватки и тот мартовский полдень, когда он, полковник, стоя посреди разбитой дороги, так насмешливо упрекал разведчиков. Из зеленовато-серых глаз комдива на Травкина глянул ободряющий прищуренный взгляд разведчика прошлой войны, унтер-офицера Сербиченко: «Молодец, Травкин!»
Полковник спросил:
— А точно ты вернул всех лошадей крестьянам?
Травкин утвердительно ответил:
— Точно.
В дверь постучали, и на пороге показался капитан Барашкин.
— Тебе чего? — недовольно спросил Сербиченко.
— Вы меня не вызывали, товарищ полковник?
— Вызывал часа три назад. Говорил с тобой Семеркин?
— Говорил, товарищ полковник.
— Ну, и что?
— Пошлем группу в тыл противника.
— Кто пойдет старшим?
— Да вот он, Травкин, — со скрытым злорадством ответил Барашкин.
Но он ошибся в расчете: Травкин и глазом не моргнул, Улыбышева спокойно разливала чай, не зная, в чем дело, а Катя совершенно не поняла, что произнесенные слова находились в прямой связи с судьбой ее любви.
Единственный, кто понял выражение глаз Барашкина, был командир дивизии, но он не имел оснований не соглашаться с Барашкиным. Действительно, лучшей кандидатурой для руководства этой необычайно трудной операцией был Травкин.
— Хорошо, — сказал комдив и отпустил Барашкина.
Поднялся вскоре и Травкин.
— Ну что ж, иди, — напутствовал его полковник. — Готовься смотри, дело серьезное.
— Есть! — сказал Травкин и вышел из избы.
Прислушиваясь к удаляющимся шагам разведчика, полковник невесело сказал.
— Хорош парень!
После ухода Травкина Кате не сиделось. Вскоре она попрощалась и вышла. Была теплая лунная ночь, и тишина, глубокая, полная, лесная, лишь изредка прерывалась дальними разрывами или тарахтеньем одинокого грузовика.
Она была счастлива. Ей казалось, что Травкин смотрел на нее сегодня ласковее, чем всегда. И ей думалось, что всесильный командир дивизии, который относится к ней так доброжелательно, конечно, сможет убедить Травкина в том, что она, Катя, не такая уж плохая девушка и что у нее есть достоинства, которые можно ценить. И она в этой лунной ночи всюду искала своего любимого и шептала старые слова, почти такие же, как в Песни Песней, хотя она никогда не читала и не слышала их.
Глава пятая
«Здравствуйте, товарищ лейтенант! Пишу вам я, Иван Васильевич Аниканов, ваш разведчик, сержант и командир первого отделения. Могу вам сообщить, что живу хорошо, чего и вам желаю от всей души. В госпитале мне вырезали пулю, каковая находилась в мягких тканях ноги. И из госпиталя попал я в запасный полк. Тут сперва плоховато было, потому что кормят похуже, чем на фронте, а я покушать люблю и к фронтовому пайку слишком привык. И приходилось целый день изучать военное дело и устав, все сначала, а также бегать, кричать „ура“. Немцев же, конечно, нет, а стрелять — патронов не дают. И вот еше беда: взяли у меня мой пистолет „вальтер“, что я отобрал, если помните, у того немецкого капитана с черной повязкой на глазу. Ходил я жаловаться к здешнему комбату, но тот сказал, что сержанту пистолет не положен. А что я не просто сержант, а разведчик и таких пистолетов у меня перебывало, может, две сотни, он об этом и знать не хочет. Потом перевели меня в подсобное хозяйство, и вот тут мне живется, как зажиточному колхознику. У меня все есть — и сметана, и масло, и овощи всякие. Тем более я тут заместо главного, как бывший председатель колхоза. Значит, мы все пашем и сеем. И по вечерам, покушав и запивши молочком, лежу я на перине, а хозяйка так и ходит вокруг. И думаю я про вас, товарищ лейтенант Травкин, и про товарищей моих в моем взводе, вспоминаю наши боевые дела, а главное — мучения ваши и как вы бьетесь за нашу великую родину, и сердце обливается кровью. И прошу вас, товарищ лейтенант, поговорить с товарищем Сербиченко: может, он пошлет на меня требование, чтоб отпустили меня к вам. Не могу я здесь без вас, потому, товарищ Травкин, совестно, что не довел до конца эту войну вместе с вами, а живу, как зажиточный колхозник, и вроде вы меня защищаете от немца. С приветом к вам и ко всему нашему славному взводу Иван Васильевич Аниканов».
В который раз перечитав это письмо, Травкин растроганно улыбнулся и снова вспомнил, каков был Аниканов и как хорошо было бы иметь его сейчас здесь, у себя. Чуть ли не с пренебрежением всматривался он в лица спящих разведчиков, сравнивая их с отсутствующим Аникановым.
«Нет, — думал Травкин, — эти все не такие, как он. Нет в них той спокойной отваги, неторопливости и ясного ума. В Аниканове я был всегда уверен. Он не знал, что такое паника. Мамочкин смел, но безрассуден и корыстен. Быков рассудителен, но слишком. Бывают острые моменты, когда рассудительность не лучше трусости. Бражников недостаточно самостоятелен, хотя есть в нем и хорошие задатки. Голубь, Семенов и другие — еще не разведчики пока. Марченко — тот был человек, золотой человек, но он, очевидно, погиб и не вернется больше».
Одолеваемый этими горькими мыслями, не совсем, впрочем, справедливыми и навеянными взволновавшим его письмом Аниканова, Травкин вышел из овина в холодный рассвет. Он побрел к тому яру, который был им облюбован для тактических занятий с разведчиками.
Это место довольно точно воспроизводило подлинный передний край. Яр пересекался широким ручьем, над которым свесились уже зеленевшие плакучие ивы. Неглубокая траншея, вырытая разведчиками специально для занятий, и два ряда колючей проволоки обозначали передний край «противника».
На этом «театре» Травкин теперь еженощно проводил занятия. Со свойственным ему упорством он гонял разведчиков через студеный ручей вброд, заставлял их резать проволоку, щупать длинными саперными щупами невсамделишные минные поля и прыгать через траншею.
Вчера он придумал новую игру: посадив несколько разведчиков в траншею, он заставлял остальных подползать к ним как можно тише, чтобы приучить людей к бесшумному движению. Сам он тоже сел в траншею и прислушивался к ночным звукам, но мысли его были не здесь, а на подлинном переднем крае, где немцы успели возвести мощную систему инженерных заграждений, которые ему придется вскоре преодолевать. К тому же взвод получил пополнение — десять новых разведчиков, так что Травкину приходилось, кроме специальных занятий с отобранными им для операции людьми, заниматься и с остальными да еще ежедневно наблюдать за противником на переднем крае, изучая его режим и поведение.
В результате этого беспрерывного тяжелого труда он стал очень раздражителен. Ранее склонный прощать разведчикам мелкие грешки, он теперь наказывал их за малейшую провинность.
В первую голову досталось Мамочкину. Травкин строго спросил его, где он добывает всякую снедь. Мамочкин что-то пробормотал про добровольные даяния крестьян, и Травкин посадил его под арест на трое суток, сказав:
— Пусть местное крестьянство отдохнет от тебя хоть три дня.
Катю он вежливо, но твердо попросил пока (он так и сказал: «пока») посещения овина прекратить. Правда, он испытал некоторую неловкость, когда встретил ее испуганный взгляд, хотел было вернуть ее, но сдержался.
Но больней всего другого его уязвил небывалый случай с новичком Феоктистовым, высоким красивым парнем откуда-то из-под Казани.
В то утро шел дождь, и Травкин решил дать отдых разведчикам. Утром он вышел из овина и направился к блиндажу Барашкина, где переводчик Левин давал ему уроки немецкого языка. В кустарнике возле мельницы он увидел Феоктистова. Высокий, ладно скроенный Феоктистов лежал на траве голый по пояс, под проливным дождем. Травкин удивленно спросил, что это значит. Феоктистов, вскочив, смущенно ответил:
— Принимаю, товарищ лейтенант, холодные ванны… Так я и дома делал.
Этой же ночью, во время занятий по бесшумному ползанью, Феоктистов сильно закашлялся. Сначала Травкин не обратил внимания на это, но затем, когда Феоктистов раскашлялся снова, лейтенант все понял: Феоктистов нарочно старался простудиться. Из рассказов старых разведчиков он, конечно, знал, что человека, страдающего кашлем, на задание не возьмут, так как кашель может выдать всю группу немцам. Травкин никогда в своей короткой жизни не испытывал такого страшного приступа ярости. Ему стоило большого усилия воли не пристрелить этого высокого красивого испуганного подлеца тут же, при лунном свете, на глазах у недоумевающих разведчиков.
— Так вот что за холодные ванны, подлый трус!..
На следующий день Феоктистова отчислили.
Вспомнив этот случай, Травкин и теперь не мог избавиться от чувства гадливости.
Всходило солнце, и надо было итти на передний край. Взяв двух разведчиков, Травкин отправился в обычный путь, к реке.
Чем ближе к переднему краю, тем напряженнее и сдавленнее воздух, словно это атмосфера не Земли, а какой-то неизмеримо большей неведомой планеты. Мощные всплески пулеметного огня, оглушительное кряхтенье минометных разрывов, а затем недобрая тишина, чреватая новыми возможностями внезапной смерти. Гуськом, в зеленых халатах, мимо разбитых снарядами деревьев, мимо позиций артиллерии, разведчики подходили все ближе и ближе к войне.
В траншеях второго батальона Травкина встретил Мамочкин. После гауптвахты Травкин прислал его сюда для постоянного пребывания старшим на наблюдательном пункте — «поближе к немцам, подальше от кур». Лихо пристукнув каблуками, Мамочкин передал ему схему наблюдения и записи о поведении противника за прошедшие сутки.
Из пулеметного дзота Травкин наблюдал в стереотрубу немецкий передний край. В его дзот обычно заходили командир батальона капитан Муштаков и артиллерист капитан Гуревич. Они знали о предстоящей задаче Травкина, и он не без досады читал в их глазах какое-то извиняющееся выражение: тебе, мол, итти туда, а мы вот спокойно сидим в защищенных накатами блиндажах.
Даже их предупредительность, постоянная готовность помочь ему раздражали его. Он внутренне протестовал против их мыслей, похожих на смертный приговор ему. Он усмехался, глядя в стереотрубу, и думал: «Подождите, друзья, еще вас переживу».
Не то чтобы он желал им зла — наоборот, оба они были ему глубоко симпатичны. Молодой и красивый Муштаков был лучшим комбатом в дивизии. Особенно нравился Травкину всегда вежливый и опрятный при всех обстоятельствах артиллерист, с его выдающимися математическими способностями. Его батарея стреляла исключительно метко и наводила страх на немцев. Гуревич целыми днями слонялся по траншее, неотступно, с постоянством ненависти наблюдая за немцами, и всегда давал Травкину ценнейшие данные. В Гуревиче он угадывал свойственный и ему, Травкину, фанатизм при исполнении долга. Не думать о своей выгоде, а только о своем деле — так был воспитан Травкин, и так же был воспитан Гуревич. Они и называли друг друга «земляками», ибо они были из одной страны — страны верующих в свое дело и готовых отдать за него жизнь.
Травкин пристально смотрел на немецкие траншеи и проволочные заграждения, мысленно фиксируя малейшие неровности почвы, направление огня немецких пулеметов, редкое движение немцев по ходам сообщения.
С чувством, похожим на подлинную зависть, смотрел он на черных грачей, безнаказанно перелетавших с нашего переднего края на немецкий и обратно. Для них эти грозные препятствия не существовали. Вот кто мог рассказать обо всем, что творится на немецкой стороне! Он мечтал о говорящем граче, граче-разведчике, и если бы сам мог превратиться в такого, с радостью простился бы со своим человеческим обличьем.
Насмотревшись до одури и сделав необходимые заметки, Травкин оставил для наблюдения разведчиков, а сам ушел в блиндаж Муштакова.
Здесь собрались молодые командиры взводов, только что окончившие где-то в тылу военные училища и прибывшие на фронт. Это были младшие лейтенанты, одетые во все новое, обутые в керзовые сапоги с широченными голенищами.
Они встретили его уважительным молчанием, прервав шумный разговор. Сев за столик, Травкин чувствовал на себе любопытные взгляды молодых офицеров и думал о них.
Будучи примерно одних лет с ними, он чувствовал себя гораздо старше. Ему приятно было сознавать, что он немало уже сделал. Погибни он, бойцы будут горевать, его помянет даже командир дивизии. «И эта девушка, — подумал он вдруг, — эта Катя».
Так он, сам, быть может, накануне гибели, с чувством превосходства и снисходительной жалости наблюдал за молодыми лейтенантами.
Один из них, юноша с большими голубыми глазами, восторженно глядевшими на Травкина, особенно понравился ему. Встретив взгляд Травкина, он робко сказал:
— Возьмите меня с собой. Я с удовольствием пойду в разведку.
Так он и сказал: «с удовольствием». Травкин улыбнулся:
— Ладно, я попрошу начальника штаба дивизии, чтобы вас пустили со мной. У меня людей маловато.
Придя в штаб дивизии, он действительно обратился к подполковнику Галиеву с этой просьбой. Галиев согласился и велел позвонить об этом в полк.
Так в овине поселился младший лейтенант Мещерский, стройный голубоглазый двадцатилетний мальчик в широченных керзовых сапогах. В его чемоданчике лежало несколько книг, и в свободное от занятий время он нараспев читал разведчикам стихи, а они, сидя в полумраке овина, с серьезными лицами вслушивались в складные, округлые слова, удивляясь искусству поэта и вдохновенному румянцу Мещерского.
Когда не было Травкина, в овин приходила Катя. Мещерский встречал ее приветливо, здороваясь за руку и вежливо приглашая садиться. Это нравилось разведчикам и немного смешило их, отвыкших от такого вежливого обращения.
Как-то раз Мещерский сказал Травкину:
— Замечательная девушка эта связистка!
— Какая?
— Катя Симакова. Она часто приходит сюда.
Травкин промолчал.
— Вы разве не знаете ее? — спросил Мещерский.
— Знаю. А чем она замечательна, по-вашему?
— Добрая она. Разведчикам стирает. Они ей письма из дому читают, делятся с ней своими новостями. Когда она приходит, все очень довольны. Поет красиво.
В другой раз Мещерский с обычной своей восторженностью сказал:
— Да она же вас любит! Честное слово, любит! Неужели вы не замечали? Это же так ясно… Как это хорошо! Я очень рад за вас.
Травкин натянуто улыбнулся:
— Вы почему это знаете? Она вам сказала, что ли?
— Нет, зачем… Я и сам заметил. Замечательная девушка, я вам говорю!
— Да она любого полюбит, — сказал Травкин грубо.
Мещерский болезненно сморщился и даже руками замахал:
— Что вы, что вы!.. Как вы можете так думать? Неправда!
— Пора на ночные занятия, — прервал Травкин этот разговор.
Мещерский занимался ревностно, находя во всем, что делал, почти детское удовольствие. Он ползал до изнеможения, храбро лез в студеный ручей и целыми ночами готов был слушать бесконечные рассказы о боевых делах взвода.
Мещерский все больше нравился Травкину, и, одобрительно глядя на голубоглазого юношу, он думал: «Это будет орел…»
Глава шестая
— Значит, завтра ночью выступаем. Дай бог, чтобы ночь была темная — это для разведчиков главней всего, — разглагольствовал Мамочкин, рисуясь перед молодыми разведчиками.
Он порядочно выпил. Ввиду предстоящей операции он был отпущен Травкиным с переднего края отдыхать и сразу пошел к «своему» старику-вдовцу. Он принес в овин крынку с медом, консервную банку с маслом, яйца и килограмма три вареной свиной колбасы. На робкие возражения старика по поводу размеров требуемой дани Мамочкин с некоторой грустью отвечал.
— Ничего, старик! Не исключена возможность, что я никогда больше не приду к тебе. Попаду же я, конечно, в рай. А там твою бабку встречу, расскажу, какой ты добрый человек. Ты лучше не спорь. Я с тебя, может, последний взнос получаю…
В связи с особыми обстоятельствами Мамочкин решился даже рассекретить свою «базу». Он взял с собой Быкова и Семенова и, нагрузив их продуктами, самодовольно улыбался, ежеминутно спрашивая:
— Ну как?
Семенов восхищался непостижимой, почти колдовской удачливостью Мамочкина:
— Вот здорово! Как ты это так?..
Быков же, догадываясь о том, что тут дело нечисто, говорил:
— Гляди, Мамочкин, лейтенант узнает!
Проходя мимо старикова поля, Мамочкин покосился на «своих» лошадей, запряженных в плуг и борону. За лошадьми шли сын старика, сутулый молчаливый идиот, и сноха, красивая высокая баба.
Мамочкин обратил внимание на большую гнедую кобылу с белым пятном на лбу. Он вспомнил, что эта лошадь принадлежала той странной старухе, у которой взвод останавливался на отдых.
«Ну и ругается та божья старушка!» промелькнуло в голове у Мамочкина, и он испытал даже нечто похожее на угрызения совести. Но теперь все это было уже не важно. Впереди — задание, и кто его знает, чем оно кончится.
Придя в овин, Мамочкин увидел Травкина, который сидел у старой молотилки с карандашом в руке, собираясь писать письма матери и сестре. Мамочкин вдруг побледнел и тихо подошел к лейтенанту. В глазах Мамочкина появилась необычная робость. Травкин с удивлением посмотрел на него.
— Товарищ лейтенант, — сказал Мамочкин, — а как рация? Будет с нами рация?
— Будет. Бражников пошел за ней.
— А радист?
— Я сам буду передавать радиограммы. Радиста брать не стоит. Еще трус попадется или вообще неумелый солдат. Нет, мы сами обойдемся, я в радио понимаю немного.
— Ага…
Мамочкину явно не о чем было больше говорить, но он не уходил.
— Товарищ лейтенант, — промямлил он, — хотите свиной колбаски?
Он рассчитывал, что Травкин накинется на него: снова, мол, крестьян грабишь?! Но Травкин коротко поблагодарил, отказался и снова принялся за письмо. Тогда Мамочкин решился. Внезапно дрогнувшим голосом он сказал:
— Товарищ лейтенант, не пишите письмо.
Травкин удивленно спросил:
— Что с тобой?
Мамочкин ответил скороговоркой:
— Вот так же, на молотилке, писал Марченко перед уходом. Это плохая примета. У нас на море рыбаки приметам верят… и, честное слово, правильно делают.
Травкин насмешливо, но мягко сказал:
— Брось, Мамочкин, эти бабьи сказки.
Когда Мамочкин отошел, Травкин снова взялся за карандаш, но тут его взгляд вдруг упал на темную кучу соломы неподалеку от входа. У изголовья этой военной постели лежал небольшой, потемневший от времени, пота и непогоды вещевой мешок. То была постель Марченко.
Травкин так и не закончил письма. Пришел Бражников, неся маленькую рацию. Вслед за ним явились начальник связи дивизии майор Лихачев, Катя и два других радиста. Лихачев еще раз объяснил Травкину правила пользования кодированной картой и таблицей:
— Гляди, Травкин: танки противника обозначаются цифрой «сорок девять», пехота — цифрой «двадцать один», а карта расчерчена на квадраты. Вот, например, нужно сообщить, что танки вот в этом районе. Ты передаешь: «сорок девять квадрат Бык четыре». Если пехота, значит: «двадцать один Бык четыре», и так далее.
Они устроили последнее тренировочное занятие. Позывная разведгруппы была окончательно установлена: «Звезда». Позывная дивизии — «Земля».
В тишине овина раздались странные слова, полные таинственного значения. Разведчики, стоявшие молча вокруг Лихачева и Травкина, с невольным трепетом прислушивались к этому разговору:
— Земля, Земля, слушай Звезду. Говорит Звезда. Двадцать один Буйвол три. Двадцать один Буйвол три. Прием.
И Лихачев, тоже взволнованный, замогильным голосом отвечал:
— Звезда, Звезда! Земля у аппарата. Правильно ли я понял? Повторяю: двадцать один Буйвол три. Прием.
— Земля, у аппарата Звезда. Понял правильно. Дальше. Сорок девять Тигр два.
Под темными сводами овина раздавался таинственный межпланетный разговор, и люди чувствовали себя словно затерянными в мировом пространстве. А ласточки, вьющие гнезда под крышей овина, весело шелестели крыльями, ведя свой семейный беззаботный разговор.
Напоследок Лихачев крепко пожал руку Травкину и спросил.
— Может, возьмешь все-таки с собой радиста? Ребята у меня хорошие и просятся в разведку. Сегодня я даже получил, — он улыбнулся немного сконфуженно, — докладную от младшего сержанта Симаковой. Она с тобой хочет итти.
Травкин нахмурился и сказал:
— Да что вы, товарищ майор! Не нужно мне радиста. Не на прогулку идем.
Катя, услышав такой оскорбительный отказ в ответ на свою горячую просьбу, выбежала из овина. Она была глубоко уязвлена презрительными словами Травкина. «Какой грубый, нехороший человек! — думала она о Травкине, и раздражение накипало в ней. — Только дура может полюбить такого…».
Проходя мимо блиндажа капитана Барашкина, она замедлила шаги. «Вот возьму назло и зайду». Она с внезапной приязнью вспомнила неотступные слащавые ухаживания Барашкина, его предупредительность и страшно обычные, но всегда приятные для одинокого сердца любовные объяснения. Даже его толстую тетрадь с выписанными в ней стишками и песнями она вспомнила теперь с теплым чувством. В Барашкине все было обычно, просто и ясно, и это казалось ей теперь именно тем самым, что нужно человеку для счастья.
Она зашла. Барашкин встретил ее немного удивленной, но довольной улыбкой. Он смутно подумал о том, что вот Травкин уходит и она, хитрая девчонка, решила пока хоть его, Барашкина, не упустить. Появилась и барашкинская заветная тетрадка: тут были и песенки из кинофильмов и разные чувствительные романсы Впрочем, Кате не пелось сегодня.
Барашкин всячески старался выжить из блиндажа переводчика Левина. Но когда Левин ушел и Барашкин, сладко улыбаясь, обнял Катю, ей вдруг стало невыносимо противно, и, оттолкнув его, она выбежала из блиндажа в шумящий лес. Нет, это «обычное» было ей чуждо и отвратительно. Глаза ее были полны слез.
Травкин между тем имел весьма неприятный разговор.
Спокойный, незаметный, чуть рябой, зашел в овин следователь прокуратуры капитан Еськин. Это уже был не межпланетный разговор. Следователь уселся с Травкиным за плащ-палатками и стал подробно расспрашивать его: как и когда лошади были взяты, на каком основании взяты, когда и при каких обстоятельствах отосланы обратно и почему не получена назад расписка…
Травкин угрюмо, но обстоятельно рассказал, как было дело. Когда речь зашла о расписке, он на минуту задумался вспоминая. Ах да, двух лошадей, задержанных еще на сутки, отводил Мамочкин. Он вызвал Мамочкина, но того в овине не оказалось. Следователь сказал, что придет позднее. Перед уходом он как бы невзначай оглядел овин, увидел белую скатерть, покрывающую постель Мамочкина в отличие от других постелей, покрытых плащ-палатками, ничего не сказал, ушел.
Когда Мамочкин появился в овине, Травкин вызвал его к себе, но в последний момент, пораздумав, ничего не спросил о лошадях — ведь Мамочкин должен был итти с ним выполнять задачу. Лейтенант спросил только, где пропадал Мамочкин последние два часа. Тот ответил, что у саперов. На этом разговор кончился.
Травкин вместе с Мещерским пошел в гости к Бугоркову. По дороге Мещерский, чем-то обеспокоенный, вдруг сказал:
— Травкин, как хотите, я пойду позову Катю. Вы не видели, а я видел. Мне очень ее жалко. Она ушла в ужасном состоянии. Ах, Травкин, вы напрасно обидели ee!
Он пришел в блиндаж к Бугоркову, ведя за руку совсем оробевшую Катю. Все же она заметила виноватый взгляд Травкина.
Это был восхитительный вечер, полный радужных надежд для Кати. Для Травкина он окончился неожиданным счастливым событием.
Оживленную беседу прервал запыхавшийся Бражников, вбежавший в блиндаж. Его глаза блестели, он забыл надеть пилотку, и прямые льняные волосы падали ему на лоб.
— Товарищ лейтенант, вас зовут! Идемте скорее, там увидите…
Возле овина была радостная суета. Разведчики бросились к Травкину, крича:
— Смотрите, кто приехал!
Травкин остановился.
Широко улыбаясь, поблескивая мудрыми глазками, к нему шел Аниканов. Не решаясь обнять лейтенанта, он затоптался на месте:
— Вот, значит, товарищ лейтенант, приехал.
Ошеломленный, смотрел Травкин на Аниканова.
Сказать он ничего не мог. Он вдруг ощутил огромное чувство облегчения. И в это мгновение он по-настоящему понял, в какой бездне сомнений и неуверенности находился последние недели.
— Как же ты? Совсем или проездом в другую часть? — спросил он, когда они наконец уселись за столик.
Аниканов ответил:
— Направление у меня в другую часть, да я от поезда отстал: дай, думаю, погляжу на свой взвод и на своего лейтенанта. Мне солдат один проезжий из нашей дивизии сказал, что вы здесь по-прежнему. — Он помолчал, потом закончил улыбнувшись, — А там видно будет.
Аниканову поднесли водки и закусить, и Травкин с наслаждением смотрел, как он медленно ест — с чувством, но без жадности, после каждого блюда благодаря подающего повара Жилина с милой сердцу деревенской учтивостью. Так же медленно рассказал он, как, закончив посевную в подсобном хозяйстве запасного полка, попросился на фронт, и вот его и послали с маршевой ротой.
— Значит, идете к немцу в тыл? — переспросил он лейтенанта. — А кто с вами?
— Вот младший лейтенант Мещерский, Мамочкин, Бражников, Быков, Семенов и Голубь.
— А Марченко? Марченко-то где?
Он осекся, увидя потемневшие лица окружающих. Узнав, в чем дело, он осторожно отодвинул тарелку, закрутил цыгарку и сказал:
— Что ж… вечная ему память.
Замолчали. И тогда Травкин, исподлобья оглядев Аниканова, спросил:
— А ты как? Пойдешь со мной или по своему направлению в часть?
Аниканов ответил не сразу. Ни на кого не глядя, но чувствуя, что окружающие его люди с напряжением ожидают ответа, Аниканов сказал:
— Думаю с вами пойти, товарищ лейтенант. Придется тогда в мою часть написать, что не дезертир, дескать. сержант Аниканов. В общем, написать все, что нужно.
Мамочкин, стоя в дверях овина, слушал разговор со смешанным чувством восхищения и зависти. Так мог только Аниканов, это было ясно. Стоило отдать жизнь за то, чтобы оказаться в этот момент Аникановым.
Аниканов огляделся, увидел плащ-палатки на соломе, зеленые маскхалаты, кучку гранат в углу, висящие на гвоздях автоматы, ножи на поясах бойцов и подумал со вздохом философа и жизнезнавца — «Вот мы и дома».
Травкин, успокоенный и подобревший, развернул карту, чтобы объяснить Аниканову суть их задачи и план действий, но посыльный из штаба, внезапно появившись в дверях овина, передал ему приказание итти к командиру дивизии. Поручив Мещерскому ввести Аниканова в курс дела, Травкин пошел к полковнику.
В избе комдива было темновато. Полковник Сербиченко хворал и, лежа на койке у окна, слушал доклад начальника штаба.
— Да ты в лаптях! — обратил он прежде всего внимание на необычную обувь Травкина.
— Привыкаю, товарищ полковник. У меня Семенов, рязанец, сплел лапти для моей группы. Бесшумно ходишь, и ногам легко.
Полковник одобрительно заворчал и торжествующе посмотрел на подполковника Галиева: гляди, мол, что за умные ребята эти разведчики!
Полковник Сербиченко уже много раз отправлял людей на рискованные дела, но сегодня ему стало почти жалко этого Травкина. Он подумал о том, что вот полковник Семеркин был прав, но для армейских разведка — просто вид штабной службы со сводками, донесениями, картами обстановки и решением задач крупного масштаба; для него же кое-что значил и этот человек в лаптях, в зеленом маскхалате, молодой, небритый, похожий на красавца лешего.
Его так и подмывало сказать Травкину то, что обычно говорят отец и мать, отправляя сына на опасное дело.
«Береги себя, — сказал бы он Травкину. — Дело делом, а не при на рожон. Будь осторожен. Скоро войне конец».
Но он сам был когда-то разведчиком и прекрасно знал, что такого рода напутствия к добру не приводят: они расхолаживают даже самых верных своему долгу людей. При выполнении задачи люди многое могут забыть, но этих слов: «береги себя», сказанных старшим начальником, человек никогда не забудет, а это почти наверняка провал всего дела. И полковник, пожав руку Травкину, сказал только:
— Смотри…
Глава седьмая
Надев маскировочный халат, крепко завязав все шнурки — у щиколоток, на животе, под подбородком и на затылке, — разведчик отрешается от житейской суеты. Разведчик уже не принадлежит ни самому себе, ни своим воспоминаниям. Он подвязывает к поясу гранаты, нож и кладет за пазуху пистолет, отныне полагаясь только на себя. Он отдает старшине все свои документы, письма, фотографии, ордена и медали, парторгу — свой партийный или комсомольский билет. Так он отказывается от своего прошлого, храня все это только в сердце своем.
Он не имеет имени, как лесная птица. Он вполне мог бы отказаться и от членораздельной речи, ограничившись птичьим свистом для подачи сигналов товарищам. Он срастается с полями, лесами, оврагами, становится духом этих пространств — духом опасным, подстерегающим, в глубине своего мозга вынашивающим одну мысль: свою задачу.
Так начинается древняя игра, в которой действующих лиц только двое: человек и смерть.
Выслав вперед своих людей, Травкин в сопровождении Мещерского и Бугоркова пошел к переднему краю.
Мещерский имел несчастный вид. Дело в том, что подполковник Галиев, узнав о приезде Аниканова, после короткого размышления решил оставить Мещерского здесь — заместителем Травкина.
— Мало ли что может случиться, а разведчики без офицера остаются, — сказал он комдиву, и тот согласился с ним.
Шагая по лесным просекам, трое офицеров вполголоса разговаривали. Собственно, говорил Бугорков: опечаленный Мещерский слушал, а Травкин глядел вперед отсутствующим взглядом.
— Скорее бы войне конец! — ни с того ни с сего вдруг закончил Бугорков, сбоку глядя на серьезный профиль Травкина.
Травкин молчал. Выходя на задание, он становился особенно молчаливым. Это напускное спокойствие, почти сонливость, стоило ему немалых усилий воли. Он как бы выражал всем своим видом: все, что можно было сделать, сделано, а там пусть идет, как идет.
На широком гребне, поросшем молодым ельником, располагались огневые позиции одной из батарей артиллерийского полка.
Артиллеристы возились подле вкопанных в землю орудий. Завидев Травкина, они замахали руками и закричали:
— Опять на работу?
— Опять, — скупо ответил Травкин.
В траншее его ожидали. Там были капитан Муштаков, капитан Гуревич и командиры двух минометных рот. Аниканов и другие разведчики сидели на корточках в траншее и тихо разговаривали.
Капитан Гуревич уточнил взаимодействие:
— Значит, я делаю артналет по цели номер шесть для отвлечения внимания немцев. Смотрите, Травкин, не уклоняйтесь влево, а то попадете под мои разрывы. Вслед за тем я ударю вместе с минометчиками по цели номер четыре. В случае вашей красной ракеты бью по целям второй, третьей, четвертой, пятой и седьмой и прикрываю ваш отход.
— Минометчики пристрелялись? — спросил Травкин.
— Да, все готово, — заверили минометчики.
— Готовы и мои пулеметы на всякий случай, — сказал Муштаков.
Все были заметно взволнованы.
Травкин высунулся за бруствер и прислушался к немецкому переднему краю. Где-то там, далеко, патефон играл фокстрот. Левее то и дело вздымались к небу белые осветительные ракеты.
Он спрыгнул обратно в траншею, повернулся к своим разведчикам и саперам и сказал:
— Слушайте боевой приказ.
Разведчики медленно встали.
— Противник обороняет этот участок силами сто тридцать первой пехотной дивизии. По имеющимся данным, в глубине его обороны происходит перегруппировка. Командир дивизии приказал произвести разведку в тылу противника, выяснить характер этой перегруппировки, наличие резервов и танков противника и сообщить все данные командованию по радио.
Объяснив разведчикам порядок движения и сообщив им, что заместителем своим он назначает Аниканова, Травкин молча кивнул остающимся в траншее офицерам, перелез через бруствер и бесшумно двинулся к берегу реки. Затем то же самое один за другим проделали Бражников, Мамочкин, Голубь, Семенов, Быков и три сапера, выделенных для сопровождения группы. Последним исчез Аниканов.
Оставшиеся в траншее постояли несколько минут неподвижно. Затем Гуревич, вдруг длинно и замысловато выругавшись, попросил Муштакова дать ему водки и действительно выпил, гадливо морщась, полный стакан. Гуревич никогда не ругался и никогда не пил водку. Муштаков удивился, но промолчал.
А Травкин между тем остановился в низком кустарнике у самого берега. Разведчики ждали, но Травкин почему-то медлил. Так они стояли минуты три. Внезапно немецкая белая ракета врезалась в темноту, с шипением распалась на ослепительные кусочки, осыпала молочным светом речушку, а затем погасла так же внезапно. Этого, видимо, и ждал Травкин. Он вошел в темную холодную воду реки, следом за ним остальные. Быстро пройдя речку, они в тени ее западного берега снова остановились и переждали вспышку очередной ракеты. Затем Травкин пустил вперед саперов, а сам с разведчиками пошел следом.
Миновав ложбинку, оказавшуюся гораздо более обширной, нежели представлялось Травкину при наблюдении, саперы остановились. Тут начинались минные поля.
Щупая землю длинными шестами и прислушиваясь к миноискателю, висящему на груди у одного из них, саперы медленно пошли вперед.
Снова вспыхнула ракета. Инстинктивный страх прижал разведчиков к земле. Они лежали на высоком ровном месте, и им казалось, что их видит весь мир в этом страшном, безжизненном свете ракеты. Но ракета погасла, и всюду была тишина.
Саперы, осторожно действуя руками в темноте, отвинтили взрыватели с нескольких мин. Мощная пулеметная очередь трассирующих пуль пронеслась над головами и умчалась вдаль. Разведчики замерли. Такая же очередь пронеслась левей, сопровождаемая сухим треском. С наших позиций тоже одиноко затарахтел «максимка», и пули его — последний привет от своих — прошелестели где-то справа.
Передний сапер увидел в темноте проволоку и обернулся к Травкину, ползущему за ним. «Давай!» шепнул Травкин. Саперы начали резать проволоку большими ножницами, и тут опять зажглась ракета, а следом за ней снова пронеслась волна быстро мелькающих в кромешной темноте трассирующих пуль.
В свете ракеты Травкин разглядел немецкий бруствер, какие-то бревна, наваленные поблизости, опушку леса за второй траншеей и три ободранных снарядами дерева — его обычный ориентир во время наблюдения. Он несколько уклонился вправо. Компас в наступившей темноте зеленым фосфором показывал азимут. Вокруг стояла ночная тишина. Однако он знал, как она обманчива и сколько глаз, может быть, следят за тобой в этом мраке. Он даже легонько вздрогнул от прикосновения руки сапера к его плечу. Ага, проволока разрезана! Саперы останутся здесь, чтобы охранять проход на случай, если Травкину и его людям придется отходить. Если же все будет тихо, они могут через полчаса ползти «домой».
Один из них на прощание крепко пожал руку Травкину. Глазами, уже привыкшими к темноте, Травкин внимательно взглянул на него, увидел большие усы и темные впадины добрых глаз. «Меджидов, — узнал его Травкин, — лучший сапер дивизии. Бугорков не поскупился».
Разведчики поползли сквозь прорезанную проволоку и уже почти у самого немецкого бруствера замерли: слева раздались взрывы. Земля тяжело задрожала. Через секунду взрывы раздались справа. «Гуревич дает», подумал Травкин.
Он услышал слева немецкий говор. Аниканов и Бражников уже были в траншее. Говор приближался. Травкин затаил дыхание. Два немца шли по ходу сообщения совсем близко. Один из них что-то ел — слышалось громкое чавканье. Они повернули в другую сторону. Над бруствером показался Аниканов. Он помог Травкину соскочить вниз.
Все семеро рядышком стояли в немецкой траншее.
Травкин прислушался, затем пошел по ходу сообщения, из которого только что вышли эти два немца. Ход сообщения разветвлялся. На повороте Травкин вдруг почувствовал предупреждающую руку идущего впереди Аниканова. Вдоль бруствера шел немец. Разведчики прижались к стенке траншеи. Немец исчез в темноте. Пока все шло хорошо. Только бы им выбраться в лес!
Травкин вылез из хода сообщения и осмотрелся. Он узнал темные очертания домика лесника, виденного им часто в стереотрубу. Возле дома находится немецкий пулеметный дзот. Оттуда и доносятся голоса о чем-то спорящих немцев. Прямо должна быть дорога в лес. Левее же дороги — бугор с двумя соснами, а слева от бугра — болотистая низина. По этой низине и нужно пройти.
Через час разведчики углубились в лес.
Мещерский с Бугорковым, стоя в траншее, неотрывно вглядывались в ночь. То и дело к ним подходили Муштаков или Гуревич, негромко спрашивая: «Ну как?»
Нет, красная ракета — сигнал «Обнаружены, отходим» — не появлялась. Раза три начинали работать немецкие пулеметы, но это была, по-видимому, обычная стрельба «на бога». Мещерский, Бугорков, оба капитана и дежурящие в траншее молчаливые солдаты пристально вглядывались в реку, в ее западный высокий берег, в камыши, в кустарник, в немецкую проволоку, в немецкий бруствер. Но ничего не было видно особенного, ровным счетом ничего.
— Чорт возьми! — восхищенно сказал Муштаков. — Как лешие.
— Прошли, кажется, — облегченно вздохнул Мещерский и вдруг почувствовал, что он весь в поту.
Капитана Муштакова вызвал по телефону штаб дивизии. Телефонист не без волнения сказал:
— С вами будет говорить шестьсот.
Из ночной дали раздался знакомый всей дивизии глубокий голос полковника Сербиченко:
— Ну, как Травкин?
— Кажется, все в порядке, товарищ шестьсот.
— Значит, у тебя тихо?
— Тихо, товарищ шестьсот.
— Люди Бугоркова еше не вернулись?
— Нет еще, товарищ шестьсот.
Комдив секунду помедлил, потом сказал:
— Что ж, хорошо. Иди спать, Муштаков.
— Есть итти спать.
Потом снова, после некоторого молчания:
— Значит, немец спокоен?
— Тишина.
— Ракеты?
— Да, но не очень часто.
— Постреливает?
— Временами.
— Но не так, чтобы…
— Нет, нет, товарищ шестьсот. Нормально, как всегда.
Положив трубку, Муштаков сказал:
— Тревожится старик.
Глава восьмая
Это был холодный и туманный рассвет, полный зябкого птичьего щебетанья.
Вопреки сведениям, имевшимся в дивизии, леса кишели немцами: куда ни глянь — огромные грузовики, еще более огромные автобусы, тяжелые пароконные повозки с высоченными бортами. И повсюду спали немцы. По лесным просекам ходили парные патрули, гортанно разговаривая. Единственной защитой разведчиков была непроглядная тьма, но и она могла предать в любое мгновение. Ночь вспыхивала на миг то спичкой, то карманным фонарем, и Травкин, а вслед за ним и остальные прижимались к земле, горевшей под их ногами Часа полтора пришлось провести среди груды сваленных деревьев, в колючей елочной хвое. Какой-то немец, шлепая босыми ногами и светя карманным фонарем, вплотную подошел к Травкину. Свет фонаря был направлен чуть ли не в самое лицо Травкина, но заспанный немец ничего не заметил. Он сел оправляться, кряхтя и вздыхая.
Мамочкин взялся за нож. Травкин не увидел, но почувствовал это молниеносное движение Мамочкина и перехватил его руку.
Немец ушел. Уходя, он осветил фонариком кусок леса, и Травкин, приподнявшись, успел выбрать путь среди деревьев, где немцев, кажется, было меньше.
Нужно поскорее выбраться из этого леса.
Километра полтора ползли они чуть ли не по спящим немцам. На ходу выработалась определенная тактика. Как только поблизости показывался патруль или просто бредущие по своим делам солдаты, разведчики ложились на землю. Их даже два раза освещали фонарем, но принимали, как Травкин и предполагал, за своих. Так они, ползая, притворяясь спящими немцами и снова ползая, выбрались из леса, и на опушке их застал этот туманный рассвет.
Тут случилось нечто страшное: они буквально напоролись на трех немцев — на трех не спавших немцев. Эти трое полулежали на грузовой автомашине и, кутаясь в одеяла, разговаривали между собой. Один из них, случайно бросив взгляд на ближнюю опушку, остолбенел: по тропе, совершенно бесшумно и не глядя по сторонам, какой-то странной печальной чередой шли семь необычно одетых людей — не людей, а семь теней в зеленых балахонах, со смертельно серьезными, до жути бледными, почти зелеными лицами.
Нездешний вид этих зеленых теней, а может быть, неясные очертания их фигур в утреннем тумане произвели на немца впечатление чего-то нереального, колдовского. Он сразу даже не подумал о русских, не связал это видение с мыслью о противнике.
— Grüne Gespenster[1]! — испуганно пробормотал он.
Если бы Травкин или кто-нибудь из его людей сделал хоть малейшее движение удивления или испуга, хоть малейшую попытку к нападению или защите, немцы, вероятно, подняли бы тревогу и эта туманная лесная опушка превратилась бы в арену короткой и кровавой схватки, где все преимущества были на стороне многочисленных врагов. Спасло Травкина его хладнокровие. Он моментально рассудил, что пока его видят только три немца, ему нет никакого расчета первому лезть в драку, а достигнув ближайшей рощи, где немцев, быть может, нет, он имеет шанс спастись даже в том случае, если эти трое поднимут запоздалую тревогу. Бежать он тоже не решился. Он скорее инстинктом, чем разумом, понял, что бежать нельзя, как нельзя бежать от собаки: она сразу поймет твой страх и подымет оглушительный лай.
Разведчики прошли ровным, неспешным шагом мимо оторопевших немцев.
Скрывшись в роще, Травкин лихорадочно осмотрелся, оглянулся и побежал. Они быстро перебежали рощу, очутились на лугу и, вспугнув болотных птиц, углубились в следующую рощу. Здесь они отдышались. Аниканов, пошныряв кругом, установил, что немцев не видно. Обессиленные, они уселись на траву, закурили, и Травкин впервые со вчерашнего вечера открыл рот:
— Чуть не попались, — и улыбнулся.
Ему трудно было говорить, язык не поворачивался — так отвык он разговаривать за эту ночь.
Они имели удовольствие видеть, как человек десять немцев цепочкой осторожно прочесали оставленную разведчиками рощу и, выйдя на западную ее опушку, довольно долго приглядывались к болотистому лугу, по которому только что пробежали разведчики. Затем немцы собрались в кучку, поговорили, посмеялись — очевидно, над теми тремя, которым померещились эти зеленые призраки, — покурили и ушли.
Новички — Семенов и Голубь — смотрели на немцев с пренебрежительным удивлением. Они впервые видели врага так близко. Травкин же, в свою очередь, пристально следил за новичками Они вели себя хорошо, делая то, что делали другие. Семенов, хоть и молодой разведчик, был опытным солдатом, имел два ранения и приобрел за войну обычное солдатское хладнокровие. Маленький юркий Голубь, семнадцатилетний паренек из Курска, сын повешенного немцами советского работника, находился непрерывно в приподнятом настроении Его юная душа странно совмещала в себе реальную ненависть к убийцам отца с романтическими историями о следопытах, индейцах и дерзких путешественниках и, попав в эти необычайные условия, вся трепетала от восторга.
Мамочкин не мог не оценить железной выдержки Травкина и вдруг, впервые за последние дни, преисполнился уверенности в успехе опасного предприятия. Он вспомнил свое вчерашнее прощание с Катей. Она просила его беречь лейтенанта, а он, самодовольно улыбаясь, успокоительно хлопал ее по спине и говорил:
— Не сомневайся, Катюша! С Мамочкиным твой лейтенант, как в Государственном банке.
«Пожалуй, наоборот: с этим лейтенантом Мамочкину не пропасть», сознался теперь перед своей совестью Мамочкин и смотрел на Травкина повеселевшими, снова слегка нахальными глазами. Он роздал, всем по куску колбасы, причем Травкину дал самый большой кусок и налил ему из фляги целую кружку самогону.
Окончательно убедившись, что в роще немцев нет, и выставив на всякий случай охрану, Травкин снял со спины Бражникова рацию и передал первую радиограмму.
Он долго не мог добиться ответа. В эфире раздавался треск и смутный гул, доносились обрывки разговоров и музыки, а по соседству со своей волной он уловил твердую и жесткую немецкую речь. Услышав ее, Травкин невольно вздрогнул: такое близкое соседство волн, казалось, может открыть немцу тайну Звезды.
Наконец он услышал неявственный отклик — голос, твердивший одно и то же слово:
— Звезда. Звезда. Звезда. Звезда…
И Травкин и далекий радист Земли — оба радостно вскрикнули.
— Передаю, — сказал Травкин. — Двадцать один Филин два. Двадцать один Филин два.
Далекая Земля, помолчав, сообщила, что она поняла. Хорошо поняла.
— Много, очень много двадцать один, — твердил Травкин, — только что прибывшая двадцать один.
Земля и это поняла и повторила, как эхо: «Много, очень много двадцать один».
Все повеселели. Пройти такой передний край, а затем начиненные немцами леса и потом связаться по радио и передать своим об этих немцах — нет, так стоит жить!
Травкин еще и еще раз всматривался в лица товарищей. Это были уже не подчиненные, а товарищи, от каждого из них зависела жизнь всех остальных, и он, командир, ощущал их уже не чужими, отличными от него людьми, а частями своего собственного тела. Если на Земле он мог предоставить им право жить своей отдельной жизнью, иметь свои слабости, то здесь, на этой одинокой Звезде, они и он составляли одно целое.
Травкин был доволен собой — собой, увеличенным в семь раз.
Посоветовавшись с Аникановым, он решил тут же двинуться дальше, к тому предуказанному планом населенному пункту, где скрещиваются железная и шоссейная дороги. Правда, двигаться днем опасно, но можно было держаться болот и лесов, подальше от проезжих дорог и деревень. Обычно немцы таких мест избегают.
Однако, очутившись на западной опушке рощи, разведчики сразу же увидели немецкий отряд, идущий по болотистому проселку. На немцах были не темно-зеленые, а черные мундиры. Грозно поблескивало пенсне шагавшего впереди офицера.
— Эсэсовцы, — прошептал Аниканов.
За эсэсовским отрядом проследовал обоз из двадцати огромных повозок, доверху нагруженных кладью.
Углубившись в ближайший лес, разведчики заметили свежие следы гусениц и, осторожно двигаясь по следам, подошли к лесной поляне, по краям которой, замаскированные, стояли гусеничные бронетранспортеры, двенадцать штук. Свежая пыль на гусеницах показывала, что они прибыли недавно. Это заметно было и по поведению немцев, которые шумно бегали по лесу, пилили деревья, рубили ветки на топливо, раскидывали палатки — одним словом, делали все то, что люди делают на новом месте.
Разведчики отползли от этой опасной поляны и обошли ее далеко справа, но тут снова набрели на немецкий лагерь, полный грузовых автомашин со снарядами.
В лесу на молодой траве валялись пустые сигаретные коробки, консервные банки, грязные обрывки напечатанных готическим шрифтом газет, порожние бутылки — следы чужой, ненавистной жизни. Лес был полон указок, причем чаще всего на них были написаны цифра «5» и буква «W». Повсюду был запах немца, фрица, ганса, германца, фашиста — запах постылый и презираемый. Следовало дожидаться темноты: днем двигаться было невозможно. Кругом — полно немцев, горланящих, спящих, идущих и едущих, полно сосредотачивающихся немецких войск.
Травкин, да и все разведчики понимали, что немцы что-то готовят, укрывая свежие войска во мраке огромных здешних лесов. Они, может быть, впервые поняли всю важность своей задачи и всю меру своей ответственности.
Передремав в небольшом яру остаток дня, разведчики к ночи двинулись дальше.
Вскоре они вышли в красивую озерную местность. Здесь простирались озера, большие и маленькие, прохладные, окруженные березовым лесом, оглашаемые кваканьем лягушек.
В ложбине, поросшей густым орешником, невдалеке от озера, Травкин сделал привал. На противоположном берегу стоял большой двухэтажный каменный дом Из дома доносилась немецкая речь. Правее проходил неширокий проселок, а на горизонте, между телеграфными столбами, — шлях.
Близ этого шляха Травкин установил дежурство. Машины шли здесь почти непрерывным потоком, стоило понаблюдать за ними. Иногда движение на час прекращалось, чтобы затем возобновиться с прежней интенсивностью. Автомашины были полны немцев и каких-то упрятанных под брезент таинственных грузов. Два раза на мощных тягачах проследовали орудия, общей численностью двадцать четыре ствола.
Травкин беспрерывно наблюдал за этим потоком. Остальные разведчики дежурили по очереди: одни спали, другие вместе с Травкиным вели счет проходящей мимо них немецкой силе.
— Товарищ лейтенант, — вдруг вынырнул из мрака Мамочкин, — там на проселке немецкая подвода и всего два немца. А в подводе жратва. Разрешите, мы их без выстрела кончим.
Травкин осторожно пошел за ним и действительно увидел на проселочной дороге медленно двигающуюся повозку. Два немца курили и лениво переговаривались. В подводе похрюкивала свинья. Да, заманчиво бы по уложить этих фрицев. Они сами так и лезли в руки. Не без сожаления махнул Травкин рукой:
— Пускай едут.
Мамочкин даже слегка обиделся. Ввиду столь удачно складывавшихся обстоятельств он был настроен очень воинственно и хотел показать разведчикам, а особенно Аниканову, свою прыть. «И зачем мы ходим да смотрим, когда вокруг так и шныряют „языки“?»
Медленно наступал рассвет, и движение по шляху прекратилось.
— Движутся только ночью, — заметил Аниканов, — хоронятся от нашей авиации. Готовят что-то, сволочи.
Травкин снова повел своих людей в густой орешник, и разведчики, ежась на утреннем холоде, задремали. Вдруг со стороны дома на озере раздался протяжный не то стон, не то крик.
Сам не зная почему, Травкин вдруг вспомнил о Марченко. Крик раздался снова, потом все утихло.
— Пойду посмотрю, что там такое, — предложил Бражников.
— Не надо, — сказал Травкин: — светает.
Действительно, уже светало. По озеру пошли красноватые блики. Пожевав сухарей с колбасой, которую Мамочкин извлек из своих бездонных карманов, разведчики снова впали в дремоту.
Травкину не спалось. Он пополз ближе к озеру и застыл в кустах почти на самом берегу. Дом на озере просыпался. По двору сновали люди.
Вскоре из ворот вышло трое. Один из них, самый высокий, приложил руку к козырьку фуражки и стал медленно удаляться от дома. Поднявшись на пригорок, он повернулся к оставшимся у калитки, махнул им рукой и быстро пошел по проселочной дороге. В этот момент Травкин заметил ранец на спине немца и белую повязку на его левой руке.
Мысль о том, что этого немца следует захватить, пришла Травкину сразу. Это была даже не мысль, а импульс воли, который появляется у любого разведчика при одном лишь взгляде на всякого немца. А затем Травкин неожиданно понял, какая связь между забинтованной рукой этого немца и ночными воплями, испугавшими разведчиков. Дом на озере служил немцам госпиталем. Длинный немец, шагающий по проселку, выписан из госпиталя и направляется в свою часть. Этого немца искать никто не будет.
Аниканов и Мамочкин не спали. Подойдя к ним и указывая рукой на мелькавшую среди редких деревьев долговязую фигуру, Травкин сказал:
— Этого фрица нужно взять.
Оба были удивлены. Лейтенант, обычно такой осторожный, приказывает взять немца среди бела дня! Тогда Травкин, показывая на дом, пояснил:
— Там госпиталь.
Они заметили мелькнувшую на солнце белую повязку на руке немца и тогда всё поняли.
Разбудили спящих разведчиков и пошли в лес наперерез немцу. Он шагал, насвистывая песенку и, видимо, наслаждаясь весенним утром. Все оказалось чрезвычайно просто. Маленький Голубь, берущий «языка» впервые, был даже разочарован. Он сам не успел и пальцем коснуться фрица: того скрутили, заткнули ему рот пилоткой и потащили, прежде чем страшно взволнованный Голубь успел опомниться.
В поросшей орешником ложбине немец лежал острым, как будто чуть вытянутым носом кверху. Вынули пилотку из его рта. Немец застонал. Травкин спросил, твердо, по-русски, выговаривая слова:
— Zu welchem Truppenteil gehören Sie?[2]
— 131 Infanterie-Division, Pionier-Companie[3], — ответил немец.
Это была известная разведчикам пехотная дивизия, стоящая на переднем крае.
Травкин присмотрелся к пленнику. То был молодой человек лет двадцати пяти, белесый, с водянистыми голубоватыми глазами, типичными для немецких лиц.
Пристально глядя в эти водянистые глаза, Травкин задал следующий вопрос:
— Haben Sie hier SS-leute gesehen?[4]
— О, ja, — ответил немец, как будто даже обрадованный своей осведомленностью и уже смелей глядя на окружающих его русских, — eine ganze Menge, überall…[5]
— Was sind das für Truppenteile?[6] — спросил Травкин.
— Die Panzerdivision «Wiking». Eine sehr berühmte, starke Division. Auserwählte Himmlers Truppenteile[7].
— А… — произнес Травкин.
Разведчики поняли, что лейтенанту удалось узнать что-то весьма важное. Хотя состава дивизии «Викинг» и цели ее сосредоточения немец не знал, Травкин оценил все значение добытых им данных. Он почти с симпатией смотрел теперь на этого долговязого немца и просматривал его бумаги. А немец, глядя на молодого человека, русского, с чуть печальными глазами, вдруг почувствовал надежду. Неужели этот славный юноша прикажет его убить!
Травкин оторвал глаза от солдатской книжки немца и вспомнил, что немца надо кончать. Пленный, как бы поняв его мысль, вдруг задрожал и сказал, вкладывая в свои слова большую силу:
— Herr Kommunist, Kamrad, ich bin Arbeiter. Schauen Sie meine Hände an. Glauben Sie mir, ich schwöre: bin kein Nazi. Bin selbst Arbeiterund Arbeitersohn[8].
Аниканов примерно понял сказанное немцем. Он знал слово «арбайтер».
— Вот он показывает свои мозолистые руки и говорит: я, дескать, рабочий, — задумчиво сказал Аниканов. — Значит, знает, что у нас уважают рабочего человека, знает, с кем воюет, и воюет же все-таки…
Травкин с младенческих лет был воспитан в любви и уважении к рабочим людям, но этого наборщика из Лейпцига надо было убить.
Немец почувствовал и эту жалость и эту непреклонность в глазах Травкина. То был неглупый немец: будучи наборщиком, он прочитал немало умных книг и понимал, что за люди стоят перед ним. И он зарыдал, увидев смерть в образе этого юного красавца лешего с большими жалостливыми и непреклонными глазами.
Глава девятая
Что творилось у них в душе? Вряд ли они сами могли бы ответить на этот вопрос. Все постороннее, все прошлое исчезло из памяти, а если и появлялось в ней временами, то в виде бесформенных обрывков. Они жили задачей и думали только о ней.
Впереди двигался Аниканов с Голубем, метрах в сорока позади — Травкин и Семенов с радиостанцией, слева, почти по обочине проходящей параллельно движению разведчиков шоссейной дороги, — Мамочкин и Быков, а справа, охраняя группу со стороны леса, — Бражников. Это был равнобедренный треугольник, в котором Травкин являлся центром основания, а Аниканов — вершиной. Иногда, почуяв присутствие немцев, треугольник смыкался и двигался медленней, люди останавливались и прислушивались к ночным шорохам. Аниканов издавал птичий крик, и все они замирали.
По шоссе слева проходили машины и гусеничные тягачи. Слышались немецкие песни, немецкая ругань, слова немецкой команды. Иногда проходила пехота, и разговоры солдат слышны были так близко, что казалось — стоит протянуть руку, и ты поймаешь немца, уткнешься в немецкое лицо, обожжешься об огонек немецкой сигареты.
Травкин твердо решил больше «языков» не брать. Он чувствовал, что забрался в самый центр расположения вражеских частей. Одно неосторожное движение, полу-задушенный вскрик — и нагрянет вся эта эсэсовская орава. Он знал, что здесь сосредотачивается танковая дивизия «Викинг». Однако он не знал ее состава и намерений. Состав можно приблизительно установить, если вести учет частям, танкам и артиллерии, но намерения командования могут быть известны только хорошо осведомленному немцу. Такого немца необходимо будет достать после разведки железнодорожной станции.
Однако этот осторожный план Травкина был неожиданно нарушен. Травкин вдруг услышал слева шум, затем из темноты появился Мамочкин и вполголоса сообщил:
— Тут немец один лежит возле дороги. Пьяный, как сапожник…
При одном взгляде на «пьяного» немца Травкин понял, в чем дело. Немец неосторожно углубился в чащу, был оглушен, сбит с ног и обезоружен Мамочкиным.
Мамочкин сконфуженно оправдывался:
— Он так и пер на меня. Что мне было делать?
Долго рассуждать не приходилось. Они схватили пленного на руки и нырнули в лес. Уже слышны были странные для русского уха крики немцев, зовущих пропавшего товарища:
— У-ух!.. У-ух!..
— Виллибальд! Виллибальд!
— Герр Беннеке!..
Пленного уложили на траву возле озерца. Мамочкин побрызгал на него водой и даже не пожалел влить ему в рот немножко самогону из фляги. Мамочкин сиял и суетился вокруг «своего» немца, расхваливая его на все лады:
— Ну, это настоящий эсэсовец, этот все знает… Глядите, товарищ лейтенант, — офицер, ей-богу офицер!
Юра Голубь, с любопытством оглядывая немца, досадливо морщил маленький нос и сокрушенно вздыхал:
— Все берут «языка», а мне все не попадается!
— Ничего, Голубок, — тревожно прислушиваясь к замирающим вдали крикам, говорил Аниканов. — Этого добра здесь много. Успеешь.
На Травкина с ужасом смотрели глаза эсэсовского гауптшарфюрера[9]. Дрожа и заикаясь, эсэсовец сказал, что он служит в девятом мотополку «Вестланд» пятой танковой дивизии СС «Викинг», то-есть сообщил то, что было написано в солдатской книжке, вынутой из его кармана Мамочкиным. Он рассказал далее, что полк «Вестланд» состоит из трех батальонов, по четыре роты в каждом, в «ротах тяжелого оружия» имеются шести- и десятиствольные минометы. Танков в полку нет, а есть ли в других полках, он не знает. Дивизия прибыла из Югославии. Штаб стоит в деревне недалеко отсюда, но название деревни он не помнит, потому что не в состоянии запоминать русские и польские названия. Он помнит только «Москау» и «Варшау», заявил он со странным вызовом.
Получив удар по лицу от своего «покровителя» Мамочкина, он сразу же потерял за минуту до этого обретенное хладнокровие и по-звериному завыл. Вообще он боялся Мамочкина пуще смерти: как только тот наклонялся к нему, немец начинал мелко дрожать и умоляюще глядел на Травкина. Когда гауптшарфюрера сбросили в озеро, Травкин связался с Землей. Слышимость на этот раз была прекрасная, и Травкин передал все установленное им.
По голосам с Земли Травкин понял, что там его сообщение принято как нечто неожиданное и очень важное. В заключение с ним заговорил женский голос, и Травкин узнал Катю. Она пожелала ему успеха и скорого возвращения.
— Мы горячо обнимаем вас, — закончила она дрожащим от волнения и гордости за его успех голосом и, как будто сказав нечто имеющее прямое отношение к служебным делам, спросила: — Поняли вы меня? Как вы меня поняли?
— Я понял вас, — ответил он.
К рассвету разведчики очутились возле полустанка, в семи километрах от нужной им станции. Полустанок этот — одноэтажная кирпичная будка, окрашенная в желтый цвет — был обнесен двойным валом из толстых сосновых бревен. Такое же укрепление с двух сторон ограждало и деревянный железнодорожный мостик невдалеке от полустанка. Это немцы охраняли свои коммуникации от набегов партизан.
На дороге к полустанку стояла длинная шеренга автомашин, хвостом достигающая леса, из которого в этот ранний час выползли разведчики. В глубокой тишине слышались звонки телефонного аппарата в помещении станции и грубый немецкий голос. Приятно было после двухдневных скитаний по лесам увидеть уходящий в туманную даль рельсовый путь, семафор, черное колено железнодорожной стрелки.
Аниканов, остановив разведчиков условным птичьим криком, подполз к заднему грузовику и заглянул в шоферскую кабину. Она была пуста. Пустыми оказались и второй и третий грузовики. Они почти доверху были завалены порожними мешками из-под муки.
Вернувшись к своим, Аниканов сообщил об этом Травкину.
— Грузиться пришли, — сказал Аниканов, — ждут поезда.
Решил дождаться поезда и Травкин, но поезд все не показывался. Через некоторое время из станционной будки высыпали заспанные шоферы и стали расходиться по машинам, лениво галдя.
Из обрывков разговоров, хорошо слышных в тишине утра, Травкин уловил, что машины будут грузиться не здесь, а на станции и сейчас тронутся в путь. Подумав мгновение, он решил послать на станцию только двух разведчиков, остальные же будут дожидаться здесь. Немцев на станции полным-полно, и незачем рисковать всеми людьми.
Он выделил для этой цели Аниканова и Быкова, а после многократных просьб Юры Голубя назначил его третьим.
— На попутных поедем, что ли? — спросил Аниканов деловито.
Они с Быковым и Голубем поползли к задней машине и быстро влезли в нее. Заботливо укрыв Быкова и Голубя мешками, Аниканов и сам зарылся в мешки, оставив отверстие для глаз и взяв автомат наизготовку. Вскоре к грузовику неторопливо подошел немец-шофер. Он сел в машину и, дождавшись, пока тронутся передние, включил зажигание и нажал на стартер. Мотор затарахтел.
Колонна двигалась по лесной дороге. Машины подскакивали на выбоинах. Так они ехали минут пятнадцать. Вдруг шофер затормозил.
Аниканов услышал немецкий говор и увидел фигуры двух уцепившихся за борта, а затем прыгнувших в кузов немцев. На счастье разведчиков, немцы, видимо, были не склонны пачкать черные эсэсовские мундиры в мучной пыли и так и остались сидеть на заднем борту, держась подальше от мешков. Все же это было неприятное соседство. Машину подкидывало, и под мешками то и дело обозначались очертания человеческих тел. Аниканов уже начал беспокоиться: непрошенные попутчики, возможно, собрались ехать до самой станции, а это грозило серьезными осложнениями.
Но вот раздался страшный шум, грузовик остановился, вокруг него поднялась суета, и немцы, сидевшие на борту, быстро спрыгнули на землю.
Тотчас же Аниканов услышал ровное гудение моторов. Он тоже инстинктивно пригнул голову, но вдруг, улыбнувшись, понял: это же наши!
И он весело, как будто советская бомба не в силах причинить вред своим, сказал выглянувшим из-под мешков товарищам:
— Ребята, наши летят!
Самолетов было шесть. Они делали низкие круги над лесом, угрожающе рокоча.
Аниканов осмотрелся. Немцы все попрятались в лесной чаше. Явственно доносились тревожные гудки паровозов: станция была близко.
— За мной! — скомандовал Аниканов, и они спрыгнули.
Юркнув между машинами, разведчики очутились в кювете и, вынырнув оттуда, быстрым шагом стали углубляться в лес. Но в то мгновение, что они находились в кювете, их заметил лежавший там немец. Испугавшись, он замер, но затем поднял голову и отчаянным голосом закричал:
— Fallschirmjäger![10]
Поднялась беспорядочная стрельба. Разведчики ответили несколькими автоматными очередями.
Перескочив широкую прогалину, Аниканов увидел посеревшее лицо Голубя. Голубок падал на землю, сморщив маленький нос.
— Того немца можно было схватить… — сказал он, лежа на широкой спине Аниканова.
Это были первые после ранения и последние в его короткой жизни слова. Разрывная пуля попала ему в грудь ниже сердца. Бедное сердце еще билось, но все слабей и слабей. Позже он очнулся еше раз и увидел над собой сосредоточенное лицо лейтенанта и большие глаза Мамочкина, из которых лились не переставая слезы…
В лесу начиналась гроза Дубы, покрытые молодой листвой, гудели под порывами ветра, и тысячи ручьев забегали под ногами, подобные стайкам мышей.
Неподвижно сидя перед умирающим Голубем, Травкин ждал возвращения Аниканова, вторично ушедшего — на этот раз с Мамочкиным — к станции. Нет. Травкин после этого печального случая не хотел делить группу на две части, но Голубя, еше живого, нельзя было здесь оставить одного, а дело надо делать.
Он попытался связаться с Землей, но безуспешно. Может быть, мешали электрические разряды Эфир истошно кричал в трубку, время от времени сухо потрескивая Под ногами струились ручейки, на плечи падали тяжелые капли. Ливень смыл с окостеневшего лица мальчика следы пыли и тревог, и оно светилось в темноте.
Аниканов и Мамочкин подползли совсем близко к станционным постройкам. При свете часто вспыхивающих молний они увидели два груженых состава. На платформах одного из них чернели мощные громады танков.
Паровозы пыхтели, испуская клубы пара и осыпая искрами рельсовый путь. Возле пакгаузов, огороженных колючей проволокой, сновали люди, разговаривая на осточертевшем немецком языке. Потом раздались крики часовых, отгонявших от полотна железной дороги группы крестьянок с мешками за спиной. Доносились возгласы и причитания этих крестьянок:
— Ось бисовы души! Никуды не пускають…
Аниканов был недоволен собой. И зачем он полез в этот проклятый грузовик? Может быть, не лезь он туда, Голубь был бы жив. Он, сибиряк, привычный к тайге, чего он полез в ту машину?..
Немцы разгружают танки. Видно, готовят большое наступление. А где — неизвестно. Если бы захватить еще одного, можно было бы узнать задачу эсэсовской дивизии.
«Ну, вот они, немцы, ходят, — думал Аниканов. — А кто из них знает задачу своей дивизии? Возьмешь какого-нибудь замухрышку и опять ничего не выведаешь толком».
Внимание Аниканова привлекли два тощих немца в широких черных блестящих плащах. При свете молний он видел их то вместе, то по отдельности, — они громко, отрывистыми голосами распоряжались здесь. Эти офицеры, видимо, сошли с той легковой машины, что остановилась возле задней стены ближайшего пакгауза.
Ежась под потоками дождя, Аниканов подумал про Голубя: жив ли он еще? Лежит, бедняга, под дождем. Хорошо бы раздобыть для него вот такой плащ, как на этих фрицах.
— Возьмем офицера? — спросил Аниканов Мамочкина.
Тот сказал:
— А лейтенант? Он не говорил, чтобы «языка» брать.
Аниканов внимательно поглядел в лицо товарища.
— Мы это мигом обтяпаем, — ласково сказал он, — а потом домой сразу.
Мамочкин вздрогнул. Они были вдвоем против сотен деловито снующих немцев. И среди этих сотен захватить — вдвоем — офицера?.. Его затрясло. А Аниканов все так же внимательно смотрел на него, повторяя:
— Да мы это мигом…
Мамочкин отчаянно махнул рукой и вдруг, набрав в легкие воздуха, приподнялся. В восторге от себя самого, подняв лицо под хлещущие струи дождя, он начал твердить скороговоркой, как в лихорадке:
— Давай, Ваня… Давай! Ладно, Ваня. Сделаем. Неужели не сделаем?
Они поползли к машине, пролезли под проволокой и затаились. Дождь беспрерывно лил по полированному кузову машины.
— Один из этих фрицев генерал, по-моему, — взвинчивая себя, шептал Мамочкин.
— Ясно, генерал, — успокаивающе бормотал Аниканов.
Прошло не меньше часа, прежде чем послышались шаги и один из офицеров сказал:
— Wir fahren sofort[11].
Он упал, получив от Аниканова удар ножом в грудь. А второй, оглушенный и прижатый лицом к бурно вздымающейся груди Мамочкина, потерял сознание. Немцы вокруг все так же сновали от пакгаузов к составам и обратно и ежились под потоками дождя.
Глава десятая
Пятая танковая дивизия СС «Викинг» была одной из отборнейших дивизий эсэсовского отборного войска.
Под командованием группенфюрера (генерал-лейтенанта войск СС) Герберта Гилле дивизия, в составе 9-го мотополка «Вестланд», 10-го мотополка «Германия», 5-го танкового полка, 5-го дивизиона самоходной артиллерии и 5-го полевого артиллерийского полка, во всем блеске своей первокласснейшей техники, тайно сосредоточилась в этих огромных лесах, с тем чтобы неожиданным ударом деблокировать окруженный русскими город Ковель, расчленить русских на изолированные группы и, уничтожая их, отбросить на рубеж двух знаменитых рек — Стоход и Стырь.
Получив сильное пополнение в людях и шестьдесят танков нового типа «тигр», о котором господин рейхсминистр Шпеер отозвался, как о «короле танков», дивизия насчитывала пятнадцать тысяч человек. Полками командовали неоднократно отмеченный фюрером штандартенфюрер Мюлленкамп, бывший личный адъютант Гитлера штандартенфюрер Гаргайс и другие гиммлеровские волки, высоко стоящие на лестнице национал-социалистской и военной иерархии, — удачливые и безжалостные интриганы.
Вслед за дивизией «Викинг» готовилась к прибытию из Франции на этот участок фронта отборная, хотя и не столь блестящая 342-я гренадерская дивизия под командованием генерал-лейтенанта Никкеля. Ей предстояло развить успех эсэсовцев.
Вся эта операция проводилась в глубокой тайне.
— Русские слишком близко прорвались к генерал-губернаторству, — сказал группенфюреру Гилле его покровитель фон-дем-Бах, командир корпуса СС, приняв его в своем особняке на острове Пфауен-Инзель, близ Берлина. — Последствия, партайгеноссе Гилле, вам понятны. Это будет означать активизацию всех антигерманских сил в Европе и, пожалуй, может заставить действовать англичан и американцев… Фюрер придает вашей операции первостепенное значение. Главная квартира заинтересована в глубокой тайне данной перегруппировки. Соблюдайте все меры предосторожности.
Теперь, сосредоточив свою дивизию в сумрачных лесах западней города Ковель, Гилле ожидал дальнейших распоряжений, полный уверенности в успехе порученной ему операции.
Конечно, он знал, что его дивизия совсем уже не та, какой она была в 1940 или даже в 1943 году Пришлось отказаться от принципа расовой чистоты. Как это ни прискорбно, но в дивизии служили и голландцы, и венгры, и даже поляки и хорваты. Правда, эти иностранцы были проверенными сторонниками нового порядка, но все же людьми чужой крови, равнодушными к интересам империи.
Кроме того, пришлось отказаться от принципа строгого физического отбора. Солдаты дивизии, воины Черного корпуса, были уже не те чуть не двухметровые великаны, которые отбирались по всей Германии. Теперь попадались такие замухрышки, что смотреть тошно.
Группенфюрер с ужасом заметил во время смотра мотополка «Германия» нескольких одноглазых, хромых и даже одного горбуна. А маленьких, щуплых солдат — больше половины полка. Да, это уже не те разъяренные кровью и легкой наживой гитлеровские ландскнехты, которые прошли с огнем и мечом Голландию, Францию и дорвались до Кавказского хребта.
Герберт Гилле с удовольствием вспоминал те времена, кажущиеся теперь уже такими далекими. Больше всего понравился ему Кавказ — эта прекрасная южная местность была куда красивее и величественнее Швейцарии. Господин группенфюрер одно время даже мечтал о спокойном месте губернатора или штатгальтера этих плодородных горных областей и нащупывал почву для такого выгодного назначения через своих покровителей в личном штабе фюрера. К сожалению, в силу известных всему миру обстоятельств мечты эти пришлось оставить.
Странно, но беспокойство завладело им в этот весенний день с самого утра. Прежде всего появилась авиация противника. Нет, она не бомбила, но она вела разведку. Русские самолеты просматривали леса, много раз летали вдоль железной дороги, подолгу кружась над главной станцией выгрузки. Правда, войска были хорошо замаскированы, но беспокойство вызывал сам факт усиленной разведки русскими этих мест.
Беспокойство стало еще более ощутимым, когда сделалось известным, что ночью в районе озер был похищен с дороги во время марша гауптшарфюрер Беннеке, уроженец Мекленбурга, ветеран и один из храбрейших воинов мотополка «Вестланд». После долгих поисков труп его обнаружили в маленьком озере, в восьми километрах от местопребывания штаба дивизии. Господин гауптшарфюрер был заколот ножом в сердце, а голова его повреждена тяжелым предметом.
Не приходится удивляться, что последовавший за этой находкой налет советских бомбардировщиков на деревню, где разместился штаб, был поставлен группенфюрером в связь с убийством Беннеке. Он срочно перевел свой штаб в лес и велел окружить его тремя рядами колючей проволоки.
К вечеру, в то время, когда штабс-ардт Линдеманн докладывал группенфюреру результаты вскрытия трупа гауптшарфюрера, из мотополка «Вестланд» доложили, что недалеко от имевшего место прискорбного случая с гауптшарфюрером Виллибальдом-Эрнстом Беннеке солдаты, прочесывавшие лес, нашли в густом орешнике, под кучей веток, тело, оказавшееся трупом ефрейтора из 131-й пехотной дивизии, Карла Гилле (однофамильца командира дивизии «Викинг», что неприятно поразило господина группенфюрера).
Несколько позднее позвонил по телефону лично командир мотополка «Германия» штандартенфюрер Мюлленкамп, доложивший, что в имевшей место перестрелке его солдат с неизвестными таинственными, одетыми в зеленое людьми ранено два рядовых— Гесснер и Мейсснер, причем первый, видимо, смертельно. В качестве курьеза штандартенфюрер сообщил, что солдаты в один голос говорят о том, что незнакомцы были обсыпаны… снегом.
Группенфюрер приказал тщательно расследовать эти случаи и решительно заняться поисками неизвестных, для чего выделить из каждого батальона роту, а также пустить в ход весь разведывательный отряд дивизии. Среди солдат, как узнал с неудовольствием группенфюрер, поползли панические слухи о неких «зеленых призраках» (grüne Gespenster) или «зеленых дьяволах» (grüne Teufel), появившихся в здешних местах.
Группенфюрер Гилле не верил в призраков. Он втолковал вызванному им начальнику разведки и контрразведки капитану Вернеру, что на войне призраков не бывает, а бывают враги, и предложил Вернеру лично возглавить операции по поимке «призраков».
Ночью на самой станции, где сгружался в то время танковый полк, часа через два после посещения станции самим группенфюрером был убит штурмбанфюрер[12] Дилле (эта созвучность с его собственной фамилией снова покоробила господина Гилле) и похищен оберштурмфюрер[13] Артур Вендель, один из руководителей квартирмейстерского отдела дивизии. Бедный господин Дилле убит ударом ножа, причем удар нанесен с такой огромной силой, что пропорол тело штурмбанфюрера насквозь. Это случилось почти на виду у большого количества находившихся на станции офицеров и солдат.
Группенфюрер приказал посадить начальника караула и часовых на пятнадцать суток в карцер, а капитана Вернера вызвал к себе и отчитал за недостаточное рвение по розыску злоумышленников.
Крушение поезда с боеприпасами, происшедшее скорее всего из-за ветхости железнодорожного полотна, отравление трех солдат полка «Германия» недоброкачественной пищей, исчезновение двух солдат того же полка, дезертировавших из армии, — все эти случаи молва тоже отнесла за счет деятельности «зеленых призраков», и трудно уже было отличить правду от вымысла, досужую выдумку — от реальных фактов.
Встревоженный возможными последствиями, группенфюрер приказал информировать штаб корпуса и командующего центральной группой армий генерал-фельдмаршала Буша в том смысле, что русские заслали в тыл германских войск соединение («Einheit») разведчиков-диверсантов, которым из-за халатного несения службы 131-й пехотной дивизии удалось проникнуть в центр расположения дивизии «Викинг» и, вполне вероятно, выведать кое-что о целях и задачах перегруппировки.
Подумав, господин группенфюрер написал также частное письмо обергруппенфюреру фон-дем-Баху в Берлин, дабы позабавить своего покровителя и одновременно обеспечить себе поддержку на случай провала операции. В берлинском резерве околачивалось немало генералов, которые охотно заняли бы место господина Гилле.
В конце следующего дня, когда группенфюрер лег отдыхать после обеда, его разбудил сильный телефонный звонок.
Капитан Вернер сообщал о только что разыгравшемся бое взвода солдат с «зелеными призраками». Взвод этот под командой унтерштурмфюрера[14] Альтенберга, прочесывая, согласно приказу командира дивизии, окружающую местность, набрел на одинокий сарай на опушке леса. Несколько человек вошли в сарай, но там никого не оказалось. Однако благодаря бдительности унтерштурмфюрера «зеленые призраки» были обнаружены на чердаке сарая. Да, они находились там. К сожалению, им удалось убежать, забросав взвод Альтенберга ручными гранатами и уничтожив самого унтерштурмфюрера и семерых солдат. Но, во-первых, все находящиеся в том районе части подняты по тревоге, и началась настоящая травля «зеленых призраков», которая, надо надеяться, окончится их поимкой или уничтожением; во-вторых, один из этих бандитов попал в руки солдат. Нет, не живой, а убитый, к сожалению.
Гилле, подумав, приказал подать машину и в сопровождении конвоирующего танка отправился к месту происшествия.
На опушке леса, возле догорающего сарая, группен-фюрера встретили капитан Вернер и эсэсовцы из разведывательного отряда.
Не ответив на приветствия, Гилле молча подошел к убитому врагу. Это был молодой русский, не старше двадцати трех лет, с прямыми льняными волосами и большими, широко открытыми мертвыми глазами, спокойно глядящими на господина группенфюрера. Под зеленой одеждой («боевая летняя форма советских разведчиков», определил группенфюрер) была надета выцветшая красноармейская гимнастерка с погонами советского младшего сержанта.
Неподалеку, положенные рядом, как в строю, со сложенными крест-накрест руками, лежали восемь эсэсовцев Поморщившись, господин группенфюрер подумал, что пятеро из этих восьми — низкорослые, щуплые… И это солдаты Черного корпуса СС!..
Травкин не знал, что он причинил столько хлопот такому множеству высокопоставленных лиц германской армии. Правда, шагая треугольником в обратный путь, разведчики иногда видели шныряющие группы эсэсовцев и слышали их перекличку, но не относили это на свой счет, предполагая, что эсэсовцы занимаются тактическими ученьями.
К вечеру четвертого дня пребывания в немецком тылу разведчики набрели на одинокий сарай. Травкин решил дать людям часок отдохнуть, а кстати связаться по радио с Землей. В виде предосторожности и для лучшего наблюдения за окрестностями они забрались по прогнившей лесенке, едва не обломившейся под тяжестью Аниканова, на чердак сарая.
Приладив рацию и даже успев обменяться с Землей позывными, Травкин услышал восклицание Бражникова, стоявшего на-часах возле выломанного в крыше сарая отверстия. Подойдя к нему, Травкин увидел идущих к сараю развернутым строем человек двадцать эсэсовских солдат.
Травкин разбудил только что заснувших тяжелым сном людей, но прыгать вниз и бежать в лес, пожалуй, было уж слишком поздно. Эсэсовцы приближались Четверо вошли в сарай, поковыряли в навозе и вышли, но тут же вернулись, и один из них стал взбираться по гнилой лестнице, негромко ворча и ругаясь.
Травкин, сжимая в каждой руке по пистолету, перевел дыхание. На чердаке было совсем светло от многочисленных отверстий и щелей в крыше. Он посмотрел на своих людей внимательней, чем когда-либо прежде. Они были страшны. Обросшие, худые, с ввалившимися глазами, стояли они, готовые к смертному бою. Гнилая лестница поскрипывала, немец тихо ругался.
Раздался страшный грохот. Это Аниканов швырнул в отверстие крыши противотанковую гранату на стоявших кружком возле сарая эсэсовцев. Одновременно Бражников, раскроив автоматом показавшуюся в отверстии чердака голову эсэсовца, прыгнул вниз, а вслед за ним прыгнули остальные, вздымая пыль и щебень.
С мимолетным одобрением Травкин подумал о гениальном, с точки зрения разведчика, замысле Аниканова, разметавшего гранатой врагов, стоявших снаружи, и тем открывшего путь к отступлению. С тремя эсэсовцами, находившимися в сарае, справиться было легко: напуганные взрывом, они вообще в темноте не разобрали, в чем дело.
Через минуту разведчики, сопровождаемые пулями и воплями немцев и взрывами запоздалых немецких гранат, бежали по густому ельнику. Травкин вначале не заметил отсутствия Бражникова, как не заметил и того, что Аниканов и Семенов ранены. О Бражникове ему, задыхаясь в быстром беге, сообщил Аниканов. Он видел, как Бражников упал, выбегая из сарая.
Погоня не затихала. Казалось, гонятся со всех сторон. Выстрелы и крики громким эхом отдавались по всему лесу. Затем раздался лай собак. Затем рычание мотоциклов где-то справа. Аниканов, раненный в спину, задыхался. Семенов начинал хромать все сильнее и сильнее.
Лес, промытый ливнями, сладко благоухал. Напоенные влагой листья и травы наконец сбросили с себя отдающую зимой апрельскую прохладу. Так наступала настоящая весна. Мягкий ветер, как бы тоже очищенный прошедшими ливнями, колыхал всю эту по-весеннему шуршащую массу зелени.
Шум погони приутих. Раненым сделали наскоро перевязки. Мамочкин вынул из-за пазухи свою последнюю флягу и поболтал ею во все стороны. Самогону оставалась самая малость. Он отдал флягу. Аниканову.
Тут же выяснилось, что радиостанция, висевшая на спине у Быкова, расплющена десятком пуль. Она спасла Быкову жизнь, но для работы уже не годилась. Быков добил свою спасительницу прикладом автомата и обломки раскидал по кустам.
Они медленно шли, шатаясь, как пьяные.
Шедший позади с Травкиным Мамочкин внезапно сказал:
— Прошу у вас прощения, товарищ лейтенант.
Покаянно бия себя в грудь, а может быть, и плача — в темноте не разобрать, — он хрипло, вполголоса заговорил:
— Из-за меня, все из-за меня… Недаром рыбаки у нас приметам верят. Почти всегда бывает правильно. Я тех двух лошадей не довел в деревню, а внаем сдал, за продукты…
Травкин молчал.
— Простите, товарищ лейтенант. Если приду здоровым…
— Придешь здоровым, пойдешь в штрафную роту, — сказал Травкин.
— И пойду! С удовольствием пойду! И я знал, что вы так скажете! Знал, что все равно вы так скажете! — восторженно вскричал Мамочкин. И он сжал руку Травкина в почти истерическом припадке непонятной благодарности и самозабвенной любви.
Звуки погони раздались совсем рядом. Они притаились.
С грохотом пронеслись мимо два броневика. Потом стало тихо, и люди пошли дальше. Впереди темнела массивная фигура Аниканова. Раздвигая могучими плечами ветки деревьев, он медленно шел вперед, огромным усилием воли отгоняя от себя туман полузабытья, одолевавший его.
И, может быть, только он, во всеоружии своего жизненного опыта, догадывался, что наступившая тишина обманчива. Правда, он не знал, что весь разведывательный отряд эсэсовской дивизии «Викинг», передовые роты подходящей ускоренным маршем 342-й гренадерской дивизии и тыловые части 131-й пехотной дивизии подняты на ноги в погоне за ними; он не знал, что телефоны неустанно звонят, что рации непрерывно разговаривают жестким шифрованным языком, но он чувствовал, что вокруг них все уже и уже стягивается петля огромной облавы.
Они шли, обессиленные, и не знали, дойдут ли. Но не это уже было важно. Важно было то, что сосредоточившаяся в этих лесах, чтобы нанести удар исподтишка по советским войскам, отборная дивизия с грозным именем «Викинг» обречена на гибель. И машины, и танки, и бронетранспортеры, и тот эсэсовец с грозно поблескивающим пенсне, и те немцы на подводе с живой свиньей, и все эти немцы вообще, жрущие, горланящие, загадившие окружающие леса, все эти Гилле, Мюлленкампы, Гаргайсы, все эти карьеристы и каратели, вешатели и убийцы идут по лесным дорогам прямо к своей гибели, и смерть опускает уже на все эти пятнадцать тысяч голов свою карающую руку.
Глава одиннадцатая
Рация, работающая со Звездой, стояла в уединенном блиндаже. Младший лейтенант Мещерский проводил здесь круглые сутки. Он почти не спал, изредка склоняя голову в тяжкой полудремоте, но и тогда ему мерещилось характерное хлюпанье эфира в ушах, и он вдруг просыпался, моргая длинными ресницами, и ошалело спрашивал дежурного радиста:
— Говорит, кажется?
Радистов работало трое. Но Катя, кончив свою смену, не уходила. Она сидела рядом с Мещерским на узких нарах, склонив светлую голову на смуглые руки, и ждала. Иногда она вдруг начинала сварливо спорить с дежурным, что тот якобы потерял волну Звезды, выхватывала из его рук трубку, и под низким потолком блиндажа раздавался ее тихий, умоляющий голос:
— Звезда. Звезда. Звезда. Звезда…
По соседству с волной Звезды кто-то без умолку бубнил по-немецки, а чуть подальше говорила, пела и играла на скрипке Москва — вечно бодрствующая, могучая и неуязвимая.
По нескольку раз в день в блиндаж заходил командир дивизии. От овина к блиндажу и обратно сновали разведчики Ежедневно приходил, иногда в сопровождении старшины Меджидова, лейтенант Бугорков. Он простаивал часок у стены, молчаливо наблюдал работу дежурного радиста и снова уходил.
Часто, отобрав трубку у дежурного, сидел в блиндаже майор Лихачев. Иногда на несколько минут заходил и капитан Барашкин. Он становился возле маленького оконца, барабанил пальцами по стеклу и напевал что-то из своей знаменитой тетрадки. Как-то наведались пришедшие с переднего края неразлучные капитаны Муштаков и Гуревич.
Спокойный, незаметный, чуть рябой, с выпуклым лбом над внимательными глазами, в блиндаж вошел следователь прокуратуры капитан Еськин. Он спросил Мещерского:
— Вы командир разведчиков?
— Временно замещаю его.
Следователь сказал, что он должен допросить нескольких лиц по делу о незаконно взятых у крестьян лошадях. Он кратко изложил суть дела и спросил, понимает ли Мещерский все значение этого проступка, роняющего авторитет Красной Армии в глазах местного населения.
— Так вот, — продолжал следователь, не дожидаясь ответа Мещерского, — мне нужно допросить разведчиков, присутствовавших при совершении этих незаконных действий, в особенности лейтенанта Травкина и сержанта Мамочкина.
— Их сейчас здесь нет, — уже нетерпеливо возразил Мещерский.
— Никого из них?
— Никого.
Следователь с минуту подумал.
— А я должен с ними поговорить, — сказал он. — Скоро ли они вернутся?
— Не знаю, — ответил Мещерский медленно.
Катя, внезапно встав с места, сказала:
— А вы, товарищ капитан, лучше сходите туда, где они находятся, и допросите их.
— А где они находятся? — спросил следователь.
— В тылу у немцев.
Следователь внимательно посмотрел на Катю спокойными, лишенными юмора глазами.
Она со злой, торжествующей улыбкой выдержала этот взгляд.
Мещерский тоже улыбнулся, но вдруг подумал, что прикажи этому человеку начальство итти к немцам в тыл для допроса — и он пойдет.
На третьи сутки Звезда заговорила — вторично после того, как Травкин перешел фронт. Не прибегая к шифру, Травкин настойчиво повторял:
— Здесь сосредотачивается пятая танковая дивизия СС «Викинг». Пленный девятого мотополка «Вестланд» показал, что здесь сосредотачивается пятая танковая дивизия СС «Викинг».
Затем он сообщил состав полка «Вестланд», местопребывание штаба дивизии и подчеркнул, что части разгружаются и движутся только по ночам. И снова повторял, повторял бесчисленное количество раз:
— Здесь сосредотачивается, тайно сосредотачивается пятая танковая дивизия СС «Викинг»…
Сообщение Травкина наделало шуму в дивизии. А когда полковник Сербиченко лично позвонил командарму и полковнику Семеркину об этих данных, заволновались и в штабе армии.
Подполковник Галиев позабыл, что такое сон, отвечая на телефонные звонки из корпуса, армии и соседних дивизий. Он сразу же перестал зябнуть и куда-то закинул свою бурку, стал криклив, требователен, весел. «Галиев почуял немца», говорили про него.
На тысячи карт между тем синим карандашом наносился район сосредоточения дивизии «Викинг». Из штаба армии данные эти внеочередным донесением пошли в штаб фронта, а оттуда — в ставку Верховного Главнокомандования, в Москву.
Если в дивизии и корпусе данные Травкина были восприняты как событие особой важности, то для штаба армии они имели уже хотя и важное, но вовсе не решающее значение. Командарм приказал прибывающее пополнение дать именно тем дивизиям, которые могут оказаться под ударом эсэсовцев. Он также перебросил свой резерв на угрожаемый участок.
Штаб фронта взял эти сведения на заметку как показательное явление, доказывающее лишний раз интерес немцев к Ковельскому узлу. И штаб фронта предложил авиации разведывать и бомбить указанные районы и придал Н-ской армии несколько танковых и артиллерийских частей.
Верховное Главнокомандование, для которого мошкой были и дивизия «Викинг» и в конечном счете весь этот большой лесистый район, сразу поняло, что за этим кроется нечто более серьезное: немцы попытаются контрударом отвратить прорыв наших войск на Польшу. Было отдано распоряжение усилить левый фланг фронта и перебросить именно туда танковую армию, конный корпус и несколько артдивизий резерва Главного Командования. Так ширились круги вокруг Травкина, расходясь волнами по земле — до самого Берлина и до самой Москвы.
Ближайшим следствием этих событий для дивизии было: прибытие танкового полка, полка гвардейских минометов и большого пополнения людьми и техникой. Получили пополнение и разведчики.
Мещерский начал проводить усиленные занятия и полдня пропадал на переднем крае, ведя наблюдение за противником. Бугорков со своими саперами минировал местность перед передним краем. Майор Лихачев целыми днями суетился, получая новые рации, телефонные аппараты и провод. Полковник Сербиченко уехал на свой наблюдательный пункт и оттуда руководил действиями частей. Он как-то помолодел и посуровел, как всегда перед большими боями. Серьезно и подолгу изучал он только что прибывшие новые карты, обнимающие почти всю Польшу, вплоть до Вислы. В этих далеких краях он побывал однажды в 1920 году в составе Первой Конной армии Буденного.
В уединенном блиндаже оставалась только Катя.
Что означал ответ Травкина на ее заключительные слова по радио? Сказал ли он «я вас понял» вообще, как принято подтверждать по радио услышанное, или он вкладывал в свои слова определенный тайный смысл? Эта мысль больше всех других волновала ее. Ей казалось, что, окруженный смертельными опасностями, он стал мягче и доступнее простым человеческим чувствам и что его последние слова по радио — результат этой перемены. Она улыбалась своим мыслям. Выпросив у военфельдшера Улыбышевой зеркальце, она смотрелась в него, стараясь придать своему лицу выражение торжественной серьезности, как подобает (это слово она даже произносила вслух) невесте героя. А потом, отбросив прочь зеркальце, принималась снова твердить в ревущий эфир нежно, весело или печально, смотря по настроению:
— Звезда. Звезда. Звезда. Звезда…
Через два дня после разговора Звезда вдруг снова отозвалась:
— Земля. Земля. Я — Звезда. Слышишь ли ты меня? Я — Звезда.
— Звезда, Звезда! — громко закричала Катя. — Я — Земля. Я слушаю тебя, слушаю, слушаю тебя!
Она протянула руку и настежь отворила дверь блиндажа, чтобы кого-нибудь позвать, поделиться своей радостью. Но кругом никого не было. Она схватила карандаш и приготовилась записывать. Однако Звезда на полуслове замолчала и уже больше не говорила. Всю ночь Катя не смыкала глаз, но Звезда молчала.
Молчала Звезда и назавтра и на послезавтра. Изредка в блиндаж заходили то Мещерский, то Бугорков, то майор Лихачев, то капитан Яркевич — новый начальник разведки, заменивший снятого Барашкина. Но Звезда молчала.
Катя в полудремоте целый день прижимала к уху трубку рации. Ей мерещились какие-то странные сны, видения: Травкин с очень бледным лицом, в зеленом маскхалате; Мамочкин, двоящийся, с застывшей улыбкой на лице; ее брат Лёня, тоже почему-то в зеленом маскхалате. Она опоминалась, дрожа от ужаса, что могла пропустить мимо ушей вызовы Травкина, и принималась снова говорить в трубку:
— Звезда. Звезда. Звезда…
До нее издали доносились артиллерийские залпы, гул начинающегося сражения. В эти напряженные дни майор Лихачев очень нуждался в радистах, но снять Катю с дежурства у рации не решался. Так она сидела, почти забытая, в уединенном блиндаже.
Как-то поздно вечером в блиндаж зашел Бугорков. Он принес письмо Травкину от матери, полученное только что с почты. Мать писала о том, что она нашла красную общую тетрадь по физике, его любимому предмету. Она сохранит эту тетрадь. Когда он будет поступать в вуз, тетрадь ему очень пригодится. Действительно, это образцовая тетрадь. Собственно говоря, ее можно было бы издать как учебник — с такой точностью и чувством меры записано все по разделам электричества и теплоты. У него явная склонность к научной работе, что ей очень приятно. Кстати, помнит ли он о том остроумном водяном двигателе, который он придумал двенадцатилетним мальчиком? Она нашла эти чертежи и много смеялась с тетей Клавой над ними.
Прочитав письмо, Бугорков склонился над рацией, заплакал и сказал:
— Скорей бы войне конец… Нет, не устал. Я не говорю, что я устал. Но просто пора, чтобы людей перестали убивать.
И с ужасом Катя вдруг подумала, что, может быть, бесполезно ее сидение здесь, у аппарата, и ее бесконечные вызовы Звезды. Звезда закатилась и погасла.
Но как она может уйти отсюда? А что, если он заговорит? А что, если он прячется где-нибудь в глубине лесов? И, полная надежды и железного упорства, она ждала. Никто уже не ждал, а она ждала. И никто не смел снять рацию с приема, пока не началось наступление.
Заключение
Летом 1944 года войска, сметая сопротивление слабеющей немецкой армии, проходили по польской земле.
Генерал-майор Сербиченко догнал на своей машине группу разведчиков. В зеленых маскхалатах, друг за дружкой, шли они по обочине дороги, ловкие, настороженные, готовые в любую минуту исчезнуть, раствориться в безмолвии полей и лесов, в неровностях почвы, в мерцающих тенях сумерек.
В идущем впереди разведчике генерал узнал лейтенанта Мещерского. Остановив машину и просветлев, как всегда при виде разведчиков, генерал спросил:
— Ну что, орлы? Варшава на горизонте. А видали — до Берлина пятьсот километров осталось! Чепуха. Скоро там будем.
Он внимательно разглядывал разведчиков, потом, охваченный каким-то печальным воспоминанием, хотел еще что-то сказать, но осекся и махнул рукой:
— Ну, счастливо, разведчики!
Машина тронулась, а разведчики, постояв немного, снова двинулись в путь.
<1947>― ДВОЕ В СТЕПИ ―
Повесть
Глава первая
Армия отступала по необозримым степям, и вчерашние крестьяне равнодушно топтали спелую пшеницу, которая валялась повсюду запыленная, избитая, изломанная.
Странную картину являл наблюдателю вид отступающих армий. Люди уходили с мрачными лицами, но как-то по-хозяйски медленно. В их глазах была тоска, но она не проявляла себя ни в горестных возгласах, ни в возбужденных жестах. Попросту говоря, знали, что придется возвращаться, а чем дальше уходишь на восток, тем длиннее будет путь обратно.
Если бы какой-нибудь прозорливый немецкий разведчик мог наблюдать происходящее и разобраться в природе этой угрюмой и упрямой уверенности, его затрясло бы от страха.
Лишь машины, отставшие от своих частей, да беженцы с детьми, подгоняющие хворостинами коров, придавали тяжеловесному ходу отступления черты сумятицы и растерянности. В станицах у плетней стояли бабы и старики. Некоторые из них плакали и бросали солдатам слова горькой укоризны. Солдаты же в ответ только отводили глаза, тая про себя думы о будущем и добела накаляясь той молчаливой яростью, которая сильнее самых сильных слов.
Лейтенант Огарков, верхом на белом коне, обогнал идущих по дороге солдат и вскоре миновал небольшую возвышенность, на склоне которой полуголые люди, обливаясь потом, рыли новый оборонительный рубеж.
Лейтенант был горд собой и своим белым конем. Несмотря на все, что творилось вокруг, и на гнетущую тревогу, витающую над степью, он не мог, по молодости лет, не любоваться тем, что именно он, Огарков, а не кто-нибудь другой, мчится по степи на белом коне, оставляя за собой струйку серой пыли. Лейтенант старался придать своему румяному безусому лицу важный и серьезный вид, чтобы люди, идущие по дороге, не считали его испуганным и жалким беглецом, стремящимся оказаться подальше от немца, а понимали, что он едет с важным и ответственным поручением.
К вечеру он достиг своей цели — деревни, где расположился штаб армии. Ему указали избу оперативного отдела, и он, спешившись, вошел в темные сени, ощупью нашел щеколду, открыл дверь и очутился перед двумя майорами, из которых один говорил с кем-то по радио, а другой, с красной нарукавной повязкой, кричал в телефонную трубку.
Лейтенант доложил о своем приезде.
Майор с нарукавной повязкой, положив трубку, просмотрел документы Огаркова и сказал:
— Офицеры связи помещаются в соседней избе. Можете там отдыхать, но будьте наготове.
Огарков отправился в соседнюю избу. Она была битком набита офицерами связи и ординарцами. Все они сидели вокруг стола и ели кашу из пшенного концентрата, запивая молоком. Нового товарища офицеры встретили радушно, объяснили, куда утром сдать продаттестат, и пригласили ужинать. Один из офицеров, высокий тонколицый лейтенант с усиками, рассказывал об уничтожении группы немецких мотоциклистов, прорвавшихся было к самому штабу дивизии.
— Если на них поднажать, — с жаром говорил он, — они так бегут, что одно удовольствие.
— Танков у них много, — сказал кто-то из полутьмы.
— Только этим и берут, — отозвался еще кто-то.
Огарков, молодой и робкий, не участвовал в разговоре. Он посидел на лавке, пересчитал офицеров и ординарцев и пришел к горестному выводу, что только он один приехал без ординарца. Вспомнив о своем коне, привязанном к тыну возле избы, он тихонько встал, подошел к печи, у которой возилась старуха хозяйка, и спросил, есть ли у нее стойло, куда лошадь поставить. Старуха вытерла маленькие темные руки о передник и вышла с Огарковым по двор. Спускались сумерки, двор был полон запахов прелого сена и навоза. В томной конюшне позвякивали уздечками кони. Привязав там своего белого, Огарков подумал, что следует его напоить, и сказал об этом старухе. Та сочувственно спросила:
— Городской?
— Да, — ответил Огарков, недоумевая, почему хозяйка сразу поняла это. Он, наоборот, думал, что выглядит как заправский казак.
Она пошла в избу и вскоре вернулась с ведром. Пока он раскручивал ворот, опуская ведро в глубь пахнущего сыростью колодца, старуха тихо говорила:
— Неужто и сюда он дойдет? Господи, что же это такое? Неужто он такой сильный, что даже русские не в силах с ним сладить?
— Почему не в силах? — сказал Огарков. — Мы сладим.
Ответ его, видимо, не показался ей слишком убедительным, и она повторила, обращаясь не к нему, а к бескрайней степи с тем же трудным вопросом:
— Неужто дойдет?…
— Сам я недавно из военного училища, всего месяц, — сказал он, словно желая этим фактом объяснить причины отступления, и, помолчав, добавил: — Все равно им конец, при всех обстоятельствах. Даже если они пустят отравляющие вещества, газы…
— А зачем ему газы? — тоскливо сказала старуха, сжав на груди руки и глядя вдаль на зажигающиеся в небе звезды. — Ему газы ни к чему, раз он вас и так гонит…
Ведро, расплескивая воду, медленно подымалось наверх.
Разговор со старухой угнетающе подействовал на лейтенанта, однако он скоро о нем забыл. В избе офицеры связи все еще толковали о немцах, честили их по-всякому и предсказывали им решительное поражение на Дону. Наиболее оптимистически был настроен тот лейтенант с усиками, которого звали Синяевым.
— Они скоро выдохнутся, — говорил он убежденно, — силенок не хватит… Зарвались слишком. Огарков лег на койку.
— Вы разуйтесь, лейтенант, — сказал ему Синяев. — Так разве отдохнешь?
— Дежурный майор приказал быть наготове, — смущенно ответил Огарков.
Офицеры сдержанно рассмеялись — наивность новичка позабавила их.
— Ничего, — дружески произнес кто-то, — если слушать дежурных майоров, всю войну в сапогах проспишь.
Огарков послушно разулся и погрузился в свои мысли.
Приезд в штаб армии являлся для него крупным жизненным переворотом. Еще вчера вечером он числился начхимом полка, и не подозревал, что его ожидает такая резкая перемена. Переменой этой он был доволен. Химическая служба больше не удовлетворяла его, хотя еще месяц назад он ехал из училища, непоколебимо уверенный в том, что химия едва ли не важнейшее дело в армии.
Он тогда был твердо убежден, что немцы в ближайшее время начнут химическую войну, и жаждал противопоставить им бдительную и умелую оборону. Он бредил противогазами, противоипритными костюмами, накидками, дегазацией оружия. Каждое отравляющее вещество он знал назубок — по запаху, внешнему виду и свойствам, каждый предмет табельного имущества казался ему дорогим и полным глубокого и неповторимого смысла. Он был полон решимости передать свои знания всем солдатам без исключения и немедленно.
Однако, прибыв в часть, стоявшую тогда в обороне, он столкнулся, к своему удивлению, с довольно равнодушным отношением людей к противохимической защите. Ему поручали разные задания: он проверял бдительность в траншеях переднего края, состояние стрелкового оружия, боевую подготовку рот второго эшелона. Своим делом он, в сущности, занимался мимоходом.
Полное понимание он встретил, пожалуй, только в маленькой химинструкторше Вале, своей помощнице. Эта рыженькая веснушчатая девушка в больших сапогах одна только и поддерживала его высокое мнение о своей миссии. Целые дни ходила она по батальонам и ротам, проверяя химическое имущество, тихо и беззлобно упрекая командиров в нерадении к противогазам и противоипритным пакетам и настойчиво выбрасывая из противогазных сумок бойцов краюхи хлеба.
Ходила она как будто неторопливо, потихоньку, но за день успевала обойти всех и вся, заглядывала во все блиндажи и щели, бочком пробиралась среди лошадей и походных кухонь, а к вечеру обязательно появлялась в штабной землянке и исправно докладывала Огаркову о замеченных ею непорядках.
— Не дай бог, конечно, — говорила она, — но хоть разик нужно было бы Гитлеру газы пустить, тогда бы наши поняли, что такое химия…
Однако Гитлер к газовой войне не прибегал, и Огарков чувствовал себя лишним в полку.
В штабной землянке вместе с лейтенантом жили помощник начальника штаба по разведке старший лейтенант Кузин и начальник артиллерии капитан Дубовой. Кузин частенько посмеивался над Огарковым и каждый раз встречал его неизменными словами:
— Привет лейтенанту Ломоносову — Лавуазье!
Огарков иногда обижался, но чаще всего прощал Кузину его насмешки: Кузин целые дни пропадал на переднем крае, раза два лазил за «языком». В насмешках Кузина и сквозило чувство превосходства человека, делающего живое, опасное дело, над человеком, которого держат, так сказать, про запас. Он сразу забывал об Огаркове и тут же начинал оживленно рассказывать капитану Дубовому о том, что за день было замечено на немецком переднем крае. Он тыкал пальцем в различные точки на карте, говоря:
— Это у них НП, честное слово! Это обязательно накрой! Или:
— Пойми, тут по меньшей мере два миномета у него. Дай им перцу, обязательно!
Молчаливый Дубовой наносил эти сведения на схему и уходил к своим пушкам.
Огаркова обижало, что его товарищи обращают на него так мало внимания. Ему хотелось доказать им, что и он не лыком шит и способен на настоящие дела.
Потом началось отступление.
Немцы нанесли удар не на участке полка, а где-то гораздо левее, и полку приказано было отойти, чтобы избежать окружения. Поэтому он снялся в полном порядке среди ночи и только через сутки начал отбивать атаки немецких подвижных частей. Основные силы немцев двигались далеко на юге, пробиваясь клином на восток и отмечая свое движение заревом пожаров. Иногда немецкий клин оказывался восточнее отходящих советских частей, и создавалась та неразбериха, тот так называемый «слоеный пирог», который в первый год войны сбивал с толку еще не искушенных штабных офицеров.
Военные действия полка и всей дивизии ограничивались арьергардными схватками с не очень сильно напиравшим противником. Наконец остановились на восточном берегу небольшой речки. К этому времени подоспели три «катюши», которые накрыли наступавших немцев, ошеломили их и снова ушли. Воспользовавшись замешательством в рядах противника, дивизия сумела окопаться, приняла бой, отразила несколько атак и закрепилась.
Вечером Огаркова вызвали в штаб полка.
Командир полка майор Габидуллин, ширококостый и немного брюзглый татарин с узкими, раскосыми и беспощадными глазами, сказал, словно извиняясь:
— Ты, Огарков, уедешь ненадолго. Не то чтобы ты был нам не нужен. Но некого послать, а приказано выслать человека. Кого же пошлешь, а? — Огарков молчал, и майор, не дождавшись от него ответа, продолжал: — Передай пока дела Вале, она девушка хорошая, заменит тебя недели на две. А потом ты вернешься. А?
Огарков не понимал, что означает это странное вопросительное «а» командира полка и нужно ли отвечать на него. Значило же оно то, что Габидуллин сомневался в правильности своего решения. Собственно, он не имел права отсылать начхима. Есть ли химическая война или нет ее, но начхим есть и, следовательно, должен быть. Однако некого было послать. При этих обстоятельствах данный выход из положения казался наилучшим.
Приказание комдива гласило: «Выслать командира и бойца на двух верховых лошадях в распоряжение штаба дивизии». Габидуллин выполнил только половину приказания. Он не мог послать двух человек и пару лошадей: ему было жалко. Он всегда был крайне скуп на людей и лошадей и всячески старался обходить такого рода приказания. В представлении Габидуллина все вышестоящие начальники только и делали, что зарились на людей и лошадей из его полка.
Коня он дал Огаркову хотя и рослого, белого, как сметана, но недавно раненного в бедро и поэтому припадающего на левую заднюю ногу. Огаркову, однако, он показался чудесным, необыкновенным, сказочным.
Наскоро попрощавшись с сослуживцами и пожав руку опечаленной Вале, Огарков вскочил на коня и вдруг почувствовал небывалое доселе блаженство. Он впервые ощутил себя по-настоящему военным, командиром, словно поднялся не просто на спину коня, а на полтора метра выше трезвой окопной жизни.
В штабе дивизии его принял в своем лиственном шалаше сам начальник штаба подполковник Сомов. Подполковник оглядел высокого стройного лейтенанта и одобрительно прищурился — лейтенант был опрятен, гладко выбрит и внушал доверие своим открытым и красивым лицом.
— Недавно из училища? — спросил подполковник.
— Один месяц, товарищ подполковник.
— Поедешь офицером связи от дивизии в штаб армии. Тебе ясны твои обязанности? Вот они: быть в курсе всех военных событий, держаться при оперативном отделе штаба армии, всегда знать, где и в каком положении дивизия, и привозить нам распоряжения и приказы. — Переходя на «вы», чтобы подчеркнуть серьезность новых обязанностей лейтенанта, подполковник Сомов закончил, вставая: — Вам поручается весьма важное дело. Можете следовать.
Лежа на лавке в избе офицеров связи, лейтенант Огарков засыпал с довольной улыбкой на губах. Мир казался ему приветливым и правильным, несмотря на то, что тихий голос старухи хозяйку все еще звенел в ушах, как упрек:
— Неужто и сюда он дойдет?…
Глава вторая
— Подъем! — услышал Огарков спросонья громкий повелительный окрик.
Он вскочил. В полутьме избы суетились люди, вскакивая с лавок, натягивая сапоги и надевая ремни. Дверь была открыта настежь. Резкий ветер выдул из углов и простенков домовитый запах и накопленное тепло. В избе стало холодно и неуютно. Старуха хозяйка, сидя на печке, безмолвно глядела вниз на возбужденных, куда-то спешащих людей.
Огарков обулся, надел шинель и вместе со всеми остальными вышел во двор. Ординарцы пошли в конюшню седлать лошадей, и Огарков с минуту стоял в нерешительности, не зная, куда раньше пойти: за офицерами или за ординарцами — седлать свою лошадь. Он пошел за офицерами.
Они гурьбой ввалились в избу оперативного отдела. У одного из столов, ярко освещенного большой лампой, над картой склонилось несколько человек, среди которых Огарков не без трепета увидел генерала. Генерал что-то вполголоса говорил. Огарков не слышал его слов. Наконец генерал поднялся со стула, осмотрел стоящих «смирно» офицеров связи и прошел мимо них в дверь, беглым и рассеянным движением приложив руку к козырьку фуражки. Лейтенант в шинели, сидевший за другим столом, поднялся одновременно с генералом и вышел вслед за ним.
Люди отошли от карты, и у стола остался только седой полковник в пенсне. В комнате с минуту длилась тишина. Потом полковник, сняв пенсне и глядя поверх людей большими близорукими глазами, заговорил:
— Товарищи офицеры связи, вы немедленно выедете в свои дивизии и развезете боевой приказ. Положение весьма серьезно, как вы сами, вероятно, знаете. Мы снова вынуждены отходить, да-с… — Последние слова он произнес глухо и скороговоркой, затем продолжал по-прежнему: — С некоторыми из дивизий потеряна связь… Дивизионные рации работают не все, неизвестно почему. Тем более важным является поручение, возлагаемое на вас.
Он стал выкликать офицеров связи по очереди и вручал каждому из них пакет, запечатанный сургучом. При этом он снова надел пенсне, и глаза его сразу оживились, приобрели остроту и проницательность.
— Передайте, чтобы они все время были на приеме. Рации должны работать непрерывно.
Эту фразу он произносил в качестве напутствия каждому офицеру в отдельности. С каждым таким напутствием он становился все злее, потому что отсутствие радиосвязи с некоторыми дивизиями бесило и мучило его, и последнему офицеру — то был Огарков — почти выкрикнул в лицо:
— Рация чтобы работала, черт их возьми! Воюют, как в турецкую войну!
— Есть, — пробормотал Огарков.
Он вышел из избы и направился к соседнему двору. Здесь уже стояли наготове кони, позвякивая уздечками и дожевывая выхваченный из кормушки последний клок сена.
Офицеры закуривали, вскакивали в седла. Огарков направился в конюшню и попытался здесь как можно быстрее заседлать своего коня, но в темноте и с непривычки у него ничего не получилось. По правде сказать, он волновался: ему хотелось выехать вместе с остальными, хоть на дорогу выехать вместе со всеми.
Во тьме показалось белое пятно и послышался голос старухи хозяйки:
— Не управишься, сынок? Да ты выведи конька во двор, там посветлее будет…
Огарков с признательностью сказал:
— Спасибо.
Он вывел коня. Еще не все офицеры уехали. Четыре лошади стояли у тына, низко наклонив головы друг к другу, словно тоже о чем-то советуясь, как начальники над картой.
Заседлав лошадь, Огарков вошел в избу. Здесь сидели двое из офицеров, изучая карту. Огарков вынул из полевой сумки свою, обрадовавшись дельному примеру: поистине невредно было по карте изучить путь следования.
Лейтенант Синяев поднял глаза на Огаркова и сказал:
— Наши дивизии по соседству. До хутора Павловского мы едем, значит, вместе.
Огарков еле скрыл свою радость. Слова Синяева и та ухватка, с которой лейтенант с усиками поглядывал то на карту, то на свой компас, преисполнили сердце Огаркова уверенностью.
Они вышли из избы, сели на лошадей и поехали по деревенской улице.
— Почему вы без ординарца? — спросил Синяев.
— Не знаю, не дали, — ответил Огарков.
— Глупо, — сказал Синяев. — Разве офицеру связи можно без ординарца? Стрясется с ним что-нибудь такое — некому даже помочь или по начальству сообщить.
Огарков виновато промолчал.
Выехав в поле, они пустили лошадей рысью. Минут пятнадцать ехали в молчании, потом Синяев придержал коня и сказал:
— Вы обязательно потребуйте себе ординарца.
— Да, я скажу.
На юге и западе небо алело дальними пожарами.
— Обстановочка… — сказал Синяев и свистнул. Второй, до сих пор молчавший, офицер сплюнул и злобно сказал:
— Когда уж мы им дадим по шее?
— Это Москва знает, — сказал Синяев.
Огарков спросил, кто этот генерал, которого он видел в оперативном отделе.
— Начальник штаба армии, — ответил Синяев, — генерал-майор Москалев. Дельный мужчина.
«Мужчина?» — подумал Огарков, удивляясь развязности синяевского тона и в то же время восхищаясь такой свободой.
— И полковник Воскресенский человечек не плохой, — продолжал Синяев, — только поговорить любит. Если напустится на кого, так точно играет пьесу, Шекспира какого-нибудь. Когда немцы прорвали оборону, он, говорят, плакал. Старик, конечно, ему уже лет сорок с гаком. А в общем, парень он хороший. У нас все тут хорошие люди, гонять понапрасну не любят, всегда выручат. Командарм — тот строгий, на днях был ранен в руку, так и ходит с завязанной рукой. Ему хуже, чем нам всем, — он за всех отвечает. С ним жена, тоже боевая женщина, она следователем работает, в армейской прокуратуре.
Болтовня Синяева, несложные армейские сплетни отвлекли Огаркова от тревожных мыслей. Он слушал эти истории, как любопытный провинциал — столичные новости.
Но лошади снова перешли на рысь. Синяев и другой офицер все время обгоняли Огаркова, и он скакал рядом с ординарцами. Вскоре пошел дождь, ветер бил по лицу дождевыми струями. Один из ординарцев сказал:
— Это ладно, что дождь. Кабы и днем был дождь! Хоть «юнкерсы» утихомирятся.
Но дождь скоро прошел, и на небе снова замерцали звезды, — звезды без конца и края.
На перекрестке отстал и исчез во мгле офицер с ординарцем. И Огарков вспомнил, что вскоре он и с Синяевым расстанется. Хорошо бы поехать с Синяевым в его дивизию, чтобы потом с Синяевым же заехать в свою. Так он всегда делывал в детстве с братом Борисом, когда их посылали по двум разным поручениям.
Зарева пожаров заметно приблизились. По дороге брели подводы, шли машины с погашенными фарами. У обочин, а иногда и на самой дороге зияли воронки. На душе становилось все тревожней. Где-то правее, не очень далеко, гремели выстрелы орудий.
Хутор Павловский лежал в буераке, у извилистой речушки, вьющейся среди кустарника и камыша. Здесь Синяев придержал коня, сказал: «Ну, всего», — и ускакал налево. Огаркову стало обидно, что Синяев так кратко с ним простился. Цокот копыт синяевской лошади вскоре потерялся вдали, и точно не в силах терпеть такую полную тишину, где-то уж совсем близко послышались раскатистые взрывы и вслед за ними треск пулеметов.
Постояв с минуту, Огарков тронул повод и двинулся вниз, к мосткам через речушку. Кругом лежали убитые лошади. На западном берегу сидели раненые солдаты, видимо присевшие отдохнуть. Огарков спросил, не из его ли они дивизии, но они оказались совсем из другой — и даже не дивизии, а бригады.
Огарков поехал дальше, всюду натыкаясь на группы идущих к востоку людей. Но и они были не из его дивизии, и это обеспокоило Огаркова. Он хлестнул коня, но конь, видимо, устал и упорно двигался шагом, заметно припадая на левую заднюю ногу.
Дорога вскоре потерялась в пшенице, затем повернула резко направо. Она завела Огаркова в лесок и тут внезапно оборвалась.
Он слез с коня, повел его на поводу, а сам побрел, низко пригибаясь к земле в поисках дороги. Потом понял, что не туда повернул, и пустился обратно, но лесок неожиданно оказался довольно обширным. Огарков шел, натыкаясь на пни, и наконец вышел к каким-то стогам, которые стояли, загадочные и темные, бесконечными прямыми рядами, теряющимися в ночи.
Он долго блуждал среди этих стогов и, уже потеряв всякую надежду выбраться куда-нибудь, услышал шум автомашин. Он вскочил на коня и через несколько минут очутился на шоссе.
Восемь машин промчались мимо не удостаивая ответом его окрик. Тогда он двинулся на запад, потом дорога повернула на юг. Он знал, что на юг ему не надо. Но дорога шла именно на юг, к северу же тянулись необозримые поля пшеницы. Он некоторое время двигался по дороге, потом повернул обратно. Выстрелов уже не было слышно, только раздавался тяжелый и равномерный гуд.
Огарков решил ехать на север во что бы то ни стало, хотя бы напрямик. Конь заметно ослабел и повесил голову. Раздвигая грудью колосья, он медленно плелся по бескрайним полям. А колосья но редели, — наоборот, они становились все гуще и гуще. Конь еле двигался среди этой темной массы хлеба, время от премени срывая мягкими губами спелый колос.
Огаркову казалось, что это никогда не кончится. Привставши в стременах, он видел вокруг те же необозримые поля. Прошло немало времени, прежде чем он услышал человеческие голоса. Шагах в тридцати правее оказалась дорога, а возле нее располагались огневые позиции артиллерийской батареи. Люди цепляли пушки к машинам и перекликались негромко, но возбужденно.
И артиллеристы понятия не имели о местонахождении дивизии. Они только что получили приказ сниматься и отходить на новый рубеж.
Лейтенант-артиллерист показал Огаркову на карте район немецкого прорыва. Это вполне могло быть на участке дивизии. Обескураженный долгими блужданиями по степи, Огарков совсем пал духом. Он поехал по дороге в северо-западном направлении и вскоре встретил целую кучу подвод.
— Какая дивизия! — крикнул в ответ на вопрос лейтенанта кто-то из темноты. — Нет уже там никакой дивизии! Все подались к Дону.
— Не знаем мы, где твоя дивизия, — сказал кто-то другой.
Подводы проехали, и Огарков застыл на месте совершенно разбитый. Окружающий мир стал представляться ему все более страшным. Дивизия, раньше казавшаяся огромным и сложным организмом, теперь песчинкой затерялась среди бесконечных нив и безымянных высоток.
Однако он продолжал упорно двигаться по дороге. Вскоре стрельба артиллерии и пулеметов разразилась с новой силой. Горели какие-то амбары. Послышался омерзительный свист, и одинокая мина взорвалась совсем близко. Тут же в ответ, захлебываясь, застрочили пулеметы, и трассирующие пули полетели по всем направлениям. И снова послышался прерывистый гуд. «Танки!» — подумал Огарков.
Поблизости упала вторая мина. Лейтенанта больно ударил по лицу твердый комок земли. И внезапно раздался спокойный и даже насмешливый голос недалеко от Огаркова.
— Ты чего стоишь, как памятник? Не видишь разве — сюда стреляют.
В окопах возле дороги сидели люди. Огарков подъехал к ним и дрожащим голосом спросил про свою дивизию.
Ему ответили:
— Там где-то… А точно где — кто знает. Такая там каша… Напирает немец.
Сплошной свист. Люди исчезли в окопах. Конь Огаркова подскочил и пустился галопом, забывши про усталость. Огарков еле удержался в седле. Мины рвались вокруг. Спрыгнув с коня, Огарков лег плашмя на землю. Он даже не заметил, как конь вырвался и умчался. Лейтенант остался один. Там, где, по всей видимости, находилась его дивизия, все гремело, пылало, тонуло в дыму. Огарков медленно пошел на выстрелы и вдруг услышал — уже позади себя — тот же равномерный и прерывистый гуд.
«Немцы прорвались», — подумал Огарков и нащупал на груди пакет.
Панический ужас объял Огаркова. Он побежал на восток, спотыкаясь, путаясь в траве, перелезая через канавы и траншеи, пока, обессиленный, не остался лежать в густом и горьком бурьяне. Небо по краям горело заревом. Красное зарево алело и на востоке, и Огарков решил, что и там немцы. А это занимался рассвет.
Вдруг Огарков услышал в темноте какие-то совсем уже непонятные звуки, которые заставили его задрожать. Что-то странное творилось совсем близко. Уловить природу этих звуков было невозможно. Треск, лепетание, звон, человеческий шепот, сопение, тяжелые шаги — Огарков чуть с ума не сошел от ужаса. Когда развиднелось, он увидел силуэт лошади, жующей траву. Она была оседлана и взнуздана. Повод тащился за ней по росистой траве.
— Трус проклятый! — сказал себе Огарков.
Он поднял голову и огляделся, но ничего не было видно: по степи стлался седой туман.
Лошадь ходила возле Огаркова, равнодушно жуя и прядая ушами. Время от времени она поглядывала на лейтенанта умными и ласковыми глазами. То была крупная лошадь гнедой масти с золотистым отливом. Оставшись без хозяина, она, может быть, обрадовалась человеку и ходила вокруг него, мирно поедая траву. Но когда Огарков подошел к ней, она отошла на несколько шагов, продолжая есть и только косясь на него умным глазом. Он снова пошел к ней, и снова она, уклоняясь, отошла на несколько шагов. Во всей ее повадке и в ласковом лукавстве большого глаза было что-то женское, гибкое, уклончивое. Ее вполне устраивало человеческое общество, но, по-видимому, нисколько не прельщала перспектива потерять свободу.
Все— таки Огаркову удалось ухватить ее за повод и вскочить в седло. Тут он заметил, что туман испарился, и, удивленный, увидел знакомую лощину, и речку, и домики на склоне лощины. Это был хутор Павловский, разоренный, покинутый.
Огарков стегнул лошадь, и она понеслась на восток, к штабу армии. Огарков тревожно озирался по сторонам, боясь неожиданно столкнуться с немцами, но тревога его оказалась напрасной; вскоре он догнал отходящие части, вереницу людей, угрюмо и молчаливо идущих на восток.
Глава третья
Штаб армии еще на рассвете ушел дальше на восток, и Огарков разыскал его только на следующий день в большой станице. Усталый и голодный, лейтенант расспросил, где находится изба оперативного отдела, и поплелся туда.
Офицеры из оперативного отдела буквально накинулись на него. Почему так долго не приезжал? Где находится дивизия? Что с ней? Почему ее рация упорно молчит? Какие там потери?
Огарков, растерянно мигая, ответил:
— Я не смог туда пробиться. Там немцы прорвались, и я чуть к ним не попал. А дивизия, наверно, отошла. Я к ней не мог пробиться.
Штабные ошеломленно молчали, потом куда-то побежали докладывать, а Огарков стоял посреди комнаты, не зная, что делать.
Вскоре пришел полковник Воскресенский, начальник оперативного отдела. Он вначале напустился на Огаркова, потом, надев на нос пенсне и заметив растерянный вид лейтенанта, замолчал, сел на стул и начал его допрашивать со спокойствием вконец замученного человека.
Огарков, хлопая ресницами и чуть не плача, рассказал, как было дело. Конечно, картина, нарисованная им, была весьма далека от истины, но не потому, что он хотел утаить истину, а потому, что не знал ее. Например, он не знал, что слышанный им ночью гул был гулом нашей отходящей на восток танковой части, а не танков противника; что слова, брошенные обозниками насчет того, что все ушли на Дон, были словами до смерти напуганных людей, не знающих обстановки; что немцы действительно прорвались, но значительно севернее дивизии.
Полковник сидел как оглушенный. Весь ужас положения заключался в том, что несколько часов назад ему доложили о гибели майора, посланного в ту же дивизию с тем же поручением.
Теперь, когда оказалось, что и офицер связи вернулся ни с чем, с потрясающей ясностью, повергшей в трепет Воскресенского и всех штабных, выявился тот факт, что приказ об отходе на новый рубеж не был вручен дивизии и дивизия дерется с превосходящими силами немцев на прежнем рубеже. За последние сутки немцы прорвались еще в двух направлениях, видимо обтекая сражающуюся дивизию, и, может быть, уже окружили ее.
В свете этих страшных предположений какое значение имела судьба какого-то струсившего лейтенанта? О нем попросту забыли, и только часа через четыре начальник штаба армии отдал приказ об отдаче под суд Военного Трибунала Огаркова, офицера связи от уже, может быть, не существующей дивизии.
Неожиданным защитником Огаркова оказался не кто иной, как полковник Воскресенский. Зная, однако, что генерал терпеть не может «слюней», он защищал лейтенанта несколько своеобразно, одновременно осыпая его проклятиями и презрительными эпитетами:
— Да он птенец, молокосос проклятый… Заблудился, болван… Безмозглая шляпа он, а не лейтенант… Послать его, дурачка, на передовую!
Перед глазами полковника стояло молодое растерянное лицо лейтенанта с хлопающими ресницами.
Может быть, генерал послушался бы своего заместителя, но тут в избу ввалился летчик Дорохов, только что прилетевший на своем У-2 с разведки: его посылали разыскать ту самую дивизию. Летчик был окровавлен и бледен. Судя по всему, дивизия сражалась на прежнем рубеже. По-видимому, немцы окружили ее. Сесть в расположении дивизии Дорохову не удалось: когда он начал снижаться, немцы стали его бешено обстреливать из пулеметов, пробили машину в семнадцати местах и ранили Дорохова в руку. Он еле долетел обратно.
— Под суд трибунала, — прохрипел генерал, подымаясь с места и ломая свои большие жесткие пальцы.
Только что заснувшего Огаркова разбудили, посадили в машину и повезли в соседнюю станицу, где располагались трибунал и прокуратура армии. Здесь у него отобрали пистолет и ввели в избу, где у маленького дощатого крестьянского стола сидела полная суровая женщина в гимнастерке с двумя «шпалами».
Это и была жена командующего армией, о которой Огаркову поведал Синяев. В ее глазах Огарков прочел нескрываемую враждебность, глубоко поразившую его.
Варвара Петровна, жена командующего, потеряла единственного сына полгода назад под Москвой. Сын ее тоже был лейтенантом, тоже светлым блондином. Он командовал десантным отрядом. Высадившись в тылу у немцев во время нашего зимнего наступления, этот отряд носился на лыжах по немецким тылам, рвал вражеские коммуникации в Подмосковье, истреблял небольшие группы немцев и дождался-таки подхода наших войск. Однако Сережа был к тому времени смертельно ранен и умер среди своих, что было бы утешением для него самого, если бы он очнулся от беспамятства, но не могло служить утешением для матери. А он так и не очнулся.
Глядя на высокого белокурого молодого лейтенанта, Варвара Петровна на секунду ощутила ноющую боль, которую тотчас подавила. Она стала задавать обычные вопросы, стараясь игнорировать юношеское обаяние лейтенанта и принимать во внимание только факты. Факты же были недвусмысленны: лейтенант не выполнил боевого приказа. Теперь следовало выяснить: по трусости или по неумению? Можно было склониться ко второму. Но факты были таковы: Сергей (его тоже звали Сергеем) Леонидович Огарков окончил училище, — правда, специальное, да и краткосрочное, но там изучали и топографию, и тактику, и политграмоту. У него недоставало опыта? Да. Но опыта не было и у… и у других молодых лейтенантов, образцово выполнявших любые задания.
Тут Варвара Петровна поймала себя на том, что она все время думает о своем сыне и сравнивает с ним этого Огаркова. «Так нельзя, — строго одернула она себя. — Другие лейтенанты тут ни при чем».
И она стала спрашивать с самого начала, вдумчиво прислушиваясь к ответам, пристально приглядываясь к малейшим изменениям в выражении лица лейтенанта.
На вопрос о том, признает ли он себя виновным, он ответил, что признает, и, не читая, подписал все, что требовалось.
Огаркова отвели в землянку на окраину станицы, а Варвара Петровна приступила к допросу свидетелей. Их было только двое: лейтенант Синяев и майор из оперативного отдела. Но где-то бился с врагом третий свидетель — дивизия, и этот свидетель незримо присутствовал в деревенской избе.
После того как свидетели ушли, Варвара Петровна долго сидела в одиночестве над протоколами. Да, лейтенант Огарков был виновен. Виновен, независимо от других лейтенантов.
На следующий день утром дело поступило в трибунал.
Представ перед трибуналом, Огарков сразу как-то успокоился. Здесь была тихая и будничная обстановка. Члены трибунала сидели на потемневших от времени табуретках за таким же темным дощатым столом, под фотографиями усачей-солдат времен первой мировой войны. Из открытого окна доносился плач детей и голос хозяйки, то и дело повторявшей:
— А вот я вас ремнем!..
Огарков посмотрел на лица членов трибунала. То были спокойные, словно издавна знакомые русские лица с добрыми глазами. И ему показалось, что эти люди тоже сейчас скажут: «А вот мы тебя ремнем…»
— Фамилия? — спросил председатель.
— Огарков.
— Имя и отчество?
— Сергей Леонидович.
— Возраст?
— Двадцать лет.
— Звание?
— Лейтенант.
— Должность?
— Офицер связи при штабе армии.
— Образование?
— Десятилетка и военно-химическое училище.
Отвечая на эти вопросы и зная, что ответы на них заранее хорошо известны председателю, Огарков даже чуть-чуть повеселел.
— Вы знали, какой приказ вы везете в свою дивизию? — нетерпеливо вмешался один из членов трибунала.
— Да.
— Я спрашиваю о содержании приказа. Знали вы его содержание?
Огарков, помолчав, ответил:
— Да, знал.
Председатель спросил неожиданно мягко и совсем по-граждански:
— А кто был ваш отец, Огарков?
Слово «был» вырвалось непроизвольно и заключало в себе нечто необычайно грозное для Огаркова. Огарков этого не уловил, однако, и сказал:
— Он инженер на заводе в Горьком.
Вскоре были вызваны свидетели. Лейтенант Синяев, не по-обычному хмурый и сдержанный, избегая глядеть на Огаркова, рассказал о том, как они ехали и где расстались. На вопрос о поведении Огаркова в пути следования он ответил:
— Дрейфил. Только я думал, что это от неопытности, молод еще…
— А вам-то сколько лет? — по удержался от вопроса председатель.
— Двадцать два года, — хмуро ответил Синяев, глядя в окно, и внезапно сказал: — И еще ординарца ему не дали. — Но, подумав мгновенно, он жестко добавил: — Все равно сдрейфил. Ведь рядом со штабом дивизии был, у хутора Павловского…
Майор из оперативного отдела кратко изложил обстановку, сложившуюся вчера на фронте, в связи с этим оттенил значение проступка, совершенного обвиняемым, и закончил словами:
— Мы потеряли эту дивизию.
После допроса свидетелей заседание было прервано. Обвиняемого отвели в землянку. Трибуналу принесли обед. Принесли обед и Огаркову, но есть ему но хотелось. Он сидел и думал о словах Синяева и майора из оперативного отдела, и эти слона странно смешивались у него в голове: мы потеряли эту дивизию, а ему ординарца не дали. И почему ему не дали ординарца, раз дивизия все равно потеряна?
Вот такие и разные другие мысли услужливо лезли со всех сторон, чтобы прикрыть, затуманить главную и самую страшную мысль.
Сидя в оцепенении на полу, он не сразу заметил другого человека, который лежал в самой глубине землянки и крепко спал. Только тогда, когда человек задвигался и приподнялся, Огарков обратил на него внимание.
Человек этот был в гражданской одежде. Оказалось, что он приговорен к расстрелу за дезертирство. Во время отступления он в какой-то деревне переоделся и ушел в сторону, но его задержали.
То был пожилой, волосатый, мрачный и грязный человек. Он курил толстые махорочные скрутки и без конца тупо повторял:
— А мне какое дело?…
— Почему вы так? — спросил Огарков.
— Не хочу воевать, — ответил приговоренный. — Я баптист, понимаешь? — И добавил: — Пусть немец приходит. Все одно.
— Как же так «все одно»? — ужаснулся Огарков. — Что вы говорите? Ведь они фашисты! Просто странно, что вы это говорите! Еще русский человек…
— А мне какое дело?… — сказал приговоренный.
«Сумасшедший он, что ли?» — подумал Огарков.
Вдруг глазки приговоренного по-звериному хитро засверкали, словно из глубин этого обезьяньего волосатого черепа с трудом и натугой вылущилась наконец одна человеческая мысль, и он спросил:
— А ты-то, советскай, за что сюды попал?
Огарков растерялся. Сила и убедительность этого вопроса потрясли его.
Приговоренным, не дождавшись ответа, хрипло рассмеялся, потом быстро подполз к Огаркову и зашептал:
— Всех нас перебьют, — коли не немцы, то энти…
Тут Огаркова вызвали в трибунал. Стоя перед столом, он слушал слова приговора будто из далекой дали, и только последняя, заключительная фраза на секунду вывела его из состояния почти полного небытия. Фраза эта гласила:
«Приговорить бывшего лейтенанта Красной Армии Огаркова Сергея Леонидовича к высшей мере наказания — расстрелу».
Перед тем как отвести осужденного обратно в землянку, один из конвоиров, коренастый и молчаливый казах, сорвал с его петлиц кубики — знаки лейтенантского звания — и закинул их далеко в картофельные кусты.
Баптиста в землянке уже не было. Огарков сел на свою шинель, и долго его мысли вертелись вокруг да около той, главной мысли, которая еще не то что не доходила, а словно билась о его сознание, как волна о стеклянную перегородку. Эта спасительная стеклянная перегородка выросла вокруг самого центра сознания в момент, когда были произнесены те слова. Сквозь нее было видно, но она спасала от непосредственного взрыва боли, который неминуемо произошел бы при соприкосновении мягкой младенческой ткани сознания с бурлящей, горькой и смертельно-едкой волной главной мысли.
Но сколько ни думай о чем угодно и, в сущности, ни о чем — все эти мысли завершаются здесь, в землянке, и все равно ставится во всю гигантскую, до неба, высоту вопрос: что ты делаешь тут?
Все стало ясно, когда вспомнилась мать. Мать не должна была проникнуть за перегородку, но как только она проникла, все сразу стало ясно. Перегородка обрушилась. Что будет с мамой, когда она узнает о своем сыне, — не о том, что он погиб, а о том, как он погиб, — вот что было важнее всего.
Он так зарыдал, что часовой, стоявший у входа в землянку, вздрогнул.
— Пустите меня! — крикнул Огарков вне себя. — Я должен им все сказать!
Он стал лихорадочно обдумывать, что такое ему нужно сказать своим судьям. Ведь он ничего им не сказал. Он ведь только бормотал что-то. Ведь нужно было ясно и понятно объяснить им, что он, Сережа Огарков, готов все отдать всем. И что он именно Сережа Огарков, а не кто-нибудь другой, посторонний. Они ведь не могут не понять, что это не то, что должно быть. Он потребует, чтобы его выслушали, не так просто, в какой-то избе, а по-настоящему.
Они не имеют права не выполнить его требование. Здесь Советский Союз, где каждый человек имеет право быть выслушанным.
Лицо Огаркова просветлело.
Пусть они наконец запросят его полк.
В конце концов он не офицер связи, а начхим полка. Пусть спросят у майора Габидуллина, у Кузина, у Дубового, у Вали.
Вспомнив свой полк, Огарков совсем ободрился. И мысль о том, что ни Вали, ни Кузина, ни Дубового, ни майора Габидуллина уже, может быть, нет в живых, подкралась к нему как-то незаметно и ошеломила его. Так о них, значит, именно о них и говорил майор из оперативного отдела, сказав: «Мы потеряли эту дивизию».
Только теперь эти, как казалось ему раньше, отвлеченные слова наполнились понятным и страшным содержанием. «Значит, это я убил вас, мои дорогие?» — шепотом спросил Огарков у медленно вставшей перед его глазами вереницы лиц и имен. Сильная, неудержимая дрожь стала бить его. Дрожь, впрочем, скоро унялась, сменившись мертвой оцепенелостью. Нет, он ничего не имел сказать трибуналу. Все, что произойдет, — должно произойти, потому что это справедливо.
Глава четвертая
Солдат Джурабаев — тот самый, что сорвал с петлиц Огаркова кубики, — стоял на часах возле землянки осужденного и приглядывался к окружающему миру не просто так, а с точки зрения часового. Большая курица с цыплятами, гуляющая неподалеку, его не касалась. Вороне, пронзительно орущей на верхушке тополя, не мешало бы и помолчать, находясь так близко к объекту охраны. Ветер, шуршащий в траве, несколько раз привлекал его внимание, но покуда это был только ветер и за шуршанием ничего не крылось.
Он прислушался к «объекту» — там было тихо. Осужденный не подавал признаков жизни.
Джурабаев был один из тех исполнительных, до щепетильности точных солдат, которые иногда кажутся туповатыми. Он попал в армейскую роту охраны недавно, после легкого ранения, и считал это неожиданным счастьем, потому что жизнь при штабе армии была куда более легкой и безопасной, нежели жизнь на передовой. Однако он помнил об оставшихся на переднем крае товарищах, которые были ничем не хуже его, — поэтому он не мог считать справедливым постигшее его счастье и старался компенсировать свою совесть беззаветной преданностью службе. Службе с большой буквы, выполняя устав до мельчайших тонкостей, не давая себе поблажек ни в чем.
Его неподкупность и молчаливая служебная исполнительность вошли у солдат в поговорку. Внешность его была под стать душе: он был приземист, сложен крепко и основательно, круглолиц и узкоглаз. Обладая силой буйвола, он был с товарищами кроток и обходителен той свободной и временами тонкой обходительностью, которая свойственна восточным людям и, может быть, берет свое начало в дровней цивилизации Китая.
Он вполне прилично знал русский язык и любил читать русские книги — все равно какие: стихи так стихи, брошюры так брошюры, а попадется старая газета — так и газету. Однако он не ладил с грамматикой и, разговаривая, почти все слова склонял невпопад. Зная эту свою слабость, он был молчалив из самолюбия.
Заходило солнце, и Джурабаев определил, что смена ему будет приблизительно через час. Действительно, вскоре послышались шаги, и Джурабаев крикнул:
— Кто идет?
То не была смена. Подошедшую к землянке девушку Джурабаев несколько раз видел в трибунале и понимал, что онa там служит. Но так как девушка шла одна, без разводящего, он не допустил ее близко.
— Товарищ часовой, — сказала она, — мне нужно вручить осужденному копию приговора. Я секретарь трибунала.
— Разводящий, — сказал Джурабаев.
— Да, — возразила секретарша, — но разводящий ведь при штабе в соседней станице…
— Разводящий, — повторил Джурабаев.
Секретарша стояла в нерешительности. Разводящий приезжает сюда на повозке для смены часовых не чаще одного раза в четыре часа, так как солдат в роте мало.
— Разве вы меня не знаете? — спросила она.
— Без разводящий нэльзя, — сказал Джурабаев, и она поняла, что спорить бесполезно.
Она уже собралась уходить, когда в небе раздался знакомый зловещий гул моторов. «Воздух!» — послышались крики. Земля затрепетала от разрывов. Удары следовали один за другим с адской быстротой, словно кто-то огромный быстро-быстро хлопал по земле гигантскими железными ладонями все ближе и ближе.
Девушка припала к земле, и так как единственным убежищем здесь могла служить землянка с осужденным, девушка поползла к ней, но ее остановил тихий и решительный возглас:
— Стой!
Она подняла глаза и, встретившись со взглядом часового, сочла за лучшее остаться на месте.
Самолеты, отбомбившись, вразброд улетали обратно на запад. Девушка поднялась, отряхнулась, негодующе посмотрела на невозмутимое лицо часового и пошла в деревню. На полдороге она встретила разводящего, который ехал к Джурабаеву на повозке. Секретарша уселась на повозку и поехала обратно к землянке, горько жалуясь на Джурабаева. Разводящий усмехнулся:
— Этот у нас такой… Родную мать не пустит.
Она вручила осужденному приговор. Осужденный, против ожидания, был спокоен, хотя и очень бледен. За несколько часов он невероятно осунулся и даже чуть постарел, вернее — повзрослел. Когда он расписывался в получении приговора, его рука дрожала самую малость. Девушка вышла из землянки с тяжелым чувством.
Джурабаев сидел на корточках и ел кашу. Разводящий курил, виновато вздыхал — он не привез смены: двое заболели, двое уехали за продуктами. Джурабаеву предстояло отбывать службу часового еще полтора-два часа, пока вернутся люди, посланные за продуктами. Еду для осужденного разводящий также не привез: он думал, по его словам, что того «вот-вот кокнут».
— Когда его? Скоро? — спросил он.
— Еще не утвердил Военный совет. Без утверждения нельзя.
— И чего это с таким возятся! — сказал разводящий и посмотрел на Джурабаева.
Джурабаев разделил кашу на две части, отломил от своей «пайки» ломоть хлеба и, положив то и другое в крышку котелка, снес вниз, осужденному. Вернувшись, он быстро доел свой заметно уменьшившийся ужин и снова приступил к исполнению обязанностей часового. Разводящий же и секретарша уехали.
Через некоторое время снова появились над станицей немецкие самолеты и, сбросив несколько бомб, улетели. Воцарилась тишина.
Джурабаев чутко прислушивался к окружающему и вскоре уловил дальние выстрелы или, может быть, разрывы, хотя это было больше похоже на выстрелы. Ворона на тополе наконец замолчала, улетев или, возможно, заснув. Недалеко в густой пшенице раздавался тихий шорох — там возились суслики или полевые мыши. Все громче становилось стрекотание множества насекомых. Лунный серп выглянул из-за тополя и, с минуту помедлив, лениво пустился бежать мимо облаков, оставаясь на месте. Поскрипывали новые сапоги Джурабаева, на днях только полученные, — предмет его гордости и особых забот.
В деревне послышались встревоженные человеческие голоса, гудение автомашин, конское ржание, потом все умолкло окончательно, даже ветер затих.
Джурабаев вдруг испытал неизвестно чем вызванное чувство одиночества и полной покинутости. То было вначале инстинктивное чувство, которое он, однако, безуспешно старался подавить в себе. Причину этого он понял несколько позднее: сколько ни приходилось ему стоять ночью часовым, ни разу вокруг не царила такая необычайная, полная тишина; всегда были слышны голоса, ржание лошадей, то тут, то там из открытой на секунду двери в ночь вырывался кусочек света; теперь же все словно вымерло.
Тревога Джурабаева усилилась еще и оттого, что прошло часа два, а смена все не появлялась. Джурабаев не принадлежал к разряду тех людей, для которых минута кажется часом. Раз он уже определил, что прошло два часа, значит, прошло наверняка не меньше двух с половиной. А разводящий был человек точный и приехал бы в любом случае, хотя бы для того, чтобы сообщить: люди не вернулись, надо стоять еще час или два или до рассвета.
Не допуская мысли о халатности разводящего, Джурабаев постарался успокоиться на том, что он ошибся, прошло не два часа, а час, и некоторым усилием воли заставил себя вернуться к обычным мыслям о службе, то есть о том, что он охрипнет важного преступника, приговоренного к расстрелу, и ему поэтому надлежит быть начеку. Мысли посторонние — вроде мыслей о жене, детях, родных местах — он старался держать от себя на приличном расстоянии. Когда же он ловил себя на том, что думает именно об этих посторонних вещах, он сердито отряхивался и начинал еще внимательнее прислушиваться к ночным шорохам и дыханию осужденного в землянке.
Последний, условно второй, час Джурабаев старался растянуть как можно больше и таким образом простоял еще два часа. За это время случилось одно только происшествие: неподалеку, где-то за соседней деревней, где размещался штаб армии, послышалась ружейная и пулеметная стрельба и разрывы, частые и не очень громкие. Все это продолжалось минут десять с перерывами. Потом стало тихо.
Только тогда, когда над степью забрезжило утро, Джурабаев окончательно понял, что произошло нечто необычное. Солнце, вначале ярко-красное, постепенно стало раскаляться, белеть, и уже пригревало, когда Джурабаев услышал близкие человеческие голоса. Он встрепенулся и крикнул:
— Стой! Кто идет?
Из пшеницы вышла группа красноармейцев, среди которых были и раненые. Остановившись при внезапном окрике и разглядев Джурабаева, шедший впереди боец сказал:
— Чего кричишь! Не видишь разве, кто идет?
— Стой! — повторил Джурабаев.
Солдаты переглянулись и пожали плечами. Хотя их было много, а Джурабаев стоял один, он являлся часовым, то есть лицом неприкосновенным, человеком почти не от мира сего. Каждый из них тоже не раз бывал часовым и изведал чувство отрешенности и силы, даваемое часовому уставом. Поэтому они — правда, не без ворчания — послушно пошли вдоль полосы, обходя Джурабаева. Вскоре они исчезли.
Через некоторое время появилась еще одна группа, гораздо более многочисленная. Эта шла организованно, на повозках за ней следовали минометы, и шествие замыкала кухня. Впереди колонны шел ширококостый, немного брюзглый майор с узкими раскосыми глазами, а за ним несли знамя, укутанное в серый чехол.
Остановленный окриком Джурабаева, майор пристально посмотрел на него и спросил:
— А что, тут в деревне часть какая стоит?
Джурабаев ничего не ответил, ибо знал устав.
— Что ты, глухой, что ли?
Джурабаев сказал:
— Проходы.
— Ты что здесь охраняешь? — не унимался майор.
Джурабаев угрожающе сжал шейку приклада.
Колонна прошла.
Тревога сдавила сердце Джурабаева. Он то отходил от землянки на несколько шагов ближе к станице, то снова подходил вплотную к черному отверстию землянки; он подымался на цыпочки, стараясь увидеть хоть что-нибудь за картофельным полем, за бахчой, полной арбузов и тыкв, за тополями, на которых уже снова орали вороны.
Потом, отчаявшись что-нибудь узнать и кого-нибудь дождаться, он замер, неподвижный и суровый, как изваяние, готовый ко всему и уже будто безразличный ко всему.
Он видел, как в станицу въехали пушки и тут же покинули ее, как поток людей уходил на восток, не задерживаясь. Проехали машины с ранеными. Пылили обозы. Люди то и дело показывались из пшеницы, брели по картофельным полям и пропадали из виду.
С запада, следом за уходящими войсками, медленно шло зарево: зажженные поля пшеницы и овса дымом и пламенем уходили к востоку, вослед пахарям и сеятелям своим. Тонкие дымки струились меж колосьев, обволакивали васильки, кружились вокруг подорожника и высоких стеблей бурьяна, а за дымками с негромким треском, похожим на треск лопающихся арбузов, шло пламя.
Джурабаев стоял, ожидая разводящего, который погиб уже несколько часов назад, отражая вместе со своими товарищами и штабными офицерами нападение прорвавшихся немецких танков. Танки эти дымились в семи километрах за станицей, но Джурабаев не мог их видеть. А штаб армии и все его отделы и управления были уже далеко и организовывали оборону на новом рубеже.
В полдень послышались короткие автоматные очереди, и Джурабаев увидел среди домов станицы перебегающих бойцов. Они бежали, падали, стреляли, вновь бежали и наконец исчезли.
Джурабаев спустился в землянку, поднял с полу крышку котелка, на которой лежала нетронутая каша и ломоть хлеба, положил все это в котелок, плотно закрыл его крышкой и сказал:
— Пошли.
Огарков медленно поднялся с земли и пошел к выходу.
— Шинель, — сказал Джурабаев.
Огарков послушно взял шинель, вышел из землянки и оглянулся на Джурабаева. Лицо солдата было сурово. Огарков вздрогнул, но взял себя в руки. Они вскоре очутились в небольшом яру. Здесь Огарков замедлил шаги, остановился и оглянулся.
— Иди, — сказал Джурабаев.
Огарков пошел дальше. Сначала он ни о чем не думал. Может быть, только удивлялся, почему его ведут так далеко. Потом он впервые обратил внимание на мир вокруг себя. Мир был прекрасен. Ветер шелестел в траве, над землей низко летали большие мохнатые бабочки. Вдали лаяла собака и пел петух. Вероятно, то был большой белый или черный, а может, и янтарного цвета петух с красным гребешком. Огарков вспомнил, что на свете есть петухи, собаки и бабочки.
— Иди, — сказал Джурабаев, заметив, что осужденный снова замешкался.
Солнце стояло посреди неба, и Огаркову, окоченевшему в сырой землянке, стало совсем тепло. Щебетали птицы.
Огарков вдруг подумал, что человек, идущий за ним, может выстрелить в любую минуту, — ведь не обязательно сначала остановиться, приготовиться, а потом уже кончать. Не смея оглянуться, Огарков все шел и шел, чуя холодок в затылке, словно под уже наведенным автоматом.
Но человек, шедший сзади, не стрелял. Они шли и молчали. Огарков шел все быстрее, с ужасом ожидая смертельного толчка. Наконец он услышал голос человека, шедшего сзади. Тот сказал:
— Стой.
«Конец», — не подумал, а почувствовал Огарков и остановился.
Минута прошла в тягостном молчании.
— Стреляйте же! — крикнул вдруг Огарков, не владея больше собой, и обернулся к своему спутнику.
Но Джурабаев не обратил внимания на этот возглас. Он прислушивался к чему-то, потом быстро сказал:
— Налево марш!
Огарков остался на месте. Он решил, что никуда дальше не пойдет. Пусть кончают здесь.
— Немцы, — сказал Джурабаев.
Огарков одно мгновение стоял в глубокой растерянности, потом огляделся, посмотрел на Джурабаева и свернул с дороги в высокую пшеницу. Они долго шли, пригибаясь, по полю и выбрались наконец на заросшую кустарником возвышенность. Здесь они остановились. Джурабаев снова прислушался, свирепо посмотрел на Огаркова, вздохнул и сказал:
— Иди.
И они пошли.
Глава пятая
Беспредельная степь не имела зримых границ, а только звуковые — она была словно окаймлена пулеметной дробью.
Пшеница и ковыль, типчак и подсолнечник, картофельные И свекловичные поля, обширные бахчи, заваленные арбузами и дынями, опустевшие совхозные поселки и одинокие громады сахарных заводов — все это дремало под жарким солнцем, дичало от безлюдья и тревожно прислушивалось к пулеметной дроби, доносящейся со всех сторон.
Двое шли по степи, отбрасывая на пшеницу уродливые волнистые тени — одну длинную, другую короткую. Над ними пролетали стаи взволнованно орущих птиц, гонимых войной на восток.
Джурабаев иногда останавливался, застывал на месте, весь превращаясь в слух, потом опять пускался в путь, строго на северо-восток. Он не нуждался в компасе — степь была его родной стихией. В степи его деды пасли стада баранов с незапамятных времен. С самого раннего детства он уже бродил с отцом по пастбищам «киргиз-кайсацкой орды», среди белой полыни и зарослей тамариска.
Огарков вскоре страшно устал — не так от ходьбы, как от мыслей о своей вине и близкой смерти, верней — от подсознательной, но беспрерывной напряженности и скованности духа. Однако ему казалось нелепым просить об отдыхе, когда его вот-вот ожидал неминуемый отдых на веки вечные. И он шел, прихрамывая, впереди Джурабаева.
Так они шли, почти не останавливаясь, двое суток.
К вечеру, когда солнце оказывалось сзади, Огарков видел возле себя тень Джурабаева. К этой тени Огарков вскоре почувствовал глубокую антипатию, почти ненависть. Не к Джурабаеву, а именно к его тени. К самому Джурабаеву Огарков не питал неприязни — конвоир делал свое дело. Но тень его, широкая, коротенькая, не отстающая ни на шаг, словно накрепко привязанная, приводила Огаркова в состояние бессильного раздражения, и он старался не смотреть на нее вовсе.
Во время кратких привалов Огарков спал, а Джурабаев сидел напротив него, положив автомат к себе на колени. Вначале это вызывало в Огаркове чувство досадливого презрении: солдат думает, что Огарков способен сбежать! Потом презрение сменилось удивлением. Солдат не спал. Его глаза — однажды Огарков осмелился посмотреть на Джурабаева в упор — покраснели и сделались еще уже.
«Он ведь может меня расстрелять, — подумал Огарков. — Почему он этого не делает?»
«Потому, что считает себя не вправе», — ответил сам себе Огарков и, почувствовав невольное уважение к своему конвоиру, сказал:
— Вы бы поспали, я не убегу… Обещаю вам.
Но Джурабаев продолжал сидеть неподвижно, словно не слышал сказанного.
К исходу вторых суток они начали обгонять мелкие группы отступающей пехоты и пристроились к хвосту одной из этих групп. Она приглянулась Джурабаеву потому, что шедший впереди лейтенант в немецкой плащ-накидке имел карту и вел себя спокойно и деловито.
Группа понемногу росла за счет присоединяющихся к ней одиночек и пар, и Джурабаев с Огарковым потерялись среди множества, не обращая на себя ничьего внимания. Они шли, не разлучаясь ни на минуту, рядом дремали на привалах, ели из одного котелка перепадавшую им пищу и молчали, не отличаясь этим, впрочем, от всех остальных.
Впереди группы уверенной походкой, чуть вразвалку, шел лейтенант в немецкой плащ-накидке. Несмотря на жару, он не расставался с этой накидкой. Видимо, он придавал ей какое-то особое значение — она была снята с убитого немца и символизировала смертность и обреченность всех врагов вообще, несмотря на их нынешний успех. И лягушечьего цвета плащ-накидка развевалась впереди как флаг, как знамя будущей расплаты.
Шли проселочными и полевыми дорогами, избегая большаков, потому что немцы наступали где— то совсем рядом: был слышен гул их танков и хрипение автомашин.
Лейтенант разбил людей на отделения, выслал дозоры вперед и на фланги. Парные дозоры шли по бокам колонны, на отдалении в двести-триста метров, то мелькая в пшенице и высокой траве, то исчезая за пригорками.
Однажды в парный дозор был выделен Огарков. Джурабаев не счел нужным давать многословные объяснения, а просто пошел вслед, и дозор двигался втроем, пока его не сменили. Люди привыкли видеть Джурабаева с Огарковым всегда рядом и иногда пошучивали по поводу такой неясной дружбы, что вымывало краску стыда на розовом лице Огаркова.
Джурабаев не спал. Он только дремал, очень чутко, ежеминутно приоткрывая узкие щелки глаз. Но это не могло продолжаться вечно. Однажды ночью он, забывшись, уснул. Огаркова разбудил его мощный храп. Стояла лунная ночь. В глубокой, поросшей орешником балке все спали, укрывшись шинелями. Только тихие голоса часовых раздавались неподалеку.
Огарков приподнялся, встал и посмотрел на освещенное лукой лицо Джурабаева.
Нет, Огарков не испытывал неприязни к Джурабаеву. Он даже был благодарен часовому за то, что тот не выдавал его тайну, не позорил его перед людьми. Но в этот момент, глядя на неподвижное лицо спящего, Огарков ощутил страстное желание избавиться от вечного соглядатая, не видеть его больше. Невдалеке раздались человеческие шаги, послышался тихий разговор. То подошла еще одна группа отступающих бойцов во главе с очень взволнованным и сильно охрипшим капитаном. Капитан поговорил с лейтенантом в немецкой плащ-накидке об общей обстановке. Огарков слышал их голоса. Капитан рассказал, что немецкая танковая колонна стоит поблизости, в двенадцати километрах, ожидая горючего.
— Разгромить ее, что ли? — спросил лейтенант, желая, кроме всего прочего, похвастаться перед капитаном боеспособностью своей группы и собственной решительностью.
Капитан не советовал. Танков было тринадцать штук, и при них человек сорок пехоты. Надо пробиваться к своим, не ввязываясь, по возможности, в бои.
Капитан и его люди пошли дальше. Вскоре послышался поблизости шелест раздвигаемых веток орешника, и возле Огаркова остановился лейтенант в немецкой накидке.
— Пойдешь в разведку? — спросил он Огаркова.
— Пойду, — сказал Огарков, прислушиваясь к ровному дыханию Джурабаева.
Лейтенант вынул из планшета карту и объяснил Огаркову задачу. Надо идти в ближайшую станицу за два километра, выяснить там обстановку, а главное — узнать, заняли ли уже немцы две крупные станицы по пути предполагаемого следования группы. А если заняли, то сколько их там, немцев.
— Почему без оружия? — вдруг спросил лейтенант.
Огарков пробормотал что-то, косясь на спящего. Ему очень хотелось, чтобы Джурабаев не проснулся и чтобы этот спокойный и храбрый лейтенант ничего не узнал. Лейтенант протянул Огаркову свой автомат и, уже уходя, неожиданно осведомился:
— Ты не лейтенант ли часом?
— Нет, — сдавленным голосом ответил Огарков. — Почему, вы думаете?
Лейтенант усмехнулся:
— Следы от кубарей на петлицах… Да и выправка такая.
— Нет, — повторил Огарков. — Я не лейтенант. Гимнастерка только… лейтенантская…
— Ладно. Пошли.
Огарков пошел за ним, ступая тихо и осторожно и то и дело оглядываясь на Джурабаева. Треск каждого сучка болезненно отзывался в его душе.
Когда он очутился вне поля зрения Джурабаева и вместе с другим выделенным в разведку бойцом шагал по шляху к деревне, он испытал состояние, близкое к блаженству. Луна заливала степь ровным светом. Тень идущего сзади молодого солдата была совсем не похожа на тень Джурабаева. Да и сам этот солдатик — белесый, немного озадаченный возложенным на него ответственным делом и робко жмущийся к Огаркову, назначенному старшим, — как он был не похож на угрюмого и молчаливого Джурабаева!
— Как ваша фамилия?
— Тюлькин, — ответил солдатик.
— А меня зовут Огарков.
Они пошли рядом.
— Вы много раз ходили в разведку? — спросил Тюлькин.
— Бывало, — неопределенно сказал Огарков, который в качестве старшего счел необходимым играть роль многоопытного солдата.
Помолчав, Тюлькин спросил:
— Плохо нам, а?
— Почему плохо? — успокоил его Огарков и дословно повторил слышанные недавно слова Синяева: — Они скоро выдохнутся… Силенок не хватит… Зарвались слишком.
— А скоро мы их?… — продолжал спрашивать Тюлькин.
— Это Москва знает, — ответил Огарков.
Они приближались к деревне. Заливисто лаяли собаки, раздавалось хлопанье дверей.
— Немцы в деревне, — прошептал Тюлькин.
Огарков угрюмо возразил:
— Не спешите делать выводы, пока не узнаете точно.
Они поползли задами к деревенским домам, обжигаясь крапивой и цепляясь за стебли огородных растений. Чем ближе подползали они, том ясней становилось, что в деревне действительно есть чужие. Но Огарков упорно двигался вперед, пока они не ткнулись в плетень. Здесь они притаились и прислушались. Ржали кони, и раздавались мужские голоса.
— Немцы! — с отчаянием прошептал Тюлькин.
— Проверить надо, — сухо ответил Огарков.
Вдруг послышался девичий смех и потом громкий женский возглас:
— Вася, а Вася! Воды принеси!
Не похоже было, чтобы в деревне стояли немцы. Обрадованный Тюлькин хотел выскочить за плетень, но Огарков и тут повторил вполголоса:
— Проверить надо.
Они поползли вдоль плетня и очутились у сарайчика. Невдалеке белела мазанка. Огарков сказал:
— Ждите меня.
Он пополз к избе, держась в тени росших здесь кустов смородины. Притаился под одним из маленьких окон. Прислушался. Разговаривали по-русски.
— Лейтенант приказал строиться, — произнес мужской голос.
— Значит, пошли, — сказал другой.
— Дай вам бог дойти счастливо и возвернутъся поскорее, — отозвался женский голос.
— Авось и возвернемся, мамаша, — сказал кто-то из мужчин.
«Свои», — понял Огарков. Очевидно, это была такая же группа красноармейцев, как и та, которой командовал выславший Огаркова лейтенант. Огарков смутно пожалел о том, что это не немцы. Окажись в деревне немцы, он вступил бы в неравный бой и был бы убит вражеской пулей. «Какое это счастье, — подумал он, — быть убитому не своей, а вражеской пулей».
Но ведь можно было просто уйти с этой группой. Раз Джурабаев все равно ему не верит, стережет его, как замышляющего побег преступника, — почему же ему действительно не уйти?
«Наверное, он уже проснулся, — подумал Огарков с ненавистью, — и бежит сюда по следам, как сторожевой пес…»
«Где он меня будет искать? — подумал Огарков минутой позже. — Уйти, растаять в степи, потеряться в ней, как пылинка… А Тюлькин? Что Тюлькин! Подождет и пойдет обратно».
Но при воспоминании о молоденьком солдате, который так верил в его непогрешимость и военный опыт, Огарков отказался от мысли об уходе. Нет, он не мог, не в силах был обмануть доверие Тюлькина и заслужить презрение лейтенанта в немецкой плащ-накидке.
Шаги солдат пропали в отдалении, а Огарков все еще лежал на траве возле окошка и не трогался с места. Снова вспомнив об ожидающей его участи и ощутив при этом страшный холодок в затылке, он опять начал колебаться. Какое ему дело, думал он, до Тюлькина и того лейтенанта, до их уважения и презрения? Кто они? Случайные люди, встреченные на этом мучительном пути и готовые снова кануть в неизвестность. И, однако, именно доверие к нему этих случайных людей в гораздо большей степени, нежели страх перед степным чутьем и упорством Джурабаева, заставило Огаркова встать и вернуться к Тюлькину, который страшно обрадовался возвращению товарища.
Они снова двинулись задами параллельно деревенской улице, иногда перелезая через плетни и увязая сапогами в жирной земле огородов. У самой крайней избы, стоявшей немного на отлете, — позади нее выстроились низкие ульи, — Огарков остановился и сказал:
— Зайдем сюда.
Он постучал в окно и в ответ услышал стариковский сиплый голос:
— Кто стучит?
— Свои, — сказал Огарков. — Откройте, пожалуйста.
Вежливое обращение и робкий голос, видимо, успокоили хозяина. Заскрипела щеколда, и на пороге появился маленький, босоногий, сухой старичок, похожий, как показалось Огаркову, на Льва Толстого.
Нет, немцев в деревне не было. «Еще не было», — сказал старик, подчеркнув слово «еще» не без желания уколоть отступающих солдат. Со слов односельчан и пришлых людей он сообщил о том, что немцы находятся в станице за девять километров.
Что касается тех двух станиц, которые особенно интересовали лейтенанта в немецкой накидке, то и там уже стояли немцы, вернее, не немцы, а итальянцы, «итальяшки, — как их назвал старик, — черненькие такие, глазастенькие, и откуда они только взялись, и зачем только сюда приперлись…»
— Вроде военное счастье на немца перешло, а? — спрашивал старик тревожно, однако ж выражаясь с витиеватостью, выдававшей в нем старого солдата или даже, может быть, унтер-офицера. — Имеет преимущества немец-то, а? — Заметив сумрачный вид молодых солдат и то ли пожалев их, то ли считая своим долгом более бывалого человека успокоить молодежь, он после краткого раздумья сказал поучающе: — Однако как муравью колоду не уволочи, так и немцу России не завоевать.
Он угостил их молоком и медом и, уловив глубокое уныние в глазах Огаркова, сказал, обращаясь к нему:
— Не горюй, парень. Ты еще так немцев будешь бить, мое почтение. Все твое еще впереди.
Мед показался горьким Огаркову. Он стремительно встал со стула и сразу же попрощался с бойким стариком. За ним поднялся и Тюлькин. Старик проводил их до крыльца, продолжая оживленный разговор.
Только тогда, когда молодые солдаты скрылись из виду, старик потерял свою живость и долго еще стоял на крыльце, маленький и печальный, горестно вздыхая и тревожно прислушиваясь. Ибо так или иначе, а немцы были близко.
Молодые солдаты тем временем быстро шагали к себе в лагерь, восхищаясь бодростью старика и радуясь успешной разведке.
Уже у самой балки Огарков встретил Джурабаева. Тот медленно шел ему навстречу, настороженный и взволнованный. Увидев Огаркова, он замер на месте, а встретившись с ним взглядом, опустил глаза. Он ничего не сказал. Его лицо, обычно суровое и спокойное, на мгновение приобрело наивное выражение удивления и признательности.
Доложив лейтенанту добытые им сведения и вернув ему автомат, Огарков с тяжелым сердцем возвратился к ожидавшему его Джурабаеву — снова под надзор. Но уже не тот был надзор и не тот Джурабаев. Теперь они шли рядом, и так же рядом шли их тени. Часто к ним присоединялся Тюлькин, сильно привязавшийся к Огаркову. Молодой солдат не уставал превозносить решительность и воинское умение Огаркова, не обращая внимания на то, с каким странным выраженном лица, недоуменным и тревожным, слушает его молчаливый казах.
Лейтенант решил создать отделение разведчиков и командовать им назначил Огаркова.
— У меня командного опыта нет, — пробормотал Огарков. — Я химик.
— Ничего, — возразил лейтенант. — Научишься. На, возьми. — Он сунул Огаркову в руки немецкий автомат.
Огарков вопросительно посмотрел на Джурабаева. Тот молчал, потупившись.
Лейтенант отошел, и, когда его зеленый плащ уже мелькал вдали, Огарков громко и жалобно крикнул:
— Я не могу командовать отделением!
Но лейтенант не слышал или не подал виду, что слышит.
Огарков молча пошел с Джурабаевым, неся автомат в руках впереди себя, как чужую хрупкую вещь. Вскоре руки устали, и он, покосившись на Джурабаова, надел автомат на ремень.
Джурибаев вдруг спросил:
— Комсомолец был?
Огарков ответил:
— Да.
— Ай-ай-ай!.. — сокрушенно закачал головой Джурабаев, выражая этими звуками и порицание, и удивление, и жалость.
Глава шестая
Командовать отделением Огаркову не пришлось. Группа выбрались из немецкого кольца и вскоре пришла в большую станицу, где находилось множество советских частей.
Во дворе МТС, среди наполовину разобранных тракторов и грузовых машин, обосновался формировочный пункт. Седой батальонный комиссар с квадратным лицом принимал прибывающие группы отходящей пехоты и наскоро сколачивал роты и батальоны. Он сидел у маленького столика посреди двора, что-то записывал в полевую книжку и распоряжался громким строгим голосом.
Неподалеку на грузовике стояли два лейтенанта. Они раздавали солдатам сформированных рот патроны, гранаты, сухари и консервы.
Огаркову очень хотелось попасть под начало лейтенанта в немецкой плащ-накидке, но тот куда-то исчез, и глаза Огаркова напрасно шарили по огромному двору, переполненному людьми. Джурабаев переживал душевную борьбу. Он считал своим первейшим долгом доставить осужденного в штаб армии. С другой стороны, нельзя было так просто уйти с этого двора, где сколачивались ударные роты для особого задания. Пока он раздумывал, его с Огарковым назначили в одну из рот, они двинулись вслед за остальными к грузовику, получили патроны и гранаты и вышли за ограду, где их ожидала целая шеренга грузовиков.
Вскоре к ним вышел седой батальонный комиссар с квадратным лицом. Он постоял минуту молча, потом хмуро сказал:
— Почему вы такие хмурые? Веселее надо! Кто вы — солдаты или кто вы такие? Нечего хмуриться, вот что!
Батальонный комиссар явно не отличался красноречием, но солдаты почувствовали за его словами еще многое другое и заулыбались со смущением, свойственным взрослым людям, когда их жалеют.
Колонна грузовиков покатилась по черной степной дороге на юго-запад. Ехали часа три, затем остановились возле какой-то деревеньки, лежавшей в овраге с пологими, сплошь под огородом, скатами. Здесь грузовики повернули назад, а люди двинулись дальше пешком в вскоре очутились на возвышенности, где среди колосьев пшеницы чернела свежевырытая траншея.
Получив приказ углубить мелкую траншею до полного профиля, солдаты стали рыть землю — кто большими, кто малыми саперными лопатами. Дно траншеи стелили для маскировки колосьями, колосьями же покрывали черные земляные брустверы. Работали почти молча, лишь время от времени перекидываясь ничего не значащими словами насчет жары и хорошего, но бесполезного теперь урожая.
Курносый лейтенант, оказавшийся командиром роты, вылез на бруствер и озабоченно оглянулся. Вздернутый нос и рыжий вихор придавали ему мальчишеский, несерьезный вид. Стоя с биноклем среди высоких колосьев, он выглядел как мальчик, играющий в войну. Он повернулся к солдатам, сидящим в траншее, и спросил:
— Кто умеет косить?
Косарей нашлось много. Махнув рукой в сторону дремучей пшеницы, лейтенант сказал:
— Все это скосить надо. Из за нее ничего не видать. Сходишь в деревню за косами, — приказал он старшине.
Старшина взял с собой двух солдат, пошел напрямик через поля вниз, в овраг, и вскоре вернулся с косами. Косари сняли и сложили в кучу гимнастерки.
— Начинай, — скомандовал лейтенант.
Дюжина кос одновременно сверкнула в лучах солнца. Руки косарей плавно вздымались и опускались, подчиняясь бессознательному древнему ритму труда. Лица косарей были сосредоточенны и строги. Солдаты глядели из траншей на падающие пласты колосьев с глубоким интересом. Все вдруг забыли про войну и про то, что колосья эти будут растоптаны и сгниют под осенними дождями. Косари шли полосой свободно и важно, — может быть, им казалось, что сзади идут бабы со свяслами.
Они уходили все дальше, оставляя за собой ровные ряды скошенного хлеба.
— Товарищ лейтенант, — взмолился кто-то из траншеи, — так они все скосят, нам ничего не оставят. Дозвольте сменить…
Глаза сменщиков, уже снявших гимнастерки, блестели.
— Ой, хлеба! Ой, хлеба! — восхищенно крикнул кто-то из них, потирая руки.
Они пустились бегом к косарям, почти насильно отобрали у них косы и пошли косить дальше. А первые косари, полуголые, потные, улыбающиеся, медленно двинулись назад, к траншее.
Чем ближе подходили они, том явственное сползала с их лиц улыбка, словно пропадало какое-то очарование: то испарялось светлое воспоминание о мирных днях и вступала в свои права воина, ощеренная пулеметными и ружейными стволами на черном бруствере. Они шли по обреченному хлебу, остановились возле траншеи, молча надели гимнастерки и спрыгнули вниз, превратившись снова из землепашцев в солдат.
Но так или иначе, а впереди расстилалась открытая, хорошо простреливаемая местность.
Немцы подошли на рассвете. Крича: «Рус, сдаваясь!» — они пошли вперед, но сразу же залегли под градом пуль. Лежа, один из них снова крикнул пронзительным голосом:
— Рус, сдавайсь!..
— А хрена не хошь? — зычно осведомился у немца чей-то озорной голос.
В траншее раздался негромкий и не очень веселый смех, заглушенный выстрелами.
Немцы отползли в пшеницу и стали там окапываться, не прекращая стрельбы из винтовок и подоспевших вскоре минометов. Появилась через некоторое время и вражеская авиация, по преимуществу разведчики, которые снижались над советскими позициями и осыпали траншеи пулеметными очередями.
Потом появились бомбардировщики. Когда раздалось гудение их, в траншее стало очень тихо. Опасливо поглядывая вверх, люди устраивались поудобнее, стараясь занимать как можно меньше места. Земля загудела и запрыгала. Послышались стоны раненых, змеиный шип осколков. Снова и снова самолеты заходили на цель, а когда они улетели, минометный и ружейный обстрел показался детским лепетом и почти полным покоем.
После бомбежки немцы вновь полезли вперед, и вновь их остановила своим огнем ожившая траншея. Тогда опять появились бомбардировщики и одновременно с ними заработала немецкая артиллерия — сначала одна пушка, потом штук пять. По мере подхода орудий плотность артиллерийского огня становилась все выше. Обозленные непредвиденным сопротивлением на безымянной высотке, немцы, казалось, решили начисто смести с лица земли не только узкую траншею с людьми, но и вообще все поля, луга и деревни этого края.
Джурабаев заменил у «максима» убитого пулеметчика, который лежал тут же рядом, под плащ-палаткой. Огарков стоял возле него с автоматом, и ему в этой жаре и трупном запахе казалось, что он — совсем не он. И мучается он здесь вместе со всеми потому, что некий офицер связи Огарков, посланный передать им приказ об отходе, струсил, и они тут все погибнут из-за него. И он с тоской и ненавистью думал об этом офицере, — об Огаркове, — о себе самом.
В третий раз немцы пошли в атаку, и в третий раз заработали оглушенные, но все еще живые русские огневые точки. Цепкие большие руки Джурабаева мелко дрожали на ручках пулемета, и лента мелькала, жадно поедаемая приемником. И снова немцы попятились и исчезли в пшенице, оставив на скошенном поле своих убитых.
Связь была порвана снарядами и бомбами так основательно, что восстановить ее можно было только ночью, когда прекратится прицельный огонь немцев. Курносый лейтенант после тщетных попыток связаться по телефону со штабом батальона решил послать в деревню посыльного. Он остановил свой выбор на Огаркове, потому что молодой солдат все выполнял точно и быстро и показался ему толковым и славным парнем. Он приказал Огаркову ползти в деревню, передать сведения о потерях, просьбу о пополнении и об эвакуации раненых.
Огарков вылез из траншеи и пополз. Немцы били из минометов по полям, простирающимся между позициями и деревней. Поля были изрыты воронками.
Деревня горела в нескольких местах и была почти вся разрушена.
В штабе батальона на стене висели ходики. К удивлению Огаркова, они показывали всего одиннадцать часов утра, — значит, бой длился часа четыре, не больше, а казалось, что он длится век.
— Передай, чтоб держался, — сказал комбат. — До вечера чтоб держался. А вечером пришлем еще людей и восстановим связь.
Огарков переждал очередной налет бомбардировщиков и медленно двинулся назад, к полю боя. Издали все представлялось еще страшнее, чем на месте. Казалось, поле встало дыбом, и трудно было поверить, что кто-нибудь там еще жив.
Огарков остановился на бахче, разбил и съел один арбуз, а два других взял с собой — люди в траншее страдали от жажды, особенно мучились жаждой раненые.
Возле траншеи его догнал комиссар батальона со связным.
— Ты чего арбузы тащишь? Тоже нашел время! — злобно сказал комиссар Огаркову.
— Для раненых, — объяснил Огарков.
— Это правильно, — сказал комиссар и пошел дальше.
Спустившись в траншею, Огарком сунул Джурабаеву в руку кусок арбуза, а остальное роздал раненым. Потом он пошел докладывать курносому лейтенанту о распоряжениях комбата и снова вернулся к Джурабаеву. Стало тише. Пули над головой посвистывали реже. Курносый лейтенант неторопливо прошелся по траншее. Он остановился возле Огаркова и сказал:
— За образцовое выполнение боевой задачи объявляю вам благодарность. Как твоя фамилия?
Огарков смешался, губы его внезапно задрожали, и он не мог вымолвить ни слова.
— Огарков, — услышал он возле себя голос Джурабаева.
Командир роты сказал:
— И насчет арбузов ты хорошо придумал, Огарков. Как стемнеет, пошлем людей за арбузами. Покажешь им место.
Лейтенант ушел, а Огарков вдруг оживился, стал очень разговорчив и даже весел, начал расспрашивать солдат о семьях, детях, матерях. Рассказал он и о своих родных, проживающих в городе Горьком.
— Отец у меня инженер, — сказал он, — и к тому же еще рыболов-любитель. Каждое воскресенье мы выезжали на лодке рыбу ловить. Обычно мы ловили удочками, но случалось и бреднем ловить. Бреднем все-таки не так интересно…
— Почему не интересно? — спросил пожилой солдат. — Только бреднем и ловить… Потому бреднем много наловишь, а удочкой что?… Морока одна…
— Не говорите, — возразил Огарков. — Бреднем — это ловля наверняка, почти убийство, а удочка — спорт. — Помолчав, он добавил: — Иногда и мать ходила с нами удить.
Вскоре немцам под прикрытием орудий и минометов удалось приблизиться метров на двести к траншее и окопаться на скошенном поле. Курносый лейтенант, очень обеспокоенный этим, решил контратаковать и выбить немцев из новых позиций.
С трудом отрывая тела от спасительной прохлады окопа, люди полезли на бруствер. Раздался громкий крик «ура». Огарков тоже кричал без умолку «ура», сам не замечая того. Зычный и озорной голос, неизвестно кому принадлежавший, с бесконечным восторгом повторял:
— Фриц, сдавайсь!
Немцы побежали на старые позиции в пшеницу. В свежеотрытых окопах валялись гранаты с деревянными ручками, ломти белого хлеба, оранжевые коробки с маслом и фляжки с дешевым, но крепким ромом. Захватили и оставленный немцами ручной пулемет и, торжествуя, вернулись в свою траншею — узкое, длинное логово, показавшееся теперь обжитым и дорогим, как родной дом.
Во время контратаки был ранен в обе ноги курносый лейтенант. Он потерял пилотку и лежал теперь в траншее с обнаженной рыжей вихрастой головой и сморщенным от боли лицом, еще больше похожий на мальчишку.
Немцы уже не пытались наступать. Их авиация тоже не показывалась, только одиночные разведчики иногда гудели в голубой вышине, поблескивая на солнце металлическими плоскостями.
Вечером прибыл приказ отходить.
Когда стемнело, люди тихо оставили траншею, миновали разрушенную и со всех сторон горевшую деревню и пошли на восток.
Старшина роты, замыкавший шествие, сложил у крайней избы дюжину взятых взаймы кос. Курносый лейтенант ехал впереди роты на повозке, распоряжаясь и давая многословные инструкции другому лейтенанту, который должен был заменить его.
Лишь здесь, на дороге, стало заметно, как сильно поредела рота. Однако Огарков все еще находился в радостном и возбужденном настроении.
— А все же мы их здорово били, — говорил он. — Крепко повоевали ведь, правда? Бесстрашные мы люди, — верно ведь?
Солдаты, смертельно усталые и дремлющие на ходу, беззлобно отмахивались от него:
— Да ладно, будет тебе…
В полночь Джурабаев, несколько приотстав вместе с Огарковым от остальных, сказал:
— Штаб армия нада.
Огарков остановился как вкопанный, потом опустил голову и пошел дальше сразу отяжелевшим шагом. Они еще некоторое время шли за ротой, прошли мимо каких-то частей, занимавших оборону вдоль дороги, затем свернули на полевую тропинку и остались одни.
Глава седьмая
Что заставило Джурабаева решиться на этот шаг? Страх перед собственной жалостью. Его служба и долг — и это он знал твердо — заключались в том, чтобы привести осужденного туда, куда нужно, и передать его в распоряжение Военного Трибунала. После боя он стал колебаться в своем решении, сомневаться в своем долге. Он полюбил Огаркова. И, почувствовав это, решил принять меры немедленные и жестокие.
Рослого белокурого юношу и коренастого узкоглазого солдата видели в степи многие. Их видели сидящими у дороги, поедающими арбузы и помидоры, спящими рядом на одной шинели под каким-нибудь одиноким деревом или среди колосьев и васильков в открытом поле. В огромном потоке отходящих частей они продолжали свой особый путь на восток, расспрашивая связистов и регулировщиков о местонахождении энской армии.
Их задержали в небольшом степном городе О., на железной дороге между Тацинской и Сталинградом.
Огарков, очутившись в городе после многодневных скитаний по степи, почувствовал себя почти счастливым. Он сам не подозревал раньше, что означает для него город. Растроганно улыбаясь, смотрел он на тротуары, на газетные киоски, на каменные дома и вывески. Станционный колокол, черные формы железнодорожных служащих, женщины в городских платьях, некоторые даже с зонтиками, — все это вдруг вернуло его в милый мир привычных представлений о жизни.
Не хотелось уходить из города, но Джурабаев торопился и сурово торопил товарища, умиленно глазевшего на вывески и витрины магазинов.
На окраине их задержал патруль. Напрасно Джурабаев пытался объяснить патрульному сержанту, что они направляются в свою часть. Их повели в комендатуру и назначили в саперный батальон, который направлялся на юго-западную окраину города для рытья окопов и минирования дорог.
Тогда Джурабаев решил покончить с этим делом раз и навсегда и сдать Огаркова коменданту. Взволнованный до глубины души, он стал медленно подбирать слова для объяснения дела, но комендант был грозен, нетерпелив, окружен целой толпой кричавших людей и не обратил внимания на робкие попытки узкоглазого солдата дать какие-то никому не нужные объяснения.
Их повели в батальон.
Со смешанным чувством досады и глубоко спрятанного удовлетворения воспринял эту новую перемену Джурабаев.
Он напал на след: некий капитан сказал им, что штаб эн-ской армии находится довольно близко, километрах в тридцати к северо-востоку. Казалось, странствиям наступает конец. И вдруг — этот саперный батальон.
Однако рядом с Джурабаевым бодро шагал Огарков, несомненно обрадованный отсрочкой своей участи. И Джурабаев втайне радовался вместе с ним, хотя и упрекал себя за это.
Батальон вышел к месту работы, и Огарков оживленно расспрашивал бывалых саперов о технике их профессии, интересовался названиями и свойствами разных мин нажимного и натяжного действия, любовался изящно упакованными пачками смертоносного тола и невинными на вид мощными взрывателями. Казалось, он всю жизнь только и мечтал о том, чтобы стать сапером.
Очутившись на окраине города, минеры стали закладывать противотанковые и противопехотные мины, укреплять надолбы, рыть контрэскарпы и ловушки для танков.
Пожилой, давно не бритый комбат, сам, сидя на корточках, пыхтел над минами, ласково беседуя с ними, как с живыми существами:
— Вот так ты и лежи, голубка… Тут тебе и место, радость моя… Теперь мы тебя засыплем песочком и заровняем, заровняем… Чтоб никому невдомек. А потом — бух!..
Он подымался, окидывал своих саперов вдруг погрустневшим взглядом и говорил ожесточенно:
— Ну, что у вас там еще за гостинцы?! Ну, вынимайте, давайте…
Огарков старался выполнять все приказания быстро и точно, и саперы — в том числе и сам комбат, — польщенные вниманием и старательностью своего ученика, относились к нему с дружественной, чуть снисходительной симпатией, как к новообращенному из химической в саперную веру.
Среди саперов оказался один земляк Джурабаева, казах. Он подсел во время перерыва к Джурабаеву, и они долго говорили по-казахски. Огарков удивился даже — он никогда не подозревал, что его спутник может быть таким разговорчивым. Ни слова не поняв, Огарков уловил, однако, что говорили они и о нем.
Действительно, сапер-казах сказал казаху-стрелку, что этот высокий славный юноша всем здесь пришелся по душе своим открытым нравом и честной работой. На это казах-стрелок ответил после непродолжительного молчания, что саперы нисколько не ошиблись и что молодой человек — хороший человек и его, Джурабаева, друг; а пробираются они вдвоем к месту своей службы, в штаб армии, куда им необходимо прибыть как можно скорее. Потом оба казаха поговорили о своей родине, Казахстане, и их замкнутые лица просветлели.
Огарков сказал Джурабаеву:
— Хорошие ребята минеры, правда? Здесь бы и остаться с ними. — И, умоляюще посмотрев на своего товарища, быстро заговорил: — Останемся с ними, а? Мы ведь большую пользу принесем! Это же такое важное дело — подрывать вражеские танки, — как вы думаете? И комбат тут такой душевный человек…
Джурабаев ничего не ответил, только покачал головой.
После окончания работ саперов отвели в станицу за восемь километров, в резерв. Там их разместили по избам и разрешили отдыхать. Огарков сразу же уснул, но Джурабаев не мог заснуть. Он глядел на спящего, шевеля губами. Потом он тихонько вышел из избы и направился в соседнюю избу, где разместился штаб батальона. Минут пять стоял он у крыльца, не решаясь войти. Затем все-таки вошел.
Никто не слышал, о чем Джурабаев говорил с комбатом, дежурный сапер уловил только заключительные слова комбата, произнесенные задумчивым и невеселым голосом:
— Ну что ж, голубчик, поделаешь… Идите, раз такое дело…
Вернувшись к Огаркову, Джурабаев разбудил его, и они вдвоем покинули деревню.
Огарков шел молчаливый и угрюмый. Молчалив и грустен был и Джурабаев. Может быть, надо было остаться у саперов? Неплохо было бы и остаться. Там и земляк, с которым можно поговорить…
Следующей ночью они увидели перед собой Дон. Он блестел при свете луны, струясь среди обрывистых берегов. Над рекой царил неумолчный шум. По переправе беспрерывной лентой шли к востоку машины, пушки и люди. Берег ощерился дулами зенитных орудий.
В траве, в пшенице, в овсе, возле мельниц и вокруг мощных элеваторных башен, всюду, куда доставал глаз, лежали люди, паслись кони, стояли машины и повозки. Все ждали своей очереди, с беспокойством глядя в ночное небо. Недалеко в поле догорал недавно сбитый немецкий самолет.
Джурабаев решил переночевать в ближней станице, ниже по течению. Белые хаты станицы были отчетливо видны в лунном свете.
Пошли туда. Все дома и дворы были полны солдат, спавших где попало. Наконец их пустили в один дом. Здесь было светлo от щедро горевшей под потолком лампы-«молнии». На полу и на лавках спали солдаты, однако еще оставалось место и для двух новых пришельцев.
Хозяйка, молодая женщина, закутанная в большой черный платок, так что только глаза поблескивали, угостила вновь прибывших молоком и присела на лавку. Джурабаев сразу уснул, Огарков же остался сидеть, бездумно глядя на маленькие загорелые ножки хозяйки — она была босиком.
Ей, видимо, хотелось поговорить, но она не решалась.
Из соседней комнаты, откуда-то сверху, послышался слабый старушечий голос:
— Мария!
Женщина вышла, вскоре вернулась и снова села на лавку, оказав:
— Вы, наверное, спать хотите?
— Нет, — ответил Огарков, — я спать не хочу.
— И долго еще так будет? — без предисловия начала она, словно ее прорвало. — Страшно мне. Одна я с мамой, а она у меня парализованная. Третий год на печке лежит. У нас все почти ушли за Дон, скотину угнали, а я куда денусь?… Я бы ушла, а с мамой как? Она не хочет уходить. Говорит, чтоб сама и ушла, а она останется. А как я уйду? — Помолчав, она спросила: — Вы, может, спать ляжете?
— Нет, спасибо, — сказал он. — Я спать не хочу. Избу оглашал тихий храп.
— Муж у меня убит еще в прошлом году, при самом начале, — продолжала женщина. — Он на границе служил, в Бессарабии. Тоже был такой, как вы, светлый, городской тоже, из Майкопа. Мы жили в совхозе… Страшно мне, — неожиданно закончила она, и он посмотрел на нее.
Платок ее упал на плечи, и он увидел круглое, молодое, красивое лицо, две черные толстые косы и строгий прямой пробор посредине головы. Черные глаза под тонкими бровями глядели на Огаркова, не видя его, с выражением недоумения и страха. Руки ее беспомощно лежали на лавке ладонями кверху.
Ее глаза потускнели, и она спросила в третий раз:
— Спать будете?
— Нет, — ответил Огарков. — Я не буду спать.
Тогда она взглянула на него очень внимательно и почувствовала, что у гостя на душе тоже тяжело. Он стал ее утешать, Но смысл его слов странно не вязался с тоскливым выражением глаз.
— Это ненадолго, — сказал он. — Скоро мы… — Он хотел сказать: «Скоро мы вернемся», но поправился: — Скоро наша армия вернется.
— Мария, — позвал старушечий голос из соседней комнаты.
Мария вышла, и ее легкие шаги послышались где-то в сенях, потом хлопнула дверь раз и другой, и женщина вновь вернулась к Огаркову.
— На западе все горит, — сказала она.
Кто— то тревожно забарабанил в дверь, и солдат с винтовкой и вещмешком, войдя, торопливо растолкал спящих:
— Кто из второй роты — выходи!
Солдаты вскакивали, заправлялись и уходили. Проснулся и Джурабаев.
— Пойдем? — спросил он.
Огарков покорно поднялся. Поднялась со своего места и женщина. Джурабаев вышел на улицу. Огарков протянул женщине руку. Она сказала:
— Вернетесь когда — заходите в наши края, коли вспомните.
— Хорошо, — ответил он. — Если вернусь.
— Вернетесь, — сказала она убежденно.
Он вышел. Луна скрылась, было совсем темно. Женщина, появившись в дверях, сунула Огаркову в руку ситцевый мешочек.
— Не надо, — сказал он смущенно.
Они постояли рядом, внезапно почувствовав боль при мысли о скором конце их случайного знакомства.
Он пошел вслед за Джурабаевым, который ждал его у дороги.
Когда они прошли уже половину пути к переправе, в небе раздался гул. Заговорили зенитные орудия на берегу и одна батарея, стоявшая в овраге неподалеку. Над рекой повисли большие ослепительные фонари, и вокруг стало совсем светло. У переправы начали рваться бомбы.
Огарков с Джурабаевым прижались к земле. По соседству разорвалась бомба, и над головой жутко пронесся самолет, крестя дорогу пулями.
Огарков лежал, уткнувшись лицом в мягкую и горькую траву. Когда стало тихо, он приподнялся. Небесные фонари медленно угасали. Возле переправы слышны были крики и стоны. Взбесившаяся лошадь промчалась мимо.
Вскоре Огарков заметил, что Джурабаев лежит неестественно тихо и неподвижно. Огарков подождал минуту, потом наклонился к своему спутнику и заглянул ему в глаза. Глаза Джурабаева смотрели на Огаркова с немым вопросом. Огарков медленно встал, снова нагнулся и снова встретил вопрошающий взгляд Джурабаева.
— Держитесь за меня, — сказал Огарков.
Только теперь Джурабаев застонал. Его гимнастерка была вся в крови.
Огарков потащил раненого назад, к станице. Когда они доползли до околицы, на переправу опять налетели немецкие самолеты, захватив краем и северную оконечность станицы. Что-то загорелось там, самолеты ушли, Огарков снова поволок Джурабаева и наконец постучался в дверь к Марии.
Мария открыла и, не задавая никаких вопросов, помогла Огаркову втащить и уложить Джурабаева на лавку. Она маленькими шершавыми ручками быстро сняла с Джурабаева гимнастерку и нижнюю рубаху. Джурабаев был ранен в спину, пуля прошла навылет к грудь.
Приложив к ранам Джурабаева мокрое полотенце, Мария сказала:
— Доктора нету, он эвакуировался с колхозом.
Огарков вышел из избы и побежал к оврагу, где заметил раньше зенитчиков. Путаясь в росшей по склону оврага высокой траве, он пробрался наконец к артиллеристам.
— У вас врача нет? — громко спросил он.
Зенитчики были очень заняты — в воздухе опять зажглись зловещие фонари и послышался гул самолетов. Однако капитан-артиллерист, выслушав Огаркова, отпустил с ним девушку-фельдшера с санитарной сумкой.
— Только не задерживайте ее, лейтенант, — сказал он Огаркову, почему-то в темноте приняв его за лейтенанта.
Началась бомбежка. Огарков, держа девушку за руку, бежал обратно в деревню.
— Ну и бешеный же вы! — жаловалась девушка, еле поспевая за Огарковым. — Разве можно бежать под бомбежкой? Отпустите же меня, у меня рука заболела.
Наконец они, запыхавшись, вбежали в избу.
Джурабаев громко стонал.
Девушка фельдшер осмотрела его, засыпала раны белым порошком и щедро забинтовала их, хотя и ворчала при этом:
— У меня бинтов мало…
Потом она вышла в сопровождении Огаркова на улицу и сказала уныло:
— И часу не проживет… Провожать меня не надо. Уже светло, сама дойду.
Да, уже было светло. Огарков вошел обратно в избу. Мария погасила лампу и открывала ставни. Подойдя к Джурабаеву, Огарков встретил взгляд солдата — уже не вопросительный, а спокойный и очень усталый.
Джурабаев то и дело терял сознание и дышал все труднее.
За несколько минут до смерти он вдруг приподнял руку, показал Огаркову куда-то вниз, на свои ноги, и сказал:
— Нэмэц не оставим.
Он приказывал снять с себя сапоги, не оставлять их немцам. Огарков машинально посмотрел на эти сапоги — то была почти новая кожаная армейская обувь с подкованными каблуками.
С трудом оторвал он взгляд от этих сапог, а когда снова посмотрел в глаза Джурабаеву, тот был уже мертв. Великий разводящий — Смерть — снял с поста часового.
Глава восьмая
Мария принялась убирать мертвого. Она делала это тихо, бесшумно, без суеты, не стыдясь наготы мертвого тела. По-крестьянски основательно обмыла она его, сложила ему руки крест-накрест и даже нашла свечу, но потом решила, что христианский обряд тут неуместен, поскольку покойник — нерусский человек.
О гробе нечего было и думать, и она просто обернула тело в простыню.
Они похоронили Джурабаева в углу большого двора, среди кустов малины. Потом Мария ушла в дом, а Огарков остался сидеть во дворе.
Он вдруг почувствовал себя человеком, лишенным жизненной опоры и какой-либо видимой цели. Ему казалось, что только что оборвалась последняя связь его с окружающим миром и весь мир отодвинулся в туманную глубину, оставив его, Огаркова, в полном одиночестве среди малинника и больших одуванчиков.
Но нет, он был не один. В соседнем дворе раздавался непонятный шум, звенела посуда, и мужской голос пел:
Начинаются дни золотые Воровской непробудной любви. Эх вы, кони мои вороные, Черны вороны — кони мои!Вначале Огарков не обращал внимания на пьяное пение, прерываемое возгласами деланного веселья, но оно все назойливее лезло в уши. Голос пел навзрыд:
Мы уйдем от проклятой погони, Перестань, моя крошка, рыдать…Странно было в это утро в пустынной, почти покинутой станице слышать пение.
На пороге избы появилась Мария. Она минуту постояла, издали глядя на Огаркова, потом пошла к нему, быстро и дробно шагая по траве гибкими босыми ногами. Остановившись возле Огаркова, она прислушалась к пению и сказала:
— Это сосед наш вернулся. Отвоевался, говорит. Не пойдет за Дон. — Она протянула Огаркову белую вышитую рубашку: — Переоденьтесь. А я вашу гимнастерку постираю, она вся в крови.
Он начал переодеваться, сам не зная зачем, — вероятно, по усвоенной за последнее время привычке кому-нибудь подчиняться. При этом его рука нащупала в кармане гимнастерки бумажку. Он быстрым движением переложил ее в брючный карман.
Пение в соседнем дворе оборвалось, и тот же голос громко позвал:
— Соседка! Прошу ко мне, погуляешь с нами! И гостя своего зови. Угощу!.. Гулять так гулять…
Мария нахмурилась, ничего не ответила и ушла, унеся с собой гимнастерку Огаркова. Когда она исчезла в дверях своей избы, Огарков бережно вынул из кармана ту самую бумажку.
Он держал в руках единственный документ, удостоверяющий или, вернее, отрицающий прошлую жизнь Огаркова — приговор Военного Трибунала. Он прочитал его внимательно и подробно, почти по складам, с чувством жгучего любопытства, как совсем посторонний человек. Потом его затуманившийся взгляд скользнул по свежему холмику, и он вспомнил, что вот здесь лежит не кто иной, как Джурабаев, лежит и никогда больше не встанет. И, значит, он, Огарков, свободен.
Горькая, но буйная радость охватила Огаркова. Он скомкал клочок бумаги и отшвырнул его от себя. Слабый ветер нехотя подхватил бумажку, неторопливо протащил ее по земле, чуть приподнял на воздух и равнодушно оставил валяться среди одуванчиков.
И тут над самым ухом Огаркова внезапно раздался хриплый голос:
— Мое почтение новому соседу! Давай знакомиться.
Огарков быстро оглянулся. На него сквозь плетень смотрел с настороженной ухмылкой большой краснолицый человек. Он простирал через прорехи в плетне большие руки к Огаркову, словно жаждал обнять и облобызать его, быть с ним вместе. И на нем была надета точно такая же вышитая рубашка, какая была теперь на Огаркове.
Огарков с минуту внимательно смотрел в глаза тому человеку, а тот человек тоже смотрел и молчал. Потом Огарков поднялся, медленно подобрал с травы смятую бумажку и, не оглядываясь, пошел в избу.
В избе было прохладно и тихо. Тикали ходики. За окном на веревке сушилась уже выстиранная гимнастерка. В соседней комнате слышались негромкие голоса женщин.
В углу стояло большое зеркало, и Огарков подошел к нему.
Перед ним оказался высокий статный человек в белой вышитой рубашке и, как ни странно, с короткой, но густой белокурой бородой.
Огарков с бородой? Нет, это не мог быть Огарков. Да и лицо — загорелое, обветренное, шоколадного цвета — почти не похоже было на огарковское лицо.
Он отвернулся от зеркала, чтобы не видеть своего нового обличья.
Мария внесла кипящий самовар и накрыла на стол. Они стояли несколько мгновений почти вплотную друг к другу, потом она, слегка покраснев, отпрянула и сказала:
— Кушайте.
Но Огарков не садился. Где-то далеко грянул одинокий пушечный выстрел. Огарков посмотрел на Марию и встретился с ее взглядом, напряженным и ожидающим. Он сказал:
— Мне надо идти.
— Вам гимнастерку дать? — покорно спросила она.
— Да.
— Вас в части ждут?
— Да.
Они впервые посмотрели прямо в глаза друг другу, и она вздохнула с каким-то непонятным облегчением. Да, она хотела, чтобы он остался, но не так остался, как тот, распевавший песни в соседнем дворе.
Она принесла еще влажную гимнастерку и утюг, полный мерцающих угольков. Она выгладила гимнастерку и пришила оторвавшуюся на шинели пуговицу. Он любовался ее быстрыми и гибкими движениями, полный благодарности за то, что она так заботливо собирает его в дорогу, «в дальнюю, дальнюю дорогу», — думал он устало и почти совсем уже без горечи.
Он переоделся, взял оба автомата — джурабаевский и свой, трофейный, и положил в карман красноармейскую книжку и партийный билет Джурабаева, лежавшие на подоконнике.
Выйдя из станицы и поднявшись на гребень, они увидели Дон. В овраге зенитной батареи уже не было, среди зеленой травы чернели окопы, в которых раньше стояли пушки.
Внезапно раздался оглушительный взрыв. Огарков с Марией переглянулись.
— Переправу взорвали, — сказала она.
Он растерянно остановился. Она с напряжением ждала, что он скажет. Обломки моста с шумом падали в воду.
«Опоздал», — подумал он, глядя на реку ничего не видящими глазами.
— Я вплавь доберусь, — пробормотал он.
Она сказала:
— У меня здесь лодка спрятанная.
Они пошли вдоль реки обратно к станице. Спустившись по крутому берегу, Мария исчезла среди густых зарослей у самой воды. Вскоре она позвала его. Он спустился к ней и увидел в камыше мaленькую душегубку с одним коротким веслом.
— Вот, — сказала Мария.
— А как с лодкой быть? — спросил он.
Она, глядя вдаль, махнула рукой.
— Пусть там остается.
В голубом высоком небе прогудел немецкий разведчик. Мария припала к плечу Огоркова и зашептала:
— Когда вернетесь, заходите к нам, если не забудете про меня.
— Не забуду, — сказал он дрогнувшим голосом.
— Управитесь один? — спросила она минуту погодя.
— Я на Волге вырос, — ответил Огарков и переступил борт душегубки.
Мария быстро и еле сдерживая слезы оттолкнула лодку от берега и сказала:
— Вот мы под немцем остаемся. Возвращайтесь поскорее.
Он машинально ответил:
— Хорошо, вернемся.
Лодка понеслась вперед, и вскоре Огарков очутился на середине реки. Одинокая фигура женщины на берегу исчезла из виду.
Оглядевшись кругом, Огарков ощутил в душе чувство необычайной свободы и даже счастья. Он сидел на корме и подгонял лодку сильными ударами весла то вправо, то влево. Нос лодки приподнялся, и поверх носа виднелся крутой склон восточного берега, крылья ветряка и труба сахарного завода, а над всем — небо с белыми облаками.
Все это было видано и перевидано много раз с детства, но никогда не было при этом того безграничного чувства свободы, которое он испытывал теперь.
И ему захотелось, чтобы его хоть на одно мгновение увидали мама и Джурабаев. И если жива маленькая химинструкторша Валя, так чтобы и она увидела его. И командир саперного батальона, и курносый лейтенант, и лейтенант в немецкой плащ-накидке, и батальонный комиссар с квадратным лицом, и старик, похожий на Льва Толстого, и Синяев, и жена командующего. Чтобы все они видели, что он не жалкий беглец, убегающий от смерти, а человек, сознающий свою вину и готовый держать за нее ответ.
Лучше всего было бы, если бы пуля с самолета — вражеская пуля! — попала не в Джурабаева, а в него. Он лежал бы под холмиком во дворе у Марии, прислушиваясь к шелесту листьев и трав и сам превращаясь в травы и листья и в красные ягоды малины. И он бы вскоре дождался знакомого топота солдатских ног, услышал бы голоса своих товарищей, с боями и песнями идущих обратно на запад. А в этой лодочке плыл бы теперь человек, достойнее его, — Джурабаев.
Но раз уже случилось так, а не иначе, и он, Огарков, получил свободу и выбор — он поступит, как сын своей страны, готовый умереть от ее руки, потому что не в силах жить, виновный и отринутый ею.
Лодка ударилась о берег. Огарков высадился, вытащил лодку и пошел.
Он прошел мимо саперов, роющих окопы, мимо пехотинцев, спавших на солнцепеке, мимо полевых кухонь, мимо артиллерийских батарей. Он прошел станицу и другую, здороваясь с солдатами и офицерами, он пил воду из колодцев и ел помидоры с бахчей. Его лицо было приветливо и печально, и люди, чувствуя в нем что-то значительное, сердечно встречали его.
Ему хотелось поскорее умереть, чтобы не сожалеть о жизни, суровой, но прекрасной.
На большой дороге, по которой не прекращалось движение частей и обозов, он увидел двух верховых и в едущем впереди узнал лейтенанта Синяева. Тогда он в последний раз пережил минутную слабость, — почти панический страх. Он вздрогнул, остановился и сделал движение назад, в придорожные кусты. Потом опомнился, подошел к Синяеву, ехавшему шагом, притронулся к седлу и сказал:
— Здравствуйте, товарищ лейтенант.
Синяев не узнал Огаркова и коротко осведомился:
— Чего?
— Вы меня не узнаете? — спросил Огарков.
Синяев посмотрел на Огаркова и сказал:
— Вы обознались.
Огарков снял руку с седла, некоторое время шел молча рядом с лошадью, потом назвал себя:
— Я — Огарков.
Синяев изменился в лице.
— Как? — спросил он, ошеломленный.
Огарков кратко рассказал, каким образом он очутился здесь, и сдавленным голосом спросил Синяева:
— Вы не в штаб армии едете?
— Туда, — ответил Синяев.
Он соскочил с коня и пошел рядом с Огарковым. Так шли они молча всю дорогу до той обсаженной тополями станицы, где разместился штаб.
* * *
Не будет преувеличением сказать, что в последующие дни все полевое управление армии, от солдат-посыльных до генералов, было озабочено и захвачено судьбой Огаркова. Его возвращение, по сути дела вполне добровольное, в распоряжение трибунала, приговорившего его к расстрелу, поразило и растрогало людей, хотя и ожесточенных отступлением, тяжелыми лишениями и смертью друзей.
Все ждали результатов доследования и окончательного решения с нетерпением и не без опасений, так как прекрасно знали, что трибунал, как учреждение, может и не принять во внимание возвращение Огаркова: формально поступок этот мог считаться вполне естественным и само собой разумеющимся. И некоторые офицеры из самых молодых (в первую очередь, разумеется, Синяев) уже заранее обвиняли трибунал в черствости и формализме.
Наконец стало известно, что дело поступило на рассмотрение Военного совета, благо приговор ранее не был утвержден. Какими рекомендациями сопроводил трибунал дело в нынешней его фазе, было покрыто тайной.
Всю ночь перед решением лейтенант Синяев не спал. Он прогуливался неподалеку от лужайки, где размещались блиндажи армейского командования. Оттуда доносились негромкие разговоры. Аппараты Бодо и Морзе выстукивали под землей слова донесений и приказов. Синяев все ходил взад и вперед и ждал. Его приятель, адъютант члена Военного совета, обещал ему, как только он что-нибудь узнает, выскочить на улицу. Но адъютант все не появлялся.
Между тем наступил рассвет, запели птицы и забегали посыльные.
На востоке, там, где была Волга, встали огромные вертикальные красные полосы, похожие очертаниями на гигантских алых солдат, медленно идущих вдоль горизонта.
День вступал в свои права. Синяева вызвали и послали в дивизию с поручением, там его ранило в бедро, и только на следующий день, в госпитале, он с чувством облегчения узнал, что Огарков помилован и послан командовать взводом на передовую.
Конечно, на членов трибунала и Военного совета, как и на всех других людей, произвело впечатление возвращение Огаркова; к тому же перед этим выяснилось еще одно важное обстоятельство. Дивизия, в которой служил Огарков, не была разгромлена, как это считалось раньше. Потеряв связь с армией и обнаружив, что у него открыты фланги, командир дивизии, естественно, должен был принять и действительно принял самостоятельное решение. Дивизии удалось с боями вырваться из немецкого полукольца, она отошла, вскоре сообщила о себе и позднее была отведена за Волгу. В качестве удивительной драматической подробности передавали, что части дивизии при отступлении прошли через станицу, где днем раньше слушалось дело Огаркова, и, более того, они якобы проследовали буквально мимо той самой землянки, в которой находился приговоренный к смерти Огарков. Как бы там ни было, при пересмотре дела третий, самый грозный свидетель — дивизия — не выступил на суде.
Три года спустя, уже в Германии, Синяев напал на след Огаркова.
Синяев, к тому времени майор, приехал по служебным делам в город Бранденбург и там познакомился с неким майором Кузиным, начальником разведки одной из наших дивизий. Оказалось, что Кузин знает Огаркова, они служили в одном полку в то злополучное лето.
И вот этот самый Кузин встретил Огаркова на днях здесь неподалеку, в небольшом немецком городишке. Огарков уже был капитаном и командовал саперной ротой. Люди, воевавшие вместе с ним, рассказывали о нем как о храбром человеке и отличном товарище. Правда, за ним замечали одну особенность: он иногда задумывался, становился рассеянным до странности. Однако людям, знавшим его историю, это не казалось удивительным.
Может быть, в эти минуты он вспоминал придонские места и перед его глазами вставало туманное видение: по необъятной степи бредут два человека, отбрасывая на высокую пшеницу волнистые тени — длинную и короткую.
<1948>― СЕРДЦЕ ДРУГА ―
Повесть
Глава первая МОРЯК В ПЕХОТЕ
1
В самый разгар военных действий, когда полк, обескровленный в наступательных боях, все еще пытался прорвать немецкую оборону на подступах к Орше, поступил приказ о смене. Этот приказ означал, что люди, окопавшиеся в глинистой хляби огромных, тянувшихся на десятки километров оврагов, простуженные, охрипшие, покрытые фурункулами, нажитыми этой осенью, покинут свои позиции и отправятся отдыхать в спокойные сухие места, а здесь их заменят солдаты других, свежих частей.
Командир полка майор Головин собрал у себя узкое совещание в составе своих заместителей, начальника штаба и командиров трех батальонов и, еле сдерживая блаженную улыбку облегчения, сообщил им о приказе.
Во время совещания приехали два представителя той дивизии, которая сменяла полк, — старик полковник и молодой майор. Они вошли в сырой блиндаж, освещенный самодельной лампой, и, предъявив документы, уселись на деревянный топчан возле железной печурки, чтобы согреться и обсохнуть.
В наступившей на минуту тишине, нарушаемой только однообразными и свирепыми взвизгиваниями ветра за подрагивающей дверью блиндажа, все внимательно оглядели друг друга.
Вид приезжих составлял разительный контраст с видом собравшихся на совещание полковых офицеров. Приезжие были чисто выбриты, от них даже пахло одеколоном. Лица их, розовые и гладкие, свидетельствовали о сытой и спокойной жизни в течение длительного времени. Сапоги, хотя уже слегка забрызганные грязью и глиной, сохраняли свой светлый и жирный блеск, живо напоминающий об армейском порядке и благополучии.
Головину стало не по себе от собственного растерзанного вида и от неподобающей внешности подчиненных. «Да, мы немножко того… поопустились, — думал он, глядя исподлобья на своих обросших бородами комбатов, — робинзоны, черт возьми нас совсем!» Комбаты, в отличие от него, нимало не совестились, напротив — они глядели на приезжих даже с некоторым вызовом: и мы, дескать, такими были; посмотрим, что будет с вами здесь через недельку-другую.
Эта мысль, вероятно, промелькнула и в голове приезжего молодого майора. Он смотрел на местных офицеров с сочувствием и не без опасения за будущее своей части на этом трудном участке фронта. Зато седой полковник как видно, старый служака, — сурово оглядев присутствующих, проворчал:
— Бриться надо. У вас совсем партизанский вид.
Командир полка развел руками.
— Правильно, товарищ полковник. Но, откровенно скажу, — условия невозможные. Кругом — пустыня. Противник все пожег при отступлении. Леса нет, дров нет, топить бани нечем. Дождь хлещет месяц подряд. Блиндажи обваливаются, а обшивать их нечем. Кругом — глина, вода. Оружие и то чистить негде. Бывало, пулеметы отказывали… Да, было. Всякое было. — Он с наслаждением повторял это слово «было», означающее, что все беды кончились и теперь предстоит нечто совсем другое, несравненно лучшее.
Полковник недовольно поморщился и коротко сказал:
— Приступим.
Его ознакомили с положением дел, вручили оперативную и разведывательную карты и предъявили заранее заготовленный акт о сдаче и приемке участка. Но полковник, к некоторой досаде Головина, оказался человеком дотошным и, видимо, не принадлежал к породе канцеляристов.
— Я лично осмотрю передний край и уточню положение на месте, — сказал он и, с минуту помедлив, продолжал: — А пока должен вам сказать, что ваши данные о противнике, о его огневых средствах, системе обороны и боевом и численном составе его частей нас никак не устраивают. Командование согласилось с тем, что вы должны перед сдачей участка провести разведку боем. Приказ об этом вы получите в ближайшие часы.
— Разведку боем? — повторил Головин, и его лицо на мгновение перекосилось, как от боли.
Разведка боем означала, что полк, и так понесший большие потери, понесет еще новые, тем паче что противник укрепился на выгодной позиции и вся лишенная леса равнина на нашей стороне, кроме этих залитых водой, но спасительных оврагов, просматривалась им на десятки километров. И хотя полковник из другой дивизии имел все основания и непререкаемое право требовать разведки боем перед сменой, Головину казалось, что старик просто нехороший, сухой и злой человек, который лишь в отместку за то, что ему попался такой трудный участок, и из зависти к уходящей на отдых части решил потребовать разведки боем.
Головин сухо сказал:
— Есть. Будет сделано.
Он оглядел своих людей. Ему нужно было решить, кому из комбатов доверить непомерно тяжелую задачу. Конечно, можно было поручить это дело командиру второго батальона, капитану Лабзину, человеку, которого Головин недолюбливал за чрезмерную, почти трусливую осторожность — его Головину не так было жалко, как остальных двух. Но эта мысль только на самую долю мгновения пронеслась в голове командира полка, и он тут же отбросил ее прочь не без негодования на самого себя. Ибо что бы там ни думал этот сухарь-полковник, какими бы мотивами ни руководствовался, но дело есть дело: та часть, которая сдает участок, обязана провести разведку боем перед сменой, если противник недостаточно разведан, — таков воинский закон. И эту задачу следовало поручить самому решительному — и самому любимому — из комбатов, командиру первого батальона. Уныло взглянув на него, Головин сказал:
— Товарищ Акимов, готовься.
— Есть готовиться, — ответил Акимов, подымаясь во весь свой большой рост и усмехаясь в молодую, блестящую, кудрявую черную бороду, выросшую за месяц здешней жизни. Его голос, низкий и с каким-то веселым раскатцем, оторвал полковника от карт и боевых документов. Полковник взглянул на него и увидел мощную голову на большом теле, которое и под уродливой ватной телогрейкой представлялось полным сдержанной силы. В Акимове именно чувствовалось изобилие силы, и, если бы он держался подтянуто, напряженно, это казалось бы уже нескромным, почти демонстративным. Может быть, поэтому он чуть сутулился, двигался по-медвежьи мешковато, с этакой нарочитой ленцой, и единственная неприкрытая часть его тела — шея, хотя и немалого обхвата, была очень белой и нежной, как бы не желая свидетельствовать о мышцах богатыря, скрывавшихся под одеждой.
Лицо Акимова было все, за исключением высокого и чистого лба, в мелких рябинах, а глаза — узкие, серо-зеленые — глядели спокойно и независимо.
Вид комбата произвел на полковника впечатление, но, верный своей привычке судить о людях по их делам или, может быть, не желая подпасть под властное обаяние молодого человека, он опять углубился в свои бумаги, мимолетно решив: «Посмотрим, каков он в бою».
Головин между тем говорил Акимову:
— Тебя поддержит вся полковая артиллерия и дивизион артполка. Попрошу у комдива, чтобы он добавил еще артиллерии. Все тебе дам. Саперную роту пришлю в твое распоряжение. — Поколебавшись с минуту, Головин, чтобы окончательно подсластить пилюлю, добавил: — И взвод разведки тоже.
Акимов ответил:
— Ладно, есть.
Легкая улыбка все еще блуждала по его лицу.
«И чего он улыбается?» — раздраженно подумал старик полковник, взглянув на комбата еще раз.
Акимов улыбался потому, что, как только услышал о разведке боем, так сразу и решил, что Головин поручит задачу именно ему, Акимову. И когда так и вышло, лицо Акимова осветилось этой странной улыбкой, в которой было и удовлетворенное самолюбие, и горечь тревожных предчувствий, и насмешка над собственной догадливостью.
Акимов взял со стены свой автомат и спросил у полковника как у старшего по званию:
— Разрешите идти?
Полковник кивнул головой, сказав:
— Скоро буду у вас.
— Милости просим, — ответил Акимов. — У меня приблудный баран жарится. Приходите, угощу. Только попрошу вас — не говорите моим офицерам, что вы нас завтра сменяете.
— Это почему же? — холодно спросил полковник.
Акимов помедлил с ответом, потом напрямик сказал:
— Чтобы людям было легче умирать. — Он подождал, не возразят ли ему, и, так как все молчали, закончил, ни к кому не обращаясь: — Я и сам был бы рад забыть про эту смену. Да уж тут ничего не поделаешь.
Акимов легко вскинул автомат на плечо и вышел.
Уже совсем стемнело, несмотря на сравнительно ранний час.
От блиндажа командира полка, вырытого, подобно пещере, в западном склоне оврага, вел узкий лаз в самый овраг. Оскользаясь в глинистом месиве и держась рукой за мокрую стенку лаза, Акимов медленно шел вперед, привыкая к темноте. Наконец лаз кончился. Овраг лежал черный и бесконечный. Кругом было тихо, и только ветер неистовствовал по-прежнему, с разудалым свистом скользя по лужам и время от времени донося откуда-то приглушенные солдатские голоса.
— Товарищ капитан? — окликнул Акимова голос его ординарца, сержанта Майбороды.
— Я, — ответил Акимов. — Пошли.
Привыкнув к темноте, Акимов зашагал быстрее. Теперь он уже различал еле уловимую черту, отделяющую черную землю от черного неба, и угадывал где-то близко над головой кромку оврага.
— Замерз? — осведомился он у шагающего сзади ординарца.
— Так себе, — отвечал Майборода.
Помолчали, потом Майборода снова окликнул Акимова:
— Товарищ капитан…
— Чего? — отозвался Акимов.
Майборода осторожно спросил:
— Командир полка взбучку давал?
— А что? — усмехнулся Акимов. — Заметно в темноте?
Майборода тихо рассмеялся, но, не удовлетворенный уклончивым ответом, снова спросил:
— Важные новости, товарищ капитан? Или так просто?
Акимов сказал:
— Тут где-то тропинка наверх, как бы не пропустить. Вот она. Осторожно, Майборода. Держись носом за землю. Смотри автомат не урони в грязь. Вот. Хорошо. Вылезли.
Оказавшись на гребне, они сразу же увидели медленный и неяркий взлет немецкой ракеты. Они миновали место, где темной громадой стоял подбитый танк, и зашагали дальше по равнине.
— Воевать будем, — заговорил Акимов после долгого молчания. — Возьмем Оршу, пойдем на Варшаву. А потом — так и быть, разглашу военную тайну пойдем на Берлин. Вот какие новости, товарищ сержант. А других новостей нет и быть не может.
Это «разъяснение» заставило Майбороду прикусить язык.
В молчании дошли они до «своего», батальонного, оврага. Овраг этот проходил по окраине деревни, имевшей на карте название. Но от деревни остались только трубы печей, и то наполовину проваленные. Эти темные дымоходы дотла сожженных домов стояли рядами, как капища древних богов, и пахли тем сладковатым и горьким запахом пожара и разрушения, который нельзя никогда забыть.
Спустившись в овраг, Акимов и его ординарец зашагали быстрей: тут им была знакома каждая пядь земли. К тому же дождь становился все сильнее. Они миновали позиции батальонных минометов. Вдали замелькали тусклые полоски света из неплотно прикрытых землянок. Потянуло дымком от расположенной неподалеку батальонной кухни.
Очутившись у порога своей землянки, Акимов сказал:
— Ступай зови сюда всех офицеров.
2
Акимов называл свою землянку «кубриком» — одним из тех морских словечек, которые моряки любили употреблять всюду, куда бы их ни занесла военная или иная судьба. В пехоте Акимов оказался случайно, после ранения под Новороссийском, где дрался на суше в составе роты моряков. Пехотная жизнь ему, в общем, нравилась, тем более что Берлин — как он говорил иногда для самоуспокоения — город сухопутный, на корабле туда не попадешь. Однако, надо признаться, его самолюбие страдало от того, что многочисленные рапорты командованию о переводе во флот пока что не имели последствий: то ли они застревали в канцеляриях, то ли не нуждался флот в офицерах.
Акимов плавал на Черном море лейтенантом, командиром морского охотника — корабля четвертого ранга. Этот маленький кораблик затонул при выполнении боевого задания.
Точно неизвестно, что именно придает морякам обаяние в народе: то ли опасная и романтическая профессия, соленый ветер морей, потрясший воображение сухопутного человечества со времен Гомеровой Одиссеи; то ли образ жизни, приучающий их к спаянности и бесстрашию перед лицом самой неверной из стихий; то ли, наконец, их малочисленность на бескрайних сухопутных пространствах России, — как бы то ни было, но здесь, в пехоте, бывший моряк пользовался беззаветной любовью своих солдат в немалой степени из-за своей принадлежности к морю. Солдаты первого батальона нередко выхвалялись перед своими товарищами из других подразделений: «У нас комбат — морячок! Вот это парень! С ним не пропадешь!»
В короткий срок Акимов вырос в звании до капитана и был назначен сначала командиром роты, потом — батальона. В связи с этим он даже начал немного побаиваться обратного перевода во флот. Дело в том, что там он был лейтенантом и его знания и опыт не позволили бы ему занять на корабле пост, соответствующий званию капитан-лейтенанта. Флот — дело, связанное с разнообразной, сложной и непрерывно усложняющейся техникой, там одной храбростью и организаторскими способностями не обойдешься.
И все-таки Акимов часто тосковал о море, в частности — о Черном море с его пестрыми, людными, говорливыми портами, с его ярко-синим небом и ярко-зелеными берегами. Он тосковал о корабле — этом чудесно слаженном организме, маленьком мудром мирке, в котором нет ничего лишнего, ничего неразумного и население которого, спаянное общей жизнью и смертью, составляет как бы одно целое на плавно покачивающемся под ногами крохотном кусочке Советской родины.
В Акимове все было от моряка — даже глаза: зеленоватые, цвета моря. А рябинки по всему лицу тоже, казалось, не от оспы появились у него, а от едкости соленой морской волны.
На самом же деле Павел Акимов был родом из города Коврова, от которого до моря не всякая птица долетит. Во флот он попал благодаря своему большому росту — 190 сантиметров — и физической силе, да потому еще, что комсомол, шефствовавший над флотом, старался посылать туда лучших ребят. Акимов, работавший токарем-инструментальщиком, слывший деятельным общественником, и был тем идеальным комсомольцем для флота, о котором мечтают райкомы и горкомы комсомола на всем протяжении нашего обширнейшего из государств. Кончив всего только семилетку и поступив на завод учеником токаря, он вскоре, в силу своих выдающихся способностей и природного упорства, стал лучшим специалистом по части самых тонких токарных работ, которые всегда выставлялись на выставках, приуроченных к городским и областным комсомольским конференциям. Это не мешало ему, в отличие от многих его сверстников, точно и в срок выполнять довольно многочисленные комсомольские поручения разного рода. Вместе с тем он учился заочно и сумел, несмотря на все свои производственные и общественные обязанности, стать так называемым отличником учебы, то есть человеком, получающим пятерки по всем предметам. Это было тем более трудно, что учиться заочно дело в первую очередь личной силы воли. Тебя фактически никто не подстегивает, кроме твоей собственной совести. Учиться без палки, хотя бы самой нежной, — трудное дело. Притом стоит отметрить, что Акимов зарабатывал больше, чем любой инженер на его заводе, и, таким образом, учился он не ради увеличения своих заработков, а ради желания много знать и приносить людям большую пользу. Добавим, что он был самым внимательным из сыновей в многочисленной семье старого ткача. Понятно, что его любили в городе, где он родился и вырос.
Город Ковров расположен на высоком берегу реки Клязьмы и основан в XII веке звероловом Епифаном — так по крайней мере гласит предание. Четыре века спустя им владела отрасль князей Стародубских — князья Ковровы, или Ковры, как о том сообщает продолжение Несторовой летописи. Город этот, как две капли воды похожий на многие другие уездные города Центральной России — с церквами, каменными красными рядами, тихими прямыми улицами, обставленными двухэтажными домиками с кирпичным первым и деревянным вторым этажом, — незадолго до революции имел тридцать три питейных заведения, одну гимназию, одно городское училище и одну больницу, несколько бумагопрядильных фабрик, салотопенный и мукомольный заводы, а также мастерские Московско-Нижегородской железной дороги. Этот городок за советские годы разросся, стал большим и шумным, полным рослой и любознательной молодежи, в крови и облике которой жили поколения звероловов и землепашцев, возделавших эти места.
Из города ткачей и прядильщиц он превратился в город металлистов, и железнодорожные мастерские стали крупным заводом, вырабатывающим мощные экскаваторы, которые можно видеть на всех больших и малых строительствах от Комсомольска до Москвы. На этом заводе как раз и работал Акимов.
Семья Акимовых жила в маленьком домике Заречной Слободки, которая сообщалась с городом старым паромом. Мост через Клязьму был тут построен позднее. Река Клязьма с ее притоками Уводью и Нерехтой — небольшими студеными речками, полными омутов и осоки, — эта река с притоками и была тем тренировочным полем, где Акимов, сам того не зная, готовился к морской службе. Здесь он с детства выучился плавать и нырять, здесь он зимой на блесну ловил окуней, а летом на подпуска и в самодельные крылены — лещей, судаков, щук, а иногда и стерлядей. Здесь он без памяти полюбил жизнь на воде. Здесь, в прелестной, пересеченной живописными оврагами местности, среди зарослей мяты, среди густого орешника, ржаных полей, березовых рощ и редкого сосняка, среди луговин и полян, полных иван-да-марьи, желтых лютиков и медуницы, он приучился к тесному общению с природой, к пониманию ее, что составляет одну из драгоценнейших черт русского человека.
Акимов был, таким образом, происхождения «резко континентального», как он сам выражался, а зеленоватые глаза — если правда, что глаза могут перенимать окружающие краски, — приобрели, по-видимому, свой цвет от родных бледно-зеленых холмов и извилистых речек бывшей Владимирской губернии.
Всю свою силу, упорство и мастерство Акимов вложил бы в создание осязаемых человеческих благ — экскаваторов, железнодорожных вагонов, холодильников или автомобилей; он закончил бы институт, остался бы в Коврове или уехал бы в другое место, — например, в один из сибирских новых городов; можно не сомневаться и в том, что при его характере и образе мыслей он делал бы свое дело с размахом и сметкой, свойственной ему, и от этого проистекло бы много полезного для нашего народа. Но всего этого не произошло по той причине, что нужны были люди в армии и флоте. Его взяли в военный флот при ворошиловском наборе в 1936 году. Тут он служил матросом, потом старшиной, а позже кончил военно-морское училище и стал командовать кораблем четвертого ранга, не принося никому видимой пользы. И лишь когда война началась, его опыт и умение оказались нужными людям, как воздух, которым мы дышим, и как кровь, которая питает наше сердце.
Даже сержант Майборода — ординарец, или, как он сам себя называл теперь по-морскому, «вестовой», капитана Акимова, человек сугубо практичный и прижимистый, до войны — заведующий буфетом, да еще на железной дороге, да еще в Конотопе, то есть человек прозаический до мозга костей, — даже и он относился к своему командиру, бывшему моряку, по-особому.
Вообще Майборода считал, что людей без недостатков не бывает, и склонен был серьезно преувеличивать эти недостатки. Если же такие люди существуют, думал он, то это только значит, что они умеют искусно скрывать свои дурные стороны, и стоит с ними пожить подольше, чтобы обнаружить плохое в них.
Однако в Акимове он не находил недостатков, хотя был его ординарцем уже три месяца — срок на войне немалый. То есть не то чтобы не находил. Недостатки были, но Майборода считал их до неправдоподобия незначительными. Акимов был вспыльчив. «Попробуй не вспыли, когда кругом такая беда», — рассуждал Майборода. Акимов был иногда несправедливо резок со своими подчиненными. По этому поводу Майборода говорил другим солдатам: «С нашим братом будешь мягкий, он на голову сядет».
Большая голова Майбороды с кривым носом и заплывшими глазками была между тем полна тяжелых мыслей, потому что семья его находилась под немцем, в Конотопе. Свою хлопотливую службу он нес образцово, но выглядел при этом очень унылым, очень скучным и чем-то недовольным. Он любил побрюзжать, собеседников прерывал издевательским и приводящим многих в ярость вопросом: «Ну и что?» — и вообще был в общежитии мало приятным человеком.
Только в присутствии Акимова, как в присутствии любимой девушки, он преображался. Все в Акимове — простоватый вид, под которым, как хорошо знал Майборода, крылись большой ум и недюжинное знание жизни, меткие слова, задумчивая усмешка и оглушительный хохот, — все это действовало на ординарца, как шпоры на добрую лошадь, все это вырывало его из плена тяжелых мыслей о себе, своих детях, своей жене, своем положении, своем будущем — всех тех мыслей, с которыми он прожил жизнь.
Он больше всего любил минуты, когда во время затишья на фронте Акимов, обычно лежа, рассказывал разные истории о боевых действиях моряков и вообще о флоте. Он часто расспрашивал Акимова о флотской службе и о море, которого сам никогда не видел.
— Объяснить это трудно, — отвечал Акимов, улыбаясь той задумчивой усмешкой, которая обычно тут же, как в зеркале, хотя и чуть кривом, отражалась на лице Майбороды. — В общем, это просто много воды, но это не похоже на воду в понимании такой полевой мыши, как ты. Это целый мир. Как нельзя, собрав много червей, сделать змею, так нельзя, собрав вместе сто рек, устроить море. Море — это дело особое. У него свой запах, свое небо, свой свет и своя тьма. Поверхность его меняется в цвете. С суши оно кажется темным и чем ближе к горизонту, тем темнее. А по этой темной массе, наподобие барашков в стаде, двигаются белые пятна. А если глядеть на море с корабля далеко от берега, то оно кажется синим… — Досадуя на то, что, несмотря на обилие слов, он все-таки не может толком объяснить, в чем дело, Акимов неизменно заканчивал так: — Надо на это самому посмотреть. Коли живы останемся — поедешь со мной в Севастополь или Одессу.
3
Землянка комбата Акимова славилась во всех здешних оврагах батальонных и ротных — своими удобствами. Об удобствах заботился Майборода, и все офицеры сильно завидовали Акимову, имевшему такого ординарца.
Пол здесь был выложен целехонькими, хотя и почерневшими от пожара кирпичами, поверх которых была настлана солома. Железная печурка накалялась тут до красна; возле нее всегда сушилась целая гора дров. Правда, это были не настоящие дрова — березовые или сосновые, по которым тосковала душа Майбороды, — а всего лишь тонкие ивовые прутья. Но в других землянках зачастую и таких не было. Прутья эти Майборода под пулями немцев рубил на берегу ручья, извивающегося вдоль переднего края, и тащил их оттуда вязанками, иногда ползая по-пластунски. Такими же прутьями были густо оплетены сырые стены.
Здесь стояли стол и две скамейки, на гвозде висел темно-синий снаружи и ослепительно белый внутри, мирный, как голубь, эмалированный таз, бог весть где приобретенный. Нары здесь были не земляные, а настоящие, дощатые.
В землянке был даже патефон. Правда, иголок не имелось вовсе, но Майборода приспособил швейную иголку, которая, право же, ничем не уступала настоящим. Пластинок было всего четыре, и те — не песни, а инструментальная музыка, что вначале всем очень не понравилось, показалось скучным и никчемным. Но потом к этим песням без слов привыкли, уловили их сильную и тонкую мелодию. Они проникали в сердца медленно, но настойчиво. В спокойные часы солдаты даже напевали, лежа в мокрой траншее, вперемежку с родными песнями «классику», что особенно радовало душу бывшего учителя истории, а ныне замполита, капитана Ремизова.
Землянка вскоре заполнилась. Пришли адъютант батальона лейтенант Орешкин, командиры стрелковых рот Погосян и Бельский, лейтенант-минометчик и лейтенант командир взвода — все оставшиеся в строю офицеры батальона. В углу у телефона дремал дежурный солдат-связист.
Пока Акимов медленно снимал с себя телогрейку, пришел и его заместитель по политической части, капитан Ремизов. Скинув замызганную плащ-накидку и протерев залепленные грязью очки, он спросил:
— Какие новости?
— Садитесь, товарищи, — сказал Акимов и развернул на столе карту. Не поднимая глаз, он добавил просто: — Воевать будем.
Он почувствовал — не увидел, как насторожились офицеры, и вслед за тем услышал бесконечно долгое шуршание медленно вынимаемых из планшетов карт.
В этот момент вернулся Майборода. Он бесшумно прошел вдоль стены к своему месту у печки. Пока Акимов излагал предварительный план боя, Майборода, чутко прислушиваясь к его словам и время от времени сокрушенно вздыхая, жарил баранину. По землянке все больше распространялся приятный, почти пьянящий запах жареного мяса. Майборода мысленно подсчитывал число возможных едоков, чтобы никого не обделить и в то же время не перебарщивать, дабы что-нибудь осталось и на завтра. «А завтра, — думал он, покачивая головой, — едоков будет поменьше…»
Бой был назначен на восемь часов утра — время, когда немецкие солдаты завтракали и у них в траншеях оставалось меньше народу. Артподготовке отводилось двадцать минут. Задача — захватить первую немецкую траншею и закрепиться в ней. Полковые саперы идут в боевых порядках батальона. Остальные детали будут уточнены после получения полкового приказа.
— Вопросы есть? — спросил Акимов, помолчав.
Никто не ответил.
— Задача ясна? — нахмурившись, опять спросил Акимов.
— Ясна, — негромко произнес один из офицеров.
— Огневая поддержка будет серьезная, — сказал Акимов. — Вся полковая и дивизионная артиллерия будет работать на нас. — Он опять помолчал, потом вдруг вспыхнул, покраснел и произнес громко и раздраженно: — Это большая честь для нашего батальона, и нечего сидеть, как сычи. Солдат мало? Устали? Знаю. И комдив это знает. Может быть, Верховный Главнокомандующий и тот это знает. Понятно?
Он впервые поднял на них глаза. Нет, они, разумеется, не поняли последнего намека. И Акимов все больше сердился, его лицо приобрело злое, жестокое выражение.
— Стыдно смотреть на таких офицеров! — вскипел он окончательно. Попоны хотя бы сняли! — Он не знал, на чем выместить свой гнев и свою жалость к измученным товарищам, которых он обязан мучить еще больше, чтобы заставить их подтянуться и приободриться перед предстоящим боем. И оттого, что этот бой был последним здесь, в эту ужасную осень, и они не знали этого, а он считал себя не вправе им сказать, он еще больше раздражался и терзался. Когда же они в ответ на его несправедливые и обидные выкрики молча и покорно сняли плащ-накидки, он сразу присмирел и чуть не сказал им всей правды, так ему стало их жалко. Но он только махнул рукой, произнес в отчаянии: — Эх! — и крикнул Майбороде:
— Вестовой! Баранины и водки!
4
Отказался ужинать один только Ремизов, который водки не пил, а ел очень мало — он свой обычный паек и тот наполовину отдавал самому прожорливому из офицеров, худому как щепка, но вечно голодному Погосяну. Даже война не могла приучить Ремизова к водке, хотя она же обнаружила в нем много новых для него черт, приводивших порой его самого в изумление, например физическую выносливость и неутомимость, о которой он, болезненный и вечно хворавший человек, даже не подозревал раньше.
Акимов искренне удивлялся этой неутомимости Ремизова и иногда с грустью думал про себя, что Ремизов будет держаться до конца войны, а в день и час, когда война кончится, он упадет — сразу, как сноп, так же глядя в небо своими большими, глубоко запавшими близорукими глазами, как он глядит сейчас куда-то в пространство, не то думая о чем-то, не то просто отдыхая.
Но вот Ремизов встал и сказал своим негромким голосом:
— Ну, ребята, ешьте, а я пойду. Надо созвать ротные партсобрания и подготовить людей к бою. Завтра двадцать четвертое сентября — в этот день ровно сто пятьдесят четыре года назад произошло сражение при Рымнике, в котором Александр Васильевич Суворов разгромил турецкие войска. Попробуем и мы проделать в этот день то же самое с немецкими войсками хотя бы на четверть. Надеюсь, ты, Павел Гордеевич, не обиделся на меня, что по военному таланту я считаю тебя в четыре раза слабее генералиссимуса Суворова?
Акимов угрюмо отшутился:
— Этого даже многовато, но учтем, что он не имел заместителя по политчасти, а я имею.
— Прекрасно, друзья мои, — сказал учитель Ремизов, и всем сразу вспомнилась школа.
Акимов крикнул вслед уходящему Ремизову:
— Проследи там, чтобы люди вовремя поужинали и пораньше легли сегодня спать.
Не успели доесть баранину, как из штаба полка прибыл офицер с письменным и подробным приказом на разведку боем, а следом за ним появились полковой инженер Фирсов, начальник артиллерии Гусаров и офицер разведки капитан Дрозд. Немного позднее пожаловал старик полковник из сменяющей дивизии.
Никто, кроме Акимова, не знал, кто такой этот полковник, и все восприняли его приход по-будничному, решив, что это какой-нибудь новый начальник из штаба дивизии или корпуса. Акимов же встрепенулся, в упор посмотрел полковнику в глаза, как бы проверяя, помнит ли тот их уговор. Полковник кивнул головой. Тогда Акимов, не желая показать ему свое раздражение и тревогу, заставил себя улыбнуться и спросил:
— Ну, как вам нравится наш кубрик, товарищ полковник?
— Вы спрашиваете о батальонном КП? — с непроницаемым видом осведомился полковник.
— Так точно.
— Ничего.
— Это все мой ординарец, — сказал Акимов, словно не заметив крывшегося в словах полковника упрека по поводу неуставного выражения. Великий мастер по части благоустройства.
Разведчик, капитан Дрозд, сообщил:
— Сейчас придут разведчики с переводчицей. Командир полка приказал, чтобы она была здесь у вас, Акимов. На случай, если притащим пленных, она сразу их допросит.
Акимов недовольно поморщился — ему вовсе не улыбалось присутствие девушки в землянке, он слишком хорошо знал за собой серьезную слабость: привычку к употреблению крепких слов во время боя.
Дрозд продолжал:
— И вот еще что, командир полка велел — не пускайте ее отсюда. А то она любит лезть вперед, вместе с разведчиками.
— Ну и пусть лезет, если любит, — грубовато ответил Акимов. — Только и дела мне, что нянчиться с ней.
О новой переводчице Акимов уже много слышал. За десяток дней пребывания в полку она стала в своем роде знаменитой: о ее храбрости говорили даже старые разведчики, которых этим не удивишь. В частности, на днях рассказывали о том, как она три ночи подряд на участке второго батальона выползала на нейтральную полосу, в камыш, и вела разведку подслушиванием. Таким образом ей из разговоров немецких солдат и разных звуков на их передовой якобы удалось установить подход свежего немецкого батальона и занятие им обороны на левом фланге полка.
Откровенно говоря, Акимов сразу же, заочно, невзлюбил ее. Сам человек необычайно храбрый и большой выдумщик по части подстраивания противнику разных каверз, он ревниво слушал рассказы о чьей-либо храбрости. Таковы тайные и жгучие язвы самолюбия, что рассказы эти воспринимались им всегда как упрек лично ему, Акимову: а ты этого не сумел! Тем более тут шла речь о девушке, что было и вовсе неприятно.
Впрочем, сейчас Акимову было не до нее. С каждой минутой темп жизни нарастал все больше. Дверь землянки уже почти не закрывалась, а плащ-палатка, занавешивающая дверь, дергалась и хлопала беспрестанно: это появлялись и исчезали все новые действующие лица той драмы, которая должна была разыграться завтра.
Акимов, отдавая бесчисленные распоряжения, уточняя с артиллеристами цели, с саперами — районы наших и вражеских минных полей и линий колючей проволоки, со своими офицерами — план действий на все могущие быть предсказанными случаи жизни, иногда забывал о событии, которое должно было произойти после боя, — об уходе в тыл. Вспомнив же об этом, он на мгновение замолкал, кровь горячо подступала к сердцу, и он косился на полковника с каким-то почти суеверным чувством: а сидит ли действительно там, в углу, этот полковник? Можно было чувствовать к нему какую угодно антипатию, но его присутствие здесь означало непреложный факт — завтрашний уход в тыл. А вдруг оглянешься — и никакого полковника здесь нет? Просто это был плод воображения, лихорадочного сна!
Но полковник сидел на месте, и это был, несомненно, реальный полковник, притом — полный желчи ревнитель уставов.
Посреди гула негромких разговоров, сухого треска открываемой и закрываемой двери и свиста ветра, то усиливающегося, то слабеющего, в землянке вдруг раздался звук, похожий на шипение закипающего молока, потом послышалась громкая и приятная мелодия: Майборода завел патефон.
— Это зачем же? — встрепенулся полковник. — Прекратите. Нашли время!
Акимов, дававший артиллерийским офицерам цели на поражение, остановил карандаш, которым метил что-то на карте, и, взглянув на полковника в упор, спокойно возразил:
— Это я распорядился. Пусть играет. Немцы к этому привыкли. Если не поиграть вечером, они еще, чего доброго, заподозрят неладное. Военная необходимость, товарищ полковник.
«Попробуй придерись к этому черту», — подумал полковник, с уважением глядя на склоненную над столиком упрямую голову Акимова. Наблюдая за подготовкой боя, полковник не мог не отметить внешнего спокойствия и непринужденности молодого комбата, управлявшего людьми с уверенностью, которая дается привычкой командовать и личным бесстрашием.
— Минометная батарея немцев стоит вот здесь, — продолжал Акимов, энергично ткнув карандашом в какую-то точку на карте. — Накройте мне эту батарею, и я — царь.
Телефон заверещал, связист взял трубку и тут же передал ее Акимову, сказав:
— Вас командир полка просит.
Акимов поговорил с Головиным, вернее, молча слушал, что говорит ему командир полка, время от времени коротко вставляя: «понятно», «есть», «слушаюсь», «будет сделано». Только в конце разговора он вдруг покраснел и воскликнул:
— Что за наказание, товарищ майор! Опять про эту переводчицу! Да избавьте меня, бога ради, от такой обязанности — оберегать девицу… Есть. Хорошо. Ладно.
Он положил трубку, чертыхнулся и, разведя руками, сказал капитану Дрозду:
— Всё о вашей переводчице пекутся. — Он задумался, ехидно усмехнулся и добавил: — Наверно, у нее высокий покровитель какой-нибудь есть. Держал бы ее при себе.
Дрозд ответил сдержанно:
— Уж не знаю, есть или нет. Не мое дело.
Вошел низенький квадратный старшина, доложивший, что прибыли боеприпасы. С его шинели ручьями сбегала вода. И еще приходили люди с донесениями и просьбами разного рода.
«Все идет нормально», — думал полковник. Он поднялся с места и сказал:
— Пора. Я пойду погляжу ваш передний край.
— Прикажете сопровождать вас? — спросил Акимов, тоже вставая.
— Занимайтесь своим делом, а со мной пошлите кого-нибудь.
Адъютант батальона, лейтенант Орешкин, румяный, стройный, как тростинка, и красивый, как куколка, поняв кивок Акимова, взял автомат и пошел вслед за полковником.
В овраге их сразу, словно обрадовавшись новым жертвам, подхватил сильный ветер, больно хлеща по лицу холодными дождевыми каплями.
— Начнем справа, — сказал полковник.
Они пошли по оврагу. Здесь, несмотря на непроглядную темень, уже ощущалось непрерывное движение. Темные тени двигались во всех направлениях. Переваливаясь по щербатым ямам, поскрипывали повозки. Целые созвездия папиросных огоньков светились тут и там. Овраг вился то влево, то вправо, и ветер соответственно поворотам то утихал, то налетал с удвоенной силой.
Выбравшись из оврага, полковник с лейтенантом пошли по довольно мелкому ходу сообщения. Немецкие ракеты медленно и плавно подымались и опускались, бледным зеленоватым светом на мгновение освещая лабиринт залитых водой темных лазов, ходов и окопов, перерезавших землю вкривь и вкось, и стальную ленту ручья с дрожащими от холода зарослями осоки. Из землянки комбата все еще слышалась печальная музыка какого-то классического концерта.
— Давно с Акимовым работаете? — спросил полковник.
— Полгода, — охотно ответил шедший впереди молоденький лейтенант. — Я командовал взводом, потом Акимов взял меня к себе.
— Хороший командир?
— Очень! — Ответ прозвучал почти восторженно. — Лучший в дивизии. Между прочим, он моряк.
Трассирующие пули пронеслись над головой.
— Здесь опасное место, — сказал лейтенант. — Траншея не закончена. Метров пятьдесят придется пройти по поверхности земли.
— А в акте указана сплошная траншея, — проворчал полковник.
Они почти на четвереньках переползли опасное место и опять спрыгнули в траншею, подняв целый фонтан воды. Здесь их окликнули. У прикрытого чем-то пулемета стояли два пулеметчика, а немного подальше — большая группа солдат. Оттуда раздавался негромкий, ласковый голос, говоривший:
— Итак, друзья мои, вот что известно нам из истории о справедливых и несправедливых войнах. Вот как наша партия относится к войне вообще и к нынешней Великой Отечественной войне — в частности. Да, нам трудно. Да, мы оставили дома свои семьи и свое дело, которому посвятили жизнь. Да, мы, мирные люди, воюем беспощадно и деремся отчаянно. Потому что дело идет о свободе и независимости нашей родины и в конечном счете — о будущем всего человечества, о счастье порабощенных народов Польши и Чехословакии, Франции и Бельгии, Дании и Норвегии.
Эти слова, произносимые в темноте ненастной ночи, были довольно обыкновенными словами, употреблявшимися многими военными политработниками, но тон, каким они произносились, и тихая ясность, которую излучал этот негромкий голос, по-особенному волновали душу.
Голос понемногу пропал в отдалении.
— Это кто? — спросил полковник.
— Наш замполит, капитан Ремизов, — ответил лейтенант. — Он у нас лучший политработник в полку. Между прочим, учитель.
— У вас одни только лучшие, — усмехнулся в темноте полковник.
И ему захотелось чем-то обрадовать молоденького лейтенанта и рассказать ему о том, что завтра его батальон вместе с другими отправится куда-то далеко от этого мокрого и трудного житья. Но он вспомнил обещание, данное Акимову, и промолчал.
Глава вторая АНИЧКА БЕЛОЗЕРОВА
1
После ухода полковника Акимов переговорил со связистами. Он предложил им с утра развернуть рацию на случай, если противник на время выведет из строя проводную связь. Потом явились артиллеристы-наблюдатели, которых он разослал в роты, с тем чтобы они с самого переднего края могли корректировать огонь своих батарей.
На печурке закипал чай. Кое-кто из офицеров задремал, усевшись на солому. Майборода поставил новую пластинку. То и дело звонил телефон. Акимов принялся с полковым инженером окончательно решать вопрос о местах, где будут сделаны проходы в минных полях.
И вдруг за дверью землянки, совсем близко, раздался громкий, серебристый женский смех. Все подняли головы. Смех раздался снова, уже рядом с дверью, дверь отворилась, плащ-палатка приподнялась, и на пороге появилась девушка. Она смеялась.
— Ох, умора! — произнесла она наконец, вытирая рукавом шинели мокрое смеющееся лицо. С минуту она постояла, довольно бесцеремонно оглядывая собравшихся в землянке людей, потом сказала: — Никак не ожидала услышать тут такую музыку! — Она подошла к патефону, сделалась вдруг серьезной и задумчивой, а когда пластинка пришла к концу, промолвила: — «Танец Анитры» Грига. Тут, я вижу, живут любители классической музыки.
Только после этого она поздоровалась:
— Здравствуйте. Кто здесь командир батальона?
— Я, — ответил Акимов, подчеркнуто лениво повернув к ней большую тяжелую голову.
Девушка, видимо почуяв что-то недружелюбное в этом ответе, сверкнула глазами, но представилась как положено:
— Военный переводчик лейтенант Белозерова.
Акимов ничего на это не сказал и снова отвернулся к инженеру. Она же подошла к Дрозду и, сказав: «Разведчики пришли», — села на корточки к огню.
Легкое замешательство, наступившее с ее приходом, рассеялось. Акимов продолжал — правда, громче, чем прежде, — уточнять с инженером участки разминирования. Офицеры, раньше дремавшие на соломе, остались в тех же позах, но сон с них как рукой сняло. Девушка, согрев руки, приблизила свое лицо к уху Майбороды и негромко спросила:
— Голубчик, нельзя ли еще раз поставить эту пластинку?
Майборода благосклонно кивнул, снова завел свой музыкальный ящик, и оттуда опять полилась причудливая и изящная мелодия знаменитого норвежца.
Хотя все как будто были заняты своим делом, но все тем не менее следили за девушкой. Тонкий овал ее юного лица, большие карие глаза, затененные ресницами редкостной длины, — без ресниц они казались бы нескромными, до того сияли они безмерной молодостью и жаждой жизни, выдающийся вперед и придающий лицу выражение отваги подбородок гордячки, крохотные — по крайней мере в сравнении с остальными здесь в землянке сапожки, выше которых чуть виднелись, но с несомненностью угадывались стройные и крепкие ноги, — все это вместе не могло не поразить сидящих здесь людей хотя бы по одному тому, что они давно не видели женщин.
Что касается капитана Акимова, то его равнодушие было насквозь притворным. На самом деле он сразу забыл, что только за несколько минут жаловался на то, что он от всех слышит «переводчица да переводчица». Более того, он искренне удивился тому, что ему так м а л о говорили о ней. Что-то оборвалось в нем при виде девушки. Ему показалось, что он сразу понял, что именно эта девушка — кем бы она ни была и как бы ее ни звали, эта девушка, со смехом вынырнувшая из осеннего, темного, безбрежного мира, и есть та самая, о которой он думал в течение прошлой жизни. Весь мир, включая эту землянку, бесконечные овраги, разбитые деревни и изрытые саперными лопатами мокрые равнины в этот момент показались ему новыми, небывалыми, окрашенными в другой цвет и находящимися как бы в другом измерении. Или, может быть, он сам перешел сразу из одного состояния прежнего, привычного состояния души и даже прежнего физического состояния — в другое, необычное, более светлое, как перешел бы альпинист, поднятый на высокую горную вершину, в другую, высокогорную атмосферу, где дышать и легче и труднее.
Этот переворот, совершившийся в одну минуту, и не с восемнадцатилетним юношей, а с почти тридцатилетним человеком, уже видавшим жизнь и знавшим женщин, показался ему самому не только глупым и ненужным, но и смертельно опасным. Он привык управлять самим собой, выражением своего лица и сердечными своими движениями. И в этот миг, почуяв, что где-то он может оказаться во власти чужой, непонятной силы, с которой ему не справиться, он решил дать ей беспощадный отпор. И прежде всего он решил ожесточиться, во что бы то ни стало ожесточиться.
С этой целью он стал думать о том, что, очевидно, как он и предполагал раньше, у девушки есть «высокий покровитель», проще сказать любовник в большом звании, который настолько влиятелен, что заставляет даже командира полка заботиться о ее безопасности. «Кто бы это мог быть?» — с потугами на презрение начал думать Акимов, хотя сознавал, что никакого презрения не испытывает и вовсе не интересуется узнать имя того человека.
Далее, он решил, что она показалась ему привлекательной и чудесной только и исключительно потому, что она — одна женщина среди многих мужчин, и тяга к ней — не более чем тяга к женщине вообще, самая низменная, физическая тоска по женскому телу. В связи с этим он мысленно утверждал, что, увидев ее на улице в Одессе или Севастополе, он, вероятно, и не оглянулся бы на нее, потому что там она была бы одна из многих и не лучше других, а, может быть, хуже.
Далее, она о чем-то шепчется с Майбородой, пригибаясь к его уху, из чего следует, по всей вероятности, что она привыкла к мужскому обществу и готова любезничать со всяким.
Далее. Войдя, она сказала: «Ох, умора», — что не является доказательством ее культурности, а скорее напоминает уровень некоторых портовых красоток. Это обстоятельство, как ни странно, особенно задело или, наоборот, устраивало — Акимова, потому что он, вышедший сам из глубин народа, сумел прочитать уйму книг, много работал и учился, и культурная отсталость молодого человека при Советской власти, так широко поощряющей учение, справедливо казалась ему признаком расхлябанности, лени и никчемности величайшей.
Далее, она, по всей вероятности, не умна. Почему она смеялась? Почему музыка должна вызвать у девушки такой странный и пошлый рефлекс?
Вот эти и другие защитные линии воздвигал Акимов вокруг своего сердца.
При всем том прежняя напряженная и сложная жизнь продолжалась. Время начала боя неотвратимо приближалось. Возникали все новые вопросы, и Акимов как бы со стороны наблюдал за собой и слышал, как чужой, свой собственный голос, так же спокойно, как всегда, отдающий приказания и спрашивающий советов; видел себя задумавшимся на мгновение по поводу какого-нибудь серьезного дела и потом так же ясно принимавшим решение, о котором тут же — и совершенно спокойно — сообщал остальным; он видел себя поднимающимся с места, идущим к телефону и говорящим с командиром полка, с его заместителем по тылу, с командующим артиллерией дивизии по поводу бесчисленного множества разных деталей, имеющих жизненно важное значение для успеха боя.
Все делая как обычно, Акимов особенно остро замечал то, что творилось около девушки. Он обратил внимание на то, что артиллеристы, с которыми обо всем было договорено, не ушли, а подсели к ней и разговаривают с тем неестественным выражением лиц, какое бывает у мужчин в присутствии красивой женщины; что капитан Дрозд, всегда шумливый и развязный, теперь, возле переводчицы, очень робок; что даже пожилой инженер Фирсов и тот говорит ей что-то приятное; что Майборода, этот известный жмот, угощает переводчицу бараниной.
Больше всего Акимова задело поведение пришедшего из рот капитана Ремизова. Кто-кто, а Ремизов, носивший фотографию своей жены, Марии Алексеевны, в левом кармане вместе с партбилетом, известный среди офицеров под прозвищем «монах», — этот должен был бы вести себя сдержаннее. Но и он был очарован новой переводчицей и не пытался это скрыть. Краешком глаза Акимов наблюдал, как Ремизов, глупо (как теперь казалось Акимову) улыбаясь, показывает девушке фотографию своей жены, потом дает ей три куска сахару, и она глотает, смеясь, кипяток с сахаром Ремизова, который, таким образом, остался вовсе без сахара, что почему-то особенно разозлило Акимова.
«Хотя бы приличия ради отказалась», — думал он и свирепо поглядывал на Ремизова. Все это лебезение перед «девицей» наконец осточертело Акимову, и он, вставая, громко сказал:
— Хватит. Все по местам.
Артиллеристы нехотя поднялись и нехотя ушли. Связисты, помявшись и еще несколько минут потолковав с Акимовым насчет связи, ушли тоже.
— Устраивайтесь, кто где хочет, — бросил Акимов оставшимся, а сам начал надевать телогрейку. — Я пойду в роты, — сказал он Майбороде.
В этот момент начался очередной немецкий артобстрел. Он продолжался недолго и закончился так же внезапно, как и начался. То был самый обыкновенный артиллерийский налет, но Акимов поймал себя на том, что он боится попадания снаряда в землянку.
Сразу же после артналета дверь распахнулась, и вошли — вернее, ввалились — полковник с Орешкиным.
— Чуть под мину не угодили, — сказал полковник, возбужденный и помолодевший. От его лоска ничего не осталось, он был весь в грязи и глине.
Подняв глаза, он увидел девушку и вдруг, пораженный, воскликнул:
— Аничка! Как ты сюда попала?
Девушка присмотрелась к нему, вся просияла, обхватила его шею и закричала:
— Семен Фомич, дружище! Вы-то что тут делаете?
— Потом объясню, потом, — покосившись на присутствующих и густо покраснев, забормотал полковник. — Ты на фронте? Здесь? А где папа?
Слово «папа», произнесенное в этой землянке перед боем и устами угрюмого и строгого полковника, прозвучало до невероятности странно и нежно. Оно вдруг заставило людей, связанных только службой и общим делом, посмотреть друг на друга по-новому — как на людей, имеющих папу, маму, бабушку и прочее такое, далекое, как облака.
Акимов, уходя, впервые посмотрел на полковника с некоторой симпатией и подумал даже, что он ошибся в этом старике и что на самом деле это, вероятно, хороший и душевный старик. И то, что у девушки есть папа обстоятельство как будто более чем естественное — и что этот полковник знаком с ним, тоже показалось Акимову, неизвестно по какой причине, очень приятным и даже важным, словно оно, это обстоятельство, снимало с девушки что-то нехорошее из того, о чем Акимов думал раньше. И вместо того чтобы досадовать по этому поводу, Акимов против своей воли радовался.
2
Аничка Белозерова смеялась, входя в блиндаж, вот почему. Когда она, очутившись вместе с разведчиками в овраге, услышала музыку — сначала издали, потом все ближе, — мелодия показалась ей знакомой и напомнила довоенное прошлое: Москву, уроки музыки и все остальное, связанное с мирным временем. Чем ближе она подходила, тем светлее становилось у нее на душе. Приостановившись и прислушиваясь, она непроизвольно спросила у самой себя вслух:
— Что это играют?
И тут неожиданно из кромешной темноты раздался спокойный и веский голос какого-то солдата:
— Танец Анюты играют. Это у нашего комбата в блиндаже.
Тут Аничка в самом деле узнала «Танец Анитры» Грига и от души рассмеялась новому, сильно обрусевшему солдатскому названию этого танца. Весь остаток пути до землянки захлебывалась она счастливым смехом, который так странно прозвучал среди окружающего сурового пейзажа войны и напряженного безмолвия перед боем.
Встреча же с полковником Верстовским, старым знакомым ее отца, женатым на их дальней родственнице, и вовсе растрогала ее. Вместе с музыкой Грига она живо напомнила Аничке тот прошлый мир, который еще недавно казался ей узким, ограниченным и даже немного мещанским, а теперь, на фронте, представился не таким уж плохим.
Короткий рассказ Анички о событиях последнего времени и особенно о ссоре ее с отцом вызвал суровые упреки и тяжкие вздохи Семена Фомича.
Отец Анички, генерал-лейтенант медицинской службы Александр Модестович Белозеров, был знаменитым военным врачом. С августа 1941 года он работал в качестве главного хирурга одной из южных армий. Аничка осталась в Москве одна. Матери у нее не было — она умерла уже давно.
Аничка училась на втором курсе института иностранных языков, на немецком отделении. Институт в полном составе — вместе с преподавателями, знатоками немецкой литературы, — копал траншеи и противотанковые рвы вокруг Москвы, а в октябре его эвакуировали на восток, и Аничка отправилась в большой приволжский город. Здесь Аничка затосковала. Ей показалось стыдным и ненужным пребывание в институте. Она и так знала немецкий язык лучше всех на курсе: ее мать, окончившая в свое время в Швейцарии, в Цюрихе, медицинский факультет тамошнего университета, сама занималась с ней в детстве немецким языком, и занималась настойчиво, с беспощадностью хорошей матери. Таким образом, Аничка свободно говорила по-немецки, и знатоки удивлялись чистоте ее произношения.
Институт стал попросту ненавистен Аничке. Она теперь отдавала себе ясный отчет в том, что поступила сюда только потому, что и ранее знала немецкий язык, а учиться по-настоящему не хотела из-за постыдной лени и расхлябанности. Она признавала теперь правоту своего отца, который не желал отдавать ее в этот институт, презрительно именуя его «убежищем для ищущих мужа перезрелых барышень». Он хотел видеть свою единственную дочь врачом. Однако она сумела поставить на своем и вот теперь истерзала себя упреками. С началом войны она яростно возненавидела язык, на котором говорили захватчики. В огромной беде, обрушившейся на миллионы людей, Аничка впервые с полной ясностью подумала о своем долге и решила, что должна быть там, где труднее всего. В свете этих мыслей ей показались ничтожными повседневные интересы, которыми жили студенты, и ненавистными те из ее соучениц, которые все еще, хотя и меньше чем раньше, думали о нарядах и молодых людях. Разумеется, в своих страстных порывах к борьбе за общее дело Аничка преувеличивала собственные и чужие недостатки, но это преувеличение было естественным и плодотворным.
Содрогаясь от жалости, наблюдала она за толпами эвакуированных людей, согнанных немцами со своих мест и полных еще не улегшегося смятения. Санитарные поезда привозили в тихий город раненых солдат, и Аничка страдала при виде их страданий и от бессилия помочь им.
И вот она пошла к директору института и попросила дать ей годичный отпуск. Она не скрыла от него, что намерена вернуться в Москву и оттуда поехать на фронт. А именно, она хотела, подобно девушкам, о которых иногда писали газеты, пробраться в немецкий тыл, вредить немцам и передавать по радио или каким-нибудь другим полагающимся в таких случаях путем сведения о противнике.
Директор — может быть, по формальным соображениям, а скорее всего для того, чтобы не пускать на войну молодую и неопытную девушку, да еще дочь известного хирурга — наотрез отказал ей. Она тут же решила, что он изверг и дурак, и стала собираться в путь без разрешения.
О своем замысле она рассказала только одной подруге, Тане Новиковой. Таня очень разволновалась и согласилась ехать вместе с ней. Они целый день бродили по городу, долго стояли на набережной зимней, скованной льдами Волги, говорили разные красивые, но искренние слова и торжественно поклялись друг другу в том, что всегда будут стараться поступать честно и справедливо.
Но вернуться в Москву без разрешения оказалось не простым делом. Москва все еще была прифронтовым городом, и проезд туда был связан с большими хлопотами, с обязательным вызовом какого-нибудь учреждения и другими трудностями. Таня испугалась, как бы ее, словно преступницу, не ссадили с поезда и не отправили с позором обратно в институт. Тогда Аничка решила отправиться одна.
Она села в поезд без билета, так как для получения его нужен был пропуск в Москву. Устроившись на уголке какого-то сундучка в загроможденном людьми и вещами вагоне, она вначале очень волновалась. Окружающие люди показались ей крикливыми и злыми. Каждый старался занять место получше, и это обстоятельство как-то очень обижало Аничку. Но потом, когда поезд тронулся, выяснилось, что в вагоне сидят хорошие люди. Приглядевшись друг к другу и перезнакомившись, они стали дружелюбными и добрыми. Шум и споры улеглись, все довольно сносно разместились и зажили общей товарищеской жизнью.
Сперва Аничка опасалась проверки документов, но успокаивала себя тем, что ее отец — генерал: справку об этом она имела. Еще больше успокаивала ее мысль, что, как только она объяснит, зачем едет, ее беспрепятственно пустят в Москву. Убедив себя в этом, она ехала уже совершенно спокойно, разглядывая людей своими большими глазами и вызывая в окружающих чувство симпатии и радости, о чем она, по молодости лет, только еще начинала подозревать.
Так, в сознании — еще неясном, но могучем — своего обаяния и своей правоты, догадываясь, что нет большей силы, чем внутренняя убежденность, она проделала первые сутки пути.
Но вот случилось то, что должно было раньше или позже случиться. Дверь в вагон отворилась, и проводница провозгласила: «Проверка документов!»
Аничка встретила военных, проверявших документы, спокойным и открытым взглядом, и те, как ни странно, спросили документы у всех, кроме Анички. Не то чтобы они ее не заметили. Нет, они ее заметили очень хорошо, но, пожалуй, подумали, что не может такая девушка ехать одна, без папы или мамы. Один из них даже улыбнулся ей, и его угрюмое кирпичное лицо покрылось при этом грубыми, но добрыми складками. Она тоже улыбнулась ему, но потом рассердилась на себя за это, потому что в своем нынешнем состоянии напряженного самоконтроля поняла, что улыбнулась только для того, чтобы его задобрить и этим предупредить могущий сорваться с его губ вопрос о документах.
Поняв это и решив, что поступила нехорошо, она догнала проверявших уже на площадке вагона и сказала им, что пропуска в Москву у нее нет, но попасть туда ей необходимо. Так как колеса стучали очень громко, они не расслышали, и она повторила свои слова. Тот, с кирпичным лицом, взглянул на нее удивленно. И, увидев девушку в красной вязаной шапочке и таком же шарфе, видимо, припомнил ее. «Мы же у вас уже проверяли», — проговорил он, недоумевая и как будто даже с досадой. После чего они скрылись в тамбуре соседнего вагона, а она вернулась к себе, сконфуженная, но радостная, так и не поняв, что случилось. Аничка — не без оснований — решила, что своим видом просто вызывает у всех чувство доверия, и это наполнило ее благодарностью к людям. А она, по своей наивности, боялась, как бы ее без документов не приняли за шпионку. Она сама смеялась бы над своими страхами, если бы могла посмотреть на себя чужими глазами.
Занятая собственными мыслями и замкнутая, как вообще все люди, решившиеся на что-то серьезное, Аничка смотрела на окружающее отчужденно. Все, что она видела как бы издалека, тем не менее приводило ее в умиление: грубые звуки однорядной гармошки, крепкий запах махорки и даже самые незначительные слова, высказанные сидящими здесь простыми людьми, — все это казалось Аничке полным глубокого смысла. Может быть, почувствовав в ней жжение внутреннего огня, все в вагоне относились к Аничке очень хорошо, беседовали с ней очень охотно, рассказывали ей о своей жизни, работе и о великих потерях, причиненных каждому из них — прямо или косвенно — войной.
Но внимательнее всех был к ней длинноногий лейтенант, которого все в вагоне звали Витей. Он уже успел побывать на фронте, был там ранен и теперь возвращался из госпиталя обратно на фронт. На его груди висела медаль «За отвагу», и, так как в то время награжденных было еще мало война только начиналась, — Аничка преисполнилась глубоким уважением к этому молодому человеку, шумному и всегда веселому. Он не мог не заметить ее пристальных взглядов и, приписав их совсем другим причинам, стал за ней ухаживать, делился с ней едой, приносил кипяток и вообще был крайне предупредителен.
Он устроил ее рядом с собой на верхнюю полку, где было теплее и спокойнее. Когда стемнело, она почувствовала, что лейтенант стал к ней прижиматься, затем обнял ее и начал трогать руками. Она замерла. Тогда руки лейтенанта стали еще более развязными. А она удивлялась и никак не могла понять, как может он так вести себя, когда кругом война и всюду столько горя и надо бы думать совсем о другом. Она спустилась вниз и уселась на старое место — на чей-то сундучок, стоявший в проходе. А лейтенант обиделся на нее и долго сидел там наверху молча, но потом не выдержал и слез. Примостившись возле нее, он стал вполголоса сердито спрашивать, зачем она слезла, и начал что-то говорить о том, что теперь война, всюду столько горя, может быть, его через несколько дней убьют, неужели же она такая злая. Она ничего не отвечала, думая совсем о другом, и ей казалось, что она не в поезде, а где-то в пустынном месте и никого вокруг нет. А в небо подымаются сизые, клубящиеся и чуть красноватые дымы. И эти дымы почему-то казались ей похожими на туманные жалобы, которыми старался ее смягчить лейтенант.
А он все говорил свое, и тогда она сказала, что не любит его. Ей самой было смешно, что она ему это говорит, как будто он сам этого не знает.
Все-таки он отстал и полез наверх к себе. Она же осталась сидеть на своем месте в проходе. Тут сразу несколько голосов из темноты пригласили ее занять место получше, и кто-то хотел даже уступить ей лежачее место на второй полке. Но она отказалась от этих одолжений. Потом лейтенант опять спрыгнул и попросил ее сесть на прежнее место, так как там теплее и удобнее. Когда она отказалась, он сказал, что сам останется внизу и пусть она не беспокоится. Голос его звучал искренне. Не было сомнений в том, что на этот раз он действительно хочет сделать ей лучше. Она полезла наверх, а он постоял внизу, потом вышел погулять на какую-то станцию, вернувшись же, поднялся к ней и спросил, разрешает ли она ему сесть рядом. «Садитесь», сказала она, тронутая его смирением. Он действительно был совершенно искренен и очень жалел о своем глупом поведении с ней. Но, усевшись рядом, он не смог совладать с собой и снова, хотя на этот раз гораздо осторожнее и словно невзначай, начал обнимать ее. Она сказала ему, морщась: «Какой вы слабый человек», — и эти слова, по сути дела не очень обидные, но сказанные с суровой прямотой из самой глубины сердца, возымели свое действие и отрезвили лейтенанта лучше всяких нравоучений или скандалов. Он, смешно надувшись, больше не трогал ее. От полноты души и в знак благодарности за это она погладила его по плечу. Но опять получилось так, что он принял это движение за поощрение, и тогда она окончательно сошла вниз и уже наотрез отказалась сидеть с ним рядом.
Она встала у окна и начала глядеть в ночную морозную муть. Там, за окном, было очень холодно. В вагоне плакал ребенок. И Аничке вдруг пришло в голову, что жизнь ее будет трудна и что вообще жизнь трудна. И что мужчинам жить гораздо легче, поэтому в старых пьесах и романах так часты переодевания девушек в мужскую одежду. Несмотря на незначительность происшедшего только что маленького дорожного приключения, Аничка ужаснулась от предчувствия, что ей придется переживать нечто подобное не раз.
Она с нетерпением ждала, чтобы скорее настал день. Наконец солнце взошло. Снежные просторы покрылись нежными розовыми отсветами. И в ранних солнечных лучах заиндевелые деревья и белые снега засверкали и заискрились так, что вскоре глазам стало больно смотреть. В этом очень юном свете дня одинокие домики путейцев казались сказочными избушками и всякая малость полосатый шлагбаум, лающая на поезд черная собачонка, машущая ручками детвора, лошадь, тянущая розвальни по мягкой желтоватой дороге, — все выглядело праздничным и прекрасным. Любуясь этой красотой, Аничка успокоилась и повеселела. И с новой, еще большей силой почувствовала, что позади нее, в вагоне, сидят люди, оторванные от своих семей, озабоченные и, при всех своих слабостях, очень хорошие: это была война, в которой тысячи разных судеб причудливо перепутались между собой, переплелись в один огромный клубок, и вот она, Аничка, тоже уже не просто человек, а военная судьба, которая неизвестно как сложится.
В ее юном сердце все время жило и тихо переворачивалось болезненно острое чувство любви к окружающим людям, и ей хотелось скорее очутиться на фронте, там, где можно на деле доказать эту любовь.
3
Поезд прибыл в Москву вечером. Когда Аничка оказалась на Комсомольской площади, ей вдруг захотелось поцеловать мерзлую землю своего родного города. Она раньше никогда не думала, что так любит Москву, наоборот, ей казалось, что она к Москве равнодушна, и ее даже раздражали нескончаемые выспренние слова, расточаемые столице в стихах и песнях. А теперь она поняла, что эти слова просто слабы и бледны по сравнению с настоящим, подлинным значением расстилавшегося перед ней великого города. Все вызывало в ней волнение — любой знакомый дом, наклеенная на щите сегодняшняя московская газета, театральная афиша, уличная сутолока и певучий говорок подмосковной молочницы. А главное — сознание того, что отсюда, из этого города, тянутся нити ко всем городам и селам, фронтам и армиям, что сюда, в этот город, обращены взоры миллионов людей, полные боли и веры.
С замиранием сердца вошла Аничка к себе в квартиру — пустую, холодную и необжитую. Все здесь стояло на своих местах, но на всем лежал отпечаток заброшенности. Весь многоэтажный дом напоминал остановившийся трамвай, в котором что-то испортилось, а все пассажиры его покинули и он стоит посреди улицы, безжизненный и холодный. Добрая половина соседей находилась либо в эвакуации, либо на фронте. Зато оставшиеся встретили Аничку радостными восклицаниями и наперебой зазывали в свои квартиры — они знали ее со дня ее рождения, знали ее отца и помнили мать. Многие помнили даже, как Аничку в детской коляске впервые вывезли гулять во двор. Они пришли в ужас, узнав, что у нее нет хлебных карточек, тут же сложились — каждая соседка по кусочку — и составили таким образом для нее скудный хлебный паек, который исправно приносили ей и в последующие дни.
Начались хлопоты о поступлении в армию. Аничка ходила то в горвоенкомат, то в Московский комитет комсомола. После бесед и заполнения анкет она, усталая, голодная, как волк, с кружащейся головой, но с легкой походкой и душевным спокойствием, бродила по Москве и не могла наглядеться на улицы и площади, на проходящие то и дело колонны солдат в стальных касках и на аэростаты воздушного заграждения, лежавшие посреди бульваров, чуть покачиваясь на стропах при порывах ветра.
К родственникам своим Аничка не являлась. Иногда она порывалась пойти к тете Наде, с тем чтобы хоть раз досыта поесть, но и к ней не пошла, так как не хотела говорить тете неправду о причине своего пребывания здесь и вообще не желала объясняться по поводу своих дел.
Тетя Надя вскоре объявилась сама. Кто-то из знакомых, встретив Аничку на улице, поспешил сообщить об этом тете Наде.
Высокая, полная, очень похожая на отца Анички, Надежда Модестовна, поднявшись на четвертый этаж пешком, так как лифт не работал, довольно долго не могла оправиться от одышки. Наконец, придя в себя, она закидала племянницу вопросами и восклицаниями. Узнав, в чем дело, она обомлела, широко раскрыла свои все еще прекрасные синие глаза, плюхнулась в кресло и, вдруг напомнив какую-нибудь свою прародительницу — бабку или прабабку из московских прасолов, — совсем потеряв свой лоск и интеллигентность, закричала:
— Ишь чего вздумала! Сбрендила ты, что ли? Ты же единственная у Александра дочка! Ты же его в гроб сведешь!
В эти секунды Аничка почувствовала к ней самую настоящую ненависть, хотя тетя Надя была ее любимой теткой. Но когда тут же выяснилось, что старший сын тети Нади, Валерик, уйдя в ополчение, пропал без вести, Аничка бросилась тетке на шею, и они обе долго плакали. В слезах Анички излилось все напряжение последних недель, в них была и просьба о прощении за минутную ненависть к тетке.
Надежда Модестовна, вскоре успокоившись, решила, что почти уговорила Аничку отказаться от ее планов. Она прежде всего потребовала, чтобы племянница немедленно переехала к ней. Муж тети Нади, Илья Иванович, работает в штабе ПВО Московской зоны. Паек они получают хороший. Как раз она должна ехать в распределитель получать этот паек. Она настояла, чтобы Аничка поехала вместе с ней. Они поехали, и Аничка увидела впервые за много месяцев колбасу, копченую рыбу и масло. Как ни совестно было Аничке сознаться перед собой в том, что она любит покушать, но у нее потекли слюнки. Тут тете Наде пришла в голову прекрасная идея: Илья Иванович устроит Аничку в штаб ПВО вольнонаемной. Она будет получать хороший паек. И она будет все равно что на фронте: ведь оборонять Москву от этих стервятников — тоже дело важное и серьезное!
Аничка рассеянно улыбалась, слушая взволнованную болтовню тети Нади, и пытливо заглядывала в собственную душу, как бы спрашивая: «А Не лучше ли так — и Москву защищать, и быть с тетей Надей, есть белужий бок».
Хотя у тети Нади была просторная квартира, она обязательно захотела спать вместе с Аничкой. Илья Иванович, служивший за городом, редко ночевал дома.
Тетя Надя приготовила ванну, и обе — толстая сорокапятилетняя красавица и молоденькая девушка — весело плескались в ней, забыв обо всем на свете. Тетя Надя критически оглядела Аничку и сказала, гладя пухлой ручкой плечи и грудь племянницы:
— Ну и раскрасавица же ты стала, Аничка… Ну и будет же кто-нибудь любить тебя, Аничка!
Потом она всплакнула, вспомнив сына, но тут же с некоторым легкомыслием, ей свойственным, сразу перешла от печали к надежде, заявив, что сын ее наверняка среди партизан. Не может ведь такой парень, лыжник, спортсмен, умница, погибнуть так вот, ни за грош. Рассуждая подобным образом, она совсем успокоилась и уже говорила о том, что сын жив, с такой уверенностью, словно знала это точно и неопровержимо.
Аничка стала одеваться и в полутьме медленно натягивала на себя тетину широкую ночную сорочку из розового шелка с бантиками. Тетя Надя опять умилилась, глядя на ее красивые руки и ноги. Сквозь слезы повторяла она:
— Писаная красавица. Я и не думала никогда, что ты будешь такая красавица.
Когда они уже легли, в городе раздался заунывный и бесконечно траурный гуд сирен воздушной тревоги. Репродуктор тоже заворчал и объявил тревогу, Аничка погасила свет и подняла темную штору. По небу бегали лучи прожекторов, время от времени выхватывая из темноты спокойный и далекий силуэт аэростата.
— Не пойду в убежище, надоело, — капризно сказала тетя Надя и крепко прижала к себе Аничку.
Наговорившись всласть, тетя Надя уснула, а Аничка, несмотря на мягкость перины и на приятное состояние довольства и сытости, долго не спала и глядела на тетю Надю, на ее сдобный двойной подбородок и белую шею. И опять почувствовала внезапную неприязнь к ней, к тому, что она спит, когда сын ее пропал без вести и где-то стреляют зенитки. Сама ощущая свою неправоту, прекрасно понимая, что люди должны же спать, что бы там ни было, Аничка все-таки не могла освободиться от этого чувства и даже отодвинулась, чтобы не слышать идущего от тети Нади приятного и опрятного запаха чистого тела, туалетного мыла и духов.
— Помилуй тебя господь, — прошептала тетя, и Аничка поняла, что она во сне обращается к сыну. Но это старинное выражение тоже не растрогало Аничку. Она перевела по институтской привычке это выражение на немецкий язык и сразу подумала, что так же напутствовали, быть может, немецкие матери своих сыновей, бомбящих теперь московские пригороды.
4
Через три дня, утром, прилетел с фронта профессор Белозеров.
Он вошел, большой, грузный, слегка огрубевший, с поседевшими усами и совсем уже белой головой, принеся с собой чужие, диковинные запахи бензина, ременной кожи и дыма. Он загорел, обветрился, и его огромные синие глаза — точно такие же, как у тети Нади, — казались теперь еще синее и еще добрее.
— Принимайте старого фронтовика! — закричал он с юмором, но не без гордости.
Как всегда, его присутствие создавало атмосферу спокойствия, доброты и взаимного доверия. Достигал он этого не обилием ласковых слов или улыбок. Он и говорил немного, и улыбался редко. Пожалуй, главное заключалось во взгляде его глаз, полных доверия к людям, более того любования людьми, и властно требующих взаимности. Он был добр почти до бесхарактерности, до того, что никто не решался злоупотреблять такой исключительной добротой.
Профессор Белозеров был выдающимся хирургом. Профессию свою он ставил выше всех других на свете и дожил до пятидесяти семи лет, ни на йоту не потеряв чувства юношеского благоговения перед ней, что, впрочем, не исключало некоторого недовольства медленным развитием медицинской науки. Несмотря на это недовольство, он оптимистически предсказывал, что в течение ближайших двадцати лет медицину ожидает новый небывалый подъем на основе достижений других, смежных и несмежных наук, многие из которых неожиданно окажутся, не могут не оказаться, решающими и для медицины.
Приехав к тете Наде, Александр Модестович прежде всего умылся и, тщательно вытирая руки, как перед операцией, лукаво глядя на Аничку, время от времени спрашивал:
— Ну-с, Анна Александровна, как живем-можем?
Вероятнее всего, что Илья Иванович каким-то образом сообщил ему на фронт о приезде Анички в Москву и о ее планах. Так или иначе, Александр Модестович ничего об этом ей не сказал. Он уселся рядом с дочерью и, ни о чем не спросив, стал рассказывать о своей работе на фронте, о сложных операциях, сыворотках, переливаниях крови. Аничка, выросшая в докторской семье, прекрасно знала медицинскую терминологию, и профессору доставляло удовольствие беседовать с ней, как с врачом, пользуясь латынью и вспоминая разные довоенные случаи из своей врачебной практики.
Рассказывал он ей и о своих фронтовых впечатлениях, намеренно сгущая краски в том смысле, что старался представить фронтовую жизнь очень прозаической, обыкновенной и даже скучной.
Ревниво и горячо любя свою дочь, профессор Белозеров в то же время относился к ней с той преувеличенной критичностью, какую иногда усваивают умные отцы. Он находил ее взбалмошной, ленивой и слишком изысканной во вкусах и привычках. Конечно, он отдавал должное и ее хорошим качествам уму, природной доброте, восторженности, умеряемой хорошо развитым чувством юмора, наконец, твердости характера. Но вот именно эта твердость характера казалась ему чаще всего просто сумасбродством «барышни». Слово «барышня» в его устах было самым ругательным словом, означающим бездельницу, белоручку, неженку — то, что он с усмешкой называл «родимым пятном капитализма».
Александр Модестович был сторонником жесткого воспитания, считал, что детей надо приучать к лишениям и физическому труду. Однако так он думал только теоретически, а на деле проявлял к дочери слабость, которая его самого угнетала и раздражала. Поневоле приходилось оправдывать себя тем, что она с тринадцати лет осталась без матери, а он был занят работой.
Следует сказать, что Александр Модестович явно недооценивал воспитание, полученное Аничкой дома, в школе и вообще среди окружающей жизни. Он, по сути дела элементарно, считал, что главное в воспитании это наставления, нравоучения, разного рода советы, и упускал из виду, что душа девочки впитывала в себя впечатления окружающей среды, примеры беззаветного труда и преданности своему долгу, которые она ежедневно и ежечасно встречала во многих знакомых ей людях и в самом ее отце. Он не учитывал, что она — в меру понимания, свойственного ее возрасту, критически подходит к явлениям, полусознательно отбрасывая все не находящееся в сответствии с тем пониманием жизни, какое укоренилось в их семье и семьях, связанных с ними. Одним словом, Александр Модестович Белозеров, несмотря на свой выдающийся ум и проницательность, мало знал собственную дочь и слабо разбирался в ее внутреннем мире.
Поэтому то, что ей вздумалось бежать из института на фронт, удивило его, испугало и показалось неожиданным и непохожим на нее.
Рассказывая ей о своих фронтовых впечатлениях, он пристально смотрел на нее и ждал, когда же она заговорит о себе.
Но она молчала и только со сдержанным волнением следила за ним из-под полуопущенных век. Ни у него, ни у нее не хватало мужества начать после долгой разлуки тяжелый разговор, который, как они оба предполагали, может закончиться ссорой и взаимным неудовольствием.
Наконец он решился первый и попросил рассказать, что заставило ее совершить необдуманный шаг, не списавшись с ним. Она попыталась объяснить ему ход своих мыслей и побуждения, и он, слушая Аничку, думал, что, не будь она его дочерью, мотивы ее показались бы ему вполне уважительными и закономерными в условиях такой войны. Но она все-таки была его дочерью, и он, глядя на ее юное лицо, раскрасневшееся от волнения, с замиранием сердца думал о том, что ее могут убить. Да, это был древний инстинкт, и Александр Модестович, как ни старался быть объективным, ничего не мог поделать с ним. Тогда он попытался скрыть правду ссылками на разные другие, второстепенные и третьестепенные обстоятельства. Он сказал, что бегство ее из института — даже и ненавистного ей — акт недисциплинированности, которая в военное время недопустима. Наконец он просто предлагал ей поступить в медицинский институт либо в крайнем случае отправиться на фронт с ним вместе.
Он сознавал шаткость своей позиции, и тем более убедительные и красноречивые слова находил для того, чтобы отговорить дочь от ее намерений. Но все уговоры оказались напрасными. Ехать с ним вместе она отказалась — она не желала «всю жизнь оставаться профессорской дочкой». В институт она поступит после войны.
Тогда он заподозрил ее в том, что она решила отправиться на фронт по другим, сугубо личным причинам. То есть познакомилась и влюбилась в какого-нибудь офицера-фронтовика, который повлиял на нее в этом смысле. О таких случаях профессор слышал где-то от кого-то.
Когда он сказал ей об этом напрямик, Аничка вспыхнула от обиды. Но подозрения эти были, как она знала, настолько беспочвенны, что она только гордо тряхнула головой и сказала, что считает весь разговор ненужным и жалким и жалеет, что у хороших людей бывает столько нехороших задних мыслей.
На следующий день генерал Белозеров улетел обратно на фронт, так ничего и не добившись от дочери.
В Московском комитете комсомола и в военкомате у Анички с зачислением в армию пока ничего не выходило — тут сказывалось ее бегство из института, которое, естественно, вызывало некоторую настороженность. Тогда Аничка решилась обратиться к старинному другу их семьи, генерал-лейтенанту Силаеву, работавшему в Генеральном штабе.
Жил он, кстати, у себя в служебном кабинете — семья его находилась в эвакуации, и ходить домой, в холодную квартиру, полную чересчур дорогих воспоминаний, ему не хотелось. Да и работы было слишком много, чтобы по старому обычаю куда-то уезжать и утром обратно возвращаться на службу.
Приземистый человек с могучей шеей и стриженной ежиком большой простецкой головой, генерал Силаев из батраков ушел когда-то в Красную Армию и с тех пор служил в ней, не представляя себе иной жизни, чем военная, и иного костюма, чем военный. Он был военным в лучшем понимании этого слова, так как вместе с умением беспрекословно подчиняться умел заставлять людей беспрекословно выполнять свои собственные приказы; вместе с некоторой внешней прямолинейностью, похожей на грубость, он был тонким знатоком солдатской души и большим эрудитом в вопросах военной истории; вместе с безусловным пониманием и соблюдением генеральского достоинства ему был присущ тот глубокий и непобедимый демократизм в обращении с людьми, который привлекал к нему сердца подчиненных.
Выслушав Аничку, он, к ее радости, даже не попытался выразить сомнение в целесообразности ее поступка. Он все сразу понял и оценил и, вопреки опасениям Анички, ни словом не заикнулся о трудностях, которые ее ожидают, и о ее «деликатном воспитании».
Он сказал:
— Ладно. Понимаю. Ясно. Правильно. А куда ты хочешь?
Она сказала, что знает немецкий язык и поэтому считает себя способной — после соответствующего обучения — работать в тылу у немцев. Он забарабанил пальцами по столу, приговаривая: «Так-так-так…»
— По-немецки я говорю, как настоящая немка.
— Так-так-так, — говорил он, барабаня пальцами по столу.
— И я смогу выполнить любое задание в тылу врага.
Он перестал наконец барабанить пальцами, долго молчал, кивал головой и упорно о чем-то думал. Казалось, что он ищет пути, как лучше и скорее осуществить ее просьбу, на самом же деле он размышлял о том, как бы сделать так, чтобы не исполнить желания Анички. Он вполне признавал законность ее душевных стремлений и вполне разделял ее чувства. Находясь в ее положении, то есть будучи двадцати лет от роду и зная в совершенстве язык противника, он бы тоже, вероятно, добивался того же, чего добивалась она. Но он слишком любил и высоко ценил профессора Белозерова, чтобы послать его единственную дочь на такое сложное и опасное дело, к тому же, как он догадывался, против желания отца.
— Вот что, — сказал он наконец. — Мы так порешим. Ты иди в свой военкомат, пусть тебя зачислят в армию. Затем придешь ко мне. Распоряжение военкомату о твоем зачислении будет отдано.
Он проводил ее до лестницы и долго стоял наверху, глядя ей вслед, качая головой, покашливая и усмехаясь.
Усилиями генерала Силаева Аничка была послана переводчицей в штаб Западного фронта. Она очутилась в большом тихом селе и была помещена в двухэтажном доме, в одной комнате с двумя девушками-бодистками, Клавой и Машей. Стояла не очень холодная, но ветреная зима. Вообще здесь было тихо — гораздо тише, чем даже в тыловом приволжском городе, откуда она убежала. Широкая улица отгородилась от мира шлагбаумами, возле которых стояли часовые в больших тулупах. Офицеры штаба работали много, но работа эта казалась Аничке чисто канцелярской. Никто не стрелял, а все писали и разговаривали по телефону. Телефонов же было много, вся окрестность была переплетена телефонными линиями, тянущимися на шестах, деревьях, столбах телеграфа и просто по земле.
Клава и Маша в качестве старожилов и по привычке делали вначале всю работу в комнате. Они убирали, кололи дрова, носили воду, отбирали у Анички носовые платки и стирали их вместе со своими собственными. По правде говоря, Аничка всего этого вначале почти не замечала, вернее — это ей казалось естественным. Но однажды, заметив это, она ужаснулась и немедленно перевернула весь порядок вверх дном. Она сразу же приняла все хозяйственные заботы на себя, так как была значительно менее занята работой, чем девушки, которые ночи напролет просиживали в подземном помещении, где находился военный телеграф.
Девушки ее любили и говорили о ней, что хотя она и дикая, но очень хорошая.
Она действительно казалась окружающим людям дикой. С мужчинами она была высокомерна, держала себя с ними холодно и отпугивала их насмешливыми остротами, а тех, кто к ней приставал, она казнила тем, что с невинным видом во всеуслышание, на людях, не считаясь с присутствием старших начальников, со смехом рассказывала об их ухаживаниях, выставляя их в таком глупом виде, что они приходили в отчаяние. Это средство самозащиты оказалось очень действенным. Ее прозвали «мощным узлом сопротивления». И надо сказать, что, как ни странно, это ее поведение нравилось всем — даже многим из самих пострадавших — и возбуждало во всех чувство уважения к ней и какой-то даже гордости за нее. Оказывается, тот длинноногий лейтенант в поезде многому научил ее.
— Ох, умора! — смеялась Клава, прослышав об Аничкиных расправах со штабными вздыхателями. — Ты молодец, Аничка, так им и надо. Ты хорошая.
Но Аничка не казалась себе хорошей. Она считала, наоборот, что она очень плохая, взбалмошная, неуравновешенная, слишком рефлектирующая, словно все она взвешивает, ничего не делает без предварительного обдумывания, как бы решая в каждом случае: это хорошо, это плохо. Быть хорошей в результате предварительного обдумывания казалось ей нечестным. Она считала, что поступать хорошо нужно бессознательно и только тогда можно быть спокойной и счастливой.
Почти с первых же дней пребывания в штабе фронта Аничка стала добиваться, чтобы ее направили если не в тыл врага, то по крайней мере ближе к передовой. Но дело это продвигалось туго, и в этом не последнюю роль играли тайные «козни» генерала Силаева и то обстоятельство, что фронтовое начальство, разумеется, знало, чья она дочь. Кроме того, ее стремление куда-нибудь в полк или в дивизию, поближе к передовой, воспринималось многими как детская романтическая прихоть и поэтому не одобрялось.
Месяцы пребывания в штабе фронта все-таки не прошли даром для Анички. Она вошла в быт, в образ жизни армии, усвоила целый ряд необходимых каждому военному человеку понятий и привычек. Она, далее, участвовала в допросах редких пленных (наше контрнаступление под Москвой уже кончалось, и пленных было мало), прилежно переводила немецкие письма и документы на русский язык, усвоив таким образом стиль немецких воинских документов и вообще переписки. Она также хорошо изучила организацию, уставы, мундиры, знаки различия и отличия немецкой армии. Номера немецких дивизий перестали быть для нее пустым звуком, враг перестал быть отвлеченным и страшным понятием, а облекся в плоть и кровь, в цифры и факты.
Наконец, она выработала здесь для себя самой те нормы поведения, которые снискали ей прозвище «дикой», но создали вокруг нее атмосферу не замутненного какими-либо двусмысленностями уважения.
Несмотря на это, она упорно добивалась своего и, проявляя терпение и настойчивость, понемногу переходила все ближе и ближе к передовой: из штаба фронта — в штаб армии, из штаба армии — в штаб дивизии и, наконец, в полк.
Обо всех этих перипетиях рассказала Аничка, — конечно, вкратце и не касаясь самого сложного: всех внутренних переживаний, — полковнику Семену Фомичу Верстовскому в блиндаже капитана Акимова в ночь перед боем.
Полковник только головой качал и ахал.
— Бедный Александр Модестович, — бормотал он.
Он посмотрел на часы, вспомнил, что пора идти, и все-таки ему трудно было уйти от Анички, ему казалось, что он делает преступление перед своим другом, профессором Белозеровым, оставляя ее здесь одну, как бы без присмотра.
— Мне надо идти, — сказал он наконец. — Во время боя придется быть с командиром вашего полка. Ты тоже приходи туда. Нечего тебе делать здесь.
Пригнувшись к ней и опасливо оглядевшись, он сообщил ей о завтрашней смене.
Затем он прошел к тому закоулку в овраге, где стояла его машина, сел в нее и поехал к штабу полка. Но и в машине он не мог успокоиться и, к удивлению шофера, все твердил:
— Ну и Аничка… Ну и девчонка…
Глава третья РАЗВЕДКА БОЕМ
1
Одновременно с Верстовским к Головину приехал командир дивизии генерал-майор Мухин. Выслушав доклад командира полка о ходе подготовки предстоящей разведки боем, генерал сказал:
— Не знаю, как быть с Акимовым. Сегодня получили распоряжение откомандировать его в Москву для дальнейшего прохождения службы в военно-морском флоте.
— Наконец-то! — обрадовался за товарища Головин и тут же опечалился: — Жаль. Хороший командир.
Генерал пытливо взглянул на него:
— Так как вы считаете? Пусть проведет бой или сразу сейчас отозвать?
Головин, колеблясь, долго не отвечал. Разумеется, для успеха боя было бы целесообразнее не отзывать сейчас Акимова. С другой стороны, незаменимых людей нет. А бой будет тяжелый.
Головин посмотрел на комдива. Они оба думали об одном и том же.
— Лучше все-таки, если он проведет бой, — медленно произнес генерал.
Акимов в это время ходил по своему переднему краю, заглядывая в ниши и землянки, негромко окликая дежурных пулеметчиков и стрелков. Он останавливался у пулеметов и проверял каждый из них, давая короткую очередь в ночную темноту.
Большинство солдат, кроме дежурных, спали, как ранее приказал Акимов. Он просовывал голову в землянки, где они спали. Оттуда тянуло спертым воздухом от сушившихся портянок и махорочного дыма, слышался храп и тяжелое дыхание, кашель и произносимые во сне отрывочные слова.
— Спите, спите, — бормотал Акимов словами старой песни, — друзья, под бурею ревущей… С рассветом глас раздастся мой… — продолжал он бормотать по дороге к следующей землянке, с остервенением разрезая сапогами высокую воду, — …на подвиг иль на смерть зовущий…
— Кто идет? — окликнули его. И тут же узнали: — Здравствуйте, товарищ капитан.
— Здорово. А ты кто?
— Вытягов.
— Здравствуй, сержант. Не спишь?
— Не сплю.
— С чего бы это?
— Не спится.
— Оружие чистили?
— Все в порядке.
— Патроны получили?
— Получили.
— И бронебойные получили?
— И бронебойные.
— Как тут немец?
— Дрыхнет. Ракеты изредка дает. Закурим, товарищ капитан?
— Закурим.
Они закурили. Огонек спички осветил лицо Вытягова, спокойное и доброе.
— И долго мы здесь просидим, в этой мокрети? — спросил он.
— Про то знают бог и Верховный Главнокомандующий.
— Это верно.
— А что? Трудновато?
— Как сказать… Надоело.
— Война не тетка. Ложись спать, сержант. Надо выспаться.
— А на море лучше воевать, чем на суше, товарищ капитан?
— Смотря какая суша. Тут воды столько, что и сушей не назовешь.
— Хе-хе… Верно.
— Это кто там хихикает?
— Это я. Корзинкин.
— А-а, санинструктор!.. И ты не спишь?
— Да вот не сплю. Мы тут с Файзуллиным рассуждаем.
— Ты тоже здесь, Файзуллин? Нехорошо. Комсорг, а показываешь такой пример…
— Комсоргу спать не положено, товарищ капитан.
— Да ладно с твоей политграмотой. Про что же вы рассуждали?
Последовал смущенный ответ:
— Про жизнь, в общем. Про то, как дальше будем жить, после войны то есть.
— Далеко вперед загадываешь.
— Вот Файзуллин, к примеру, желает поступить в рыбный институт.
— Техникум, — поправил Файзуллин.
— Ну да. Он говорит, что у них в Казани…
— У них в Казани пироги с глазами. Ложитесь спать. Прошу вас, как братьев, прошу. Куда это годится?
Покачивая головой и усмехаясь в темноте, Акимов пошел по направлению к батальонной кухне. Она помещалась в одном из боковых тупичков большого оврага. Тут было тепло и светло от огня. Повар Макарычев отдал рапорт. Лицо его лоснилось и выражало спокойное довольство.
— Чего на завтрак готовите? — спросил Акимов.
— Пшеничный концентрат.
— А мясо есть?
— Мяса не клал. А что? Класть?
— Клади.
— Мы уже, товарищ капитан, по мясу норму перевыполнили.
— Ничего. Клади. Либо корму жалеть, либо лошадь жалеть.
— Прикажите отпустить, товарищ капитан.
— Прикажу. Двойную норму клади. Понял?
— Понял.
— И кормить всех в пять тридцать. Часы есть?
— А как же! Есть.
Акимов подошел ближе к повару и сверил свои часы с огромной серебряной луковицей Макарычева.
— Твои отстают, — сказал он. — Переведи на двенадцать минут.
Постояв несколько минут молча, наслаждаясь ласковым теплом, идущим от кухонного огня, Акимов пошел на свой наблюдательный пункт. К нему вела длинная узкая щель, оканчивающаяся тупиком, перекрытым бревнами в два наката и засыпанным землей сверху.
Под этими бревнами щель была несколько расширена и снабжена амбразурой. В обычное время здесь находилась пулеметная точка. Теперь все уже было приспособлено служить в качестве НП. Радист развернул рацию и, время от времени проверяя слышимость, полусонным голосом считал:
— Один, два, три, четыре, пять.
Несколько телефонов стояло рядком на земляном полу, который был уже устлан все теми же ивовыми прутьями: видимо, Майборода успел побывать здесь. Да и скамейка тут стоит.
Акимов уселся на скамейку и посмотрел в амбразуру. Дождь — нудный и бесконечный — все еще лил и лил. Было и так темно, а тут еще на низину лег туман, сквозь который не просматривался даже ручей. Только иногда редкая ракета освещала бледным светом эту темень и туман, похожий на клубы медленного дыма, и тогда видны были мятущиеся, как бы в страшном волнении, прибрежные заросли.
Там, за ручьем, на высоком западном берегу, очень выгодном для обороны, были леса, неразрушенные деревни с бревенчатыми избами, а дальше находился город Орша, о котором Акимов ранее знал только понаслышке либо из школьного учебника. Но теперь этот город в течение месяца представлялся ему целью всех мечтаний. Несмотря на вполне понятное чувство радости, возникшее в нем при известии о близком уходе на отдых, было все-таки как-то жаль, что так и не возьмешь эту Оршу, а, пожалуй, главное, что не захватишь высокую лесистую местность перед передним краем, местность, изученную путем беспрерывного наблюдения до самых мелких подробностей, местность, где так много дров для топки и рощ для маскировки, где можно было бы понастроить уйму уютных, теплых, обшитых досками землянок и бань. Солдаты обычно глядели с вожделением на этот желанный кусок земли, на эту «землю ханаанскую», как называл ее Майборода, знаток старинных священных выражений. А потом выпал бы снег вместо этого гнилого дождя, и тогда только воюй да воюй…
Но дело, разумеется, было не в одном только каком-нибудь куске земли. Ибо, как ни суживали фронтовые будни батальонного масштаба круг человеческих интересов и стремлений, но Акимов все время помнил, какое значение имеет занятие Орши для всей армии: этот узел стратегических и рокадных дорог открывал нашим войскам путь на Польшу.
Из амбразуры задувал ветер, принося с собой капли дождя. Акимов вытер лицо и вдруг подумал о том, как хорошо было бы рвануться вперед не на полтораста или двести метров, как предусмотрено приказом, а пойти и пойти по белорусской земле, потом вступить освободителями на польскую землю, а там Германия, Франция, берега Атлантики.
Акимов мысленно усмехнулся этим далеко идущим стратегическим планам, столь непосильным для одного подразделения. Пока суд да дело, нужно продвинуться на эти двести метров сквозь плотный огонь. «Мы придем, придем, но не так скоро», — пробормотал Акимов, обращаясь, быть может, к Польше и Франции, о которых он часто думал и которые очень жалел.
Дождь все шел. Видимость во время боя будет плохая, и нужно, чтобы связь работала безотказно. Впрочем, под прикрытием тумана легче будет подтянуть подразделения ближе к противнику для короткого броска. Обдумав это обстоятельство, Акимов соединился по телефону с майором Головиным, но того не оказалось на месте.
— Он выехал к вам, — сказал дежурный офицер из штаба полка. — Вместе с десятым.
За спиной Акимова тихо разговаривали связисты.
— Ты здесь, Майборода? — негромко спросил Акимов. Он всегда, в любой темноте, чувствовал присутствие ординарца.
— Здесь.
Акимов послал Майбороду за командирами рот, а сам сел ждать прихода командира полка и командира дивизии — «десятого».
Не прошло и пяти минут, как по щели забегали огоньки фонариков. Выйдя из землянки в щель, Акимов доложил:
— Первый батальон готовится к выполнению боевой задачи. Командир батальона капитан Акимов.
— Вольно, — послышался голос генерала Мухина. Его рука, протянувшись из темноты, пожала руку капитана. — Как дела, комбат?
Акимов сообщил ему свой план действий, в том числе и мысль об использовании в своих интересах тумана.
— Хорошо, — сказал командир дивизии. — А если немцы заметят?
— В тумане они все равно не смогут вести прицельного огня, поддержал комбата Головин.
— Как настроение? — спросил комдив.
Акимов ответил коротко:
— Хорошее.
— Что ж, молодец. Тебе хорошо среди воды. В родной стихии.
— Танков не дадите? — спросил Акимов.
— Нет.
— Понятно.
— Не считаю целесообразным.
— Понятно.
— К чему тебе танки? Ничего не видно — раз. Грунт такой, что даже на гусеницах далеко не уедешь, — два. Подход танков разоблачит предстоящую атаку — три.
— Понятно.
— Понятно, понятно! Ты все «понятно», а сам сердишься. Артиллерии дам много. Мы им такой огневой вал устроим, только держись.
— Понятно.
— Вот и все. Действуй. Привез я тебе стереотрубу. Гляди в оба, как большой начальник. Сейчас к тебе приедут представители двух артиллерийских и одного минометного полка. Начало атаки — залп «катюш», целым дивизионом.
— Спасибо, товарищ генерал.
— Ты чего меня благодаришь? Разве младшие благодарят старших? Это я тебе скажу спасибо, когда ты хорошо проведешь бой.
— Виноват, товарищ генерал.
— То-то.
Генерал постоял молча, потом внезапно зажег фонарик и осветил лицо Акимова. Лицо комбата, обрамленное темной бородой, было сосредоточенным и серьезным.
Неожиданно генерал спросил:
— А тебе хотелось бы опять на корабль? — Акимов удивился праздности этого вопроса, но генерал не дал ему ответить и продолжал: — Взять бы теперь да очутиться подальше отсюда, где-нибудь в синем море? А?
Акимов с некоторой досадой махнул рукой и сказал:
— Единственное место, где я хочу теперь быть, — это немецкая траншея, вон там, напротив нас.
Генерал погасил фонарик и сказал чуть изменившимся голосом:
— До свидания, комбат.
Он медленно пустился по щели в обратный путь, а майор Головин, сильно пожав руку Акимова на прощание, ушел вслед за генералом. Вскоре послышался шум отъезжающей автомашины.
— Скорей бы рассвело, — сказал кто-то.
— Проходы в минных полях сделаны? — спросил Акимов.
— Готово, — ответил из темноты Фирсов.
Невдалеке, в овраге, бренчали котелки. Солдаты завтракали.
Рассвет наступал туго, как будто нехотя. Но все-таки Акимов уже узнавал лица стоявших почти гуськом в узкой щели людей. Он посмотрел на часы, потом поднял глаза и увидел среди других переводчицу. Он отвернулся, совершенно равнодушный, и с мимолетным удовлетворением отметил в себе это равнодушие.
— Сверим часы, — сказал Акимов с некоторой торжественностью в голосе. В руках у офицеров блеснули часы, у кого ручные, у кого карманные. — Пять сорок. Погосян, можешь начать двигаться. Через двадцать минут начнешь и ты, Бельский. Без шума. Все время держите связь, в случае необходимости посыльными.
Оба командира постояли еще с минуту и ушли.
Акимов повернулся и пошел к себе на НП. Стереотруба уже стояла на месте, двумя холодными стеклянными глазами уставясь вдаль. В углу, обняв колени руками, сидел Майборода. Радист склонился над своим аппаратом. Из расположенной неподалеку землянки, где находились артиллерийские наблюдатели, слышался негромкий говор.
Туман все густел. Он был похож на тот утренний туман, который иногда покрывает поверхность моря, и Акимову вдруг представилось, что вот за этим серым туманом действительно скрывается море и что, когда туман рассеется, он увидит пронзительную синеву и стройные очертания кораблей.
Его воображение внезапно разыгралось, и он увидел перед собой знакомую картину морской пристани, сутолоку различных, непохожих друг на друга посудин в неширокой бухте. Ему показалось даже, что он ощущает соленый запах.
Он подумал о том, что приморский город ничем, собственно, не отличается от любого другого города. Такие же улицы, дома, мостовые, у стен домов между камнями весной пробивается зеленая травка. И вот ты идешь по одной из таких ничем не примечательных улиц, и вдруг за каким-то поворотом перед тобой вырастают тонкие линии мачт и рей, и сразу же весь мир преображается, обычное становится необыкновенным, и тобой овладевает безмерная жажда передвижения, путешествия, жажда новизны.
Отдавшись этому внезапному полету воображения, Акимов тем не менее знал, что это только оболочка, внутри же, во всю ширину сердца, живет и болит совсем другая, жгучая и всеобъемлющая мысль: что там делается на самом деле, в этом тумане, из серого ставшем молочно-белым. Где там люди? Погосян, Бельский, Вытягов и многие другие, которых он, всех без исключения, хорошо знал и за жизнь которых втайне боялся. Да собственно говоря, они сейчас даже не интересовали его как люди, а только как исполнители той державной воли, которая заставляла командира дивизии и полковника Верстовского, майора Головина и его, Акимова, пушкарей, связистов, саперов, весь полк, всю дивизию и всю армию сражаться и жертвовать собой. Никто не мог бы всех этих людей заставить делать то, что они делают, — только неистребимое и глубокое чувство долга, ставшее чертой характера.
— Позавтракайте, товарищ капитан, — сказал Майборода для очистки совести: он знал, что Акимов сейчас есть не будет. Акимов ничего не ответил. Он ждал. И вот раздалось тихое верещание телефона: «Сирень» (Погосян), а вслед за тем и «Фиалка» (Бельский) сообщили, что подразделения заняли исходный рубеж для атаки.
2
Стрелки часов приближались к восьми. Напряжение стало уже невыносимым, когда раздался первый залп орудий.
Землянка задрожала. Акимов замер, пристально глядя в одну точку, на дрожащее бревно, из-под которого то и дело валились кусочки глины. Артиллерия рокотала. Ее рокот то сливался в один тревожный и сильный гул, то распадался на отдельные мелкие гулы.
Акимов подошел к амбразуре. Впереди расстилалась одна сплошная полоса тумана, медленно черневшего от примеси порохового дыма. А ближе, образуя косую сетку, все так же падал мелкий дождь.
В ту секунду, когда артподготовка закончилась и как бы на закуску был подан залп «катюш», прорезавший вихрем темное небо, ухо Акимова уловило хотя и смягченное туманом, душившим звуки, как вата, но отчетливое «ура».
Теперь как раз туман был совсем некстати. Он мешал артиллерии, сопровождавшей пехоту, и мешал Акимову управлять боем. События, творившиеся в тумане, казались очень далекими, оторванными от мира и не поддающимися постороннему влиянию.
Акимов связался по телефону с первой ротой. Оттуда доложили:
— Мешает продвигаться пулеметный огонь. Деремся в тумане.
— Откуда огонь?
— Справа, фланкирует.
— Далеко от противника?
— Кто его знает? Близко, кажется.
— Ружейный огонь?
— Слабый.
— Пулемет подавите своими средствами. Продвигайтесь вперед. Неуклонно продвигайтесь вперед.
Во второй роте, у Бельского, дело обстояло хуже. Перейдя ручей, она встретила сразу же сильный огонь и залегла в прибрежной осоке.
— Делай бросок и врывайся в траншею, — сказал Акимов. — Сирень прошла далеко вперед, а ты отстаешь.
Какой-то шутник или романтик дал, в виде, что ли, компенсации за дурную погоду, всем подразделениям в таблице позывных названия разных цветов. Странно было в этот дождь, слякоть и туман обмениваться такими словами, как «Сирень», «Фиалка», «Жасмин», «Черемуха». Артполк, например, прозывался «Ромашкой», а страшные для противника гвардейские минометы «катюши» — «Колокольчиком». Цветы, цветы, цветы — лесные, полевые и садовые — тревожно перекликались друг с другом, вдруг вызывая в душе множество разных ненужных воспоминаний.
Между тем немецкие пушки, укрощенные было нашим огнем, заметно ожили. Наши ответили им, и разыгралась артиллерийская дуэль. Из соседней землянки все чаще и взволнованней раздавались артиллерийские команды. Шрапнель, фугасные и осколочные с различными угломерами и в разных дозах — то целыми батареями, то по нескольку штук, то даже дивизионами — посылались туда, за молочно-белую, а теперь покрасневшую от огня полосу тумана.
Наконец туман медленно рассеялся. Перед глазами Акимова открылась долгожданная картина переднего края, но ничего особенного там не было заметно, только изредка то тут, то там перебегали, низко пригнувшись, маленькие фигурки в серых шинелях, почти сливавшиеся с землей. Их казалось очень мало. Их и было очень мало.
— Что мешает тебе продвигаться? — настойчиво бросал Акимов в трубку. — Ты меня поняла, Фиалка? Что мешает тебе продвигаться?
Но Бельский не успел ответить — порвалась связь. Пока связисты выбежали на линию соединять провода, связь порвалась и с Погосяном. В этот момент позвонил Головин:
— Доложите обстановку, Акимов.
Но тут же порвалась связь с полком.
Ремизов сказал:
— Я пойду к Бельскому. Он там, бедняга, совсем запоролся.
Акимов кивнул головой и снова сел к стереотрубе.
Когда связь с Погосяном наладилась, тот ликующим голосом сообщил, что ворвался в траншею немцев и ведет в ней бой.
— Ты понимаешь? — кричал Погосян, возбужденный донельзя. — Ты понимаешь или не понимаешь? Он тут наставил рогаток и мин натяжного действия. Очищаюсь от них, черт их возьми! Я тут весь в рогатках, понимаешь или нет? Очень нехорошо.
— Закрепляйся, — сказал Акимов. — Помоги Бельскому, очищай траншею влево. Готовь гранатометчиков. Выдвинь ПТР. Я вижу — немцы собираются в деревне, готовятся к контратаке. Почему не слышу твои пулеметы?
— Они в пути, понимаешь? Вот они идут. Они переползают. Я тут весь в рогатках и ежах.
— Помогай Бельскому. Он застрял. Ты не видишь, что ему там мешает?
— Бельскому? Что ему мешает? Ничего ему не мешает! Не понимаю, почему он не продвигается. Вот у меня это действительно черт знает что, понимаешь или не понимаешь? А у Бельского тихо, как на кладбище. — Он, помолчав, сказал уже тише: — Мы тут у немцев два пулемета захватили. — И еще тише: И два ящика вина.
— Смотри там, пусть никто ни калли не пьет, — угрожающе предупредил Акимов, — а то я к вам приду, расправлюсь со всеми.
Вскоре возобновилась и связь с Бельским.
— Мины задерживают, товарищ капитан, — сказал Бельский. — Тут все заминировано.
— А саперы где?
— Они здесь. Работают. Но мин очень много.
— Посмотри, как далеко прошел Погосян. Он уже в траншее.
— Хорошо Погосяну, противник там не оказывает никакого сопротивления…
— Ладно, — сурово прервал его Акимов. — Свое горе — велик желвак, чужая болячка — почесушка… Где Ремизов?
Ремизов взял трубку.
— Ремизов, — сказал Акимов. — Бельский действует недопустимо медленно. Посмотри там, что к чему, и предупреди его, что если он не выполнит задачу, будет отдан под суд трибунала.
Спустя минуту эту же фразу сказал Акимову по телефону майор Головин:
— Командир дивизии велел передать тебе, что если ты не выполнишь задачу, будешь отдан под суд трибунала.
— Понятно, — пробурчал Акимов.
— И я вместе с тобой, — закончил Головин.
— Вдвоем веселее, — сказал Акимов.
Вскоре немцы на участке Погосяна перешли в контратаку. Фигурки немцев, как ваньки-встаньки, только успев подняться, снова падали. Казалось, будто они сваливаются с пригорка, играя в какую-то мудреную игру, смысл которой заключается в том, чтобы не свалиться вниз, в то время как снизу кто-то тянет. Во второй траншее противника тоже накапливалась пехота.
Раздался еще один залп «катюш». Столбы пламени покрыли немецкий передний край. Когда снова стало видно, Акимов заметил бегущих назад немцев.
— Бегут, — сказал Майборода. И добавил: — Зер гут.
В землянке и в щели все закурили, зашептались, заметно оживились.
Мимо пронесли раненых. Они тихо стонали. Трое других раненых медленно и спокойно, не прячась, словно уже полученные раны предохраняли их от пуль, шли по поверхности земли.
Акимов, разъяренный, высунул голову из землянки и крикнул:
— Марш в укрытие, черти!
Те смиренно спустились вниз и уселись в щели неподалеку от НП.
Вслед за первой последовала вторая немецкая контратака, на этот раз при поддержке трех танков, которые тоже будто нехотя скатывались зигзагами вниз, туда, где засели наши. Тут же, как назло, снова порвалась связь.
— Орешкин, — сказал Акимов. — Иди к Погосяну.
— Лейтенант Погосян убит, — сказал рядом один из тех трех раненых, которых Акимов заставил спуститься в щель. Он курил махорку.
— Да? — сказал Акимов и, помолчав, добавил: — Орешкин, примешь командование первой ротой.
Не отрывая глаз от стереотрубы, он взял телефонную трубку и сказал:
— Лилия, слышишь? Дай бронебойными по танкам. Слышишь?
Акимова вызвал к рации командир дивизии.
— Удерживаем первую траншею, — доложил Акимов, — но противник напирает.
Командир дивизии спросил про левый фланг.
— Отстала Фиалка, — сказал Акимов. — Туда пошел Ремизов. Выправим положение. Прошу огня по деревне, там противник снова накапливается для контратаки.
Наконец позвонил Ремизов.
— Мы пошли, — сказал он. — Сделали два прохода. Дайте огня по роще квадратной. Там два пулемета.
Огонь был дан немедленно, и Ремизов, не отходя от трубки, твердил все более восторженно:
— Очень хорошо. Как хорошо! Как точно! Прямое попадание в немецкий дзот. Какая точность! Какие мастера! Спасибо им. Мы двинулись.
Акимов и сам видел, как солдаты второй роты, ободренные точной работой артиллеристов, во весь рост бросились вперед. Вскоре прибежал связной, сообщивший, что вторая рота ворвалась во вражескую траншею и вступила там в рукопашный бой.
Когда Акимов доложил об этом командиру полка, Головин сказал:
— Высылаю к тебе взвод из моего резерва. Можешь ввести его в бой по твоему усмотрению. — После некоторого молчания Головин спросил: Удержишься в немецкой траншее?
— Удержусь, — сказал Акимов.
Положив трубку, он впервые подумал о Погосяне. Погосян любил покушать и выпить. Женщин он тоже любил. При виде женщины его глаза так и разгорались, причем ему было безразлично — красивая она или некрасивая, молодая или пожилая. Он любил их как-то бескорыстно, как любят произведения искусства. «Тот, кто их выдумал, — говорил он, улыбаясь при этом вовсе не цинично, а даже скорее стыдливо, — был неглупый человек…» И покушать же он умел, бедняга Погосян! Полная противоположность Ремизову.
Акимов медленно взял трубку и вызвал Фиалку. Когда она отозвалась, он сказал:
— Передайте Ремизову, что я приказал ему вернуться ко мне на НП. Поняли? Повторите.
Фиалка повторила.
Акимов закурил и прислушался к тихим разговорам солдат.
— Люблю низкую облачность во время боя, — сказал Майборода.
— Да, — поддержал его телефонист. — Нелетная нынче погодка.
— Когда мы воевали под Ельней… — начал вспоминать кто-то из солдат.
— А вот подо Ржевом… — вмешался другой.
Тут Акимова вызвал опять к рации командир дивизии. На сей раз он был расположен очень благодушно.
— Спасибо, Акимов, — сказал он. — Удержишь?
— Удержу, — ответил Акимов.
Сразу же после этого разговора Орешкин доложил, что его солдаты выбиты из вражеской траншеи.
— Сейчас я к тебе приду, — сказал Акимов.
Он встал и застегнул шинель на все пуговицы. Одновременно, побледнев, встал и Майборода. Но Акимов снова сел на скамейку, и Майборода, вздохнув, сел тоже.
Затем в землянку вошел низенький, как мальчик, востроносенький, с большими остановившимися глазами, младший лейтенант. Он представился:
— Командир взвода младший лейтенант Фильков. Прибыл в ваше распоряжение.
— Сколько у вас народу? — спросил Акимов.
— Восемнадцать человек.
— Не густо.
Он оглянулся и увидел всю тянущуюся от НП в тыл узкую длинную щель, в которой сидели и стояли связные, связисты, а также раненые, все еще не решавшиеся уйти из-за почти не прекращающегося артобстрела.
— Беги на кухню к Макарычеву, — приказал Акимов Майбороде. — Пусть он вместе со своими помощниками и повозочными бежит сюда. Чтобы ни одного человека там не осталось. Все сюда.
Майборода исчез, а Акимов вышел к порогу землянки и сказал:
— Тут остаются вот эти три связиста и радист. Остальные поступают в распоряжение младшего лейтенанта Филькова. Легко раненные тоже.
Вернувшись к амбразуре, он с минуту поглядел в трубу, затем, повернув голову к младшему лейтенанту, спросил его:
— Давно на фронте?
— Второй день, — вполголоса ответил Фильков. Помолчав, он добавил: Но я буду стараться.
— Я понимаю, — успокоительно и очень ласково сказал Акимов.
Вскоре пришли «тыловики»: Макарычев и с ним человек восемь. Акимов объяснил Филькову задачу и сказал:
— Как придете к Орешкину, сообщите по телефону или посыльным. Попрошу у командира дивизии дать еще одну небольшую артподготовку.
Вместе с Фильковым Акимов вышел в щель и, пройдя по ней метров двести, увидел невдалеке в овраге взвод младшего лейтенанта. Люди встали при его приближении. Это были порядком изнуренные, но спокойные, видавшие виды люди.
Фильков машинально сказал:
— До свидания.
И ушел во главе своих людей. Строй замыкал очень красный, потный и чуть прихрамывающий Макарычев, посмотревший в лицо Акимову жалкими, испуганными глазами. Он немного отстал от строя и спросил:
— А обед, товарищ капитан? Обед кто будет готовить, товарищ капитан?
— Я, — безжалостно ответил Акимов и пошел обратно на НП. Здесь его уже ожидал Ремизов. Замполит был весь черный. Глаза его за очками лихорадочно и весело блестели.
— Отбились гранатами от контратакующих немцев, — сказал он.
Акимов сказал:
— Останешься тут за меня. Информируй Головина почаще. А я пойду к Орешкину.
— А где Орешкин?
— Вместо Погосяна. Погосян убит.
— Да? — спросил Ремизов. — Только час назад я его видел.
— Пошли, — сказал Акимов Майбороде.
3
Они двинулись по щели, потом повернули в другую. Противник стрелял из минометов, мины рвались кругом. «И чего его потянуло вперед, — тоскливо думал Майборода, прижимаясь к стенке хода сообщения. — Ему надо батальоном управлять, а не вперед лезть». Он смотрел на вызывающе спокойный затылок Акимова с некоторой даже злостью: «И кто его посылал? Если бы ему приказали — дело другое. А то он сам лезет, неизвестно зачем…»
Ко всему прочему, Акимов довольно громко и как бы одобрительно говорил при каждом разрыве немецкого снаряда:
— Вот хорошо. Так, так. Вот, вот.
Да, Акимов был доволен, что немцы стреляют часто и много, давая возможность таким образом нашим артиллерийским разведчикам засекать местоположение вражеских огневых позиций — для того в конце концов и затеян этот бой.
— Так, так, — бормотал Акимов, сердито, но злорадно косясь на разрывы то слева, то справа.
Траншея становилась все мельче и наконец незаметно кончилась. Невдалеке протекал ручей, но его берега не были видны, так как кругом стояла вода, и границы ручья были обозначены только торчащей из воды осокой и тонкими, дрожащими под ветром ивами, у которых верхушки и ветки были изломаны и расщеплены. По воде шла мелкая дождевая рябь. Рядом, на кочке, уткнувшись головой в мокрую землю, а ноги держа в воде, сидел телефонист с аппаратом и бубнил:
— Подснежник. Подснежник. Подснежник. Товарищ Акимов. Товарищ Акимов.
— Да посмотри сюда, — сказал Акимов. — Твой Подснежник же здесь, возле тебя стоит.
Телефонист поднял кверху мокрое, как от слез, лицо и, сразу просветлев, сказал:
— Товарищ капитан, вам Сирень передает: Фильков прибыл. Когда артиллерия заработает, спрашивают.
— Скажи, сейчас у них буду. Где Орешкин?
— Вон там, — показал телефонист пальцем на кустарник на другом берегу.
Акимов шел во весь рост, и Майборода вынужден был идти так же. Ему казалось, что его видят все немцы отсюда до Берлина, и было страшновато.
Они перешли ручей и воду в его пойме по торчащим тут и там кочкам, камням и бревнам, оставшимся от разрушенного мостика. Вода весело и игриво журчала под ногами, неся с собой желтые кленовые листочки. На другом берегу воды сразу стало меньше, берег отлого подымался кверху. Сразу же отсюда начинались свежие мелкие окопы, по всей видимости совсем недавно отрытые нашими солдатами, Дальше, в кустарнике, кругом лежали люди Филькова. Акимов поискал глазами среди них и заметил повара Макарычева, который уже приободрился и даже рассказывал окружающим его бойцам какую-то историю. Солдаты сдержанно смеялись, поглядывая вперед.
Орешкин, Фильков и капитан Дрозд сидели в щели.
— Ну, как дела? — спросил Акимов, сверху нагибаясь к ним.
Орешкин радостно улыбнулся, и его красивенькое личико расплылось, словно приход Акимова изменил все положение. Акимов презрительно спросил:
— Ты чего здесь сидишь? Погосян захватил траншею, а тебя оттуда выпихнули, и ты еще ухмыляешься. Я тебя, сукиного сына, под трибунал отдам. Где твои солдаты?
Орешкин побледнел и вылез из щели.
— А твои разведчики где? — спросил Акимов, обернувшись к Дрозду.
— Здесь, со мной.
— Пусть идут вперед вместе со всеми. Для меня каждый человек дорог.
Дрозд угрюмо возразил:
— Я не могу посылать разведчиков в атаку. У них своя задача.
— Они ее не выполняют, — сказал Акимов, и его лицо стало свирепым. И не выполнят, если будут здесь торчать.
Телефонист из щели крикнул:
— Жасмин и Ромашка сейчас начнут.
Снова загремела наша артиллерия. Акимов пошел вперед, бросив на ходу Филькову:
— Подтяни своих солдат за нами. Пойдем за огневым валом.
Метрах в ста впереди лежали солдаты первой роты. Они приподнялись и, согнувшись, пошли вместе с офицерами. Артналет, к сожалению, прекратился очень быстро, минут через семь, — то ли снарядов мало, то ли распоряжение было отдано не так. Акимов выругался. Упрямо стоя во весь рост, несмотря на то что кругом начали посвистывать пули, он вдруг побелел, поднял вверх руку, сжатую в кулак, и крикнул громко, так, как, вероятно, кричат моряки во время бури:
— Вперед, товарищи! За нашу родину! — И неожиданно для всех и для себя самого добавил старинную, вычитанную из книги фразу: — Не опозорьте русское оружие перед лицом неприятеля.
— Ура-а!.. — раздался крик, и все ринулись вперед, стреляя на ходу, захлебываясь, что-то бормоча, оскользаясь, падая, подымаясь, как бы во власти мощного призыва, который все еще звенел в ушах. Сбоку и сзади подбадривающе постукивали пулеметы. Полетели гранаты. Потом все стихло. Майборода, спрыгнув в траншею на немца, схватил его за лицо и начал остервенело тыкать затылком в грязь. Потом он опомнился и осмотрелся. Траншея была полна наших солдат. Поспешно устанавливали пулеметы и противотанковые ружья. Акимов, сидя на корточках, говорил по телефону, крича, отчаянно ругаясь и почти не слушая, что ему отвечают.
— Огня! — кричал Акимов. — Боеприпасы тащите сюда немедленно. Побольше гранат и снаряженных дисков. Спите там, сволочи? Вот я вернусь, я вам покажу, сукиным детям! Артиллерийских командиров сюда гоните, отсюда лучше видно!
Он встал и сказал Орешкину:
— Так держать! Понятно? — Он был без фуражки, ее сбило пулей. Он продолжал говорить: — Твой НП теперь будет здесь, в траншее, а мой — вон там, в кустарнике, где ты сидел и ухмылялся. — Осмотревшись, он устало улыбнулся: — Хорошо оборудовали траншеи. Немец порядок любит.
Действительно, траншея была сделана хорошо, даже красиво. Вся обшитая досками, она шла правильными зигзагами. Ниши для спанья и те были устланы досками и соломенными матами. Повсюду валялись масленки из оранжевой пластмассы — остатки недоеденного немецкого завтрака. Здесь же лежали и убитые немцы и наши рядом. В воздухе стоял странный, единственный на свете запах захваченной вражеской траншеи. Очень чужой запах.
Акимов пошел по траншеям, перебрасываясь с солдатами полушуточными-полусерьезными словечками:
— Ну, вот мы и добрались до приличного жилья. Сухо и не дует. Держитесь здесь, смотрите, покрепче. Если нас выбьют обратно в болото и грязь — грош нам цена.
Вдруг он умолк. Он услышал поблизости женский голосок, разговаривающий по-немецки. Аничка, усевшись на ящике из-под патронов, с блокнотом в руках, допрашивала немецкого пленного.
— Вы почему здесь? — спросил Акимов.
Она подняла на него глаза и ответила, высокомерно вскинув подбородок:
— Дальше немцы не пускают.
Кругом сдержанно хихикнули солдаты.
— Нет, без шуток, — загорячился Акимов, покраснев. — Вам тут нечего делать.
— Что ж, — она хладнокровно поднялась и отряхнула шинель, — тогда допросите пленного сами.
— Да, но тут не место для допроса.
— Да, но он ранен и не может двигаться.
Акимов покосился на пленного, махнул рукой и пошел дальше. «Что, съел?» — спросил он себя, не зная, досадовать или смеяться.
Позднее он вместе с Дроздом настоял, чтобы переводчица отправилась с пленным в тыл и находилась с Ремизовым, на старом НП.
Найдя глазами среди солдат Макарычева, он сказал ему с притворной строгостью:
— Вам боевое задание. Возвращайтесь. Будете ужин готовить. Поняли? Выполняйте.
Вместе с пленным, двумя разведчиками и батальонным поваром Аничка отправилась в тыл. Пленный действительно не мог идти самостоятельно — его то несли, то тащили. Когда они уже переправились через ручей, опять заработали немецкие минометы, пришлось лечь плашмя в грязь, кругом рвались мины, и Аничка ужасно боялась, чтобы не убило немца. Но все обошлось. Вскоре они оказались у Ремизова.
Укоризненно качая головой и помогая Аничке счищать грязь с шинели, Ремизов говорил:
— У меня все время душа была неспокойна за вас. Нехорошо все-таки. Вы не сердитесь на меня, но девушкам здесь не место, честное слово. Немцы ведь не знают, что вы писали в институте курсовую работу об их великом поэте Шиллере. Возьмут и убьют. Фашисты ведь, Анна Александровна.
Он собирался уходить вперед, на новый НП за ручьем, но командир полка все еще не разрешал менять НП. Аничку Ремизов настоятельно попросил отправиться в овраг, в землянку с патефоном.
— Там вы и пленного толком допросите, и музыку послушаете, — сказал он ей, опять берясь за телефонную трубку.
Вскоре Аничка с пленным и разведчиками очутилась в батальонном овраге, в том самом, куда пришла этой ночью. Огонь противника ослабел, и они шли не по дну, а по кромке оврага и, так как пленный был тяжелый, вскоре сели передохнуть на окраине разрушенной, сожженной деревни. Здесь они пристроились на обломках избы, возле черного дымохода, рядом с промежуточной телефонной станцией. Аничка решила тут же допросить немца и основные данные допроса передать по здешнему телефону.
Из солдатской книжки пленного явствовало, что он является обер-ефрейтором 78-й штурмовой дивизии Гансом Кюле из Ганновера.
Маленькое число «78» представляло собой факт большой важности. Этой дивизии раньше тут не было. Свистнув от удивления и удовольствия, Аничка начала допрос.
То, что его допрашивала «фрейлейн» — то есть девушка, да еще красивая и с мелодичным голосом, — подбодрило немецкого ефрейтора: он понял, что расстреливать его не будут. Более того, он не только приободрился, но и слегка обнаглел. Ранее расположенный говорить всю правду, он теперь подумал, что это было бы нехорошо, так сказать, недостойно немецкого солдата. Поэтому он с каждым вопросом отвечал все неопределеннее и наконец просто замолчал. Для того чтобы поднять свой собственный дух и взвинтить себя, он начал мысленно называть русских — и в том числе даже эту юную, приятную и хорошо знающую немецкий язык девушку: «мои мучители», «садисты, издевающиеся над раненым», и т. д.
Наконец Аничка потеряла терпение и, глядя в упор в его бегающие глаза, спросила, будет ли он отвечать на вопросы.
— Хорошо, — медленно сказала Аничка, не получив ответа. — В таком случае я передам вас солдату, который вас проводит в штаб. — Она повернулась к разведчику Бирюкову и подозвала его: — Подойдите сюда, Андрюша.
Бирюков — сама доброта, тихий и молчаливый уралец — подошел и нагнулся над пленным. Лицо Бирюкова — плоское, с раскосыми глазами и красными обветренными скулами, производило на людей, не знавших его, впечатление необычайной свирепости.
Кюле, в ужасе отшатнувшись, сразу же заговорил и рассказал все, что знает.
Весьма довольная своей военной хитростью, Аничка записала показания пленного, передала самое важное из этих показаний начальнику штаба полка по телефону, потом отправила разведчиков с пленным в тыл, а сама пошла обратно к Ремизову. Но не успела она спуститься в овраг, как заговорили на тысячи ладов немецкие пушки и минометы. Вероятно, немцы подтянули сюда артиллерию с других участков.
Аничка еле успела заскочить в землянку Акимова. Овраг содрогался.
В землянке никого не было, и Аничка очень обрадовалась этому. Она закрыла глаза и заткнула себе уши пальцами, прижавшись к стене, оплетенной ивовыми прутьями. Ей было страшно, и она делала то, что делают люди, когда им страшно.
Потом заскрипела дверь, приползли полковые связисты с катушками провода, повар Макарычев и еще какие-то солдаты. Аничка сразу же присела к столу и как ни в чем не бывало стала причесывать свои коротко стриженные волосы, деловито говоря:
— Сильный огонь. Ясно, немцы перебросили на наш участок артиллерийские подкрепления. Видимо, их сильно напугала наша атака. Как там наши — удержат позиции или нет?
— Только бы комбата не убило, — сказал Макарычев. Он был очень бледен.
Продолжая причесываться, Аничка проговорила.
— Посмотреть бы хоть одним глазком, что там делается.
Ей послышался оттенок лицемерия в этих своих словах. И тогда она, превозмогши себя, действительно вышла в овраг и вдоль его западного склона медленно пошла вперед. Вскоре артналет прекратился. Издали слышалась только довольно частая пулеметная дробь. Опять пошел дождь. Пронеслась телега без ездового. Какое-то предчувствие беды закралось в сердце Анички. При этом она думала больше всего об Акимове. Все время боя она находилась подле НП комбата и была свидетельницей всего, что творилось там, слышала все, включая акимовскую ругань, которая почему-то не оскорбляла ее слуха. Было бы ужасно, думала она теперь, если бы он погиб. Ужасно не для нее, разумеется, но для всего батальона и для полка. И для нее в том числе.
Шум боя слабел все больше, потом все утихло. Аничка приближалась к той щели, в конце которой помещался НП. Подойдя ближе, она не узнала местности. Все было перепахано снарядами. На месте НП зияла воронка. В этой воронке копались люди с лопатами. А на краю ее, на кончике вывороченного бревна, сидел человек без фуражки. Это был Акимов.
Один из копавших вылез из воронки и, постояв немного, бросил лопату. Аничка подошла к нему и узнала Майбороду. Она спросила:
— Что случилось?
— Прямое попадание, — сказал Майборода. — Замполита убило.
Аничка побелела и сжала зубы до боли в ушах. Потом она взглянула на Акимова. Он сидел неподвижно, и по его щекам текли слезы. Аничка задрожала. Она никогда не поверила бы, что этот железный человек, которого она наблюдала сегодня целый день, может плакать. И то, что он может плакать и что он плачет, потрясло ее. Ей хотелось подойти к Акимову и обнять его. Акимов поднял на нее глаза, медленно встал и спросил:
— Вы здесь? — Потом он опустил голову и, указывая рукой на воронку, сказал: — Ничего от человека не осталось. Ничего.
Рядом, в соседней щели, телефонист настойчиво, почти с отчаянием, то понижая, то повышая голос, звал, убеждал, умолял:
— Лилия, Лилия, Лилия, Лилия.
Показалась группа раненых. Один из них, поравнявшись с Акимовым, сказал:
— Прощайте, товарищ капитан. Может, уже не увидимся.
— Вытягов! — воскликнул Акимов. — Ранен?
— Ранен. — Сержант улыбнулся. — Но не очень опасно. — Уходя, он опять обернулся к Акимову и сказал: — Жалко. Вы все на отдых, а я в госпиталь.
Смысл сказанных Вытяговым слов дошел до Акимова спустя полминуты. Он сделал два шага вслед раненым.
— Ты это про что? — спросил он. — Про какой такой отдых?
Вытягов остановился, повернулся к комбату и, хитровато смерив его глазами, сказал:
— Будто не знаете! Это все знают. Ночью вернулись из медсанбата Скопцов с Алешиным. Войска там собралось видимо-невидимо. Нас сменять будут. — Он помолчал, потом повторил: — Прощайте, товарищ капитан. Мы вас никогда не забудем.
Раненые пошли дальше, а Акимов долго смотрел им вслед, потом опустил голову, почему-то развел руками, вздохнул и пошел вперед.
Стемнело быстро, как темнеет осенью. Часто вспыхивали немецкие ракеты — противник боялся ночной атаки. В оврагах и траншеях все угомонились, улеглись кто где попало. Дождь перестал. А в первом часу ночи все были подняты по тревоге и наконец увидели.
Лязгая оружием, гремя котелками, хлюпая сапогами по глине, подходили свежие части. Хорошо одетые и вооруженные, оглядываясь не очень весело, но и вовсе не грустно, посмеиваясь над унылым видом здешних солдат, но и понимая причину этого унылого вида, нюхая воздух, пахнущий порохом и пожаром, — одним словом, в полном сознании трудности предстоящей жизни, но без всяких ужасов по этому поводу, — пришельцы занимали построенные другими землянки, хлынули во все щели, в том числе и в захваченную сегодня вражескую траншею, что-то делали, мастерили, обживались, хлопотали, переобувались, крякали, вздыхали.
— Счастливо отдохнуть, — напутствовали они беззлобно и безо всякой зависти строившихся и уходивших в ночь здешних солдат.
Глава четвертая ЛЮБОВЬ
1
Поезд, состоявший из теплушек, двигался на восток, и двигался не очень быстро, как и полагается поезду, везущему солдат не на фронт, а от фронта. Солдаты целыми днями сидели и стояли, тесно прижавшись друг к другу, у открытых дверей и наслаждались великим покоем, исходившим от широких серых полей. Стаи птиц улетали на юг. Золотые березки сменялись зелеными елками, а то вдруг у колодца возникала красная мокрая рябина. Впрочем, деревья не так успокоительно и мирно действовали на солдат солдаты досыта насмотрелись на разные деревья, — как зрелище станций, семафоров, стрелок, пакгаузов — всей исправно действующей системы железных дорог. Привыкнув к пешим маршам или передвижениям на машинах, солдаты во время боев хотя и пересекали не раз незаметно для себя пару рельсов, но почти забыли, что на свете есть железная дорога, по которой можно ездить.
Вид тихих деревень и серых полей, звуки паровозных гудков и лязг колес навевали чувство спокойствия, и сны тоже были тихие, мирные. Снились котята, куры, дети — правда, все они почему-то копошились в длинных и мокрых оврагах.
Ночью не спали только дежурные, подкладывавшие дрова в железные печки. Остальные все спали, даже не спали, а отсыпались. Утром их будил холод: уже наступили утренние заморозки. Спрыгивали с нар, босиком бежали к печке, сладко затягивались горьким махорочным дымом, зевали, обувались, на ближайшей станции бежали с котелками в вагон, где находилась кухня, и, позавтракав без особого аппетита, опять весь день спали или глядели на пробегавшие мимо равнины, жадными ноздрями втягивая в себя чистый и прохладный воздух предзимья.
Куда ехали, никто не знал, и мало кто этим интересовался. Пункт назначения был неизвестен даже командиру дивизии. Военные коменданты больших станций и те знали не более того, что им полагалось знать: следующую большую станцию, куда им надлежит отправить воинский эшелон номер такой-то.
Первый батальон был, в связи с проведенным им изнурительным боем, освобожден от несения наряда по эшелону. Спали по пятнадцати часов в сутки, а капитан Акимов — тот лежал все время на своих нарах, почти не слезая с них. Молчаливый Майборода приносил ему поесть, забирал посуду и не осмеливался заговорить с комбатом, так как тот находился в том изредка нападавшем на него тяжелом и хмуром настроении, при котором разговаривать с ним было опасно.
Акимов лежал наверху, возле окошка, и часами глядел в него, ни звуком не выдавая того, что не спит. В вагоне все соблюдали молчание, и так как это было тягостно, то офицеры батальона и солдаты штаба батальона, ехавшие здесь, старались улизнуть к соседям.
В вагоне оставался один безропотный Майборода, который, дорвавшись наконец до настоящих дров, топил беспрерывно, наслаждался одиночеством и время от времени подымал голову кверху, прислушиваясь, не сказал ли что-нибудь и не пошевелился ли комбат.
Наконец однажды, на третьи сутки, Акимов слез и попросил умыться. А умывшись, спросил:
— Корзинкин жив?
— Да.
— А с Файзуллиным что?
— Ранен Файзуллин.
— С кем едем?
— Первый и второй батальон и штаб полка, — ответил Майборода, оживившись, и начал выкладывать новости: — Полк едет двумя эшелонами. Мы задний. Командир полка едет впереди, с третьим батальоном и артиллерией. Конечно, там же и тыловики. На фронт они идут сзади, зато с фронта впереди. В общем, дивизия растянулась эшелонов на десять. Каждый день отправляется эшелон. Я для вас вот на одной станции пива достал. Выпейте, товарищ капитан, а то выдохнется… За деньги, — добавил он, откупоривая бутылки и ухмыляясь. — Давно уже ничего не покупал за деньги.
Акимов молча выпил пиво, которого не пробовал, пожалуй, с начала войны.
Майборода сказал:
— А хорошо жить без денег. Чтобы нам все давали — вот как на фронте: и одежу и хорошее снабжение… Но только без войны.
— Значит, чтоб войны не было, а снабжение чтобы было? — усмехнулся Акимов. — Ну, а с работой как?
— А как же? — возразил Майборода обиженно. — Без работы разве жизнь?
Акимов сказал:
— Что ж, это и есть почти коммунизм. Чтоб войны не было, была бы мирная работа, а снабжение — как на фронте… Да ты, оказывается, убежденный коммунист, сержант Майборода.
— Да, выходит так, — задумчиво произнес Майборода. После некоторого молчания он возобновил рассказ о местных новостях: — К вам приходили, проведать. Инженер полковой и еще этот, как его, птица певчая — чиж или как там его. Дрозд. И с ними переводчица приходила. Спрашивала про ваше самочувствие. И еще пластинку одну просила поставить, да выкинул я эти пластинки во время погрузки. Куда едем, неизвестно. Некоторые говорят — в Москву. Формироваться, конечно.
— Они с нами едут? — спросил Акимов.
— Кто?
— Ну, да вот Дрозд и остальные…
— Да, с нами.
На ближайшей станции Акимов вышел погулять. Он пошел вдоль эшелона. Перрон разрушенной станции был полон гуляющих солдат. Возле киоска стояла группа офицеров, среди которых Акимов сразу же увидел Аничку. Кто-то окликнул Акимова:
— Павел Гордеич! Отоспались наконец?
— Да, — односложно ответил Акимов.
Аничка обернулась к нему и крикнула:
— Идите сюда, Акимов!
Тут же она сама пошла ему навстречу и дружески пожала ему руку. Он смутился, но посмотрел на нее с жадным любопытством: какая же она на самом деле? Такая ли, какой показалась ему тогда в первый раз?
Она оказалась такой же. В чуть туманном свете дня она представлялась только более земной, менее высокомерной и далекой. В том, как она его встретила и что сама подошла к нему, чувствовалась доброжелательность, но не больше. Или больше? Во всяком случае — в ее поведении ощущалась некоторая властность и понимание своей власти. Несмотря на свою юность, несмотя на то что из-под ее шапки-ушанки выбивалась темно-каштановая прядь волос, падая на белый, без единой морщинки, гладкий, высокий, выпуклый лоб, — несмотря на все это, она вела себя подобно старшей здесь, и ее неожиданная приветливость по отношению к Акимову тоже имела оттенок знающего себе цену благоволения.
Инженер Фирсов удивился:
— Ты все еще не сбрил бороду? Пора, пожалуй, сбросить лишнюю растительность.
— Да, верно, — рассеянно ответил Акимов. — Просто забыл про нее.
— А вы, правда, побрейтесь, — попросила Аничка. — Тут на станции парикмахерская есть. А мы подождем вас.
Он готов был тотчас же исполнить ее желание, но нечто строптивое, злое заставило его ответить ей холодно и враждебно:
— Уж вам-то моя борода не мешает.
Она удивилась, вспыхнула, но, овладев собой, сказала язвительно:
— Грубость украшает вас так же мало, как и борода. — И, пристально посмотрев на него, добавила: — Не надо злиться.
Акимов ничего не ответил и вернулся к себе подавленный. Он сам не понимал, почему так грубо с ней говорил. Потом он понял, что разозлился вот по какой причине: она разговаривала с ним слишком сердечно, и именно это так рассердило его. Он не желал, чтобы она относилась к нему, как ко всем. И еще одно, пожалуй: в ее тоне ему почудилось нечто вроде заигрывания. Если же она заигрывает с ним, хотя они еле знакомы, значит, она может заигрывать с любым еле знакомым человеком. И это наполняло его нехорошим, ревнивым чувством.
«Что греха таить, — думал он, кусая кончик этой самой своей злосчастной бороды, — я влюблен в эту девицу, и так сильно влюблен, что не могу простить ей заигрывания даже с самим собой».
Не было Ремизова — того единственного человека, с которым Акимов мог бы поделиться своими мыслями. Что сказал бы Ремизов?
Лежа на своих нарах, Акимов старался представить себе, что сказал бы Ремизов.
Ремизов сказал бы:
— Друг мой, есть вещи сильнее нас. Но вовсе не значит, что все, что сильнее нас, — плохо. И кроме того, почему ты не допускаешь, что этой милой и прелестной девушке ты просто понравился? Не скромничай. Не такой уж ты скромный, чтобы считать себя недостойным ее любви, скорей напротив. Нет, ты слишком самолюбив, и в этом — причина твоих сомнений. Ты хочешь знать наверняка, что она к тебе неравнодушна. Узнав это, ты побежал бы к ней и постарался бы получить над ней власть. Ты бы тогда помыкал ею, сам притворялся бы равнодушным, чтобы заставить ее полюбить тебя еще больше. Я знаю эту игру, где человек хочет подчинить себе любимого человека, сделать из него раба, при этом, может быть, мучаясь великой жалостью к нему. Голос Ремизова начал бы звучать металлически, и он закончил бы сухо: — И это, учти, пожалуйста, есть пережиток капиталистического сознания, и надо с ним бороться.
Акимов грустно рассмеялся, так похоже это было на то, что сказал бы, будь он жив, капитан Ремизов.
Вечером поезд остановился на станции Рославль, и в вагон к Акимову пришел командир второго батальона капитан Лабзин. Он влез к товарищу на нары и зашептал ему на ухо:
— Павел Гордеевич, прошу тебя, пойдем. Тут недалеко живет одна моя знакомая. Возле самой станции. Мы с ней переписываемся год. Забежим. Поезд тут простоит часа три. Я спрашивал…
«И зачем тебе компания?» — спросил было Акимов, но потом вдруг поднялся, оделся и сказал:
— Ладно.
Они прошли по улочке, застроенной железнодорожными бараками, повернули на другую и остановились возле палисадника с одинокой красной рябиной. Лабзин пошел вперед, в темную прихожую небольшого стандартного дома. Он был слегка взволнован, так как знакомую свою доселе никогда не видел, а только переписывался с ней после того, как получил ее письмо, адресованное «лучшему снайперу воинской части». Письмо это, подобно сотням тысяч других женских писем, было послано на фронт, чтобы подбодрить и утешить солдата, а пожалуй, и для того, чтобы подбодриться и утешиться самой писавшей.
В маленькой комнатке, скупо обставленной самым необходимым, горела свеча. Двух комбатов встретила высокая худощавая женщина лет тридцати, с очень усталым лицом, но с прекрасными русыми волосами, выложенными косами на голове. Эти косы, лежавшие кругом головы, молодили женщину и напоминали о том, что, в сущности говоря, она совсем недавно была просто девчонкой.
Приход двух капитанов, из которых один мог считаться ее знакомым, взволновал женщину. После первых слов Лабзин сразу стал веселым и развязным, вынул бутылку водки и какую-то закуску, которую почему-то называл «закусь», что очень коробило Акимова.
— Пригласите подружку, Наташа, — сказал Лабзин. — Посидим, поговорим.
Наташа накинула на плечи темный платок и вышла из комнаты. Лабзин же, поглядывая на Акимова, беспокойно спрашивал:
— Ну как? Ничего? Правда, ничего?
Он всегда робел перед Акимовым и теперь, хотя сам не был ни в коей мере очарован внешностью Наташи — на фотографии она выглядела моложе, хотел бы, чтобы Акимову она понравилась. Его нервировало молчание Акимова, который сидел у столика, подперев рукой большую равнодушную голову.
Минут через десять вернулась Наташа с подругой. Подругу звали Аней, и это задело Акимова. Аня была высокого роста, с большими серыми глазами и бледным лицом.
Сели к столу. Выпили. Исчезла связанность и робость. Лабзин рассказал что-то веселое, при этом все время расхваливая Акимова и уничижая себя.
Акимов говорил мало, но вскоре заметил, что Наташа оказывает ему предпочтение перед Лабзиным, и был несколько сконфужен этим. Она все время обращалась только к нему, а чаще всего, как и он, молчала. Лабзин тоже вскоре заметил, что Наташе нравится Акимов, но не обиделся. Он занялся Аней и вскоре вместе с ней ушел.
Оставшись с Наташей наедине, Акимов почувствовал себя неловко. Он даже досадовал на себя по этому поводу. Былая моряцкая удаль словно совсем исчезла в нем. «Не уйти ли?» — подумал он, но и уйти не мог. Она сняла нагар со свечи и сказала:
— Темно теперь у нас. Немцы взорвали электростанцию.
Потом она опять подсела к нему. Оба были смущены и взволнованы. Он подумал об Аничке с горьким злорадством. «Все, кончено. Ведь все равно все кончено. Вот и прекрасно. Забыл тебя. Больше не буду мучиться. Конец». Он взял руку Наташи в свою. Ее руки были очень горячие. Вся она была горячая, как огонь.
Она еще что-то потом говорила, вздыхала…
Он лежал рядом с ней, почти бездумный. «Вот теперь все будет хорошо», — думал он, рассеянно гладя ее распустившиеся косы, а она тихо твердила:
— Спасибо тебе. Спасибо.
Она благодарила именно за эту рассеянную, добрую ласку, а не за то, что было раньше.
— Я буду очень тосковать по тебе, — сказала она.
И он поверил ей, несмотря на их быстрое и случайное сближение. То, что для него было случайностью, ей казалось уже судьбой. Лицо ее, еле знакомое, казалось ему знакомым и прекрасным. Он уже упрекал себя за то, что отнесся к ней только лишь как к безымянной и безликой отдушине для своих страстей. Он вдруг подумал, что мог бы остаться здесь навсегда и был бы счастлив. Он ощутил в ее объятиях и прочитал в ее широко открытых глазах повесть одинокой жизни. Это была та же война, только в ином обличье.
Недалекий гудок паровоза напомнил ему о том, где он находится, и заставил поспешить.
Она накинула платок и вышла вместе с Акимовым.
Состав стоял темный и безмолвный. Впереди, рассыпая снопы искр, уже попыхивал паровоз.
Они постояли в густой тени станционного здания. Она не имела ни права, ни власти удержать Акимова хоть на минуту и с непритворным отчаянием припала в темноте к его груди, чтобы навеки проститься. А он, гладя ее по голове, не находил в себе ни одной нехорошей мысли, а только жалость и волнение.
2
Возле своего вагона Акимов увидел одинокую фигуру.
— Это вы, товарищ капитан? — послышался голос Майбороды.
— Я. Чего ты не спишь? Иди спать.
— Вас дожидался.
— Ну, вот я здесь.
Майборода влез в вагон, а Акимов остался. Кто-то впереди запел приятным голосом под гитару. Акимову показалось, что он узнал голос Дрозда. Вспомнив о том, что Аничка спрашивала Майбороду о пластинках, Акимов, усмехнувшись, подумал: «На бесптичье и дрозд соловей». Хотя Дрозд пел не так уж плохо.
Прислушиваясь к пению, Акимов вдруг решил, что Дрозд влюблен в Аничку. Как бы то ни было, далекое и негромкое бренчание гитары наполнило его тоской и ему захотелось пойти туда, где находилась Аничка. Он постарался отбросить прочь эти мысли, постарался думать о Наташе, о ее одинокой судьбе, но уже понял, что встреча с Наташей вовсе не поможет ему успокоиться и выкинуть из головы другое.
В темноте двигались фонарики железнодорожников. Чей-то голос спросил:
— Скоро нас отправят?
— С полчасика постоите, — ответил другой голос. — Там путь занят.
Акимов пошел вдоль состава и наконец поравнялся с полуоткрытой дверью штабного вагона. Гитара уже замолкла. Из вагона доносились негромкие голоса. Акимов постоял, постоял, потом полез в вагон. Люди сидели вокруг печки. Огонь в печке ярко пылал.
— А, товарищ Акимов, — встретил его инженер Фирсов. — Пожалуйте к нашему очагу.
Акимов прислушался. Но нет. Женского голоса не было слышно. Тем не менее он чувствовал, что она здесь, что она где-то тут, рядом, сидит и молчит. Это было ясно из всего поведения людей, хотя бы из их сдержанных разговоров. Он ждал, что кто-нибудь окликнет ее, спросит о чем-то, и тогда можно будет хоть услышать ее голос. Но никто ее не окликал.
Он собрался было отправиться к себе, но поезд тряхнуло, паровоз дал свисток. Тронулись. Конечно, он мог бы спрыгнуть на малом ходу и с легкостью вскочить в свой вагон, но ему не хотелось уходить отсюда, и он воспользовался этим поводом, чтобы не уйти.
Аничка же упорно молчала, сидя в углу на нарах, именно потому, что вошел Акимов. Ей трудно было определить свое чувство к нему, но ей почему-то казалось все время, что она и он имеют от всех некую тайну, никому, кроме них, не известную. Может быть, то, что она видела, как он плачет.
Конечно, он был настоящим героем. Но и остальные люди, сидящие здесь в вагоне, тоже были героями. Дрозд несколько раз ходил по вражеским тылам. Фирсов был опытным и храбрым сапером и тысячу раз рисковал жизнью. И все остальные тоже так. Они разговаривали, вспоминая прошлые бои, размышляя вслух о том, что их ожидает на месте формировки, — одним словом, вели самые обыкновенные разговоры, но она знала, что за этими обыкновенными словами кроется не бедность мысли, а привычка к сдержанности, нежелание и неумение говорить красиво. Каждого из сидящих здесь людей она, несмотря на темноту, видела. Не видела она одного Акимова. Он казался ей неясным, глубоким и непохожим на других. Она не могла понять, в чем дело, пока наконец, усмехнувшись в темноте, не подумала: «Да он мне просто нравится».
Тем не менее она попыталась отдать себе отчет в том, почему он ей нравится. И решила, что ее поразило в нем редкое сочетание физической и нравственной силы. На него можно было положиться, он был одним из тех людей, которые способны быть могучими защитниками от невзгод и горестей жизни. Но разве не ощущала она себя тоже достаточно сильной и способной на многое? Да, ощущала и, чувствуя в себе скрытые силы, равные его собственным, тянулась к нему с тем благородным и бескорыстным самоотречением, какое испытал бы, будь он мыслящим существом, дождь, приближаясь к земле.
Как раз перед тем, как Акимов вошел в вагон, о нем здесь говорили. Все отзывались о нем с похвалой, кроме Дрозда, который почему-то говорил об Акимове с непонятным раздражением. Например, он говорил, что Акимов заносчив, груб и носится со своим морским прошлым, как «с писаной торбой».
Дрозд так отзывался об Акимове потому, что страстно и ревниво любил Аничку и боялся, что Акимов ей понравится так же, как он нравился всем, в том числе ему, Дрозду.
Капитан Дрозд, будучи хорошим человеком, храбрым и дельным офицером, как бы старался казаться хуже, чем был на самом деле, считая, что разведчик должен вести себя самоуверенно и развязно. Смуглый, как цыган, с блестящими черными глазами, он мог от всякого пустяка зажечься, как спичка. Лишь во время выполнения боевой задачи он становился расчетливым и хладнокровным и в такие моменты очень нравился Аничке. С ней он вначале принял тот залихватский и игривый тон, которым обычно щеголял, но почти сразу же понял, что ошибся. Прежде всего он с некоторым удивлением отметил, что разведчики, люди, прошедшие огонь и воду, при новой переводчице не позволяют себе ни легкомысленных разговоров, ни пошлых намеков. Это заставило его насторожиться. Он стал внимательно приглядываться к переводчице. На него произвела большое впечатление ее отвага, независимость и весьма определенное презрение ко всяким заигрываниям. При всем том ее не покидала женственность, действовавшая на Дрозда с удивительной силой. Когда рядом разрывался снаряд или когда приближались вражеские самолеты, она чуть бледнела и жалобно говорила:
— Ох, как страшно!
Но при этом продолжала делать свое дело так же размеренно и точно, как прежде.
У него сердце замирало от восхищения, когда он слышал эти слова: «Ох, как страшно!» Право же, он иногда чуть ли не мечтал о здоровом артналете, с тем только, чтобы еще разок услышать от нее эти слова. Произнося их, она казалась ему слабее, а потому — ближе, доступнее.
Именно в связи со своим чувством к Аничке Дрозд опасался Акимова. Акимов был силен своей прямотой. Он никогда не лицемерил и не притворялся, не приспосабливался к людям. Напротив, люди приспосабливались к нему.
Он был как будто весь на ладони, этот Акимов, и все-таки было в нем много тайного, сложного. Это был не «рубаха-парень», каким он казался спервоначалу, и прямота его была вовсе не признаком элементарности, а свойством характера, который не желает связывать себя двуличием.
Дрозд на первый взгляд был таким же «рубахой-парнем», говорившим в глаза людям то, что думал о них. Но это только казалось, и сам Дрозд знал это лучше всех. На самом же деле он беспрестанно шел на уступки. Прямота его была не совсем естественной, он сам себя понуждал быть прямым, но это было ему трудно. Он, напротив, любил быть приятным людям, нравиться им и вследствие этого часто кривил душой. Поэтому он втайне считал себя человеком заурядным, «дипломатом», и сам мучился этими своими качествами.
Акимов был прирожденным вожаком, руководителем, Дрозд же хотел быть вожаком, мечтал об этом, но был еще для этого слаб, подвержен припадкам лицемерия и припадкам грубости, не имел, одним словом, определенной линии.
Что касается Анички, то Дрозд вовсе не заметил ничего похожего на особое отношение ее к Акимову или Акимова — к ней. Но, считая Акимова выше себя, а Аничку — достойной самого лучшего, он боялся сближения их именно потому, что считал их подходящими друг для друга.
Теперь, сидя в темной теплушке и оживленно беседуя с остальными офицерами, Дрозд все время прислушивался к сидевшим молча Акимову и Аничке, и ему казалось, что их молчание означает некую связывающую их невидимую нить. И своим оживлением, шутками и остротами он как бы тщился порвать эту нить и чувствовал, что не может. Ему хотелось, чтобы кто-нибудь из них заговорил, но оба молчали. В конце концов все это было настолько неуловимо, что, может, и нити-то никакой не было, а все одна мнительность, иногда думал Дрозд.
Но он не ошибался, нить эта существовала.
Наконец Акимов заговорил.
— Когда я был маленьким, — сказал он, — я мечтал ехать с солдатами в эшелоне. Мне казалось, что нет ничего веселее, чем быть солдатом и ехать в эшелоне.
«Нет, не может плохой человек так говорить», — думала Аничка, прислушиваясь не столько к словам, сколько к голосу Акимова.
— А вот теперь, — продолжал Акимов, — мне вовсе не весело. Все боюсь, как бы кто из солдат не отстал или не выпил лишнего. Вообще в армии лучше всего быть рядовым. Рядовой, как бы ни было ему трудно, все-таки как у Христа за пазухой. Может, оно и неприлично капитану хотеть вернуться в первоначальное состояние, но, честное слово, иногда хочется ни о чем не думать и ни за кого, кроме себя, не отвечать.
Акимов, разговаривая тем добрым, дружелюбным тоном, какой был ему свойствен в нормальное время, удивлялся, как может он говорить о таких обычных вещах после того, что было час назад в том маленьком стандартном домике на станции. «Как нехорошо, — подумал он, — что человек способен скрывать свои некрасивые тайны…»
Им овладел внезапный жгучий стыд, и он подумал, что самое лучшее вовсе не иметь некрасивых тайн, хотя это очень трудно.
Кто-то спросил:
— Когда вы на днях подымали людей в атаку, о чем вы думали?
Акимов сказал:
— Не помню.
— Страшно подымать людей в атаку, — проговорил Гусаров. — Боязно, что не подымутся.
Акимов возразил:
— Нет, у меня этого не бывало. Об этом просто нельзя думать. Если будешь думать об этом, солдаты и в самом деле не подымутся, они почувствуют твое сомнение, — и тогда пропала атака. Ты должен быть уверен, что подымутся все как один. А для этого надо их поднять в самый правильный момент. Иначе будет чистое донкихотство. Как в политике: мало дать правильный лозунг, надо дать его вовремя.
Дрозд в это время думал: «Красиво говорит. Как лектор политотдела. Красуется. Мыслитель, так сказать».
— Об этом мне часто говорил Ремизов, — добавил Акимов, помолчав.
«Вовремя скромно перенес на Ремизова, — мрачно комментировал про себя Дрозд. — Понял, что немножко скромности не помешает. Хитрый, черт».
Гусаров стал рассказывать случай, приключившийся будто бы в городе Рыбинске: приехавший домой по дороге из госпиталя некий фронтовик застал у жены другого и застрелил жену. Трибунал якобы оправдал убийцу, признав, что он прав.
Почти все в вагоне согласились с этим решением, один только Акимов произнес глухим голосом:
— А сам небось в госпитале и на фронте никому проходу не давал.
Начался спор на тему о нравственности оставшихся в тылу жен. Дрозд рьяно спорил с Акимовым, хотя не желал спорить, понимая, что Аничка, все так же сидевшая молча, в этом вопросе не может не быть на стороне его противника. Все больше злясь, он думал: «Защищает женщин, чтобы ей понравиться. Дескать, я хороший, я женщин уважаю…»
Кто-то окликнул Аничку:
— Анна Александровна, а вы как думаете?
Но Аничка ничего не ответила, решив притвориться спящей. Слушая Акимова, она вдруг ужаснулась при мысли, что он может выбрать себе какую-нибудь недостойную его подругу жизни. И при мысли об этом она заранее жалела его странной, острой и внешне ничем не оправданной жалостью.
3
На следующий день, рано утром, поезд остановился на полустанке, и Акимов, которому не спалось, вышел погулять.
Весь эшелон еще спал, и только несколько солдат — из тех, что постарше — вылезли из вагонов и, покуривая, уселись на травянистую насыпь.
К Акимову подошел капитан Лабзин и тут же начал рассказывать об окончании своего вчерашнего приключения. Оно не увенчалось успехом, женщина оказалась строгих правил, но Лабзин, бессмысленного тщеславия ради, изложил Акимову все дело так, словно успех был полный. Акимову было неприятно и совестно слушать все это, и он отрезал:
— Ладно. Что было, то было, и рассусоливать тут нечего. Одинокие женщины. Жаль их, и все.
Паровоз дал гудок. Лабзин ушел к себе, солдаты бросились к вагонам, и поезд тронулся. Акимов шел рядом со своим вагоном, ожидая, чтобы влезли солдаты.
— Быстрее, — поторапливал он их. Поезд прибавил ходу. Акимов уже ухватился за дверную щеколду, чтобы вспрыгнуть, и вдруг увидел Аничку, которая бежала от станции к поезду. Она держала в руках солдатский котелок, из которого по земле расплескивалось молоко. Она была без шинели, в зеленом форменном платье с узенькими погонами. Бежала она легко и быстро, ее длинные, стройные ноги, обутые не в сапоги, а в маленькие закрытые туфли, так и мелькали.
Акимов выпустил из рук щеколду и встал, наблюдая, что будет дальше, сумеет ли Аничка догнать поезд. И, поняв, что не сумеет, повернулся к ней. Он чуял спиной, как мимо пробегает вагон за вагоном все быстрее, и из каждого вагона ему кричали:
— Товарищ капитан, давайте прыгайте сюда!
Но он не оборачивался. Он смотрел, как Аничка, тоже наконец поняв, что поезда ей не догнать, замедлила шаг, потом совсем остановилась. При этом она заткнула себе рот ладошкой, как бы для того, чтобы не кричать, с видом такого комического отчаяния, что Акимов улыбнулся. Она вначале не заметила Акимова и увидела его только тогда, когда поезд пролетел, а он остался один на фоне желтой полоски несжатой ржи.
Поезд отгромыхал, стало совсем тихо, и они медленно пошли навстречу друг другу.
— Вы тоже отстали? — спросила она.
— Да.
— Очень рада. Вдвоем веселее. Не знаете, когда пройдет следующий эшелон?
— Точно не знаю. Говорят, эшелоны отправлялись каждые сутки.
— Значит, только завтра уедем? Куда же мы денемся?
— На станции будем.
— У меня нет ни копейки денег. А у вас?
— Тоже нет.
Она весело рассмеялась, потом вдруг стала очень серьезной и спросила:
— Вы из-за меня остались?
— Да.
Помолчали. Он попытался объяснить свои поступок:
— Я подумал: как же вы будете тут совсем одна…
— И вам стало меня жалко?
Он ответил:
— Жалко — не то слово. Просто я подумал, что нехорошо оставлять вас одну.
— Я не подозревала, что вы такой добрый, — сказала она без всякой иронии. — Большое вам спасибо. Действительно, вдвоем лучше.
Он сказал:
— Постараемся уехать сегодня, может быть, подвернется какой-нибудь поезд, и мы догоним свой эшелон.
Она испугалась:
— А ведь верно! Вам может влететь. Вы же оставили свой батальон. И все из-за этого молока. Вдруг захотелось молока. — Она посмотрела на свой котелок и серьезно предложила! — Не хотите молока?
Он рассмеялся, она вслед за ним. Потом оба разом смутились. Чтобы скрыть смущение, огляделись. Вокруг расстилались ржаные поля, кое-где не сжатые. Прямо перед ними тропинка во ржи вела в березовую рощу, полную шелеста и вздохов ветра. Маленький полустанок — кирпичный домик с балкончиком и надписью «блок-пост» на нем — стоял окруженный старыми деревьями. Рядом на скамейке сидела очень старая старуха с двумя бутылями молока — виновница всей истории.
Прежде всего они отправились на полустанок и узнали у начальника, когда ожидается ближайший поезд, а так как времени было много, пошли гулять.
Они углубились в ту самую березовую рощу. Роща была устлана ковром из желтых листьев. Желтая листва сохранилась еще и на деревьях, и все было очень красиво. Они вдыхали полной грудью пряный аромат осени. Да, стояла золотая осень, и вообще оказалось, что все в мире осталось на своих местах: в помещении станции больно кусались осенние мухи, стаи ворон то опускались на поле, то с громкими криками взмывали вверх и сплошь покрывали старые деревья возле станции, жужжали пчелы, вылетевшие за последним осенним взятком. Все эти картины нормальной жизни казались Акимову и Аничке чем-то совершенно новым, и они сами чувствовали себя новыми.
Оба молчали, медленно гуляя по роще, и с каким-то особым удовольствием загребали ногами нежную толщу осенней листвы. Акимову было неловко, что он молчит, теряя, как ему казалось, драгоценное время, когда следовало бы если не объясниться, то по крайней мере поправиться, быть занимательным, интересным. Он все придумывал, что сказать, никак не мог придумать ничего хорошего и упрекал себя, иронизируя по собственному адресу: «Трудное дело, Павел Гордеич, любовь крутить, это тебе не воевать, тут сноровка нужна».
Он даже сам не представлял себе, как умно делает, что молчит: Аничке нравилось, что он молчит. Ей было бы невыносимо слышать от него пустые слова.
Он краешком глаза смотрел на ее узкую руку с длинными пальчиками, на которых ногти были выстрижены до самой кожи, как у маленьких детей. Рука ее рассеянно била длинным прутиком по белым стволам берез. В другой руке покачивался котелок. Конечно, следовало бы, учтивости ради, взять этот котелок из ее рук, но Акимов все не решался на такого рода галантность и не без юмора думал о том, что как мужчина должен был бы взять у женщины лишнюю ношу, но как капитану негоже ему обхаживать лейтенанта.
Он думал все время о ней, и как-то странно думал: у него в голове не вмещалось, что та, о которой он думает, и та, что идет рядом с ним, — один и тот же человек. Та, о которой он думал непрестанно все последние дни, была очень далеко и не могла быть возле него, а та, что шла здесь, была совсем близко, рядом. Эту он мог вот сейчас взять за руку, с ней он мог запросто разговаривать, а та находилась как бы в заоблачных сферах, царила в его душе. Может быть, близость любимого человека этим именно и прекрасна, что возлюбленная, находящаяся рядом с тобой, все равно что птица, которая добровольно спустилась к тебе на руку, но настоящее место которой — вверху, очень далеко от тебя.
Акимов был счастлив, и Аничка чувствовала это. Того, что Акимов отстал от поезда ради нее, было бы недостаточно для такого суждения: это просто хороший поступок, и его мог совершить любой знающий ее офицер или солдат, но тут было важно то обстоятельство, что это сделал именно Акимов. Аничка чуяла, что он мог сделать это только всерьез, только в исключительном случае, и не такой он человек, чтобы сделать нечто подобное из простой предупредительности.
Она время от времени взглядывала на Акимова, одна рука которого загорелая, большая — рассеянно теребила пуговицу на кармане гимнастерки.
Ее рука с прутиком и его рука на гимнастерке были почти совсем рядом. И, глядя на руку Анички и на свою, Акимов подумал, что обе руки что-то ему напоминают, но он не мог вспомнить, что именно. Потом вспомнил: узкий, изящный листок ивы рядом с большим кленовым листом.
Они взглянули друг другу в глаза, улыбнулись и хотели что-то сказать, но внезапно откуда-то со стороны станции послышался встревоженный, ищущий голос:
— Товарищ капитан! Товарищ капитан!
— Майборода, — сказал Акимов и вздохнул.
Да, это был Майборода, который, узнав от солдат, что комбат отстал, спрыгнул с поезда и побежал обратно. Теперь он вынырнул из-за деревьев и как ни в чем не бывало, с обычным своим хмурым выражением лица, в надетой набекрень шапке-ушанке, подошел к своему командиру, искусно притворившись, что не находит ничего странного в присутствии здесь переводчицы. На его руке висела шинель Акимова.
Все трое пошли обратно на станцию, причем Акимов, слегка смущенный, напустил на себя суровый вид. На станции их ожидал еще один сюрприз: тут были два полковых разведчика, Бирюков и Молчанов, которые, оказывается, тоже покинули эшелон и принесли Аничке ее шинель; капитан Дрозд, разумеется, разрешил им это и очень, как они говорили, волновался за нее.
Итак, их стало пятеро. Они все уселись на скамейке возле станции. Вскоре к ним подсел и начальник станции и еще железнодорожники. Конечно, пошли разговоры о войне, о сроках ее окончания, расспросы, хорошо ли еще дерутся немцы или уже похуже, и скоро ли наконец размахнутся союзники со своим вторым фронтом, будь он неладен.
Скамейку окружила ватага мальчишек, которые молча и очень напряженно прислушивались к разговору и глазели на причудливые маскхалаты разведчиков — те по привычке их так и не скинули, — на ордена Акимова и на ясное, улыбающееся лицо Анички.
4
Первый же поезд, прибывший через три часа, оказался очередным эшелоном дивизии, и к тому же тем самым, в котором следовал штаб дивизии и генерал Мухин. Эшелон этот намного опередил свое расписание и теперь двигался почти впритык к тому, от которого отстали Акимов и Аничка.
Здесь их встретили сердечно, как потерпевших бедствие, накормили и устроили в один из вагонов.
В вагоне пели солдаты. Запевала, смуглый и хитроватый украинец-старшина, возбужденный и наивно гордый собственным своим высоким и довольно сильным тенором, в промежутках между песнями косясь на Аничку, сетовал на отсутствие женских голосов.
— Без женщин разве пение? — говорил он с сокрушением.
Аничка посмотрела на Акимова вопросительно, и Акимов кивнул головой. И оттого, что она не просто запела, а попросила у него разрешения петь, у него сразу пересохло в горле, такой она показалась ему в этот момент близкой и с незапамятных времен своей. Она запела, и старшина, не прекращая пения, одобрительно и восхищенно замотал головой.
А впереди трубил паровоз, и Акимову казалось, что это его любовь, несясь вперед, оглашает притихшую равнину победным трубным звуком.
На ближайшей большой станции Акимов покинул вагон, сказав Аничке, что скоро вернется. Усмехаясь про себя и радуясь, как ребенок, он направился прямо к парикмахерской. Станция, как почти все здесь, в местах, где недавно еще бушевала война, была разрушена, и вместо нее стоял большой дощатый барак. А рядом с ним находилась будка, где помещались почта и парикмахерская.
Поджидая на перроне своей очереди, Акимов увидел медленно прогуливающегося комдива, которого сопровождали штабные офицеры.
Генерал подозвал комбата, пожал ему руку и спросил:
— Когда сдаете батальон?
Узнав, что Головин еще не успел ни о чем сказать Акимову, генерал, очень довольный тем, что может сообщить нечто приятное хорошему человеку, поведал ему об откомандировании во флот и был несколько удивлен молчанием комбата.
— Как вы попали в наш эшелон? — спросил генерал.
— Отстал.
— Ай-ай-ай, нехорошо. Да ладно, все равно им придется от вас отвыкать.
Акимов на это ничего не ответил, и генералу почему-то опять стало не по себе от напряженного молчания комбата.
Кивнув, генерал ушел дальше, а Акимов вернулся к парикмахерской. Он тут постоял, дожидаясь своей очереди, но, когда очередь подошла, он непонимающими глазами взглянул на лейтенанта, сказавшего: «Ваша очередь, товарищ капитан», — потом посмотрел на парикмахершу в белом халате, потрогал свою бороду, сказал: «Нет, не надо», — и, к общему удивлению, ушел.
У вагона, где находилась Аничка, он постоял еще несколько минут и поднялся в вагон только тогда, когда поезд уже трогался. Он сел на свое место, но на Аничку не смотрел, а только молча покуривал.
Заметив это, Аничка тоже помрачнела. Впрочем, ее угрюмость продолжалась недолго, вскоре она просто как бы перестала замечать Акимова, пересела поближе к солдатам, начала им рассказывать интересные истории о немецких пленных, смешные анекдоты, в которых особенно доставалось Гитлеру и Геббельсу, а также разные случаи из жизни разведчиков. Об Акимове она, по-видимому, совсем забыла и с искусной жестокостью всячески подчеркивала это. Солдаты глядели на нее с обожанием. Майборода и тот покинул молчаливого Акимова и подсел поближе к ней.
Вечерело. Над темной равниной разносились тоскливые гудки паровоза. Раскаты хохота, то и дело раздававшиеся в вагоне, ожесточали душу Акимова, Он хотел скорее уйти отсюда и только ждал первой остановки, чтобы отправиться к знакомым офицерам в другой вагон.
Но на следующей станции оказалось, что поезд догнал следовавший ранее эшелон. Эшелоны встали друг подле друга. Акимов, выйдя на перрон, услышал в темноте знакомые голоса Орешкина, Бельского к других людей из его батальона. Тогда он кликнул Майбороду, сказав громко, чтобы Аничка слышала:
— Вот мы и догнали своих. До свидания.
Оставшиеся сутки пути он провел в оживленной деятельности: беседовал с солдатами, расспрашивал их о домашних делах, читал им сам за отсутствием замполита газеты, проводил политбеседы в каждом вагоне. Потом он затеял разбор с офицерским составом последнего боя, отмечая правильные и неправильные действия отдельных подразделений и недостатки в вопросах взаимодействия с артиллерией. Он прощался. А оставшись наедине с собой, он старался думать о море, о Новороссийске и Батуми, восстанавливал в памяти флотские команды, сигналы, расположение корабельных и маячных огней, семафорную азбуку и служебные знаки.
Никогда он не казался таким веселым и ласковым, как в это время, и никогда не был внутренне таким глубоко несчастным.
Что касается Майбороды, то он, узнав о предстоящем отъезде капитана, вовсе перестал что-либо делать и целыми часами лежал наверху на нарах лицом вверх. Он огрызался на всех, в том числе и на самого Акимова. Акимов велел оставить его в покое и сам тоже не тревожил его, только покачивал головой.
Между тем, обогнув Москву, эшелоны поехали по Октябрьской железной дороге. Ночью прибыли наконец в Бологое, оказавшееся станцией выгрузки. Здесь по перрону уже сновали офицеры штаба тыла дивизии и полка. Своих людей ожидал майор Головин. Началась выгрузка. Акимов подошел к Головину, отрапортовал о прибытии и сразу же спросил:
— Кому батальон сдавать, товарищ майор?
Головин сухо ответил:
— Подожди, вот устроимся, тогда решим.
— Да что тут решать? Мне ехать надо.
— Ничего, потерпишь денек, — сердито сказал Головин.
На рассвете погрузились в машины и отправились в сторону от станции по убитой булыжником дороге. На дороге уже стояли указки: «Хозяйство Мухина», «Хозяйство Головина» и разные другие.
Квартирьеры встретили первый батальон у въезда в деревню и указали Акимову места, где он должен был расположиться со своими людьми. Здесь уже бродили связисты, наводя телефонную связь. Старшины распределили солдат по избам. Все население высыпало на улицу. Женщины, стоя у изгородей, пристально вглядывались в каждое лицо с обычной в таких случаях тайной мыслью: нет ли тут случайно моего?
В тот же день майор Головин созвал к себе всех офицеров. Офицеры собрались в помещение колхозного клуба, красиво убранного кумачом и еловыми ветками.
Распаренные после бани, хорошо выбритые и довольные, все офицеры были чисто одеты, кое у кого появились даже фуражки мирного времени, с малиновыми околышами, и вынутые со дна чемоданов ярко-желтые новенькие погоны взамен мятых полевых. Сапоги у всех блестели.
Головин оглядел своих людей, удовлетворенно усмехаясь, и сообщил, что на днях начнет прибывать пополнение. Все роты будут доведены до нормального состава. Все имущество и вооружение, включая артиллерию, будет пополнено до штатного количества. С завтрашнего дня нужно начинать занятия по боевой и политической подготовке. Занятия следует проводить строго по расписанию, по часам, как в мирное время. Первый батальон займется оборудованием учебной штурмовой полосы, второй и третий батальоны устройством полигона для стрельб. Тут же роздали новенькие уставы и наставления в красных переплетах, распорядок дня и расписание занятий.
После совещания Акимов задержался и опять спросил у командира полка:
— Кому сдать батальон?
Головин вдруг обозлился:
— Бессердечный ты человек, Акимов, ей-богу! Понятно, ты скорее хочешь попасть во флот. Но хоть бы не показывал при всех своего желания избавиться от нас поскорее. Это же нетактично, честное слово.
— Да нет же, — растерянно проговорил Акимов. — Не в этом дело. Просто надо поскорее, зачем тянуть жилы. Ну, дайте человека, я сдам ему батальон, и дело с концом. — Помолчав, он добавил: — Всех я вас люблю, как братьев. Все вы мне дорогие и родные, если уж сказать всю правду. Но к чему канитель? Надо отправляться, и все.
Головин, смягченный этой исповедью, сказал:
— Был я сегодня у генерала. Офицеров пока нет. Тебе придется продолжать командовать батальоном до прибытия новых офицеров. Это продлится не больше десяти дней. А потом мы дадим тебе письмо с объяснением, по какой причине ты задержался. Ну, что еще? Представил тебя генерал к ордену Красного Знамени за разведку боем.
Акимов покачал головой:
— Это все хорошо. Но отпусти меня с богом завтра же. Сделай такое одолжение.
Головин только отмахнулся от него.
Все было хорошо до вечера, а вечером Акимову так захотелось увидеть Аничку, что не было никакой возможности сладить с собой. Он решил лечь спать, хотя было очень рано. Впервые за много недель раздевшись, он лег на чистую простыню. В избе, где он обосновался, жили старик и старуха, которые сразу стали называть его «сынок» и всячески старались устроить его получше. Майбороде он велел жить в «казарме» — другой избе напротив.
— Отвыкай от меня, — сказал он своему ординарцу.
Итак, он лег в постель, но о сне не могло быть и речи. Им овладела тоска. Он встал, оделся, почитал какой-то устав, снова погасил лампу, посидел у окна, поглядел на темную синеву неба, на ясные звезды и вышел на улицу.
Кругом по причине светомаскировки было темно, но всюду чувствовалось оживление. Лаяли собаки. Пели солдаты. Раздавались женские голоса.
Он опять вошел к себе в избу и затеял бриться. Вытащив из печки чугун с горячей водой, он развел мыло и вынул из чемодана бритву. Из запечной каморки пришел старик и, наблюдая за капитаном, все приговаривал:
— А не жалко, сынок, бороду брить? Такая роскошная борода, прямо генеральская. В старое время все генералы были бородатые. Даже не видано было, чтобы генерал — и без бороды…
К нему присоединилась и старушка. Она с жалостью смотрела, как Акимов морщится от боли, обдирая бритвой свою густую растительность.
Бабушка сказала:
— Ой, батюшки, да ты, оказывается, совсем молодой вьюноша. А с бородой ты был вроде человек пожилой.
Акимов посмотрел в зеркальце, висевшее рядом с многочисленными стариковскими семейными фотографиями, и ужаснулся, увидев свое безбородое лицо, которое показалось ему до глупости молодым и очень некрасивым. Борода делала лицо продолговатым, благородно удлиненным. А теперь оно казалось голым, подбородок — куцым, расстояние между носом и ртом, лишенное усов, — огромным, а нос, торчащий на этом голом лице, — сиротой без отца, без матери.
— Тем лучше, — сказал Акимов вслух, усмехаясь. — Значит, не влюбится в меня морская царевна и не затащит к себе на дно.
Он снова лег, опять маялся без сна и по-настоящему обрадовался, когда часов в десять кто-то постучался. Зашел незнакомый старший лейтенант. Оказалось, что он прислан из политотдела на должность заместителя по политчасти взамен Ремизова. Это был молодой, бойкий, крепкий человек. Он устроился рядом с Акимовым на широкой лавке, от души обрадовавшись теплу, так и прущему из большой русской печи.
Акимов отнесся к нему сдержанно: уж слишком был он непохож на Ремизова, чтобы показаться Акимову стоящим замполитом. Но хорошо было и то, что хоть пришел кто-нибудь, с кем полагается говорить, и можно забыть о тянущей из дому тоске.
5
Аничка все эти дни грустила. Она считала, что с Акимовым у нее все кончено, и, как могла, боролась с чувством недоумения и горечи, не покидавшим ее. Она не желала вдумываться в причины его внезапной холодности и грубости там, в поезде. Эти холодность и грубость были либо какой-то неожиданной в таком человеке интеллигентской неуравновешенностью, либо недостойной игрой глупого «сердцееда», думающего, что таким путем можно сильнее подействовать на Аничку.
Но однажды вечером она, будучи дежурной по штабу полка, услышала разговор начальника штаба с кем-то из офицеров о том, что Акимов на днях уезжает, так как его отзывают обратно во флот.
Тут она, сопоставив факты, все поняла.
На следующий день, освободившись от дежурства, Аничка без всяких колебаний сейчас же пошла в соседнюю деревню, где располагался первый батальон. Здесь было пустынно: солдаты находились на тактических занятиях. Дежурный сержант с красной повязкой на рукаве и штыком на поясе прогуливался вдоль улицы. Он указал Аничке избу Акимова, и она отправилась туда.
Возле избы на завалинке сидел седенький старичок и курил трубочку. Рядом с ним свернулся в клубок большой белый кот.
— Капитан дома? — спросила Аничка, поздоровавшись. Для верности она добавила: — Высокий такой, с бородой.
— Высокий, верно, — ответил старичок лукаво, — но насчет бороды не знаю, не видал. Нет на ем никакой бороды. Конечно, борода — трава, скосить можно.
Аничка села рядом со старичком. Он спросил:
— Чем, я извиняюсь, занимается такая барышня в нашей геройской армии?
Узнав, что Аничка переводчица, он был этим очень заинтересован и даже восхищен и начал ее расспрашивать о немцах и о том, когда, по мнению немцев, — он обязательно хотел знать мнение самих немцев, — Германия будет разбита.
В деревню повзводно стали с песнями возвращаться солдаты. Наконец Аничка услышала издали голос Акимова и, вздрогнув, подумала: «Я его люблю». Потом она увидела и самого Акимова. Он шел по улице, очень высокий, окруженный другими офицерами, и о чем-то громко с ними разговаривал, энергично подчеркивая свои слова взмахом правой руки.
Увидев Аничку, Акимов почувствовал, что бледнеет. Он приостановился на минуту и, как это ни глупо, прежде всего подумал о том, как он ей понравится без бороды.
Но Аничка даже не заметила изменения в его внешности. Бегло поздоровавшись с офицерами, она обратилась к Акимову:
— Я узнала, что вы уезжаете от нас. Скажу вам откровенно — мне очень жаль, что вы уезжаете.
Акимов в замешательстве сказал:
— Да?
Офицеры почувствовали себя неловко и ушли.
— Когда вы уезжаете? — спросила Аничка.
— На днях. Как пришлют замену.
— Ага. Ну да. Понятно.
Он сказал глухим голосом:
— Я все хотел с вами повидаться, да не решался. Главное, мне это казалось ненужным, даже, откровенно сказать, вредным делом. Ну, режьте меня, ну, скажу вам всю правду. Совсем не могу без вас жить. Испугавшись, что она обидится и отнесется к его словам так, как всегда, по слухам, относилась к такого рода объяснениям, он тут же стал, как мог, замазывать то, что сказал раньше: — Ну, может, я это слишком сильно сказал. Я, товарищ Белозерова, все старался делать, чтобы ничего такого не было. Тем более что мне надо уезжать. Я очень люблю море и морскую службу. Но люблю я это или не люблю, а ехать надо. Конечно, лучше бы всего этого не было. Не то время. Не обижайтесь, но я жалею, что встретил вас. Нам бы лучше встретиться в мирное время.
Она слушала это странное любовное объяснение с неизъяснимым чувством, и ей казалось, что искренность его была на грани величия.
— Просим чай кушать, — сказал старичок, о котором они совсем забыли.
Вошли в избу. На столе кипел самовар. Бабушка поздоровалась с Аничкой. Сели за стол. Аничка думала о том, как странно он говорил: он говорил только о своих чувствах, даже ни разу не спросив, любит ли она его. Он как бы опасался спрашивать об этом, как бы боялся — но не отказ ее услышать, а наоборот — узнать, что и она его любит. Она воспринимала его боязнь с радостной благодарностью, понимая мотивы его страха и удивляясь силе и яркости этого характера.
Она вскоре ушла, пообещав прийти позднее, вечером. Потом они ходили по полям и спящим деревням почти до утра. То же самое повторилось и на следующий день и после. Им трудно было расстаться. Близкая разлука и краткость предстоящих часов лишили их отношения первоначальной связанности и скованности. Они уже разговаривали друг с другом так, словно были знакомы сто лет, вместе смеялись над чудачествами каких-то родственников, вместе сожалели о каких-то погибших, известных только одному из них. Домик в Заречной Слободке города Коврова и его обитатели становились такими же близкими Аничке, как большая профессорская квартира в Николо-Песковском переулке в Москве — Акимову.
— Почему вы меня не поцелуете ни разу? — спросила она его однажды, остановившись во время гулянья. — Не мне же первой вас поцеловать.
— Боюсь, — произнес он глухо, потом приблизил свое лицо к ее странно суровому лицу и поцеловал ее.
Побледнев, она сказала:
— Не так уж вы и боитесь.
Всю эту неделю им казалось, что они одни и никого вокруг нет, несмотря на то что окрестность была полна солдат, крестьян и детей.
На седьмой день рано утром, перед тем как Акимов отправился проводить занятия на штурмовую полосу, к нему в избу постучались, и вошел капитан с чемоданчиком в руке. У Акимова екнуло сердце. Так оно и оказалось, — это был капитан Черных, новый офицер, назначенный командиром первого батальона.
На занятия Акимов уже не пошел, познакомил капитана со своими офицерами, солдатами, с батальонным хозяйством и сдал батальон. Черных был спокойным, наблюдательным, сдержанным человеком, с русыми прямыми волосами, все время падавшими на лоб. На его груди красовался орден Александра Невского. Акимову он понравился, и Акимов не без ревнивого чувства заметил и то, что солдатам новый комбат тоже понравился.
«Вот и прекрасно, — думал Акимов, — вот и ехать можно».
Он пошел в соседнюю деревню, в штаб полка. Здесь Головин его поздравил: прибыл приказ о присвоении Акимову звания майора.
— Сдал батальон? — спросил Головин.
— Так точно, сдал.
— Садись, посиди.
Оба сели, помолчали.
— Какое впечатление произвел на тебя Черных? — спросил Головин.
— Отличное. Хороший офицер.
— Сибиряк.
— Да, знаю. — Помолчав, Акимов добавил с усталой улыбкой: — Раньше солдаты гордились: у нас комбат — морячок. Теперь будут хвалиться: у нас комбат сибирячок.
— Да, — улыбнулся и Головин. — Наверно. Если только комбат окажется хорошим.
— Окажется, — сказал Акимов. — Поверь моему глазомеру.
— А не хочется тебе уезжать? — спросил Головин. — Слышал я, у тебя с Белозеровой… Прости меня, конечно… Рассказывали.
— Ну что ж, — спокойно оказал Акимов. — Командиру полка полагается все знать, что у него в полку творится. Ничего плохого не нахожу в этом. Да, уезжать не хочется, — признался он. — Очень я ее люблю.
— Она хорошая.
— Да.
— И красивая.
— Да.
— Она была еще красивей. У нее косы были очень красивые. Длинные. Но она их, как пришла к нам в полк, срезала. Неудобно, видите ли, воевать с косами. Мешают, видите ли. Я, как узнал, что она их срезала, ахнул. Как-то жалко мне стало ее кос. Да уж не полагается командиру полка проявлять заботу о косах своих подчиненных… Когда поедешь?
— Думаю, завтра.
— Да ты побудь деньков несколько. Флот не убежит, и море не высохнет. Мы тебе бумажку дадим, что задержали.
— Перед смертью не надышишься.
— Это верно.
Помолчав, Головин удивленно и даже слегка завистливо развел руками:
— Не думал я, что ее приручить можно… А ты вот приручил.
— Это не я. Сам не знаю, как это случилось.
Они пожали друг другу руки, и Акимов пошел искать Аничку.
В это время начал падать первый снег, и все было покрыто тонкой, еще слабой, как пух, белой пленкой, в которой явственно различались отдельные снежинки. Снег падал крупными, но хлипкими хлопьями, знаменуя наступление нового времени года. Еще не привыкнув к мысли о том, что он уже не пехотинец, Акимов подумал о необходимости начать лыжную подготовку, получить для солдат теплое белье и валенки.
Аничку он застал во дворе того дома, где разместились полковые разведчики. Здесь выстроились новички, вызвавшиеся служить в разведке, и капитан Дрозд беседовал с ними, рассказывая разные боевые эпизоды и объясняя, каким храбрым, сметливым, находчивым и политически грамотным должен быть разведчик. Аничка стояла рядом с Дроздом.
Увидев Акимова, она поняла, что что-то произошло, и пошла к нему навстречу. Дрозд внезапно замолчал и объявил:
— На сегодня хватит. Разойдись.
И ушел в избу. Акимов обратил внимание на то, что разведчик осунулся и побледнел. Но, глядя на приближающуюся Аничку, Акимов вдруг остро позавидовал Дрозду, который остается здесь и будет видеть ее ежедневно.
При взгляде на расстроенное лицо Акимова Аничка все поняла и спросила:
— Новый комбат?
— Да.
— Ничего, — сказала она, взяв его за руку. — Будем веселы и спокойны. Что такое для нас каких-нибудь полтора года или год? Правда? Я тебя очень сильно люблю. — Она впервые назвала его на ты. — Тебе недостаточно этого?
Да, ему было этого недостаточно. Унести, увезти ее с собой — этого было бы для него достаточно. Если бы можно было уложить ее в спичечную коробочку и спрятать — вот этого ему было бы достаточно.
Они пошли по полям к его деревне.
Войдя в избу и сняв шинели, они уселись возле печки. Потом она сложила его вещи в чемодан. Потом они снова молча сели к печке. Они не спускали глаз друг с друга. Потом они вместе поели, снова погуляли и снова вернулись в избу. Потом она вышла на улицу, постояла там у крыльца, а когда вошла обратно, то увидела, что он сидит за столом и его голова тяжело опущена, как тогда, после гибели Ремизова.
Она не стала его тревожить, начала стелить постель. Он услышал шорох и хотел зажечь лампу, потому что уже стемнело. Она не дала ему зажечь свет и сказала:
— Ложись спать. И я у тебя останусь. Не хочу уходить.
Он испугался:
— Не надо. — Но спросил: — Ведь не надо, правда?
Она тихо сказала из темноты:
— Я ничего не боюсь. Мы принадлежим друг другу навсегда. Слышишь?
Слова эти еще за несколько дней до того казались бы ей самой смешными и избитыми, теперь же она произнесла их так проникновенно и с такой силой, словно сама их придумала и они произнесены на этом свете в первый раз.
Он обнял ее, но вместе с тем со страхом подумал, что она слишком легко на это решилась, и эта ее кажущаяся опытность глубоко и больно задела его. Но вот она застонала, заплакала, смертельно затосковала и, не зная, как ему объяснить, сказала сквозь сжатые зубы: «У меня никогда этого не было». И он проклял себя за свое подлое недоверие к ней и испытал приступ такой великой нежности, какой никогда не испытывал. Но, несмотря на свою страсть, он все-таки понимал и чувствовал, что ей нехорошо и неприятно и что она ничего не ощущает, кроме боли и, пожалуй, еще сладости самопожертвования.
Теперь он смотрел на нее с безмерным удивлением и гордостью, думая: «Это она, Аничка. Как это может быть?»
А она, прижимаясь к нему, думала, что нет ничего лучше, чем быть с ним рядом, а то, что люди считают самым важным, — вовсе не самое важное, а самое трудное и непонятное.
Они провели вместе после этой ночи еще целых пять дней. Ему надо было ехать, но он не мог оторваться от нее, как некогда рыцарь Тангейзер — от Венеры в старой немецкой легенде, описанной Гейне и положенной на музыку Вагнером. Найдя это книжное сравнение, Аничка почему-то ужасно обрадовалась, — наверно, потому, что хотя все здесь совершалось не в волшебной горе, а в маленькой бревенчатой избе, но от этого любовь и страсть не становились менее великими.
На шестой день Акимов проснулся очень рано, долго смотрел на лицо спящей Анички, затем ушел и вскоре приехал на машине. Аничка молча оделась. Захватив с собой Майбороду, они отправились к станции. Здесь они остановились, потом Акимов, подумав, велел шоферу ехать в город. Им указали дом, где помещался загс.
— Зайдем сюда? — спросил Акимов. Он был очень доволен этой пришедшей ему в голову мыслью и несколько удивился, услышав слова Анички:
— Разве нам это нужно? — Помолчав и поглядев на маленькую красную вывеску, она добавила: — И название какое-то канцелярское, скучное: запись актов гражданского состояния…
Они вошли в маленькую комнату, чисто и даже нарядно обставленную. У сидевшей здесь немолодой строгой женщины в пенсне Акимов спросил, могут ли военнослужащие, офицеры, зарегистрировать свой брак, на что женщина ответила не без ехидства:
— Могут, если желают.
Записав их, она подняла на новобрачных красноватые, может быть от слез, глаза, поздравила их и пожелала им счастья. Они вышли из тихой комнаты, где за годы войны регистрировали больше смертей, чем браков и рождений, и в торжественном настроении отправились на вокзал. Через час Акимов уехал.
Глава пятая МОРЕ
1
В Москве Акимов прямо с вокзала попал в Московский флотский экипаж большой дом, служивший перевалочным пунктом для военных моряков.
Хотя дом этот находился посреди улиц и площадей большого города, окруженного, в свою очередь, бескрайними полями и лесами, бесчисленными городами и селами, но стоило Акимову ступить на порог, как ему уже показалось, что он в море. Поистине это был большой корабль, хотя и накрепко пришвартованный к московской земле. Весь распорядок здесь был корабельный, здесь раздавался свист дудок, слышались флотские команды. Часы — и те здесь были палубные, с поделенным на двадцать четыре часа циферблатом!
Акимову, отвыкшему от моря и флота, показалась немного смешной, но необычайно умилительной та серьезность, с какой здешние обитатели неизменно называли обыкновенный паркетный пол палубой, гранитные лестницы с железными витыми перилами — трапом, столовую — кают-компанией, а окна, выходившие прямо на асфальт московской улицы, — иллюминаторами.
Удивляясь всему, как человек, попавший после дальних странствий на родину, Акимов думал: «Сохрани бог произнести тут слово „веревка“ засмеют, не поймут даже, что ты подразумеваешь обыкновенный „конец“ или „шкерт“».
Сдав старшине в вещевой баталерке «зеленку» — так здесь называли армейское обмундирование — и облачившись в полную морскую форму, включая черную фуражку с «крабом», Акимов окончательно почувствовал себя моряком. Свои ежедневные прогулки по Москве в ожидании назначения на должность он уже сам стал называть, подобно всем обитателям экипажа, «отпуском на берег». Допоздна ходил он по этому бесконечному «берегу» из улицы в улицу, ходил без цели, как бы прощаясь напоследок с сухопутной жизнью. Постоял он однажды и возле Аничкина дома в Николо-Песковском переулке.
Но вот наступил день, когда Акимову вручили назначение. Оно явилось для него полной неожиданностью, потому что он привык к мысли, что флот, куда его пошлют, может быть только Черноморским, а море, где он будет плавать, — только Черным. Назначение же он получил в Северный флот, в Баренцево море, за Полярный круг.
Приехав поездом в Мурманск, Акимов сразу же пошел в порт.
Конечно, все здесь выглядело иначе, чем на юге. Гранитные скалы были покрыты инеем, а среди белых скал чернела вода залива, подернутая туманными испарениями. У берега белел ледяной припай. Над заливом царили синие печальные сумерки полярной ночи. Но все-таки это было море со своим запахом, соленым и пронзительным, это был порт, полный транспортов, военных катеров и рыбных траулеров, с мощными кранами и лебедками, с реющими флагами и быстроходными моторными катерами, носящимися по волнам во всех направлениях.
Оцепенение и грусть, владевшие Акимовым в последнее время, исчезли сами собой, и жизнь снова показалась ему прекрасной, несмотря на расстояние, отделявшее его от Анички.
Энергично проталкиваясь сквозь толпу грузчиков, он отыскал попутный катер, шедший на базу флота. Ступив на борт корабля впервые после более чем двухлетнего перерыва, Акимов с волнением отдал, как полагалось, честь советскому военно-морскому флагу, взвившемуся на гафеле. Катер тронулся. Он ловко скользил между многочисленными судами. Было довольно тепло. Сигнальные мачты береговых постов, створные знаки понемногу пропадали во мгле. Мимо медленно прошел эсминец. Сыграли «захождение», и люди на катере, повернувшись лицом к эсминцу, приложили руки к козырькам. То же самое сделали люди на эсминце. Вскоре гавань скрылась вдали. За кормой бурлила и пенилась серая вода.
По-прежнему кругом царил синий полумрак, и Акимову казалось, что сейчас либо начнет светать, либо начнет темнеть. Но не светало и не темнело.
Вскоре Акимов увидел на берегу мачты радиостанции и расположенные на горе амфитеатром большие дома. Сигнальщик передал на береговой пост свои позывные. Тотчас же на мачте поста появился ответный сигнал «добро» — то есть разрешение на вход в гавань. Медленно раздвинулось боковое заграждение. Глазам открылся обледеневший пирс. Оттуда спустили сходни, по которым все гуськом взобрались наверх.
В штабе флота Акимов получил назначение дублером командира на морской охотник. Как и следовало ожидать, ему, после такого перерыва, не решились доверить самостоятельную должность.
Не тратя времени, Акимов пошел разыскивать свой корабль.
Охотником командовал лейтенант Бадейкин, маленький, невзрачный, кругленький человечек с преждевременной лысиной, офицер из старшин-сверхсрочников. Узнав, зачем к нему пришел этот огромный широкоплечий капитан третьего ранга, Бадейкин, по-видимому, очень сконфузился. Рядом с Акимовым он выглядел как толстый и робкий мальчик.
Он познакомил Акимова с катером и повел его на мостик. Тут он представил Акимову своего помощника — младшего лейтенанта Климашина и боцмана — старшину первой статьи Жигало. Этому Жигало было не более тридцати лет, но, чтобы походить на настоящего, «классического» боцмана, он отпустил себе рыжие моржовые усы, ходил медленно и глядел на мир своими светлыми, почти белыми глазами спокойно и по-стариковски снисходительно.
— Где вы устроились? — спросил Бадейкин у Акимова.
— Пока что оставил чемодан в штабе. А вы где живете?
В ответ на это Бадейкин пробормотал что-то нечленораздельное, из чего Акимов сделал вывод, что «коротышка» не очень гостеприимен.
Он стал рассказывать Акимову про боевой путь своего корабля. Морской охотник прошел 27 тысяч миль (то есть пятьдесят тысяч километров), отконвоировал 96 транспортов, сбил три вражеских самолета, потопил одну подводную лодку противника, провел 16 десантных операций. Ему было присвоено звание гвардейского.
Рассказывая, Бадейкин стоял навытяжку, как будто докладывал начальству, и Акимов, чувствуя смущение лейтенанта и желая рассеять неловкость, сказал напрямик и не без досады:
— Слушайте, Бадейкин. Вы на мои погоны не обращайте внимания. Я ваш ученик. Вы мой учитель. Рост и звание тут не играют никакой роли. Договорились, что ли?
— Есть, — выпалил Бадейкин, по-прежнему держа руки по швам.
Акимов в ответ расхохотался, и Бадейкин — вслед за ним тоже. И когда Бадейкин засмеялся, его невыразительное плоское лицо стало таким приятным, хитрым и осмысленным, что Акимов сразу понял, почему он послан под начало именно к этому неказистому человеку, и даже начал подозревать, что преувеличенное уважение Бадейкина к нему и его званию — только лукавая маска, «на всякий случай», очень умного и бывалого человека.
Вытирая платком слезы, выступившие у него на глазах от смеха, Бадейкин спросил:
— Пойдете с нами на операцию или отдохнете денька два?
— Я уже две недели как отдыхаю, — сказал Акимов. — Пойду с вами. И вообще — не спрашивайте, а приказывайте.
На кораблике шла обычная работа. Одни матросы скалывали лед с палубы, другие осматривали и проворачивали механизмы. Внизу, под водой, слышался стук: это водолазы осматривали подводную часть судна. По всему катеру приятно звенели звоночки, звякал телеграф, из радиорубки слышалась музыка. Боцман Жигало, медленно двигаясь по палубе, закреплял все по-походному от форштевня до кормы. Он же был парторгом и на ходу договаривался с матросами о заметках для боевого листка.
Наблюдая всю эту обыкновенную корабельную суету, Акимов ощутил внезапный внутренний подъем и подумал, что хорошо сделал, сразу же согласившись на первую предложенную ему должность.
— Вот и прекрасно, и лучше быть не может, — сказал он вдруг, к некоторому удивлению Бадейкина. — Теперь скажите номер вашей почты. Мне надоело жить без адреса.
Он тут же написал несколько слов Аничке, но отослать письмо не успел. К сходням подошла группа людей, увидев которых Бадейкин заторопился и сказал:
— Скоро отправимся.
Это были разведчики, которых надлежало высадить в тылу у немцев. Вооруженные автоматами, гранатами и финскими ножами, они молча гуськом прошли на палубу и уселись плотной кучкой у рубки. Командир разведчиков, очень бледный, с красным шрамом на лбу, поднялся на мостик.
— Старший лейтенант Летягин, — представил его Бадейкин Акимову.
Матросы знали всех разведчиков по имени и громко здоровались с ними, сопровождая крепкие рукопожатия дружелюбными возгласами:
— Здорово, Костя!
— Как живешь, Петруха?
— Давно не видались.
— Уже из госпиталя?
Вот наконец отдали швартовы, Бадейкин произнес слова команды. Сердце Акимова застучало. Кораблик вздрогнул, пошел, развернулся и двинулся вперед, к выходу в залив, в открытое море.
2
Открытое море! То было серое, неприветливое море — Студеное море, как оно называлось на русских картах времен Ивана Грозного, — но у Акимова взыграло сердце при виде этого безграничного водного пространства, при виде гор соленой воды, катящихся одна за другой, догоняющих одна другую, проваливающихся вниз, чтобы, собравшись с новыми силами, опять вознестись в вышину.
Акимов опять, как некогда, испытал эту великую, немного мальчишескую гордость стояния на командирском мостике с подставленной всем ветрам грудью. Да, тут наглядней, чем где бы то ни было на свете, ощущалось, что такое значит движение вперед вопреки препятствиям.
Рядом с ним стоял рулевой, старшина 2-й статьи Кашеваров, такой же огромный, рослый детина, как сам Акимов. При взгляде на его молодое сосредоточенное лицо Акимов вдруг как бы увидел себя самого в ранней молодости, в 1936 году, когда он служил рулевым на Черном море. Это внезапное видение сделало его немножко сентиментальным, и он думал, косясь на Кашеварова: «Сколько же тебе еще предстоит радостей и горя, сколько душевных подъемов и падений, как будешь ты счастлив и как несчастен, сколько мыслей пронесется в твоей упрямой голове!»
Акимов пощупал свой карман, где лежало неотправленное письмо Аничке, и глубоко и шумно вздохнул. А вздохнув, тихонько засмеялся, подтрунивая над собой: «Ну и стал же ты вздыхать, дружок! На море так нельзя, здесь ветер и без твоих вздохов довольно свежий».
Ему вдруг стало весело, даже не то что весело, а как-то приятно, и ему показалось, что когда-то, неизвестно когда, он был точно в таком же месте и ощущал и думал то же самое, что ощущает и думает теперь.
Кораблик безжалостно качало. Волны то и дело перекатывались через палубу, и вскоре кругом не осталось ни одного сухого местечка. Вода почти сразу же замерзала, и матросы беспрестанно скалывали лед, который отягощал корабль и грозил лишить его устойчивости. Акимов наблюдал матросов и не мог не заметить, что любое их движение рассчитано, что каждый исполняет свое дело сноровисто и быстро, не дожидаясь указаний. Он заметил и то, что матросы все покинули сухой кубрик, уступив его разведчикам.
Следя за Бадейкиным, Климашиным, Жигало, Кашеваровым и матросами, он все больше преисполнялся уважения к ним, оценив по достоинству порядок, царивший на маленьком суденышке. То, что матросы уступили кубрик разведчикам, причем уступили без приказа, а просто из сочувствия к людям, которым предстоит много холодных, бессонных и опасных часов во вражеском тылу, тоже указывало на высокий боевой дух, спаянность и организованность экипажа морского охотника.
Кораблик, хотя его жестоко бросало, упрямо и даже залихватски шел по заданному курсу.
Волнение Акимова понемногу улеглось. Все показалось ему простым и несложным и было бы похоже на учение в Черном море, если бы не эти синие сумерки, от которых веяло скрытым где-то неподалеку таинственным светом.
Приближался берег — голые гранитные округлые скалы, так называемые «бараньи лбы», образовавшиеся здесь в незапамятные времена четвертичного периода. Они имели столь пустынный и неуютный вид, что Акимов поневоле пожалел разведчиков, которым предстояло высадиться здесь.
Эти скалы так были похожи одна на другую, что казалось невозможным ориентироваться тут. Никаких приметных пунктов, никаких особо выдающихся вершин или ярких пятен, — все одни и те же «бараньи лбы», похожие друг на друга, как родные братья, темные, почти черные, лишенные какой бы то ни было растительности, но, несмотря на это, красивые суровой, грозной красотой.
— Варангер-фьорд, — сказал Бадейкин, показав рукой вперед.
Берега казались очень близкими. Акимов удивлялся, почему Бадейкин не снижает хода.
— Еще далеко, — сказал Бадейкин. — А ведь кажется, что близко, правда? К этому здесь надо привыкнуть. Рефракция.
Отдавая приказания, Бадейкин не забывал — впрочем, с безукоризненным тактом — время от времени объяснять Акимову причину и значение того или иного своего распоряжения. Например, распорядившись погасить свет в кубрике, он сказал, обращаясь как бы к себе самому, но адресуясь, разумеется, к Акимову:
— Это для разведчиков. Чтобы им со свету не было темно.
Бадейкин поглядывал на Акимова и с несколько ревнивым чувством отмечал, что новичок ведет себя спокойно, очень внимательно прислушивается и присматривается к окружающему и мотает себе на ус. «Посмотрим, что будет дальше», — думал про себя Бадейкин не без тайного желания вывести из равновесия приехавшего с сухопутья офицера. Ему хотелось показать пехотному командиру, что и тут житье не сахар и что звания и ордена зарабатываются тут не так, здорово живешь. Впрочем, дело, как назло, пока что шло гладко, и Бадейкин, хотя и был этим весьма доволен, с другой стороны жаждал осложнений.
Старшины и матросы тоже присматривались к Акимову с интересом. Они знали, что он всего лишь дублер, однако его тяжеловатый, проницательный взгляд, как всегда, действовал на людей подстегавающе, заставлял их хотеть понравиться ему, заслужить его одобрение, Бадейкин чувствовал это и немножко завидовал Акимову — больше всего его крупному росту и уверенному виду.
Берег приближался. То здесь, то там на берегу вспыхивали одиночные огоньки. Может быть, это были немецкие береговые посты, а возможно, норвежские рыбаки занимались тут своим промыслом. Да, как ни странно, эта пустынная страна была Норвегией, и Акимову это обстоятельство показалось из ряда вон выходящим. Ему, черноморцу, Норвегия, естественно, представлялась очень далекой страной, гораздо дальше Италии и даже Африки. А тут — вот она, серая, вспыхивающая редкими огоньками, вся в скалах и фьордах, которых, впрочем, теперь не было видно.
Чем ближе к берегу, тем серьезней становились лица окружающих людей. Каждую минуту на мостике появлялся и снова исчезал молчаливый Летягин. Боцман Жигало застыл у пулемета. Комендоры заняли места возле пушек. Матросы готовили сходни, другие надевали резиновые костюмы. Все делалось быстро, с той привычной стройностью и красотой, по которым безошибочно угадывается большой опыт.
Вдоль берега был виден белый гребень прибоя. Климашин волновался и, проверяя показания лота, озабоченно шептался с Бадейкиным. На ходовом мостике снова выросла бесшумная фигура разведчика Летягина. На этот раз он уже больше в кубрик не спускался, а остался здесь, вглядываясь в берег, уточняя курс корабля по незаметным, только ему одному известным, ориентирам на берегу.
Наконец вышли на траверз места высадки.
— Право руля! — скомандовал Бадейкин. — Вперед самый малый!
Акимов внимательно следил за эволюциями катера. На берегу все было тихо.
Из кубрика поднялись на палубу разведчики и остановились слева от мостика, держась близко друг к другу, словно они состояли из одного куска.
Недалеко от берета неожиданно распространился довольно густой, хотя и низкий туман. Катер вошел в него, и туман покрыл всю палубу, так что сверху, с мостика, люди были видны по пояс, а ниже их закрывало это белесое густое облако. Странно было видеть половинки людей, медленно двигающиеся по невидимой палубе, словно бы в воздухе. Акимов пристально вглядывался в туман, и ему вдруг почудилось, что, когда туман рассеется, он увидит не гранитные берега с еле заметной неглубокой бухточкой, обрамленной белой пеной прибоя, а маленький ручей и за ручьем поднимающийся вверх отлогий склон с траншеями, ходами сообщения и глинистыми овражками, заполненными хлюпающей пресной водой. И эта странная и неожиданная мысль опять напомнила Акимову Аничку, Ремизова, Головина, Погосяна, Майбороду — всех людей, таких далеких от моря.
Но когда туман рассеялся так же быстро, как и возник, Акимов снова увидел палубу небольшого катера, серые волны Баренцева моря и маленькую бухточку, окаймленную гранитными скалами.
Акимов сказал Бадейкину почти начальническим тоном:
— Вы будете здесь, а я распоряжусь высадкой.
Он понимал, что надо спешить. Их могли заметить с берега, а это означало бы провал всего дела. К тому же он обратил внимание на то, что матросы с беспокойством поглядывают на небо, видимо, опасаясь вражеской авиации. А катер, как назло, не мог подойти ближе к берегу: прибой угрожал бросить его на камни. Берег был уже метрах в десяти.
Не дожидаясь команды, матросы, державшие сходни, быстро спустились вниз и очутились выше пояса в воде. Конец сходней лежал на их плечах. Снизу, из воды, слышались их нетерпеливые голоса:
— Ну, давайте, давайте…
Разведчики подошли ближе. Они не без содрогания смотрели на довольно широкую полосу студеной пенящейся воды, отделяющей конец сходней от торчащих на берегу больших камней, промежутки между которыми то наполнялись до краев подступающей к берегу белой водой, то опоражнивались дочиста. «Перенести их, что ли?» — подумал Акимов, покосившись на разведчиков, и без дальнейших раздумий, движимый разнообразными чувствами, в которых ему некогда было сейчас разбираться, пошел вперед по сходням. Спрыгнув в ледяную воду и на мгновение зашедшись от пронизывающего холода, он крикнул:
— Летягин!
Он легко поднял Летягина на плечи и пошел к берегу вслед за очередной волной. Высадив Летягина на большой валун, он дождался, пока следующая волна разобьется о камни, и пошел обратно к сходням. Здесь он принял на плечи следующего разведчика и при этом мимоходом отметил, что его примеру последовали еще три матроса. Необычная десантная операция быстро закончилась. Она неожиданно вызвала даже веселое оживление среди матросов, стоящих и идущих по пояс в ледяной воде со своей живой ношей на плечах. Какая-то молодецкая удаль овладела ими, несмотря на стужу. Послышались отрывистые возгласы:
— Держись крепче!
— Осторожно, искупаю!
— Ух, жарко!..
Перенеся последнего разведчика и больно стукнувшись головой о его вещевой мешок со снаряженными дисками, Акимов взобрался на сходни, с них на палубу. Разведчики уже пропали, исчезли в скалах, словно никогда их и не было. Катер медленно пошел вдоль побережья.
— Бегите в кубрик греться, — сказал Акимову кто-то из матросов.
Он побежал в кубрик и быстро разделся. Здесь еще было темно. Но вот кто-то начал шарить в темноте, проверяя, хорошо ли задраены иллюминаторы, и свет зажегся. Это был сам Бадейкин. Он подал Акимову несколько одеял. Лицо его было серьезно. Он ушел, вернулся обратно с фляжкой водки и снова ушел. Потом снова вернулся.
— Что бы мне такое надеть? — спросил Акимов.
Бадейкин, оказывается, уже подумал об этом. Он принес белье, матросские штаны и резиновые сапоги.
— Налезет ли? — с сомнением спросил Акимов.
Бадейкин ответил:
— Это — нашего рулевого, Кашеварова.
— Тогда налезет, — улыбнулся Акимов.
— Вот вам и первое морское крещение, — сказал Бадейкин.
Акимов поморщился:
— Какое же это морское? Только что мокро.
Он был недоволен собой, считая, что зря полез в воду сам, следовало послать матросов. Он действовал не как командир, а как матрос. Допустим, ему жаль стало разведчиков. Им бы не обсушиться на берегу. Но разве только из-за этого он полез в воду? Не было ли в его поступке желания пофорсить перед Бадейкиным и остальными моряками решительностью пехотного командира? (Странно, что в пехоте он всегда чувствовал себя моряком, а очутившись во флоте, не мог забыть о том, что был пехотинцем).
Да, в его поступке было желание заявить о себе, утвердить себя среди новых товарищей, утвердить себя перед новым для него морем, холодным и суровым морем Баренца.
Он сказал немного сконфуженно:
— Будь я не дублером, а командиром корабля, я бы так не сделал. А дублеру все равно делать нечего, вот я и стал грузчиком.
Бадейкин не улыбнулся, хотя был согласен с замечаниями Акимова на собственный счет.
Снаружи послышался отдаленный звук орудийного выстрела, потом еще один. Бадейкин замер.
— Нас заметили, — сказал он. — Надеюсь, Летягин уже далеко. Пойду на мостик.
Он ушел. Стрельба гремела все чаще. Акимов поднялся наверх. Вспышки орудийных выстрелов показывались на берегу то тут, то там.
— Это с Варде, — сказал Жигало.
Кто-то крикнул:
— Самолеты по корме, пять штук! «Фокке-Вульф сто девяносто»!
Акимов не успел удивиться четкости доклада, как раздался гул колокола — сигнал тревоги, мощный голос «ревуна», и сразу же заработали пушки и пулеметы морского охотника. Неясно было, что началось раньше: доклад наблюдателя, сигналы или стрельба, — они прозвучали почти одновременно. И перед изумленными глазами Акимова произошел кратковременный, как молния, бой между пятью немецкими самолетами и как будто беззащитным маленьким советским корабликом.
Самолеты обладали невероятной скоростью, но казалось, что маленький корабль неуязвим. Подчиняясь следующим одно за другим хриплым отрывистым приказаниям Бадейкина, катер-охотник выделывал замысловатейшие фигуры на волнующейся воде. Он то подпрыгивал, то шарахался влево, вправо, то вдруг, заметавшись, начинал как бы пятиться назад. Временами казалось, что он не просто плавает по воде, а извивается, подобно змее, — настолько неожиданными и головоломными были его движения.
Акимов посмотрел на Бадейкина. Маленький командир был неузнаваем. Он превратился в сжатый комочек с нелепо вертящейся во все стороны головкой и, бросая беспрерывно хриплые слова, до смешного точно повторял все движения своего собственного корабля, то наклоняясь, то отступая несколько назад, то застывая на месте с перекошенным лицом. Рулевой Кашеваров уже тоже был не человеком, а превратился в штурвал, рулевое колесо, подчинявшееся, как автомат невероятной точности, словам стоящего рядом маленького человечка. Он не глядел ни вверх, ни вниз, ни по сторонам, ни даже вперед, он только слушал и только исполнял.
Кораблик отходил все мористей на водный плес, в открытое море, что несколько удивило Акимова, так как ему казалось, что у береговых скал легче укрыться от самолетов.
Бадейкин, полуобернувшись к Акимову (Акимов изумился самообладанию «коротышки», не забывшего и тут, что имеет ученика), сказал:
— Здесь нам свободней маневрировать.
Самолеты сбросили несколько бомб с разворота, но попали не в катер, а в то место, где он находился полминуты назад. Быстрота — вот что решало дело. И кроме того, — беспрерывный зенитный огонь. Оба пулемета мелко дрожали. Бывало, пули попадались трассирующие, и тогда становилось заметно искусство пулеметчиков: несмотря на то что кораблик сильно качало — иногда он плыл почти на боку, — лента трассирующих пуль шла все туда же, вверх, к самолетам, почти не уклоняясь в сторону. Кормовая автоматическая пушка беспрерывно стреляла, и, если бы не были видны ползущие к ней и от нее подносчики снарядов, казалось бы, что пушка заряжена снарядами надолго, на месяцы и годы, и вот так она будет изрыгать огонь вечно.
Как ни странно, но не кораблику, а немецким самолетам приходилось туго. Они шныряли вокруг да около, с ревом проносились мимо почти над поверхностью воды, поливая море градом пуль, потом увиливали за скалы и, вновь появляясь из-за них, сбрасывали бомбу или две, но на том месте, где они надеялись настигнуть кораблик, его уже не было.
Потеряв надежду справиться с морским охотником, самолеты улетели, обиженно ревя. Стало очень тихо. Свист ветра и грозный шум моря звучали теперь как детский лепет. Боцман отошел от пулемета и прислонился к борту. Его рвало.
Тут только Акимов заметил, что все, и он в том числе, блестят от соленой морской воды, превратившейся в ледяную корку. Все на палубе, кроме раскаленных стволов пулеметов и пушек, обледенело, все переливалось белым фосфоресцирующим светом.
— Я пойду вниз, посплю, — сказал Бадейкин.
Акимов отлично заметил удивленные взгляды помощника и рулевого и без труда догадался о том, что Бадейкин ранее отнюдь не имел привычки спать во время плавания и, видимо, просто хочет дать возможность ему, Акимову, самостоятельно покомандовать кораблем.
Оставшись на мостике один, Акимов стал распоряжаться на охотнике. Чувство некоторой неуверенности очень быстро покинуло его, благо никаких осложнений на обратном пути не приключилось. Маленький экипаж катера-охотника беспрекословно и немедленно выполнял все команды, и Акимов радовался этому, хотя сознавал, что это не его заслуга. Но больше всего Акимов радовался тому, что, как выяснилось понемногу, он все знает и прекрасно помнит, что все корабельные команды, писаные и неписаные законы здешнего быта, взаимодействие частей корабля вовсе не забыты им, как ему представлялось раньше, а все это, вплоть до мелочей, тихо и разом поднялось из глубины его памяти так, как иногда бывает с песней, забытой, казалось, до основания. Поняв это, Акимов ликовал про себя, но решил помалкивать, чтобы не прослыть слишком самоуверенным человеком, а между тем хорошо изучить местные условия.
Показались створные знаки, радиомачты и дома на горе. Катер ошвартовался у пирса. Бадейкин поднялся наверх и сошел на берег, чтобы доложить в штабе дивизиона о ходе операции. Прозвучала дудка дежурного, сзывающего матросов на вечернюю поверку. Акимов смотрел, как матросы выстраиваются вдоль борта. Он с удовольствием разглядывал их. Здесь было много открытых, приятных матросских лиц, и Акимов смотрел на них, испытывая некоторую зависть к Бадейкину, как человек, лишенный семьи, к отцу большого, хорошо устроенного дружного семейства.
Боцман Жигало медленно ходил по палубе, приводя хозяйство в полный порядок. Все понемногу успокаивалось, входило в обычную колею.
Вернувшись, Бадейкин поднялся на мостик и спросил у Акимова, как будто бы забыв, что однажды уже задавал такой вопрос:
— Где вы устроились?
— Чемодан свой я пока оставил в штабе, — ответил Акимов тоже так, словно раньше об этом разговора не было.
Бадейкин, помолчав, сказал:
— А может, пойдете ко мне? Со мной жена. Живу по-семейному.
Акимов пошел вместе с Бадейкиным, и, миновав большие дома, они вскоре очутились у одного из маленьких домиков на горе. Комната лейтенанта была жарко натоплена. На окошках стояли горшки с разными комнатными растениями, в одном горшке рос даже далекий южный гость — кактус.
— У нас и парничок есть, — сказал Бадейкин. — Конечно, здесь все растет не очень шибко.
Вошла смуглая женщина в пестром халате.
— Моя жена, — сказал Бадейкин и улыбнулся.
Она дружелюбно поздоровалась с Акимовым и ушла за ужином.
— Я сам северянин, коренной мурманец, — разговорился Бадейкин. Потомственный рыбак. А Нина — южанка, грузинка. — Он понизил голос. Тоскует по югу. На флоте, — продолжал он уже обыкновенным голосом, — я со времени его основания. Я Сталина здесь видал десять лет назад, когда он приезжал с Кировым и Ворошиловым и они велели тут флот создавать. Я еще тогда плавал на каботажном судне. Еще Нины не было в Мурманске. А вы женаты?
— Нет, — механически ответил Акимов, потом, рассмеявшись, поправился: — То есть женат, собственно говоря. Представьте себе, забыл. Моя… — Слово «жена» звучало слишком непривычно, и он не решился произнести его, — …моя Аничка в армии. Мы были вместе недолго. Вот я и не привык.
Тихая жизнь в квартире Бадейкина была так разительно не похожа на то, что происходило полчаса, час тому назад! Нина Вахтанговна бесшумно подавала ужин. От нее пахло туалетным мылом и лекарствами — она работала медсестрой в госпитале. Сам Бадейкин сменил китель на какой-то старомодный архалук с кисточками, а сапоги — на шлепанцы. По его лицу расплылось выражение необычайного довольства.
Акимов во время еды и после, перелистывая «Лоцию Баренцева моря», с интересом наблюдал Бадейкина и Нину Вахтанговну. Бадейкин называл ее Нинусей, а она его — Лешенькой. А Акимов ловил себя на том, что это не только не кажется ему смешным, как казалось бы еще два месяца назад, но даже умиляло его, и что сам он был бы не прочь вот так жить с Аничкой; и что если жена будет называть его на людях Павликом или даже Пашенькой, то это не будет ему казаться отвратительным, как казалось бы каких-нибудь два месяца назад, до знакомства с Аничкой.
Продолжая думать об этом, он потом решил, что отнесся бы, вероятно, иначе ко всей этой мирной, почти мещанской картинке, если бы не видел Бадейкина на мостике в бою с вражескими самолетами, если бы не помнил его фигуру во время боя — вертящуюся, как петрушка, во все стороны, но вовсе не смешную, а необычайно ярую, гневную, почти грозную, и что стоит случиться теперь тревоге, как этот маленький человечек сбросит архалук и шлепанцы и снова станет тем, чем был несколько часов назад.
На следующий день — если можно было назвать днем все тот же долгий синий сумрак — Акимов вместе с Бадейкиным отправился на катер.
Моряцкий поселок, расположенный на скалах, выглядел очень оживленным и даже веселым. Из громкоговорителей гремела музыка. В сиреневых расселинах скал, через которые были проложены мостики и лесенки, играли дети. Да, здесь были даже дети, и вообще все кругом имело вид обжитой, благополучный и благоустроенный. И только там, внизу, в темно-синих водах залива, — казалось, очень далеко и от домов и от играющих детей, и от развешенного для просушки белья, и вообще от всех мелких человеческих забот, — медленно проплывали подводные лодки, эсминцы, катера, посверкивали сигнальные огни, подрагивали на ветру флаги. Оттуда доносились негромкие гудки, свистки, грохот якорных цепей.
Акимова вывел из задумчивости громкий возглас:
— Акимов! Пашка! Ей-богу, он!
Акимов, крайне удивленный тем, что кто-то знает его здесь, в далеком краю, по имени, оглянулся и увидел отделившегося от группы моряков и идущего к нему почти бегом приземистого моряка. Не успев опомниться, Акимов очутился в объятиях этого человека, которого не сразу даже узнал. Наконец рассмотрев его, Акимов воскликнул:
— Мигунов! Вот не ожидал тут встретить черноморца!
— Черноморцев тут хватает, — сказал Мигунов. — Тут и Лысков, и Степанов, и кого тут только нет! А тебя никак не ожидал увидеть. Ну как же ты поживаешь? — говорил Мигунов, ощупывая и охлопывая Акимова любовно, но весьма ощутительно. — Да ты уже капитан третьего ранга! Здорово меня обскакал!
Акимов улыбнулся.
— Спасибо пехоте-матушке. Это она меня до майора возвеличила.
Мигунов потащил Акимова к дожидавшимся морякам и объявил им:
— Дружок-черноморец приехал, Пашка Акимов. У немцев на флоте паника.
Узнав, что Акимов служил в пехоте и только что приехал чуть ли не с самого фронта, Мигунов сразу затих, стал подробно расспрашивать о ходе военных действий там, на главном театре войны, и время от времени, с непохожей на него серьезной миной, говорил:
— Что? Трудненько там? А?
Акимов не мог не отметить при этом, что моряк считает флот, как он выразился, «подсобным хозяйством», а пехоту — основой основ. Это явление было новостью для Акимова — в мирное время моряки были склонны ставить себя выше сухопутных войск. Перемена мнения соответствовала ходу войны и, несомненно, указывала на трезвый ум этих морских ребят, окруживших теперь Акимова тесным кольцом.
Узнав, что его друг назначен всего-навсего дублером, Мигунов обиделся за Акимова и сердито сказал:
— Эх вы! У надводников всегда так! Жаль, что ты не подводник. У нас совсем другой порядок. Где ты устроился? Да брось ты этих женатиков, — он покосился на молча стоявшего поодаль Бадейкина. — Переходи к нам, холостякам. У нас веселее.
— Ты совсем не изменился, — засмеялся Акимов.
Ему было приятно, что у него тут оказались друзья-черноморцы и среди них этот забубенный парень, капитан-лейтенант Мигунов.
Простившись с ним и пообещав подумать о его предложении, Акимов догнал Бадейкина.
— Знаете Мигунова? — спросил Акимов.
— Знаком немного.
— Сорвяголова, — улыбаясь, сказал Акимов.
— Герой Советского Союза, — серьезно сообщил Бадейкин.
— Ну? — удивился и рассмеялся Акимов. — Вот так обскакал!
Акимов остался жить у Бадейкина. Мигунов, нередко забегавший к нему, даже приревновал товарища к маленькому лейтенанту и все пытался сманить его к холостякам.
— Да я же сам «женатик», — смеясь, сознался наконец Акимов.
— И ты? — удивился Мигунов и, внезапно задумавшись, сказал с некоторой грустью: — Лучшие люди женятся. Боюсь, и мой черед приходит.
Акимов все время проводил на своем катере, руководил учебными занятиями, присутствовал при малых и больших приборках, вечерних поверках, расспрашивал матросов обо всем, что им известно о Баренцевом море, знакомился с бухтами, якорными стоянками и путевыми картами.
Этими всеми делами, а также ожиданием писем от Анички были полны мысли Акимова все время. Ожидание ее писем стало тем постоянным и напряженным состоянием души, которое не покидало его ни на минуту, чтобы он ни делал. Он вспомнил, что даже не знает почерка Анички, и представлял себе, каким должен быть ее почерк, а также старался представить, каким будет ее первое письмо и ее обращение к нему: «милый», «дорогой» или еще что-нибудь в этом роде. Он назначал все новые сроки для получения ее первого письма и, слегка насмехаясь над самим собой, старательно высчитывал, сколько дней прошло с момента получения ею его первого письма отсюда. А так как она должна, очевидно, ответить ему сразу же, ее ответ должен прибыть через такое-то количество дней. Не получив ответа в предполагаемый срок, он отнес это за счет больших расстояний и скрепя сердце назначил новый срок, а потом назначал все новые и новые сроки.
В течение этого времени спокойная жизнь на берегу несколько раз прерывалась поисками вражеских подводных лодок, обнаруженных на подходе к базе, а спустя три недели морской охотник совершил вторичное плавание в Варангер-фьорд.
На этот раз катером командовал Акимов, Бадейкин же находился внизу и появлялся на мостике только изредка. Потирая ручки, маленький лейтенант спрашивал Климашина или боцмана Жигало:
— А мой квартирант что? Хороший ученик?
Климашин отвечал:
— Вполне справляется, товарищ лейтенант.
Жигало отвечал коротко:
— Моряк.
Это было величайшей похвалой в устах боцмана, и Бадейкин радовался такой аттестации, потому что привязался к Акимову внезапной и сильной привязанностью, отличающей очень сдержанных и малообщительных людей.
Между тем катер приближался к той точке побережья, которая предуказана была ему боевым распоряжением. Берег не подавал признаков жизни. Бадейкин вышел на мостик.
— Не видать? — спросил он.
— Тишина, — ответил Акимов.
Минут сорок дрейфовали у берега, дожидаясь. Все молчали.
Наконец Акимов нетерпеливо сказал:
— Может, мне на розыски пойти?
— Нет, — энергически возразил Бадейкин. — Нет у нас такого приказа.
Уже собрались уходить, когда значительно южнее указанного пункта в небе появились долгожданные ракеты: три зеленые, две красные. И следом за ними оттуда донеслись звуки выстрелов.
— Полный вперед, — скомандовал Акимов.
Перестрелка становилась все более ожесточенной. Все на катере заняли места по боевому расписанию. Катер подошел к берегу, и Акимов велел сигнальщику дать условленную заранее ответную серию красных ракет. Это, как Акимов, впрочем, и предполагал, немедленно вызвало стрельбу по катеру. Боцман, сидевший у пулемета, начал отвечать. Закричала и стремительно взлетела в небо чайка.
С берега, совсем рядом, послышался хриплый голос:
— Мы тут, ребята.
С тупым треском упали на камни сходни. Пулеметы свирепствовали вовсю.
— Скорей, скорей, — негромко говорил Акимов, стоя у сходней.
Разведчики же шли очень медленно. Они несли что-то на плечах. Акимов не имел времени узнать, что именно, — он руководил огнем пулемета и матросских автоматов по невидимому противнику, стрелявшему из-за скал.
— Все? — спросил он у разведчика, который шел последним, пятясь назад, лицом к берегу, и стреляя из автомата.
— Все, — ответил разведчик, оглядываясь и опуская автомат.
Убрали сходни. Только когда катер отошел от берега на добрых два кабельтова, то есть около четырехсот метров, Акимов приказал прекратить огонь.
Кораблик лег на обратный курс. Разведчики исчезли с палубы — им, по обыкновению, предоставили кубрик.
Вскоре на мостике показался Летягин.
— Здравствуйте, — сказал он.
Акимов улыбнулся ему.
— Рад вас видеть. Как дела?
Летягин помолчал, потом ответил:
— Задачу мы выполнили, да вот… Убит главстаршина Храмцов. Хороший разведчик. Я решил увезти его с собой. Пусть лежит в родной земле. Чтобы враги не надругались. Хотя можно его было похоронить у норвегов, они народ хороший, фашистов ненавидят и нам помогают, укрывают наших людей, тех, что бежали из немецких лагерей. У них можно было похоронить Храмцова, конечно, но мы как раз шли в обратный путь, вот я и решил. А норвеги, — он называл норвежцев «норвегами», — народ хороший. Очень мне помогли. — Помолчав, он проговорил уже веселее: — Задачу мы выполнили хорошо. Даже отлично выполнили. Сведения важнейшего характера, очень пригодятся командованию. Он бледно улыбнулся. — С вашей легкой руки.
— Вернее, с моей легкой спины, — грустно улыбнулся и Акимов. Ему было жалко этого неизвестного ему Храмцова.
Летягин все не уходил с мостика. Видимо, ему хотелось говорить. Голосом, который все крепчал, словно оттаивал после множества холодных ночей, он рассказывал о «норвегах», хвалил их, жалел и в то же время поругивал за некоторую пассивность в борьбе с захватчиками.
Вернувшись на базу, Акимов покинул катер вместе с Летягиным. Разведчик пригласил его к себе в гости, но Акимов, хотя Летягин ему очень нравился, не пошел с ним, а сослался на какое-то дело и поспешил в штаб дивизиона спросить о письмах. Письмо было — от матери, из Коврова. От Анички ничего не было. Акимов удивился и огорчился. Он считал, что сегодня — крайний срок, даже если Аничка по каким-нибудь причинам ответила на его первое письмо через неделю после получения его.
Да, даже если она ждала целую неделю, если она была способна целых семь дней не ответить на его первое письмо, — даже и в этом случае ответ должен был бы уже прибыть.
Акимов пошел было домой, чтобы обсушиться и поесть, но с полдороги, вспомнив о семейном уюте и взаимных нежностях четы Бадейкиных, повернул обратно: этот уют и эти нежности теперь раздражали его.
— Так и есть, — бормотал Акимов, медленно шагая по палубе, — «жена найдет себе другого, а мать сыночка никогда…» Это до тебя все знали, а теперь и ты это узнал.
Он редко писал последнее время домой, в Ковров, и теперь жгучая обида на Аничку соединилась с угрызениями совести по поводу его невнимательности к матери и отцу, и, дополняя друг друга, эти два чувства составили такую горькую смесь, что хотелось кусать пальцы. Он спустился в командирскую каюту, написал письмо домой и, вспоминая родной дом, отца, мать, сестру, думал, почти умиротворенный: «Это у меня есть, и этого никто не отнимет».
Он снова поднялся на палубу. Матросы в кубрике обедали. Оттуда слышались веселые голоса, и вскоре раздалось пение Кашеварова. На баке среди тросов стояли боцман Жигало и Климашин. Боцман курил и негромко рассказывал:
— Познакомился с ней американец один. Он ей — лав ю, лав ю, люблю, значит, люблю, она — хи-хи да ха-ха… Он ей говорит: разрешите, значит, преподнести подарочек. И дает ей шелковый чулок. Один чулок. Ну, она рассмеялась, спрашивает: это зачем же мне один? Или я калека? А он ей: второй получишь после. Когда после? А когда, значит, уступишь моему желанию. Ну, она баба бойкая, возьми и наплюй ему в рожу. Скандал. Он — к коменданту: оскорбили его, значит… Хе-хе…
Он невесело рассмеялся.
Климашин удивленно протянул:
— Ну и людишки!
— Вонтики, — сказал Жигало.
«Вонтиками» называли здесь американцев потому, что, продавая в закоулках Мурманского порта чулки и сигареты, они вполголоса спрашивали: «Вонт ит?», то есть: «Желаете?» Этот тихий и бросаемый мимоходом, как бы вскользь, вороватый вопрос всех спекулянтов мира и послужил поводом для местного прозвища.
Климашин ушел. Боцман остался в одиночестве, что-то бормотал, покашливал. Наконец он заметил Акимова.
— Вы здесь? — удивился боцман. — А я думал — ушли.
— Нет, не ушел, — сказал Акимов. Помолчав, он спросил: — Трудно было вам, Иван Иванович, к северу привыкать?
— Нет. Служба — всюду служба. Сначала, конечно, казалось все мрачным, некрасивым. Суровым. Потом пригляделся. И понравилось. Очень даже понравилось. — Он пытливо посмотрел на Акимова и вдруг спросил: — А вам что? Не по душе?
— Да нет, ничего, — поспешно проговорил Акимов. Глядя на расходившиеся волны, он сказал: — Погода неважная.
Жигало мечтательно вздохнул:
— Было время. Плавали только в хорошую погоду. А теперь плаваем в любую. Разве я бы в мирное время вышел в открытое море на нашей скорлупе при семибалльном шторме? Ни в жизнь! А теперь выходим. И не тонем! Корабль — он тоже как будто соображает, что война. Как человек. А человек что? Никаких посторонних нежностей не осталось. Работает за четверых и не ропщет. Почти не ропщет. Иногда только. И то — больше на Гитлера. — Жигало замолчал, потом, внимательно взглянув на Акимова, спросил: — Может, отдохнете здесь, товарищ капитан третьего ранга? Мы вам коечку постелим… Обед принесем…
Акимов сказал:
— Вот и хорошо. Так и сделаем.
Ему было немного стыдно оттого, что он дал проницательному боцману возможность заметить свое тяжелое настроение. «Раньше со мной такого не бывало», — думал он, удивляясь и злясь.
Однако с этого дня Акимов почти вовсе не покидал катера и в ответ на встревоженные вопросы Бадейкина ссылался на то, что хочет лучше войти в курс дела и беседы с матросами-северянами очень для него полезны. Бадейкин огорчился, но не стал возражать.
Глава шестая МОРЕ И ЗЕМЛЯ
1
«Никаких посторонних нежностей» — эти слова боцмана Жигало без ведома самого боцмана прозвучали как упрек Акимову.
Приняв близко к сердцу этот упрек, Акимов старался поменьше думать об Аничке, и, так как писем от нее по-прежнему не было, он назначил последний срок — самый последний, после которого решил забыть Аничку, искоренить из сердца воспоминание о ней. Конечно, он понимал, что это невозможно, и не рассчитывал на это в буквальном смысле слова, но он твердо верил, что сможет загнать воспоминание в самую глубину сердца, задушить его другими мыслями, иными воспоминаниями, а главное — службой.
Этот последний срок совпадал с 1 января, с началом нового, 1944 года.
В ночь на 1 января, когда все в поселке среди скал готовились к празднику — интенданты выписывали водку, женщины пекли пироги, дети украшали маленькие заполярные сосенки самодельными игрушками, катер-охотник Бадейкина получил приказ немедленно выйти в море в составе отряда эскортных кораблей. Не без вздохов сожаления бросились бегом сотни моряков вниз, к причалам.
В штабе дивизиона было решено, что Бадейкин останется на берегу, а катером будет на сей раз совершенно самостоятельно командовать его дублер. Несмотря на то, что маленький лейтенант мечтал провести новогодний вечер с Ниной Вахтанговной, он все-таки был очень взволнован, не мог себе представить, как это его катер выйдет в море без него. Растерянным и тоскующим взглядом следил он за своим кораблем, исчезавшим вместе с другими во мраке ночи.
Задача отряда состояла в том, чтобы встретить в открытом море очередной американский караван судов и принять на себя его охрану до Мурманска.
В темноте глаз еле различал другие корабли. Но не было ощущения пустынности, чувствовалась даже некоторая теснота: то тут, то там мигали узкие лучи сигнальных огней, радист принимал и передавал на мостик Акимову скупые приказания флагмана. К полуночи небо освободилось от туч, на нем заиграло северное сияние. Акимов поздравил в мегафон всех находившихся на палубе и в переговорную трубу — всех находившихся внутри корабля с наступающим Новым годом. Корабли отряда обменялись приветственными сигналами.
Сигнальщик отрапортовал:
— Дымы справа, двадцать пять.
Американский караван приближался. Он состоял из двух десятков транспортов различного водоизмещения. По бокам расположились низкие серые военные корабли.
Матросы узнавали иностранные суда.
— Вот «Леди Джен», — сказал сигнальщик, показывая пальцем на один из транспортов.
— А это «Золотая Стелла», — сообщил Кашеваров, подняв подбородок в направлении американцев: руки его были заняты.
Вот уже на палубах транспортов можно было различить людей. Они стояли на борту своих гигантских пароходов, словно на крышах пятиэтажных домов, и радостно махали беретами подходившим кораблям советского отряда.
Эсминцы, морские охотники, сторожевые корабли, тральщики, замедлив ход, занимали свои места в «ордере» по ранее разработанному плану. Занял предназначенное ему место на крайнем левом фланге конвоя и Акимов. После сложного маневрирования караван двинулся к Мурманску. Шли медленно, приноравливаясь к ходу тяжелых транспортов.
На траверзе полуострова Рыбачьего, который весь в снегу подымался из темной воды сверкающей серебряной громадой, не более чем в трех кабельтовых левее конвоя на мгновение показалась в волнах и тут же снова исчезла тонкая и грозная игла перископа.
Акимов и матросы на его катере заметили ее.
Нельзя было медлить ни секунды. Акимов отдал команду: «Атака, вперед полный, бомбы товсь», — и уже тогда, когда катер стрелой несся в направлении скрывшегося перископа, сообразил поднять на мачту сигнал и дать условную ракету. Глубинные бомбы были сброшены, подняв позади катера огромные фонтаны воды, из свинцово-серой ставшей вдруг пронзительно-зеленой.
Развернувшись, катер пошел назад. Акимов опять увидел перед собой пароходы и военные корабли. Все небо над ними тревожно осветилось белыми ракетами. Над Рыбачьим тоже взмыли в небо ракеты. Стало светло, как днем. Видно было, как по палубе ближнего американского транспорта бегают взволнованные люди.
— Ничего, коробка, — успокоительно бормотал Акимов, обращаясь к американскому пароходу. — Не бойся. Выручим. — Он был полон холодной ненависти к притаившейся в молчаливой толще воды вражеской лодке и почти сумасшедшей боязни за судьбу огромной, красивой чужой посудины, груженной чем-то важным для майора Головина, Майбороды, Файзуллина, Вытягова, Филькова, Орешкина. И для Анички. Колокол громкого боя — сигнал тревоги все звонил и звонил. — Товсь! — опять скомандовал Акимов. Еще одна серия бомб полетела в воду. Опять за кормой катера один за другим поднялись в воздух изумрудные каскады воды. Подчиняясь очередной команде Акимова, катер во второй раз развернулся и опять пошел вперед, в море. Климашин на корме готовился к очередному бомбометанию. Он что-то кричал. Гидроакустик — то есть матрос, слушающий воду, — прерывающимся голосом крикнул снизу:
— Шум винтов слева, сто тридцать пять.
Катер сбросил еще одну серию глубинных бомб и снова развернулся. Приближались два катера, высланные флагманом в помощь Акимову. Они были уже близко, когда кто-то из матросов, подняв сияющее лицо к мостику, неожиданно крикнул:
— Ура-а!..
Невдалеке на крутящейся и бурлящей морской поверхности показалась узкая и все расширяющаяся масляная полоса.
— Ура-а!.. — вопил все тот же голос, полный бесконечного восторга.
Конечно, немецкая подводная лодка, может быть, имитировала собственную гибель, пуская для отвода глаз на поверхность моря соляровое масло. Акимов готов был тут продежурить хоть целую неделю, чтобы добить ее или удостовериться в ее гибели. Но флагман приказал ему присоединиться к конвою, и он ушел, оставив свой пост на попечение других двух катеров и утешая себя тем, что лодку обнаружил он и благодаря его быстрым действиям она не выпустила смертоносную торпеду.
Проводив караван до Мурманска, Акимов вместе с остальными кораблями вернулся на базу. Катер ошвартовался вблизи других морских охотников, участвовавших в конвое, у знакомого пирса.
Как раз в это время в бухте показался юркий, веселый, крашенный в зеленый цвет катер военно-полевой связи. Он просигналил морским охотникам:
— Для вас имею почту. Разрешите подойти.
Матросы всех катеров высыпали на палубу и ждали приближения почты. Акимов в это время рассказывал Бадейкину об истории с вражеской лодкой. Рассказывал он довольно подробно, но все мысли его были сосредоточены на пакете писем — разноцветных конвертов и белых треугольничков, которые перебирал в руках боцман Жигало. Письма быстро рассосались среди матросов. Вот в руке Жигало осталось их пять, вот два, наконец одно. Это последнее Жигало, усмехаясь, повертел в руках, потом надорвал конверт и стал читать.
— Вот и все, — сказал Акимов.
— Молодец вы, Павел Гордеич! — воскликнул Бадейкин. — Хорошо поработали! — Его глаза блестели от радости.
2
На палубе появился незнакомый Акимову старший лейтенант с широким румяным лицом и часто мигающими близорукими глазами.
— Военный корреспондент Ковалевский, — представился он, вынул блокнот и тут же начал расспрашивать Акимова, как была потоплена немецкая подводная лодка.
— Вовсе она не потоплена, — сказал Акимов хмуро.
Ковалевский опешил, жалобно посмотрел на Бадейкина и спросил:
— Как так не потоплена? А в штабе мне сказали…
— Про это в точности знает не наш штаб, а немецкий, — возразил Акимов.
Но от Ковалевского не так-то просто было отделаться, и в конце концов Акимову пришлось рассказать ему весь ход операции. Бадейкин затащил его и корреспондента к себе в каюту. Он не одобрял скромности товарища и все приговаривал, обращаясь к Ковалевскому:
— Пишите, пишите…
Ковалевский умел заставлять людей рассказывать. В особо трудных случаях, когда собеседник оказывался совсем неразговорчивым, как в данном случае Акимов, корреспондент напускал на себя такой жалостный и беспомощный вид, что люди начинали свою сдержанность считать чуть ли не преступлением.
Ковалевский самозабвенно любил море и моряков и даже слегка стыдился того, что сам он не боевой офицер, а корреспондент. У непосвященных людей среди своих московских знакомых, особенно женщин, он старался создать впечатление, что принадлежит к «плавсоставу», то есть является офицером на корабле. Он делал так не потому, что был лжив по природе, — напротив, это был честнейший человек, — а из своеобразного тщеславия. В глубине души он полагал себя прирожденным моряком и считал, что только благодаря печальному стечению обстоятельств провел жизнь на суше. Он отлично знал все существующие классы и типы военных кораблей и вел у себя в записной книжке строгий учет потопленных и построенных немецких, английских и американских линкоров, авианосцев, крейсеров. Морские словечки — разного рода шпангоуты, комингсы и бимсы — не сходили с его уст.
Он помнил массу выдающихся случаев из боевых действий субмарин (он называл для пущего шику подводные лодки «субмаринами»), торпедных катеров, эсминцев и знал в лицо почти всех мало-мальски отличившихся офицеров и матросов Северного флота.
— Вот я и с вами познакомился, — сказал он Акимову. Ему хотелось бы еще поговорить с моряком, но его смущал сосредоточенный и суровый взгляд Акимова, мысли которого, по-видимому, витали где-то очень далеко отсюда.
Простившись, корреспондент ушел на берег.
— А вы? — спросил Бадейкин. — Пойдемте ко мне. Мы вам праздничного пирога оставили.
Акимов отвел глаза.
— Извините, Бадейкин, — сказал он. — Не могу. Обещал к Мигунову зайти.
Он действительно пошел к Мигунову в общежитие «подплава», хотя за минуту до того вовсе не собирался туда.
Мигунов часа два как вернулся с позиции. Его подводная лодка, повредив немецкий эсминец типа «Леберехт Маас», попала в тяжелое положение: на нее навалились сразу три вражеских штурмбота, забросавших лодку глубинными бомбами.
— Еле выбрались, — рассказывал Мигунов. — Гоняли нас два часа. Я уже думал — конец приходит. У нас только что сам командующий был, похвалил. Затонул, говорит, эсминец, летчики докладывали. Ордена будут. Хорошо, что ты пришел, Паша. Выпьем за спасение души, а то ты совсем захирел у этого Бадейкина. Угрюмый ты какой-то стал.
Акимов сказал:
— Немцы небось радуются — потопили, дескать, советскую подводную лодку. Штабы рапортуют, корреспонденты пишут…
Это предположение рассмешило Мигунова.
— А мы тут гуляем!
Он побежал звать товарищей. Быстро накрыли стол. Подводники без умолку говорили о последней операции. Дело не обошлось без некоторого самохвальства. Белобрысый лейтенант втолковывал Акимову, что подводники «главные люди на флоте» и что именно они наносят немецким фашистам самые серьезные потери. Акимов устало соглашался, но, поддразнивая подводников, спрашивал:
— Ну, а эсминцы как? Неужели ничего не стоят?
Подводники не возражали против эсминцев, но настаивали на первенстве подводных лодок. Акимов опять соглашался, но тут же снова спрашивал:
— А морская авиация? Мелочь, по-вашему?
Авиации они отдавали должное, но опять-таки не в ущерб своему роду оружия.
Акимов пил много, но незаметно было, чтобы он хмелел.
Мигунов вдруг расчувствовался и, оглядев всех присутствующих добрым и восторженным взглядом, сказал:
— Какие вы у меня все хорошие ребята! А вот этот, — крикнул он, показывая пальцем на Акимова, — мой любимый друг! Он еще всем покажет! Я его знаю! Павел, ты золотой парень, и один в тебе недостаток — что ты не подводник. Выпьем за здоровье Паши Акимова!
Все охотно поддержали этот тост и затем решили отправиться в Дом флота.
Веселая компания оделась и вышла на улицу. По дороге их застала пурга, знаменитые на севере «снежные заряды»: облако снежной крупы, в котором еле увидишь идущего рядом человека. Пронесется такой заряд, и опять снега нет, словно его и не было. Потом — следующий заряд.
Издалека доносились звуки вальса. Акимов представил себе вдруг, как Аничка в темноте осенней ночи под Оршей шла по оврагу на звуки музыки. И на мгновение он испытал странное чувство перевоплощения в Аничку, словно это не он, а она шла теперь в полярной ночи на звуки вальса туда, где, быть может, он, Акимов, ждет ее.
Потом это странное чувство рассеялось, ощущение невероятной близости возлюбленной исчезло, а взамен опять пришло отчаяние и сомнение в себе и в Аничке. Он вдруг твердо решил, что его постигло величайшее несчастье: она его забыла. И он стал не без некоторой наивности искать причины, почему она его забыла. Он говорил себе, что этого следовало ожидать и если он раньше думал, что она будет его помнить и любить, то он только уподоблялся невежественному алхимику, вообразившему, что он может заключить солнечный луч в стеклянную посудину.
Раз она так быстро могла влюбиться в него, Акимова, почему это не могло случиться с ней во второй раз?
Мало ли там хороших людей! Взять хотя бы капитана Черных, нового командира первого батальона. Ведь понравился он и солдатам, и офицерам, и Головину. Черных действительно прекрасный человек, спокойный, сдержанный, с ловкими и точными движениями, не такой увалень и сумасброд, как он, Акимов. Чем больше думал Акимов об этом, тем более достойным Аничкиной любви казался ему капитан Черных, и именно он, а не кто-нибудь другой.
«Да, но ведь мы муж и жена», — негодовал Акимов и сам издевался над этим соображением. Чем могло ему помочь то обстоятельство, что где-то за тридевять земель в большой разграфленной книге они с Аничкой записаны рядом? Что может тут сделать та немолодая женщина в пенсне, записавшая их чуть дрожащей рукой в эту книгу?
Акимов чувствовал, что сердце его разрывается от настоящего горя, и, сжимая зубы, шептал, обращаясь к свирепому ветру и острой, как град, снежной крупе: «Бей, бей сильнее. Дураков бить надо».
Потом он понял, что находится в очень внутренне расслабленном состоянии. С ясностью ума, свойственной ему, он отнес это за счет усталости и действия водки, вскоре взял себя в руки и крикнул Мигунову:
— Как ты там, Вася? Живой?
— Живо-о-ой, — ответил Мигунов. Голос его заглушали вой ветра и свист обдававшей их снежной крупы.
— Ну и славу богу! А то ты все молчишь, даже странно. На себя не похож! Песню, что ли, споем?
— Боюсь, начальство услышит, скажет — пьяные.
— А что — разве трезвые? Конечно, пьяные. Обманывать начальство нехорошо…
Все засмеялись. Звуки вальса все приближались. Наконец показалось большое здание, ступеньки которого были завалены только что выпавшим, нетронутым снегом, отчего казалось, что дом необитаем.
Но дом был полон людей. Электрические лампы освещали ровным и спокойным светом мягкие дорожки и дубовые панели. Кроме офицеров флота и морской авиации, тут находилось и немало женщин — врачей, связисток и офицерских жен. Женщины — многие из них были в длинных шелковых платьях сидели отдельной группой у стены, глядели на мужчин, перешептываясь, усмехаясь и отпуская критические замечания по их адресу. Все вместе напоминало самые благополучные времена в каком-нибудь Доме флота под мирным небом южной гавани.
Снова начались танцы. Обвеваемые широкими юбками стройные ноги закружились по паркетному полу. Моряки с серьезными лицами людей, делающих не очень приятное, но весьма нужное дело, кружили своих дам. Иногда мелькало лицо красное, явно подвыпившее, оно тщилось из последних сил оставаться серьезным, но, встречаясь взглядом со стоявшими вдоль стен нетанцующими знакомыми ребятами, складывалось в полувиноватую, полуглумливую гримасу, означавшую: «Знаю, что это глупо, но уж простите, братцы».
Все выглядело бы совсем мирно, если бы не властное вмешательство дежурного офицера, который время от времени появлялся в дверях с бесстрастным лицом и отрывисто вызывал:
— Капитан-лейтенант Бирюков! На корабль!
— Капитан второго ранга Погорельцев! К командующему!
— Флаг-механик флота! К командующему!
Иногда он вызывал по списку:
— Военврачи Каневская, Лукина, Преображенский! В госпиталь!
— Алексеев, Муравьев, Самойлович, Гуссейнов! В политуправление!
— Пискарев, Губенко, Геладзе! К командующему!
Иногда он вызывал еще более кратко:
— Офицеры с «Ретивого»! На корабль! Срочно!
— Летчики Морозова! На базу! Срочно!
— Экипаж подлодки 26–17! В подплав! Срочно!
При больших вызовах зал редел, как вырубленный.
Вызванные бросали свою пару посредине очередного па и мгновенно исчезали. А оставленные женщины еще с полминуты стояли посреди танцующих, все еще держа руки на уровне плеч исчезнувших партнеров, и с их лиц постепенно сходила томная усмешка, вызванное танцем легкое опьянение. Потом они тихо отходили к стене и, прислонясь к ней, к чему-то настороженно прислушивались, как будто они могли что-либо услышать, кроме отдаленного шума прибоя и свиста ветра.
Наблюдая все это, Акимов вдруг подумал: не убита ли она, Аничка, не ранена ли? Как ни странно, но эта мысль пришла ему в голову впервые, и он сам удивился своей непонятной в данном случае беспечности: он все время думал о чем угодно, а о том, что с Аничкой могло что-нибудь случиться, он не думал ни разу. «Нет, — решил он. — Головин сообщил бы мне, если бы что-нибудь произошло». Он содрогнулся от сознания своей полной беспомощности. Он не мог ничего сделать — ни поехать туда, где находилась его возлюбленная, ни позвать ее сюда, ни даже просто дать ей телеграмму. Его нерадостные мысли были прерваны Мигуновым. Лихой подводник, который танцевал до упаду с миловидной девушкой-врачом, пробрался к Акимову и зашептал ему на ухо:
— Павел, пошли к Валечке в гости. Там славные девчата…
Акимов отрицательно замотал головой и ушел в тихую комнату библиотеки. Здесь тоже было полно народу. Почитав газеты, Акимов решил написать письмо Аничке.
Он писал:
«Аничка! Я опять пишу тебе письмо, не надеясь получить ответ. Мне давно уже следовало прекратить эту писанину, но каждый день, как только выдается свободная минута, меня так и тянет написать тебе. Одним словом, мне трудно жить без тебя, а я, по правде говоря, не очень верил раньше в возможность такой любви, чтобы трудно было без человека день прожить. Все, что я вижу интересного, я стараюсь запомнить, чтобы потом рассказать тебе. Раньше со мной такого не бывало. Я стараюсь гораздо больше, чем раньше, понять самого себя, уяснить себе свои собственные мысли и поступки, а наткнувшись на какую-нибудь умную мысль — это бывает со мной иногда, — я стараюсь ее не забыть, чтобы потом, когда мы встретимся, выразить ее тебе, возможно, под видом как бы экспромта, чтобы ты увидела, какой у тебя дружок умный. Зачем я все это тебе теперь пишу — сам не знаю. Ты можешь только посмеяться. Раньше я не мог понять, за что ты меня полюбила, а теперь не могу понять, как могла ты меня забыть».
Написав письмо, Акимов поднялся уходить. В вестибюле он услышал отрывистый крик дежурного:
— Капитан третьего ранга Акимов! В штаб Овра!
Вначале он подумал, что тут находится какой-нибудь однофамилец, настолько неожиданным и нелепым показалось ему то обстоятельство, что он кому-то нужен. Но вот к нему выбежал Мигунов.
— Тебя вызывают, — сказал Мигунов торопливо. — Идем, я тебя провожу, а то ты тут заблудишься.
У Акимова потеплели глаза — он по достоинству оценил жертву, которую бравый подводник готов был принести на алтарь дружбы, бросив танцы и свою Валечку.
— Ладно, Вася, — сказал Акимов. — Иди танцуй. Я все сам найду. Найду, ей-богу, найду.
Он втолкнул Мигунова обратно в зал, а сам оделся и вышел в ночную тьму, по-прежнему оглашаемую свистом вьюги.
Вызывали действительно его. Он был принят контр-адмиралом и получил новое назначение — полноправным командиром морского катера-охотника, притом — более крупного, более совершенного и с лучшим вооружением, чем катер Бадейкина.
Вспомнив о Бадейкине, Акимов испытал чувство неловкости, ему казалось, что Бадейкина незаслуженно обошли, а его, Акимова, незаслуженно возвысили. Он решился даже сказать об этом контр-адмиралу, но тот недовольным голосом возразил:
— Начальству виднее.
Позже, проходя мимо пирса, где стоял маленький кораблик Бадейкина, Акимов осознал, как жаль ему расставаться с ним. С катера доносился осипший голос боцмана Жигало и пение рулевого Кашеварова.
— «Врагу не сдается наш гордый „Варяг“», — пел Кашеваров. И хотя слова «гордый „Варяг“» казались такими до смешного не подходящими к суденышку, не имевшему даже имени, а только номер, в этот миг Акимов без всякой иронии отнес слова песни именно к маленькому катеру и его маленькому командиру.
Приняв свой «собственный» корабль, Акимов пошел проститься с Бадейкиным. Но бадейкинского катера уже не было — он ушел на очередное задание в море.
Не было никого и в домике на горе. Акимов взял в условленном месте ключ, собрал свои вещи, вышел, запер дверь, положил ключ, напоследок бросил прощальный взгляд на окошко, на горшки с цветами и сказал вслух:
— Прощайте, Бадейкин. Прощайте, Нина Вахтанговна.
Затем он отправился на свой корабль.
— Смирно! — скомандовал кто-то, заметив вступившего на борт нового командира. Матросы замерли. Акимов посмотрел на них, потом отдал честь военно-морскому флагу Союза ССР и своему экипажу. Ему казалось, что теперь он окончательно расстается со своими личными горестями и надеждами. Глядя на темный залив, он прощался с воспоминаниями и мечтой о своем, в конечном счете, маленьком счастье. Он сказал «вольно» и поднялся на мостик.
3
Аничка не писала Акимову по той причине, что жизнь ее подверглась большим, внезапным и удивительным переменам. Аничка оказалась далеко от своего полка и даже вне рядов армии и поэтому все еще не знала адреса Акимова. Что же касается капитана Черных, то с капитаном этим она вообще не была знакома и вряд ли могла бы вспомнить, как он выглядит и как его зовут. Она бы остолбенела от изумления, если бы узнала, что этот вовсе не знакомый ей капитан является предметом ревности Акимова.
Полк формировался в районе станции Бологое еще две недели после отъезда Акимова. В течение этого времени Аничка получила от Акимова два письма из Москвы, но не имела возможности ответить на них в связи с тем, что адрес его — почта Московского флотского экипажа — был временным. Он и сам не советовал ей писать, покуда он не обзаведется твердым адресом.
Первого ноября полк был ночью поднят по тревоге, срочно погружен в вагоны и вместе с другими полками дивизии, в бешеном темпе, почти без остановок, часто двойной тягой, то есть с двумя паровозами — впереди и в хвосте, — отправлен на юг и выгружен третьего ноября в районе столицы Украины, города Киева. Оттуда вся дивизия — и не только она одна, но и множество других — пошла пешим маршем на запад и влилась в войска Первого Украинского фронта, предназначенные для освобождения Киева.
С самого начала похода распространилась та напряженная, жаркая и тревожная атмосфера, которая всегда сопутствует боям на важном направлении. В небе шли почти непрерывные воздушные бои, авиация врага почти беспрестанно висела над головой, стараясь бомбами и пулеметными очередями задержать, сбить с толку, ослабить наступающие войска, внушить им ужас и неуверенность. Полки шли по осеннему бездорожью, машины то и дело приходилось вытаскивать на себе, и Головин, верхом на лошади, с грустью смотрел, как от тылового лоска и сытого, довольного вида его офицеров и солдат понемногу ничего не остается.
И все-таки это было наступление, и, несмотря на бездорожье и на атмосферу постоянной тревоги, душа радовалась обилию войск и техники и зрелищу разбитых немецких танков и машин, брошенных противником на обочинах дороги и частично еще догоравших.
Полк прибыл к Днепру в момент начала переправы через реку, которая находилась под мощным обстрелом и бомбежкой. На другом берегу, на высоких холмах, желтел листвой и чернел пожарищами город Киев.
В оглушительном грохоте, среди громких и раздраженных криков тысяч людей Аничке удавалось сохранять поразительное спокойствие, которое успокаивало всех окружающих. Стоявшие в башнях танков танкисты, проезжая мимо, махали ей руками и долго оглядывались на нее, пока не исчезали в дымном аду правого берега. Впереди десятка одетых в маскхалаты, обросших и молчаливых разведчиков она производила необычайное впечатление и вызывала удивленные, дружелюбные, а иногда и двусмысленные замечания проходивших солдат из других дивизий. В ответ на эти последние замечания разведчики свирепо говорили:
— Ладно. Проходи, пока не получил по морде.
Эта угроза оказывала немедленное действие, и солдаты ускоряли шаг, еще более удивляясь, потому что они улавливали в угрожающем тоне разведчиков уважение к этой девушке и готовность защищать ее от любых покушений.
Артиллерия гремела беспрестанно, а краснозвездные самолеты со всех сторон сотнями летали на правый берег и, отбомбившись, возвращались обратно. Был канун праздника, двадцать шестой годовщины Октябрьской революции, и это обстоятельство придавало сражению за Киев оттенок особой значительности и торжественности.
Во время переправы Аничке вдруг стало нехорошо, она побледнела и почувствовала головокружение. Она не обратила на свое состояние никакого внимания, так как отнесла его за счет страха смерти, все время витавшего над десятками тысяч идущих по деревянному настилу людей, но спустя несколько дней, уже за Киевом, она встревожилась и поняла, в чем дело.
Это ее, как ни странно, очень удивило. Несмотря на все, что она знала не хуже других людей, ей все-таки показалось непонятным, чудовищным и глупым, что оттого, что она провела с любимым человеком несколько трудных для нее ночей в небольшой деревеньке около станции Бологое Октябрьской железной дороги, внутри нее зародилась новая жизнь. Вначале она отнеслась к этому факту несколько легкомысленно. Она даже решила, что, когда ребенок родится, надо будет оставить его у тети Нади и затем вернуться в армию. Потом она поняла, что это все — глупости, что не может она отдать ребенка кому бы то ни было, что ребенка надо кормить, растить, воспитывать, что это не игрушка, а человек, притом — ребенок, притом — ее ребенок. «Мой ребенок», — повторяла она про себя, смеясь и недоумевая. С безмерной, но вполне понятной наивностью она думала: «Как быстро все это получилось». Ей представлялось нормальным, что дети рождаются лишь после долгой, спокойной супружеской жизни.
Шагая с разведчиками по заполненной людьми и машинами фронтовой дороге и превозмогая тошноту, находясь все время в состоянии сдержанного волнения, Аничка беспрестанно размышляла о себе. Она делала все, что от нее требовалось, но, глядя на окружающих ее людей, думала, что она уже отгорожена от них невидимой, но непроходимой стеной своего нынешнего состояния, своего материнства. На смену прежним интересам властно явился новый интерес, и ее тайна, казалось ей, ставит ее ниже всех этих людей, которые живут более широкими задачами и озабочены более важной заботой.
По ночам, прикорнув в каком-нибудь шалаше или в очередной избе, избранной для ночлега, Аничка не спала, а прислушивалась к голосам солдат, которые разговаривали о войне и победе, и готова была плакать, чувствуя, что все эти разговоры, такие важные для всех людей, для нее теперь звучат как нечто второстепенное и далекое.
Она не знала, на что решиться, — заявлять ли о том, что с ней случилось, или предоставить событиям идти своим чередом, покуда все не станет и без того ясным. Но все несчастье заключалось в том, что она вскоре начала жалеть развивающегося в ней ребенка странной и тревожной жалостью, которая заставила ее стать осторожной, медлительной, рассчитывать каждое движение, — даже от верховой лошади она отказалась, что очень удивило окружающих, так как ранее для Анички не было большего удовольствия, чем ездить верхом.
В бою за Коростень был ранен в ногу командир полка Головин. Аничка пошла его проведать в избу, где он в ту пору обосновался.
Посидев возле Головина и узнав, что он остается в строю и не уйдет в госпиталь, она неожиданно для себя чуть не расплакалась и спросила:
— А мне что делать? — и рассказала ему обо всем.
Головин, смущенный еще больше, чем она сама, пробормотал:
— Ну что ж делать? Ничего не поделаешь… — Подумав, он проговорил: Жаль, нет адреса Акимова. Послать бы ему приветственную телеграмму.
Она сказала:
— Как это все неожиданно. И как-то нехорошо.
— Что же делать? — опять спросил Головин и снова добавил: — Ничего не поделаешь. — Он посмотрел на ее лицо и вдруг горячо вступился за нее самое: — Чего же вы так? Ничего плохого в этом нет. У вас же не так, чтоб… случайно… Все ясно. Вам надо демобилизоваться, ехать в Москву и приступить к исполнению материнских обязанностей. Это же не шутка. Детей рожать, Анна Александровна, тоже, если подумать, важное, государственное дело. — Он помолчал, потом продолжал с нарочитой грубоватостью: — Я даже рад, все боялся, как бы вас не убило. Как бы я тогда отчитался перед Акимовым?
Воцарилось долгое молчание, было слышно, как возле избы разговаривают два солдата.
Один солдат сказал:
— Ты мне про ранет и шафран не толкуй. Нет на свете яблока лучше антоновского.
Другой пробасил:
— Ты в Крыму никогда не бывал, вот и заладил: антоновка, антоновка…
Головин медленно сказал:
— У меня ведь тоже… В Ульяновске в эвакуации двое детишек. Девочка и мальчик. Катька и Ванька.
Его голос дрогнул, и Аничка только теперь увидела, что командир полка растроган и взволнован.
— Нервы, — сказал он и отвернулся.
Через несколько дней Аничка получила документы и пошла на хутор, где располагались разведчики, проститься. Но оказалось, что, пока она оформлялась в штабе полка, пришел приказ двигаться дальше. На хуторе она уже никого не застала. Полк вытягивался по желтой глинистой дороге, люди, пушки и подводы медленно двигались дальше на запад, и вскоре Аничка осталась одна на опушке соснового бора. Мимо нее шли и шли войска, и казалось, что все, в том числе и леса и поля, движется на запад, а на восток идти или ехать невозможно, не на чем и незачем.
— Прощайте, товарищи! — сквозь слезы сказала Аничка и, взвалив на плечо свой чемоданчик, пошла на восток.
Там, немного дальше от передовой, уже было, правда, полно машин, идущих и на восток, и на юг, и на север, во всех направлениях, простирались военно-автомобильные дороги с контрольно-пропускными пунктами, регулировщицами, избами для отдыха, гремели станции железных дорог и опять без конца — вторые, третьи, четвертые эшелоны войск, не спеша идущие и едущие на запад, к границам государства. Везли печеный хлеб, снаряды, ящики с махоркой, с патронами. Шли полевые кухни, машины с обмотками, шапками-ушанками и зимним нательным бельем, полевые хлебопекарни, похоронные команды, автобусы эвакогоспиталей. И чем дальше Аничка, вначале на машине, потом в поезде, двигалась на восток, тем с большим удивлением убеждалась в том, что всюду много людей, в каждой деревне люди и все что-то делают, работают, ждут. Аничка с особым интересом смотрела теперь на детей, приглядывалась к ним так, словно никогда не встречала их раньше.
«Грозилась синица море зажечь», — с горечью думала Аничка о себе. Но по мере приближения к Москве, по мере наблюдения за обыкновенной, нефронтовой жизнью огромных масс людей у Анички стало легче на сердце, она как бы высвобождалась от той, свойственной фронтовикам ограниченности представлений, которая как бы сверху вниз смотрит на все происходящее позади узенькой линии, где непосредственно идут бои. Она вдруг стала думать не только о пространстве, но и о времени, не только о продвижении вперед на конкретной местности, но и о продвижении вперед великого государства во времени, в масштабе истории. И как ни странно, именно в этом масштабе, казалось бы таком огромном и необъятном, Аничка и ее будущий ребенок заняли хотя и скромное, но важное и вполне приемлемое место, хотя они же не могли найти себе места в прежнем, слишком элементарном, линейном представлении Анички о своем жизненном призвании.
Все эти мысли конкретно вылились в решение немедленно после приезда в Москву начать готовиться в медицинский институт, с тем чтобы осенью будущего года поступить туда и при помощи отца стать хорошим хирургом или детским врачом. Решив это, Аничка почувствовала в себе прилив сил и тот внутренний подъем, который она испытала два года назад, отправляясь самовольно на фронт. Но теперь решение ее, не уступая тому, прежнему, в горячности и силе, было, однако, решением уже зрелого человека.
4
Москва конца 1943 года ничем не походила на Москву начала 1942 года. Тогда она была пустынна и сурова, людские потоки излились из нее — один на запад, другой на восток. Теперь потоки эти — пожалуй, еще и с лихвой — как бы снова влились обратно в величественное и бурное русло. Город оживленный, полный людей и машин, жил очень напряженной и шумной жизнью и только по вечерам на несколько минут замолкал, прислушиваясь к громкоговорителям, объявлявшим об очередной победе Красной Армии, и ожидая очередного салюта.
Аничка радостно включилась в эту быстротекущую, слегка взвинченную, но полную великих ожиданий жизнь почти мирной Москвы. С той непреклонностью, какую она сумела развить в себе, Аничка приступила к исполнению своего решения, раздобыла у подруг учебники, тетради, справочники и начала заниматься.
В школе и институте учение часто было для Анички постылой обязанностью, теперь же теоремы и формулы приобрели для нее неожиданный интерес. Ломать голову над задачей — дело, которое она раньше терпеть не могла, — теперь казалось ей увлекательным занятием. Может быть, умственное напряжение служило наилучшей разрядкой после длительного физического напряжения на фронте. Кроме того, занятия математикой, физикой и химией напоминали ей детство, которое, безвозвратно пройдя, представлялось теперь Аничке прекрасным временем. «Я старею», — смеялась Аничка, правильно разгадав суть этих перемен. Но она была довольна, даже счастлива своим рвением и успехами и решила про себя, что продолжать учиться надо, уже имея некоторый жизненный опыт, — только тогда ты способен оценить по заслугам радость узнавания новых вещей и одухотворенное состояние человека, содержание жизни которого — познание ее.
Вскоре в Москву приехал профессор Белозеров. Он был вызван для переговоров по поводу новой службы: его хотели оставить в Москве, в Главном санитарном управлении армии.
Заехал он к тете Наде и только там узнал, что Аничка в Москве. Тетя Надя сообщила ему и о том, что Аничка с жаром взялась за подготовку к поступлению в медицинский институт.
Это известие умилило и обрадовало Александра Модестовича. Он поспешил поехать домой и еще больше умилился, застав Аничку в компании с двумя другими девушками в окружении учебников. Все они были, по-видимому, весьма увлечены занятиями и не заметили, как в комнату вошел Александр Модестович.
Аничка была одета в защитное платье военного образца, а когда повернулась к отцу, он увидел на ее высокой груди — да, у нее была уже высокая, прекрасной формы грудь — два ордена и медаль «За отвагу». А лицо! Лицо было поразительно спокойным и, как показалось Александру Модестовичу, очень значительным.
Увидев отца, Аничка обрадовалась и в то же время слегка встревожилась. Ребенок, так странно и быстро реагировавший на все душевные движения своей матери, зашевелился. «Это твой внук», — мысленно обратилась Аничка к Александру Модестовичу, и ей показалось немного комичным то, что у ее отца есть внук, а он не знает об этом.
Александр Модестович был счастлив, что дочь невредима и притом так мила и по-новому уравновешенна. Он полуторжественно, полушутливо поблагодарил ее за то, что она наконец удостоила вниманием медицину, при этом подчеркнув, что она, разумеется, вольна в своих действиях, — он намекал на то, что жалеет о прошлой размолвке и признает свою вину.
Девушки, смущенные появлением столь крупного медицинского светила, ушли. Александр Модестович решил отпраздновать счастливую встречу и достал бутылку вина, но ему пришлось пить одному, потому что Аничка, которая уже думала только о благополучии своего ребенка, боялась, что вино будет вредно для него.
Вечером Александр Модестович раздобыл билеты в Большой театр, и они пошли вдвоем смотреть балет «Лебединое озеро». Обстановка театра, старомодная роспись огромного потолка, торжественность тяжелого алого бархата, а главное, самый балет — музыка и безукоризненное изящество великой балерины Улановой, — все это составило столь грандиозный контраст со свежими воспоминаниями Анички, с картиной задымленных горизонтов, укрытых поблекшими осенними ветвями пушечных батарей, с бесконечными размытыми дорогами, по которым беспрестанно шли люди в шинелях и переваливались машины. А то обстоятельство, что публика так непосредственно и глубоко воспринимает красоту человеческого тела и созданных человеком звуков, как бы опять и опять оправдывало в собственных глазах Анички ее вынужденный уход из армии.
Аничка обращала на себя всеобщее внимание, и Александр Модестович не мог не заметить, с каким любопытством все смотрят на нее и на него. И он испытал чувство необычайной гордости за эту красивую, взрослую, сильную девушку, которая, как ни странно, была его дочкой.
Шли дни, и Аничка все не решалась сказать отцу о самом главном. Не решалась, очевидно, потому, что предчувствовала, как огорчен и подавлен будет Александр Модестович, сочтя свои прошлые подозрения справедливыми. По сути дела, они и оказались справедливыми с точки зрения человека, который не знает Акимова и, пожалуй, мало знает ее, Аничку. Взгляд голубых глаз отца, полных спокойной гордости за дочь, иногда приводил Аничку в трепет, и хотя она ни разу всерьез не пожалела о том, что произошло, но тем не менее все откладывала решительное объяснение.
Вставая рано утром, когда Александр Модестович еще спал, она уходила за покупками, готовила завтрак, потом они, оживленно разговаривая, вместе ели. Им было весело друг с другом. Потом он уезжал в Наркомат обороны, а она возилась по хозяйству — убирала, готовила обед или сидя (чтобы не повредить ему, ребенку) стирала белье. Потом приходили ее две подружки, и они вместе занимались.
Александр Модестович с восхищением воспринял перемены, происшедшие с его дочерью: он ведь давно мечтал воспитать ее в любви к физическому труду, но благие пожелания его оставались невыполненными. Эти навыки дала ей армия. Полюбив за время войны армию, профессор Белозеров думал теперь о ней, в связи со своей дочерью, с особенным чувством благодарности и преклонения.
В канун нового 1944 года Аничка получила наконец целую дачку писем от Акимова. Все они были уложены в большой, сделанный из газеты пакет. Адрес на пакете был надписан неровным, разбросанным почерком капитана Дрозда.
Она прочитала акимовские письма одно за другим, даже не по порядку, а так — какое первым попадалось под руку. С каждым новым письмом она все больше удивлялась ему, силе выражения и сдержанной страсти Акимова. Ей было бесконечно приятно то, что он не только хороший и умный сам по себе, но и может выразить свои мысли на бумаге. Теперь только она уличила себя в том, что не вполне освободилась от институтской высокомерной привычки судить о людях по степени их грамотности, но подумала, что ей было бы неприятно, если бы ее избранник — каким бы героизмом он ни отличался на войне — оказался человеком малограмотным.
Она тут же написала длинное ответное письмо и побежала бросить письмо в почтовый ящик. А вернувшись, никак не могла приняться за учебники и все перечитывала письма, потом ей захотелось опять написать ему, и она написала второе письмо, еще длиннее первого, и снова побежала к почтовому ящику.
Встретить Новый год Александр Модестович решил вместе с дочерью у своего старого друга генерала Силаева, к которому недавно вернулась из эвакуации семья.
Эта новогодняя вечеринка должна была быть и прощальным ужином Силаев только что получил назначение на фронт. Этого назначения он давно добивался, так как его обуревала тревога, что он не повоюет по-настоящему, не приобретет подлинного военного опыта, в таком избытке приобретаемого фронтовыми генералами.
Придя домой довольно поздно вечером, Александр Модестович стал торопить Аничку, чтобы она поскорей оделась.
Она решила проститься с военным платьем и надеть новое, гражданское, фасон которого сама придумала. Это было черное, длинное, закрытое шерстяное платье, с широким поясом и с широким, круглым, достигающим проймы рукава воротником из перемежающихся белых и черных полосок блестящего шелка. Рукава были просторные, длинные, схваченные в запястьях узкими манжетами из того же материала, что и воротник. Она выглядела в этом платье очень нарядной и старше своих лет. Волосы у нее уже отросли и красиво падали на плечи, на блестящие шелковые полоски воротника.
Взглянув в зеркало, она сама себя еле узнала и очень себе понравилась, и ей казалось, что она и военный переводчик Белозерова совсем разные люди.
Ей не очень хотелось куда-либо идти, она была все время под впечатлением полученных писем Акимова, настроение у нее было очень радостное, тихое. За окном шел крупными хлопьями новогодний снег, и казалось, весь зимний город полон томительного и сладкого ожидания больших радостей.
Она то и дело взглядывала на столик, где лежали письма, и каждый раз улыбалась им.
Вошел Александр Модестович. И вдруг он посмотрел на дочь, одетую в нарядное платье, по-особому внимательно. Что-то непонятное, что-то новое в ее фигуре, женское, не по-девичьи плавное, поразило его.
Она, заметив его взгляд, слегка побледнела, потом подошла к отцу и просто сказала, без боязни, но очень серьезно:
— Да, папа, я беременна.
Разумеется, не следовало этого так говорить. Дипломатичнее было бы сказать: «Папа, я вышла замуж». А потом, уже позднее, может быть на следующий день, досказать остальное. Но эти слова, самые важные, сами собой сорвались с ее уст именно потому, что они были самыми важными, и она стремилась не говорить лишних слов и считала, что ниже ее достоинства продолжать заниматься дипломатией с собственным отцом.
Но то, как он отнесся к ее сообщению, сразу же исключило всякие дальнейшие объяснения. Его глаза стали оловянными, слепыми. Куда девалась его обычная доброта? Он глядел на дочь с негодованием и ужасом. Он сразу же решил, что был прав с самого начала, что она и в армию стремилась вовсе не ради общего дела. Он сразу уверовал в самое худшее.
«Неужели это моя дочь?» — думал Александр Модестович, немедленно забыв о своих собственных грехах молодости. Впрочем, неправильно будет сказать, что он забыл о них. Может быть, как раз напротив. Бессознательно вспомнив все свои непорядочные поступки по отношению к женщинам, он еще больше стал презирать Аничку, при этом меряя неизвестного ему Акимова на свой аршин. Некоторые отцы почему-то склонны считать, что возлюбленные их дочерей — негодяи. Не потому ли, что сами они, отцы, подчас оказывались негодяями?
Даже ее желание поступить в медицинский институт он считал теперь фальшивым, так как заподозрил Аничку в том, что она этим хотела только подольститься к отцу, задобрить его. Не было на свете низости, которую он не мог бы теперь приписать дочери.
Может быть, если бы Аничка попыталась поговорить с ним, рассказать ему обо всем подробно и спокойно, Александр Модестович сумел бы правильно оценить положение и побороть унизительное чувство почти мужской ревности. Но, чутко уловив ход его мыслей, Аничка вся вспыхнула от негодования и уязвленной гордости и презрительно сказала:
— Впрочем, это мое личное дело. Свои соображения по этому поводу прошу оставить при себе.
Она ушла к себе, а Александр Модестович постоял несколько минут неподвижно, потом вышел в коридор, оделся и ушел из дому. К Силаеву он уже, разумеется, не пошел. Второго января он решительно отказался от работы в Москве и уехал опять на фронт, на свою прежнюю должность.
5
Для того чтобы не жить на отцовские деньги, Аничка поступила на работу в библиотеку иностранной литературы. Она уходила туда утром, составляла каталоги и часто после работы оставалась там, упрямо готовясь к поступлению в институт.
Здесь же она писала письма Павлу, и все содержание этих писем веселых, бодрых, с выдуманными смешными эпизодами, приключившимися якобы с ней, — настолько не походило на ее действительную жизнь, что это вызывало у нее самой слезы обиды. Она писала ему о хождениях в театр, подробно разбирала пьесу и игру актеров в спектаклях, виденных ею пять лет назад, исправно передавала ему приветы от отца, тети Нади и других родственников, а работу свою — почти техническую — в библиотеке изображала так, словно на свете не было более интересной, лучше оплачиваемой и веселой работы.
Письма от Акимова приходили почти каждый день. Он прислал ей аттестат на тысячу рублей в месяц, и ей стало легче жить.
Она часто ловила себя на том, что тоскует по армии — по общности интересов, чувству защищенности от бед и неожиданностей в большой семье взрослых, вооруженных, решительных людей. Она мечтала поехать служить туда, где находится Акимов, и, конечно, добилась бы своего, если бы не будущий ребенок. Она даже несколько раз думала, не лучше ли было бы без ребенка, но потом отвергала эту мысль. «А что, если родится большой человек, такой, как Ленин или Пушкин? Или хотя бы такой, как Павел?» думала она наивно, но убежденно.
Она послала Акимову список мужских и женских имен на выбор. Из мужских он выбрал имя Андрей, из женских — Екатерина.
В июле исполнились сроки, и Аничка медленно пошла пешком на Большую Молчановку в родильный дом. Она думала о том, что было бы, если бы отец не поссорился с ней и если бы она не замкнулась от него, не желая из гордости сделать первый шаг к примирению. Сколько было бы машин, профессоров, нянек, телеграмм! Он бы и сам прилетел с фронта.
Но эти мысли вовсе не делали ее несчастной, а наоборот, ее нынешнее положение не профессорской дочки, а женщины такой, как все, самостоятельной, озабоченной, отвечающей за свои поступки перед людьми, было ей по душе и даже льстило ее самолюбию.
Рожениц было мало — всего пять на огромную многокоечную палату: война еще продолжалась.
Аничка родила в следующую ночь девочку. Одновременно у другой женщины родился мальчик.
Койка, на которой лежала другая роженица, с утра уже была завалена цветами и записками. К Аничке же никто не приходил, и это обстоятельство все-таки больно ее кольнуло, тем паче что она была немножко разочарована рождением девочки, а не мальчика, которого, как она знала, ожидал Акимов.
И вот в полдень няня принесла и ей сразу целых четыре букета цветов тут были и розы, и фиалки, и флоксы, и даже запоздавшая в этом году сирень. Цветы так и посыпались на больничное одеяло и на столик возле кровати. Они напомнили Аничке загородные прогулки, тенистые дачные садики под Москвой, а главное — нечто такое, что она с трудом могла вспомнить, но что, казалось ей, было особенно важным. Наконец она вспомнила: позывные воинских подразделений в тот осенний день под Оршей, в ту душераздирающую разведку боем, когда она познакомилась с Акимовым. Из глаз ее пропали и эта палата, и большое дерево, то и дело сующее листву в распахнутое окно больницы, и сморщенное лицо больничной няни, — возникли мокрые траншеи и узкие лазы, бесконечные овраги и мятущиеся под сильным ветром и косым дождем заросли на берегу ручья.
Потом Аничке подали записки, и первая, раскрытая ею, была от Акимова. Аничка чуть не лишилась чувств, решив, что Акимов здесь, но тут же все объяснилось. Акимов писал: «Моя милая! Тебе передаст эту записку т. Ковалевский, корреспондент московской газеты. Он едет в Москву. Завидую ему зверски, что он увидит тебя. Спешу, катер ждет его. Он тебе расскажет все обо мне».
Тут же была записка и от Ковалевского:
«Уважаемая Анна Александровна, зашел к Вам домой, и соседи мне сказали, где Вы. Поздравляю Вас и посылаю от имени т. Акимова и от моего имени этот букет».
Записки были еще от тети Нади, от Тани Новиковой, от девушек, с которыми Аничка вместе готовилась в институт, и от капитана Дрозда, который, оказывается, еще с месяц назад приехал в Москву учиться в военной академии и именно сегодня решил разыскать ее.
Слабая от пережитых болей и волнений, Аничка не смогла ничего написать в ответ и попросила няню передать всем, что она здорова, чувствует себя хорошо и благодарит всех.
Внизу, в приемной, тетя Надя в это время строго и придирчиво допрашивала Ковалевского, кто такой Акимов, какой он, сколько ему лет, в каком он звании, порядочный ли он человек, понимает ли он свою ответственность и т. д. и т. п.
Дрозд стоял в стороне, угрюмый и молчаливый. Таня Новикова и другие девушки с небескорыстным любопытством будущих матерей осматривались кругом и, робея, приглядывались к мужьям рожениц, сидевшим с весьма виноватым и жалким видом людей, нанесших своим близким незаслуженную обиду.
Выписавшись из больницы, Аничка уступила настояниям тети Нади и переехала к ней. Надо отдать справедливость тете Наде: в ссоре Александра Модестовича с дочерью она была целиком на стороне Анички и о своем брате, которого боготворила, на сей раз отзывалась весьма непочтительно:
— Он дурак! Все мужчины дураки!
Ковалевский стал приходить к Аничке довольно часто. Он рассказывал ей об Акимове, о том, что ее муж сумел отличиться уже в первые дни своего пребывания в Северном флоте, и о том, что он был назначен самостоятельно командовать большим морским охотником, а затем командиром звена морских охотников. Рассказывая об Акимове с тем восхищением, которое было ему свойственно всегда в отношении моряков, Ковалевский даже не замечал, что изображает в своих рассказах свои личные отношения с Акимовым вовсе не такими, какими они были на самом деле, — то есть отношениями еле знакомых, случайно встретившихся людей, — а так, как будто они там, на Севере, были чуть ли не самыми близкими друзьями. Он поступал так не для того, чтобы обмануть Аничку, он и в самом деле чувствовал себя здесь, в Москве, близким другом Акимова и сам верил в свои рассказы. Он невольно рассказывал то, что слышал о нем, так, словно сам был свидетелем этому. Привез он однажды и две вырезки из газет, в которых Акимов упоминался как пример для подражания другим офицерам флота.
Аничка очень нравилась Ковалевскому. Он мог подолгу молча наблюдать, как она сидит на диване, очень белая, чистая, сосредоточенная, читает учебник и записывает что-то в тетрадь или что-нибудь шьет для своей девочки, время от времени поднимая на него глаза и ласково спрашивая:
— Вам не скучно?
Или говоря:
— Вы бы пошли куда-нибудь, где повеселее.
Он сознавал, что существует для нее только как друг Акимова, но это не обижало его. Он ни на что не претендовал. Просто ему нравилось быть здесь и глядеть на Аничку, любоваться ею, удивляться тому, как она превозмогает вечное желание спать — она теперь из-за девочки постоянно недосыпала и — все занимается или возится с ребенком.
Девочка в «свидетельстве о рождении» называлась Екатериной Павловной Акимовой, и было немножко смешно, что малютка имеет такое серьезное и длинное имя. Вообще в ней было много странного и смешного. Больше всего удивляло, смешило и трогало то, что на ее лице — особенно во время сна бессознательно отражались еще несвойственные ей чувства и состояния: гнев, презрение, равнодушие, задумчивость, высокомерие, легкомыслие, серьезность — все те чувства и состояния, которые когда-нибудь станут чертами характера.
Для матери эта маленькая девочка составляла целый мир. Аничка так привязалась к ней, что уже с трудом могла себе представить, как она жила без Катеньки. То время казалось ей очень далеким. Все вопросы войны, мира, будущего, все проблемы послевоенного устройства — все это Аничка рассматривала теперь в свете дальнейшей жизни ее ребенка.
Став матерью, Аничка и сама казалась себе более значительным, сложным и драгоценным организмом. Она с удивлением думала о своем теле, способном на такое чудо, как рождение человека. Она берегла себя, боялась даже слишком быстро перейти улицу, чтобы не рисковать своей, такой необходимой теперь, жизнью. Вспоминая, как легко рисковала она жизнью на фронте, Аничка задним числом ужасалась при мысли, что Катеньки могло бы не быть.
Ковалевский глядел на Аничку и ее ребенка с обожанием и решил про себя, что образ матери с младенцем недаром занимает такое большое место во всех религиях. А при мысли о том, что на дальнем севере России отец этой девочки сражается за ее будущее, Ковалевский чувствовал, что его глаза наполняются слезами.
На дальнем севере России в это время было лето и солнце не заходило вовсе. Бесконечный день заменил бесконечную ночь. Среди гранитных скал проросла зеленая трава. С моря на сушу неслись причудливые тучи разных оттенков — от молочного до темно-лилового. Иногда они опускались ниже седым туманом и покрывали скалистые горы, так что казалось, что кругом туманная и сырая низменность. Но потом их угонял ветер, и они уносились с быстротою дыма, обнажая вершины скал и мачты стоявших в заливе кораблей.
Большое красное солнце склонялось к морю, вот-вот оно исчезнет, скроется с глаз. Казалось, оно само мечтает охладить в море свою раскаленную голову. Но что-то сильное и невидимое останавливало ход солнца к закату, и оно оставалось в небе, роняя вокруг кровавые и лиловые полосы, словно пригвожденное незримыми гвоздями.
— Сейчас там хорошо, — говорил Ковалевский Аничке. — Сейчас там жить и воевать неплохо, я вам точно говорю. Я сам хочу туда скорее поехать. Скоро там начнется наступление.
Он действительно все время просился на Север, но командировку получил только в сентябре. Он сейчас же побежал к Аничке. Она собрала для Акимова посылку, написала письмо, сфотографировала Катю.
Весь под впечатлением встреч с Аничкой, безнадежно и тайно влюбленный, с чувством глубокой, незлобивой зависти к Акимову, Ковалевский выехал из Москвы. Несколько дней он провел в Мурманске, а прибыв на базу флота, первым делом пошел разыскивать Акимова. В Аничкиной посылке были яблоки, и он опасался, как бы они не сгнили.
Однако Акимова он на старом месте не нашел. Акимов был недавно откомандирован на полуостров Рыбачий в морскую пехоту. Ковалевский, во всякой мелочи искавший подтверждения своих догадок о предстоящем наступлении, подумал, что мероприятия командования по укреплению морской пехоты опытными кадрами — тоже один из показателей близости важных событий.
Приближение решительного часа чувствовалось по многим приметам. Командующий флотом то и дело вылетал в штаб Карельского фронта. На базе флота стали часто появляться пехотные генералы. Армейские соединения получали пополнения людьми и машинами. Корабли спешно ремонтировались. Подводные лодки и морская авиация расширяли круг своих действий, круша и разрывая морские коммуникации 20-й Лапландской армии Гитлера.
В связи со всеми этими новостями Ковалевский совсем забегался и только в начале октября выбрался наконец на Рыбачий.
Глава седьмая БЕРЕГ
1
В самый разгар подготовки к прорыву немецкой обороны на горном хребте Муста-Тунтури, когда вся операция уже была разработана до тонкостей и каждая часть знала полосы своего наступления; когда морская и полевая пехота, расположенная на полуостровах Рыбачьем и Среднем, ликовала в предвкушении великого часа, — отдельный батальон морской пехоты, стоявший на левом фланге, получил приказ о смене.
Люди жили здесь долгие месяцы и годы в болотах, в трещинах скал, в складках известняка, в изломах шиферных плит, под круглосуточным обстрелом и бомбежкой. Известия о наступательных операциях других фронтов они воспринимали с неподдельной завистью. И вот в тот момент, когда наступление и здесь, в этом далеком медвежьем углу, стало реальным делом, их внезапно отзывали.
Генерал, командовавший войсками на полуостровах, сказал командиру батальона:
— Имейте в виду, Акимов. Ничего не сообщайте своим людям до самой смены. Так будет лучше.
Комбат усмехнулся, но генералу эта усмешка показалась вовсе неуместной, и он строго сказал:
— Поняли?
— Понял, — ответил комбат. Легкая усмешка все еще не сходила с его лица. Он спросил: — Не знаете, товарищ генерал, куда нас?
Генерал ничего не ответил, словно не слышал вопроса.
Покинув блиндаж генерала, Акимов отправился к себе в батальон, на передний край.
Он шел, насвистывая песенку, с легким сердцем, как некогда в детстве, когда отправлялся с ребятами в лес ловить птиц. Они шли с банками из-под консервов, полными живых тараканов и червей, и с самодельными лучками для ловли. Укрывшись в кустах тальника, они слушали соловьиную песню, восхищались ее «коленами», зачарованным шепотом называя каждое колено его принятым в народе именем: «почин», «клыканье», «желна», «пленьканье», «лешева дудка», «водопойная россыпь»…
Вообще он часто ощущал себя совсем молодым в последнее время. Это ощущение появилось в нем после получения от Анички ее первого письма. Он никогда раньше не думал, что несколько страничек бумаги, исписанных круглым женским почерком, способны сделать переворот не только в настроении человека, но и в его физическом самочувствии. Как ни странно, он чувствовал себя теперь просто здоровее и моложе, не говоря уже об усвоенной им постоянной и ровной благожелательности к людям.
Он читал это первое письмо на палубе своего катера после возвращения из очередной операции. Никто, казалось, не обращал на него внимания, и он краснел и бледнел, замирая от острого счастья на каждом слове. Потом он прочитал письмо еще раз и спрятал его в карман. После этого он постоял неподвижно не меньше трех минут и опомнился, только услышав дружелюбный голос одного из матросов, сказавшего не то вопросительно, не то утвердительно:
— Дома оказалось все в порядке, товарищ командир?
Акимов посмотрел на этого человека. Его звали Матюхин, он был родом из Кронштадта. На его лице рыжели крупные веснушки. Это круглое веселое лицо показалось Акимову необыкновенно милым, а вопрос Матюхина неожиданно раскрыл глаза Акимову на то, что люди его экипажа гораздо более тонкие наблюдатели, чем он думал раньше.
На следующий день Акимов получил второе письмо, затем письма стали приходить регулярно. Если вначале Акимов был вполне поглощен своей радостью, то позже не мог не осыпать себя жесточайшими упреками. «Каким же надо быть маленьким и гнусным человечком, — думал он, — чтобы думать об Аничке то, что я думал раньше!» Он твердил себе, что честнее всего было бы написать ей, что она полюбила человека нехорошего, полного самых отрицательных черт и недостойного ее.
Он не понимал, откуда в его сердце возникла слепая и ярая сила, которая настолько поработила его ум, что он был готов отречься от Анички. Правда, он теперь вдруг понял, что, несмотря на все свои мучительные подозрения, он все время где-то в душе был тем не менее глубочайшим образом убежден в ее верности и душевной чистоте. Поразительно, что эта глубокая уверенность, жившая в нем, могла существовать рядом с самыми тяжелыми сомнениями.
К Матюхину он очень привязался. Позднее, когда его перевели на Рыбачий в морскую пехоту, он взял Матюхина с собой вестовым.
Вообще после получения Аничкиных писем он стал мягче и внимательнее к людям. Он стал больше интересоваться личными делами матросов. Если раньше они говорили между собой, что их командир «строгий и справедливый», теперь они говорили о нем короче: «хороший».
Он все это прекрасно замечал и даже задавал себе вопрос: где сильнее дисциплина — там, где командир строг, или там, где он требователен, но добр. И пришел к выводу, что на катере моряки слушались каждого его слова потому, что они были, во-первых, людьми долга, во-вторых, боялись командира; здесь же, в батальоне морской пехоты, — потому, что были людьми долга и боялись огорчить командира.
Дисциплина второго рода была выше.
Командный пункт батальона располагался в известковой скале, в пещере. Вестовой Матюхин, увидав комбата, широко улыбнулся и встал с места, но принять положение «смирно» не смог — пещера была для этого слишком низка.
— Садись, еще стукнешься от излишнего усердия, — наполовину ласково, наполовину насмешливо сказал Акимов и вошел в пещеру.
Матюхин пытливо взглянул на комбата, но не решился спросить, по каким делам командира вызывало начальство. Он уже хорошо изучил характер Акимова и знал, что тот в лучшем случае отделается ничего не значащей шуткой, например:
— В пехоте ординарцы не такие болтуны.
Матюхин любил слушать рассказы комбата о боях на Большой земле и о солдатах, воюющих там. В минуты затишья Акимов — чаще всего лежа вспоминал бои за Ельню и Смоленск и тяжелые времена 1942 года на Кавказе.
— А где вам больше нравится, в пехоте или тут, на море? — спрашивал Матюхин.
— Ну как тебе сказать? — задумчиво усмехаясь и как будто о чем-то вспоминая, отвечал Акимов. — В бою на суше веселее. Все-таки там под ногами земля, ямку выкопаешь и сидишь. Кроме того, тут лес, там рощица, рядом ржаное поле — замри и жди команды. Вот ты моряк, вырос на Балтике, что ты знаешь? Море, гавань — и все. Море да море — а что такое море? Если подумать, то это только много воды, да и то соленой. А суша — штука разнообразная, пестрая, там и горы, и холмы, и луга. А какие перелески! А какие опушки! Глазу интересно. — Он все усмехался и кончал так: — Хорошо там, где нас нет. А вспоминать все приятно.
Окидывая взглядом пещеру, Матюхин размышлял о том, что вот скоро и это кончится и будет казаться приятным воспоминанием. «Интересно, что ему там сказали в штабе, скоро ли ударим?» — думал Матюхин, искоса поглядывая на комбата.
Все выяснилось позднее, когда пришли три пехотных офицера, прибывших из части, которая должна была сменить батальон Акимова. Часть эта оказалась штурмовой инженерной бригадой.
Саперы с любопытством и удивлением оглядывались.
Пещера уходила в глубь скалы. Голоса звучали здесь странно, гулко, эхо разносило их, ударяло о выступы и стены и приносило обратно измененными. На естественных полочках, которые, казалось, были специально выбиты в известняке, лежали в образцовом порядке предметы военного обихода — котелки, противогазы, ручные гранаты. У одной из стен стояла превосходная никелированная койка комбата. Ниже висели барометр и богато украшенный немецкий секстан. Пол был устлан резиновыми ковриками явно корабельного происхождения. Столик и несколько стульев — тоже все морского образца.
Дальше в глубину пещера была застелена тюфяками, на которых спали матросы штаба батальона. Там, в густом мраке, горела самодельная лампочка, кто-то двигался, тихо разговаривал. Хотя между «кубриком» — помещением матросов и «кают-компанией» — помещением офицеров не было никакой перегородки, но существовала условная, воображаемая перегородка, и когда из темноты к этой условной границе подходил матрос, он неизменно спрашивал:
— Разрешите?
Акимов, заметив удивление саперов, сказал:
— Что, понравилась наша пещера? Мы постарались обставить ее получше. Это мой вестовой, или как там по-вашему — ординарец, что ли? — большой специалист по части уюта.
Матюхин разливал чай для офицеров из огромного жестяного чайника в такие же большие кружки. Он глядел на саперов настороженно и даже враждебно. «Пришли на готовое», — бормотал он, громко стуча кружками.
Самый молодой из прибывших, худенький инженер-капитан, изумленно покачивал головой.
— В первый раз тут, на Рыбачьем? — спросил его Акимов.
— Он вообще на Севере впервые, — ответил за капитана инженер-подполковник. — Недавно из Москвы. И, как на грех, попал в сплошную ночь.
— Да, — подтвердил инженер-капитан. — Это очень странно. В книгах все кажется естественно, а посмотришь на самом деле — странно.
— Чаще бывает наоборот, — коротко рассмеялся Акимов, потом, внимательно взглянув на инженер-капитана, добавил: — Ничего, привыкнете, и вам здесь понравится. Небось еще писем из дому не получали?
— Не получал, — удивился и слегка покраснел инженер-капитан.
Непринужденно беседуя с саперами, Акимов на самом деле испытывал чувство тревоги. Вначале он сам не отдавал себе отчета, что именно тревожит его, но позднее понял: воспоминание о смене частей в прошлом году, под Оршей.
— Все это имущество, — начал он неторопливо рассказывать, — с затопленного немецкого тральщика. Наши торпедные катера его подбили, а береговая артиллерия добила. Он возьми и затони неподалеку, почти возле нас. Тут мы сорганизовали свой собственный «эпрон». Мои морячки стали доставать со дна Баренцева моря то сундук, то стол, то койку. Вот и секстан притащили. В общем, массу ненужных вещей. Ясное дело, больше всех отличился вот этот орел, Матюхин. Он даже бочонок какого-то древесного спирта выудил. Решил меня побаловать. Ну, спирт я его заставил вылить в море. Теперь там, наверно, вся рыбка передохла.
Матюхин покраснел до корней волос. Все засмеялись.
Акимов, рассказывая, все глядел исподлобья на инженер-подполковника, думая: «Вот сейчас возьмет и скажет: дескать, рассказываешь ты складно, но дело в том, что нам неясна группировка и численность войск противника, просим произвести разведку боем».
Но инженер-подполковник только по-детски похохатывал, потом поднялся с места и сказал:
— Ну спасибо, товарищ капитан третьего ранга… Мы пойдем к себе. Смену, как приказано, проведем в шесть утра.
— Тут совсем запутаешься с этим временем, — пробормотал инженер-капитан.
Когда они ушли, Акимов, по правде говоря, вздохнул с облегчением.
В пещере остались только свои офицеры — замполит капитан-лейтенант Мартынов и командиры рот — лейтенанты Козловский, Венцов и Миневич.
— Куда это нас, как ты думаешь? — спросил Мартынов.
Остальные сидели, нахохлившись, сокрушенно качали головами. Неожиданный приказ о сдаче участка казался всем странным, непонятным и несправедливым.
Акимов сказал:
— Не знаю я, ничего не знаю. Думаете, не спрашивал? Спрашивал. Генерал молчит. Может, сам не знает. Одним словом, записывайте маршрут и прощайтесь с Рыбачьим. Проверьте все до последнего хлястика. Почистить оружие и побрить всех.
Усмехаясь про себя, глядел Акимов на хмурые лица своих офицеров и испытывал успокоительное чувство от сознания, что он уходит отсюда не один, а с ними, вот этими людьми, которых он успел полюбить за короткий срок совместной службы. Это было куда приятнее, чем уйти одному, как он уходил, например, из полка майора Головина, с морского охотника Бадейкина и потом — из звена морских охотников, которым командовал в последнее время.
Может быть, это ему казалось теперь, но морские пехотинцы нравились ему больше, чем просто пехотинцы, и больше, чем просто моряки. Дело в том, что они были и теми и другими. В них была особенная спаянность, порывистая удаль, гордость своей причастностью к морю, внешняя и внутренняя культура, свойственные морякам, и в то же время — основательность, настойчивость, гордость тем обстоятельством, что именно они своим продвижением по земле решают успех сражения, трезвая и расчетливая храбрость, свойственные пехоте.
Прибыв сюда полтора месяца назад, Акимов должен был признать, что он ничего подобного по трудности условий жизни раньше не видывал. И все-таки морские пехотинцы имели на редкость молодцеватый вид. Здесь стояло войско обстрелянное, прокалившееся на северном ветру, насквозь просоленное морем, связанное безупречной морской дружбой, шагающее по скалам и пятнистой тундре вразвалку, как по корабельной палубе.
Мартынов, потомственный моряк-ленинградец, очень высокий, очень худой, с вечной трубкой в зубах, с широкими, прямыми, даже чуть приподнятыми кверху плечами, был всегда сдержан и спокоен, аккуратен, чисто выбрит и вымыт. Принадлежности его туалета вызывали удивление: там были разные щеточки и щетки, губки и мыльницы, — все это блестело никелем и белыми костяными ручками. Его вошедшая в поговорку опрятность была так непохожа на интеллигентскую небрежность в одежде покойного Ремизова! И все же Акимов находил в них нечто родственное: прямолинейную, но безграничную до самозабвения преданность общему делу и умение страдать молча.
Козловский был невысокого роста, но очень складный смуглый юноша, с живыми глазами и маленькой изящной головкой на длинной юной шее. Венцов, напротив, был плотный, широкоплечий, безбровый крепыш с толстыми добрыми губами. Нервное тонкое лицо Миневича с черными усиками и фатовскими бачками все время подергивалось.
Все они, как и другие морские пехотинцы, были одеты в шинели армейского образца, но что-то неуловимое выдавало их принадлежность к сословию моряков. Их мечтой было вернуться на корабли, но, пока это не могло осуществиться, кораблем был для них и этот полуостров, и эта пещера, и вообще весь мир. Миневич — тот даже носил на шапке пехотинца морскую эмблему, так называемого «краба» с золотым якорем.
Выпив чаю, лейтенанты отправились к себе в роты. Акимов с Мартыновым тоже собрались туда, но их задержало появление ближайшего соседа по участку — капитана третьего ранга Селезнева. Ему жаль было расставаться с Акимовым — он уже прослышал о смене, — и он выглядел очень грустным, но тем не менее стал отбирать из «оборудования» акимовской пещеры то, что могло пригодиться ему и что он вовсе не желал оставлять саперам.
Акимов сказал:
— Ладно, ты тут смотри, что тебе нужно, а я пошел в подразделения.
Передний край располагался вдоль скал, один опорный пункт соединялся с другим головокружительными тропками, по которым вились телефонный провод и толстая веревка. Этих веревок по всему переднему краю тянулось множество, так как в темноте полярной ночи можно было попасть туда, куда требовалось, только держась за них.
Но теперь был полдень, то короткое время, которое служило единственным напоминанием о том, что где-то существует дневной свет.
Стоя у обрыва, Акимов услышал внизу, среди груды камней, недовольные голоса.
— Уж знают, — сказал Акимов.
Заслышав шаги и узнав комбата и замполита, матросы замолчали.
Акимов позвал:
— Туляков!
— Есть! — отозвался главстаршина Туляков и повернул к командиру серьезное лицо с очень черными густыми бровями.
— Что, загрустил?
— Немножко, товарищ капитан третьего ранга. Жаль, конечно, уходить отсюда перед наступлением. Я здесь три раза свой день рождения справлял, в этих скалистых горах. Тут состарился, можно сказать.
— И я здесь третий год, — сказал старшина 1-й статьи Егоров. Он сверкнул глазами и, показывая рукой в сторону противника, неожиданно с яростью произнес: — Ух, проклятый! Мечтал я — доберусь до тебя наконец, рассчитаюсь за все три года… — Его большая узловатая рука сжалась в кулак и, ослабев, опустилась вниз. Он взглянул на Акимова, застенчиво улыбнулся и пояснил: — Я все ихние повадки изучил, некоторых даже личность запомнил.
Старшина 2-й статьи Гунявин спросил откуда-то издали, из полутьмы:
— А не знаете, куда нас? В резерв, что ли?
В этом вопросе послышалась такая неподдельная тревога, что Акимов улыбнулся и сказал:
— Зря беспокоитесь, ребята. Вола в гости зовут не мед пить, а воду возить.
Все засмеялись.
— Этот скажет… — одобрительно прошептал Егоров.
Не без гордости глядели бойцы снизу вверх на крупную фигуру своего комбата. Они успели полюбить его и нередко хвалились перед бойцами из других батальонов:
— У нас комбат воевал в пехоте под Москвой и Смоленском. С ним не страшно.
Акимов пошел дальше. На повороте тропинки он остановился и поглядел на немецкий передний край. Горный хребет Муста-Тунтури возвышался за перешейком. Сплошное нагромождение почти отвесных скал, — по крайней мере отсюда казалось, что они непреодолимы. Простым глазом можно было различить вражеские укрепления, многоярусные полосы каменных и железобетонных огневых точек.
Глядя на эту мощную оборону, Акимов вспомнил о том, как он год назад под Оршей глядел из амбразуры на захваченную немцами белорусскую землю и мечтал пойти вперед и вперед, чтобы освободить стонущую под игом захватчиков Европу. Эта мечта в то время казалась страшно далекой. Теперь наши войска стояли на западе под Варшавой, а на юге сражались в Румынии, Югославии и Венгрии. Здесь, на севере, не настала ли очередь Норвегии?
— А как ты думаешь, куда нас пошлют? — неожиданно спросил Акимов, обращаясь к Мартынову. Не дожидаясь ответа, он пристально посмотрел на Мартынова и проговорил: — А я вот думаю, что в десант.
Мартынов встрепенулся:
— А почему ты думаешь, что в десант?
— Больше некуда. Если я не ошибся, то мы через пару деньков окажемся в тылу у всех этих горцев из Тироля и Штейермарка.
— Вот как? — озабоченно произнес Мартынов. Подумав, он сказал: — Не нужно пока о твоих предположениях рассказывать матросам.
Акимов махнул рукой.
— Матросам? — переспросил он. — Они все сами поймут, если уже не поняли. От солдата разве что-нибудь скроешь?
По переднему краю шла негромкая суета, лязгало оружие, раздавались нетерпеливые голоса ротных старшин. Люди спешили завершить все приготовления в светлое время, которое уже кончалось. Темнело быстро, и когда Акимов вернулся к пещере, густая темнота окутала все кругом.
Селезнев уже собирался уходить.
— Секстан возьми, — сказал Акимов.
— А зачем?
— Хороший. Жалко бросать. Будет тебе память.
— Ладно. Спасибо. Пришлю своих парней за имуществом.
— Смотри поспеши, не то саперы захватят.
Тут в разговор вмешался Матюхин. Он негодующе сказал:
— А койку, товарищ комбат? Неужели мы койки оставим?
Акимов, прищурясь, ответил:
— Бери что хочешь, но учти — на своей спине все понесешь.
Это предупреждение сразу же образумило Матюхина, и он, хотя и не без сожаления, бросил прощальный взгляд на никелированную койку и на весь пещерный уют, который он создавал здесь с таким трудом собственными руками.
Это уже все прошло, уже становилось воспоминанием. А что будет впереди — неизвестно.
2
На следующий день в пещеру Акимова, где расположились саперы, явился Ковалевский. Он порядком устал, так как от самой машины тащил через скалы посылку с яблоками.
Узнав, что Акимов со своим батальоном ушел в неизвестном направлении, Ковалевский очень расстроился. Он собрался было отправиться обратно, но его заинтересовали саперы. Поговорив с ними, он сел на корабельную койку писать про них корреспонденцию. «Эти саперы, хотя они и не моряки, тоже удивительно храбрые люди», — растроганно думал он, быстро водя карандашом по страничкам блокнота. Потом он пошел в соседние части морской пехоты, по дороге попал под сильный обстрел противника, полежал в обнимку с Аничкиной посылкой полчаса под огнем и, благополучно выбравшись оттуда, встретился с известным во флоте главстаршиной. Героем Советского Союза, о котором давно мечтал написать очерк.
Разговор с ним занял часа три. Затем Ковалевский пообедал в одном из полков сухарями и жидким супом и собрался уходить, но узнал, что береговая батарея, расположенная неподалеку, на днях потопила немецкую самоходную баржу. Материал показался ему интересным, и он отправился туда. По дороге он и сопровождавший его солдат попали под пулеметный обстрел и еле выбрались.
Ковалевский считал себя отъявленным трусом и очень страдал от этого. Тысячу раз за день душа его уходила в пятки, но он все-таки упрямо полз туда, где его ожидала интересная встреча, важный разговор — все то, что он называл «материалом».
Бледный после пережитых волнений, он усаживался с солдатами, записывал, расспрашивал, завидовал их спокойствию и не замечал, что солдаты глядят на него одобрительно: «Молодец корреспондент, забрался к нам на самую передовую». Ему казалось, что они видят насквозь все то, что творится у него в душе. Впрочем, они, может быть, это и замечали, но не только не осуждали его, а, наоборот, с уважением и даже некоторым удивлением думали: «Пищит, а лезет».
Покончив со своими делами, Ковалевский снова взвалил ящик с яблоками себе на плечо и стал пробираться обратно к ожидавшей его машине. Под прикрытием скал, далеко от передовой, он повеселел и приободрился. Но здесь он встретил знакомых офицеров, только что вернувшихся с экстренного совещания у командующего флотом. Они сообщили Ковалевскому, что на следующее утро начинается наступление — прорыв на Муста-Тунтури. Ковалевский сразу же вернулся обратно, сдал ящик с яблоками на хранение в баталерку одной из частей морской пехоты и, замирая от волнения, приготовился смотреть и записывать.
На передовой было тихо и темно. И вдруг все вскочили со своих мест: не очень далеко на северо-западе послышалась артиллерийская пальба, а в промежутках — частая пулеметная дробь.
— Это где, это где? — заволновался Ковалевский.
Капитан третьего ранга Селезнев схватил планшет, посмотрел на карту и сказал:
— Да. Фьорд Маттивуоно. Не иначе, наш десант там высадился. Там и Акимов, ручаюсь!
У Ковалевского сжалось сердце — он достаточно ясно представлял себе, что значит десант в тылу противника, и не мог не вспомнить Аничку Белозерову и ее ребенка.
Немцы на Муста-Тунтури, услышав гром сражения за своей спиной, начали на всякий случай бешено обстреливать советские позиции на полуострове Среднем. Но здесь наша артиллерия молчала, как будто на позициях все уснули. И только позднее, через несколько часов, когда командование убедилось в полном успехе высаженного десанта, артиллерия, сосредоточенная на Рыбачьем и Среднем, начала свое наступление.
Артподготовка продолжалась полтора часа, затем стрелковые полки и части морской пехоты поднялись в атаку. Горноегерские войска генерала Рендулиц не оказали серьезного сопротивления, и хребет Муста-Тунтури вскоре покрылся лезущими вверх, цепляющимися за уступы скал советскими солдатами, осветился вспышками гранат и огласился торжествующими криками «ура».
Прибывшие вскоре офицеры штаба корпуса сообщили Ковалевскому, что десантные части перерезали дорогу на Поровара и тем самым привели в смятение немцев на Муста-Тунтури, что и решило успех прорыва.
Это было 10 октября.
Войска хлынули в западном направлении. Ковалевский сел в машину, которую к нему прикрепили по личному распоряжению командующего флотом, и, с трудом лавируя среди множества грузовых машин, вездеходов и артиллерийских орудий на гусеницах, поехал вслед за наступающими частями.
Несмотря на все события, он не забывал и о поручении Анички и спрашивал у каждого встречного-поперечного, где Акимов. Оказалось, что батальон Акимова действительно высадился вместе с другими частями у фьорда Маттивуоно, но где находятся десантные части теперь, никто толком не знал. Ходили слухи, что в ночь на 13 октября флот высадил десант морской пехоты вблизи военно-морской базы Линахамари. Моряки овладели этим портом и таким образом лишили немецкое командование возможности вывезти свои части из Линахамари морем. Может быть, Акимов находился там.
Наступающие войска продвигались довольно медленно, так как дорога тянулась по голому плоскогорью, покрытому разбросанными здесь и там кучами камней и изобиловавшему трясинами и болотами. За передовыми подразделениями шли инженерные части, которые прокладывали путь машинам и орудиям через эту убогую, болотистую тундру.
Часто машины застревали в трясинах, их быстро разгружали; снаряды уносили на плечах к ушедшим вперед пушкам, а машины выволакивали на руках из грязи. Беспрерывно шел дождь и снег, было холодно и сыро. Несколько раз застревала и машина Ковалевского, и он врывался в строй какой-нибудь идущей неподалеку части с требованием помочь ему вытащить машину. Солдаты шли к нему на помощь без особой охоты, удивляясь, по какой такой причине старший лейтенант разъезжает на легковой. Но стоило ему заявить о том, что он корреспондент, как они дружно брались за дело — им было приятно, по-видимому, то обстоятельство, что некто со стороны видит их тяжелый труд и сумеет все это сделать, может быть, достоянием множества людей где-то там, на дальнем юге. Москва тут тоже считалась дальним югом.
Ковалевский разыскал военный телеграф штаба корпуса и передал полную восклицательных знаков корреспонденцию. Она начиналась словами: «Моя машина движется среди наступающих войск. Впереди — Печенга».
Печенга, или, как ее называли ранее по-фински, — Петсамо, уже была действительно близко. Окутанная туманом низина содрогалась от гула. Привезли на машине трех немецких пленных, очень пришибленных, измученных. Это были жители Тироля, прошедшие выучку в Альпах под руководством Шернера и Дитля. Они теперь имели жалкий вид, совсем не тот, что в начале кампании, именуемой в документах германского генштаба операцией «Голубой песец».
Потолковав с ними тут же возле машины, Ковалевский быстро набросал и передал по телефону очередную корреспонденцию, которую начал словами: «Вот они, „герои“ Крита и Нарвика! Они медленно идут по тундре, низко опустив головы…»
На следующий день после взятия Петсамо Ковалевский был уже там. Он расспрашивал генералов и солдат, беседовал с моряками и пехотинцами. Ему казалось, что весь мир смотрит теперь на север.
Петсамо! Это было место, где базировались немецкие корабли, отсюда налетала вражеская авиация на многострадальный Мурманск. Теперь это место, казавшееся раньше таким опасным и недосягаемым, находилось в наших руках.
Ковалевский приютился при штабе одной бригады и написал несколько корреспонденций. Первая из них начиналась словами: «Моя машина медленно едет по улицам освобожденной Печенги».
Истины ради следует сказать, что никаких улиц тут не было, а была одна-единственная улица, вернее — дорога, вдоль которой стояли редкие, раскиданные здесь и там деревянные строения.
О посылке для Акимова Ковалевский забыл, а вспомнив, почувствовал угрызения совести и побежал к находившемуся в городе представителю флота, чтобы узнать, где же наконец он может увидеть Акимова.
Ему сказали, что скорее всего Акимов находится в районе Линахамари. Ковалевский собрался туда, но тут выяснилось, что посылка с яблоками уплыла: часть морской пехоты, в которой она хранилась, пошла по направлению к норвежской границе.
— Ах, какой ужас! — воскликнул Ковалевский.
Эти яблоки стали его манией. Ему очень хотелось привезти их Акимову, обрадовать его, услышать слова благодарности. Еще бы: свежие яблоки на севере!
Он предвкушал удовольствие, которое доставит Акимову, и горькую радость, которую сам он, Ковалевский, испытает, рассказывая Акимову об Аничке, о маленькой Кате, о том, как хорошо Аничка выдержала экзамен в институт и как сильно любит она Акимова.
Решив, что эти известия все-таки важнее яблок, Ковалевский поехал в Линахамари, но Акимова уже там не застал: за несколько часов до этого десантные части снова были погружены на корабли и ушли в море, в неизвестном направлении.
3
Морская пехота по приказу Военного совета погрузилась на десантные корабли, с тем чтобы высадиться — в третий раз за последние дни — в тыл и фланг немцам, но уже на норвежскую территорию.
План десантной операции был таков: впереди следовало десять катеров-охотников с передовыми отрядами. Следом за ними, примерно на расстоянии десяти миль, шел первый эшелон — отряд сторожевых кораблей и отряд тральщиков по десять вымпелов каждый, а еще в десяти — двенадцати милях позади — второй эшелон.
Погрузка происходила в полной тишине. Только поскрипывали сходни да позвякивало оружие.
Перед самой погрузкой приехал командующий флотом. Он прошел по берегу в сопровождении своих штабных офицеров от батальона к батальону, от роты к роте. То тут, то там вспыхивали карманные фонари, освещая адмиралу дорогу.
Подойдя к батальону Акимова, адмирал спросил своим картавящим говорком, известным всем морякам Севера до последнего кока:
— Кто здесь грузится?
Акимов отдал установленный рапорт. Командующий в сопровождении Акимова обошел морских пехотинцев, поговорил с ними и собрался идти дальше, потом внезапно зажег фонарик и осветил лицо Акимова. Рябоватое открытое лицо комбата было сосредоточенным и суровым.
Вдруг адмирал спросил:
— А не хочется вам обратно на корабль?
Акимов удивился. Ему показалось, что когда-то, неизвестно когда, он слышал обращенный к нему точно такой же вопрос, произнесенный тоже в темноте и тоже при свете карманного фонарика. Но он не мог вспомнить, было ли это на самом деле или ему только мерещится, что было.
— Командованию виднее, — ответил он уклончиво.
Адмирал выключил фонарик. Сразу стало очень темно. Помолчав, он сказал:
— Держитесь, Акимов. Вот еще эту операцию проведете, и я вас заберу обратно. Повоевали на суше — и довольно. Договорились?
— Есть, — сказал Акимов. И вдруг, пожалев адмирала, голос которого звучал устало и озабоченно, добавил: — Вы не беспокойтесь, товарищ командующий. Мы все сделаем.
Адмирал порывисто пожал руку комбата и, не сказав больше ни слова, пошел дальше вдоль берега. Свет карманных фонариков вскоре потерялся вдалеке.
Акимов подошел к предназначенному для него катеру-охотнику. На этом катере с ним должна была грузиться рота Козловского. Остальные роты шли в первом эшелоне.
Погрузка шла уже полным ходом. Матросы с катера в темноте негромко командовали пехотинцами, распределяя их по кубрикам.
Кто-то из матросов добродушно говорил.
— Не забудь, Сережа, поставить чумички и ведра, а то начнут травить, заблюют нашу коробку. Море шквальное.
— Не бойся, не заблюем, — отвечал так же добродушно кто-то из пехотинцев. — Видали мы коробки почище твоей.
— Видали, видали. Брось курить, вот тебе и видали…
— Хе-хе…
Взойдя по сходням, Акимов с минуту поглядел, как его люди скрываются в люке и размещаются на палубе, потом пошел к мостику — познакомиться с командиром катера. От такого знакомства и, по возможности, дружеских отношений с хозяином десантного корабля во многом зависел успех высадки.
У самого входа на мостик Акимов столкнулся с кем-то из экипажа и, всмотревшись, узнал по грузной фигуре и пышным усам боцмана Жигало.
— Жигало! Иван Иванович! — воскликнул Акимов, все еще не веря своим глазам.
— Павел Гордеевич! Ей-богу, Павел Гордеевич!
Жигало крепко пожал протянутую ему руку и сказал:
— Ну и обрадуется наш-то!
Акимов быстро поднялся на мостик и заключил в свои объятия маленького лейтенанта, который от волнения даже стал заикаться и только повторял:
— Вот не ожидал…
Они не успели ни о чем поговорить, как был дан сигнал о выходе.
Шторм достигал семи баллов. Катер-охотник кидало, как щепку. «Баренцева бочка» выпустила на десантные суда всех своих чертей и водяных. Все это выло, визжало и исступленно кидалось на корабли.
Стоя рядом с Бадейкиным, Акимов время от времени вытирал рукой мокрое лицо и весело взглядывал на маленького командира. Тот с улыбкой, так необычайно украшавшей его плоское лицо, тоже посматривал на Акимова.
— Похудели! — крикнул Бадейкин.
— Что? — не расслышал Акимов за ревом ветра.
— По-ху-де-ли!..
— Нины Вахтанговны со мной не было!
— Хе-хе…
— Поздравляю! — крикнул Акимов.
— Чего?
— Не заметил раньше! С повышением, товарищ старший лейтенант!
— Спасибо! — улыбнувшись, сказал Бадейкин.
— Чего? — не расслышал Акимов.
— Спасибо-о-о-о!
Акимов рассмеялся:
— Ну и погодка!
— Где лучше? — изо всех сил прокричал Бадейкин. — У нас или в пехоте?
— Везде лучше! — захохотал Акимов, потом, наклонившись к Бадейкину, крикнул ему в самое ухо: — Поздравьте и вы меня! У меня дочь.
— Чего?
— Дочь, дочка, Катей назвали!
— Поздравляю!..
Огромная волна положила кораблик на правый борт.
— Держись, ребята! — крикнул Акимов своим пехотинцам, заполнившим палубу. Его сильный голос перекрыл шум ветра, и к нему наверх обратились мокрые лица. Они успокоительно улыбнулись ему. Рулевой Кашеваров на секунду отвернулся от штурвала и посмотрел на Акимова. И опять Акимов вспомнил себя молодым. Он потрепал рулевого по плечу, рулевой улыбнулся, что-то сказал, но Акимов не расслышал. Он посмотрел на своих людей, стоявших на палубе, и, угадывая под черными шапками знакомые лица Тулякова, Матюхина, Гунявина, Егорова и других, подумал с несколько ревнивым чувством, что нынешние его подчиненные нисколько не хуже бадейкинских ребят и что с ними тоже можно делать большие дела.
От этих мыслей Акимова отвлекли знакомые очертания берегов. Темные скалы, отвесно спускавшиеся прямо в море, похожие как две капли воды на те скалы, которые были и раньше, чем-то неуловимым все-таки отличались от них. Это начинался Варангер-фьорд — тот самый, куда Акимов впервые плавал дублером на этом самом катере-охотнике. Вот там, немного дальше, катер высаживал Летягина с его разведчиками. Бадейкин тоже вспомнил об этом и, тронув Акимова за плечо, показал рукой на берег.
— Да, — сказал Акимов.
Он вспомнил, с каким содроганием думал тогда о том, как холодно и тяжко будет разведчикам на этом диком, неприветливом берегу. Сейчас ему самому придется высадиться здесь, и это вовсе не казалось ему таким уж страшным. Более того, вспомнив, что он высаживается на берегу чужой, но союзной страны, где местное население стонет под игом захватчиков, он с особенной гордостью почувствовал силу и значение того народа и тех вооруженных сил, к которым он принадлежал. В этот момент перед ним во всем своем величии предстал тот факт, что от Баренцева до Черного моря советские армии уже находятся за рубежами страны и что не только защита своего народа, а и освобождение других народов стало реальным, будничным, рабочим делом.
Акимов не мог не вспомнить свои комсомольские времена, овеянные не очень определенным, несколько абстрактным, но страстным и великодушным желанием освободить весь мир от произвола и угнетения.
Теперь мечта оделась в плоть и кровь, приобрела реальные очертания, разумеется, совсем другие, чем представлялось в юности, но тоже прекрасные. Действительностью были трепетание советского флага на мачте, гул мотора морского охотника, мерцание потаенных сигнальных огней, молчаливая сосредоточенность десантников на палубе, частый стук собственного не постаревшего сердца и темные очертания берегов чужой страны, ждущей избавления.
Эти берега все приближались, скалы становились все явственнее, все выше. Наконец охотники очутились меж двух горных гряд и вошли в неширокую горловину фьорда.
Хотя катера двигались без огней, при полном радиомолчании и даже перешли на подводный выхлоп мотора, но вскоре их с берега заметили, там появилась яркая вспышка, потом раздался гром выстрела, и неподалеку в море разорвался снаряд. С обоих берегов фьорда поднялась стрельба. Снаряды мягко шелестели над головами. Над фьордом зажглось несколько десятков осветительных ракет, медленно опускавшихся все ниже.
Бадейкин дал команду поставить дымовую завесу. Одновременно то же самое сделали и остальные охотники и тут же устремились к берегу, увеличивая этим движением глубину задымленной полосы. Фьорд покрылся стремительно крутящимися и вьющимися белыми дымами, так что ничего не стало видно кругом. А немецкие береговые батареи не переставая били наугад, и иногда среди дыма вспыхивали неясные багровые огни разрывов и к небу подымались необычайной красоты изумрудные столбы воды.
Бадейкин хорошо знал эти берега и не беспокоился о том, как приведет свой катер к нужной точке побережья. Он только остро тревожился за Акимова, ему было очень жалко товарища, которому предстоит бой, а потом продвижение в этой неуютной местности, где негде ни обсушиться, ни отдохнуть. «То ли дело у нас, моряков, — думал Бадейкин, вытирая со щек соленую воду, превращающуюся в лед, — не надо было ему уходить в пехоту».
В этот момент поступил сигнал о высадке.
Катера были уже у берега. Корабельные пушки и пулеметы дружно работали, очищая, по возможности, берег от неприятеля. Осветительные ракеты немцев лихорадочно прыгали вверх и плясали в небе. От них стало светло, и бурное море, брызги прибоя, перекошенные лица матросов — все вырисовывалось очень отчетливо, хотя резкие тени делали все это более пронзительным и мрачным, похожим на моментальную фотографию.
Рядом разорвался снаряд, осколки завизжали воккруг. Станковые пулеметы затарахтели по сходням. Разорвался второй снаряд. Кто-то охнул. Кто-то упал в воду. Темные тени десантников метнулись со сходней и рассыпались по берегу. Третий снаряд упал еще ближе.
— Завести пластырь! — хрипло крикнул Бадейкин.
«В катере пробоины», — понял Акимов, но ему было уже не до того, все мысли его уже были на берегу, где вступали в бой его люди. Он даже не простился с Бадейкиным — забыл или не смог и, только ступив на сходни, на мгновение ощутил в сердце острую боль, чувство безмерной вины перед товарищем, которого он обязан был покинуть в беде.
Уже у самого берега его бросило в сторону взрывной волной. Он упал в воду и ухватился за выступ скалы. В ушах гудело. Ему вдруг стало жарко, и, оглянувшись, он увидел, что катер горит. Он рванулся было назад, но взял себя в руки и, проглотив едкую и горькую слюну, пошел вперед на берег. Последнее, что он видел на катере-охотнике, был боцман Жигало, который сидел у своего пулемета и бил длинными очередями по береговым укреплениям немцев, несмотря на то что сзади его горело, шипело, взрывалось.
4
— Вперед, вперед, — негромко и настойчиво повторял Акимов, продвигаясь все дальше. Рядом с комбатом полз Матюхин, а немного позади корректировщики с кораблей. Они ползли с радиостанцией, с тем чтобы направлять стрельбу корабельных комендоров по наземным целям.
Сухая и горькая злость распирала грудь Акимова. Он старался не оборачиваться, но, пригнувшись к земле и вдыхая незнакомые запахи чужого берега, не мог не учуять и того запаха горелой краски, который доносил до него ветер с фьорда. Среди гула стрельбы, рева прибоя, сопения ползущих рядом моряков, стука расставленных на флангах пулеметов он не мог не слышать позади себя скрежета, сильных всплесков, мелких взрывов, тревожных криков на тонувшем охотнике.
— Вперед, вперед, — говорил Акимов негромко, медленно продвигаясь к тому высокому месту, откуда он решил руководить боем. Здесь уже находился лейтенант Козловский. Отсюда Акимов осмотрел находящееся перед ним, отлого вздымающееся вверх поле боя, по которому ползли десантники.
Передние из них уже находились в кабельтове от берега, но теперь залегли. Десант захватил небольшой плацдарм, шедший правильным полукружием. Слева, там, где упрямо бил пулемет Тулякова, шел самый упорный бой. Находившаяся у подножия скалы хорошо укрепленная немецкая береговая батарея, по-видимому, имела сильное пехотное прикрытие. Стрельба оттуда становилась все ожесточенней.
Распорядившись, чтобы корректировщики сообщили на корабли об этой помехе, Акимов пополз вдоль фронта залегших пехотинцев.
— Товсь, — говорил он негромко, и моряки, услышав знакомое моряцкое слово, произнесенное голосом комбата, понимающе кивали головами.
По береговой полосе, а потом все ближе стали рваться мины из невидимых вражеских минометов. Их безобразное кряхтение рвало уши.
Акимов прислушался. Наконец корабельная артиллерия дружно ударила по левому флангу, там что-то вспыхнуло и загорелось.
При дрожащем свете пожара на мгновение стало видно все кругом: однообразные скалы, поросшие лишайниками и мхом, карликовые ивы, темные сарайчики на вершине скалы.
— Что ж, — сказал Акимов, вставая и вынимая из кобуры пистолет.
Матюхин поднял ракетницу и дал в небо одну за другой три красные ракеты.
Все встали вслед за Акимовым, и, как по уговору, рванули на груди гимнастерки, словно им было жарко. Матюхин не спеша вынул из кармана бескозырку и надел ее, а шапку также не спеша засунул за пазуху шинели.
Сколько раз аккуратист Мартынов сердито журил моряков за этот обычай, нарушающий воинскую форму. Они выслушивали его упреки, каялись и в первом же бою делали то же самое.
В грозном жесте морских пехотинцев было больше чем желание показать миру свои матросские тельняшки — примету моряков, то есть людей, не знающих страха. В этом жесте было и отречение от жизни, и гордое презрение к смерти.
— Впере-ед! — крикнул Акимов, сам опьяняясь страшным напряжением этого мига.
Все рванулись вперед. Морская пехота молча, без выкриков, но неодолимо и размашисто шла вверх по отлогому склону. Достигнув гребня скал и перевалив через него, матросы бросились вперед по плоскогорью бегом. Здесь стало очень темно — осветительные ракеты перестали взлетать, вероятно потому, что немецкие ракетчики бежали. Моря уже не было видно: оно пропало за скалами, и все, что находилось там, на море, — родные корабли, родные люди, родные флаги, возможность вернуться морем домой, все это казалось уже нереальным и очень далеким.
Акимов задержался на гребне, чтобы не терять из виду свои фланги и фьорд. Корректировщики снова развернули рацию. Матюхин дал ракеты, обозначавшие новый передний край. Все тяжело дышали. Мимо поползли раненые — они двигались к морю. Связные прибывали со всех сторон и, доложив обстановку, исчезали в темноте. Наступило затишье — фальшивая тишина, настороженная и пугающая. И сразу же снова стало светло от ракет.
— Начинается, — сказал Акимов.
Стрельба с немецкой стороны все разрасталась.
Слева бежал человек. Он то пригибался к земле, то снова подымался, и при свете ракет видно было, как блестят его глаза не то от страха, не то от озорства. Он еще издали крикнул, — казалось, весело:
— Жмет немец, мать его так… — Узнав комбата, он осекся, встал смирно по всей форме и доложил: — Противник контратакует, товарищ капитан третьего ранга! Туляков просит помощи.
Акимов с полминуты разглядывал его, но так и не узнал матроса — все его лицо было вымазано землей и кровью.
Глядя вперед, на пляшущие тени деревьев, Акимов спросил:
— Людей сколько осталось? — Так как матрос не отвечал, думая, что комбат обращается не к нему, а куда-то вперед, Акимов сказал: — Тебя спрашивают.
Матрос осмотрелся, потом подошел к Акимову вплотную и сказал ему почти на ухо:
— Мало.
— Пойдешь туда, — сказал Акимов Козловскому. — Возьми человек десять.
Лейтенант сказал «есть» и стал спускаться по скалам во главе своих людей. Надульные тормоза ручных пулеметов поблескивали на свету. Матрос с окровавленным лицом побежал впереди лейтенанта, странно подпрыгивая и что-то бормоча. Только теперь Акимов узнал в нем Егорова.
Опять стало тихо. Немецкие снаряды рвались у самого берега. «В чем дело?» — удивился Акимов и в это же мгновение услышал позади себя топот многочисленных ног.
— Акимов! — крикнул кто-то снизу, и через несколько минут подле Акимова почти упал запыхавшийся от бега капитан-лейтенант Мартынов.
— Прибыли, — сказал он.
Вокруг стало тесно от людей. Все гудело и кричало. Кинув прощальный взгляд на море, на стоявшие там корабли, мысленно попрощавшись с друзьями, живыми и мертвыми, Акимов пошел во главе батальона. Рев прибоя все отдалялся, пламя ракет уже казалось далеким заревом. Батальоны вытянулись по каменистой дороге, все более углубляясь в тесные дефиле незнакомого побережья.
Во время краткого привала Акимов собрал командиров.
— Егоров что, ранен? — спросил он.
— Ранен, но остался в строю.
— Буйков?
— Ранен, но остался в строю.
— Семенов?
— Убит.
— Левашов?
— Убит.
— Сотников?
— Ранен в голову, эвакуирован.
— Бойченко?
— Ранен, остался в строю.
Мартынов умывался, тщательно тер руки белой щеточкой с костяной ручкой. Его бритвенный прибор стоял на большом камне. Рядом на костре грелась вода для бритья.
Он сказал:
— Надо представить отличившихся к награде.
Акимов посмотрел вниз, на лежавших вповалку моряков, и усмехнулся:.
— Им сейчас не ордена, им бы поспать. Ох, как нужно поспать. — Он тяжело поднялся с места и сказал: — Брейся скорее. А вы давайте команду строиться. Пойдем на Киркенес.
Глава восьмая БЕРЕГ (окончание)
1
Города Киркенеса не существовало больше. Он был весь, дом за домом, сожжен и взорван войсками Гитлера перед их бегством. Угольные кучи, лежавшие всюду вдоль побережья, тоже подожженные немцами, тлели синими мерцающими огоньками, насколько хватал глаз. Все кругом, как на Смоленщине и в Белоруссии, пахло горьким и сладковатым запахом пожара и разрушения, мучительно знакомым запахом, который нельзя никогда забыть.
Всюду было очень тихо и мертво, и только каждые полчаса немцы, еще находившиеся на расположенном напротив города скалистом острове Скугеррее, тупо и упрямо выпускали по городу два-три пушечных снаряда. Снаряды взрывались на выжженных дотла улицах, вызывая гулкое эхо.
Акимов и его люди обошли молчаливым дозором пустынный город. Улицы угадывались только по торчавшим там и сям дымоходам да по чистеньким садовым заборам из стальной сетки или штакетника. Удивительно чисты и опрятны были улицы этого не существующего уже города, на которых валялась только бесконечная путаница цветного немецкого телефонного провода. На мысу должна была стоять обозначенная на карте церковь, в честь которой названо это место[15], но и церкви не существовало, от нее осталась лишь часть кладбищенской ограды.
Пошли влево к заводу «Сюд-Варангер». Одна из труб завода сохранилась, а другая валялась в виде огромной кучи кирпича. Здесь тоже было тихо. Ни живой души кругом.
— Все ясно, — сказал Акимов. — Тут побывали те же самые немцы, что и под Оршей. Узнаю ухватку.
— И те же, что под Ленинградом, — мрачно дополнил Мартынов, прислушиваясь к очередному бессмысленному артиллерийскому обстрелу.
Акимов связался по радио с командованием и получил приказание оставить в Киркенесе одну роту, а с остальными идти в поселок Бьерневатн, там расположиться и ждать дальнейших распоряжений.
Оставив на побережье роту Миневича и выделив ему боеприпасы и продовольствие на три дня, Акимов во главе батальона пошел опять через заваленные обломками улицы и, миновав их, вышел на дорогу.
Дорога шла к югу. Рядом, среди посыпанных снежной порошей тундровых болот, чернела узкоколейка, кое-где на ней сиротливо торчали одинокие тачки, ржавые и тоже присыпанные снежной крупой.
Поселок Бьерневатн пострадал меньше, чем Киркенес. На высоких флагштоках возле здешних домиков тут уже развевались норвежские национальные флаги — красные, разделенные на четыре поля большим синим крестом с белой окантовкой. Жители появились на улице и со сдержанным ликованием встречали советские части. Они жили в шахтах и щелях на окраине поселка. Солдаты и матросы сочувственно вглядывались в измученные, давно не мытые лица норвежцев.
Акимов разместил своих людей в длинном красном деревянном здании, по-видимому бывшей бане, и еще в трех домах, в которых до последней минуты размещались немцы, — по этой причине они не успели взорвать дома. Здесь сохранились нары и байковые одеяла военного образца.
Все, кроме дежурных, сразу же легли спать, даже не дожидаясь, пока батальонная кухня приготовит еду, неизвестно — завтрак, обед или ужин, так как люди потеряли счет времени.
Покончив со всеми делами по размещению людей, Акимов собрался было тоже поспать, но тут до его ушей, наполовину оглохших от многодневного гула артиллерии, дошел детский плач, раздававшийся где-то неподалеку. Акимов вышел на улицу. Матюхин, еле живой от усталости, не решился лечь, видя, что комбат не ложится, и пошел за ним. Акимов направился к шахтам. В глубине шахт слышались женские голоса, урезонивавшие плачущих детей.
Акимов вошел в темное отверстие подземного коридора. Увидев детей, он впервые почувствовал, что он отец, — раньше он это только знал, но не чувствовал. При свете карбидных ламп детские лица казались удивительно бледными, возбуждали жалость и тревогу за находящуюся далеко в Москве маленькую девочку. На стоявших молча у стен норвежцев Акимов теперь смотрел тоже не просто как на обездоленных захватчиками иностранцев, а как на людей, принадлежащих к тому же племени, что и он, Акимов, — к племени озабоченных отцов.
Они были почти все высокого роста, белесые, с обветренными лицами рыбаков и приморских жителей, одетые почти сплошь — в том числе и женщины — в цветные вязаные джемперы и лыжные брюки.
Акимов стоял в нерешимости, не зная, что делать, когда вдруг из глубины шахты к нему быстрыми шагами подошел человек в советской военной форме. Акимов узнал Летягина и, обрадовавшись, пошел ему навстречу.
— И вы здесь? — спросил Летягин. Его бледное лицо выразило живейшее удовольствие. Потом он показал рукой на все окружающее и печально проговорил: — Видите, что творится? Немцы все взорвали, рыбацкие суда и мотоботы угнали, так что норвегам даже нельзя рыбу ловить. Голодают.
Акимов, подумав, сказал:
— На первый случай могу накормить человек двести. У меня кухня на ходу.
Просветлев, Летягин сказал несколько слов норвержцам, и те быстро разошлись по шахтам, скликая женщин и детей.
Женщины и дети вмиг поднялись со своих мест и пошли вслед за Матюхиным к полевой кухне. Акимов не мог не заметить и не оценить того обстоятельства, что мужчины не пошли с женщинами, а остались на месте.
— Пусть и они идут, — сказал Акимов. Он усмехнулся: — Иисус, говорят, пятью хлебами целую дивизию накормил. Я побогаче его. У меня резервы большие: два дня воевали, почти не евши. — Помолчав, он мрачно заметил: Да и народу в батальоне поубавилось.
Акимов и Летягин медленно пошли вслед за норвежцами в расположение батальона. Повар, он же пулеметчик, Дерябин, толстый и добродушный, как и полагается быть настоящему корабельному коку, с помощью Матюхина реквизировал у спящих моряков все котелки и разливал не бог весть какую, но жирную и сытную пшенную кашу норвежским женщинам и детям. Завидев комбата, повар крикнул:
— А с хлебом как, товарищ капитан третьего ранга? Хлеба им давать?
— Давай, — сказал Акимов.
Он был очень доволен, что встретил Летягина. Разведчик был молчалив, но все, что касается севера Норвегии, он очень хорошо знал, бегло говорил по-норвежски и вообще чувствовал себя здесь, на чужой земле, как дома. Норвежцы тоже относились к Летягину по-особому, с очевидным доверием и дружелюбием. Многие знали его, видимо, с тех времен, когда он тут действовал в немецком тылу. Они изменили фамилию разведчика на свой лад и называли его «лет-егер», то есть «легкий охотник», вкладывая в это прозвище особый смысл.
— Где вы тут питаетесь? — спросил Акимов.
— Везде, — улыбнулся Летягин.
— А может, нигде? Переходите ко мне на довольствие.
— Спасибо, — сказал Летягин и обернулся: — Вот комендант сюда идет.
Комендант, седой армейский полковник, подошел в сопровождении старшего лейтенанта, с минуту поглядел на обедавших норвежцев и спросил у Акимова:
— Вы командир части?
— Я.
— Хорошо сделали.
Он представил Акимову старшего лейтенанта:
— Переводчик Логинов.
Переводчик был очень молодой человек в роговых очках, с живым и красивым лицом. Он сразу преисполнился симпатии к моряку, особенно когда узнал, что тот проявил такую хорошую инициативу. Полковник, снова с минуту внимательно поглядев на обедавших норвежцев так, словно впервые видел, как люди едят, отдал приказание, чтобы все воинские части, расположенные в поселке и вокруг, покормили местных жителей до подхода вторых эшелонов, когда можно будет наладить плановое снабжение продовольствием.
Логинов вскоре привел бургомистра, такого же высокого и белесого, как все остальные норвежцы. Бургомистр робел. Он прятался где-то в развалинах и не знал, что происходит в Киркенесе и вокруг города. Логинов с трудом разыскал его и не без торжественности передал ему, как представителю союзной администрации, гражданскую власть.
Летягин предложил коменданту и бургомистру зайти к местным жителям в шахты. Разведчик проявлял необычайную заботу о норвежцах и как бы в оправдание себе бормотал:
— Они славный народ, эти норвеги. Мне много раз помогали.
Снова поглядев на озябших детей, бедных женщин и мрачных мужчин, Акимов сказал, вздохнув:
— Придется уступить им дома, черт побери! — словно устыдившись своей мягкости, он досадливо добавил: — Опять солдатам жить в пещерах да землянках. А что поделаешь?
Полковник хмуро возразил:
— Нашим солдатам отдохнуть надо. Они тоже люди. — Минуту погодя он развел руками, его квадратное злое лицо вдруг приобрело выражение беспомощности и грусти, и он сказал: — А в общем, вы правы, майор. Как-то неудобно, нехорошо. Дети. Да, да, Логинов. Пишите распоряжение освободить все уцелевшие дома. Ладно.
Логинов тут же сообщил о решении коменданта бургомистру, который при всей своей сдержанности не мог не выразить удовольствия, смешанного с некоторым удивлением.
Акимов пошел к себе в батальон. Во всех домах и в бывшей бане спали его люди. Они лежали в разнообразнейших позах и тяжело дышали. Дневальный дремал у топившейся круглой железной печки. Один только Егоров услышал, как вошел комбат. Он открыл глаза, приподнялся с места и укоризненно произнес:
— Вы бы легли, поспали бы, товарищ капитан третьего ранга.
Акимов рассеянно сказал:
— Скоро лягу.
Егоров показал на свою тельняшку и, улыбаясь, проговорил:
— Разделся. Пожалуй, что в первый раз за два года в одном белье. Хорошо.
Акимов побагровел и отвернулся.
— Может, тебе перину и грелку дать? — сказал он хмуро и растолкал дневального: — Поднимай всех.
Все вскочили со своих мест и начали быстро одеваться.
Объяснив в кратких словах, зачем их будили, Акимов закурил и собрался уходить, но все не уходил, все медлил. Он настороженно вглядывался в лица моряков, молча надевающих шинели и скатывающих одеяла. Он искал в их лицах выражения неудовольствия, но, к своей радости, не находил ничего похожего, ни тени досады, ни намека на ропот. Они, несомненно, восприняли приказ как нечто само собой разумеющееся.
2
Акимов оставил за батальоном только помещение бани, где разместились кухня, столовая, нечто вроде клуба и батальонная канцелярия. Остальные дома были очищены, и в них вселились женщины, дети и старики.
— Вот мы и в подходящем для нас помещении, — усмехнулся Акимов, насмешливо оглядывая землянку, куда он перебрался вместе с другими офицерами. — Матюхин, наводи порядок.
Дерябин принес офицерам жареной рыбы.
— Свеженькая, — сказал он, улыбаясь. — Только что наловили.
Поели и улеглись спать. Кругом все стало тихо — матросы тоже спали. Только Матюхин не лег, он ушел куда-то, принес столик, несколько стульев, карбидную лампу, таз для умывания и даже полуобгоревщую ковровую дорожку, которую постелил у входа. Вскоре землянка приняла приличный вид упорядоченного фронтового жилья. Удовлетворенно улыбнувшись, вестовой тоже собрался лечь, но ему помешали: пришел переводчик Логинов в сопровождении пожилого норвежца.
Матюхин угрожающе зашептал:
— Тише. Спит комбат. Не спал целую неделю.
— Как же быть? — виновато сказал Логинов. — Нужно. Честное слово, нужно.
Пожилой норвежец оказался местным пастором и просил разрешения прочитать проповедь в помещении бани, поскольку это помещение являлось наиболее вместительным из всех оставшихся в поселке, уже не говоря о городе.
Акимов потер лоб и посмотрел мутными глазами на Логинова и норвежца, не понимая, где находится и что от него хотят.
Наконец он все вспомнил.
— Да мы же в Норвегии, — сказал он. — Значит, вы говорите, проповедь?
Мартынов, услыхав разговор, открыл глаза и вскочил на ноги.
— Нет, нет, нет, — сказал он, негодуя. — У меня там все украшено, портретами и лозунгами. Как же так — религиозная проповедь!
Акимов рассмеялся. Было действительно смешно смотреть, какие сердитые, почти ненавидящие взгляды бросал политработник на смущенно мнущегося в углу лютеранского священника.
— Нет, ты не смейся, — рассердился Мартынов. — Я не могу разрешить в краснофлотском клубе исполнение религиозных обрядов.
На этот счет завязалась короткая дискуссия, в ней живейшее участие принял и вестовой Матюхин, который высказался в том смысле, что «пусть молятся, у нас-де молиться никому не запрещают, кто хочет тот молится…»
— Глас народа — глас божий, — засмеялся Акимов.
Не прошло и часу, как в клуб начали собираться норвежцы с женами. Они чинно уселись на скамьи с молитвенниками в руках, а так как скамеек было мало, то многие стояли. Пастор пришел в длинном сюртуке. Его узкое и обветренное, как у рыбака, лицо было торжественно и несколько печально, как у всех духовных лиц на всем земном шаре во время богослужения, в том числе у ковровского попа, отца Василия, которого Акимов помнил с детства.
Пастор встал под портретами и начал говорить. Логинов остался слушать проповедь и потом сказал Акимову, что лучшую речь не мог бы произнести и агитатор. Пастор благодарил советских солдат и командование советских войск и призвал своих прихожан оказывать содействие этим войскам и молиться богу за освобождение всей Норвегии и за полный разгром нечестивых германских армий. После этого все запели какой-то гимн.
— Что ж, это неплохо, — успокоился Мартынов, — только зря он тут припутал бога.
После проповеди пастор в сопровождении бургомистра и еще двух, по-видимому, видных граждан пришел к Акимову поблагодарить за разрешение и за доброе отношение к населению.
Логинов представил их по-русски:
— Ульсен, учитель. А это Виккола, кулак, большая сволочь. С немцами сотрудничал. Скупщик трески и семги, оптовик, владелец всех здешних лавок.
Он говорил эти слова серьезно и громко, и Акимов еле сдерживался, чтобы не рассмеяться прямо в красное, надутое, смертельно серьезное лицо Викколы, неподвижное лицо, на котором только глазки бегали во все стороны.
Акимов, не будучи дипломатом, не пожелал ему подать руку, а только слегка наклонил голову. Подняв же ее, он взглянул прямо в глаза Викколы, и у того судорожно затрепетали веки.
— Боишься, толстяк? — спросил Акимов, и Логинов, чуть улыбнувшись, поспешил перевести эти слова на норвежский язык так:
— Чем могу служить?
Норвежцы начали говорить по очереди — сначала бургомистр, потом пастор, потом учитель, наконец Виккола. Этот говорил длиннее всех, говорил очень спокойным голосом, только его веки предательски трепетали.
— Он говорит, — перевел Логинов, — что счастлив приветствовать русские победоносные войска. Он говорит далее, что жители Киркенеса довольны окончанием войны и будут честно выполнять все указания его величества короля Хокона, норвежского правительства в Лондоне, а также советского командования. Он нахально заявляет, что рад освобождению от ига захватчиков. Большая сволочь.
Неизвестно, понял ли что-нибудь Виккола из этого перевода или, может быть, прочитал в глазах Акимова чувства сына и внука ткачей к кулаку и эксплуататору, но, уходя, он низко и подобострастно кланялся, упорно избегая глядеть в глаза советским офицерам.
Акимов с Логиновым вышли проводить норвежцев. Они обратили внимание на то, что поселок очень оживился. Из лесных убежищ, из расселин плоскогорья возвращались люди, мужчины и женщины с детьми, с велосипедами, с рюкзаками за спиной. Акимов, улыбаясь, смотрел на маленьких девочек, довольно нарядно одетых, в красных вязаных шапочках с помпончиками. Цепко держась за руки отцов и матерей или за седло велосипеда, они почти бежали, еле поспевая за широким шагом родителей, и, пока не исчезали из виду, все оглядывались с любопытством на русских.
Далеко на севере по-прежнему светились синие язычки пламени — все еще продолжали гореть угольные кучи.
Акимов повернулся к Логинову:
— Почему они не гасят уголь? Жалко, добро пропадает, а у самих в домах топить нечем.
Логинов сказал несколько слов бургомистру, тот помолчал, подумал, потом произнес:
— Дэ эр икке ворт.
— «Это не наше», — перевел Логинов, засмеялся добрым, чуть визгливым смехом и объяснил Акимову: — Уголь принадлежит не магистрату, а заводу. Придется нашим солдатам спасать их уголь.
Норвежцы ушли. Собрался уходить и Логинов, но тут показался еще какой-то старик норвежец, направившийся прямо к землянке. Увидев Акимова, он остановился на некотором отдалении и пристально на него посмотрел. Убедившись в чем-то, известном только ему самому, он подошел ближе и снял свою широкополую брезентовую шляпу. Седые волосы прямыми прядями упали на широкий лоб. Он заговорил неторопливо, монотонно и очень грустно, глядя светлыми немигающими глазами в пространство между Акимовым и Логиновым.
— У него моторную лодку наши ребята угнали, — сказал Логинов, покраснев. — Рыбак он, зовут его Коре Педерсен. От немцев, говорит, я ее укрыл, спрятал, а русские оказались ловчее, нашли. Некрасиво. Безобразие. Стыд и срам, честное слово.
Акимов вдруг рассердился:
— Сразу «стыд и срам»! Война ведь, тут города горят, а вы покраснели, как девица, — лодку, видишь ли, угнали… Можно подумать — ужасная катастрофа, конец света, на весь мир опозорились… — Посмотрев на старого рыбака, стоявшего молча и неподвижно со шляпой в руке, он осекся и угрюмо закончил: — Скажите ему, что мы разберемся.
Когда Логинов и старый Педерсен ушли, Акимов подумал, покурил, потом пошел к землянке, где располагались роты.
Люди спали, и очень не хотелось их будить из-за какой-то дурацкой, никому не нужной лодки. Он постоял, постоял, покосился на Егорова, спавшего в сапогах и шинели, повернулся уходить, но потом остановился и хрипло сказал дежурному:
— Буди.
Когда все были выстроены, Акимов спросил:
— Кто взял лодку?
С минуту длилось молчание, наконец вперед выступил главстаршина Туляков и хладнокровно переспросил:
— Это вы про какую лодку, товарищ комбат? Я брал лодку.
Акимов удивился.
— Зачем? — спросил он.
Туляков помялся с минуту, потом сказал:
— Рыбу ловили.
— Какую такую рыбу? Зачем рыбу?
— Для вас, товарищ комбат, — негромко сказал Туляков.
— Для меня? — Акимов побелел. — А почему вам кажется, старшина, что я без рыбы жить не могу? А? Вы меня жалеете, да? Хотели мне удовольствие сделать, а для этого опозорили меня и себя на весь мир? Где лодка?
— Я оставил ее там, где взял.
— Вольно, — сказал Акимов, обращаясь к матросам. — Разойдись.
Все не без чувства облегчения исчезли в землянках, оставив с комбатом одного Тулякова.
— Пошли, — сказал Акимов.
Они пошли, Туляков впереди, Акимов за ним. Шли долго, наконец справа показался узкий фьорд. Туляков уверенно шел вдоль фьорда, потом, постояв и подумав, направился к берегу. Здесь, в расщелине меж скал, стояла лодка.
Акимов спросил:
— Где ты ее взял? Здесь?
— Кажись, здесь.
Акимов огляделся. Немного выше по фьорду, шагах в трехстах, за низким заборчиком чернелась небольшая рубленая хижина.
Акимов пошел к хижине. На заборчике сушились сети. Акимов перешагнул через заборчик и постучал в дверь. Ему открыли. Девичий голос что-то спросил по-норвежски.
— Педерсен? — спросил Акимов.
Девушка ответила «я», то есть «да», — это слово Акимов знал, оно так же звучало по-немецки.
— Коре Педерсен? — спросил Акимов.
— Дэн гамельман эр утэ и шээн[16], - сказала девушка нараспев, неожиданно напомнив Акимову южнорусский говор.
— Гамельман! Что за гамельман? — сказал Акимов, почесывая за ухом. Придется за переводчиком сходить.
— Гамельман — это по-ихнему старик, — объяснил Туляков, чуть усмехнувшись.
Акимов обозлился:
— Ух, и грамотный же ты! Уже по-норвежски умеешь. А ты бы у этого самого гамельмана лодки не брал, вот это было бы лучше!
Он поманил девушку за собой и повел ее к скалам, где стояла лодка. Она шла вначале боязливо, но потом, увидев лодку, вскрикнула, обрадовалась.
— Вот, — сказал Акимов, обернувшись к Тулякову. — В следующий раз, если захочешь что взять, спроси у хозяина. И возврати ему в руки. Понял?
— Понял.
— Смотри. — Акимов двинулся в обратный путь. После долгого молчания он сказал: — Еще наделаешь международных осложнений, так что Наркоминделу придется писать объяснительные ноты. И из-за кого? Из-за главстаршины Ильи Тулякова, тысяча девятьсот двадцатого года рождения, члена ВЛКСМ. Нехорошо, Туляков. Иди.
Делая выговор Тулякову, Акимов был не совсем искренен. По совести говоря, он никак не мог обвинить старшину. В конце концов лодку Туляков, правда, взял, но вернул ее в полном порядке, — не в хижину же было ее тащить к старику. Оставил на воде почти рядом с домом.
Все дело выяснилось позднее, когда пришел Летягин. Акимов вместе с офицерами обедал и пригласил Летягина к столу. И как раз в это время в шахту ввалился старик Педерсен.
Он был очень оживлен и весел. Его светлые глаза, ранее полные почти трагической неподвижности и скрытого упрека, теперь комично щурились и счастливо мигали. С Акимовым и другими офицерами он теперь держал себя запросто, даже с оттенком стариковской снисходительности. Теперь они были в его глазах просто необычайно симпатичные молодые люди, свои ребята, правда одетые в иностранный мундир. Эта неожиданная форма глубокой, но сдержанной благодарности очень, позабавила и растрогала Акимова.
Он попросил Летягина поговорить со стариком, и вот что оказалось: земля у фьорда, поскольку она является частной собственностью, разрезана на участки. Туляков взял лодку на крошечном собственном участке земли старого рыбака, а оставил ее у кусочка берега, принадлежавшего другому владельцу.
Старик в этой связи с полной серьезностью объяснил, что не может же он идти на чужой участок искать свою лодку, что участков много и не каждый разрешит постороннему человеку шляться по своей земле.
— Да, здесь так живут, — сказал Летягин.
Действительно, вся здешняя земля, включая острова, была поделена на маленькие, крохотные владения, у границ которых нередко стояли столбики с надписью «Adgang forbudt», — то есть «Вход воспрещен», — и за этими столбиками, на бедных хуторах, к которым вели «частные дороги», среди чахлых капустных грядок, тощих покосов и низкорослых берез, жили владельцы — каждый у себя и за себя. А вокруг вздымалась ничья земля бесплодного плоскогорья, где все лето паслись, дичая, олени лопарей.
Старого рыбака усадили обедать, и он жадно ел все, а в особенности черный ржаной хлеб, о котором здесь почему-то ходили слухи, что в него запекается сливочное масло.
— Ну и ну! — опешил Акимов. — Чего только не придумают люди!
Как бы в подтверждение этих слов, старик осторожно спросил, правда ли, что русские тут останутся навсегда, захватят всю Норвегию и конфискуют все лодки, земли, леса, скотину и всех жен. («Молодых только, надо думать?» — спросил он, хитренько щуря бледно-голубые глаза).
— Это все квислинговцы орудуют, — угрюмо сказал Летягин после того, как что-то долго и сердито объяснял старику. — Разные викколы, кулачье всякое. — Он взглянул на возбужденного Мартынова и предостерегающе произнес: — Нас, товарищ капитан-лейтенант, это не касается. Этим должна заниматься норвежская администрация. Есть такая инструкция из Москвы.
Старый рыбак, пообедав, ушел, вскоре поднялся и Летягин. За ним явились разведчики.
— Далеко? — спросил Акимов.
— Дня через два вернусь, — сказал Летягин.
— И сразу к нам приходите. Ладно?
— Ладно, приду, — ответил Летягин. — У вас хорошие люди.
Акимов вышел проводить Летягина.
— До свидания, товарищ Акимов, — сказал Летягин. Разведчики, стоя плотной и темной кучкой посредине улицы, дожидались его.
— Счастливо.
Летягин пошел было, потом вдруг остановился и, обернувшись к Акимову, проговорил:
— Помните ведь Бадейкина?
— Да, — сказал Акимов.
— Верно, вы же с ним служили. Его катер затонул при высадке десанта. Сам он тяжело ранен.
— Да? — сказал Акимов.
Летягин с разведчиками скрылся за поворотом дороги. Акимов внезапно почувствовал себя очень усталым, почти больным, и ему захотелось скорее лечь спать, и не на час, а на очень долго, так, чтобы, проснувшись, он мог многое забыть и чтобы из его ушей пропал непрекращающийся гул, который все еще раздавался в них. Он прошел мимо домов, в которых уже жили норвежцы. Двери открывались и закрывались. Люди таскали спрятанные и закопанные пожитки к себе в дома.
— Вот и хорошо. Вот и прекрасно, — бормотал Акимов.
Его окликнул лейтенант Венцов, дежуривший по батальону:
— Радиограмма.
— Посветите, — попросил Акимов.
Лейтенант зажег фонарик.
Акимов прочитал, сказал: «Так, так», — и вошел в землянку. Лейтенант Козловский сидя спал с гитарой в руке. Матюхин дремал в углу. Услышав шаги комбата, он вскочил, самодовольно улыбнулся, обвел рукой убранную, обставленную мебелью и завешанную плащ-палатками землянку и спросил:
— Ну как, товарищ капитан третьего ранга? Не хуже, чем бывало у вашего Майбороды?
— Пожалуй, не хуже, — сказал Акимов, не взглянув на убранство землянки. Он вынул карту и стал изучать маршрут, проставленный в радиограмме. Путь шел через тундру к реке Тана-эльв. Река эта, очень длинная, впадала в Тана-фьорд. Населенных пунктов по дороге не было.
Матюхин внимательно посмотрел на комбата, вздохнул и начал покорно сворачивать одеяла и собирать посуду.
— Где Мартынов? — спросил комбат.
Замполит, оказывается, ушел в роты проверять, все ли спят.
— Спят, спят! — вдруг рассердился Акимов. — Уже поспали, хватит!
Он выругался и бросил через плечо Венцову, стоявшему на пороге:
— Давай команду «в ружье».
Послышались удаляющиеся шаги Венцова. Акимов постоял неподвижно, прислушиваясь. Козловский сладко похрапывал, и не хотелось его будить. Тишина длилась еще минуты две, потом все кругом задрожало от топота ног, тревожных выкриков и лязга оружия. Акимов постоял еще минут пять, наконец услышал громкую команду: «Становись!» Вошел Мартынов — такой же прямой, опрятный и собранный, как всегда. Он без слов подошел к столику, прочитал радиограмму и сел. Козловский вскочил и, дрожа от холода спросонья, стал торопливо укладывать гитару в мешок.
Прислушавшись, Акимов вышел из землянки.
— Смирно-о-о! — подал команду откуда-то из темноты лейтенант Венцов. — Товарищ капитан третьего ранга! — доложил он, и его голос, сильный и молодой, звучно и красиво до щегольства разнесся в темноте. Батальон выстроен по вашему приказанию.
Акимов приблизился к темному строю морских пехотинцев и прошел вдоль колонны. Знакомые глаза смотрели на него спокойно и уверенно. И, глядя на бойцов, Акимов сам приободрился и повеселел.
3
Со всех сторон батальон обступили синие сумерки. Туманное северное сияние спокойно висело над ним. Между скалами кричали птицы.
Холодный ветер, дувший в лицо, прогнал сонливость. Пронзительные крики птиц и вся непривычная обстановка вызывали в моряках необъяснимую тревогу. В такие минуты полезно было посмотреть вперед, туда, где темнела массивная фигура комбата, который шел размашистым шагом, время от времени поворачивая к своим людям большое, чуть насмешливое, очень спокойное лицо. Иногда он что-то говорил, и тогда ближайшие к нему люди улыбались, а задние, хотя и не слышали слов, улыбались тоже.
— Этот скажет, — одобрительно бормотал Егоров.
Согласно радиограмме, батальону надлежало поступить во временное распоряжение командира стрелковой дивизии, представители которой должны были встретить моряков на перекрестке дорог южнее Киркенеса, возле сохранившихся в целости домиков. Но здесь пока никого не оказалось, и Акимов в ожидании прибытия представителей велел располагаться по хижинам, выставив караулы. Потом он послал двух моряков поднять в ружье роту Миневича и привести ее сюда, а сам вместе с Мартыновым и Матюхиным постучался в первую попавшуюся хижину, возле которой на флагштоке развевался норвежский флаг.
Маленький домик был полон народу. Норвежцы — мужчины, женщины и дети — лежали на матрасах или сидели на стульях, а то и просто на полу, вдоль всех стен. Домик походил на постоялый двор. Изо всех углов на Акимова смотрели детские глаза. Он остановился в замешательстве, решив было, что нечего усугублять и без того невыносимую тесноту. Но тут навстречу ему из-за стола поднялся высокий худой человек с небритыми щеками. Он взволнованно заморгал глазами. Потом заговорил. Детские глаза во всех углах комнаты засверкали, женские — заулыбались. Мужчины солидно захмыкали.
Акимову и его спутникам быстро очистили три стула возле длинного стола, на котором горели карбидные лампы. А хозяин все говорил, и хотя русские его не понимали и он это знал, но выражение его лица было столь красноречиво радушным, что и Акимов, и Мартынов, и Матюхин тоже улыбались, чувствуя себя довольно глупо, но хорошо.
Хозяин был рабочим на руднике — он очень хотел и никак не мог объяснить это русским, пока младшая дочь, умненькая Осе, не догадалась показать им фотографию отца в одежде рудокопа с киркой в руке. Когда русские поняли и в знак дружбы крепко пожали хозяину руку, он начал им что-то рассказывать, жестикулируя, и в отчаянии вращал глазами, видя, что они его не понимают. Они разобрали только слова «коммунист» и «тюскен» по-норвежски «немцы», — но и этого оказалось достаточно.
— Он коммунист, что ли, — неуверенно сказал Мартынов, показывая пальцем на хозяина.
— Я, я, я, — вскричала вся комната разом.
Нет, это не могло быть ложью ради снискания расположения русских офицеров. Никакого подобострастия, которое Акимов ощущал в словах и выражении лиц киркенесского бургомистра, Ульсена, Викколы, не было здесь и в помине.
Мартынов разволновался, пожалуй, не меньше норвежцев. Он вынул из кармана гимнастерки партийный билет, ткнул в грудь себя, потом Акимова и сказал:
— Вот. Коммунисты. Мы.
Хозяин осторожно взял в руки книжечку, показал ее жене, детям и всем остальным, потом вернул Мартынову и, когда тот спрятал ее, неожиданно обнял капитан-лейтенанта, обнял Акимова, затем нерешительно пошел к Матюхину, но, вдруг остановившись, спросил:
— Коммунист?
— Нет, — отрицательно мотнул головой смущенный Матюхин. Беспартийный.
Рудокоп удивился: он не предполагал, что в России имеются некоммунисты, но Акимов, засмеявшись, поощрительно толкнул его к Матюхину, и норвежец, тоже засмеявшись, обнял и вестового.
Молоденькая девушка — ее звали Ингри, о чем она, приседая, сообщила русским, — убежала в соседнюю комнату и вернулась с мучными лепешками, заменявшими хлеб и носившими название «кнекебрё». Матюхин подумал-подумал и достал из вещевого мешка заветную фляжку. Появились рюмки. Разлили всем понемножку. Все встали. Норвежцы, пристально глядя русским в глаза, сказали «скол», приложили рюмки к сердцу и стали неторопливо пить. Русские сказали «на здоровье» и выпили залпом.
А хозяин то улыбался, то говорил, время от времени сжимая руки на груди в отчаянии от того, что его не понимают. Он говорил о том, как трудно тут коммунистам, и о том, что хозяева завода «Сюд-Варангер» владеют всем краем, как вотчиной, а на заводе орудует желтейший профсоюз. И о том, что вот он, рудокоп, впустил к себе несколько семей погорельцев, и сделал он это потому, что он коммунист и обязан сочувствовать обездоленным, но далеко не все обладают чувством солидарности и многие погорельцы ютятся буквально на улице.
Мартынов внимательно слушал, качал головой, понимая по всему, что речь идет о чем-то очень важном, и сетуя на себя, что он не может понять ничего из сказанного. Он шепнул Акимову:
— Надо изучать норвежский язык, вот что я тебе скажу.
Кто-то из женщин завел патефон. Может быть, они собирались плясать, но в это время распахнулась дверь, и в дом торопливо вошел полковник в высокой папахе и кожаном реглане. Это был представитель стрелковой дивизии, которого ожидал Акимов. Половицы под его тяжелыми шагами заскрипели. Пораженный пестрым зрелищем и многолюдством, он огляделся, но ничего не сказал, подошел к Акимову и быстро бросил ему одно слово:
— Пошли.
У полковника были встревоженные глаза, и Акимов беспрекословно поднялся с места и пошел за ним к выходу. Но уже у самой двери он вдруг остановился как вкопанный. Мелодия только что поставленной пластинки показалась ему очень знакомой. Нет, не просто знакомой, а родной, полной интимнейших и радостнейших воспоминаний.
— «Танец Анитры» Грига, — произнес Акимов, и ему почудилось, что эти слова произнесены даже не его голосом, а голосом Анички, так ясно увидел он перед собой землянку, оплетенную ивовыми прутьями, и все то, что было связано для него с этой музыкой.
Норвежцы удивились и обрадовались, услышав от русского командира знакомые слова.
— Я, я, я! — восхищенно закричала вся комната разом.
— Минуточку, — сказал Акимов, обращаясь к полковнику и, несмотря на нетерпеливые взгляды его, не двинулся с места, пока не прослушал всю пластинку. Он не мог понять, почему родная мелодия попала в такие далекие края, и лишь когда музыка замерла, вспомнил, что автор ее — норвежец, уроженец этой страны и, вероятно, гордость этого народа.
Покинув наконец норвежский домик, Акимов вслед за полковником направился к зеленой штабной машине, стоявшей на перекрестке. Оба вынули карты.
— Положение сложное, — сказал полковник. — Немцы предприняли контратаку в районе селения Полмак, на реке Тана-эльв. Не исключена возможность серьезного контрудара. На западном берегу Таны замечено крупное скопление противника. Даю вам десять грузовых машин для переброски хотя бы части вашего батальона. Больше пока дать не могу. Остальные пусть идут пешим маршем. Выступайте немедленно.
Акимов сказал:
— Ясно. Все будет сделано. — Он помолчал, потом вдруг улыбнулся и добавил: — Знакомая музыка — это почти все равно что старого друга встретить.
— Что? Что вы сказали? — не понял полковник, занятый другими, вовсе не музыкальными мыслями. Но Акимов ничего не ответил и размашистым шагом пошел к своему батальону, который уже выстроился на дороге.
Первая рота погрузилась в подошедшие грузовые машины. Акимов вскочил на подножку передового грузовика и крикнул маленькому чумазому шоферу:
— Давай, жми быстрее.
Колонна тронулась.
— Зажигай фары, чего боишься, — сказал Акимов, усевшись рядом с шофером. — Так мы далеко не уедем, а надо быстрей. Там немец зашевелился.
Машины пошли быстрее по каменистой дороге среди скал. А в ушах Акимова все не переставала звучать та странная и изящная мелодия, даже не грустная, а зовущая, манящая и немного тревожная, и вместе с ней перед глазами проносились знакомые картины. Ему казалось теперь, что окружающая суровая природа стала мягче и милее. Птичий грай над скалами, синие сумерки — все это теперь очень нравилось ему, и ему на миг представилось, что войны уже нет, а сам он просто путешественник по незнакомым, интересным местам, о которых придется вскоре рассказать Аничке. Поэтому надо стараться ничего не забыть, все запомнить: пронзительный крик птиц, вьющуюся среди голых скал дорогу, благодарные лица норвежских мужчин и женщин, сияющие глаза норвежских детей, красные, разделенные на четыре поля синим крестом норвежские национальные флаги, развевающиеся теперь на всех здешних флагштоках в знак освобождения, — все, все.
Вскоре послышались взрывы снарядов. Зарево занимавшегося пожара показалось впереди. Оно освещало темные строения поселка и длинную полосу леса вдалеке. По-видимому, то был тянущийся вдоль реки Тана-эльв придолинный лес — за полосой деревьев угадывался край, обрыв, змеящийся соответственно речному руслу.
На скале слева от дороги стояли люди. Они смотрели на запад в бинокли. У подножия скалы связисты тянули катушки с проводом.
Остановив колонну, Акимов спрыгнул с машины, поднялся на скалу и спросил у стоявших там темной кучкой офицеров:
— Ну, что там? Я — Акимов, прибыл с морской пехотой.
Все оглянулись на него и заметно обрадовались. Кто-то, видимо старший здесь, показал на пожар:
— Вот ваше направление, товарищ Акимов. Мы вам придаем минометную роту. — Он крикнул: — Минометчиков сюда!
Лейтенант-минометчик подошел к Акимову и, приложив руку к шапке; доложил:
— Прибыл в ваше распоряжение.
Потолковав с офицерами, Акимов спустился со скалы и крикнул:
— Долой с машин!
Машины мигом опустели. Моряки быстро построились и пошли вслед за комбатом. Акимов шел впереди вместе с Козловским и лейтенантом-минометчиком. Покосившись на минометчика, он проговорил:
— Минометам без моей команды не стрелять. Нечего зря дома разбивать.
Поблизости разорвалось несколько снарядов. Немцы, очевидно, били с западного берега реки.
Акимов повернулся к Козловскому:
— Развертывай людей в цепь. Пошли.
Моряки полезли через скалы. Их фигуры были ясно видны на фоне светлого неба.
— Как твоя фамилия? — спросил Акимов у лейтенанта-минометчика.
— Селиверстов, товарищ майор.
— Так вот, Селиверстов, пока не стреляй. Будь со мной. Дело, видишь ли, в том, что нужно немцев из селения выгнать, не дать им возможности взорвать дома. А если тебя пустить в ход, то ты сделаешь то же самое, хотя и с благородной целью. Так что не сердись.
— Я не сержусь! — сказал Селиверстов сконфуженно.
Они медленно пошли вперед. Прибежавший связной доложил, что немцы медленно отходят, поджигая дома. Жители бегут в лес. На реке находится довольно большая флотилия моторных баркасов. Артиллерия бьет с западного берега.
— Атаковать! — крикнул Акимов. — Что вы там копаетесь? Ждете, чтобы они все сделали и убежали?
Со скалы, куда Акимов взобрался, ему был виден заросший лесом противоположный берег, на котором то тут, то там вспыхивали орудийные выстрелы.
— Я вам покажу Бадейкина, — бормотал он. — Я вам покажу поджигать…
Стремительно спустившись со скалы, Акимов пошел к лесу и вскоре достиг первых деревьев. Здесь было темно. Между стволами Акимов увидел блестящую ленту реки. Деревья спускались отлого к самому берегу. Левее, в излучине реки, виднелись на воде небольшие суда, — видимо, норвежские, согнанные со всей Таны.
— Вперед, моряки! — крикнул Акимов.
Пулеметы, автоматы и винтовки застрекотали по всему берегу. Послышалось «ура».
— Селиверстов, — сказал Акимов. — Вот и твоя очередь. Дай по этим суденышкам разок.
Селиверстов сказал несколько слов сопровождавшим его солдатам и поднял к глазам бинокль. Среди деревьев зашуршали пули. Затарахтели лодочные моторы. В небо взлетели красивые разноцветные ракеты.
Акимов пошел вниз, к реке, то и дело не без удовольствия прикасаясь к шершавым стволам сосен.
— Это ты, Туляков? — спросил он у человека, сидевшего за пулеметом.
— Я, товарищ комбат.
— Так их, так. Отчаливают, сволочи. Чего же это Селиверстов там молчит? А речка ничего, красивая… Пороги. И не замерзает, горная. Двигайтесь влево вдоль берега.
Бойцы медленно шли вдоль берега влево, к селению. Наконец заработали наши минометы. Немецкие суда разметало по всей реке. Все кругом загудело и задрожало. Пули зловеще свистели среди сосен.
— Товарищ комбат, товарищ комбат! Где комбат?
— Только что был здесь.
— Товарищ комбат!
Никто не ответил. Ватюхин тыкался среди деревьев, ища Акимова.
— Туляков, а Туляков! — наклонился над пулеметчиком Матюхин. — Тебя спрашивают.
— Чего?
— Где комбат?
— Да вот же он, — сказал Туляков, повернул голову от пулемета и растерянно замигал: комбата не было.
Матюхин увидел комбата лежащим у самой воды. Одна рука Акимова большая, загорелая — опустилась в воду, и в этом месте образовался маленький четырехструйный водопад.
— А-а-а!.. — закричал Матюхин по-бабьи.
Несмотря на гул пушек и минометов, на плеск воды, на вопли немцев, этот крик услышали все. Подбежали люди, подошли справа матросы Венцова, слева — Мартынов, Козловский. Акимова подняли и понесли в селение. Кто-то попытался увести Матюхина, но он торопливо говорил:
— Вы меня не трогайте. Оставьте меня. Я не хочу жить.
Акимов еще слышал крик Матюхина, но ему казалось, что это шум воды, бьющейся о пороги, крик ночной птицы и вообще нечто, исходящее не от человека, а от природы. Потом, когда его несли, он на мгновение пришел в себя и решил, что возле него дежурят Мартынов, Матюхин и еще кто-то уже много ночей подряд, и он захотел сказать им, что хватит, пусть они идут спать, ведь они хотят спать. Ему показалось, что он это им сказал, и они исчезли, провалились куда-то, а теперь он хочет пить, и некому подать ему пить, так как он велел всем уйти от его койки. Ему чудилось, что он лежит на корабельной койке, и она раскачивается все больше и больше, и он ударяется каждый раз голым сердцем о что-то острое и одновременно тупое. И вот качка стала невыносимо сильной, так что боль все больше увеличивалась, так что нельзя было терпеть, потому что сердце с налета билось все о то же самое, острое и тупое. И он подумал, что так нельзя, что это надо прекратить, нельзя так терзать сердце, потому что оно — не его собственное: может быть, он в этот миг думал об Аничке; хотя он уже не мог вспомнить ни ее имени, ни ее лица, ни даже того, что она такое, но в его мозгу дрожало радостное и светящееся пятно, включавшее в себя и ее и все, что он любил в жизни, и именно этому радостному и светящемуся принадлежало его сердце, содрогавшееся от боли и борьбы.
Он затрепетал и затих.
— Конец, — сказал Мартынов и рванул на груди ворот, как это делали матросы перед атакой.
Комбата несли все так же бережно, как живого, потому что невозможно было поверить, что это большое, сильное тело, это отважное, беспокойное сердце, только что жившие такой полной жизнью, не существуют больше. И странно было смотреть, что он лежит неподвижно, как будто уже накрепко привык и к этому новому состоянию, уже освоился и на этой новой позиции. Следом за ним несли еще двух убитых — молодых матросов Иванова и Горюшкина, смерть которых тоже вызовет боль и отчаяние у людей, знавших их при жизни так, как друзья знали Акимова.
Возле лопарского стойбища, среди бедных чумов, построенных из жердей и покрытых оленьими шкурами, Мартынов приказал сделать привал. Вскоре начался сильный снегопад. Лопари запрягли оленей в нарты, убитых положили на нарты. Олени поводили большими рогами и чутко прядали ушами. Лопари шли рядом — низкорослые, испуганные. От них шел застарелый рыбный запах. Их головной убор состоял из разноцветного, похожего на шутовской, колпака с острыми концами.
Неведомо откуда появился отряд разведчиков. Шедший впереди Летягин подошел и спросил, где капитан третьего ранга Акимов. Ему молча показали на нарты. Красный рубец на его лбу побелел.
Когда двинулись дальше, Летягин пошел рядом с нартами, хотя ему было неудобно так идти, он то и дело проваливался в снег, но упрямо шел рядом ему казалось необходимым и важным смотреть на укрытое плащ-палаткой лицо Акимова.
В Киркенесе Акимова ждал приехавший сюда Ковалевский. Яблоки в ящике прекрасно сохранились — то были крепкие антоновские яблоки. Он их наконец разыскал и привез. Ему сказали о случившемся, он обмяк, заплакал и, плача, поехал обратно в Печенгу, в Краснознаменную часть морской авиации, о которой нужно было написать очерк.
Норвежские власти выделили место для кладбища у подножия плоскогорья Хейбуктмуэн, или, как оно называлось на наших картах, Хебуктен. На этом месте и раньше хоронили русских людей, угнанных в Норвегию и замученных здесь немецкими фашистами. Сюда привезли всех убитых за последние дни солдат и офицеров частей и кораблей, получивших наименование «Киркенесских».
Норвежцы приспустили свои флаги. Одевшись в черное платье, они на лыжах и просто пешком по свежевыпавшему снегу пошли к новому кладбищу. Туда же двигались строем советские солдаты и моряки.
Летягин шел рядом с Мартыновым. Оба молчали. Вскоре пришли на место. Отрывистые слова команд по-особенному глухо и печально отдавались среди скал. Снегопад все усиливался.
Летягин смотрел на неподвижные лица солдат и думал о том, что пребывание любой чужой армии на какой-либо территории, хотя бы союзной, обременительно для местного населения, но никогда никакая армия не старалась быть менее обременительной, чем наша, не стремилась к большему самоограничению, чем наша, не показывала такого примера бескорыстия и дружелюбия.
Под светлой тяжестью этих мыслей Летягин решился наконец посмотреть в лицо Акимову. Лицо моряка было спокойно и прекрасно. И Летягину вдруг подумалось, что вот сейчас Акимов откроет глаза и что-то скажет. Что он скажет? Своим раскатистым глубоким голосом он, наверно, лукаво усмехаясь, проговорит:
— Ну, хватит жилы тянуть. Хоронить так хоронить.
От этой глупой мысли Летягин почувствовал, что сейчас заплачет. Он сжал губы и покосился на Мартынова. Замполит стоял белый, как бумага.
Раздался залп прощального салюта. Женщины заплакали, запричитали, как все женщины на свете у могил, какой-то старый рыбак крикнул по-норвежски: «Мы вас не забудем!»; какие-то три очень похожие друг на друга девушки зарыдали, все было кончено.
Когда все разошлись, Летягин и Мартынов еще постояли с полчаса у могилы Акимова, возле деревянного обелиска с красной звездой.
Летягин сказал:
— Надо было перевезти его к нам, туда. В родной земле все-таки лучше. — Подумав, он возразил себе самому: — Ничего. Норвеги — люди хорошие. Будут ухаживать. Следить. Очищать от снега.
Белый туман распространился над Варангер-фьордом. Снег все валил и валил густыми хлопьями, падая на море и на берег, и казалось, что он способен забить, замести и море, и скалы, и это плоскогорье. Но волны поглощали его, а ветер сдувал снежную пелену со скалистых вершин, и только в болотных низинах она оставалась лежать нетронутая, глубокая и бесстрастная.
Глава девятая ЖИЗНЬ МЕРТВЫХ
1
После окончания в 1949 году Второго московского медицинского института врач Анна Александровна Белозерова со своей дочерью поселилась в городе Туле. Она работала в больнице. Там ей были очень рады, кроме всего прочего, и по той причине, что к ней каждое воскресенье приезжал на машине ее отец, профессор Белозеров. Его приезды беззастенчиво эксплуатировались больницей, и он, посмеиваясь, соглашался на это, консультировал, а иногда делал особо сложные операции.
Александр Модестович примирился со всем, что произошло у Анички, уже давно. Пораздумав, он понял, что, если бы ему рассказали эту же историю, но случившуюся с другими людьми, он несомненно обвинил бы отца в бессердечии и тупости. С течением времени он все больше ужасался своей жестокости и, смирившись, признался себе, что вовсе не является еще образцом разумного и нравственного человека, каким он не без самодовольства иногда считал себя.
Обо всем этом он откровенно написал Аничке еще осенью 1944 года, а вернувшись после войны с фронта, старался как мог загладить свою вину. Внучку он очень полюбил.
Встретив однажды генерала Верстовского (он уже был генералом) и узнав, что тот работает в Отделе внешних сношений Министерства Вооруженных сил, профессор попросил его навести справки о могиле мужа Анички в Норвегии.
— Его зовут Акимов, Павел Гордеевич, был он капитаном третьего ранга. Похоронен… Подожди, я сейчас погляжу. Хейбуктмуэн, близ Киркенеса.
Верстовский записал себе в блокнот все это, потом вдруг встрепенулся:
— Как его фамилия? Акимов? Подожди, неужели это тот самый комбат? Большой, упрямый, веселый человек? Бывший моряк?
— Ты знал его?
— Еще бы! Правильно, Аничка служила с ним в одном полку. Так он, значит, погиб? Какая жалость! Отличный, отличный офицер.
Александр Модестович не привык, чтобы Семен Фомич кем-либо так восторгался, и был растроган и польщен добрым мнением Верстовского о человеке, который некогда представлялся профессору виновником Аничкина несчастья.
Верстовский обещал навести справки. Вскоре он позвонил по телефону и договорился о встрече.
— Да, это тот самый знакомый мне превосходный командир. Оказывается, он был отозван обратно во флот. Я даже припоминаю — разговор об этом был при мне, там же, под Оршей. Моряки-северяне хорошо помнят его. Он вообще принадлежит к категории людей, которых нелегко забыть. Об обстоятельствах его смерти может очень точно рассказать некто капитан-лейтенант Летягин из Главного морского штаба. О могиле Акимова я запросил нашего военного атташе в Норвегии. Я сказал ему, что Акимов — твой и мой родственник, муж Анички. Он обещал мне все разузнать.
Анне Александровне исполнилось двадцать восемь лет, и ее красота находилась в ту пору в полном расцвете. Она проявила себя талантливым врачом. Она была ровна и проста в обращении. Сослуживцы и больные любили ее.
По просьбе отца ее вскоре перевели в Москву, в одну из столичных клиник. Тут она сделала успехи, которые, будь они достигнуты другим врачом, оценивались бы еще выше. Однако, так как она была дочерью Белозерова, ее умение и способности приписывали его руководству и некой наследственности, как будто можно передать по наследству призвание и тончайшее чутье.
Но ей это было все равно, она уже чувствовала свою начинавшуюся профессиональную зрелость, уже ощущала в себе зачатки той мощи, которой удивлялась при операциях отца и других выдающихся хирургов.
Казалось, она жила тихо и безбурно, отдавая все силы своему делу и дочери Кате. Трудно было на ее безмятежном лице прочесть то отчаяние, которое владело ею раньше и иногда охватывало ее и сейчас.
Года два она жила в состоянии беспрерывного и беспросветного горя. Она отлично училась, но все ее учение шло своим чередом, как бы помимо ее существа. Ей казалось, что она находится на гребне волны, которая без усилий с ее стороны держит ее и несет вперед. Эту волну можно было назвать долгом, обязанностью, любовью к родине, материнской любовью и другими словами, — как бы то ни было, эта волна не давала тонуть Аничке.
Но что бы Аничка ни делала, она спрашивала себя беспрестанно: «Как могу я читать книгу, когда его нет? Как могу я пить воду, когда его нет? Как могу я надевать перчатки, когда его нет?»
И все-таки она читала книгу, пила воду, надевала перчатки, подобно тому как это делала тетя Надя, сын которой так и не вернулся с войны.
Это иногда приводило Аничку в ярость, она казалась себе жалким животным, гнусно цепляющимся за жизнь. Она не хотела жить, потому что умер Акимов, и считала, что настоящий человек не должен при этих обстоятельствах жить. Однако она жила и делала все, что требовалось, для себя, для Катеньки, для отца и для общества, среди которого существовала.
Она стала читать все о Норвегии, потом даже изучила норвежский язык, который дался ей легко, так как был схож с немецким. И, читая об этом трудолюбивом, честном, малочисленном народе, она находила утешение в том, что он, этот народ, трудолюбив, честен и малочислен, словно в этом могло быть оправдание смерти Акимова.
2
Однажды она решила поехать в Ковров, к родителям Павла. Это было летом 1946 года, во время каникул. Вечером она села в поезд и утром была уже на месте. Она прошла по Абельмановской улице, потом по Базарной, миновала старинные каменные ряды, набережную, перешла через мост и очутилась в Заречной Слободке. Тут стояли одноэтажные рубленые домики, потонувшие в зелени садов.
Она без труда нашла нужный ей домик, похожий как две капли воды на все остальные. На скамеечке сидела старушка. Это была мать Акимова. Аничка сразу узнала ее по неуловимому сходству с сыном. Было странно, что такая маленькая, чистенькая, светящаяся добротой старушка приходилась матерью огромному Павлу Акимову. И еще было странно: как может она сидеть на скамейке, когда его нет.
— Здравствуйте, Мария Капитоновна, — сказала Аничка. — Это я, Аня Белозерова. Я вам писала.
Старушка порывисто обняла Аничку и молча повела ее в дом.
— Чего же ты внучку не привезла? — спросила Мария Капитоновна, вскоре овладев собой. — Али привезла?
— Нет, не привезла, — сказала Аничка. — В другой раз привезу.
— Так вот ты какая, — прошептала Мария Капитоновна, глядя на Аничку пристально и печально.
Соседи прослышали о приезжей, и дверь начала отворяться, впуская все новых любопытствующих взглянуть на вдову Павла Акимова. Это были пожилые ткачи и ткачихи, а с ними дети. Все чинно здоровались с Аничкой. Они знали, что она дочь знаменитого врача, генерала, но не это вызывало их любопытство: некоторые из них сами были родителями генералов, партработников, директоров и других крупных людей. Нет, они просто близко знали и любили Пашу Акимова, он был в свое время самым сильным и самым добрым мальчиком в Заречной Слободке, потом известным ударником и активистом. Были здесь и такие старики, которые некогда прочили своих дочек за него, и всем было интересно посмотреть, кого же выбрал Паша, парень привередливый по этой части, себе в жены. Посидев и попив чаю с вишневым вареньем, они разошлись, решив, что выбрал он хорошо.
Потом вернулась с работы младшая, еще незамужняя сестра Акимова, Варя. Она была учительницей и преподавала в младших классах той самой школы № 1 — бывшей гимназии, — где учился в свое время Павел. Она была так похожа на Павла, что Аничка вздрогнула, увидев ее, и крепко обняла Варю. А Варя заплакала.
Наконец пришел с ткацкой фабрики старый мастер Гордей Петрович Акимов — большой, насмешливый, с петушиной, задиристой правой бровью, стоявшей торчком. Он вошел, поздоровался и, не подозревая, кто эта молодая женщина, сидевшая рядом с Варей, сказал:
— А вот и мы… Здравствуйте, молодежь. А это что ж за красавица? Мы таких в Коврове что-то не видывали.
Ответное молчание заставило его насторожиться, он увидел на столе возле самовара фотографии сына, и тогда его большое лицо вдруг потеряло выражение насмешливости и болезненно перекосилось.
— Такие дела, — сказал старик. Потом спросил: — А внучка как?
— Здорова, — сказала Аничка. — Привезу ее к вам в другой раз.
На следующий день Аничка осматривала город. Варя и старик Акимов показали ей большой экскаваторный завод, тот самый, где Павел когда-то работал. Гордей Петрович рассказал ей все, что помнил об этом заводе. Он еще помнил, как завод был мастерской, где все делалось вручную, при свете керосиновых ламп. В кузнице стоял тогда такой дым, что люди задыхались. Когда становилось совсем невмоготу, кузнец выбегал, падал в снег и, полежав там, шел обратно работать.
Теперь здесь возвышались большие светлые здания, и во дворе Аничка увидела новые экскаваторы «Ковровец», крашенные в красную, вроде трамвайной, краску.
Старик показал ей Ширину гору — место сходок и демонстраций. Здесь же происходили в старину кулачные бои.
Это был город металлистов и ткачей, один из тех многочисленных русских рабочих городов, которые не жалели своей крови и сил для дела революции и социализма. Когда в Москве вспыхнул мятеж левых эсеров, Ковров выслал на помощь московским рабочим солдат 250-го пехотного полка и местных большевиков во главе с председателем Совета и секретарем уездного комитета партии Абельманом. При подавлении мятежа Абельман был убит, в его честь в Москве названа застава. Большевики и рабочие Коврова посылали людей для разгрома муромского белогвардейского восстания и ликвидировали кулацкие мятежи в Ключниковской и Бельковской волостях. Потом они упорно и основательно работали для восстановления своих фабрик и заводов, в 1931 году построили первый экскаватор, а через два года наладили серийное производство.
— А в Отечественную войну ковровцы… — Старик замолчал, потом добавил глухим голосом: — Отдали все, что могли.
3
На этом можно и закончить повесть о Павле Акимове и перейти к другим повестям о людях более позднего времени, об их радостях и печалях. Так и хочется поставить слово «конец» и, сдержав слезы расставания с Акимовым, задуматься на мгновение и отложить в сторону перо.
Но это невозможно.
В августе 1951 года люди с ломами, лопатами, взрывчаткой, грейдерными машинами пришли на русские воинские кладбища в Норвегии и стали взрывать могилы, вытаскивать и бросать в угольные ямы останки солдат, которые, будь они живы, обратили бы в бегство миллион этих гробокопателей. Они стали разравнивать землю кладбищ тяжелыми катками, они разметали и раздавили цветы, положенные сюда жителями этих мест.
Среди других кладбищ они взорвали и кладбище в норвежской провинции Финмарк, где лежало тело Акимова, и рядом, на плоскогорье, начали строить аэродром для бомбардировщиков, предназначенных бомбить города той державы, которая первая послала своих солдат для освобождения Норвегии и первая же вывела свои войска из Норвегии освобожденной.
Люди, живущие чужим трудом по обе стороны Атлантического океана, начали готовить войну против народов, но память человечества о событиях недавнего прошлого тревожила их. И они решили искоренить эту память. Мертвые мешали им, и они решили еще раз убить мертвых.
Известия об этих событиях еще не стали предметом широкой гласности, они медленно проходили через разные дипломатические и иные канцелярии, еще проверялись и уточнялись, ибо невозможно было сразу поверить в реальность такого неслыханного дела.
Генералу Верстовскому об этом рассказал прилетевший из Норвегии военный атташе. Сообщение потрясло генерала и ужаснуло его. И еще больше он ужаснулся именно по той причине, что знал, кто лежит в той могиле. Ведь все-таки очень важно было то обстоятельство, что там лежал Акимов.
Верстовский приехал к профессору Белозерову, заперся с ним в его кабинете и рассказал все, что знал. Александр Модестович был бледен и удручен. Стемнело, и они сидели в нерешительности, не зная, что делать и сообщать ли обо всем Аничке. За стеной был слышен смех ребенка и негромкий разговор.
— Все равно она узнает, — сказал Верстовский. — Это не может долго оставаться неизвестным.
— Так что делать? Сказать? — проговорил Александр Модестович.
— Ей бы замуж выйти, — сказал Верстовский, помолчав.
— Не желает.
Совсем стемнело. В дверь постучалась Аничка, тихо спросив:
— Папа, ты спишь?
Оба генерала трусливо промолчали, ничего не ответили, и она ушла к себе.
— Мертвые — и те им мешают, — хмуро сказал Верстовский.
А профессор Белозеров, поглаживая свои седые усы, с недоумением и тоской думал о том, что происходит на свете. Он становился все мрачней и суровей. Но нет, можно остановить все часы на земном шаре, а время все равно будет идти вперед; и разрушение братской могилы на дальней северной окраине Европы — это тоже не более как остановка всего лишь только маленьких, тихо тикающих в полярной ночи часиков со смехотворной целью остановить время.
— Надо ей сказать, — проговорил наконец Александр Модестович и позвал Аничку.
Выслушав Верстовского, Аничка осталась сидеть неподвижно. Удивление, ужас, скорбь и неверие в людей овладели ею. В эти мгновения, длившиеся, казалось ей, века, она с ужасом спрашивала у Акимова: «Зачем же ты пошел туда, за что умер? Кому понес ты чистоту помыслов, свое мужество и свою любовь?»
К счастью, состояние это длилось недолго. Ведь следовало понять, что тяжкое оскорбление брошено в лицо не только ей, но всем людям, и важно было не спутать светлый лик человечества с искаженной харей всемирного стяжателя и мещанина. Аничка сумела это понять. Она овладела собой и почти спокойным голосом сказала, что, по-видимому, мертвый Акимов так же страшен врагам, как он был им страшен живой. И что ему суждена неповторимая судьба: будучи мертвым, жить.
Пожелав спокойной ночи отцу и генералу Верстовскому, Аничка пошла к себе.
На следующий день, первого сентября, Екатерина Павловна Акимова, семи лет от роду, должна была впервые пойти в школу, и Аничка стала разглаживать утюгом ее белый фартук. Брызгать водой на фартук на этот раз не пришлось — он был и так в изобилии смочен крупными, как дождевые капли, материнскими слезами.
<1952>― ПРИ СВЕТЕ ДНЯ ―
Рассказ
1
Наступал час рассвета. Утренняя серость постепенно, но с каждой минутой все напористее и быстрее вползала во все щели, проникала в темные подворотни, слизывала густые тени с порогов и стен. Прямоугольные пространства заполнились еще неопределенным туманом, вовсе не напоминавшим о солнце, но этот туман понемногу светлел, белел, розовел и вдруг, неожиданно задрожав, зажегся желтыми солнечными лучами на оконных стеклах верхних этажей.
Это повлекло за собой целый ряд новых звуков и картин. Ранний храбрец автомобиль зафыркал в ближнем дворе. Донесся протяжный гудок отдаленного завода. Захлопали форточки. Зашаркали шаги. Дворничиха в белом фартуке громким и сладким зевком встречала в воротах встающее солнце. Продрогший за ночь милиционер гляделся в маленькое зеркальце и поправлял русую челку — при свете утра он оказался девушкой. С трамвайных рельсов с тихим шелестом убегали разгоняемые первым трамваем желтые листья.
Человек шел по мостовой, глядя по сторонам с любопытством, выдающим приезжего. Он был одет в солдатскую шинель, и за спиной у него висел вещевой мешок — старый, побуревший от пота и дождей. Весь вид этого человека напоминал о недавно закончившейся войне, и только кепка на голове — обычная рабочая кепка, по-видимому, совсем новая, — была единственной данью наступившему мирному времени. Она и выглядела не к месту, и лицо человека — скуластое, голубоглазое, с добрыми, словно припухшими губами — из-за этой кепки многое теряло в своей солдатской выразительности.
Человек внимательно и чуть удивленно приглядывался к оживающим московским улицам. Большая машина, поливающая мостовую, прошла мимо, обдав его водяной пылью. Он улыбнулся и приветливо помахал рукой шоферу. В этом движении чувствовалась свобода — однако не развязность городского жителя, а скорее независимость исходившего тысячу дорог солдата.
Даже в том, что он шел не по тротуару, а по мостовой, даже и в этом, пожалуй, сказывалась солдатская закваска, привычка к хождению строем, к ощущению себя не единицей, а частью колонны, для которой тротуар — слишком тесное место.
Хотя человек был несомненно нездешний — его мятая шинель свидетельствовала о сне на вагонной полке — и, возможно, даже приехал в Москву впервые, но в нем не чувствовалось никакой растерянности, военная привычка к перемене мест выбила из него, как и из большинства бывших солдат, следы провинциальности, деревенщины, скованности движений. Возле перекрестков он останавливался, читал название улицы и шел дальше уверенным и ровным шагом. Было похоже, что кто-то подробно растолковал ему путь следования, и он — из спортивного, быть может, интереса — не задавал ни милиционерам, ни ранним прохожим никаких вопросов.
Единственное, что с несомненностью выдавало его принадлежность к деревне, была приветливость: он здоровался с ремонтными рабочими, уже собиравшимися к своим «объектам», вежливым и веселым: «Здравствуйте».
В этом слове и, главное, в том, как оно произносилось, можно было распознать и просто естественную приветливость русского деревенского человека, и особое уважение к труду рабочих, подновляющих не какие-нибудь дома, а дома столицы, Москвы — предмета гордости и мечтаний миллионов сердец в различных дальних углах обширнейшего из государств.
Так он прошел всю Кировскую улицу и вышел на площадь Дзержинского. Тут, на этой площади, к которой сходилось множество широких и узких улиц, можно было бы и спросить, как идти дальше, но, постояв с минуту в задумчивости, человек перешел на противоположный тротуар, перерезал наискосок еще улицу, поплутал в каких-то переулках и очутился на другой площади. Здесь он остановился, соображая, как идти дальше, но внезапно заметил в очертаниях площади и в простиравшейся вдоль нее высокой красной стене что-то торжественное и необыкновенно знакомое. Затем он увидел Мавзолей Ленина и тогда понял, где находится. Он весь похолодел, ибо, зная, что Красная площадь существует, и в подробностях зная все, что на ней расположено, он тем не менее был огорошен тем, что все здесь на самом деле именно такое, каким оно представлено в кинофильмах и на тысячах виденных им рисунков, фотографий, картин и газетных заставок. Больше всего удивило его, быть может, то обстоятельство, что он просто вошел на эту площадь, точно так же как и на любую другую. В своей гордости за Москву и в особенности за ее святая святых — Красную площадь — он, пожалуй, предпочел бы, чтобы сюда входили по-особому, как-то совсем не так. Чтобы сюда билеты продавали, что ли.
— Так вот куда ты залетел, Андрей Слепцов, — сказал он себе вполголоса и вынул правую руку из кармана, словно для отдания чести. Левая же рука осталась в кармане, и это было бы странно для солдата, если бы рука существовала. Но руки левой не было, а был только рукав.
Андрей Слепцов постоял на Красной площади добрых минут двадцать, наконец повернул направо. У Охотного ряда он впервые обратился к постовому милиционеру, и тот растолковал ему, куда идти дальше. А идти ему следовало до площади Пушкина, чтобы затем, повернув по бульвару, дойти до нужного переулка.
Однако было слишком рано стучаться в дом. Поэтому Слепцов, не заворачивая в переулок, сел на бульваре на скамейку. Здесь он вскоре незаметно задремал.
Когда он проснулся, было уже часов девять. Все кругом изменилось до неузнаваемости. Пустынные гулкие улицы, широко и свободно лежавшие под нежаркими утренними лучами солнца, превратились в шумливый и пестрый человеческий улей. Гул и топот, жужжание и цоканье, человеческие голоса и короткие сигналы автомобильных сирен заполнили все на этой огромной ярмарке, стремительной, пританцовывающей, то и дело вскрикивающей, всхрапывающей от удовольствия, от любования собственной огромностью, собственным многоголосием и разнообразием. Это все было настолько неожиданно, что у Слепцова зарябило в глазах. В состоянии радостной растерянности прошел он сквозь строй нянек с детьми с бульвара в переулок, а там — к тому двору, который был ему нужен.
То был обычный московский двор среди многоэтажных стен большого кирпичного дома. Но и здесь люди любили цветы и траву. Посредине двора был устроен маленький садик с клумбами, на которых уже не было цветов, однако оставалась зеленая травка. Этой травке Слепцов подмигнул, как доброму знакомому и союзнику среди кирпича, стекла и асфальта.
Окинув взглядом бесконечное множество окон и балконов, Слепцов вдруг заволновался. Он застегнул шинель на все крючки и направился к дому, к одному из подъездов, возле которого на низкой скамеечке сидела старушка в белом платочке, в очках и вязала чулок. Нехитрое и древнее ее занятие живо напомнило Слепцову деревню, и он поэтому обратился к ней запросто:
— Скажи-ка, бабушка, где тут Нечаева проживает?
Старушка подняла на него строгие глаза, но медлила с ответом, разглядывая пришельца довольно бесцеремонно. Слепцов слегка улыбнулся и осведомился:
— Не оглохла, бабушка?
Бабушка была готова рассердиться на него за непочтительный вопрос, но тут заметила пустой рукав и, сразу же погрустнев и подобрев, сказала:
— Иди, голубчик, вон туда, напротив, в шестой подъезд, и подымись на третий этаж.
Слепцов медленно пошел туда, куда ему указали, и поднялся по лестнице. На третьем этаже он перевел дух, проверил крючки на шинели и позвонил. Дверь отворилась.
2
На пороге стоял бледный мальчик лет двенадцати. Он молча ждал, что скажет пришедший. Пришедший же стоял тоже молча и только смотрел на мальчика; лицо солдата приобрело беспомощно нежное выражение.
— Стало быть, я Андрей Слепцов, — сказал он наконец. Его голос заметно дрожал. — Вот какое дело.
Он подождал, пристально вглядываясь в мальчика и, видимо, ожидая, что имя и фамилия о чем-то ему напомнят. Но мальчик молчал все так же выжидательно и отчужденно. Тогда Слепцов, слегка обидевшись, отрывисто спросил:
— Тебя Юрой зовут?
— Да, — сказал мальчик, удивившись.
— Да, Юрой, — уже веселее заговорил Слепцов. — Я тебя узнал. Еще бы не узнать… А ты вот меня не узнал. А не узнал ты меня потому, что сроду не видел. — Он засмеялся коротким взволнованным смешком и продолжал: — Что же ты так плохо гостей принимаешь, даже в дом не позовешь? А я, можно сказать, почти неделю все еду да еду. Издалека, значит. Из Сибири. Слышал про город Красноярск? Ну вот, я из-под самого Красноярска к тебе в гости и пожаловал, Юрий Витальевич…
Мальчик неуверенно сказал:
— Пройдите, пожалуйста.
Он отступил в глубь коридора и отворил другую дверь. Слепцов пошел вслед за ним, и они очутились в небольшой квадратной комнате, служившей, видимо, столовой и в то же время детской. Тут помещались буфет с посудой, стол, небольшая кровать и этажерка с книжками, школьными тетрадками и глобусом. На покрытом клеенкой столе стыл стакан чаю, лежал кусок хлеба, желтел на блюдце кусочек масла. Очевидно, звонок Слепцова оторвал мальчика от завтрака. Слепцов окинул взглядом стол и сказал:
— Да ты, оказывается, завтракал. Садись, продолжай, не стесняйся. А где мама?
— Мама ушла на службу.
— Ольга Петровна, значит, на службу ушла? — переспросил Слепцов, с видимым удовольствием называя мать мальчика по имени-отчеству и как бы лишний раз доказывая этим свою полную осведомленность в отношении людей, к которым приехал. — Так, так… Ну что ж, придется подождать. — Он говорил все это многозначительно, напуская на себя некоторую таинственность, что никак не шло к его открытому и ласковому лицу. Поставив свой вещевой мешок возле двери, а поверх мешка бросив шинель и кепку, он уселся на стул. Затем он окинул взглядом этажерку с книгами, глобус, глаза его посуровели, и он спросил: — Как учимся?
Мальчик ответил несколько уклончиво:
— Ничего. — Его тонкое лицо на мгновение затуманилось, и он, пересилив себя, добавил: — Две тройки. А все остальные пятерки.
— Понятно, — сказал Слепцов. Он внимательно посмотрел на мальчика и решил после короткого размышления не упрекать его за тройки. Он только повторил: — Понятно. — И добавил: — Твой отец был человек ученый, и ты должен быть тоже ученым человеком, культурным, одним словом сказать советским.
Мальчик слабо улыбнулся поучению солдата — в этой улыбке сказалась некая доля столичного высокомерия по отношению к простоватому ходу мыслей провинциала. Слепцову, во всяком случае, эта улыбка не понравилась, и, выказав несомненную тонкость в понимании затаенных мыслей, он недовольно и сурово посмотрел мальчику в глаза, отчего Юра смутился и принялся за завтрак.
Пока он, сидя в неловкой позе, медленно пододвигал к себе чай и хлеб, Слепцов, расположившись в углу в мягком кресле — здесь было уютно и полутемно, — глядел на него так внимательно, словно изучал каждое его движение, и искал в повороте головы, в линии губ и подбородка и вообще во всей повадке мальчика знакомые черты. И, находя их во всем, а главное, во взгляде, несколько рассеянном и печальном, удовлетворенно покачивал головой. Его только удивляла напряженность в позе и во всем поведении мальчика. Он, разумеется, не мог знать, о чем думает Юра в это время. А Юра думал о том, что вот нужно пригласить приехавшего издалека человека к столу, а на столе всего в обрез, и сахару нет, есть только маленькая конфетка, которой и на стакан чаю не хватит, — все в той скудной норме, какую получали по карточкам. И мальчик, сидя в неловкой позе — ему было стыдно, что он не зовет человека к столу, и в то же время жалко поделить с ним свой убогий завтрак, ибо он сам был очень голоден, — размышлял о том, как быть. Наконец он, вздохнув потихоньку и посмотрев на хлеб и масло долгим прощальным взглядом, поднял на Слепцова серьезные глаза и сказал:
— Садитесь, пожалуйста. Мы позавтракаем вместе.
Приняв не без внутренней борьбы такое решение, Юра явственно повеселел, у него будто камень с души свалился. И, заметив в нем эту перемену, Слепцов тоже оживился, встал с места и воскликнул:
— Хотя я и не очень голодный, но не откажусь, раз ты меня приглашаешь! Только уж не обижайся, я и свои харчи к твоим прибавлю.
Он подошел к вещмешку, ловко развязал его единственной рукой и стал молча выкладывать из него на стол свертки, один другого аппетитнее и жирнее. На столе понемногу образовалась горка вкуснейшей еды, среди которой были связки копченой и вяленой рыбы и полосы жареного мяса.
Мальчик смотрел на все это и не верил своим глазам. Потребовалось трехкратное приглашение Слепцова, чтобы Юра принялся за обильную пищу, ненормированную, жирную, острую и притом еще пахнущую дальними дикими пространствами, где рыбу не покупают в магазине, а ловят в больших реках, а мясо достают с помощью ружья и ножа. Юра опьянел от еды и, как все пьяные, стал болтлив. За время завтрака он успел поведать Слепцову немало своих горестей и радостей, в том числе обиду на учительницу географии, несправедливо ставившую отметки, подробности своей ссоры с приятелем, неким Федей, историю разных находок и пропаж и многочасовых прогулок в одиночестве или стаей, с ленивым глазением на уличную жизнь большого города, с сованием носа во все уличные перепалки и во все раскрытые окна нижних этажей.
Слепцов слушал внимательно, иногда покачивая головой, как бы в подтверждение своего внимания или в знак согласия. Потом он спросил:
— Кем ты желаешь быть? — И тоном всесильного человека, от которого зависит все, добавил: — Ты не тушуйся, скажи.
Может быть, человек, выложивший на стол такую гору вкусной еды, и впрямь показался Юре всесильным. Так или иначе, он откровенно признался в том, что хочет быть летчиком-истребителем. Слепцов вошел к нему в такое доверие, что Юра чуть было не высказал ему свою самую главную и самую постоянную мечту — обычную, хотя и тщательно скрываемую, лелеемую в дальних тайниках души сладкую мечту всех мальчиков, много болевших и физически слабых, но в то же время (может быть, именно поэтому) очень самолюбивых: быть силачом, притом самым сильным силачом на свете. И вовсе не ради почестей и славы. Он был бы готов согласиться на то, чтобы никто на свете не знал о его силе — до поры до времени, до первой увиденной им несправедливости: большие обижают маленького, сильные — слабого, злые доброго, богатые — бедного, многие — одного.
Глядя исподлобья на Слепцова и отмечая про себя нежность слепцовского взгляда, Юра тем не менее не решился рассказать сибиряку о своей мечте, понимая, в сущности, что это детская мечта, слишком прекрасная, чтобы быть осуществимой. При этом он с практичной и печальной мудростью ребенка, редко в своей жизни евшего досыта, подумал, что, если бы у него каждый день был такой завтрак, как сегодня, он и в самом деле мог бы стать силачом. В связи с этой мыслью ему пришло в голову, что он слишком увлекся чужой едой; и, вместо того чтобы потянуться за очередным куском рыбы, он, помедлив минуту, откинулся на спинку стула.
— В школу, что ли, пора? — спросил Слепцов.
— Нет, я во второй смене, — ответил мальчик. — Мне нужно уроки доделать.
— Правильно, — согласился Слепцов. — Я тебе мешать не буду. Ты делай, а я здесь в уголке посижу.
Однако сел он не сразу. Он медленно обошел всю комнату, изучая предметы обстановки внимательными глазами. Увидев на стене два женских портрета, он спросил, кто эти женщины, а узнав, что одна — знаменитая ученая Мария Кюри, а другая — знаменитая артистка Комиссаржевская, поглядел на них с уважением. Затем он полистал настенный календарь, повертел глобус и наконец уселся в то же мягкое кресло в уголке. Здесь он искусно закрутил одной рукой с помощью колена цигарку махорки, но подумал, что в комнате курить, вероятно, не полагается и следовало бы выйти покурить на улицу или хотя бы в коридор. Но было лень вставать. Юра медленно и старательно писал. Стенные часы с резьбой приятно и долго прозвенели. Слепцова опять стало клонить в сон. Он боролся со сном, так как хотел проводить Юру в школу, но с каждой минутой все больше сказывалась усталость пяти дней путешествия в бесплацкартном, напиханном людьми вагоне, и Слепцов наконец уснул — второй раз за утро.
3
Слепцову приснилось, что он сидит в устланном соломой окопе и курит махорку, а рядом с ним дремлет капитан Нечаев, командир батальона. Слепцов внимательно смотрит на бледное, усталое лицо Нечаева, на его мокрую, набухшую шинель. Длинные ресницы Нечаева опущены, они влажны от дождя, нежно перепутаны и приклеены к подглазьям. Слепцов должен разбудить капитана, потому что обязан сообщить нечто очень важное. Он мучительно вспоминает, что именно он обязан сообщить, и не может. Но вдруг он слышит рядом с собой детский плач, и тогда он почему-то вспоминает, что должен был сказать капитану Нечаеву. Он должен был ему сказать, что исполнил его предсмертное завещание — приехал в Москву, к его семье, и передаст ей все, что обещал передать. И тут Слепцов во сне вдруг спохватывается, что Нечаев-то сидит рядом живой и, следовательно, не мог еще сказать ему предсмертных слов. И Слепцову становится страшно, и он хочет разбудить Нечаева, но боится, что если он его разбудит, то Нечаев сразу умрет, раз он уж и так умер. Во сне Слепцов понимает, что все это какая-то «мура», несусветица, и ему приходит в голову, что, может быть, Нечаев не умер, а Слепцову только снилось, что комбат умер и, умирая, просил побывать в Москве у его семьи; и даже то, что война кончилась, Слепцову тоже только приснилось здесь, в окопе. И Слепцов опять чувствует всю запутанность ситуации, но никак не может из нее выпутаться. Но что действительно кажется совсем реальным, то это плач ребенка рядом. Слепцов по этому поводу удивляется — как здесь очутился ребенок, может быть, где-то поблизости скрываются беженцы, бездомные. Слепцов глядит поверх бруствера и видит невдалеке маленький городишко, пестрый, с желтыми и розовыми домиками, явно нерусский — вероятно, один из тех венгерских городков с труднопроизносимыми названиями, которых Слепцов немало навидался, перед тем как вражеская разрывная пуля раздробила ему руку.
В этот миг ресницы Нечаева вздрагивают и с трудом отлепляются от лица, Нечаев открывает свои большие глаза и взглядывает на Слепцова взглядом неторопливым, всевидящим и как бы очень успокоенным и довольным.
Слепцов, похолодев, проснулся. Детский плач наяву оказался еще громче, чем во сне. Но Слепцов еще некоторое время находился в обаянии сна, и, когда наконец очнулся окончательно и понял, где находится, его сердце жарко сжалось от никогда с такой силой не испытанного чувства счастья.
Юры уже не было. Не было на столе и его тетрадей. Сибирская снедь, аккуратно сложенная на газете и укрытая другой газетой, была придвинута к тому углу стола, который был ближе других к Слепцову. Плач младенца доносился из соседней комнаты, а вскоре появился и сам виновник этого шума. То была маленькая девочка, лежавшая на больших красных руках молодой грудастой женщины с растрепанными соломенными волосами. Женщина держала девочку перед собой на ладонях полувытянутых рук — одна ладонь под головкой, другая под попкой — и слегка покачивала, голенькую, полненькую, кричащую и с остервенением совавшую себе в рот маленькие кулачки с похожими на лепестки крохотными пальцами.
Продолжая покачивать младенца на полувытянутых руках, женщина певуче спросила:
— Издалека, что ли?
— Издалека, — ответил Слепцов и спросил, в свою очередь: — Чего она у вас надрывается?
— Не пойму. Уж и так и этак…
— Может, есть хочет?
— Не-е… Недавно ела. Срыгнула даже. Може, животик болит, кто ее знает. Бессловесная ведь.
Слепцов подошел к младенцу. Девочка, уловив своими блуждающими глазами незнакомое лицо, широко улыбнулась беззубым ртом, обнажив десны чистейшего розового цвета. Трудно было даже поверить, что за мгновение до того она плакала так надрывно, словно ее маленькое сердце до края переполнилось всеми горестями и несправедливостями нашей окаянной планеты. Слегка возгордясь своим успехом и преисполнясь по этой причине особой нежности к девочке, Слепцов почмокал губами, пощелкал языком, повращал глазами — одним словом, энергично пустил в ход все небогатые двигательные возможности человеческого лица; он был готов пожалеть, что у него нет длинных ушей, чтобы ими похлопать. Младенец продолжал улыбаться с бессознательно-покровительственной миной, словно знал, что все эти ухищрения делаются ради него; и казалось — он улыбается уже через силу, только с целью поощрения столь больших стараний.
— Пойдешь ко мне? — спросил Слепцов. — А? Пойдешь? Иди ко мне. Не заплачешь?
Он осторожно просунул под младенца свою единственную руку и ловко уложил его на руке, головкой к своему плечу. Девочка лежала на руке, как в колыбели, и внимательно смотрела на лицо Слепцова, которое теперь видела в ином ракурсе, что, может быть, показалось ей особенно забавным. Нянька между тем, обрадованная неожиданным умиротворением девочки, засуетилась, выбежала, принесла пеленки и одеяльца, закутала девочку, снова уложила ее на слепцовскую руку и сказала удивленно и фамильярно:
— Тебя бы няней. Ишь как смеется!
— У меня на детей приворотное слово есть, — деловито объяснил Слепцов.
Нянька широко раскрыла глаза и села на стул.
— Ну? Врешь.
— Вот тебе и ну. Погляди мне в глаза. Огоньки видишь?
Нянька с некоторым почтением посмотрела Слепцову в зрачки, увидела в них светлые отсветы окон и неуверенно сказала:
— Вижу будто.
— В них-то все и дело. А теперь я скажу слово, а ты повтори, и если запомнишь, то у тебя дите всегда будет спокойное и довольное. Слушай. Секешфехервар.
Он повторил еще дважды, делая при этом таинственное лицо:
— Секешфехервар. Секешфехервар.
И сам улыбнулся: это название венгерского города было испытанием для всего Третьего Украинского фронта.
Она уже поняла, что он шутит, однако шутки его, притворно серьезная мина и ласковые морщинки сбоку глаз понравились ей, развеселили ее. Она впервые посмотрела на него не как на странного посетителя, неизвестно по какому делу приехавшего, а как на приятного и видного собой мужчину. И она перешла с «ты» на «вы», стала жеманно выговаривать слова, неестественно похохатывать, глядеть на него уже не прямо, а искоса, с тем примитивным, но, в сущности, милым кокетством, какое было в ходу в ее деревне, и все хотела, но не решалась спросить, есть ли у него семья.
Вдруг она всплеснула руками:
— Ой, горе мое! Очередь не пропустила ли в булочной?! Вам все сеше, хеше, а тут хлеба может не хватить. Я мигом. Не скучайте.
Она искоса бросила на него последний зазывный взгляд и убежала. Хлопнула дверь, другая, и стало очень тихо, даже тише, чем в деревне. В деревне лает собака, квохчет курица, мычит корова, а здесь было беззвучно-тихо, как может быть тихо в пустынной городской квартире на малопроезжем переулке днем, о ту пору, когда дети в школах, а старшие — на службе.
Слепцов, оставшись в одиночестве с девочкой на руках, или, вернее сказать, на руке, устроился удобнее в кресле. Ему хотелось курить, но он не стал тревожить задремавшего младенца и только приговаривал:
— Сейчас твоя мамка вернется, хлебца принесет из очереди свеженького, молочка тебе даст, тогда мы закурим, выйдем, значит, в коридор, культурно, чтобы на тебя дымом не пыхать.
Он запел вполголоса диковатую колыбельную, созданную каким-то человеконенавистником для запугивания маленьких детей:
Анадысь на дворе Чтой-то грохотало, А как вышел я на двор Оно перестало… У-у-у, у-у-у…Девочка задремала, затем проснулась, заплакала было, но, опять увидев в поле своего зрения то же лицо, пристально и упорно стала в него вглядываться, и при этом ее взгляд выражал такой, казалось, ясный и глубокий ум, такую, казалось, сосредоточенную мысль, что Слепцову, растроганному и пораженному, на мгновение представилось, что она все знает о нем и видит его насквозь. И лишь когда она снова беззубо и розово улыбнулась, он как бы опомнился от своей минутной иллюзии и сказал умиленно:
— Девочка. Девочка. Маленькая девочка.
И он подумал, что маленькие девочки приятнее и нежнее мальчиков, — у него-то самого было двое мальчишек, и он относился к ним с нарочитой грубоватостью, чтобы «не мягчели зря». А с девочкой он был бы гораздо ласковее. Он не мог бы быть с ней грубым, думал он теперь.
«Мамка» все не приходила. Девочка лежала спокойно, с открытыми глазами.
— Какая ты будешь? — спросил Слепцов. — Скажи, пожалуйста. — Он вскинул вверх глаза, посмотрел на портреты знаменитых женщин и, сделав движение подбородком к строгому лицу Марии Кюри, спросил: — Вот такая, как эта? — Он сделал такое же движение подбородком по направлению ко второму портрету и опять спросил: — Или же вот как та?.. Скажи. Чего же ты не говоришь? Не тушуйся, девочка. Маленькая девочка.
Но вот брякнул замок, звякнула цепочка, стукнула дверь, застучали каблучки.
— Вот и мамка твоя, — сказал Слепцов и посмотрел на дверь, заранее ухмыляясь.
Но когда дверь открылась, вошла совсем не «мамка», а она, Ольга Петровна Нечаева, — рослая, светловолосая, несколько полная, стремительная, будто летящая. Слепцов сразу узнал ее по десятку фотографий, бывших всегда при комбате, а теперь лежавших у Слепцова в нагрудном кармане. Не имея возможности встать — рука была занята, кресло было низкое и глубокое, — Слепцов только смотрел на нее и ничего не мог сказать дрожащими губами.
4
Ольга Петровна остолбенела при виде девочки на руках у чужого человека, но именно то, что незнакомец держал малютку на руках (девочка пускала пузыри и хватала его за подбородок), немного успокоило Ольгу Петровну: вор вряд ли стал бы нянчить младенца в чужой квартире. Ольга Петровна решила, что незнакомец — односельчанин или приятель Паши. Однако он был человеком с улицы и поэтому никак не годился в няньки по санитарно-гигиеническим соображениям. Поэтому она подбежала к нему, довольно резким движением отняла у него ребенка и недовольно спросила:
— Где Паша?
Слепцов встал с кресла. Он стоял очень сконфуженный, как будто в чем-то виноватый.
— Мамка ее? — переспросил он. — Она в очереди. Хлеб получает… Здравствуйте, Ольга Петровна. Я Андрей Слепцов. Вы, может, знаете… Может, слышали… верней, читали мою фамилию…
— Как читала? Где читала? — недоуменно спросила Ольга Петровна, тем временем быстро закутав ребенка и положив его на подушку, которую ради этого взяла с изголовья Юриной постели и кинула на кровать плашмя.
— Я по поручению моего командира. Виталия Николаевича Нечаева… прибыл из Сибири. Как обещал ему. Хотя поздненько, но прибыл. Раньше никак не мог, уж извините, долго после ранения лечился…
Ольга Петровна замерла над ребенком, потом выпрямилась, обернулась и медленно пошла к Слепцову. Он тоже сделал шаг ей навстречу. В глазах у нее был испуг — вероятно, оттого, что солдат говорил о ее муже, как о живом, как о где-то существующем. Потом она вдруг непривычно для себя засуетилась, заволновалась.
— Садитесь, садитесь, — сказала она. — Да, да… Превосходно… Я сейчас… Минуточку.
Она вышла будто бы по хозяйству, а на самом деле для того, чтобы постоять в одиночестве, отдышаться, прийти в себя. В то же время она, несмотря на свое внезапное волнение, продолжала механически делать свои обыденные дела и находила в этом некое успокоение. Она сняла через голову и повесила в шкаф на плечики свое платье и вместо него надела, сняв с соседних плечиков, пестрый халат с короткими рукавами. Затем она пошла в кухню, зажгла керосинку и поставила на нее эмалированный чайник. Сменила заварку в фаянсовом чайнике. Сложила в миску грязные стаканы для мытья.
Понемногу она успокоилась. Когда в коридоре позвонил телефон, она пошла к нему уже своей обычной, быстрой, будто летящей походкой, несколько преувеличенно самоуверенной, и в трубку говорила уже с полным самообладанием, с обыкновенными своими чуть насмешливыми в конце фразы интонациями, придающими ее разговору своеобразную прелесть.
— Да, да. Кормлю ребенка, — сказала она. — Нельзя ли наш разговор отложить на завтра? У меня тут гости. Значит, сегодня меня в институте не ждите, хорошо? До завтра.
Положив трубку, она постояла с минуту неподвижно и с досадой отметила, что ей трудно вернуться обратно в столовую, к однорукому солдату. Она упрямо мотнула подбородком и пошла в столовую.
— Садитесь, — сказала она с оттенком приказания в голосе, застав Слепцова на прежнем месте посреди комнаты. Ее взгляд упал на мясо и рыбу, по-прежнему лежавшие на краешке стола, и она, улыбнувшись без нужды, а только так, для того чтобы имитировать непринужденный разговор, добавила: — Вижу, вы тут уже успели позавтракать.
— Да, мы тут вместе с Юрой, — пробормотал Слепцов сконфуженно, и в его глазах пробежало выражение жалости, почему-то кольнувшее Ольгу Петровну, как упрек.
Она сказала деловито:
— Значит, вы говорите, что Виталий Николаевич…
Лицо Слепцова сразу стало просветленным и торжественным.
— Да, — сказал он. — Он скончался на моих руках и просил… поручил мне… я ему дал слово. И вот я прибыл.
Ольга Петровна быстро закивала головой. Она с ужасом чувствовала, как ею опять овладевает непривычная для нее суетливость и разорванность сознания. Она с беспокойством покосилась на девочку. Та лежала молча, глядя в потолок с сосредоточенным, задумчивым видом. От девочки Ольга Петровна быстро перевела взгляд на солдата — солдат был точно так же сосредоточен и задумчив. Ольга Петровна села на тот стул, на котором утром сидел Юра, — между девочкой и солдатом, — положила на стол крест-накрест свои белые полные руки с золотистыми волосиками и сказала:
— Я вас слушаю.
Слепцов медленно заговорил:
— Товарищ Нечаев умер на моих руках, в полном сознании. Мы не успели его довезти до санитарной части. Мы пробовали, но дорога была плохая, в ухабах, и ему очень было больно от тряски на повозке, так что пришлось нести его на носилках. А ранения у него были тяжелые. Весь батальон был в большом горе, его у нас все любили, и солдаты и офицера. Командир дивизии тоже, чуть что, как важное задание — сразу капитан Нечаев… К слову сказать, после его смерти уже, — а умер он вы, наверное, знаете, второго мая тысяча девятьсот сорок четвертого года, в праздник, денька через два пришел приказ о присвоении ему звания майора. Так что если у вас в бумагах не указано про это, то надо сказать в военкомате — может, пенсия будет поболе… Любили его за честность, за душевность… Да вы-то знаете, не чужой ему человек… И в бою он был спокойный. Может, был бы жив, если бы не честность его да храбрость: его не раз хотели у нас забрать — то в армию, в отдел кадров, то в оперативный отдел в корпус — человек образованный и к тому ж боевой командир. Но он не хотел, отказывался. Еще за неделю до последнего боя командир дивизии при мне его звал в свой штаб. «Ты интеллигент, — говорит он ему, — ты совестливый, всегда хочешь примером солдату быть, лезешь вперед, как безумный… Убьют тебя. Переходи ко мне». А товарищ Нечаев засмеялся и говорит: «Интеллигентов так редко хвалят! За это одно я здесь останусь». А командир дивизии ворчит: «Разве я тебя хвалю? Я тебя ругаю, а ты думаешь — хвалю…» Оба они были интересные, как сойдутся — такое наговорят.
В дверях показалось круглое лицо Паши. Увидев хозяйку, она оробела как бы та не накинулась на нее за то, что бросила ребенка на чужого дядю и развела уже после получения хлеба тары-бары с соседскими няньками. Но хозяйка ничего не сказала, даже не обернулась к ней. Более того, не желая, чтобы Паша с ней заговорила, она еще ближе подвинулась к солдату и несколько раз настойчиво повторила:
— Продолжайте, продолжайте.
Паша бесшумно прошмыгнула мимо нее к кровати, взяла девочку и унесла ее из комнаты, облегченно вздохнув на пороге.
— Продолжайте, — повторила Ольга Петровна, но когда Слепцов снова заговорил, она вдруг встала с места и сказала: — Подождите. Я отлучусь на несколько минут по хозяйству.
5
Пока Ольга Петровна была в отсутствии, перед глазами Слепцова проходили, словно наяву, картины военной жизни. Он почти забыл, где находится. Вокруг него клубился туман фронтовых дорог, шли с потушенными фарами вереницы грузовиков, вились среди сырых опадков хвои неглубокие траншеи, саперные лопатки ударяли по дерну, рассекая тонкие корни трав, дождь стучал по капюшонам плащ-палаток; дождь и вёдро, зной и стужа, ночевки в лесу на елочном лапнике и в позолоченных залах княжеских дворцов — все это сменяло одно другое. Когда Ольга Петровна вошла и уселась на прежнем месте, Слепцов заговорил свободно и плавно, забыв про свое смущение, словно перед привычными слушателями — такими же, как он инвалидами, — в колхозной чайной.
Между прочим, Ольга Петровна была уже не в халате, а в черном закрытом платье, но солдат не заметил этого переодевания, а если и заметил, то не уловил его нарочитости.
— Повстречались мы с Виталием Николаевичем в первый раз, — начал Слепцов свой рассказ, — еще в сорок первом году, летом. Прибыл я тогда из тыла с пополнением в действующую армию. Бросили нас под Москву в контрнаступление — только не в то большое, зимнее, а раньше, когда немец был еще в силе, а мы только изредка огрызались, как могли. И вот тогда собрали много сил на одном участке и бросили против немца… Идем мы, значит, из штаба дивизии в полк. Перед этим дожди прошли большие, дорога вся размытая, ноги не идут, а на душе тревога: почти все молодые, необстрелянные, на западе зарево и стрельба такая, что душа уходит в пятки, на дороге — побитые кони, много побитых коней, и ямы от бомб. Однако идем мы, а рядом с нами топает по грязи офицер, старший лейтенант не наш, а попутчик, — курит все время, шинелишка худая, сапоги кирзовые.
Из чего это кирза делается — это никому не известно; вещь хотя и неказистая, а прочная, держится долго, зато уж если поползет на нитки, то расползается быстро. А у этого старшего лейтенанта голенища крепко поползли… Лицо у него худое, темное, и в очках он.
И вот мы идем и замечаем — не ест он ничего, а потом и курить перестал. Мы привал делаем — и он садится отдыхать. Мы, значит, едим, а он — того, не ест. И стало нам его жалко, особенно когда заметили мы, что он не курит, а курильщик, видно, отчаянный.
И вот старший из нас, Черепанов, пожилой человек, доброволец, бывший уральский партизан, подходит к старшему лейтенанту и так вежливо приглашает: пойдемте, дескать, покушайте с нами. Старший лейтенант к нам подсел, поел, махорки мы ему дали, и дальше пошел он с нами как наш человек. А в полку он исчез. Когда же мы пришли в батальон, видим — он уже там, и он и есть наш командир батальона. Прислали же его из другого полка, где он командовал ротой и так хорошо воевал, что получил повышение на комбата, а на другой день ему орден Красного Знамени вручили.
Обрадовался он мне и Черепанову, как родным: главное, говорит, за махорку спасибо. «Это был поступок!» — говорил он нам (он так иногда говорил, и мы все тоже приучилися так говорить, и это стало как высшая похвала в нашем батальоне).
Товарищ Нечаев взял меня к себе телефонистом, а Черепанова — связным. Жизнь пошла такая — ни сна, ни отдыха, дни и ночи перемешались. Продвинулись мы на шесть километров, освободили четыре деревеньки. А через три дня командира полка не то ранило, не то убило, и товарища Нечаева даром что всего лишь старший лейтенант — назначают командиром полка. Я дежурил у телефона и получил этот приказ и передал комбату, и он хотел уточнить, как и что, но тут порвалась связь. И товарищ Нечаев сдал батальон одному лейтенанту, а меня и Черепанова взял с собой, и вот приходим мы в полк.
Приходим мы в полк и спускаемся в землянку. А в землянке лежит майор — командир полка, раненый, и бредит он на полный голос, отдает в бреду команду и разные приказания, и весь горит, а врачей и санитаров нет, никак их не дозовешься. Я охрип тогда, вызывая кого-нибудь из врачей по телефону. Товарищ Нечаев перевязал командира полка, как мог, и все сидит возле него, мокрый платок ему кладет на лоб, пробует узнать про полк, да про его силы, да про его задачу, а тот ничего не видит и не слышит, а штаб полка вместе со своим начальником и со всеми картами и документами отрезан противником и сидит обороняется где-то в деревне, за три километра.
И вот налаживаем мы связь с двумя батальонами, и только третий батальон никак не отзывается, и велит мне товарищ Нечаев восстановить с ним связь. Вылезаю я из землянки на свет божий и вижу: кругом все разбито и раскромсано, и даже деревья и те разбитые. Беру я провод в руки и бегу, пригнувшись, по проводу к роще и вдруг вижу — в роще останавливаются машины, и оттуда выходят генералы и офицера. И один из них подходит ко мне и спрашивает, где здесь НП полка, и велит мне проводить его туда. Откозырял я, как сумел, и веду его обратно, к нашей землянке. И думаю, что веду генерала, а потом смекаю, что звезда-то у него на петлицах больно велика. И весь шалею: никак, Маршал Советского Союза). Первый и последний раз видел я тогда маршала за всю войну.
Вбегаю я в землянку, а маршал и с ним один генерал и командир дивизии — полковник идут за мной. А наш старший лейтенант, товарищ Нечаев, кричит в это время в телефон и смотрит в щель на наши боевые порядки. А обернувшись, он замечает маршала и командира дивизии, которого знал раньше, и рапортует, причем не очень громко, по-граждански больше, чем по-военному. Я даже подумал, что он не понял, кто перед ним. А маршалу это, должно быть, не понравилось, и посмотрел он на товарища Нечаева так пронзительно, что все испугались. Был он очень крут, и его боялись все командиры. И вот он спрашивает: «Почему не выполнили задачу дня? Сколько сил у противника на фронте вашего полка?» — «Не знаю», — отвечает товарищ Нечаев и хочет объяснить в чем дело, и показывает на раненого командира полка, который тяжко стонет в углу на соломе, но маршал не слушает, вдруг краснеет, начинает кричать и угрожать расстрелом и снова спрашивает: «Почему высотка, про которую докладывали, что она взята, у немцев? Очки втираешь, сукин сын?»
И тогда наш командир полка старший лейтенант Нечаев вдруг говорит: «Вы на меня не кричите».
И так он это спокойно сказал! У меня сердце зашлось. А маршал — тот задрожал от этих слов, и все думали, что сейчас он старшего лейтенанта застрелит, и впрямь его руки стали по воздуху шарить, как будто ищут чего-то. Но старший лейтенант так спокойно смотрел ему в глаза и сам был такой ясный, спокойный, что маршал, видно, хоть и сердился, но все-таки зауважал человека за то, что тот его не испугался. А командир дивизии, полковник, человек большой храбрости в бою, но перед начальством известный трус, молчал, хотя обязан был разъяснить в чем дело.
Тогда-то наш Черепанов, тот самый старик доброволец, уральский партизан, вдруг в тишине негромко говорит: «Да он же командиром полка всего полчаса…»
Маршал повернулся, но, увидев, что это солдат, да еще старик, ничего не сказал, только наклонил свою большую голову и опять к товарищу Нечаеву: «Слушай, командир полка. Видишь эту высотку шестьдесят один, пять? Завтра утром возьмешь ее. Возьмешь — получишь Героя Советского Союза. Не возьмешь — будешь расстрелян».
И наш командир на это ответил: «Хорошо». И улыбнулся. Ей-богу.
Маршал повернулся кругом и вышел, генерал и командир дивизии ушли за ним.
А мы остались. Я посмотрел тогда на нашего старшего лейтенанта и вижу: он все улыбается. Меня даже в пот бросило.
6
Гораздо позже ночью, когда мы пробирались к третьему батальону — а мы всю эту ночь проходили от батальона к батальону, от батареи к батарее, где-то в открытом поле мы прижались к земле, чтобы покурить, и я спросил у Виталия Николаевича: «Почему вы улыбнулись тогда?» Он подумал и ответил: «Мне его жалко стало». «Кого жалко?». «Маршала жалко». — «Маршала?» — «Да, ему плохо, ему хуже, чем нам. Он отвечает за все, за весь фронт. Видели, какие у него глаза красные? Какой у него рот горький?» Так он и сказал: «горький рот» — я хорошо это помню, вся эта ночь и весь день, все это как будто вчера было; я даже не слышал никогда, чтобы говорили так: «Горький рот», эти слова мне понравились, такие они были необыкновенные… Ну, я признался Виталию Николаевичу, что на глаза и рот маршальский не смотрел и даже, по правде говоря, не подумал, что у маршала есть рот и глаза, а смотрел на его звезды на петлицах (погон тогда не носили), и на его мундир. А Виталий Николаевич — он умел не на поверхность смотреть, а в душу… Что же я вам это говорю? Вы-то его знаете, не мне вам рассказывать…
Уехал, значит, Маршал Советского Союза, остались мы в землянке товарищ Нечаев, Черепанов, да один лейтенант из первого батальона (пришел узнавать, что да как), да полковой инженер. А майор, командир полка, вижу я, притих. Умер. И товарищ Нечаев снял с него планшет с картой и глядит на карту, потом бежит куда-то с Черепановым, возвращается с танкистом в черном шлеме — невдалеке, оказалось, танкетка стоит — и велит лейтенанту привести взвод солдат. И тот приводит, и вместе с танкеткой они отправляются на выручку штаба. И мне он велит исправить связь, и я бегу и исправляю, и когда возвращаюсь — его еще нету, а невдалеке слышатся разрывы гранат и выстрелы. Потом он возвращается вместе со всем штабом. И штаб приходит ни жив ни мертв, с сундуками, бумагами и полковым знаменем в чехле. И распоряжается товарищ Нечаев без криков, но все его слушаются. Знают все, что завтра этот старший лейтенант в рваных сапогах будет Героем Советского Союза или же будет расстрелян. И ему все быстро подчиняются и смотрят на него с особым уважением. И вроде бы жалеют его и как бы виноватые перед ним стоят.
А потом он велит мне принести воды умыться. Достаю я воды, приношу. Умывается он холодной водой. Предлагаем мы ему поесть — не ест. Поужинали все, а он нет; он офицеров штаба рассылает в роты и батальоны, а сам тоже идет и берет меня с собой. И ночь мы не спим, лазаем по окопам; и он спешит, перебрасывает взвода, и орудия, и минометы с места на место; и солдат расспрашивает про немцев и про их огневые точки, а особо он беседует с артиллеристами, заботится насчет снарядов и насчет пристрелки. И я его спрашиваю: «Вы, наверно, крепко военное дело изучали?» А он засмеялся: «Нет, говорит, я инженер, а по званию старший техник-лейтенант, случайно ротой стал в бою командовать — в тот момент никого поумней меня рядом не нашлось… Видишь, говорит какую карьеру сделал: неделю назад техник-лейтенант, сегодня — командир полка… А завтра…» Тут он замолчал и молчал долго. Я тоже, конечно, молчал.
В третий батальон было невозможно пробраться. Речка, низина, немцы всю ночь стреляют по ней из пулеметов. Полежали мы, покурили, потом поползли. А уже начинает светать, время идет. Что делать? Товарищ Нечаев полез в речку, и мы по грудь в воде час пробирались середь камышей, медленно, чтобы немцы не услышали плеск. И обратно тоже так.
Возвратились мы, было уже светло. Думал я, поспим часа два, потом наступать. Я-то действительно поспал немного, а командир не спал, все распоряжался да с начальником штаба приказы писал. Как проснулся я, вижу: встает он с места, перекладывает из вещмешка в карман гимнастерки запасные очки и говорит начальнику штаба: «Сиди здесь, командуй, разговаривай с начальством по телефону, докладывай ему обстановку, а я пойду. Сам поведу полк высотку брать».
Взял он меня и Черепанова, и мы пошли. И когда мы поднялись на возвышенное место и увидели перед собой большак и железнодорожную насыпь с разрушенным полустанком, а за железной дорогой ту самую высотку, шестьдесят один запятая пять, — холмик с редкими березками, — и увидели наших людей, медленно шедших к большаку небольшими кучками, и артиллеристов, тащивших «сорокапятки» на прямую наводку, — в этот момент Виталий Николаевич приостановился и сказал:
— Хорошо бы — убили. Жена и сын не будут опозорены.
И понял я, что он опасается, что не сможет полк взять ту высотку.
Сил действительно было у нас мало. Главный удар наносил второй батальон. Товарищ Нечаев на эту ночь усиливал его за счет других двух батальонов. Этот батальон стал как бы штурмовой группой, а остальные два, малолюдные, только поддерживали его огнем.
Постоял товарищ Нечаев и пошел, а мы — за ним.
Может быть, немцы что-нибудь пронюхали — у нас-то всю ночь было неспокойно, роты передвигались для создания ударного кулака, — стрельба была сильная, но товарищ Нечаев шел вперед во весь рост. А я человек необстрелянный — когда рядом рвалась мина, я, конечно, падал на землю и впивался в нее, как клещ. Был я неопытный, притом о жене и детях думал, да и маршал мне расстрелом не грозился. А старик Черепанов — тот тоже не ложился, не кланялся снарядам. И оба ждали, пока я встану, но не упрекали меня, молчали.
Когда же мы пришли во второй батальон и дело уже подходило к девяти часам, началу атаки, и мы с товарищем Нечаевым и командиром батальона тоже старшим лейтенантом — вышли на большак, где в обоих кюветах накапливался батальон для атаки, товарищ Нечаев вдруг оборачивается, манит меня пальцем и говорит: «Тут вот оставайся, тут и будешь. Будешь следить за связью со штабом полка и с соседом справа».
И жмет он мне руку крепко. И понимаю я, что он меня жалеет и не хочет брать с собой в атаку и потому придумал мне такое поручение, хотя вначале толковал, что я потащу за ним связь. Но не в силах я был ему возразить и по слабости человеческой обрадовался, так как боялся смерти и думал про свою семью. А для успокоения души думал: «Командиру виднее». Черепанову он тоже велел остаться, а когда Черепанов стал ему перечить, он сделал вид, что рассердился, и сказал: «Выполняйте приказание». Однако Черепанов, как я потом узнал, все-таки ушел с ним.
Высотку мы взяли. Я-то этого не заметил, так как тащил свои телефоны в земле, как крот, а все кругом гудело, и убитых было много. Уже на той самой высотке узнал я, что мы ее взяли и что товарищ Нечаев был ранен в плечо и руку. Мне рассказывали, что все поздравляли его со званием Героя, а он смеялся, отмахивался. И верно, поздравления были прежде времени. Все наше наступление продолжалось еще три дня, а потом выдохлось — немец был в полной силе, а мы еще только учились, как его бить. И высотка эта, которая казалась маршалу самым главным делом, была уже никому не нужная, а впереди было еще столько высоток, что ежели за каждую расстреливать командиров полка или давать им Героя Советского Союза, то не хватит офицеров в армии и золота на звезды в целом государстве…
Черепанова, между прочим, тоже ранило вместе с вашим мужем. Но я их не видел, увезли их в тыл.
7
Во время рассказа солдата Ольга Петровна, слушая вначале рассеянно, а потом все с большим вниманием и напряжением, вспоминала покойного мужа, но вспоминала не так, как обычно в течение двух с лишним лет, прошедших со времени его гибели, а совершенно по-новому. Солдат казался ей как бы посланцем из другого мира — того мира, где Виталий Николаевич Нечаев жил отдельно от нее, где умер и продолжает жить после смерти в воспоминаниях этого солдата. У нее ни на минуту не проходило ощущение, что однорукий солдат прибыл от живого Виталия Нечаева непосредственно — оттуда, где Виталий находится теперь, — настолько живы были его впечатления и настолько, в сущности, потрясающ его приход.
Ольга Петровна была далека от всякой мистики. Ощущение, что эти голубые глаза видели Виталия не два года назад, а только что, появилось оттого, решила она, что все, что рассказывал Слепцов, было для нее совершенно и абсолютно ново. Оно как бы относилось к Виталию Нечаеву и в то же время как бы не имело к нему никакого отношения, настолько он показался ей в рассказе и похожим и не похожим на себя.
С одной стороны, в словах солдата покойный муж ее вставал совсем как живой. Улыбка его, добрая и застенчивая до чрезвычайности, самозабвенность в любом труде, даже самом мелком, неумение заботиться о себе и условиях своей жизни, непрактичность, раздражавшая ее в нем нередко, — все это было на него похоже. Когда солдат произнес его слова: — «Мне стало его жалко», — Ольга Петровна даже вздрогнула, до того это ей напомнило его всего, до мельчайшей гримасы лица, его свойство, тоже иногда вызывавшее ее раздражение, «усложнять простые вещи», как она это называла когда-то, то есть всюду стараться находить побудительные причины и, поняв их, прощать.
Да, она узнавала его через слова солдата, словно солдат незримо рисовал его перед ней теплыми и ясными мазками, хотя солдат вовсе не пытался передать ситуации, о которых рассказывал, какими-либо средствами искусства или подражания.
Но, узнавая мужа в частностях, она не узнавала его в целом. Нечаев, встававший из слов солдата, был не тем человеком, которого, казалось, так хорошо знала Ольга Петровна, — рассеянным, робким, несколько инертным, увлеченным только своими расчетами и чертежами, только умственным, и то до некоторой степени механическим трудом расчетчика, чернорабочего от инженерии. Слепцовский Нечаев вошел одетый в воду, а тот, ее Нечаев, простуживался от любого сквозняка и был мнителен, приписывая себе всевозможные болезни. Этот Нечаев был любимцем множества людей — тот был нелюдим, он был только уважаем, да и то слегка насмешливо. Этот Нечаев не боялся никого — даже маршала, который мог его расстрелять; тот опасался институтского начальства, которое могло его ущемить. В том Нечаеве, которого она знала раньше, не было как будто ни удали, ни хладнокровия, ни такого уж большого обаяния — всего того, что было в преизбытке у слепцовского Нечаева.
Этот, кроме прочего, оказывается курил! Виталий не выносил табачного дыма. У этого был орден Красного Знамени, он командовал батальоном, полком! Несколько раз во время рассказа Ольга Петровна с полной искренностью думала: «Да полно, не случилась ли грубая и обидная ошибка? Может быть солдат рассказывает совсем о другом человеке — однофамильце и тезке Виталия Нечаева. Он не туда попал, ему дали неверный адрес…»
Виталий Николаевич не писал ей о своих ранениях, о полученных наградах, званиях, должностях. Вероятно, он думал, что это не может интересовать ее. Но по мере того как она, деля свое возбужденное и утончившееся внимание между рассказом Слепцова и своими смятенными мыслями, вспоминала письма мужа и отдельные фразы из них, она не могла скрыть от себя, что, в общем, он сообщал ей о всех своих делах, передрягах, переводах из части в часть, с фронта на фронт. Перед ней всплыла фраза: «Вот у меня и вторая царапина — все идет отлично». Он сообщал ей об этом в игривом тоне — конечно, потому, что не хотел ее волновать.
Она стала упорно вспоминать, — не упуская при этом ни единого слова из рассказа Слепцова, — что она ответила Виталию на сообщение о «царапинах». И покрылась холодным потом: ответила она что-то удручающе незначительное, мелкое, даже не сказала, что понимает, как ему трудно. Между тем он выносил тяжести невыносимые, муки смертные.
Когда солдат рассказывал о том, как Виталий Николаевич шел по грязи в плохой шинели, без еды и в порванных сапогах, она испытывала знакомое ей чувство покровительственной жалости и даже некоторого удовлетворения тем обстоятельством, что муж без нее беспомощен и не приспособлен к жизни, тезис, который она не уставала повторять когда-то. Но по мере хода рассказа она поняла, какая все это чепуха, он вряд ли замечал свой унылый и несчастный вид, он был нетребователен, он и от нее так мало требовал. Он был скромен и горд. Впрочем, был ли он скромен? Был ли он горд? Она не знала. Она плохо знала его. Или, может быть, этот солдат его плохо знал? Кто знал подлинного Виталия Нечаева? Она, которая провела с ним десять лет — три тысячи шестьсот пятьдесят дней, или он, знавший его три дня?
Конечно, она имела свои оправдания. Эти годы она жила в маленьком сибирском городке, казалось, целиком сотканном из неуюта и холода, тем более что старожилы, местные чалдоны, жили в своих бревенчатых черных домах уютно, тепло и замкнуто.
С великим трудом приживалась она в тех краях: жизнь там текла трудно и однообразно, и ей казалось, что хуже не бывает. Мечта о возвращении в Москву превратилась у нее почти в манию. Каждый день войны казался ей проклятием, потому что откладывал это возвращение. Правда, ее жизнеспособность не изменила ей и там. Она вскоре сравнительно сносно устроилась, пробилась сквозь строй препятствий, сквозь вязкую массу неподвижного быта тех мест. Энергия пополам с полусознательным кокетством, тоже являющимся проявлением энергии и жизнеспособности в красивой женщине, помогла ей встать на ноги, получить собственный угол, хорошую работу, полезные знакомства.
Потом она узнала, где находятся сослуживцы мужа, списалась с ними. Они вызвали ее в другой, большой сибирский город и устроили в институт, где работал Нечаев до войны (этот институт эвакуировался туда из Москвы в октябре сорок первого года). В ее переезде и устройстве особенную роль сыграл Ростислав Иванович Винокуров, приятель Нечаева, видный инженер и изобретатель. Она часто стала бывать у Винокуровых и замечала не без чувства самодовольства, что Винокурову приятно общение с ней, что ему, человеку широко образованному, выдающемуся в кругу их знакомых и сослуживцев, с ней интересно, хотя когда-то, при первоначальном их знакомстве в Москве, он не обращал на нее никакого внимания: она была для него тогда женой Нечаева, и не более.
На новом месте ей было легче, но все-таки и тут шла суровая, полуголодная жизнь.
Значит ли это, что она там, в Сибири, не думала о муже? Нет, она все время думала о нем, сознавала, что он есть, его отсутствие было одной из сторон большого несчастья, именуемого войной. Однако она была убеждена, что никому не придет в голову послать его сражаться на поле боя, что он будет проектировать мосты или укрепленные районы. Это было настолько целесообразно, что Ольга Петровна, твердо верившая в силу целесообразности, иначе не могла предполагать. Следовательно, Виталий Николаевич был на войне, и это давало ей право на чистую совесть и на приятное презрение к женам тех мужчин, которые на войне не были, например к жене Винокурова. В то же время Виталий Николаевич как бы на войне не был, так как годился только для инженерного дела, и это давало ей иллюзию спокойствия за его судьбу. К тому же и его письма, успокоительные и даже веселые, разгоняли ее страхи.
«Зачем он меня щадил? — думала она теперь, словно пробужденная ото сна рассказом солдата. — Он не смел вводить меня в заблуждение…» Но, думая это, она в то же время чувствовала, что чуточку лицемерит, что ее спокойствие было самообманом и что время от времени она и тогда сознавала это.
8
— Не думал я, не гадал, — продолжал свой рассказ Слепцов после непродолжительного молчания, — что еще раз придется встретить Виталия Николаевича. Сами знаете, — такой фронт, в две тысячи километров! Сколько частей, дивизий, армий, все вокзалы кишат военными, все деревни полны военных, и в городах, поди ж ты, самых тыловых — и то, как говорится, военных больше, чем людей.
Почти три года прошло. Все было другое, и я был другой. Казалось мне, что война идет уже лет десять и еще будет идти, может, лет сто. «Хорошего человека война делает лучше, плохого — хуже», — любил говорить Виталий Николаевич. Я про эти его слова часто думал. Наверно, они правильные. Однако всяко бывает. И хороший человек на войне привыкает к мысли, что все трын-трава, один конец и потому все можно, все разрешается. И привыкает он к мысли, что государство должно за него думать и что у государства можно все брать без стеснения, раз оно твою жизнь берет, не стесняясь. На войне взять чужое не считается воровством, отнять не считается грабежом, потому, ежели ты не возьмешь, какая-нибудь шальная бомба разрушит, всякое добро, которое делалось большими мастерами и наживалось годами, уничтожит за минуту. Вот человек и приучается ничего не ценить. Даже хороший человек. А плохой, тот и вовсе сатанеет.
Нет, война человека портит, потому после нее у нас стало больше воровства всякого, нечестности всякой.
Это к слову сказать. А вообще-то, конечно, дело темное. Значит на чем это я… Был я уже обстрелянный солдат, в сержанты меня произвели и назначили командиром отделения в отдельной роте связи, при штабе дивизии. Потом был ранен, попал в госпиталь, оттуда — в запасный полк. Тут я обучал молодежь, стал вроде педагогом: имел, оказывается, способность объяснять новичкам премудрость воинской телефонной связи.
Но вскоре случилась неприятность. Потеряли мы стыд, решили, что мы незаменимые. И стали ребята выпивать лишнего. И однажды доигрались мои ребята, что их пьяных задержал на улице командир бригады, полковник. А про него было известно, что выпить он сам любил и потому особенно боролся с пьянством. Так говорили, а может, оно и неправда, сам я его пьяным не видел. Застукал моих ребят и отдал приказ всех сержантов-связистов, которые засиделись в тылу, отправить на фронт. Выдали нам новенькое обмундирование, обули в американские ботинки без сносу и погрузили в эшелон под вой местных девчат, с которыми мои сержанты крутили любовь.
И вот в начале сорок четвертого года, зимой, попал я на фронт. Зима была снежная, красивая, кругом необозримые леса, все сосновый бор сплошной, мачтовый лес. А стрельбы никакой, только дымки от кухонь да блиндажей на немецкой и на нашей стороне. А блиндажи, благо леса вдоволь, понастроили у нас, как дворцы, и траншеи обшили мы досками, как какие-нибудь немцы, прости господи… Война, она тоже много личин имеет. Бывает, что и не так страшно, даже интересно. Когда мало стреляют… Стало быть, приехав в этакую благодать, поступил я снова в дивизию, в роту связи. Чаще всего дежурил при штабе, говорил по телефону то с одним полком, то с другим: как, да что, да не случилось ли чего?
И вот среди всех голосов — а их в телефоне было эвон сколько, целая пропасть разных частей, подразделений, позывных — один голос показался мне знакомым. Да мало ли что может тебе показаться! Прошли недели две, пока однажды вечером снова не услышал я тот самый голос, и голос тот сказал весело так и громко: «Это был поступок!» Тут я даже задрожал и вмешался в разговор: «Старший лейтенант Нечаев?» — «Капитан Нечаев. Кто меня позвал?» — «Сержант Слепцов, может помните?» — «Не помню!» — «Ну, конечно, разве упомнишь. Мы-то всего три дня вместе были, и давно, в сорок первом году под Ельней». — «Ну? Под Ельней?» — «Я при вас телефонистом был, вместе с Черепановым». — «Андрюша?» (Он меня тогда Андрюшей звал.) — «Я самый».
Через некоторое время добился я откомандирования в батальон товарища Нечаева. Из дивизии в батальон редко кто просится, батальон к фронту ближе, там опаснее. Но у нас уж так водится: раз просишься — не пустим на всякий случай. Пришлось долго упрашивать, пока отпустили. И вот я снова очутился рядом с товарищем Нечаевым. И за то время что был с ним вторично, совсем к нему привык; не ошибся я в нем.
Мы, конечно, жалели, что Черепанова с нами нет, тем более что Черепанов, выписавшись из госпиталя, писал письма, рвался на фронт, хотя его демобилизовали по чистой. Я товарищу Нечаеву говорил: «Пишите ему, пусть приезжает». А он все отвечал: «Конечно, напишу, пусть приедет». Но не писал. Жалел старика.
Сам товарищ Нечаев был не такой, как в сорок первом. Уже и одет был хорошо, больше о себе и даже о внешности своей заботился. Сапоги и те не кирзовые, а кожаные. Правда, хромовые себе не завел. У всех офицеров были хромовые, только у него не было.
Как я вам уже говорил, жили мы в лесу, в блиндажах в четыре наката ни один снаряд не пробьет, дров для топки сколько угодно. Ну просто рай, кабы не противник да не вши. Вы меня извините, Ольга Петровна, но эти насекомые нас сильно донимали. Вши — они любят чистоту. Пока солдат наступает, спит в ямах и не переодевается, не моется, они как бы есть и нет их: может, потому, что не до них. А как нас вымоют да оденут в чистое белье — тут они начинают свирепствовать до невозможности. Пришлось устроить агромаднейшую вошебойку, куда мы покидали все имущество — кисеты и те.
Помню, Виталий Николаевич рассказывал, как поначалу, в сорок первом году, он был самый вшивый изо всех офицеров и солдат. И никак не мог понять почему. Один солдат ему объяснил, в чем дело. «Думаете много, сказал тот солдат, — а вши от мыслей разводятся». Виталий Николаевич нам про это рассказал и говорит: «Как мне тот бывалый солдатик это объяснил, подумал я и понял, в чем дело. Вши от мыслей разводятся, то-то и оно! То есть попросту они разводятся у тех людей, которые много думают головой и ни черта не умеют делать руками. После этого я стал следить за собой, старался мыться почаще… Надоело быть белоручкой… И вши от меня отстали…»
И верно, это я тоже заметил — Виталий Николаевич теперь мылся и брился и стал раздеваться на ночь и даже складывать вещи в порядке, как спать ложился. И говорил мне, что когда он вернется домой, то Леля (так он вас называл, Ольга Петровна) удивится, и обрадуется, и не узнает его, и полюбит еще сильнее; и он улыбался этак невесело — вы же знаете, Ольга Петровна, — и добавлял: «А может, снова, как попаду под ее крылышко, позабуду свою военную выучку…»
Простой он был, открытый для всех. Рассказывал нам много всякого интересного. Целые романы наизусть, про разные науки тоже… Все на свете знал. Я его тогда спрашивал, почему он все еще в пехоте да все еще комбатом, а он смеется. «Понравилось», — говорит. Может, ему впрямь понравилось, а скорей всего — не умел он и не хотел устраиваться там, где поспокойнее да посытее.
Так мы и жили. Однако вечно стоять на месте в роскошных блиндажах невозможно… Вшей не было, а противник еще был.
Не успели стаять снега, как навезли артиллерии видимо-невидимо, в лесах стало народу и машин невпроворот — ни пройти, ни проехать. Наконец ахнули и пошли, забывши про сон и отдых. Пока не дошли до водной преграды. Первая рота, правда, форсировала ее с ходу и закрепилась на западном берегу, а остальные роты и весь полк не смогли: лодок не было, немцы их раньше увели либо уничтожили.
На другом берегу немцы жмут на наших солдат, а солдаты наши все сигнализируют ракетами: шлите боеприпасы, шлите боеприпасы! И приказывает нам комбат перебраться через реку на подручных средствах, но никто в воду не идет — река пенится от снарядов, и к тому же еще помогает немцам их немецкий бог: поднялся большой ветер, и волны как морские ходят.
Тут нашел кто-то на одном дворе рыбацком лодочку-душегубку, принесли ее, спустили на воду, положили туда ящики с боеприпасами, а лодка такая утлая, что страх берет. Вижу я, комбат стоит на берегу мрачный, потом вдруг идет к лодке. Я к нему и говорю: «Товарищ капитан, я вас не пущу». «Как так не пустишь?» — «Да так, не пущу. Не выдержит лодка, пойдет на дно».
Он ничего не отвечает и идет к лодке. Я ему говорю: «А вы хоть плавать-то умеете?» Он смеется: «Я? Я был первый пловец в институте. Призы брал за Московскую область». Тут мне полегчало. Он спрашивает: «А ты?» Я говорю: «Я пловец неплохой. На Енисее вырос». Он говорит: «Превосходно!» (Он любил говорить «превосходно», и мы все тоже стали так говорить. И я заметил, что и вы, Ольга Петровна, тоже сказали несколько раз «превосходно»… Как его словечки ко всем приставали! Я и то теперь дома у себя… Жена смеется: «Одно знаешь: превосходно да превосходно!» И еще он часто когда удивлялся, то спрашивал: «Вот как?» У нас так не спрашивают, и сначала мне это казалось смешно, а потом и я стал так переспрашивать).
«Превосходно! Вот мы и покажем пример», — говорит мне, стало быть, Виталий Николаевич, и мы садимся в лодку и плывем, и за нами солдаты стыдно им стало! — кто на чем.
Как переплыли — не спрашивайте, но переплыли и закрепились, а скоро переправились и другие батальоны… После этого и приехал к нам командир дивизии генерал-майор Захарченко, стал — в который раз — звать товарища Нечаева к себе в штаб дивизии. Пошел бы — остался бы живой. Генерал тогда вручил мне орден Славы второй степени (третьей степени у меня уже был за прежнее), а Виталия Николаевича представил к ордену Отечественной войны.
9
В то время как солдат вел свой рассказ о Виталии Нечаеве, Ольга Петровна вспоминала, что после того, как вышла замуж, пятнадцать лет назад, она воспринимала своего мужа так же, как Слепцов своего командира. Он был тогда таким же ясным, открытым, искренним, остроумным, тихо-талантливым во всем, что делал. Позднее ее ощущения притупились или сам Нечаев потерял свою ясность, веселость, победительность какую-то? Или она перестала в нем все это замечать — пригляделась, приобыкла? Или действительно все это ослабло под гнетом житейских дел, от всяких неурядиц в семье и в стране (он болезненно переживал то и другое)? И не виновата ли она в том, что он потускнел, если он действительно потускнел?
Он работал. Работал много — даже на курорт ухитрялся брать с собой чертежи. А какая у них была душевная, личная жизнь? Что он делал, помимо работы? Думая об этом теперь, она вдруг с совершенной ясностью вспомнила те обстоятельства, которые знала и раньше, но которые не казались ей такими уж важными. Ведь это он и никто другой заставил ее закончить не законченное по ее лености образование, приучил ее читать книги, объяснял их ей. Это он исподволь, осторожно, так, чтобы ее не обидеть, прививал ее несколько косному уму широкие понятия и умение видеть скрытое, но главное за внешними проявлениями жизни. Это-то и сделало из нее того человека, которым она была теперь — уважаемого сослуживцами, принимаемого всеми всерьез, ту женщину, которую полюбил строгий к людям Ростислав Иванович Винокуров; из-за Ольги Петровны он ушел от жены и детей.
Все эти воспоминания, сопровождавшиеся чувством раскаяния и щемящей неловкости, проходили перед ней, тесня друг друга, как будто в спешке и в смятении. Лишь когда Слепцов стал рассказывать о переправе, все эти воспоминания и мысли разом остановились и замерли.
Слепцов увидел, как ее лицо внезапно покраснело, будто зажглось изнутри. Она закусила губу и закрыла глаза. Слепцов не мог знать, какая именно подробность его рассказа так сильно подействовала на нее.
А это произошло потому, что, услышав — ей действительно показалось, что она явственно услышала его голос и интонацию, — услышав слова Нечаева о том, что он брал призы за плавание и т. д., Ольга Петровна вспомнила, что он совсем не умел плавать и всегда стыдился этого. Итак, все, что он говорил на берегу реки, было вздором, выдумкой, если можно назвать вздором и выдумкой чистое золото самопожертвования ради общего дела. Ольга Петровна в этот момент почувствовала, как у нее перехватывает дыхание. И оттого, что Слепцов и теперь не знал того, что узнала она спустя два с половиной года, Ольга Петровна почувствовала мучительное волнение за человека, плывшего в утлой лодочке по бурной реке, обстреливаемой со всех сторон, и гордость от того, что этот человек думал о ней и любил ее, и жгучую обиду на себя за то, что не поняла, кого потеряла.
Она чувствовала, что готова влюбиться в этого нового Виталия Нечаева, в его удаль, ум, презрение к смерти, обаяние, во все то, что так отвечало ее собственному идеалу человека и мужчины. Как могла она считать Нечаева пресноватым и скучноватым, в то время как в нем лучшие человеческие черты были в избытке и в чудесном сочетании? Все это она пропустила сквозь пальцы, как воду.
Она могла бы отмахнуться от всех этих мыслей, как отмахивалась уже не раз, считая, что отвлеченные мысли не имеют значения перед лицом грубых потребностей жизни. Да, она умела пожатием плеч оттолкнуть от себя «бесплодное нытье» ради благополучия семьи и упорядоченности ее существования.
Но теперь она не могла уйти от этих мыслей — на нее смотрели поразительно ясные глаза однорукого солдата, и их простодушный теплый блеск не давал ей уходить в сторону, ссылаться на жизненный опыт, на пример соседей и знакомых; эти глаза говорили ей: ты жила рядом с героем и не заметила этого.
Ольгу Петровну охватили горечь и боль, которые вскоре незаметно для нее самой превратились в досаду и даже злость. Она уже думала о Слепцове почти с неприязнью и мысленно как бы оправдывалась перед ним: «Я, что ли, его убила? Что ты смотришь на меня так пристально? В чем я виновата?»
Так она мысленно твердила, глядя в стену сухими глазами. При этом ее взгляд останавливался на паутине в углу и на трещине в штукатурке, и она думала о том, что надо произвести ремонт квартиры и уборку, и эти мысли, несмотря на всю их неуместность в этот момент, она удерживала при себе, упрямо и почти со злорадством думая, что да, да, уборка и ремонт! Жизнь есть жизнь, и сумерничать не приходится.
Она встала и резким движением зажгла настольную лампу. В это время в коридоре что-то задвигалось, дверь приоткрылась, донесся запах жареного лука, шум примуса, похожий на шум летнего дождя, и шорох веника, напоминающий порывы весеннего ветра, и другие квартирные запахи и шумы, мелкие, но важные, как сама жизнь. И Ольге Петровне показалось, что здесь, в комнате, разреженный холодный воздух, и, сказав, что сейчас вернется, она поспешила выйти к родным запахам и шумам своего дома.
10
Свет настольной лампы под зеленым абажуром сделал комнату зеленоватой и таинственной, как речное дно. Оттого что комната осветилась, за окном стало темно, словно сразу наступила поздняя ночь. Слепцов нащупал в кармане полный табака кисет, но не стал закуривать. Он сидел, ожидая возвращения Ольги Петровны и не двигаясь, как бы стараясь не рассеять все то, что он должен был ей рассказать. Она все не шла, но он не испытывал никакого нетерпения, зеленый свет наполнял его покоем и тоже казался составной частью его повествования, естественным освещением той полусказочной действительности, в которой он теперь жил. Он думал о том, что недаром Нечаев стремился сюда, в здешний теплый уютно освещенный мир, и сердце Слепцова переполнилось нежностью к подруге Нечаева, хозяйке этого дома…
Когда она вернулась, Слепцов продолжал:
— Про вас, Ольга Петровна, ваш муж рассказывал так много, что я как бы с вами давно знаком; и не только я, но и жена моя, Марья Александровна, и даже дети и те вас знают и готовы за вас на край света. Да, да, он мне про вас все рассказал. Про то, как вы его всегда поддерживали, как вы работали и институт кончали, имея на руках маленького Юру. Видел я сегодня Юру, вылитый отец, тоже серьезный и честный. Честный. Вот оно, главное-то.
В это время в комнату вошел мужчина в темном костюме. Это был высокий человек в очках, с молодым лицом, но седыми волосами. Проходя мимо Слепцова, он кивнул ему, и Слепцов прервал рассказ и привстал, чтобы поздороваться по деревенскому обычаю — уважительно и обстоятельно — с новым человеком, кто бы он не был. Но так как Ольга Петровна ничего не сказала, а человек тоже не изъявил стремления к длительной церемонии знакомства, только пробурчал что-то — очевидно, свою фамилию, — затем прошел и уселся в то самое кресло, где утром дремал Слепцов, — солдат в нерешительности постоял еще мгновение, затем сел и продолжал рассказ, лишь отодвинув стул от стола, чтобы не оказаться спиной к человеку.
Продолжая рассказ, он по временам забывал о присутствии того человека и, только изредка вспоминая о нем, вежливости ради полуоборачивался к нему на мгновение.
— И последние его слова, — продолжал Слепцов, — и мысли последние были про вас. Про вас и про родину, которую он любил, но про которую говорил мало; просто отдал за нее жизнь и нам завещал отдать, если придется.
А ранило его при штурме немецкой обороны, и я не был тогда при нем, и когда мне сказали, я побежал и встретил его, как он лежал на подводе и его отвозили в тыл. Но подводу эту трясло. И ему было больно. И тогда мы его сняли и положили на носилки. Как я вам уже рассказывал. Потом попросил, чтобы мы его положили, чтобы он отдохнул. И мы его положили. Тут он взял меня за левую руку и крепко сжал. У меня даже потом синяки были — так он меня крепко взял за руку. Вот здесь… Ну, то есть руки-то у меня этой уже нету… Вот какое дело. И тут он меня и попросил побывать у вас и передать вам… все про него да про его к вам уважение и любовь… А также передать вам, стало быть на память, разные предметы… Между прочим, логарифмическую линейку — это солдаты нашли в одном доме и, зная, что товарищ Нечаев инженер, отнесли ему. И он ее в подарок для вас прочил и мне про это сказал. А также часы ручные — тоже трофей, один солдатик ему поднес, Терехов по фамилии, молодой. Его позже убило… Ну вот, Ольга Петровна… Потом, конечно, выпустили боевой листок, что-де отомстим фрицам за нашего комбата… Видели вы когда-нибудь, когда много мужчин вместе плачут? Это — редкое явление…
Слепцов замолчал. Его сердце сильно билось, и только когда оно успокоилось, он услышал глубокую тишину в комнате. Тогда он пожалел женщину, которую так, очевидно, расстроил своим рассказом. При этом он вспомнил и про мужчину, сидевшего в кресле, и полуобернулся к нему вежливости ради. Но в это мгновение он почувствовал к нему неопределенную антипатию, неизвестно чем вызванную, — может быть, тем, что мужчина сидел в кресле развалясь, как дома, и его лицо было непроницаемо спокойно. Может быть, тут сыграло роль и то, что Ольга Петровна после появления мужчины стала вести себя несколько иначе, чем до того: она почему-то часто поднималась, и снова садилась, и вертела в руках солонку, и несколько раз отводила глаза от Слепцова к тому человеку. Но эти ощущения были слишком поверхностны, чтобы обращать на них особое внимание, и Слепцов после недолгого молчания сказал, полуобернувшись к мужчине:
— А меня ранило в декабре того же сорок четвертого года, на венгерской территории. И после длительного лечения очутился я дома, в Сибири. Неприятель до нас, понятно, не добрался, все у нас на месте, ничто не разрушено. Даже, ей-богу, удивительно было, когда я прибился домой после госпиталя: все дома целые… Верно, колхоз, раньше богатый, в войну сильно обеднял — мужиков мало, заготовки большие для фронта, почти все сдавали… Я сначала не знал, за что приняться, ходил неприкаянный; жена, спасибо ей, поняла мою душу, не сердилась, что я целые дни на завалинке сижу, покуриваю, на всех покрикиваю и на все зубами скрежещу, — молчала, только иногда плакала, и то потихоньку. Я, конечно, это замечал, но ничего не мог поделать со своей озлобленной душой. Но понемногу оклемался, пошел работать сторожем, потом пастухом, а позже сделал мне один мой дружок в МТС вторую руку, железную, вроде ухвата, и вскоре сел я на трактор. Про меня даже в газетах писали, что я чуть ли не герой и так далее. Но я не герой и делал все это лично для себя — понял, что помру, если останусь один, без пользы для людей. Выполнял норму и две. А как уборку закончили, взял отпуск — и вот…
11
Последние слова Слепцов, превозмогая свою антипатию сказал, обернувшись к мужчине в кресле, так как не желал быть грубым и невнимательным к человеку, сидящему в комнате Нечаева. Как бы воспользовавшись этим, Ольга Петровна, то и дело встававшая и садившаяся во время рассказа, снова встала.
— Пора обедать, — сказала она и быстро вышла из комнаты.
Слепцов, все еще взволнованный воспоминаниями, видел, что и она взволнована, и ласково проводил ее взглядом до двери, а потом снова обернулся к мужчине. Тот угрюмо или, может быть, напряженно молчал. И Слепцов, почувствовав себя неловко, сказал:
— Вот так, гражданин… мм…
— Ростислав Иванович, — буркнул мужчина.
— Вот так, Вячеслав Иванович, — продолжал Слепцов, плохо расслышав редкое имя. — Расстроилась Ольга Петровна… Может, я слишком это… все подробно… Но, как говорится, слова из песен… Такого человека потерять…
— Да, — сказал мужчина односложно.
Слепцов внимательно посмотрел на него и спросил:
— Друзья, полагать надо, помогают ей, вдове, по силе возможности?
Мужчина после довольно продолжительного молчания ответил так же односложно:
— Да.
И встал с места, чтобы выйти, но дверь открылась, и Ольга Петровна вернулась. Она пришла с тарелками и расставила их на столе.
В это время за дверью заплакала девочка, а Ольга Петровна под этот плач все так же медленно и старательно расставляла тарелки. Наконец в полуоткрытую дверь просунулось круглое лицо Паши, и она сказала:
— Все плачет, Ольга Петровна… — и при этом покосилась на солдата: не вызовется ли он и теперь пойти к девочке да успокоить ее своим «сеше, хеше»…
Слепцов ответил ей беглой улыбкой, а Ольга Петровна раздраженно сказала:
— Сейчас приду.
Слепцов, которому жаль было младенца, прислушивался к его плачу, но как только Ольга Петровна вышла, так плач прекратился.
Этот так внезапно оборвавшийся плач ребенка вначале заставил Слепцова улыбнуться, но затем улыбка замерла на его лице и из ласковой стала удивленной, даже детски глуповатой, затем медленно отлетела от лица, оно стало растерянным, смущенным и, наконец, — смертельно-серьезным. Он посмотрел на мужчину, который напряженно стоял посреди комнаты, как бы не зная, выйти или остаться.
Слепцов медленно поднялся со стула, еще постоял с минуту, затем быстро и решительно направился к своему вещмешку, взял его, достал белый узелок, вернулся к столу, положил узелок на стол и стал развязывать его. Развязав, вынул оттуда разные предметы, положил их на стол, а платок, в который они были увязаны, сложил аккуратно на столе и сунул в карман. Потом он достал из кармана гимнастерки пакетик с фотографиями и тоже положил его на стол — лицевой стороной вниз. После этого он вернулся к вещмешку и завязал его.
В этот момент послышался короткий и резкий звонок, стукнула дверь, и в комнату вошел, застенчиво улыбаясь, Юра. Он был в пальтишке и с портфелем. Он запыхался — спешил, боясь, что уже не застанет приехавшего из Сибири солдата, таежника и рыболова. Но солдат был здесь. Комната была полна волнующих запахов: солдатского сукна, медвежатины, копченой рыбы, фронтовых и таежных дорог.
Юра, застенчиво улыбаясь, подошел к Слепцову, ожидая, что солдат обнимет его, привлечет к себе, начнет что-то рассказывать, словоохотливо и добросердечно, как утром. Но Слепцов только рассеянно потрепал его по плечу и стал молча ждать. И от этого на Юру тоже напало какое-то оцепенение, и он тоже встал неподвижно. И так три человека стояли неподвижно, каждый со своими мыслями, и чего-то ждали.
Но вот вошла Ольга Петровна, и тогда Слепцов заговорил очень быстро и сухо, не глядя на нее:
— Тут вот на столе, как видите, это самое. Его часы, очки, авторучка, книжка записная, письма, фотографии. Там же подарки, логарифмическая линейка для вас, готовальня и часы ручные для вашего сына. Еще там кой-что. Все, что у него было. Вот. Мне пора. Я и так задержался.
Он взял было шинель, но потом вдруг поглядел на Юру, его глаза на секунду сделались стальными, он снова отложил шинель, подошел к столу, взял ручные часики и молча отдал их Юре в руки.
Ольга Петровна положила на стол вилки и ножи и сказала в непринужденном тоне:
— Вот как? Значит, вы не будете с нами обедать? Очень жаль… За любезность вашу большое спасибо. Очень вам благодарна. А может, вы останетесь? Кстати, ведь вы ехали в такую даль — из Сибири, кажется? Наверное, вам и поездка стоила недешево… Один билет в такую даль обходится, вероятно, в копеечку… Нет, серьезно, может, вам нужны деньги? Вы скажите, без околичностей, без всяких церемоний. Пожалуйста. Как добрый знакомый Виталия Николаевича, фронтовой товарищ. Так что скажите… А я думала, вы пообедаете с нами. Вы где остановились?
В то время, как она говорила, Слепцов молча надевал на себя шинель и никак не мог надеть. Но никто не подошел к нему помочь, все как будто закоченели на своих местах — от всего, что происходило, и от возможной неловкости, которую может испытать калека, когда ему помогают.
В ответ на последний вопрос Ольги Петровны Слепцов сказал:
— Я ночую у родичей моих. У меня в Москве родичи. Где теперь нет сибиряков? Всюду они есть.
Он надел наконец на себя шинель и взял в руку кепку и вещмешок.
— Это верно, — подтвердила Ольга Петровна, вынимая из буфета и ставя на стол хлебницу. — У нас в институте тоже есть сибиряк, заместитель директора по материальному обеспечению. Он у нас недавно. Может быть, вы знакомы с ним? Леонтий Борисович Свербеев. Впрочем, верно, — Сибирь велика…
— Да, — сказал Слепцов, — Сибирь большая. До свидания, Юра… Ольга Петровна… До свидания гражданин.
И, взвалив мешок на плечи, он вышел.
12
Юра вышел вслед за Слепцовым, чтобы выпустить его из квартиры, и обратно в столовую уже не вернулся, слышно было, как он прошел мимо двери.
Когда стукнула входная дверь и звук Юриных шагов послышался справа от двери столовой и затих слева, у кухни либо у спальни, Ростислав Иванович, порывисто повернувшись к Ольге Петровне, сказал:
— Что ты сделала? Ты понимаешь, что ты сделала? У нас в доме был благороднейший человек, праведник, понимаешь, святой, а ты ему предложила денег! — Он продолжал, все больше волнуясь: — Смотри, какую преданность памяти Виталия Николаевича он проявил… какую любовь! — И с мужской солидарностью, вечной и темной солидарностью мужчин против женщин, он проговорил, глядя остро и колюче ей в лицо: — Да и верно, муж твой покойный был человек необыкновенный. Замечательный человек. Такого человека… о таком человеке нельзя забыть. Забыть такого человека может только… сука.
Он сам поразился оскорбительному окончанию своей фразы. Он не собирался произносить ничего подобного. Ольга Петровна была отвратительна в последнем разговоре со Слепцовым, и оттого, что она проявила себя такими неприятными чертами, он обозлился на нее. Но этого было бы мало для тех слов, которые он сказал, если бы он не знал, что не может без нее жить, что, несмотря на все, он любит и не перестает любить ее даже теперь, когда презирает, почти ненавидит ее.
В то же время он сознавал, что она своей черствостью в отношении к Слепцову отталкивала память о первом муже ради него, Винокурова, ради спокойного, безоблачного течения жизни в семье: она как бы боролась с чувством вины за свою любовь к Винокурову. Поэтому он вместе с презрением, почти ненавистью к ней испытывал приятное чувство гордости, что ради него забыт и находится в пренебрежении тот, другой, притом еще человек замечательный. И, наконец, одновременно с этим он испытывал острое чувство горькой, хотя и неразумной ревности — впрочем, может ли ревность быть разумной! — бессмысленной оттого, что она не была обращена на кого-либо, а сводилась к простому предположению, что, если он умрет или даже уедет надолго, она полюбит третьего и будет так же сильно, решительно, как бы категорично, этого третьего любить, окружать своей заботой и теплом и защищать свою любовь всеми средствами.
Эти чувства — любовь и страсть к ней, и боль за ее проявившуюся душевную грубость и бесчувственность, и обида за поруганную память прекрасного человека, и приятная гордость оттого, что она так любит его, своего нынешнего мужа, и предвидение, что и его она может разлюбить при определенных обстоятельствах, — все это смешалось в душе в одну кашу, горькую, как полынь, и сладкую, как мед. Полыни, впрочем, на этот раз было во много раз больше. Когда Слепцов простился и собрался уйти, Винокуров готов был ударить свою жену по лицу. Однако он не сказал ни слова, он вообще решил не вмешиваться — то было не его, а ее прошлое — и пожалел, что слушал часть рассказа Слепцова из спальни, а затем, войдя в столовую, был свидетелем разговора. Но когда Слепцов вышел и входная дверь глухо стукнула за ним и когда Юра, не понимавший, но явно чувствовавший, что произошло нечто отвратительное, прошел мимо двери, хотя знал, что его ждут обедать, — Винокуров не смог удержаться от выражения своих чувств.
— Что вы сделали? — повторил он, назвав ее на «вы», чтобы еще больше задеть. — Это же невозможный поступок. Нигде он не остановился, неправду он сказал про родственников, неужели вы этого не поняли? И неужели вы не поняли, что если бы он приехал ради денег, то ему проще всего было бы продать золотые часы и остальное? А? Вы этого не поняли?
Он смотрел на нее ненавидящими глазами.
— Да, вы правы, — сказала она медленно, почти спокойно. Действительно, как я могла изменить памяти Виталия Николаевича ради такого человека, как вы? — Она бессмысленно походила вдоль стола, потом вдоль буфета, затем сделала два шага к двери, но вернулась, села на стул, на котором сидела весь день, и заплакала. — Он бы никогда… никогда… никогда… — произнесла она сквозь слезы.
Вначале ее слезы не произвели на него никакого впечатления. Напротив. Он подумал, как хитро она защищается, как неожиданно она взяла себе в союзники Виталия Николаевича против него. Но вскоре ощутил ноющую боль в груди. Пожалуй, он впервые видел ее плачущей и, осознав это, понял, как она потрясена. Его пронзило чувство вины, и он подумал о том, что проявил торопливость и бесчувственность, сродни той торопливости и бесчувственности, которую проявила сама Ольга Петровна по отношению к Слепцову. Он сказал:
— Ладно, Оля, сейчас не время все это. Пока надо догнать этого человека и вернуть его.
— Да, да, — сказала она, быстро встала, вытерла глаза, взяла со стола сверток с едой, оставленный Слепцовым, завернула еду в плотный пакет и быстро, летящей своей походкой вышла в коридор, накинула шаль и вместе с мужем спустилась по лестнице в темный двор.
Во дворе никого не было. Накрапывал дождик.
— Товарищ Слепцов! — позвала Ольга Петровна.
Она метнулась по двору и вышла на улицу. Здесь остановилась и взглянула вправо и влево. В переулке не было ни души. Она бросилась влево и, торопливо говоря вслух: «Товарищ Слепцов, товарищ Слепцов», дошла, почти добежала до угла. Слепцова не было. Она постояла на углу и медленно пошла обратно.
Сначала она ни о чем не думала, потом в ее голове неторопливо прошел весь последний разговор со Слепцовым, в том числе ничего не значащие слова о сибиряках. Она подумала о том, что поскольку Слепцов сибиряк, то он мог бы жить в том городишке, где она жила первое время эвакуации. И если прав Винокуров насчет того, что однорукий солдат — благороднейший человек, то и там, в том городишке, тоже могли жить прекрасные люди; она же считала их людьми ничтожными и скучными, обвиняла их в заскорузлости и бессердечии и мечтала от них поскорее уехать. Но, по чести говоря, почему они должны были ей сочувствовать и ею интересоваться, если она не сочувствовала им и не интересовалась ими, не входила и не пыталась войти в их жизнь? Ведь даже самым близким человеком, своим покойным мужем, она не интересовалась, даже его не понимала и не стремилась понять. Только появление Слепцова сегодня осветило ее жизнь ярким дневным светом, и при этом беспощадном свете многое стало выглядеть совсем иным.
Об этом думала Ольга Петровна, возвращаясь к воротам своего дома.
Ростислав Иванович тем временем тоже пересек улицу, прошелся по бульвару, вглядываясь в немногих прохожих, и тоже вернулся ни с чем. Они постояли вдвоем у ворот. Потом он взял ее за руку.
— Прости меня, — сказал он.
— Ты был прав, — сказала она. — Но пойми…
— Да, да, конечно…
— Я ведь…
— Я понимаю. Пойдем.
Они медленно пошли обратно к дому, медленно взобрались по лестнице к себе в квартиру. Когда они открыли дверь, Юра стоял в коридоре. Он ни о чем не спросил, только устремил тоскливый взгляд на дверь, словно ждал, что следом за ними войдет солдат. Но никто не вошел.
— Обедать пора, — сказала Ольга Петровна.
Они все трое побрели в столовую. Ольга Петровна сунула сверток с сибирской снедью за оконную занавеску. Затем она снова стала готовить к столу, а потом села на тот самый стул, где заплакала в первый раз, и здесь снова заплакала, словно именно этот стул располагал ее к слезам. Ростислав Иванович подошел к ней и стал говорить вполголоса разные успокоительные слова.
О Юре забыли. А он стоял возле окна и сурово смотрел на них. Слезы матери угнетали его, но не вызывали жалости. Он стоял бледный и строгий и давал себе слово, вернее, много слов, обещаний, клятв быть честным, добрым, искренним, ученым, или, как сказал тот солдат, — «советским».
Исполнит ли он свои клятвы? Исполнит, если окружающие помогут ему не нравоучениями, а собственным самоочищением от всякой скверны.
13
Что касается Андрея Слепцова, то Ольга Петровна и Ростислав Иванович не нашли его не потому, что он быстро покинул двор. Напротив, он, выйдя из дома, подошел к той скамеечке, где сидела утром старушка с вязаньем, и опустился на эту скамеечку. Тут он закрутил махорку и жадно закурил. Он ведь из уважения к семье Нечаевых ни разу не курил в их квартире и теперь глотал горький дым, как захлебнувшийся в воде глотает воздух.
Было темно. Накрапывал дождик. Значит, прошел весь день — с рассвета до вечера. Андрей Слепцов подумал о том, как быстро, молниеносно прошел этот день и какой он в то же время насыщенный и длинный, как он, этот единственный день, сумел изменить многое в его жизни, осветить ее по-новому. При свете этого странного дня все стронулось с места, перемешалось, осложнилось. Это был ясный, ровный, немигающий, беспощадный свет. И казалось, что любимые образы пропали в нем, как пропадают тени в резком свете.
Он услышал, как Ольга Петровна окликнула его, как она и ее муж вышли на улицу его искать. Он прижался к стене, боясь, что они его увидят. И спрятал цигарку в рукав, как солдаты делали на переднем крае, в виду противника. Он теперь не мог бы с ними разговаривать и даже на них смотреть.
Но вот они наконец вернулись и исчезли в доме, и Слепцов остался один на большом дворе. Он посидел некоторое время, потом, встал с места и пошел к воротам. Здесь он остановился и обернулся. Перед ним от самой земли до неба посверкивало, мерцало, горело больше сотни светлых квадратиков. Его глаза восприняли вначале это зрелище чисто механически, как нечто красивое, потом разум его усвоил, что это окна, а за ними люди. И он вспомнил, как капитан Нечаев однажды — дело было зимой, еще в обороне, говорил про эти окна, именно про эти самые, а не какие-либо другие. Нечаев говорил примерно так: родина — это не обязательно изба с березой или тополем, перелесок или поляна, как это по старой памяти пишут в стихах и прозе; родина — это также городская квартира из двух комнат, точно такая же, как четыре квартиры над ней и две под нею и пятьдесят во всем доме обыкновенное жилье с водопроводом, который урчит по утрам, и с телефоном, который звонит, когда кому-нибудь заблагорассудится вспомнить о тебе и набрать твой номер. Родина — это два окна среди точно таких же ста, ничем от остальных не отличающиеся, кроме того, что там твоя жена и твой ребенок. Это тоже «земля отчич и дедич», священная московская земля, хотя и приподнятая на два-три десятка метров. И, защищая свою большую родину, ты защищаешь и эту малую и готов отдать за нее жизнь.
Слепцов стал искать те два окна, о которых говорил Нечаев. И он вскоре нашел их, светившихся зеленым светом среди других, светившихся желтым, и зеленым также, и красноватым, и лиловым, и просто ярким без прикрас — огромное множество человеческих гнезд. И, вспомнив слова капитана Нечаева о его двух окнах, Слепцов замотал головой, как лошадь, которую мучают слепни, и больно закусил губу, чтобы не заплакать.
Но среди безысходности, овладевшей им в эти мгновения, его, как он вскоре заметил, не оставляло ощущение чего-то милого, теплого и нежного. Он не понимал, что именно оставило в нем такое ощущение. Он отметил, что оно было не только внутренним, душевным, но и чисто физическим. Это дало ему нити для дальнейших поисков, и довольно скоро его внимание сосредоточилось на руке: он чувствовал на ней приятную тяжесть, рука его была еще напряжена, словно держала нечто милое, теплое и нежное.
То была маленькая девочка с не по-младенчески разумным взглядом. Ах, эта маленькая девочка, этот человеческий детеныш, совсем еще крохотный, весь в будущем, весь как сосуд, способный вместить в себя все прекрасное. Вот, оказывается, что смягчало ожесточенное сердце, смиряло и облегчало его!
Вскоре Андрей Слепцов совладал с собой. Он крепко вытер лицо, подкинул повыше свой вещевой мешок и зашагал в обратный, уже знакомый путь к трем вокзалам. Предстояла, по-видимому, длинная бессонная ночь на вокзале, в очереди за билетом, и Слепцов ворчал себе под нос: «Хорошо, Андрей Слепцов, что ты успел подремать: утром на скамейке, потом — на мягком стуле». Он решил, что постарается взять билет на завтрашний вечерний поезд, чтобы в течение дня успеть посмотреть Москву.
<1960>― ПРИЕЗД ОТЦА В ГОСТИ К СЫНУ ―
Рассказ
Иван Ермолаев ждал в гости своего отца. В письме не было сказано, когда именно и с каким поездом отец приедет, и Иван волновался и досадовал на расхлябанную деревенскую манеру писать письма, где о выезде сообщалось двумя словами, а о самочувствии дальних родственников и соседей, почти забытых Иваном, — на четырех полных страницах из школьной тетради.
Двадцать восемь лет назад, пятнадцатилетним мальчиком, уехал Иван из деревни, вернее — был выгнан невзлюбившей пасынка молодой мачехой, совсем как в сказке. Дальнейшая жизнь его тоже оказалась некоторым образом похожей на сказку, непростую и трудную в каждодневье, но полную увлекательных событий и чудесных превращений, если оглянуться назад и охватить взглядом всю картину.
Маленьким мужичком с льняными волосами, в лаптях и посконной рубахе пришел он в областной город Пензу, а оттуда завербовался на новостройку в Магнитогорск, город, о котором говорилось так, словно он есть, хотя его еще не было. Чернорабочий, фабзаяц, плотник, бетонщик, Иван в числе десятков тысяч других строил своими руками завод, а завод, в свою очередь, тесал и плавил его самого, незаметно тесал и плавил его по своему образу и подобию. Так тихий и безответный крестьянский мальчик превратился в знаменитость, чье имя упоминалось при всяком перечислении виднейших доменщиков страны с такой же неизбежностью, с какой, например, Лермонтов упоминается при каждом перечислении наиболее выдающихся русских поэтов; всегда голодный вороненок, полный совершенно превратных представлений о мире и потливого страха перед старшими, перевоплотился в спокойного, уверенного в себе человека, отца большой семьи, книгочея и любителя писать статейки в газету; безропотный житель самых холодных углов строительских бараков стал владельцем четырехкомнатного дома с садом в новом городе на правом берегу Урала, депутатом горсовета, членом разных комиссий — словом, одним из тех, которые могли бы называться почетными гражданами Магнитогорска.
Естественно, что Иван любил Магнитогорск затаенной, но сильной любовью. Город был для него не просто местом проживания, как старые города для своих жителей, — один не мог бы существовать без другого: если бы не город, Иван не стал бы Иваном, если бы не Иван, город не стал бы городом. Отцовская и сыновняя любовь одновременно — редчайшее чувство; такое чувство питал Иван к Магнитогорску.
Домой он не писал — не так от обиды, как от тягостного и ясного понимания равнодушия к нему домашних. Он только время от времени посылал им то пятьдесят, то сто рублей, а когда встал твердой ногой у доменной печи в качестве третьего, затем второго и, наконец, старшего горнового, начал посылать по двести рублей ежемесячно. В ответ он иногда получал короткую писульку о том, что деньги получены, с присовокуплением обычных поклонов от разных дядьев и кумовьев. Жена Ивана, Любовь Игнатьевна, расставалась с этими деньгами без особой охоты: каждый раз к концу месяца ей казалось, что не хватает именно этих двухсот рублей. Но, попытавшись однажды задержать отсылку денег, она получила от обычно покладистого и спокойного Ивана такую яростную и оскорбительную острастку, что с тех пор исполняла эту обязанность с примерной аккуратностью.
Дело в том, что в Иване все эти годы жила тихая, не очень сильная, но сосущая боль при воспоминании о родной деревне. Боль эта по прошествии лет слабела, а в последнее время давала знать о себе все реже; при получении же известия о приезде отца она возобновилась с новой силой, лишь постепенно видоизменяясь в свою противоположность — в сдержанное ликование человека, вновь обретающего нечто утраченное и все еще дорогое.
Эту неделю Иван работал с восьми утра и поэтому мог успевать к московскому поезду, приходившему на рассвете. В фиолетовом полумраке выводил он свою «победу» из сарая и ехал на станцию.
По мере того как одинокая «победа» неторопливо, там и сям разбрызгивая темные весенние лужи, приближалась к реке, утренняя заря все больше завладевала небом — заря не городская, а скорее вольная, широкая, степная заря, еще не разглядевшая, что внизу под ней не степь, а город. И дома и улицы здесь, несмотря на свою многочисленность и благоустроенность, еще не прижились на своих местах: каждому дому и каждой улице вроде бы казалось, что они на краю, что сразу за ними — конец городу, пустынное пространство; так оно и было совсем недавно.
Вокруг светлело, и фиолетовый полумрак пропадал куда-то, испарялся. И это походило на не слишком стремительное поднятие огромного легкого фиолетового занавеса, за которым обнаруживалась мягко освещенная теплым желтым светом огромная, пока еще пустынная сцена, где вскорости произойдут важные события.
И вот, наконец, самое важное событие происходит: когда машина подъезжает к реке, взору Ивана открывается завод на том берегу. Кажется, что это — огромное клокочущее вулканическое пространство, наспех прикрытое каменными стенами, железными крышами и толстым стеклом, затычками из огнеупора и огнестойкого металла, с отводами в виде многочисленных труб, сквозь которые вулкан имеет возможность хоть частично выдохнуть излишки своей ярости; из этих труб рвутся пламя и дым разнообразнейших цветов и оттенков; вот с откоса низвергается раскаленный шлак, и огненная струя его, стекающая вниз, принимает очертания человека с раскинутыми руками.
По сравнению с могучим, еле сдерживаемым полыханьем заводского вулкана мощные электрические лампы в окнах, у проходных, на столбах кажутся блеклыми и мертвыми, как светляки в сравнении с лесным пожаром.
Иван улыбался восхищенно. Он не переставал восторгаться своим заводом, на котором работал уже четверть века, как дети стрелочников не устают махать руками поездам, которые проходят мимо них каждый божий день.
Вдоль заводской стены, а потом по улицам старого города на левобережье Иван ехал к вокзалу. Перед вокзалом он выключал мотор, запирал машину, а сам шел к выходу на перрон и здесь долго, до конца разъезда всех пассажиров, стоял, вглядывался в каждого из приезжавших, даже в молодых людей: ему трудно было представить себе отца после двадцативосьмилетнего перерыва, и он на всякий случай пытливо и не без замирания сердца заглядывал под все шляпы, фуражки и кепки.
Отца все не было. Ивану в который раз приходилось садиться в машину и ехать обратно ни с чем. Однако напряженное ожидание, предвкушение, что вот-вот он увидит отца, не проходило бесследно. На обратном пути он неотступно думал о своем детстве в родной деревеньке. Снова ныла у него в сердце давно зарубцевавшаяся душевная рана маленького мальчика в больших лаптях, медленно, но упорно выживаемого красивой и вздорной бабой из отцовского дома. Почти с прежним чувством отчаяния и тупого фатализма вспоминал он шумные вздохи отца в отсутствии жены и жалкое молчание в ее присутствии. Перед его туманящимися глазами возникали опять картины детства: большие мягкие губы отца, похожие на губы лошади, когда отец ел похлебку, молча слушая, как жена попрекает дочь, по-пустому вяжется к сыну, кричит ему: «Дурак! Иванушка-дурачок!» — гремит ухватами, пышет жаром; он вспоминал, как просыпался на рассвете от шума и вздохов на полатях, и видел в полутьме жирные, белые, как сметана, ноги мачехи и худые, одеревенело вздрагивающие ноги отца, и понимая, что вот из-за всего этого мачеха забрала власть в доме, тоскливо думал о том, как все это, в сущности, непонятно и страшно. Он видел, будто наяву, опостылевшую, но любимую до слез низкую избу на краю деревеньки у самой речки Вороны, и душа его, вся во власти воспоминаний, снова как бы испытывала любовь к этой избе, к этой деревеньке — собственно, даже не любовь, а чувство глубочайшей уверенности, что только в этом закуте может жить на свете Иван Ермолаев.
Но вот он переезжал по мосту в новый город, уже оживленный, полный солнца и людей. Он неторопливо ехал по широким улицам, окаймленным большими домами, по площадям, где все производило впечатление новизны и простора, где, в отличие от старого города на другом берегу, не чувствовалось близости заводских дымов, утренний воздух был чист и свеж, а молодая завязь на деревьях — ярко-зелена. Наконец он подъезжал к своему дому и заводил машину в сарай. Здесь воспоминания оставляли его. Он бесшумно отпирал дверь, ставил чайник на плитку, переодевался в рабочую одежду. В доме все еще спали, только кошка лениво терлась о ножку стола. Но вскоре, заслышав шорох в столовой, из спальни выходила в халате и шлепанцах румяная, заспанная Любовь Игнатьевна. Ее шаги негулко и домовито раздавались то тут, то там. Шумы в доме становились все сложнее и разнообразнее: хлопанье дверей, мелкие шажки тещи Дарьи Алексеевны, бормотание вскипающего чайника, стук высоких каблучков старшей дочери Марины, студентки горно-металлургического института, громкие и веселые зевки сына Пети, ученика девятого класса, потом его же свист, наконец, шевеление в крайней комнате слева, пронзительный возглас: «Мама!» шлепанье босых ног, бульканье струйки в горшочек — это просыпались трое младших.
Пока Иван пил чай, мимо него медленно проходил или быстро проносился то один, то другой член семьи, но Иван, как обычно в эти утренние часы, не обращал на них никакого внимания, полностью игнорируя их существование. А они, в свою очередь, тоже словно не замечали его, так было установлено издавна. Он уже был как бы не здесь, а на заводе, у доменной печи, уже начинал приобщаться к таинству металла и огня, и окружавшие понимали это и, не переставая, разумеется, делать свои обыденные дела, уважительно молчали и двигались как можно бесшумнее, едва только попадали в его поле зрения.
Неделю Иван ездил на станцию встречать своего старика, но так и не встретил его. А появился отец совершенно неожиданно и буднично, и не рано утром, а этак часов в десять. Просто постучал в дверь и открыл ее невысокий старик с небольшой серой бороденкой, с небольшим узелком в руке. Вошел, спросил, здесь ли живет Иван Ермолаев, а узнав, что здесь, сел на стул и начал оглядывать комнату, как мастер-обойщик или маляр осматривает стены, чтобы прикинуть объем будущей работы. Дарье Алексеевне даже и в голову не пришло, что это и есть долгожданный гость, она сказала ему, что хозяйка скоро придет, и продолжала делать свои дела.
Радиоприемник разговаривал бодрым голоском — голоском «специально для детей». Дети, впрочем, были во дворе. Любовь Игнатьевна ушла в магазин. Петя — в школу. Марина собиралась в институт — ее у калитки поджидал сын сталевара Пименова, студент-однокурсник, а возможно, что и жених. Сам же Иван, недавно вернувшийся с ночной смены, отсыпался, и его ровный храп возникал из спальни в те мгновения, когда поддельно бодрый голосок из радиоприемника делал паузу.
Дарья Алексеевна, маленькая старушка в очках, справила, наконец, все утренние домашние дела и села на диван с книгой: она была отчаянной читательницей. Она читала громким шепотом, почти вслух. Подняв через некоторое время глаза, она увидела старичка на прежнем месте и подумала о том, что Любе следовало бы уже быть дома, раз она пригласила мастера по поводу ремонта крыши. Узелок старика Дарья Алексеевна приняла за сумку с инструментом.
Как это не раз случалось в истории, все дела распутал ребенок. Шестилетний Федя Ермолаев, вернувшись со двора за каким-то нужным ему предметом, увидел старичка, который дремал на стуле, и спросил с детской прямотой:
— Дедушка, ты чего тут сидишь?
Старик пожевал мягкими губами, почесал серую бородку, внимательно посмотрел на ребенка и, неприязненно покосившись на шепчущую старушку в очках, ответил:
— В гости к вам приехал, милок, в гости… Ты бы мне свово папаню разыскал…
Федя кивнул лобастой головой, но так как «папаня» спал, а будить его не полагалось, мальчик направился к выходной двери; однако сочетание слов «дедушка» и «в гости» показалось Феде весьма значительным, так как оно произносилось в доме за последние дни бесчисленное множество раз. Поэтому он на всякий случай подошел к бабушке, мотнул головой в сторону старика, сказал:
— Дедушка в гости приехал.
И тогда только убежал во двор.
Слова эти не сразу дошли до старушки, а когда дошли, она растерянно посмотрела на дверь, куда исчез мальчик, потом на старичка, вроде бы задремавшего, уронила книгу на диван и кинулась к старику:
— Господи! Вы не… не Тимофей ли Васильевич?
Поднялась суета. Со двора прибежали дети вместе с соседской детворой. Митя побежал за мамой в магазин, Федя кинулся к уходившей Марине и вернул ее, к немалому огорчению Вити Пименова. Растолкали Ивана.
Иван выбежал в столовую босиком, крепко прижал отца к груди, снял с него серую ватную кацавейку, стянул с него сапоги и дал свои мягкие домашние туфли, помог теще быстрее накрыть на стол и растроганно смотрел, как старик жует мягкими губами и улыбается чуть сконфуженно.
Тимофей Васильевич почти не изменился, только волосы и борода у него посерели, и весь он посерел, потеряв тот кирпичный цвет лица и шеи, который так хорошо запомнился Ивану с детства. Помимо того, он стал поблагообразнее, потерял суетливость, свойственную ему в стародавние времена.
Сына он, разумеется, не узнал; он с интересом посматривал на него, пытаясь уловить черты сходства с мальчиком Ваней и, не находя таких черт, бормотал неопределенно:
— Ну, вот и встретились, и слава богу.
Иван опасался, что отец будет вспоминать старое, извиняться, каяться, но старик не проронил о прошлом ни слова, степенно передал поклон от своей жены и детей от второго брака, а также от Ваниной сестры, которая охромела еще в отрочестве, так и не вышла замуж и по-прежнему жила при отце. На вопрос Ивана, что нового в деревне, Тимофей Васильевич ответил, что в деревне ничего не изменилось, все по-прежнему. Иван засмеялся:
— Ну, как не изменилось? Там же колхоз теперь?
Старик ответил равнодушно:
— А? Ну да колхоз… А ты разве до колхоза уехал? Верно, до колхоза…
— А ты кем в колхозе работаешь? — спросил Иван.
Старик сказал хмуро:
— Я? Чего я там не видел…
— А как же? — удивился Иван.
— А так, живем потихоньку, — ответил Тимофей Васильевич уклончиво, однако тут же, искоса взглянув на Ивана, добавил торопливо. — Ну, и хвалиться особенно нечем…
В это время вернулась запыхавшаяся Любовь Игнатьевна. Знакомясь с ней, старик одобрительно кивал: жена Ивана оказалась большой, рослой женщиной, краснощекой и голубоглазой. Старик уважал крупных женщин. Одобрил он также и квартиру Ивана; правда, войдя в ванную комнату, не понял ее назначение: оказалось, к удивлению детей, что он ванны никогда в жизни не видел. Впрочем, оценил он ее довольно быстро. Вымывшись и переодевшись в Иваново белье, он уселся на стул возле окна в столовой, чистенький, молчаливенький; на этом стуле сидел все время, между тем как члены семьи, радостно-возбужденные, вертелись вокруг него, точно спутники вокруг планеты.
Вскоре из кухни донеслись сложные и приятные запахи приготавливаемых парадных кушаний к вечернему празднеству в честь приезда Тимофея Васильевича. Младшие дети — Вера, Митя и Федя — не отходили от дедушки, смотрели на него молча, ожидая, что он их позовет и поговорит с ними. Но он не обращал на них внимания. Только когда впервые появился старший, девятиклассник Петя, старик внезапно заинтересовался и даже удивленно заерзал на стуле: уж очень тот был похож на мальчика Ваню, только без лаптей и вместо домотканой рубахи — в клетчатом пиджачке с галстуком и узкими брючками.
Пока все это делалось дома, Иван уехал на завод приглашать в гости друзей, работавших в дневкой смене. Потом он побывал на квартире у тех своих приятелей, которые сегодня работали ночью. И, наконец, вернулся домой, превеселый и предовольный, с целым ящиком водки, шампанского на заднем сиденье машины.
Гостей собрался полон дом. Тут были мастера доменных печей, в большинстве своем пожилые, среди них прославленный Ульянов с красивой вертихвосткой-женой и еще более знаменитый Гончаренко, уже пенсионер, усатый, как запорожец, — один из последних сотрудников Свицына, помнивший еще самого Курако по Краматорскому заводу. С ним вместе пришли старуха жена, седая, важная как профессорша, и сын полковник с молодой женой, приехавшие в отпуск. Были тут горновые с Ивановой печи с женами, люди молодые и скромные, восходящее светило доменного производства инженер Коломейцев и его жена — нарсудья Лидия Ивановна Коломейцева, инструктор горкома партии — бывший доменщик Леня Башмаков и сталевар Пименов с женой и сыном.
К Марине в это время пришли две ее подруги, чтобы совместно готовиться к зачету, но ввиду такой оказии их тоже усадили за стол, и они сидели втроем в уголке, разумом своим порываясь в другую комнату, к учебникам и тетрадям, а суетными пятью чувствами стремясь остаться здесь, за роскошным столом, под одобрительными взглядами мужчин и кислыми тридцатилетних женщин, в хмельной атмосфере начинающегося веселья. К Марине подсел Витя Пименов; он не ел и не пил, только глядел на нее неотрывно, будто впервые ее видел.
Стол был красивый и богатый. Тут располагались разные колбасы, холодцы, всевозможные консервы в жестяных банках, однако стоявших на фарфоровых тарелочках, холодные голубоватые магазинные куры, селедка, заливная рыба и уже мятые — шел май месяц — еще вкусные кислые огурцы и моченые яблоки.
Однако венцом всех яств были пельмени — знаменитые на всю Россию, не те, худосочные из магазина, в скучных картонных коробках, а самодельные уральские, из изысканной смеси говядины, баранины и свинины, четырех разных сортов — большие, как пироги и маленькие, как детские ушки, такие, где все дело — в тесте, где оно воздушное, пахучее и тает во рту, а мясо служит как бы только приправой, а иные, где вся прелесть — в мясе, в правильности его пропорций, в его сочности неизъяснимой (держи рот, не то оттуда брызнет!) — а тесто только так, футлярчик, пленка для содержимого.
Дарья Алексеевна, Любовь Игнатьевна и Марина, разгоряченные, румяные, серьезные, очень похожие друг на друга, но очень разные (сами вроде как пельмени различных сортов), стали подавать пельмени с пылу с жару, миска за миской; и как только миски пустели — а это происходило быстро, — тут же несли новые миски и не садились, пока самые ненасытные гости не отвалились на спинки стульев в блаженном изнеможении.
Подавая, Любовь Игнатьевна и Дарья Алексеевна уделяли особое внимание Тимофею Васильевичу; они шептали ему — то одна, то другая — в большое седое ухо о достоинствах тех или иных пельменей и наперебой придвигали к нему перец, сметану, кету, топленое масло и уксус в большом фужере.
За здоровье приезжего гостя пили бесконечно. Тосты за него произнесли старик Гончаренко, Коломейцев, Башмаков, Ульянов и младший Гончаренко, полковник. Этот приветствовал его чуть ли не от лица всех вооруженных сил, что, впрочем, рассмешило одного только Леню Башмакова: докладчик и лектор, он хорошо знал цену всяким преувеличениям.
Старик Гончаренко благодарил Тимофея Васильевича за сына, «который является — как старик сказал по-старомодному — украшением отечественной металлургии». Горновые решили покачать отца своего «старшого», и он в их сильных руках легонько подскакивал под самую люстру, глядя на многочисленные стеклянные подвески не без опасений.
После ужина стол задвинули в угол, а стулья расставили вдоль стен. У женщин разгорелись глаза. Заиграл патефон. Начались танцы. Только Дарья Алексеевна, проголодавшаяся, как волк, приткнулась к столу и села есть уже остывшие пельмени одновременно ухитряясь, невзирая на шум, заглядывать в книжку.
Комната была не очень большая, танцевали впритирку друг к другу, как в американском баре, но это не только не мешало никому, но еще больше веселило всех. Не обходилось без вольных шуточек танцующих с чужими женами по адресу нетанцующих мужей, а также встречных острот, обмена на ходу парами, флирта «понарошку» и взаправду. Царило свободное интимное, но не разгульное веселье, какое бывает в компаниях, все праздники проводящих вместе, где все друг к другу привыкли, каждый знает слабости другого лучше, чем свои собственные, все связаны многолетней дружбой и взаимной симпатией, не исключающей, правда, заочных маленьких сплетен и довольно злых подкалываний по поводу совершенных промахов. Постороннего, попавшего в эту среду, легко собьют с толку намеки на неизвестные ему события, собственные, только данному кругу принадлежащие словечки и прозвища, и некий условный, связанный с общим производством и совместным времяпрепровождением жаргон, который понятен только здесь и больше нигде на свете.
Танцевали долго и самозабвенно. Как обычно, тут главенствовала Любовь Игнатьевна. На ее лице было при этом написано особого рода равнодушие, которое составляет высший шик среди магнитогорских замужних женщин; оно призвано свидетельствовать о чистоте их помышлений, о том, что для них главное в танце — вовсе не партнер, не мужчина, а танец сам по себе, что это вопрос чистого искусства, и только. Хотя Любовь Игнатьевна танцевала на первый взгляд неторопливо, сдержанно, даже незаинтересованно, но ее плавная иноходь была куда мощнее и опаснее, чем резвый галоп других танцорш, и действительно, она перетанцевала всех. Когда остальные уже без сил сидели, развалясь на стульях и диванах, лишь она, да кокетливая Екатерина Степановна Ульянова, да приезжая — молодая жена полковника Гончаренко еще были на ногах. Потом приезжая повалилась в изнеможении на диван, прямо на руки своему мужу. Тут переменили пластинку, гармоника заиграла «русского». Любовь Игнатьевна и Екатерина Степановна остановились, как вкопанные, их глаза сразу стали хитрыми-хитрыми, и они пустились в пляс.
Но мужчины никак еще не могли «соответствовать». Лишь изредка, подстегнутые особенно удалым перебором гармошки или уж очень лихим коленцем и настойчивым вызовом одной из двух неутомимых плясуний, кто-нибудь из мужчин прохаживался по комнате с перестуком каблуков или как будто в отчаянии кидался на полминуты вприсядку с таким напряженным лицом, словно прислушивался, не донесется ли ответного стука снизу, из подпола, или даже с противоположной стороны Земли; не получив ответа, он разочарованно и сконфуженно опять усаживался на диван, а вместо него выскакивал кто-нибудь другой.
Потом снова сменили пластинку, но Екатерина Степановна больше не могла, и лишь одна Любовь Игнатьевна гордая своей победой над соперницей, опять замерла, сделала томные глаза и пошла по кругу плавной походкой девушки из аула. За ней ненадолго бросался кто-нибудь из мужчин, зажав между зубов лезвие столового ножа, он шел за ней как привязанный, и лезгинка неожиданно вызывала общий смех, когда ее выплясывал озорной русак со вздернутым носом и скуластым слабобородым лицом.
Понемногу люди и вся комната в целом приобрели тот же вид, что и стол после ужина, когда все кушанья потеряли первоначальную пышность и благообразие: все салаты разрушены, все пирожки надкусаны, все тарелки перемазаны, все блюда перемешаны. Иными словами, началась та чересполосица разумных речей и полнейшей белиберды, громкого пенья и беспричинного смеха, та полупьяная добродушная несуразица, которая является высшей точкой каждой большой вечеринки.
В этих обстоятельствах одна только Дарья Алексеевна неизменно оставалась на посту. Она уложила спать малышей. Она тихонько выпроводила Марину и ее подруг в другую комнату заниматься (Витя Пименов ускользнул вслед за ними). Она начала уносить остатки ужина, чтобы сервировать чай, при этом не забыв — добрая русская душа! — оставить на столе недопитые бутылки.
Еще один человек, кроме Дарьи Алексеевны, был совсем трезв и ясен сам хозяин дома Иван Ермолаев.
Иван сегодня почти не пил, не был, как обычно, вдохновителем общего веселья, не плясал в паре с Любовью Игнатьевной «русского» и не следил с орлиной зоркостью за пустыми рюмками и тарелками друзей. Он был сегодня тихий и трезвый, молчаливо и ласково поглядывал на всех и в особенности на своих домашних. И вид у него был строже, чем всегда, в новом, еще ненадеванном черном костюме из отличной шерсти «с выработкой». Этот новый костюм, о котором толковалось давно, произвел впечатление на всех, особенно на модницу Екатерину Степановну: она обратила всеобщее внимание на то, как черное к лицу Ивану, светлому блондину, какой он в черном стройный и элегантный, и глядела на Ивана еще умильней, чем обычно. Понравился костюм и Тимофею Васильевичу, который, потрогав материю, причмокнул языком.
От отца Иван не отходил ни на шаг, иногда обнимал его одной рукой за плечи, обращал его внимание на чью-либо шутку или смешной рассказ и, перед тем как смеяться шутке или смешному рассказу, глядел на отца вопросительно — понял ли тот, — и сам начинал смеяться не прежде, чем начинал улыбаться отец, ухватив соль остроты. Изредка Иван поднимался и, потрепав отца по плечу — ненадолго, мол, — уходил из столовой — просто так, от усталости трезвого среди выпивших. В соседней комнате Марина и ее подруги готовились к зачету. Витя Пименов, уже сдавший зачет раньше, сидел на подоконнике и смотрел на Марину, отрываясь от этого занятия только затем, чтобы объяснить непонятное место в учебнике: он был отличником и славился своими способностями; и казалось удивительно и трогательно, как он в одно мгновение, все с тем же очарованным видом переключается от любви к металловедению.
Рассеянно улыбаясь, покидал Иван эту комнату и входил в другую, где на широкой кровати спали все трое маленьких. Звуки вальсов и топанье ног почти не доносились сюда. Иван стоял и смотрел на детей, слабо освещенных светом маленького ночника, и давал себе слово, что никогда от них не уйдет, не бросит семью, не оставит их без отца; года четыре тому назад он увлекся одной докторшей из заводской поликлиники и некоторое время был близок к разрыву с семьей.
В очередной раз очутившись возле спящих детей, Иван почувствовал, что его охватила странная душевная слабость, приятная и причиняющая страдание.
Он постоял, пока это странное ощущение не улеглось, и вернулся в столовую. Здесь уже стало тише. Любители пения на время одолели любителей танцев. Судья, Лидия Ивановна Коломейцева, была главной певицей. Голос у нее был низкий, цыганский, и песни — ему под стать — озорные или надрывные. Озорные она пела серьезно, а надрывные — насмешливо, и, видимо, так было правильно. Все притихли, даже танцорши. Умная Лидия Ивановна, впрочем, недолго пела одна, вскоре завела общеизвестную хоровую, и все голоса радостно вступили, запела даже Дарья Алексеевна, только инженер Коломейцев чертил что-то старику Гончаренко на бумаге, шепотом советуясь со старым доменщиком по поводу некоего «рационализаторского предложения».
Потом гости сели пить чай с печеньем, лишь Ульянов и Башмаков, не желающие, как они выразились, «делать ерша», то есть мешать водку с чаем, продолжали пить водку. Екатерина Степановна, любезничая с полковником, сердито косилась на мужа, когда он наливал себе очередную рюмку, и ее живые карие глазки то мерцали мягким масляным блеском, то злобно посверкивали.
Тимофей Васильевич сидел в уголке, ко всем приглядывался, больше слушал, чем говорил, степенно поглаживая свою серенькую бороденку. Мастер Ульянов совсем подружился с отцом своего любимого старшего горнового и, будучи порядочно на взводе, иногда лез к нему целоваться, и звал в гости, и сентиментально вздыхал, вспоминая орловскую деревню, которую покинул ребенком, лет сорок назад.
Людей становилось меньше. Первыми — еще до полуночи — незаметно ушли горновые из Ивановой смены. Они и не пили почти, так как в двенадцать часов должны были заступать; Ивана же начальник цеха заменил другим старшим горновым в связи с семейным торжеством.
Остальные гости стали расходиться часов с двух ночи. В три все стало тихо. Пока Любовь Игнатьевна и Дарья Алексеевна, зевая во весь рот, убирали посуду, подметали пол, стелили постели, старик, которому совсем не хотелось спать, стал расспрашивать сына про гостей (кто они, какие должности занимают, сколько жалованья получают), осторожно прохаживаться насчет женского пристрастия к танцам «с кем попало», соображать, не лучше ли выдать Марину за второго сына Гончаренко (его на вечере не было, но старый доменщик похвалялся им перед Тимофеем Васильевичем), чем за этого ее женишка: отец у женишка больно молчаливый, видно, скупой, да и дома своего не имеют, занимают квартиру в большом казенном доме.
Иван, посмеиваясь, отвечал на его вопросы и мягко отводил его соображения, в то же время тихо радуясь тому, что у него есть родной отец, смешно и мило озабоченный его делами. А старик смотрел на длинный стол, уже пустой, но еще покрытый большой розовой скатертью, вспоминал прошедший вечер и говорил задумчиво:
— Хорошо живешь…
Позже, когда все улеглись и угомонились, Иван вышел на крыльцо и постоял, глядя, как обычно, в сторону завода, на зарево, пылавшее над ним. Ивану стало не по себе от того, что смена работает, а он находится здесь, на крыльце своего дома, — кажется, впервые за двадцать лет он не был вместе со своей бригадой. Он ревниво и пристально глядел в сторону домен, которые не были видны отсюда, но угадывались по алым, оранжевым и золотистым отсветам и дымам.
Он решил, что завтра обязательно покажет отцу завод, и попробовал представить себе, какое впечатление произведет завод на старика, привыкшего к тому пейзажу, который ясно помнился Ивану с детства: деревенские избы спускаются к самой реке, за рекой змеятся холмы, покрытые темной зеленью дремучего соснового бора. Направо уходит вдаль бесконечная равнина, на ней там и сям виднеются деревеньки, а слева тянется гора, у подошвы которой стоит большое село и ярко белеет приходская церковь Василия Великого; туда в старину ходили на богомолье к источнику святой воды.
Это воспоминание показалось таким далеким, эта картина так была не похожа на ту, которую Иван видел теперь перед собой в темноте весенней ночи, что Иван на мгновение почувствовал себя не одним человеком, а двумя — так трудно было соединить в одной биографии эти два разных мира. И то, что завтра его отец, Тимофей Васильевич Ермолаев, ни с того ни с сего окажется на Магнитогорском заводе, казалось тоже неправдоподобным.
Часов в двенадцать дня Иван не без некоторой торжественности усадил Тимофея Васильевича в машину рядом с собой и отправился с ним на завод. Сзади уселась Дарья Алексеевна — ей нужно было в библиотеку, книги менять на всю семью. Книги, аккуратно увязанные веревочкой, она положила к себе на колени. Иван высадил ее у библиотеки и поехал к заводоуправлению.
Вдвоем с отцом они поднялись за пропуском. Служащие заводоуправления почти все знали Ивана и называли Иваном Тимофеевичем. Здороваясь с ним, они в то же время с улыбкой косились на совершенно выпадающую из общей картины мешковатую фигуру старичка с серой бородкой, такую явно не деловую, не командировочную, не инженерную, не индустриальную; старичок щурил глаза и вертел головой во все стороны, рассматривая потолки и стены старательно, как будто по обязанности, но без интереса.
Кое-кто останавливался, спрашивал:
— Что, отец приехал?
А некоторые, знавшие Ивана ближе, подходили:
— Уже приехал?
И пожимали старику руку с несколько преувеличенным жаром.
Краснощекая девица в комнате, куда отец и сын зашли за пропуском, подняв глаза и увидев старика, сначала удивилась, но потом заметила стоявшего за ним Ивана, сразу вспомнила и радушно закивала головой:
— Да, да… сейчас выпишу пропуск. Как вас величать? Тимофей?..
— Васильевич.
Старик сиял от удовольствия: может быть, он смутно думал о том, что вот они с сыном так давно живут врозь, а он, родитель, все равно как бы незримо пребывал вместе с Ваней — ведь звали же Ивана все эти незнакомые люди «Тимофеевичем», по батюшке.
Получив пропуск, они спустились по лестнице вниз, пошли к проходной и наконец очутились на земле завода. Впрочем, по земле отец и сын двигались недолго, вскоре дорога уткнулась в широкую железную лестницу, по которой они поднялись на расположенный высоко над землей виадук и пошли по нему. Внизу, довольно глубоко под ними, тянулись по всем направлениям рельсы, автомобильные пути, толстые и тонкие трубопроводы. Далеко в стороне высились стены огромных цехов, отовсюду свистел вырывавшийся из труб пар, то там, то сям из неприметных отверстий даже выбивалось пламя. Ровное пыхтение раздавалось кругом, беспрерывное ровное пыхтение, покрываемое иногда гудками и тяжким постуком платформ с ковшами, в которых остывало уже лиловеющее огненное варево.
Наконец вдалеке, а потом все ближе, придвигаясь подобно грозному видению, перед ними предстала шеренга доменных печей. Иван остановился и показал их отцу, чтобы он издали оценил эти чудища. Они выглядели как гигантский многобашенный линейный корабль, а каждая в отдельности напоминала марсианина, но так как старику не с чем их было сравнивать — ни о марсианах, ни о линкорах он не имел понятия, — то он просто испугался.
— Печи! Вот это так печи! — оробев, забормотал Тимофей Васильевич.
Он и раньше слышал о доменных печах, но это слово вызывало в нем самые определенные сопоставления: он думал, что речь, в общем, идет о русской печи, где вместо каши варят железо. Точнее говоря, когда Ваня написал, что работает у доменных печей, Тимофей Васильевич сразу представил себе поле, а на нем, наподобие стогов, — ряды больших белых русских печей, с подпечьями и припечками, загнетками и дымоходами.
Спускаясь вслед за сыном по железной лестнице к доменному цеху, Тимофей Васильевич, как завороженный, смотрел на сплетение гигантских цилиндров, конусов и призм, составляющих причудливый корпус доменной печи, и все бормотал:
— Печь! Вот это так печь…
Внизу, под домной, где человек кажется себе особенно маленьким и жалким, они наткнулись на инженера Коломейцева, который, узнав их, просиял. Стараясь перекричать доносящийся со всех сторон беспрерывный гул, он громко спросил:
— Еще не опохмелялись?
Эти более чем обыденные слова в такой необыкновенной обстановке несколько привели Тимофея Васильевича в чувство, и он заулыбался так же степенно и чуть покровительственно, как вчера при тостах в его честь.
Когда Коломейцев ушел, пригласив отца с сыном зайти к нему в контору, а вечером пожаловать в гости, Иван сказал о нем:
— Хороший инженер.
— А ты не инженер? — спросил Тимофей Васильевич.
Иван улыбнулся:
— Хотел, да силенок не хватило. Подготовки не было. Начал учиться заочно, но не вышло. Годы не те, голова не так ясно работает… Память неважная. В общем, бросил. Ну, ничего, ведь и рабочие нужны. Зато дочь моя скоро будет инженером.
Старик с сомнением покачал головой: «Рабочий?.. Смотри, как его везде встречают…»
На доменной печи, где работал Иван, отца старшего горнового тоже встретили очень дружелюбно. Черные от копоти горновые и газовщики подходили к нему, улыбались черномазыми лицами и упорно не подавали ему руки, так как не хотели измазать почтенного гостя.
В огромном помещении было темновато и прохладно. Желтый песочек мирно лежал на полу домны, как на берегу реки. Люди, однако, сновали туда и обратно, видимо, были чем-то очень заняты, но чем именно, старик не понимал. Появившийся откуда-то мастер Ульянов тоже был — не по-вчерашнему — серьезен и деловит. Он громко распоряжался, кого-то грозно распекал, и трудно было представить его себе пьяным и слезливым, и боящимся своей залихватской женки, и прощающим ей все. Тимофея Васильевича он, впрочем, встретил по-приятельски, увел его к себе в комнатку, где вокруг висели щиты с подрагивающими стрелками, потом дал ему синие очки и повел его к печи — смотреть сквозь небольшие глазки на запертое пламя, бушевавшее внутри нее.
Потом Ульянов внезапно исчез, и Тимофей Васильевич почувствовал себя одиноким и потерянным здесь, в этом странном корпусе, ни на что на свете не похожем. Но вот из полумрака появился Иван. Он взял отца за руку и повел, как ребенка, куда-то, поставил его в сторонке и тихо сказал:
— Смотри.
И тут началось. Открылась лётка, и раскаленный жидкий металл двинулся из печи. Все в домне мгновенно преобразилось. Стало нестерпимо жарко и нестерпимо светло. Тени запрыгали по далеким стенам как бешеные. Огонь, осветив ярчайшим светом все закоулки доменной печи, а заодно и соседнюю домну, соединенную с этой, как бы раздвинул их, показал их действительные размеры, более грандиозные, чем это представлялось раньше.
Раскаленный жидкий металл пустился по наклонной плоскости прямо по полу незнамо куда и мог бы все сжечь на своем пути, если бы не замеченные раньше ложбинки в желтом песочке. Раскаленные струи кинулись по этим ложбинкам вперед. Алое и золотистое пламя, похожее на адское и еще пострашнее, вдруг напомнило Тимофею Васильевичу их приходскую церковь Василия Великого, где во всю стену были изображены адовы муки. Но тут огонь был настоящий, бесы, то бишь горновые, метались с баграми в руках, пробегали, кидались с этими баграми прямо на огонь, пускали жидкий огонь то в одну, то в другую ложбинку и уже не замечали ни Ивана, ни его отца, словно это были для них незнакомые люди.
Тимофей Васильевич глядел на окружающее с суеверным ужасом, и только присутствие сына успокаивало его, хотя и сын во время плавки изменился, стал каким-то нездешним, смотрел на огонь и металл, как завороженный, забыв, кажется, обо всем на свете; золотистые отсветы прыгали по лицу Ивана, сверкали и играли в его глазах.
Словно угадав мысли отца, Иван обернулся к нему, посмотрел на него внимательно и сказал ласково:
— Не бойся, тятя.
Почему-то он именно здесь вспомнил слово «тятя», с детских лет совсем забытое, и оно умилило его. Он повторил:
— Не бойся, тятя. Огонь — наш раб, рассчитан и расчерчен по графику.
Это, конечно, было верно, но когда Тимофей Васильевич очутился на высокой платформе, ведущей из домны на вольный свет, он не без опаски поглядел на небо: есть ли оно еще на своем месте. Оно было на своем месте, в нем неподвижно и необыкновенно высоко стояли перистые облака. Тимофей Васильевич украдкой перекрестился и вздохнул. Иван заметил его движение и улыбнулся. Естественное в старину и непривычное, почти забытое Иваном теперь, это движение тем не менее чем-то растрогало его, как и слово «тятя». И в то же время он испытывал удивление от того, что жизнь отца так мало изменилась — по крайней мере по внешности; казалось, что там все так же, как было тридцать лет назад, разве что вместо телег и бричек по дорогам ходят автомобили. Он подумал: «То ли район там такой отсталый, то ли сам отец крепко держится старины, а может, потому он и держится старины, что район отсталый…»
Долго раздумывать над этим не было ни охоты, ни времени; остаток дня и все последующие дни были заполнены до отказа хождением в гости, в кино, во Дворец металлургов. Мысли Ивана занимало одно: как бы получше принять старика, чем бы еще его потешить. В суббиту и воскресенье — два подряд выходных дня Ивановой бригады — решили поехать за город на рыбалку.
К дому Ермолаевых в три часа пополудни съехались две «победы» и «москвичи». Иван вывел и свою «победу». Погрузили палатки, рыболовную снасть, кухонную утварь, рассовали по багажникам части разборной лодки и приготовленные заранее обрезки досок и реек. На эти доски и рейки Тимофей Васильевич смотрел с недоумением, пока ему не объяснили, что в степи топлива нет, поэтому приходится брать топливо для костра, на котором будет вариться уха. Тимофею Васильевичу, жителю лесных мест, это показалось необыкновенно смешным — ездить со своим топливом для костра, — и он впервые за все дни вслух рассмеялся, и все увидели, что сын на него очень похож.
Иван повел свою машину во главе всей маленькой автоколонны. С Иваном в машине были Тимофей Васильевич, Леня Башмаков и полковник Гончаренко на этот раз не в франтовской военной форме, а в затрапезном, вероятно, отцовском костюме, старой шляпе и длинных, выше колен, охотничьих сапогах. На других машинах ехали их владельцы — инженер Коломейцев, инженер Лапин и горновой Синичкин, каждый со своими приятелями. Женщин не было, считалось, что рыбалка — дело сугубо мужское, даже более того — долгожданный отдых мужчин от женского общества. Почтенные отцы семейств чувствовали себя здесь, как школьники, убежавшие с занятий, и были склонны сильно преувеличивать свои домашние тяготы и недостатки женского характера — для полноты ощущений.
Вскоре машины очутились в степи, на не очень четкой степной дороге, созданной скорее соизволением самих шоферов, чем заботами дорожников. Довольно пустынная, однообразная, волнистая равнина семимильным шагом шла навстречу и, далеко обходя машины, лениво ползла будто не назад, а вперед. Единственная достопримечательность по пути, на которую обратил внимание Тимофея Васильевича Леня Башмаков, был заброшенный золотой прииск несколько покосившихся деревянных построек. Тимофей Васильевич, человек, всю жизнь проживший в Европейской России, где о натуральном золоте, добываемом прямо из земли или со дна реки, ходили только легенды, закидал Леню вопросами о том, почему прииск покинут и не осталось ли там золота, и все оглядывался на старые постройки, покачивая головой.
Леня Башмаков хорошо знал и любил здешние места и, несмотря на однообразие ландшафта, ухитрялся рассказывать о них разные истории. Въехали в деревню, и Леня сказал, что ее название Требия, а названа она по имени итальянской реки, где полтора века назад Суворов разбил генерала Макдональда. («Впоследствии наполеоновского маршала и герцога Тарентского», — бросил Леня с важностью в сторону полковника Гончаренко.) Вообще местность здесь изобиловала иностранными наименованиями; тут были неподалеку деревня Париж, поселок Фер-Шампенуаз, села Наварин, Балканы так сохранялась память о победах русских войск, среди которых отличились и уральские казаки.
Но вот машины выехали на гребень небольшой возвышенности. Справа внизу, среди зарослей, вдруг показалась извилистая светлая лента реки. Машины долго колесили вдоль ее берегов и наконец остановились у тихого заливчика. Рыболовы стали устраиваться: они были сдержанно взволнованны и то и дело вопросительно и жадно поглядывали на загадочно-безмолвное зеркало реки. Работали споро и ловко, видно было, что все давно продумано и рассчитано: одни разбивали палатки, другие выгружали сети и прочий инвентарь, третьи принялись налаживать разборную лодку, окрашенную в красный лак, как трамвай; это была сложная и кропотливая работа, но вскоре лодка заскользила по заливчику, как красная рыбка. В нее уселись Леня Башмаков и Синичкин. Они поставили сети в разных местах. Кто-то накопал червей, кто-то ладил удочки. Коломейцев взял в свою резиновую надувную лодку полковника Гончаренко и отправился с ним ставить сети подальше, в какое-то свое заповедное место. Вернувшись обратно, они вместе с Лапиным начали готовить закуску — разумеется, еще не уху — уха еще была среди коряг, в расселинах дна, терлась еще о водоросли, кружилась в омутах, помахивала хвостами, подрагивала плавниками, — а из домашних продуктов, приготовленных и упакованных теми самыми женами, о которых здесь говорилось с таким высокомерием.
Ивану сегодня не давали участвовать в общих усилиях, забирали у него из рук всякую работу, и он сидел с отцом на берегу, объясняя ему, кто что делает, как гид при знатном иностранце. Пахло тинистой прохладой, и Ивану вспомнилась речка Ворона и большой паром.
Покончив с делами, все собрались вокруг постеленного на траве квадратного брезента; всеми цветами тусклой радуги поблескивали пластмассовые тарелочки и пластмассовые стопки, стояли — чтоб не перепиваться — всего три бутылки водки среди блюдец с селедкой, колбаской, жареными котлетами и вареным мясом и множества баночек горчицы. На чистом воздухе, при полном забвении служебных дел и всех забот, кроме как о том, что делается под водой, идет ли рыба в сети, — это был восхитительный обед.
Кое-кто после обеда тут же на траве заснул, и лишь самые завзятые удильщики разошлись с удочками кто куда и сидели вразброс, молчаливые и терпеливые, но в глубине души полные азарта и желания во что бы то ни стало превзойти своих соперников. Тимофею Васильевичу тоже была вручена удочка, и он, обозрев опытным глазом берега, выбрал себе тихую заводь подальше от других и уселся удить. Старик не опозорился: он больше всех наловил окуней, поймал даже одну щучку и язя.
Темнело. Понемногу удильщики вернулись к машинам. Спавшие проснулись. Развели большой костер. Стали чистить картошку. Приближалась «художественная часть», как ее называл Леня Башмаков. Он и Синичкин отправились в красной лодочке проверять ближние сети и вскоре привезли, при общем ликовании, полведра трепещущей рыбы. Тут же взялись за приготовление «большой ухи»: стали чистить рыбу живьем, резать ее, еще бьющуюся в руках, окровавленными ножами, кидать в ведро кипящей воды вместе с целыми луковицами и ломтиками картофеля, снимать ложками накипь с поверхности будущей ухи; и при этом все были очень озабочены и горды и говорили, что дома такую уху разве сваришь, и что без женщин оно как-то вкуснее, и недаром, дескать, лучшие повара — мужчины, и что стряпня вовсе не такая уж маята, как это любят изображать жены. И хотя все в глубине души прекрасно знали, что все эти разговоры — одна мнимость, но уж таков на рыбалке хороший тон.
Когда рыба закипела в котле среди луковиц и картофеля, Коломейцев, Башмаков и Лапин направились к машинам и вернулись оттуда с черным перцем и лавровым листом в больших конвертах. Взглянув на их торжественные, благоговейные лица, историк мог бы наконец понять, почему человечество так жаждало пряностей, что в погоне за ними даже открыло Америку.
Поели уху, выпив на этот раз изрядно. И вот на небо вышла юная луна, и заливчик засеребрился, и в кустарнике на его берегах зашумел ветерок. А степь лежала широкая и бесконечная; машины и люди вокруг костра отбрасывали на нее причудливые мятущиеся тени. Лягушки квакали невдалеке.
Поздно ночью, когда не спали только самые неугомонные, далеко в степи показались два светящихся глаза, и вскоре к лагерю рыболовов приблизилась еще одна машина, грузовая. Она остановилась неподалеку, и ее фары тотчас же погасли. Послышались неторопливые мягкие шаги по траве. Вскоре в светлый круг вошли трое мужчин. Вглядевшись в них, рыболовы огласили берег веселыми криками: это тоже были заядлые любители рыбной ловли — директор совхоза Канунников, зоотехник и директорский шофер.
— Давненько вас не было видно, — проговорил Канунников, грея руки над костром.
— Да все некогда, — стал оправдываться Иван. — План выполнять надо. Месяц кончается. Сегодня выбрались на рыбалку — и то только в честь моего гостя. Отец приехал… Не виделись давно, четверть века с гаком… Он у меня записной рыболов. Теперь спит в палатке, умаялся.
Вновь прибывшие стали поздравлять Ивана. Он застенчиво их благодарил.
Тимофей Васильевич, впрочем, не спал. Он слушал весь разговор с удовольствием. То, что директор совхоза запросто, даже просительно разговаривает с Иваном, потешило родовую гордость старика и несколько удивило его. Директор жаловался Ивану на неполадки и умолял помочь слесарями для ремонта инвентаря.
Иван по поручению парткома занимался шефской работой, а доменный цех как раз шефствовал над целинным совхозом, где директором был Канунников. Но старик не разбирался в этих взаимоотношениях; он пристально и уважительно смотрел через отверстие палатки на серьезное лицо своего сына, освещенное от костра золотистым светом, точно как там, на домне, и бормотал:
— Иванушка-то! Вот тебе и Иванушка-дурачок!..
Он не преминул вылезти из палатки — немного погреться в лучах славы и в тепле костра. При директоре он назвал сына Иваном Тимофеевичем, и в дальнейшем уже иначе его не называл, чем повергал Ивана в смущение и беспокойство.
Весь следующий день ловили рыбу, слонялись по берегу, закусывали, лениво рассказывали бывальщину и небывальщину. Нежаркие солнечные лучи, дрожащие светлые нити на воде, путаница длинных степных трав, беспрерывно длящийся пересвист птиц и перезвон насекомых — все это словно бы сплело вокруг людей легкую и тихую сеть блаженного ничегонеделания. Из нее не так просто было выпутаться, и требовалось некоторое усилие воли для того, чтобы на исходе дня приступить к сборам, укладке, одеванию, вернуться к стремительным мыслям обыденной жизни.
На дорожку закусили. Снова произносились тосты за Тимофея Васильевича. Хитрец Канунников, который был крайне заинтересован в том, чтобы задобрить Ивана и получить необходимую помощь от доменного цеха, заметив любовь к отцу, так и светившуюся в глазах у знатного доменщика, не жалел похвал и шумных излияний. Впрочем, он и сам расчувствовался; видя чистую и трогательную сыновнюю любовь, он вспомнил своих родителей, очень старых, живших на окраине Симферополя в маленьком домишке, и решил сегодня же им написать. Он редко им писал.
Живая рыба билась в ведрах и корзинах. Ее разделили между всеми поровну. Синичкин, с утра крепко выпивший, вдруг стал бить себя в грудь и кричать, что он и в детстве был беспризорный, и теперь нет у него дома, и не для кого ему возить рыбу, и пусть его долю заберут к чертовой матери: от него недавно ушла жена, и при дележе рыбы беда эта показалась ему особенно нестерпимой. Он стал обнимать Тимофея Васильевича, называл его папашей и жаловался ему на окаянную жизнь, считая, вероятно, что видавший виды седой человек поймет его лучше, чем другие.
Синичкина успокоили, вместо него за руль его автомобиля сел полковник, и машины помчались в обратный путь по еле намеченным степным дорогам.
Решили выбрать другой маршрут, чтобы проводить Канунникова до совхоза. Степь сменилась бледно-зелеными березовыми рощами, стоявшими в пленительном беспорядке. После гладких однообразных пространств эти зеленые рощицы радовали душу, и голубое небо над ними было как будто светлее и яснее, чем над изжелта-коричневой степью.
Совхоз был совсем новый. Оштукатуренные белые домики, такие же белые продолговатые и круглые хозяйственные постройки — все это было ослепительно. Новыми казались тут и коровы и овцы. Тут еще не было ни собак, ни кошек. И люди были все молодые. Может быть, по этой последней причине прохожие, юноши и девушки в новых ватничках, с таким интересом поглядывали на Тимофея Васильевича, когда он проходил по улице поселка в своем сером миткалевом костюме, все время держась рядом с директором…
В Магнитогорск приехали поздно вечером. Все, кроме водителей, сладко спали, так что даже не пришлось прощаться. Сонного Тимофея Васильевича Иван уложил одетого в постель, только сапоги с него снял. Леня Башмаков остался досыпать у Ивана — ему постелили в столовой. Ермолаевскую долю улова кинули в большой таз, долю Лени Башмакова — в ведро.
Иван улегся рядом с женой и шепотом, чтобы никого не разбудить, долго рассказывал ей о рыбалке, симпатичном Канунникове и новом совхозе и перечислял всех пойманных рыб по породам и приблизительному весу.
У супругов зашла речь о предстоящем отъезде Тимофея Васильевича и в связи с этим о подарках ему и его домашним. Понимая, что Ивану хочется «не ударить лицом в грязь», Любовь Игнатьевна, как умная и хитрая жена, знающая, как сохранить мир и согласие в семье, сама взяла в руки инициативу и предложила купить и послать мачехе Ивана скатерть, отрез шерсти на пальто и шкурку на воротник, сестре — летнее платье и материал на зимнее, детям Тимофея Васильевича от второго брака — их было трое ботинки, брюки и опять же платье, и еще какому-то дяде и двум теткам, чаще других упоминавшимся стариком, — сапоги и по платку.
Самому Тимофею Васильевичу следовало преподнести особенно ценный подарок, и Иван с Любовью Игнатьевной долго толковали на этот счет; Любовь Игнатьевна боялась назвать предмет слишком дешевый, чтобы не задеть сыновние чувства Ивана и не прослыть скупой и недоброй к мужниной родне; в то же время она не хотела уж чересчур раскошеливаться — и так придется призанять тысячи полторы у Ульяновых на подарки и другие расходы — своих сбережений могло не хватить. И она, покосившись на задумчивый профиль мужа, воскликнула с удальством в голосе, но и не без надежды, что сам муж воспротивится ее предложению:
— Давай-ка мы твой новый костюм ему отдадим?! Ничего!.. Живы будем справим другой!
Ивану новый костюм очень нравился, и такой легкий отказ жены от этого костюма покоробил его; он не совсем безосновательно предположил, что она так легко отдает костюм потому, что на вечере Иван в нем явно пришелся по вкусу Екатерине Степановне Ульяновой: Любовь Игнатьевна немного ревновала его к своей любвеобильной приятельнице. Но ничего не скажешь, подарок был отличный, костюм и старику очень показался, и к тому же такой подарок вроде не стоил денег — за него было уплачено хотя и много, но давно.
— Ладно, Люба, молодец, Люба, — сказал Иван умиротворенно и погладил ее по пышному белому плечу, а она, обрадовавшись этой ласке и польщенная его похвалой, в душе окончательно склонилась перед необходимостью отказа от новых зимних пальто Марине и Мите.
Иван с женой уснули блаженным сном, довольные друг другом.
Утром Иван пошел на завод, а Тимофей Васильевич, проснувшись, с похмелья пил огуречный рассол, принесенный ему сердобольной Дарьей Алексеевной. Он спросил ее, где здесь церковь и не собирается ли она к заутрене — сегодня вознесение, сорок дней после пасхи. Дарья Алексеевна, сдержанно улыбнувшись, ответила, что ее покойный муж, работавший литейщиком в Златоустовском заводе, был старый безбожник, в бога не верил и ей наказал, так что она уже лет тридцать как не ходит в церковь.
Все же она проводила Тимофея Васильевича к трамваю, усадила его и растолковала, как ехать в церковь через весь город.
Пока он ездил, все было сделано: деньги одолжены, покупки произведены, билет на указанный им день куплен.
Прощальная вечеринка, объявленная в свой срок, прошла так же весело и шумно, как и встреча. Наутро после проводов старику были вручены подарки.
Старик как будто не очень удивился, только притих, глаза у него стали маленькие-маленькие, он медленно, будто недоверчиво, брал каждую вещь и, выслушав, кому она предназначалась, задумывался на мгновение, оценивая достоинства человека и предназначаемой ему вещи. И только когда все подарки были сложены, старик вдруг поглядел исподлобья на сына и спросил:
— Ты, Ваня, того… сколько жалованья получаешь?..
Иван возразил, гордый и растроганный:
— Ничего, батя!.. Не беспокойся… Хватает, хватает, батя!
А Любовь Игнатьевна, давая старику денег на дорогу, тоже расчувствовалась и, вздохнув, сказала ему ласково, хотя и с некоторым надрывом:
— И по двести рублей будем вам высылать…
Старик при этом смотрел в сторону и быстро-быстро моргал глазами, и было непонятно: то ли он собирался заплакать, то ли думает о чем-то своем. И весь вид у него был какой-то странный: не то петушистый, не то жалкий.
И вот однажды утром дети, проснувшись, не застали дедушку. Он уехал ночью, когда они спали. Зато у них появилась еще одна забава: они надумали играть «в дедушку», и эта игра стала одной из самых любимых. Дедушку изображала обычно Вера; она приклеивала к подбородку обрывок старой папиной шапки серого меха, сидела серьезная и отрешенная на стуле с рюмкой в руке, а остальные дети чокались с ней рюмками и стаканами и говорили тосты; Федя же, изображавший полковника, — он нашил себе на плечи бумажные красные погоны, — говорил речь и кричал «ура», и потом «дедушка» деловито получал подарки, быстро прятал их в чемодан, спрашивал, кто сколько жалованья получает, и обещал писать письма. Соседские дети тоже жаждали участвовать в этой игре, но по врожденному, что ли, чувству справедливости самостоятельно не смели в нее играть, а обязательно приходили к ермолаевским детям, законным внукам дедушки, истово чокались с Верой и кричали «ура».
Все знакомые при встрече с Иваном обязательно спрашивали, как старик доехал, и что он пишет, и как понравился ему Магнитогорск и завод. А Иван, конфузясь (так как от старика не пришло ни одного словечка), отвечал всем, что отец доехал благополучно.
Весточку от Тимофея Васильевича Иван получил только месяца через полтора и весьма неожиданным путем. В доменный цех как-то днем позвонили из нарсуда и велели передать ему, чтобы он зашел к судье Коломейцевой. Он удивился, но, разумеется, пошел и был неприятно поражен злым видом Лидии Ивановны, обращением к нему на «вы» и сухостью ее тона. Глядя на него бьющим прямо по переносью пристальным взглядом суровых глаз, которые он до сих пор знал лишь веселыми или насмешливыми, она спросила без предисловий:
— Деньги родителям посылаете?
Иван вздрогнул от неожиданности.
— Да, — сказал он, густо покраснев под ее взглядом и весь сжавшись от предчувствия какой-то неизвестной беды. — Да… А что? Конечно, посылаю… Не родителям — отцу, у меня матери нет. Из каждой второй получки посылаю. Только в последний раз не посылал: я ведь ему дал на дорогу.
Расспросив его и при этом свирепо придираясь к каждому слову, она наконец вздохнула с явным облегчением, и ее взгляд стал легким.
— Так я и думала, — сказала она и положила ему на плечо тяжелую и ласковую руку. — Квитанции сохраняешь?
— Квитанции? Не знаю… Навряд ли…
— Так я и думала, — повторила она, покачав головой. — Вот прибыл иск от твоего отца. Жалуется он на тебя: мол, член партии, депутат, домовладелец, богач, а алиментов не платишь. Оставил, мол, родных на произвол судьбы — родителей, братьев и сестер, из коих два несовершеннолетних и одна хромая-калека.
Иван не пытался объясняться. В нем будто что-то оборвалось. Он втянул голову в плечи, на минуту почувствовав себя несчастным и беззащитным крестьянским мальчиком стародавних времен. Она же глядела в сторону и рассуждала вслух:
— Ну, факт твоих переводов мы, положим, с помощью почты сможем установить в любое время, не в этом суть… Одна я не решаю, у меня заседатели, все выяснится в судебном заседании, но думаю, что присудим мы ему с тебя, ввиду твоей многодетности рублей пятьдесят в месяц. Вполне достаточно. Он имеет корову, овец, откармливает свинью, да еще валенки валяет… Сам же он мне и рассказывал. Пятьдесят рублей будешь ему платить.
В этот момент она посмотрела на Ивана и осеклась, потрясенная выражением его лица.
— Разве в этом дело? — проговорил он, махнув рукой.
— Да. Конечно. Понимаю, — сказала она мягко и как бы виновато.
— Может, они так это?.. Не подумавши? По темноте своей?.. А? продолжал он, глядя на Лидию Ивановну вопросительно, почти умоляюще. Может, им живется трудно? А?..
Выйдя из помещения суда, Иван с ужасом подумал о том, что надо идти домой; он не мог сейчас видеть жену и Дарью Алексеевну и даже детей, которые, может быть, за стеной играли в «дедушку». И он решил пойти в пивную, выпить там грамм триста русской горькой, чтобы не было так стыдно. Но когда он подошел к реке, перед его глазами возникла привычная, но всегда ошеломляющая своим величием картина вечно работающего завода. В сгустившихся сумерках разноцветные снопы пламени всевозможнейших оттенков красного и оранжевого и ослепительные вспышки белого огня то тут, то там прорезали мир неподвижных вещей стремительно и дерзко. В этом мире огромном теле, включающем в себя темные горы, тускло освещенные дома, тяжелые воды реки и небо с длинными тучами, чуть освещенными невидимым закатом, — завод с его непрерывным тяжким постуком был вечно бьющимся сердцем, почти таким же сложным и таинственным, как человеческое сердце. Иван жестко усмехнулся и пробормотал с любовью, хотя и не без горечи:
— Вот она, Магнитка! Она — твоя деревня, твой родной дом, твой отец, твоя мать…
1959–1960― СТАРЫЕ ЗНАКОМЫЕ ―
Ба! Знакомые все лица!
«Горе от ума»Рассказ
1
Утром, когда у нас за спиной всходило солнце, мы иногда обнаруживали немецкие наблюдательные пункты на западном берегу Одера. Косые солнечные лучи, озаряя зелень старых сосен, внезапно задерживались, трепеща, на чем-то блестящем, и что-то там на мгновение ослепительно вспыхивало.
— Энпе, — говорил, удовлетворенно покашливая, сержант Аленушкин.
Он нагибался над схемой немецкой обороны и ставил там маленький крестик. Потом он обращал ко мне свое обветренное красивое лицо и усмехался. Я никогда не видел, чтобы он смеялся, — он только усмехался всепонимающей, чуть покровительственной, дружелюбной усмешкой человека, не очень общительного, но очень доброжелательного и много испытавшего. Последнее неудивительно: много надо было испытать, чтобы дойти до Одера!
Не подозревая, что он явится когда-нибудь героем моего рассказа, я разговаривал с ним только о делах службы. И впоследствии я горько упрекал себя за то, что ни разу не беседовал с ним по душам. Когда же война кончилась, было поздно, потому что сержант Аленушкин погиб под Берлином в конце апреля.
Но в то время, о котором я пишу, — март 1945 года, — он был еще жив и удивлял меня своей поразительной зоркостью и почти непостижимой наблюдательностью. У него и глаза были орлиные — круглые, широко расставленные, серые, пронзительные, с очень маленькими острыми зрачками.
Прошлой зимой он, раненный на поле боя, обморозил себе обе ноги и теперь очень страдал от малейшего холода, но и об этом я узнал только впоследствии, после его смерти, со слов других разведчиков. Я вообще мало знал о нем, даже имя его мне было неизвестно, хотя мы проводили вместе добрых пятнадцать часов в сутки.
Это может показаться странным, но на войне такие вещи случаются часто. Люди целиком поглощены своим трудом, а все остальное кажется несущественным. О человеке ты знаешь мало, но зато самого человека ты знаешь хорошо. В мирных условиях порой бывает наоборот.
Для того, чтобы понаблюдать ранним утром за противником, мы отправлялись к переднему краю в кромешной темени предутренних часов. Что может быть темнее фронтовой ночи в хорошо дисциплинированном кадровом войске? Да там любую светящуюся гнилушку затопчут ногами, чтобы не светила. Если курят, то в обшлаг бездонного рукава, если читают газету, то в потаенной глубине трехнакатного блиндажа.
Вокруг — тихо и как будто безлюдно. Только иногда раздается негромкий окрик часового да слышится посапывание автомашины, перебирающейся вперевалку по горбатому лесному просеку, да ветер гоняется за кем-то в кустах и, шурша, замирает вдалеке. Ничего не видно, хоть глаз выколи. Но стоит нагнуться немного — и ты различаешь на фоне густой черноты еще более темные очертания головы идущего впереди сержанта Аленушкина. Иди за ним смело — он и во тьме видит. Он тебя не предаст, и не оставит тебя раненого, и поделится с тобой табаком и хлебом — потому что он хороший солдат и к тому же знает, что и ты обойдешься с ним так же. И сердце наполняется нежностью к этому едва различимому в темноте светлому образу. В этой нежности, почти ранящей твою душу, есть и нечто тщеславное — ибо ты и себя считаешь не намного хуже его.
В одну из непроглядных мартовских ночей мы с Аленушкиным пришли в траншею переднего края. Расспросив, по обыкновению, пехотинцев о том, что случилось в течение ночи, мы закурили махорку в ожидании рассвета.
Было холодно, и Аленушкин, вероятно, страдал, но я об этом не знал тогда. Кто-то из пехотинцев предложил нам соломы, и чьи-то неизвестные добрые руки бросили нам из темноты несколько больших охапок. Мы зарыли ноги в сухую солому и продолжали ждать, молча прислушиваясь к негромким разговорам сидевших в траншее солдат.
Говорили тогда преимущественно об одном: о предстоящем наступлении на Берлин и окончании войны. То, что война кончается, понимали все, и это наполняло души безмолвным ликованием, которое ничем не выражалось вслух, но было заразительно, как болезнь. В глазах у людей в то время стояло выражение, какое бывает при влюбленности. В разговорах, однако, не проскальзывало ничего торжественного, наоборот, о близком окончании войны говорили как-то нарочито сухо, словно боялись, как бы не сглазить.
Кто-то из темноты сказал:
— Вчера газета писала — Аргентина, мол, объявила войну немцам. Ну, а ежели уж она объявила, — значит, Гитлер чувствует себя дюже плохо.
Другой солдат меланхолически отозвался:
— Потом скажут: и мы, дескать, пахали.
— Бабы без нас в деревне совсем замучились, — невпопад сказал кто-то, сидящий поодаль у пулемета. То ли он не расслышал, о чем идет разговор, то ли слово «пахали» вызвало у него совсем другую ассоциацию. Но это никому не показалось смешно. Все замолчали на минуту и потом заговорили о том, что хорошо бы у ж е т е п е р ь, то есть в марте, к посевной, вернуться на родину.
Между тем стало рассветать, и вскоре к нам подошли откуда-то сбоку два человека — майор и лейтенант. Они постояли рядом с нами, потом медленно пошли дальше по траншее. Я не знал этих людей, и в этом не было ничего удивительного — невозможно знать в лицо всех офицеров. Но когда они отошли от нас на несколько шагов, мне вдруг сделалось тяжело на сердце. Я не отдавал себе отчета почему. На людей этих я только мельком взглянул и, кажется, не отметил в них ничего странного или тем более зловещего. И все-таки было, видимо, нечто такое в окружающей их атмосфере, нечто неуловимо нервное в их поведении, отчего заныло, как бы в тяжелом предчувствии, мое сердце.
В это же мгновение Аленушкин встал, посмотрел им вслед и негромко, но повелительно, крикнул:
— Стой!
Те остановились. Я помню, как сразу же замерли в соломе, устилавшей почти все дно траншеи, только что медленно шагавшие ноги в хромовых сапожках. А потом тот, что шел позади, — то был «лейтенант», — оглянулся на нас. Он бросил на нас взгляд наглый и в то же время затравленный, настороженный взгляд человека, готового, в зависимости от того, что он увидит, небрежно улыбнуться или бросить гранату.
Неизвестно, что бы он сделал, но нервы шедшего впереди «майора» не выдержали, и он, как-то неловко, пригнувшись, пустился бежать по ходу сообщения к лесу. Прогремела автоматная очередь Аленушкина, потом еще чья-то. «Майор» упал, а «лейтенант», пытаясь протестовать, запоздало возмутиться, даже прикрикнуть на «хулиганов», медленно поднял руки вверх.
В это время заработала немецкая артиллерия, — может быть, встревоженная стрельбой на наших позициях. Когда все стихло, мы повели задержанных в штаб дивизии.
Это были диверсанты, переодетые в советскую форму. Они ночью переправились через реку на лодке, затем берегом, прячась в камышах, проникли в наше расположение.
Они были одеты точно так, как полагается. Все — с иголочки. Шинели и погоны — новенькие. Воротнички — беленькие. Пуговицы — ярко начищенные.
В этом заключался их первый просчет.
Несмотря на то, что дожди не шли в последнее время, они были мокрые по пояс. К сапогу одного из них прилипла длинная водяная травка. Правда, заметить сырость на темном шинельном сукне и травку на сапоге было бы не легко для менее зорких глаз, чем глаза Аленушкина. Но даже не в этом было дело. Главное, что, будучи совершенно мокрыми, они шли по траншее медленно, даже остановились возле нас на минутку — вроде интересовались, как дела, а ни слова не произнесли. Нельзя, промокнув до нитки, медленно ходить по траншее как бы для прогулки или для проверки.
В этом был их второй просчет.
И наконец, третье: нервы «майора» не выдержали.
Разумеется, нелегко немцу сохранить присутствие духа, отправляясь на диверсию в тыл противника на подступах к Берлину, когда «подвиг» бесполезен, как самоубийство.
Диверсанты на допросе не отпирались.
Они принадлежали к особой группе Отто Скорцени, штандартенфюрера СС. Группа эта находилась в районе города Шведт, куда была прислана для «проведения специальных мероприятий».
Что это были за мероприятия? Убийство из-за угла отставшего советского солдата, отравление колодца и поджог склада — подлая и мелкая работа, так же мало способная остановить натиск советских армий, как капля яда — отравить океан.
Тогда мы впервые услышали имя Отто Скорцени.
Отто Скорцени был начальником диверсионного отдела немецкой разведки, штатным убийцей германского генерального штаба, выдающимся специалистом по «мокрым» делам.
Это он похитил Муссолини из горной крепости, где дуче находился под охраной карабинеров маршала Бадольо.
Это он, Скорцени, организовал крупную диверсию во время Арденнского наступления немцев: переодев своих молодчиков в американские мундиры, он на американских «виллисах» мчался впереди наступавших немецких танков и безнаказанно убивал направо и налево захваченных врасплох американских солдат.
Его люди пытались организовать в Тегеране покушение на американского президента Рузвельта. Президент был спасен благодаря советским разведчикам, вовремя предупредившим о готовящемся покушении.
Все это самые выдающиеся факты из биографии штандартенфюрера. В обычное время Скорцени просто убивал. Он это делал в лагерях для военнопленных, в войсковых тылах армии противника и в самой Германии. Особенно много убивал он на территориях, оккупированных гитлеровскими войсками. Даже видавшие виды немецкие эсэсовцы отзывались о Скорцени с почтением и с некоторой долей страха, ибо, если требовалось, он убивал и своих.
— Ну и тип? — с искренним недоумением сказал Аленушкин, узнав про все это. Он был взволнован и потом, вернувшись обратно на НП, как-то по-особенному пытливо наводил стереотрубу на леса противоположного берега, вглядываясь с бесконечным вниманием в очертания немецкого переднего края, в пустынные улицы полуразрушенного прибрежного селения.
Мы ни о чем не разговаривали, и только вечером, когда солнце закатывалось на западе, Аленушкин оторвал глаза от стереотрубы и досадливо сказал:
— Теперь ничего больше не увидишь. — Потом добавил: — Скорее бы уже наступление.
Наступление вскоре началось, и следы Скорцени затерялись. Группа Скорцени, среди других групп и дивизий 3-й немецкой армии генерала фон Мантейфеля, бежала на запад.
Эти молодчики Скорцени были, в общем, храбрые парни, ничего не скажешь, но как они бежали! Они бежали самозабвенно, забыв обо всем на свете, с большим знанием этого дела, почти с воодушевлением. Они бросили оружие и склад новенького советского обмундирования, которое наш дивизионный интендант, несмотря на всю его скупость, велел уничтожить, словно оно было зачумленное.
Резвее всех бежал сам Отто Скорцени. Это было уже не просто бегство, а какой-то пароксизм, припадочное состояние, выражающееся в очень быстром перебирании ногами. Если он и останавливался на секунду, то только ради того, чтобы припасть воспаленными губами к попадающимся на пути речкам и озерам. При этом он, как леди Макбет, наскоро мыл свои огромные руки, запятнанные кровью русских и французов, ибо, несмотря на свою столь поразительную резвость, он все-таки боялся, что русские преградят ему дорогу.
Чего греха таить, Отто Скорцени не желал попасть в русский плен. Дело в том, что он был глубоко убежден, что его у нас повесят. Можно даже сказать, что среди всех убеждений Отто Скорцени (а он был, как известно, человек с убеждениями), это убеждение было самым сильным.
Но куда бежать? Вот в чем весь вопрос.
Этот вопрос занимал не только Отто Скорцени, но и нас, грешных. Сержант Аленушкин, например, иногда говорил с оттенком мечтательности в голосе:
— Хорошо бы изловить этого Отту… Хотя ему и бежать-то некуда. Попадет к союзникам, те его тоже живо повесят.
Тем не менее Отто Скорцени бежал к англо-американцам. Может быть, он думал, что его не узнают, не заметят?
Вряд ли он это думал.
Отто Скорцени — убийца № 1, рост 1 метр 93 сантиметра. Лицо широкое, красное, все в рубцах.
Не заметить его нельзя.
И его заметили американцы. И они приголубили его.
2
— Как так американцы? — удивленно спросил бы сержант Аленушкин, будь он жив.
Он был бы глубоко озадачен и опечален, ибо он, как и все мы, шел навстречу своим союзникам с открытой душой. Я помню, как он радовался, когда союзники совершили высадку в Нормандии. Помню, как, узнавая всякий раз о том, что на нашем фронте появлялась то одна, то другая немецкая дивизия, переброшенная Гитлером с запада, он говорил:
— Ничего не поделаешь… Зато союзникам легче будет.
Когда мы начали за Одером брать первых пленных, показавших, что многие генералы бегут, желая сдаться не нам, а англо-американцам, Аленушкин пожимал плечами, поглядывал на меня с тревогой, но потом уверенно говорил:
— Какая разница! Суд будет один.
Под Ораниенбургом к нам ранним утром 23 апреля привели группу пленных. Мы их наскоро допросили на опушке рощи. Я спросил, где теперь находится штаб армии и его командующий генерал Мантейфель. Пленный офицер Георг Нейман махнул рукой и устало сказал:
— Убежал… Наверно, уже у англичан…
Мы отправили пленных в тыл. Длинной вереницей, усталые и молчаливые, двинулись они по шоссе на восток. А мы пошли дальше на запад, туда, где завязывался новый бой на новом рубеже немецкой обороны.
В этом бою погиб сержант Аленушкин.
Его похоронили у перекрестка дорог, недалеко от большого озера. Над его могилой, увенчанной красной звездочкой, мы молча поклялись, что не забудем его и будем бороться, как и он, за справедливость на земле. Именно за это боролся сержант Аленушкин — Петр Иванович Аленушкин — так, оказывается, звали его; он был сыном крестьянина Владимирской области.
Мы положили Аленушкина в могилу, и его обмороженные, натруженные ноги нашли себе наконец покой.
Не думал ли кто-нибудь из нас впоследствии: «Ах, как умно и вовремя умер Петр Аленушкин! Ему не пришлось испытать жестоких разочарований, он ушел из жизни в разгар великого праздника, полный уверенности в светлом будущем мира. Какая, в сущности, прекрасная смерть на поле боя, в стане победителей!» Но мы сурово отметали от себя эти мысли слабых — мы знали, что еще много радостного и трудного предстоит нам, и надо жить, чтобы довершить то, что начато.
Тем более что вокруг холмика с телом Аленушкина происходило непрерывное движение огромных масс людей, освобожденных от рабства, сотен тысяч и миллионов бездомных, угнетенных и оскорбленных.
В немецком городке высились кучи щебня вместо домов, зияли разбитые окна, беспризорные дети искали что-то на свалках.
Люди были голодны и печальны. И мы испытывали великую любовь ко всем этим людям, любовь, от которой глаза становятся горячими от подступающих слез, любовь, способную гнать плоты против течения, менять русла рек, великую любовь к людям, ради которой только и стоит жить на земле и называться человеком. Если ради нее придется быть суровыми, — мы будем суровыми, хотя бы наши сердца обливались кровью при этом.
А мы еще должны были проявлять суровость: впереди отступали, сражаясь, остатки немецких войск. Они сражались еще в силу ложного понимания дисциплины, в силу ненависти, которую долго и настойчиво вбивали им в головы. Но большей частью это уже были не войска, а одиночки несчастные, покинутые своими командирами, потерявшие веру в будущее. Уже не «фрицы», не солдаты, а люди. И это превращение солдат в людей, это тотальное поражение немецкой армии, как бы ни было оно для них мучительно и трудно, — оно было плодотворно. Оно таило в себе новый, победный путь путь былой славы для великой нации, давшей миру Маркса и Энгельса, Томаса Мюнцера и Ульриха фон Гуттена, Кеплера и Лейбница, Баха и Бетховена, Гете и Шиллера, Гельмгольца и Рентгена, Планка и Эйнштейна.
Покинув могилу Аленушкина, мы пошли дальше, чтобы добить гитлеровскую армию.
Старшина Горюнов нес в носовом платке ордена и медали покойного и негромко рассказывал мне о нем нечто вроде надгробного слова.
— Что ж, — не спеша говорил старшина Горюнов, — Аленушкин был хороший парень. Мы с ним два месяца вместе воевали… Как вернулся из госпиталя, он у нас в роте все время. А раньше он воевал на Третьем Украинском фронте. Прошлой зимой он там орден Красного Знамени получил. Он захватил штаб 16-й мотодивизии немцев. Документы важные и генеральские штаны. Он мне рассказывал. Да… А потом участвовал в деле под Корсунь-Шевченковским. Там целую немецкую армию окружили. В этих боях Аленушкин подбил из противотанкового ружья пять штук танков. Это точно. Другому бы не поверил, а ему верю — очень хорошее зрение имел. Глаза соколиные прямо, честное слово. Он стрелял — так на лету попадал в монету. Я сам видел. И откуда у него такое? Сам он сын колхозника, кончил семилетку и работал то ли секретарем сельсовета, то ли в сельпо. В общем не бог весть что. Правда, рисовал хорошо. Когда мы на формировке стояли, он с нас всех портреты рисовал. Очень похоже. И книжки любил читать. Его хлебом не корми, а дай книжку в руки. Я ему даже говорил: брось читать, успеешь почитать после войны, еще зрение свое испортишь, а оно нужное теперь для родины… Семья у него в деревне, мать-старуха, брат младший и какая-то Ольга, не знаю точно — жена или невеста. Сам он никаких особых личных счетов к немцам не имел — не то что я, у меня и дом сожгли в Белоруссии, и старики и сынишка умерли с голоду в немецкой оккупации. У него этого не было. Но как человек партийный и понимающий обстановку, он исключительно фашистов ненавидел и прямо-таки здорово их громил. А так он был парень спокойный, нет чтобы поспорить с кем-нибудь или вообще. Нет, этого за ним не было совсем. Он был, можно сказать, человек стоящий, дисциплинка у него была хорошая. Не то что некоторые — раз ты храбрый разведчик и отличился в боях за родину, — значит, море по колено и сам черт не брат. Нет, этот был другой… Или чтобы там что-нибудь не выполнить… Нет, у него даже не могло такого и быть.
На этом старшина Горюнов закончил и отправился по своим делам в роту.
Позже, на рассвете, мне выдалась возможность поспать, но заснуть я не мог и почему-то думал главным образом о том, что если я после войны смогу написать что-нибудь стоящее, то Аленушкин уже не прочитает это. И опять горько сожалел о несостоявшихся ночных разговорах с этим человеком, который так много мог бы рассказать мне и никогда больше не расскажет. Кроме того, я испытывал угрызения совести, вспоминая, как часто холодными ночами заставлял его отправляться на передовую и страдать от боли в ногах, хотя мог бы вместо него посылать кого-нибудь другого.
Потом я в страшной тоске постарался не думать об этом. А темная комната пустынного немецкого дома, где я лежал без сна, понемногу наполнялась мутной серостью рассвета.
Какие документы захватил Аленушкин в прошлом году? Мне ли, разведчику, не помнить эту историю!
Шестнадцатая немецкая мотодивизия была в течение 1943 года трижды отмечена в сводках главной квартиры Гитлера. До того она участвовала в прорыве немцев на Сталинград — с целью выручить из окружения армию Паулюса. Группой войск, в которую входила 16-я мотодивизия, командовал генерал-фельдмаршал Эрих фон Манштейн. Именно его послал Гитлер в тяжелый момент для прорыва к осажденному Паулюсу. Фон Манштейн постарался оправдать доверие Гитлера, но это ему не удалось, задуманный мощный удар был сорван, и дивизии «освободителей 6-й армии» побежали вспять под умелым руководством фельдмаршала фон Манштейна. Фельдмаршал проявил недюжинный талант по организации панического бегства с массовым оставлением противнику танков, орудий и даже аэродромов с самолетами. При этом он сделался известен также и истреблением десятков тысяч мирных граждан как вследствие своего плохого настроения, так и с похвальной целью неукоснительно выполнить соответствующие приказы фюрера.
Одной из дивизий Манштейна была и 16-я мотодивизия.
Среди документов, захваченных сержантом Аленушкиным и его товарищами, была толстая папка с перепиской под заглавием: «О самовольном оставлении командиром 16-й немецкой мотодивизии графом фон Шверин занимаемых позиций». Герхард фон Шверин действительно бросил свои позиции, и командир 30-го армейского корпуса генерал артиллерии Фреттер-Пико возбудил даже перед командующим 6-й армии (обновленной 6-й армии!) генерал-полковником Холлидтом ходатайство о привлечении графа к военному суду.
Граф фон Шверин с большим трудом сумел оправдаться, свалив вину на солдат, на бездорожье, на потери и на самого Фреттер-Пико. 15 февраля 1944 года граф написал генералу Холлидту слезное и весьма красноречивое письмо. Надо сказать, что у генерал-лейтенанта графа фон Шверин оказался довольно хороший слог, имеющий нечто общее со слогом библейских пророков в изложении немецкого профессора богословия начала прошлого века.
Генерал фон Шверин писал, между прочим:
«В 23.00 противник крупными силами, с криком „ура“, перешел в атаку на высоту 81,5 южнее Михайловки, опрокинул стоявшую там на позициях зенитную батарею 9-й танковой дивизии и продолжал свой натиск в западном направлении. 306-й полевой запасной батальон, которому был поручен этот участок, никакого сопротивления не оказал…
Утром 3 февраля ко мне на командный пункт в Михайловке явился командир 156-го мотополка полковник Фишер с остатками своего штаба. Полковник доложил, что его полк, как уже было известно, за последние дни в ходе боев был оттеснен на восток и находится, вероятно, в окружении… Одновременно меня известили со станции Апостолово, что туда прибывают крупные разрозненные отряды всех частей дивизии, — правда, без оружия и техники и в совершенно истощенном состоянии… Много машин было потеряно во время отхода из Михайловки на запад. Отступающая пехота потеряла свое последнее тяжелое оружие и боеприпасы…
Многие падали от истощения и оставались на дороге. В этих условиях солдаты оказались полностью дезорганизованными. Лишь на рассвете удалось у железнодорожного моста вблизи станции Трудовая собрать небольшое количество боеспособных солдат, которые добрались на нескольких уцелевших штурмовых орудиях. Это были человек сорок солдат 60-го мотополка…
Я намеревался удержаться на железнодорожной линии в надежде, что русские из-за глубокой грязи не смогут преследовать меня крупными силами… Выполнение этого плана потерпело неудачу».
Граф фон Шверин во главе остатков 16-й мотодивизии и 123-й пехотной дивизии, сведенных воедино в группу «Шверин» — по фамилии злосчастного графа, — с поразительной быстротой бежал на запад. 17 февраля 1944 года граф докладывал тому же Холлидту в еще более душераздирающих выражениях:
«…Сотнями брели эти люди по грязи, доходившей до колен. Они были лишены всякого руководства и двигались в том направлении, куда их вел инстинкт. Над ними витал дух катастрофы. Там, куда они приходили, распространялись паника и ужас. Всякое правильное управление войсками застопорилось и запуталось, так как с потерей штабных машин, а также машин с телефонным и радиоимуществом весь аппарат управления был выведен из строя… Эта жалкая беспомощность перед катастрофой приводит каждого, над кем бы такая катастрофа ни разразилась, все равно офицер он или солдат, в состояние шока».
Графа фон Шверин к военному суду не привлекли. Его спасло состояние шока, иначе говоря — невменяемое состояние, которое в юриспруденции вполне законно считается смягчающим обстоятельством.
Наши солдаты захватили также парадный мундир графа фон Шверин — не буду уподобляться грубому старшине Горюнову, назвавшему парадный мундир «штанами», — и походную его библиотечку, которая состояла из военно-исторических трудов, опуса Альфреда Розенберга «Миф XX столетия», сочинения А. Гитлера «Моя борьба» и нескольких детективных романов, а также набора парфюмерии парижского производства. Граф был культурный господин, но, придя в состояние шока, бросил часть своих культурных ценностей. Не будем его осуждать за это.
Такие документы и трофеи захватил сержант Аленушкин в районе Запорожья. Документы эти были опубликованы в сообщении Советского Информбюро, а трофеи, за исключением парадного мундира, давно уже сгнили в украинской земле. Парадный же мундир вынуждена была перешить себе на пальто старуха Горпина, ограбленная вверенными Герхарду фон Шверин и Эриху фон Манштейну войсками. Сукно оказалось хорошим и после перелицовки носится до сих пор.
Операцию под Корсунь-Шевченковским я тоже хорошо знал. Здесь попала в окружение почти вся 8-я армия немцев под командованием генерал-полковника Веллера. Начальником штаба состоял генерал-лейтенант Ганс Шпейдель. Этот видный гитлеровский штабист довольно умело сунул свою армию в «котел». Раньше он был больше известен расстрелами французских заложников. Он свирепствовал в Париже после разгрома Франции. Когда Адольф Гитлер прибыл в Париж, чтобы насладиться позором Франции, не кто иной, как г-н Шпейдель водил ефрейтора по французской столице и, между прочим, сопровождал его к гробнице Наполеона в Доме инвалидов. Пронырливый и ловкий шваб понравился опьяненному победой и лестью безумному австрийцу и получил повышение — он был назначен начальником штаба германских оккупационных войск во Франции. За каждое покушение на немца штаб германских войск расстреливал от пятидесяти до ста заложников — французов и француженок. Нант, Бордо и Париж хорошо помнили генерала доктора Ганса Шпейделя. Помнят его и украинские крестьяне района Корсунь-Шевченковского по расстрелам и повальным реквизициям.
Впрочем, в Корсунь-Шевченковском мешке г-ну Шпейделю пришлось очень худо. 8-я армия была разгромлена. Посланные к ней на выручку три танковых дивизии не смогли прорваться. Неразбериха и паника царили в «котле». Шпейдель, заблаговременно улетевший из окружения, прилетел было обратно, чтобы выяснить обстановку, но ничего не выяснил, чуть не попал в плен и еле вскочил на самолет.
Аленушкин вдоволь насмотрелся на бегущих немцев. Жаль, что он не смог все досмотреть до конца.
Дивизии генерала Гассо фон Мантейфеля продолжали отступать примерно в таком же порядке, как год тому назад, отступали части Герхарда фон Шверин и Веллера — Шпейделя. Без руководства, оставленные на произвол судьбы своим командующим, они сражались, истекали кровью, сдавались в плен. Над ними витал дух катастрофы.
Генерал Гассо фон Мантейфель — внучатый племянник прусского фельдмаршала Эрвина Карла барона фон Мантейфеля, губернатора Эльзас-Лотарингии после франко-прусской войны 1870 года — был одним из любимых генералов Гитлера и со временем мог претендовать на пост своего почтенного предка. Он командовал отборной танковой дивизией «Великая Германия», отличившейся недавно, во время Арденнского наступления, убийством канадских и американских военнопленных, за что и получил повышение: был назначен Гитлером на пост командующего 3-й армией.
Командовать армией бедняге почти не пришлось. Вначале было некое подобие управления войсками: генерал отдавал приказы, ругал подчиненных, требовал держаться во что бы то ни стало, перемещал дивизии, полки, подбрасывал подкрепления. Но это продолжалось всего несколько дней. Потом все бросились в паническое бегство, и генералу фон Мантейфелю не осталось ничего другого, как возглавить этот порыв, этот бурный, непреодолимый «Дранг нах Вестен».
Да, «Дранг нах Остен» сменился «дрангом» в обратном направлении. Разумеется, этот дранг не имел завоевательных целей. Однако не надо думать, что он был вовсе бесцелен. Рядовые солдаты и офицеры бежали потому, что их гнали, но многие генералы бежали даже тогда, когда можно было еще держаться. Они бежали к новому хозяину. Конечно, они в то время не были еще уверены в том, что хозяин возьмет их к себе в услужение. Но чутьем опытных ландскнехтов они угадывали в будущем такую возможность.
И вот, в связи с этим, генерал фон Мантейфель, в то время как его солдаты еще дрались и умирали, отбыл в западном направлении. С решительностью, являющейся отличительной чертой знаменитого рода Мантейфель, он летел в штабной машине навстречу британским войскам гораздо резвее, чем они шли навстречу ему. Приходится с грустью констатировать, что он мчался не для того, чтобы приостановить вторжение островитян на территорию своей отчизны. Нет, он стремился к ним с целью срочно запросить британское командование: «Где здесь плен?» Он мог бы сделать этот запрос телеграфно, по телефону или по радио, используя новейшие достижения техники, но он не осуществил этого: у него не было уже ни телеграфа, ни телефона, ни радио — все имущество связи его штаба попало в руки наших войск.
Он бежал к англичанам, как к своим избавителям, он, в течение шести лет твердивший, что англичане худшие враги немецкого народа, он, считавший, что главная ошибка Гитлера заключалась в том, что фюрер предпринял русский поход до того, как расправился с Англией.
Даже сейчас, стремясь в спасительное лоно британской армии, фон Мантейфель жалел о том, что все так глупо получилось. А ведь в Англии было бы вольготно! Можно было бы разрушать танками старинные готические здания, солдаты Мантейфеля насиловали бы англичанок, жгли бы крытые черепицей английские деревеньки. В Англии и водных преград поменьше, и джентльменов побольше, чем в России. При отсутствии крупных лесных массивов облегчалась бы борьба с партизанами. А уже затем можно было бы ударить на Россию, имея обеспеченный тыл с хорошим английским правительством во главе с сэром Освальдом Мосли и лордом Хау-Хау, в составе лояльно настроенных мур-брабазонов.
Но теперь пришлось Мантейфелю попасть к англичанам не в качестве победителя и оккупанта, а всего лишь в качестве пленного. Правда, англичане приняли его с глубоким уважением. Родовитый господин очень импонировал британским любителям аристократической старины, тем более что он не побывал у них в качестве оккупанта.
3
Отто Скорцени попал к американцам. Не будучи титулованным бароном и не надеясь на аристократические сантименты американских демократов, он дрожал, как осиновый лист. Он впервые убедился в том, что и у него есть нервы. Он ежедневно ожидал суда и виселицы.
Но все шло тихо и мирно. Понемногу бывший штандартенфюрер опомнился от страха и даже стал панибратски подмигивать чинам американской охраны.
Скорцени жил в Дармштадтском лагере спокойно и сытно среди других эсэсовских деятелей топора и плахи. То, что людей, посылавших на Лондон самолеты-снаряды и торпедировавших американские торговые пароходы, кормили хорошо и культурно обслуживали, свидетельствовало о том, что евангельские заповеди не чужды и американским полицейским, и наполняло душу Скорцени (его теперь величали мистером Скорцени) глубоким удовлетворением. А он совсем было изверился в человеческом благородстве!
Однако Скорцени здесь вскоре показалось скучно. После столь бурно и интересно прожитой жизни Дармштадт казался ему дырой. Правда, тебя не убивают, — это хорошо. Но тебе и убивать не дают, — а это плохо. Кругом деревья, прекрасный старый парк, вороны кричат на тополях, — а работы нету. Столько месяцев прожить не убивая — тяжелое испытание для немецкого эсэсовца, пустая, бессмысленная, можно сказать — безыдейная жизнь.
Скорцени начал впадать в философическое настроение. Он даже дошел до таких вершин абстрактного мышления, что с полной объективностью ученого удивлялся глупости американцев, не понимавших, какое удовольствие имели бы они, убивая его, Скорцени. В своих размышлениях касался он также и вопросов естествознания. Например: как жаль, что человек не так живуч, как рыбы. У рыбы и живот распорешь, и жабры вырвешь, а она еще бьется. Человек — он устроен не столь совершенно, и его единственное преимущество перед рыбой — это то, что он кричит.
Бывшему штандартенфюреру тем невыносимее было находиться в лагере, что до него стали доходить интересные сведения. Радио — а лагерь в Дармштадте был хорошо радиофицирован — сообщало о событиях новейшего времени, о противоречиях в стане союзников. Чем острее становились эти противоречия, тем мягче и человечнее становился режим в лагере, тем более походил лагерь на хороший пансион для добропорядочных холостяков, тем слабее становилась охрана. К тому времени, когда англо-американские власти обнародовали известие о том, что денацификация в западных зонах окончена, лагерь в Дармштадте превратился в эсэсовский рай на земле.
Впрочем, мистер Скорцени не избегнул суда. Но то был суд почти ангельский, американский суд. Покашливая и воровато оглядываясь, судьи оправдали бывшего эсэсовца и решили передать его немцам на предмет «денацификации». Но тут Скорцени, как вылупившийся из яйца птенец, решил отказаться от материнских забот американской лагерной наседки. Он почувствовал крылышки за спиной и улетел из Дармштадта. Это было весьма несложно в нынешних условиях, тем более что ему дали понять, что его услуги могут скоро понадобиться «при данной ситуации».
Вообще говоря, это темная история — бегство Скорцени из лагеря. Он ушел средь бела дня, словно его друзья из штаба оккупационных войск союзников надели на него шапку-невидимку.
Говорят, что в момент его бегства произошло феноменальное явление: послышался тихий плач деревьев от Волги до Луары — деревьев с толстыми крепкими суками, на которых должны были болтаться Скорцени, его коллеги и его покровители.
Отто Скорцени бежал в Аргентину.
Не правда ли, это звучит весьма романтично? Бегство из Дармштадта в дикие пампасы Аргентины. Скорцени действительно попал в пампасы, но он там не жил в ранчо и не мчался на мустангах. Он очутился в Кордобе, большом благоустроенном городе, хотя и расположенном, правда, в аргентинских пампасах. В городе стоял большой военный гарнизон с таким количеством немецких фашистов, офицеров вермахта всех рангов и родов оружия, что казалось, ты находишься в Лагер-Дебериц близ Берлина.
Да, это была та самая Аргентина, которая геройски объявила Гитлеру войну в марте 1945 года, когда Скорцени уже вострил свои лыжи на Одере. Впрочем, Скорцени не обижался на Аргентину за это. Иначе нельзя было поступить в то время, и аргентинские офицеры только вздыхали, покачивали головами и любовно жали жесткие ладони немецких беглецов.
Отто Скорцени поместили в удобном доме, гостеприимные хозяева всячески ласкали бедного мученика за Германию, несчастного заключенного, пострадавшего от рук неблагодарных европейцев.
Парламентский лидер аргентинской радикальной партии Сильвано Сантандер заявил, что Отто Скорцени (теперь его величали синьором Скорцени) находится под защитой аргентинской армии и флота.
Не знаю, трудно ли было вооруженным силам Аргентины защищать Отто Скорцени, — во всяком случае, ни один волос не упал с его головы. Неизвестно, что было бы, если бы, например, Соединенные Штаты Америки решили начать войну с Аргентиной из-за синьора Скорцени. Но США отнюдь не собирались делать нечто подобное. Наоборот, американские офицеры запросто встречались с ним и уговаривали его ехать в Европу, где его услуги могут вот-вот понадобиться. Да, именно теперь! Когда Западная Германия уже, слава богу, «денацифицирована и демилитаризирована»!
Скорцени долго не решался на этот шаг, и видит бог, если бы его защищала только аргентинская армия, он так и не решился бы на него. Но убийцу осенили звезды и полосы американского флага. Он получил заверения. Были забыты тысячи убитых им американцев. Было забыто и покушение на Рузвельта, который и сам был теперь, «при данной ситуации», забыт.
И Скорцени появился в Европе — без стеснения, не пригибаясь, во всю длину своего выдающегося роста. В Париже он напечатал мемуары в «Фигаро», он завел дружбу с интеллигентными французами — даже с одним социалистом, чего мсье Скорцени никогда не ожидал в связи с тем, что самолично убил немало социалистов.
Потом он выехал наконец в Западную Германию.
Прекрасное зрелище открылось перед его глазами.
Если бы не города, разрушенные почти дотла английской и американской авиацией, если бы не обилие американских мундиров и американских товаров, можно было бы подумать, что ничего за эти годы не произошло.
Скорцени застал здесь сотни и тысячи друзей и однокашников, встречавших друг друга одним лишь словом «хайль», тактично опуская второе слово.
Скорцени повидался с гитлеровским рейхсминистром Вальтером Дарре, выпил пива с доктором Фриче.
В это же время на американском военном самолете прибыл в Германию из далекого Китая Вальтер Стеннес, когда-то фюрер берлинских штурмовиков, тоже очень знаменитый погромщик и убийца. В последнее время он работал начальником личной гвардии Чан Кайши. Бежал он из Шанхая за несколько часов до прихода туда китайской Народной армии. Американцы вывезли его на самолете, а британский верховный комиссар в Германии сэр Брайан Робертсон дал ему пропуск на въезд в английскую зону.
По всему чувствовалось, что наклевывается наконец работа.
Генералы Гитлера потихоньку совещались в разных высокопоставленных домах, засиживаясь там до поздней ночи. Стучали машинки, читались рефераты. На эти совещания приезжали из концентрационных лагерей на восьмицилиндровых «паккардах» и те генералы, которые отбывали заключение за бесчеловечные преступления во время войны. Генералов финансировал господин с лошадиной фамилией Пфердменгес, самый богатый человек в Германии, один из тех, кто привел Гитлера к власти. Сам Яльмар Шахт (Скорцени даже прослезился от умиления, увидев лицо маститого гитлеровского дядьки) был душой этих совещаний.
Шла тихая, но не очень скрытная возня, которая, как Скорцени сразу же с восторгом определил, являлась не чем иным, как подготовкой к восстановлению германского вермахта. Зарождался «коричневый рейхсвер», как когда-то после первой мировой войны зарождался рейхсвер «черный». Создавалась подпольная организация немецких офицеров «Брудершафт», как после первой мировой войны — такая же организация «Консул». И герр Скорцени радостно примкнул к этому движению. Нет, союзники не повесили его.
4
Итак, в Западной Германии создавалась германская армия. Писались меморандумы, составлялись мобилизационные планы, восстанавливались списки офицеров армии и СС. Разрабатывались заявки на оружие и боеприпасы. Обучались войска. Бывшие офицеры военно-воздушных сил и аэродромного обслуживания проходили курс обращения с американскими реактивными истребителями Ф-84. Военные заводы работали в три смены.
С течением времени работа по созданию «вермахта» расширялась. Началась идейная подготовка перевооружения. Кинофильмы и книги, посвященные реабилитации и возвеличению военных преступников, заполонили рынок. Страна кишела солдатскими обществами и эсэсовскими землячествами. Воспоминания гитлеровских генералов, мемуары горничных Гитлера, денщиков Роммеля, лакеев Геринга и троюродных братьев Геббельса запестрели на прилавках.
А потом настало время для открытого оформления германских вооруженных сил — «в рамках» Северо-Атлантического пакта. Кто же возглавит эту армию, кто же будет олицетворять вооруженные силы «свободного мира»?
Ганс Шпейдель и Гассо фон Мантейфель, фон Шверин и фон Манштейн, эсэсовец Гилле и эсэсовец Скорцени и многие другие, чьи имена нам хорошо известны.
Они, наши старые знакомые, которых мы нещадно били, гнали, окружали и рассеивали. Те самые, которые бросили в беде свои войска и чинно сдали пистолеты и кортики американцам и англичанам. Те самые, которые разрушали наши города и жгли наши села. Те, которые, пользуясь своим военным авторитетом, внедряли в головы немецких солдат высокопарными фразами о долге преданность Адольфу Гитлеру, ненависть к человечеству.
Тише. Будем сохранять спокойствие. Не станем вспоминать теперь о сержанте Аленушкине и о других погибших друзьях. Ни слова более о пути от Сталинграда до Берлина — пути, политом нашей кровью.
Лучше посмеемся. Разве вас не разбирает смех при виде наших старых знакомых, этих современных героев, превзошедших по части быстроногости Ахиллеса, самого быстроногого из героев древности?
Господин Шпейдель, недавно с лакейским видом сопровождавший по Парижу г-на Гитлера, теперь развязно разгуливает по Фонтенбло с г-ном Монтгомери и г-ном Барбье и похлопывает их по плечу.
Вероятно, портные срочно шьют фон Шверину новый мундир взамен того, в котором бабка Горпина ходит к колодцу по воду.
Иногда после большого трудового дня, после инспектирования новых подразделений и встреч со своим начальством — американскими капитанами, немецкие генералы собираются у камина за кружкой пива и долго сидят молча, время от времени задумчиво вздыхая. Они вспоминают прекрасные времена Гитлера, громкие победы, отличия, приемы в имперской канцелярии в присутствии послов Муссолини, Хирохито и Франко… Фюрер жал руки своим генералам, отмечал их в своих сводках, жаловал им поместья и кресты.
Да, Адольф Гитлер любил этих парней. Он любил их, высоко ценил, хорошо содержал, а если иногда и сердился, и покрикивал, и бил их по морде, так это только как отец своих деток. Кто любит, тот наказует.
И будем говорить открыто — они тоже любили его.
С какой страстью пытаются они доказать обратное! Как упорно стараются обелить себя в книгах, письмах, декларациях, мемуарах! Оказывается, они были несогласны с политикой покойного Адольфа. Правда, это несогласие они выражали только перед своими супругами, и то в постели, шепотом. Преданность же ему они провозглашали гораздо громче, и отнюдь не в постели, а всюду и везде. Но это можно понять и, поняв, простить: какой супруг — даже если он престарелый генерал — не желает казаться в постели своей жене справедливым, решительным и сильным?
И все-таки смешно, что они отреклись от Гитлера! Ведь не будь его не была бы восстановлена военная промышленность, не возродилась бы армия, не началась бы война, и господа Мантейфель, Гальдер, Рунштедт, Манштейн и другие прозябали бы в неизвестности в качестве управляющих имениями, хозяев пивных лавок, надсмотрщиков на фабриках и шахтах!
Доктор Шпейдель был бы преподавателем истории в гимназии «Эбергард-Людвига» в Штутгарте. Фон Шверин состоял бы, максимум, как его покойный папа, полицей-президентом Ганновера или другого города и гонялся бы за Отто Скорцени, который был бы всего-навсего обыкновенным уголовным убийцей. Покойнику Гудериану, человеку без роду и племени, пришлось бы, возможно, продавать на ручной тележке овощи и вместо «Achtung, Panzern»[17] кричать «Achtung, Ruben!»[18].
Нет, трудно из Александра стать Диогеном и сменить дворец на бочку. Зря они теперь так нехорошо отзываются о своем отце и благодетеле.
Впрочем, не надо их подозревать в низкой корысти. Не только себя стремятся они обелить, — они хотят оправдать всю немецкую военную касту, всю ее выгородить, подсластить, окружить святым ореолом ненависти к Гитлеру. Генерал-полковник Гальдер в одной своей книжонке, наспех сочиненной для этой цели, пытается окружить этим ореолом также и гитлеровского выкормыша Эрвина Роммеля. Более того, предпринимаются попытки превратить чуть ли не в антифашистов палачей города Парижа генерала Штюльпнагеля и генерала Шпейделя, убивших больше французов, чем все их коллеги — палачи города Парижа — от времени Гуго Капета до времен Адольфа Тьера. Убивая французов и француженок, они, оказывается, ненавидели Гитлера. Расстреливая заложников, они, оказывается, были ярыми противниками Гитлера!
Так ученики фюрера пытаются создать легенду о своей былой ненависти к учителю. Им оказывают в этом деле посильную помощь разные английские, американские и немецкие литераторы, военные и просто мошенники. Даже некоторые одураченные этой романтической версией писатели прогрессивного направления тоже, млея и сюсюкая, что-то такое бубнят об оппозиционности немецкого генералитета.
— Помилуйте, — бормочут они, — ведь военные организовали покушение на Гитлера в июне тысяча девятьсот сорок четвертого года!..
Это, положим, верно. Но в том-то и беда, что покушение было организовано только в июне 1944 года, когда во всей своей очевидности обозначилось поражение Германии. И еще: покушение на Гитлера было организовано для того, чтобы спасти дело Гитлера, в надежде договориться с Западом с целью уничтожить и залить кровью Восток; эмиссар фюрера, господин Гесс, допер до этой идеи на три года раньше господ генералов.
Нет, простите. Адольф Гитлер любил этих парней, и они обожали его.
Конечно, жаль, что многих уже нет, а иные далече. Потягивая пиво, сидят у камина наши старые знакомые и вспоминают своих коллег, которые не имеют возможности по разным обстоятельствам сидеть рядом и участвовать в общем, европейском, дельце…
Повешены Кейтель и Иодль — «зря, зря, они бы пригодились теперь…» Погибли на русских равнинах такие столпы, как генерал артиллерии Вильгельм Штеммерман, генерал пехоты Митт, генерал-лейтенант де Салленгре-Драббе, генерал пехоты Мюллер и многие другие. Ах, где теперь генерал Маттершток, командир 137-й охранной дивизии, сорвавший с себя погоны и ордена и убежавший от русских однажды зимой? Где командир 106-й пехотной дивизии генерал-лейтенант Форст, который самолично поджигал русские дома с запертыми в них жителями?
Да, многих нет, многих нет…
Как говаривал Шиллер:
Скольких бодрых жизнь поблекла, Скольких низких рок щадит…Генералы курят трубки и глядят в камин, покашливают и опять вспоминают.
Какая невознаградимая потеря — смерть Генриха Гиммлера! Он был хотя и крупный негодяй, но весьма полезный при данной ситуации человек. В последний период войны он командовал армейской группой «Висла». Теперь можно было бы поручить ему командование армейской группой «Сена»…
Да, многих нет, многих нет…
Но вот генералы вскакивают — раздается отрывистый окрик американского лейтенанта:
— Хелло!
Опять начинается суета, писанина, смотры войскам, списки, меморандумы, оперативные планы под затейливыми названиями вроде «Барбаросса» или «Морской лев»…
А американцы неистовствуют: вот вам деньги, вот вам оружие, только соберите побольше пушечного мяса, мы хотим мяса.
Да, да, американцы, дорогой друг Аленушкин, именно они.
Они воскрешают мертвых. Они гигантскими кранами, пыхтя и ругаясь, поднимают огромный, разбитый, параличный, бледный как смерть в своей железной каске и зеленом мундире, призрак генерального штаба германской армии. Его рыжие усики начинают топорщиться над прусскими тонкими губами; белесые, вылинявшие ресницы начинают удивленно моргать, а бесцветные злодейские глаза наливаются блеском и кровью. Руки размахивают, а длинные ноги, облаченные в американскую обувь, уже готовы выступить вперед гусиным шагом: «Achtung! Stillgestanden!»[19].
При звуке этих хорошо знакомых слов мне на память приходят другие слова, которые очень часто произносились русскими солдатами: «хальт» и «хендехох».
Знакомые, дорогие слова! Неужто они ни о чем не напомнят Ахиллесу фон Шверин? Неужто пятка, куда ушла геройская душа графа в былые дни, уже зажила, а сама бессмертная душа его опять водворилась на старое место?
Неужели эти слова так-таки ничегошеньки не говорят генерал-лейтенанту Гансу Шпейделю, хлебнувшему позора на украинской земле?
Неужели Мантейфель, этот баран в чине генерала, оставивший свои войска на произвол судьбы и удравший в плен, так уж воинственно настроен, что рвется в бой, оглушая мир грозным блеянием?
Неужели все наши старые знакомые позабыли своих старых советских знакомых?
Какой огромный путь прошло человечество от человекообразной обезьяны до гитлеровского генерал-лейтенанта! Почему же так мало души, так мало интеллекта, такая звериная узость мысли под этими лысыми черепами? Ведь они не могут не понимать, что война обрекает на смерть и истребление прежде всего немецкий народ. Не пехотная же рота из Коста-Рики и не взвод драгун из Доминиканской Республики обагрит своей кровью прекрасную землю Германии. Она снова будет полита немецкой кровью.
Нашим старым знакомым все это нипочем. Эгоистический расчет и подлое честолюбие, звериная злоба и звериная обида движет ими. Вот они, наши старые знакомые, глядите на них — генерал-полковник Павиан и генерал-лейтенант фон Шимпанзе! Мы знаем их повадки, их гримасы, их лицемерие и спесь, их трусость и наглость. Мы видели их лица и, что еще важнее — их тощие зады, когда они удирали от нас, потеряв… мундиры.
Барабанный бой раздается в Западной Европе. В Западной Германии опять начинается великое одурачивание Михеля. Неужели его проведут и на этот раз? Неужели Михель снова захочет стать «фрицем»? И неужели у других народов такая короткая память? Французский солдат будет служить под начальством Ганса Шпейделя? Томми будет подчиняться немецкой команде? Непостижимо!
Генералы Гитлера — народ многократно битый и потому — весьма терпеливый. Теперь они называют Германию неотъемлемой частью Европы. Скоро они снова будут называть Европу неотъемлемой частью Германии.
Так-то, друг Аленушкин.
5
Приехав во Владимирскую область, я вдруг, неожиданно для себя самого, решил разыскать деревню, где родился и вырос сержант Петр Аленушкин, побывать в этой деревне и посмотреть на людей, которые окружали его, и на землю, по которой он ступал до того, как стать солдатом.
С каждым днем мое желание становилось сильнее, и вскоре мне это стало казаться необычайно важным и полным особого значения.
Выяснилось, что деревня находится в Вязниковском районе, который ничем особенным не отличается от множества других районов. Он славится вишневыми садами. Через него протекает река Клязьма. Правый берег ее высок и живописен, левый — низмен, порос лесом и сочными лугами. Река здесь судоходна, и пароходики, оглашая протяжным воем окружающие леса, идут вниз до Оки и вверх до Мстеры.
В старину здесь работали богомазы, талантливые иконописцы, сбывавшие свой товар через бродячих разносчиков — офеней — по всей России.
Кроме того, район славится еще одним обстоятельством. Маленький городок Вязники, мало кому известный, и окружающий его небольшой район дали за войну двадцать пять героев Советского Союза, преимущественно летчиков. Как-то странно и трогательно было мне смотреть на снующих по деревням и по улицам городка стареньких женщин в шерстяных платках обычных русских женщин, как две капли воды схожих с теми, которые ходили по этим древним местам сто и двести лет назад, и думать о том, что эти старушки родили героев-летчиков, мастеров современнейшей техники и что эти матери, у которых еще и иконы стоят в красном углу, обращают взоры в небо не с молитвой, а просто в ожидании своих сыновей.
Я пришел в деревню, где родился мой погибший товарищ, в погожий сентябрьский день.
Все колхозники работали в поле. Казалось, что деревня населена только курами, которые по-хозяйски ходили по улице, клевали, собирались вместе, опять расходились, исчезали в дворах и вновь появлялись. На меня они глядели довольно равнодушно, и я уселся на завалину, уже просто не понимая, зачем я пришел сюда и что я скажу людям. Мне теперь казалось, что зря я пришел. Мать Аленушкина, может быть, уже умерла, а если и жива, то стоит ли растравлять старые раны, напоминать о событиях многолетней давности, о том, что было и быльем поросло.
Мимо прошел мальчик, и я спросил его, где здесь живут Аленушкины, на что он мне ответил, что полдеревни — Аленушкины. Тогда я пояснил, что я имею в виду тех Аленушкиных, у которых погиб сын на войне. Мальчик, подумав, ответил, что у нескольких Аленушкиных погибли сыновья на войне, и тогда я, смущенный и притихший, замолчал, а мальчик, постояв немного, ушел.
Вокруг стояла прекрасная осень. Деревья, как будто увешанные медными колокольчиками, колыхались под теплым ветром, и казалось, что листья сейчас зазвенят тонкими голосками — совсем тонкими у берез, пониже — у кленов и вовсе низкими — у лип. Прежде всех деревьев бурно и радостно желтеют клены. Их желтизна ярка до боли в глазах. Березы — те желтеют медленнее. Теперь они были еще желто-зеленые: зеленое ближе к стволу, а чем дальше от него, тем желтее. Ничего похожего на увядание не было в осеннем уборе деревьев. И в том, что тихая улица устлана желтыми листьями, тоже не было ничего печального. Просто происходил какой-то крайне необходимый жизненный процесс, не менее важный, чем все другие, и красота его была красотой непреходящей жизни.
Начало темнеть. По деревне прошло стадо. Гурьбой пронеслись барашки. Коровы, принадлежащие колхозникам, поодиночке заворачивали каждая в свои ворота, между тем как колхозные коровы горделиво продолжали свой путь дальше, к ферме. Зажглось электричество в домах и длинных конюшнях. Наконец появились и люди. Они появились сразу, и улица заполнилась ими мужчинами, женщинами и детьми.
Все не спеша разошлись по домам, и только одна молодая пара, словно и не уставшая за трудовой день, пошла по направлению к реке — он задумчиво теребил в руках желтую веточку, она тихо смеялась.
Теперь уже совсем стемнело, и я отправился разыскивать избу Аленушкина. Мне указали ее, и я вошел.
Мать сержанта была маленькая женщина, вся седая, но с моложавым коричневым лицом. Она не огорчилась из-за того, что я напомнил ей о сыне, напрасно я опасался этого. Напротив, она засветилась тихой радостью, узнав, что ее Петю любили и о нем помнят до сих пор. Я рассказал ей разные подробности фронтовой жизни ее сына, в том числе и то, как Петя громил части Шпейделя, захватил письма фон Шверин и опознал диверсантов Скорцени. А она, то и дело удивленно ахая, говорила как бы про себя:
— А он и не писал нам про это…
Мы посидели молча. Потом она спохватилась:
— Я самовар поставлю.
Она поставила самовар и снова села напротив меня, глядя мне в глаза пристальным и дружелюбным взглядом. Потом ее лицо вдруг сразу взмокло от слез, но она тут же вытерлась, стала готовить к столу и внезапно спросила:
— А будет война?
Я ей ответил как мог.
Она сказала, словно объясняя свой вопрос:
— Наш колхоз хорошо стал работать, на трудодни прилично получаем. Веселее стало жить…
Я спросил про Ольгу.
— Оленька вышла замуж… Не хотела сначала, все Петю не могла забыть. Уж я и то ее уговаривала.
— А второй ваш сын где?
— Вася? — Она показала рукой на окно и замолкла, словно к чему-то прислушиваясь. Я тоже прислушался. Недалеко в темной ночи гудел трактор. Он рокотал не спеша, то приближаясь, то отдаляясь. Его рокот наполнял сердце необычайным спокойствием, словно делал уютными и домовитыми эти лесные пространства.
— Пашет, — сказала она. — Всю ночь будет пахать.
Позднее я вышел на крыльцо и долго прислушивался, как к музыке, как к любимому голосу, к ровному гуду одинокого трактора. Деревня уже уснула, электричество гасло то в одном, то в другом доме — и, наконец, вся деревня погрузилась в полную темноту — почти такую же, какая бывала на фронте, — а трактор все рокотал, рокотал, то отдаляясь, то приближаясь.
Утром Вася Аленушкин пришел домой. Он был очень похож на брата — те же поразительной зоркости глаза — круглые, широко расставленные, серые, пронзительные, с очень маленькими острыми зрачками. Зашли и другие колхозники — у многих из них на пиджаках висели ордена и медали, знаки нашей незабываемой молодости, свидетельства зрелого опыта и непобедимого боевого духа.
Это были простые и спокойные люди — солдаты и сержанты запаса.
1950–1955__________
Примечания
1
Зеленые призраки!
(обратно)2
В какой воинской части вы состоите?
(обратно)3
Сто тридцать первая пехотная дивизия, саперная рота.
(обратно)4
Эсэсовцев вы тут видели?
(обратно)5
О да, их здесь очень много повсюду.
(обратно)6
А что это за части?
(обратно)7
Это эсэсовская танковая дивизия «Викинг». Знаменитая, сильная дивизия. Отборные части Гиммлера.
(обратно)8
Господин коммунист, товарищ, я — рабочий. Посмотрите на мои руки. Поверьте мне, я не национал социалист. Я рабочий и сын рабочего.
(обратно)9
Обер-фельдфебель войск СС.
(обратно)10
Парашютисты!
(обратно)11
Едем сейчас же.
(обратно)12
Майор войск СС.
(обратно)13
Обер-лейтенант войск СС.
(обратно)14
Лейтенант войск СС.
(обратно)15
К и р к е н е с — церковный мыс (норвежск.).
(обратно)16
Старик в море (норвежск.).
(обратно)17
«Внимание, танки!» — сочинение генерала Гудериана.
(обратно)18
«Внимание, репа!» (нем.).
(обратно)19
«Внимание! Смирно!» (нем.).
(обратно)



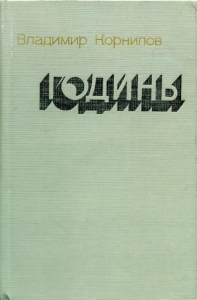
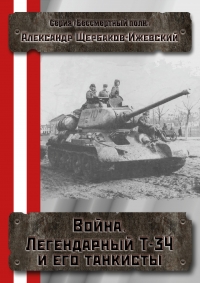
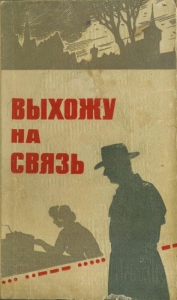
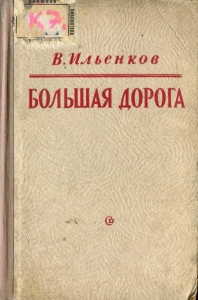
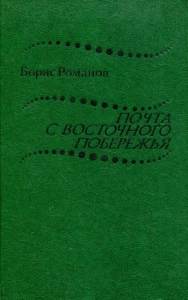



Комментарии к книге «Звезда. Двое в степи. Сердце друга. Рассказы», Эммануил Генрихович Казакевич
Всего 0 комментариев