Избранное
РУДОЛЬФ ЯШИК
Существует выражение «проснуться знаменитым». Казалось бы, оно вполне применимо к Рудольфу Яшику: ведь уже первая опубликованная им книга поставила его в один ряд с признанными мастерами словацкой прозы. Однако выражение это таит в себе некоторый оттенок случайного везения. В данном же случае успех был отнюдь не случайным — Яшик настойчиво шел к нему на протяжении полутора десятков лет.
Родился Яшик 2 декабря 1919 года в небольшом городке Турзовка на северо-западе Словакии. Мальчику едва исполнилось пять лет, когда отец его вынужден был уехать на заработки в Канаду. Бабушка, на попечении которой остался маленький Рудо вместе с двумя его младшими братьями, мечтала вырастить из внука священника; однако мечты эти рухнули, когда по причине недостаточной набожности его исключили из гимназии в Нитре. Бабушка настояла все же, чтобы он пошел учиться дальше, но после ее смерти Яшику не на что было продолжать учебу. Не кончив даже и пяти классов гимназии, он едет в Злин (ныне Готвальдов), где поступает на фабрику «обувного короля» Бати и одновременно начинает посещать торговую школу. Через три года его выгоняют и с фабрики и из школы за участие в выступлениях, направленных против бесчеловечных порядков, царивших на предприятиях Бати.
Тем временем над страной сгущались сумерки «европейской ночи». Не прошло и полугода после Мюнхенского соглашения, под которым поставили свои подписи Чемберлен, Даладье, Гитлер и Муссолини, как название «Чехословакия» исчезло с географических карт. На территории республики в середине марта 1939 года были учреждены германский «протекторат Чехия и Моравия», а также «независимое» Словацкое государство. В этом марионеточном государстве руководящие посты занимали деятели клерикально-фашистской «людовой» («народной») партии. Правительство якобы самостоятельной Словакии целиком зависело от Берлина и уже в конце 1941 года объявило войну Советскому Союзу.
После захвата власти клеро-фашистами загнанные в подполье словацкие коммунисты не прекратили напряженной борьбы. В эту борьбу активно включился и двадцатилетний Рудольф Яшик. За партийную работу его арестовывают и шесть месяцев держат в тюрьме. «В заключении, — вспоминал впоследствии писатель в автобиографии, — я немного политически подковался и начал изучать русский язык». Затем его забирают в армию и вскоре отправляют с артиллерийской частью на Восточный фронт. Еще до войны Яшик пытался нелегально побывать в СССР, но не в таком качестве хотел он ступить на землю Страны Советов! Теперь он старается склонить словацких солдат сдаться в плен Красной Армии, всемерно совершенствует свое знание русского языка, учит ему друзей.
Возможности перейти на другую сторону Яшику не представилось, но во время отступления с Кавказа он вместе с товарищами вывел из строя большинство орудий, все оптическое оборудование и телефонную связь своей батареи, парализовав тем самым ее действия. Ему грозил полевой суд, но начальство, боясь неприятностей для себя, предпочло замять дело. В другой раз он был арестован за антивоенную агитацию, спасла лишь амнистия. С апреля 1944 года Яшик с оружием в руках сражался в рядах партизан, затем принял участие в Словацком Национальном восстании.
Когда пришла пора выбирать себе мирную профессию, он становится скромным редактором заводской газеты «Слободна праца» («Свободный труд») в городе Партизанске; потом переходит на партийную работу в Нитре. Бесконечная скромность — отличительная черта характера Яшика-человека, которую единодушно отмечают все близко знавшие его. Он чуть ли не с детской застенчивостью воспринимал газетные и журнальные дифирамбы в свой адрес, — а таковых в последние годы его жизни появилось немало, — избегал говорить о себе. Один из друзей писателя признался в своих воспоминаниях, что только у гроба Яшика впервые узнал, сколько и какие у него имелись награды (к этим наградам посмертно добавился еще Орден труда — один из высших в Чехословакии).
Писать Яшик начал, по собственным словам, с 1940 года — «сперва стихи, целыми килограммами». По дошедшим до нас стихотворениям можно вполне определенно судить, что в молодости Яшик находился под существенным влиянием поэтики «надреализма» — словацкого варианта сюрреализма.
Беспощадная требовательность к себе побудила писателя уничтожить рукописи подавляющего большинства не только своих поэтических, но также созданных до середины 50-х годов прозаических произведений. Все эти годы Яшик был поглощен напряженным (чтобы не сказать — каторжным) литературным трудом. Но для посмертного сборника «Мрачный мост», где тщательно собрано все уцелевшее из написанного Яшиком до 1954 года (кроме газетных и журнальных статей), удалось разыскать лишь чуть больше сорока его стихотворений да десять глав начатого сразу после войны романа «Лактибрада». Из четырехсот страниц более позднего «деревенского» романа «Белый хлеб» найдено только три отрывка, опубликованные писателем в периферийной печати. Там же обнаружено несколько лирических миниатюр в стихах и прозе. В целом сборник «Мрачный мост», несмотря на его фрагментарность, красноречиво показывает, насколько упорно овладевал Яшик писательским ремеслом.
Произведения Яшика свидетельствуют о превосходном знании им отечественной и мировой классики, о широком знакомстве с зарубежной литературой XX века. В собрании книг Яшика представлены вершинные достижения словацкой литературы, сочинения русских и советских авторов, — причем не только в переводах, но и в оригинале (некоторые советские издания писатель, видимо, привез из нашей страны, куда он приезжал осенью 1958 года).
Определяющими, однако, для творческого почерка Яшика стали не влияния тех или иных художников слова, а сила и самобытность собственного дарования. Он не уставал экспериментировать, дабы в полной мере «обрести себя», — все его книги неуловимо схожи между собой и вместе с тем очень различны. Своеобразие творческой манеры писателя кроется в высокой синтетичности, в умелом сочетании различных — порою, казалось бы, полярных — начал. Неизменно глубокий социальный анализ у него удачно совмещается с мягкой задушевностью повествования, скрупулезное следование жизненной правде — с развернутой метафоричностью, возвышенная символика — с дерзкой натуралистичностью деталей, гротеск, ирония — с подлинным трагизмом. Таковы наиболее характерные — органично сливающиеся — элементы яшиковской прозы. Иными словами можно сказать, что в его реалистическом методе глубокий психологизм синтезирован с идущей от фольклора и традиций словацкой «лиризованной прозы» романтической приподнятостью образов, эпичность — с проникновенным лиризмом, и все вместе это помножено у Яшика на твердую коммунистическую убежденность, которая проявляется в самом подходе к действительности, в концепции произведений.
Первая книга, которую решился Яшик вынести на суд общественности в 1956 году, — роман «На берегу прозрачной реки» — была далеко не пробой пера. Словацкая критика, чрезвычайно благосклонно принявшая это произведение, назвала его романом «опыта, сердца и веры». Ведущий прозаик современной Словакии Владимир Минач обратился тогда в журнале «Млада творба» к Яшику, перефразировав известную формулу римских гладиаторов:
«Не каждый день вступает в литературу талант столь яркий и столь сформировавшийся. Итак: добро пожаловать на арену. Бойцы приветствуют тебя! Не жди славы, ее не будет… Наша слава — тот внутренний огонь, что вновь и вновь поднимает нас в бой за человека. Необходимо мужество. Мужество не обманывать самого себя, мужество создать свой собственный мир и выразить его. Мужество и еще раз мужество быть самим собою!»
Рудольф Яшик в бою за человека проявил подлинное мужество и искусство быть самим собою.
Новаторство Яшика тем резче бросается в глаза, что он словно нарочито ограничил себя материалом, наиболее традиционным для отечественных писателей. Его книги посвящены жизни крестьянства, а также осмыслению уроков войны и Словацкому восстанию, ставшему переломным этапом в общественно-политической и духовной жизни народа. Темы эти — стержневые для литературы Словакии. Но, обратившись к событиям, современником которых он был, Яшик открыл в них и в исполненной своеобразия манере донес до сознания читателей многое, не замеченное другими.
Если неожиданным мог показаться приход Яшика в большую литературу, то смерть его была для всех внезапной, как на фронте. Он скончался 30 июля 1960 года после неудачной операции, успев выпустить помимо романа «На берегу прозрачной реки» еще только одну книгу — «Площадь Святой Альжбеты». Человек талантливый — всегда в пути и умирает, как правило, не успев реализовать множества своих планов. И после Яшика, в сорок лет вырванного из жизни, остались невоплощенными обширнейшие замыслы, которые были под стать его расцветшему дарованию. Днем смерти писателя помечен номер братиславского литературного еженедельника «Культурны живот», где на последней полосе помещено краткое интервью с Яшиком, в котором он рассказывал, над чем работал в последнее время и что собирался написать в ближайшем будущем. Следующий номер еженедельника принес его некролог.
В некрологах нередко приходится читать о том, что в момент, когда перестает биться сердце писателя, он не умирает, ибо продолжают жить его произведения. В случае с Яшиком эта мысль — ставшая чуть ли не банальной от частого употребления — получила буквальное подтверждение. Неповторимые интонации его голоса зазвучали со страниц трех новых книг, появившихся одна за другой через год после смерти автора, — «Черные и белые круги», «Повесть о белых камнях», «Мертвые не поют». Пять зрелых книг (из них две незаконченных) — таков итог литературной деятельности Яшика. И без этих пяти книг невозможно представить себе новую, социалистическую литературу Словакии.
Яшик, как справедливо заметил словацкий критик Александр Матушка, мог бы сказать о себе словами Антуана де Сент-Экзюпери: «Я пришел из страны моего детства». Та «прозрачная река», на берегу которой развертывается действие романа, ставшего дебютом Яшика, — река Кисуца, протекающая через его родную Турзовку. Издавна этот живописный, но мало плодородный уголок слыл едва ли не беднейшим во всей Словакии.
О кисуцкой деревне писал в свое время Петер Илемницкий, один из зачинателей социалистического реализма в словацкой литературе. Он прекрасно знал этот край, где учительствовал в середине 20-х годов, и посвятил ему два романа — «Победоносное падение» (1929) и «Поле невспаханное» (1932), ряд очерков и рассказов[1]. Романы Илемницкого и книгу Яшика объединяет стремление покачать на примере кисуцкой деревни пробуждение словацкого трудового крестьянства, рост его классового самосознания.
Характер Штефана, героя книги Яшика, выковывается в пролетарской среде: восемь лет он провел в городе, где впервые услышал о Советском Союзе, об Октябрьской революции, где партия научила его понимать, почему влачат столь жалкое существование люди в долинах Кисуцы. Из рабочей Остравы революционные идеи, веру в необходимость коренных социальных перемен приносит Штефан на хутор Грубый плац, где сталкивается с немыслимой бедностью крестьян, убожеством их жизни. Даже судебный исполнитель обходит хутор стороной, — здесь нечем поживиться.
«Нищета все подчинила себе: человека, его гордость, разум… Грубый плац живет обособленно, как остров, люди в нем ничего не видят, ничего не слышат и давно забыли о том, что они — люди… Жизнь в Грубом плаце стелется по земле как дым перед дождем».
Но самый главный враг, столетиями въедавшийся в сознание кисучан, — это страх, их покорность горькой судьбе. Они помнят, что испокон веку мир был разделен на богатых и бедных, считают такое положение незыблемым, а себя — обреченными безропотно сносить все страдания и мытарства.
Штефан и его друзья-коммунисты начинают самоотверженную борьбу за возрождение согнувшихся под бременем невзгод человеческих душ. И они преодолевают инертность крестьян, разрушают миф о безвыходности положения «забытых богом и проклятых дьяволом» кисучан. На берегу «прозрачной реки» свершилось чудо — произошла революция во внутреннем мире людей. От нее до революции социальной — один шаг.
Используя опыт Илемницкого, Яшик никоим образом не повторял своего предшественника; он стал его продолжателем и пошел дальше, — ему, в частности, важно было углубиться во внутренний мир своих героев. Сопоставление «кисуцких» романов Илемницкого к Яшика как нельзя лучше свидетельствует о неуклонном движении вперед социалистической литературы, о том, что писатели-коммунисты во второй половине 50-х годов ставили перед собой уже неизмеримо более сложные задачи, чем двадцать — тридцать лет назад.
Дань Яшика кисуцкой тематике не исчерпывается романом «На берегу прозрачной реки». Кисучанам посвящены и пять новелл книги «Черные и белые круги»; время действия в них примерно то же, что и в романе. Проводя нас по кругам ада, каким была жизнь кисуцких крестьян в период экономического кризиса начала 30-х годов, писатель кладет черные мазки несравненно чаще, чем белые. Но это ему не мешает пользоваться всей гаммой красок, включая нежнейшие полутона. Богатство его палитры особенно наглядно выступает при изображении радужного — несмотря на свинцовые мерзости окружающего бытия — мира детей («Серая ворона») и всепоглощающей первой любви Вероны и Михала («Пора медных отсветов»).
«Черные и белые круги» — не просто сборник рассказов; входящие сюда новеллы настолько внутренне взаимосвязаны, что образуют как бы своеобразный словесный пентаптих. В совокупности новеллы дают объемную панораму невыразимо тягостного существования крестьян «на берегу прозрачной реки» в пору хозяйственного застоя, когда перестали вращаться колеса водяных мельниц, когда мальчишка как о деликатесе мечтает о вареной вороне, когда нечего делать тысячам натруженных рук, привычных к любой работе, когда невозможно стало найти подряд тем, кто кормился извозом. За конкретной судьбой почти каждого из действующих лиц просматриваются глубинные закономерности. Из мозаики «маленьких трагедий» складывается впечатляющая картина общей большой трагедии.
Бесчеловечная действительность порождает в буржуазном обществе бесчеловечные отношения между людьми. В новелле «Мертвые глаза» родной брат, задумав жениться, настаивает на том, чтобы отдать в приют слепого Адама, ибо видит в нем лишь обузу и угрозу собственному благополучию. У их отца, одного из самых состоятельных по местным понятиям хозяев, совесть настолько задубела, что он склонен внять этому требованию. Только мать жалеет своего незрячего первенца, но она не в силах ничего сделать для него. Глаза у Адама мертвы, но он все понимает чутким сердцем и решает выкорчевать пни срубленных отцом деревьев, — тогда, мол, никто не обвинит его в дармоедстве. Корчевание пней Адамом при блеске молний, грохоте грома вырастает до символа, — человек может победить свою немочь и силы природы, однако ему не одолеть людской подлости и черствости, замешанных на собственнических инстинктах, «Чтобы человек мог жить, ему необходимо хоть чуточку счастья», — и потому, когда Адама хотят лишить и без того крошечной доли счастья, он добровольно расстается с жизнью.
Поиски счастья — одна из сквозных тем новелл Яшика. Но беда в том, что «люди с горбатой душой» не хотят и не могут дать счастья окружающим. К такому же концу, что и Адама, приводит ускользающее счастье Филипа Кландуха («Луна на воде»). Совсем немногого не хватает для полноты счастья Матушу с его мудрой лошадью («Трое на ярмарке») и маленькому Ондрею из «Серой вороны». Только торжествующая любовь и способна еще принести радость сердцам, не огрубевшим в этой гнетущей атмосфере («Пора медных отсветов»).
К кисуцкому циклу Яшика примыкает также «Повесть о белых камнях». Первоначально это был рассказ «Человек принадлежит земле», и предназначался он для книги «Черные и белые круги». Позже Яшик вернулся к нему и начал перерабатывать в «Повесть о белых камнях», над которой трудился даже в больнице перед роковой операцией. В «Повести» выведен старец, одиноко обитающий «на самом краю света» в каменистой лощине. Окрестные жители побаиваются и сторонятся его. Но вот к нему приходит мальчик Михал Малох, потрясенный смертью матери и человеческой черствостью, — он не может смириться с тем, что все вокруг — не исключая отца — твердят, будто мать «правильно сделала, что умерла». И хотя в свои одиннадцать лет Михал успел уже столкнуться с тяготами жизни, он не желает соглашаться с тем, что смерть — благодеяние и единственный способ избавиться от невзгод, и не хочет возвращаться в деревню, надеясь найти утешение в том, чтобы разделить уединение с отшельником. Но старик, сам бежавший некогда от людей, которые причинили ему зло, отправляет мальчика обратно, ибо за долгое время, бывшее у него для раздумий, он осознал, что уйти от людей — значит лишить смысла свою жизнь и что бороться со злом, как делал он, нельзя в одиночку: таким путем невозможно переделать мир.
«Повесть о белых камнях», наделенная чертами притчи, — это неправдоподобная правда о том самом мире, что приводит к гибели слепого Адама и Филипа Кландуха. За кажущейся «нереальностью» произведения открывается реальнейшая первооснова, «глина жизни», претворенная и одухотворенная силой искусства. «Повесть» осталась недоконченной, однако и в таком виде она восхищает не только благородной болью за униженных и оскорбленных, но также высокой поэтичностью.
По свидетельству К. Г. Паустовского, Михаил Пришвин однажды назвал себя «поэтом, распятым на кресте прозы», — так же можно охарактеризовать и создателя «Повести о белых камнях». Яшик начал со стихов и остался поэтом, обратившись к прозаическим жанрам. В романах и новеллах писателя нетрудно найти приемы, почерпнутые из арсенала поэзии. Но главное не в этом, а в том поэтическом мировосприятии окружающего, что столь существенно обогащало его прозу. Настоящая поэма в прозе о любви, поруганной войной, — «Площадь Святой Альжбеты», Эта печальная повесть об Игоре и Эве — Ромео и Джульетте с площади Святой Альжбеты — оборачивается гневным обличением «тьмы», темных сил фашизма, враждебных всему светлому, человеческому, человечнейшему из всех чувств — любви.
Антивоенная, антифашистская направленность стала лейтмотивом и наиболее масштабного произведения Яшика — «Мертвые не поют». Название это метафорично, и ключ к его пониманию, помимо тех мест, где оно обыгрывается в самом романе, может дать афоризм Ромена Роллана:
«Есть мертвецы, в которых больше жизни, чем в живых; но есть и живые, что мертвее всяких мертвецов».
В романе присутствуют две параллельные сюжетные линии — рассказ о буднях маленького городка Правно и прилегающих деревень Планица, Липины, Остра и одновременно рассказ о положении дел на участке Восточного фронта, где находится словацкая батарея. (Вначале Яшик написал подряд все «фронтовые» — основанные на личных переживаниях — главы, а затем приступил к «правненским».) На примере провинциального городка, населенного словаками и давно осевшими здесь немцами, а также его окрестностей Яшик воспроизводит удушливую атмосферу в «Словацком государстве» начиная с весны 1942 года. Перед нами предстает правненский «отец города», заправила «Дейче партай» Киршнер, верой и правдой служащий «фюреру и отечеству», фашистские прихвостни Махонь, Зембал, Пастуха, которые олицетворяют собой людишек, процветавших в то смутное время. Они отнюдь не убежденные поборники идей клеро-фашизма. Но вместе с тем нельзя и сказать, что для них нет ничего святого: у них своя религия — страсть к наживе, и они усердно поклоняются золотому тельцу. Наделенные обостренным чутьем корабельных крыс, они отдают себе отчет в шаткости существующего режима. Потому-то, готовя для себя оправдание на будущее, богатей Пастуха берет в работники «красного» Фарника, а святоша и ханжа Махонь, завладев магазином престарелого еврея Гекша, содержит бывшего хозяина в погребе, похожем на могилу.
Один из начальных эпизодов романа Яшика — встреча планицкого дорожного обходчика Лукана с липинским учителем Кляко. Оба они участвовали в первой мировой войне и вспоминают о ней, сравнивая события тех лет с теперешними. «Тогда было все равно, кто по какую сторону фронта находится… А нынешняя война другая, теперь не все равно, где стоит солдат», — говорит седой учитель. И Кляко и Лукан понимают, что идет сражение между Новым и Старым, а для словаков эта страшная война против русских, славян — война еще и братоубийственная. И старики переживают вдвойне, так как на Восточный фронт посланы воевать за неправое дело их сыновья — поручик Ян Кляко и рядовой Ян Лукан.
Яшик уделяет особое внимание духовной эволюции Яна Кляко. Для поручика, как и для большинства солдат его батареи, давно стало ясно, что развязанная Гитлером война за чуждые им интересы — «подлое дело» и, замешанные в нем, они «мертвее всяких мертвецов». Вначале свое внутреннее неприятие фашизма Ян Кляко пытается заглушить алкоголем. Но прескверный гость — «черный человек» нравственных мучений продолжает исправно посещать его, и тогда приходит мысль покончить жизнь самоубийством.
Избегая каких бы то ни было упрощений и прямолинейности, путем убедительного психологического обоснования, автор далее показывает, как в сознании Кляко вызревала решимость перейти к русским и крепла уверенность, что таково же стремление его подчиненных. «Фашизм — это преступление… Ты подчиняешься стечению обстоятельств. Вот и все. А ты должен сам подчинить их своей воле. Здесь каждый отвечает сам за себя, а ты, как офицер, отвечаешь и за остальных и потому обязан бороться с немцами, с преступлением», — так размышлял Ян Кляко. И вот — первый акт сознательного протеста: на высоте 314 Кляко застрелил гитлеровского обер-лейтенанта Виттнера, убежденного нациста, воплощение тех зол, что нес с собою фашизм. А в феврале сорок третьего года, при отступлении с Кавказа, сводной словацкой батарее под командованием Кляко удается наконец, перебив «железную роту» Курта Грамма, перейти на сторону Красной Армии.
Словацких солдат, которые своей угрюмостью, неразговорчивостью выражали протест против захватнической войны, Яшик назвал «молчунами». Им далеко не просто было найти единственно правильный выход из того драматического положения, в котором они очутились; на первых порах у них возникали совсем несерьезные, «детские» планы — вроде того, чтобы побросать оружие и разойтись по домам. Не сразу и не вдруг пришло к ним гражданское возмужание, но оно пришло. «Молчуны» воскресли из мертвых.
Таков финал этой правдивой и мужественной книги. Но роман «Мертвые не поют» был задуман лишь как первая часть монументальной трилогии, где Яшик предполагал запечатлеть «тернистый путь», пройденный его поколением.
Судьбы героев романа остались недосказанными. Эту недосказанность только отчасти компенсирует найденная в архиве писателя приблизительно половина второго тома трилогии, которую Яшик продолжал отшлифовывать вплоть до последних дней жизни. Пожалуй, наиболее красноречивые из этих восьми глав посвящены аресту районного руководителя коммунистов Михала Дрини. Его поочередно истязают то тупой жандарм Ферич, то следователи, специально прибывшие ради такой добычи из Братиславы. Дриня, порой теряющий сознание от пыток, помнит, что заключение — не что иное как продолжение борьбы, и он выигрывает неравное сражение, вновь обретает свободу. По духу страницы эти перекликаются с фучиковским «Репортажем с петлей на шее».
Параллель с бессмертным творением Ю. Фучика напрашивается еще и потому, что Дриня у Яшика сталкивается в заключении со старым тюремщиком (напоминающим Колинского), который приводит, рискуя жизнью, к избитому до полусмерти коммунисту врача. Образы этого тюремщика и немецкого солдата Отто Реннера, попавшего в штрафной батальон за отказ расстрелять где-то под Львовом русского пленного, введены автором с целью показать, что и в стане врагов встречаются настоящие люди, а не только изверги, потерявшие человеческий облик. При изображении отрицательных персонажей Яшик, как и в остальном, избегает схематизма, примелькавшихся штампов. «Немец» для него не синоним слову «фашист». Показателен в этом отношении эпизод романа, когда в Планице собираются шесть словацких коммунистов и к ним приходит с сообщением о разгроме гитлеровцев под Сталинградом член компартии Крамер, немец по национальности. Этим штрихом подчеркивается интернационализм коммунистического движения и Сопротивления.
С другой стороны, Яшик не щадит иронии, описывая похождения такого «революционера», как склонного к авантюризму «Шефа» правненских сорвиголов Ремеша, в образе которого осуждаются анархиствующие элементы, занимающие позицию «левее сердца». В то время как Ремеш подбивает юнцов на смелые, но безрассудные проделки, не приносящие по сути ущерба фашистам, Дриня и другие коммунисты ведут планомерную работу среди населения, организуют партизанский отряд, готовят восстание. На помощь партизанам Дрини с советского самолета сбрасывают группу парашютистов, — в бородатом заместителе их командира мы узнаем Яна Кляко. Неразлучен с ним и Ян Лукан. Наступает время решительных действий. Кляко ведет людей на штурм Правно. Разгорается бой с фашистами…
На этом месте обрывается продолжение романа «Мертвые не поют». Яшику не суждено было поставить последнюю точку своей трилогии. Но история знает немало примеров, когда незаконченное произведение обладает такими достоинствами, что по своей ценности намного превосходит десятки опусов, добросовестно довершенных авторами. Таковы «Похождения бравого солдата Швейка» Ярослава Гашека, такова «Тайна Эдвина Друда» Чарлза Диккенса. Слова английского исследователя Дж.-К. Уолтерса о недописанном романе Диккенса хочется отнести к трилогии Яшика, равно как и к его «Повести о белых камнях»:
«…это только торс статуи, и, созерцая этот незаконченный шедевр, мы понимаем, как искусна была рука, которая его изваяла, как силен был интеллект, который его замыслил, и как прекрасны были бы пропорции этого творения, если бы автор успел его завершить».
Яшик долго вынашивал замысел своей трилогии, но писал ее поразительно быстро. Десять глав первого тома были созданы им в период с апреля по начало ноября 1959 года (к тому же почти на месяц писатель вынужден был оторваться от романа для работы над литературным сценарием «Ты не должен уйти», фильм по которому так и не был поставлен). Подобные темпы говорят не только о большой самодисциплине Яшика, но и о его высоком мастерстве.
Каждый крупный писатель обязательно в чем-то — первопроходец. Яшик впервые в словацкой литературе с такой силой вскрыл сложнейший пласт моральной проблематики, который был связан с выполнением «поповской республикой» своего «союзнического» долга по отношению к фашистской Германии. Появление романа «Мертвые не поют» — одновременно с заключительной частью трилогии В. Минача «Поколение» — ознаменовало собой в Словакии качественно новый подход к теме второй мировой войны и Национального восстания. Если произведениям авторов «первой волны», черпавших сюжеты из этих ключевых событий новейшей истории, присущи были известная схематичность, склонность к иллюстративности и фактографии, то Яшика уже ни в коей мере не могла удовлетворить простая беллетризация истории. Он хотел оглянуться на недавнее прошлое, дабы лучше разобраться в настоящем, выделить те важнейшие тенденции, что определяют движение в грядущее.
Конкретный исторический материал, который в изобилии дает искусству минувшая война, предоставил возможность Яшику (точно так же, как жизнь крестьянства в лихую годину, воссозданная в «Черных и белых кругах») для выявления общих, «высших» закономерностей человеческого бытия. Главным для него было понять нравственно-философский смысл эпохи, духовный облик человека наших дней, — отсюда столь обостренное внимание к человеческой личности и многоплановость его книг.
«Крайние обстоятельства» войны или тех ситуаций, в которых оказываются герои «кисуцких» новелл, послужили Яшику своего рода моделями для решения жгучих этических проблем современности. Словно сложнейшая шахматная партия, развертывается на страницах его книг борьба между темными и светлыми силами. Причем схватка эта может происходить не только между людьми и «нелюдьми» (к числу последних принадлежат брат слепого Адама, обладатель железного голоса, отбирающий у Кландуха землю, а также Виттнер, Киршнер, Ферич и т. д.), но и в душе одного человека.
Поставленные Яшиком перед собой задачи во многом обусловили и приемы художественного анализа действительности, применяемые писателем. Для него типичен «показ моря в капле воды», но внешняя камерность яшиковских книг нисколько не вредит богатству их внутреннего содержания. Он постоянно стремится не к «глобальности» охвата исторических событий в ущерб эстетической природе искусства, а к возможно более полному раскрытию сильно индивидуализированных характеров (не исключая даже эпизодические образы, как, скажем, фельдфебель Ринг) и через них — к постижению сложной правды века. Фабульное развитие его произведений дается, как правило, отраженным планом — через восприятие и осмысление всего происходящего героями. Этим объясняется и пристрастие автора к внутреннему монологу, ставшему у него излюбленным изобразительным средством и превращающемуся зачастую в немой диалог действующих лиц с собственной совестью. Авторский комментарий у Яшика почти начисто отсутствует (он доверяет читателю, обычно лишь подводя его к необходимым выводам, но предоставляя право самому делать заключения), однако четкая авторская позиция писателя-коммуниста ощущается поистине за каждой строкой.
Прошло уже более десятилетия с тех пор, как произведения Рудольфа Яшика, включенные в настоящий том, начали проходить самую суровую проверку — временем. И они с честью выдерживают это испытание, получая все более широкое международное признание, потому что созданы подлинным художником, утверждавшим в своем творчестве идеалы самого справедливого на земле общества.
Святослав БЭЛЗА
МЕРТВЫЕ НЕ ПОЮТ Роман
Перевод В. Чешихиной
МОШЕННИКИ
Зима 1942 года была на редкость сурова. Морозы простояли до самого конца марта, но в первые дни апреля вдруг так потеплело, что на склонах холмов, а вскоре и на планицких полях появились большие прогалины; в речке за деревней с бешеной скоростью понеслась мутная вода.
Апрель проскочил незаметно, земля быстро просыхала и просохла уже настолько, что крестьяне — кто на лошадях, кто на коровах — начали пахоту. Зеленевшие склоны гор и луга резко отличались от прошлогодних пашен. Но еще ярче зеленел ивняк по берегам речки, которая с ревом несла ледяные потоки с гор.
Лукан, планицкий дорожный обходчик, рубил на дрова засохшие яблони и черешни. Весь двор был уже завален сушняком.
— Повернуться негде! Хватит тебе таскать! — сердито прикрикнула на Лукана жена, женщина чуть помоложе его, лет сорока пяти.
— Цып-цып-цып! — весело скликала она кур и полными пригоршнями сыпала им ячмень из кузовка.
Она довольна. «Хорошо горят яблони, да и черешни тоже. Вся деревня ворует дрова в общинном и казенном лесах, а Луканы — нет, и этот год воровать не будут. Когда старик уйдет на шоссе, я и сама нарублю, сколько сил хватит. Он и сегодня натаскает еще немало».
Она радовалась и еще веселее скликала кур:
— Цып-цып-цып… А ты никак квохчешь? Эй, старик! Пеструшка у нас квохчет!
— А мне-то что…
С кузовком под мышкой она бежит в дом, на ходу крикнув мужу: «Пеструшка уже третья квохчет!» — и скорее в кухню. А там садится за стол, чтобы все хорошенько обдумать с самого начала.
Луканка целиком погружается в свои мысли — иначе она не умеет.
Лукан был не в себе с самого утра. Сын, уходя на работу, не попрощался с ним.
— Корова — и та мычит…
— Ну так прощайте!
— С богом!
— Ну, что? Легче вам от этого?
И сын ушел.
Последнее слово осталось за ним.
«Разбойник!» — хотел было крикнуть Лукан вдогонку, но того и след простыл: на работу сын ездит на велосипеде.
Лукану было не по себе еще со вчерашнего дня, с тех пор как у него побывал почтальон. Принес ему письмо от старшего сына, который воюет на Восточном фронте. Последние шесть строк цензура вымарала черной краской. Должно быть, тушью. Что он там написал? Письмо Лукан спрятал. Даже жене еще не показал. Сейчас вот рубит сухостой. А разве яблони и черешни для того созданы, чтобы топить ими печи и готовить на них обед? Проклятая зима! Аллея его померзла. Да еще эта речка! Позади у Лукана — сад, а за ним — речка. Шум воды слышен даже во дворе. Да, не так-то скоро она угомонится. Земли и грязи всякой пока еще мало несет. А вот когда совсем замутится, вздуется и примется подмывать дорогу… Еще, чего доброго, через шоссе хлынет, как пять лет назад, размоет его и снесет. Дорожный мастер все на него, на Лукана, свалит. «А я господь бог, что ли?» И Лукан так хватил топором по дубовой колоде, что загнал его на три пальца вглубь — теперь и не вытащишь.
— Бог помочь! Как спалось? — раздался визгливый голос с соседнего двора.
«Только тебя не хватало!» Лукан не оглядывается, но и оглянись он, ничего не увидел бы. Не увидел бы он и жену Фарника, которая изо всех сил тянется повыше, чтобы рассмотреть через забор, сквозь груду яблоневых и черешневых веток, загромоздивших двор Лукана, что там у него делается. Но видит она только мелькающий в воздухе топор да еще слышит его удары.
— Хорошо ли вы выспались, Лукан, спрашиваю?
— Хорошо, — будто отрубил он.
— Я тоже хорошо. И олуха своего в поле выпроводила. Земля просохла, пускай, думаю, идет. Правда?.. Говорю, просохла, так пускай идет.
— Просохла, просохла.
— Вот и собрала я его. Выхожу из дому и глазам своим не верю: у вас на дворе дров целый воз, а может, и побольше. Подумала я еще: хорошо нашему соседу живется. Зима сама вам дров припасла. Помнится, вчера, то ли третьего дня, не знаю уж, только сказала я своему: сходи, мол, на речку, посмотри, может, там вода полено какое принесла. Думаете, пошел? И не подумал. А не мог, что ли, пойти?
Лукан, стискивая зубы, рубит, яростно вонзая топор в дерево.
— Спрашивается, не мог он, что ли, сходить поискать?
— Мог.
— Вот и я говорю. А у него, вы ведь его знаете, ни о чем голова не болит, ему лишь бы глотку залить. Да, чуть было из головы не вылетело: я почтаря вчера встретила, он вам письмо от сына нес. Что сынок-то пишет? Не пишет ли, когда война кончится? Горемыка, куда его загнали! — На мгновение Фарничка умолкает, чтобы перевести дух, и снова верещит так, что ее слышно на всю улицу. От голоса Фарнички нет спасения, его нельзя не слышать, он, словно мороз, пробирает до костей, голова раскалывается. — Я давно говорю, что нашим господам с немчурой водиться не след было. Господь бог им не простит, что они наших парней туда загнали. Что сын-то пишет? Не голодает? Я бы…
На дворе стихло, голос Фарнички оборвался. Она еще с разгона произносит:
— Хе… — и умолкает. А отступив от забора, говорит уже сама себе: «У Лукана-то дров вдоволь будет, и мне своего олуха выгнать надо бы на речку…»
Разговаривая сама с собой, она не пищит так пронзительно.
Лукан, оставив топор на колоде, тихонько прошел в сени. К счастью, жена не притворила дверь. В комнате он еще раз перечитал письмо, поглядел на жирные полосы туши и положил его на стол — пусть и мать прочтет. Затем надел форменную фуражку, перекинул через плечо шинель и вышел, громко крикнув жене в кухню через толстые дубовые двери:
— Я ушел!
Прихватив с подстенка инструменты, он взял топор и все это вместе с шинелью бросил в тележку — она всегда ночью стояла в канаве перед домом. Подняв левой рукой дышло, надел лямку и потащил тележку.
Лукан прошел через деревню, не встретив живой души. Планица невелика, домов сорок, от силы пятьдесят два. Все они растянулись вдоль шоссе. На правой стороне больше, на левой, которую размывает бурная извилистая речонка, — одиннадцать, среди них — дома Лукана и Фарнички. За Планицей шоссе круто поворачивает влево, на восток, и далее устремляется прямо к районному городу Правно. А рядом с шоссе бежит речка.
Лукан постоял на повороте. Помутневшая вода кипела, била ключом, словно какая-то страшная сила извергала ее из земной утробы; речка шумела и пенилась, и Лукан знал, что течение бьет в заполненные камнями проволочные фашины, старается подмыть их и разрушить. Вода со вчерашнего дня не спала, но и не поднялась, словно чего-то выжидая. Для апреля солнца было многовато. Это хорошо для крестьянина: земля скорее сохнет и прогревается, но снег на горных склонах, в лесу и на выгонах тает быстрей. И если солнце и дальше будет так припекать, снег начнет бурно таять. В речке появится грязь — на середине либо у берегов, потом вся вода замутится, хлынет через ивняк, зальет его, прижмет кусты к земле, и здесь, в этом колене, где на трехметровой глубине лежат фашины, решится его, Лукана, судьба. Он будет стоять на безопасном местечке, ожидая, пока вода доберется до него. Тогда он поднимется выше и опять будет смотреть на речку, сложа руки. Даст знать обо всем дорожному мастеру, пошлет к нему сына. Но дорожный мастер и не подумает прийти. Зачем ему брать на себя ответственность? А глазеть хватит и одного человека. Мастер явится, когда вода спадет.
«Лукан, из-за вас у меня опять одни хлопоты», — скажет он, расхаживая по размытому шоссе, а там, где дорогу совсем смыло, всплеснет руками и воскликнет: «Лукан, Лукан, что с вами? Где у вас глаза были?»
«Я сына к вам посылал, звал вас», — робко возразит Лукан, лишь бы сказать что-нибудь.
«Когда дело плохо, всякий ко мне дорогу найдет, все знают, где я живу. Вы должны были бы заранее…»
«Как это заранее?» — надо бы спросить Лукану, но он не посмеет. Лучше уж поддакнуть: «Должен был, пан дорожный мастер…»
«Вот видите. Сколько лет я вам твержу одно и то же, а вы не даете себе труда сообщить мне. Не знаю, Лукан, не знаю…»
Мастер притронется пальцем к фуражке и уйдет.
Да-а, для апреля солнца многовато. Ничего веселого тут для обходчика, и он шагает дальше. Надо срубить еще три сухие черешни, очистить стволы от веток, уложить на тележку, на ту самую, что он тянет за собой, потом обрубленные ветки связать. После обеда надо побывать на втором километре, щебенки подсыпать в выбоины и ухабы, все закидать глиной и побрызгать водой.
Лукан со своей тележкой направился в сторону города к трем сухим черешням.
Но шел он недолго. Кто это там впереди? Идет посреди дороги, голову повертывает то вправо, то влево и каждый раз указывает на что-то пальцем. Будто деревья считает. Маленький человек, а шляпа на нем, как у Зембала, планицкого бакалейщика. Черная, с широкими, прямыми полями, еврейская шляпа. Правненские евреи надевали такие, отправляясь в синагогу. Теперь они туда не ходят. В синагоге выбиты окна, выломаны двери, и уже пошли слухи, будто ее купил кто-то и собирается что-то там устроить. Да это Зембал и есть! Что он делает?
— Добрый день, пан Зембал, — поздоровался Лукан, как приветствуют дорожные обходчики господ в автомобилях и хороших знакомых: выпрямившись и подняв голову.
Удивленный человек в черной шляпе остановился. Потом взмахнул рукой, словно ловил муху. Жест был стремительный и непонятный, как и черта, которую человечек провел каблуком от середины дороги до самого кювета. Эта была какая-то граница и имела для Зембала, а возможно, и для Лукана, какой-то смысл. Черта ясно виднелась в пыли и заставила Лукана призадуматься больше, чем сам Зембал.
— Добрый день и вам, пан Лукан.
Человек подошел к тележке, заглянул в нее, и мысли Лукана волей-неволей устремились к Зембалу, его странному поведению. У обходчика сразу появилось то же чувство, какое он испытывал, читая письмо сына и глядя на шесть строк, жирно замазанных тушью.
— Греет солнышко, пригревает. Я из города, на мировую пошел с мошенниками.
Зембал держал в руке еврейскую шляпу. Лысина его, похожая на большой желток, вынутый из яйца и слегка припорошенный пеплом из мягкого дерева, блестела на солнце. Такую старую облезлую голову неприлично было выставлять на апрельское солнце, и Зембал это почувствовал. Он осторожно прикрыл темя шляпой; на лоб, глаза и половину носа легла тень, а владелец шляпы словно стал выше ростом и обрел более благопристойный вид.
— Всякий нынче норовит облапошить добрых людей, пан Лукан. Я не о порядочных людях, упаси боже! Но там, — он показал на горы и в сторону города, — там, чем богаче человек, тем больше в нем жадности и тем больше он старается заграбастать.
— Спокон веков так было.
— Что?
— Всегда так было, говорю.
— Да! А что с этим поделаешь? Ничего. Будьте здоровы, пан Лукан!
— Доброго здоровья! Прощайте!
И Зембал пошел дальше, снова серединой дороги. Шляпа поворачивается вправо, влево, и всякий раз он показывает на что-то пальцем.
Лукан постоял, посмотрел ему вслед. Потом дернул тележку, придерживая дышло, и зашагал к городу. Вдали, у самого горизонта, виднелись красные крыши и белые стены домов, к небу поднимались две колокольни. С южной стороны к городу примыкала высокая крутая гора, за ней привольно раскинулись черные округлые горные хребты. Они охватывали долину, где находились участки Лукана и деревня Планица и, становясь все круче и круче, тянулись на север. Там брала свое начало и речка, доставлявшая обходчику столько неприятностей…
Зембал ходил в Правно. Он выбрался туда, чтобы спозаранку застать в лавке этого жулика Махоня и получить у него товару в кредит на пять тысяч крон. Махонь отказал: «Не могу, пан Зембал. Рад бы помочь, но не могу. Выплачиваю долг еврею».
Планицкий лавочник с надеждой направился к мошеннику Шваре, директору банка. А тот, вместо того, чтобы дать денег, спросил: «Я просто не понимаю, как это вам взбрело на ум?»
Больше пойти было некуда. С непокрытой головой Зембал постоял на большой квадратной площади, трижды повторил: «Чем человек богаче, тем больше в нем жадности и тем больше он грабит».
И отправился в обратный путь. Он шел себе и шел. И вдруг — фруктовые деревья! Они всегда тут росли, и Зембал не раз проходил мимо, но так, словно деревьев и не было. А их, должно быть, много растет от Правно до Планицы по обе стороны дороги. Сколько же? «Две аллеи», — как говорит Лукан. Какой доход приносит такое дерево, скажем, вот эта черешня? Сколько уродится на одной? Центнер? Два центнера? Почем кило? Почем кило, если фруктов здесь как навоза? Зембал не знает, ничего-то он не знает. Фруктами он никогда не занимался, потому, видно, что такие деревья можно встретить на каждом шагу. Они растут у всех — за домом, перед домом, на меже. А ведь это «аллеи» Лукана. Спросить бы у него, какой доход они приносят. Но он, Зембал, не спросит. Сам видит, какое это богатство! Куда больше пяти тысяч крон, которые нужны на покупку товара. А это ворье — Махонь со Шварой, не желают их одолжить. Не дают! Стакнулись против него и не дают! Хотят его со свету сжить. Будь у него дом в порядке, наплевал бы он и на Махоня и на Швару, на весь их род наплевал бы, на все Правно, где жулик на кулике, наплевал бы на весь мир и ни у кого ничего не просил бы. Но не может он этого сделать, потому что задняя половина его дома держится на подпорках и из комнаты скоро придется выбираться. И тогда Зембал будет жить в кухне вместе с рябой женой и беспутным сыном. Парень вот уже два месяца на шее у него сидит. И надо же было всему этому свалиться на него, Зембала, единственного человека в Планице, у которого нет сада с фруктовыми деревьями. А у остальных-то планицких жителей деревьев столько, что они их и не сосчитают толком.
Деревья нужно прививать, обрезать, опрыскивать, окапывать, а что еще? Благодарю покорно, и этого хватит. А планицким крестьянам все мало: они еще в лесу дички выискивают. Дичок надо выкопать, принести, посадить… Нужна прорва времени, чтобы ухаживать за фруктовыми деревьями, как ухаживают за ними люди в деревне. А разве он может? Есть у него на это досуг? В пятом часу утра, темно еще, а в лавку уже кто-то ломится. Толком не проснувшись, открывает он дверь и слышит: «Пан Зембал, дайте кило соли». Кило соли! Двенадцать геллеров прибыли! Такой ли доход у этого плута Махоня? Он оптовик, продает соль мешками! А Зембал — на килограммы. Если зима на дворе — и лампу надо засветить. Спичка тоже денег стоит, опять же керосин расходуется, весы плохо видать, можно и лишнего отвесить, а доходу на все про все — двенадцать геллеров! Если прибавить еще свой труд… да что там труд! Ботинки рвутся, ведь он ходит — не летает, штаны и рубашка тоже… Иисусе Назаретский, кто все это подсчитает? На что же он живет? Никому другому, кроме мошенников да жулья, не живется лучше, чем Лукану. Выбьют машины на дороге ямку, он ее засыплет землей, заровняет — и готово дело! И еще две «аллеи», и с каждого дерева — прибыль…
Зембал отошел от города довольно далеко, больше чем за километр, но вернулся. Надо пересчитать деревья. Уже дойдя до пятьсот двадцать шестого, он услыхал:
— Добрый день, пан Зембал.
Лукан! Легок на помине…
— Пятьсот двадцать шесть, — повторил Зембал и провел черту в дорожной пыли.
— Добрый день и вам, пан Лукан.
«Ишь каким несчастненьким прикидывается, смотри-ка. Без малого тысяча фруктовых деревьев у него, а он несчастненького из себя строит. Мошенник! Как есть ворюга. А ведь весь секрет в его службе. И работа его — одно надувательство. В тележке-то все разглядел. Грабельки, лопатка, топорик. Легко живется некоторым, грех так легко жить. Поскрести дорожку, забросать ямку гравием-камушками. Видел я, как это делается! Что же мы с вами, пан Лукан, станем с ребятишками в лунки или в чижика играть? Я все хорошо вижу. Тысяча деревьев!»
— Будьте здоровы, пан Лукан.
— Прощайте, и вам доброго здоровья.
«Всякий проныра личину надевает и учтив только потому, что грабит. Старого Зембала никто не проведет. Вон Махонь и Швара тоже учтиво здоровались и руку мне подавали. Тьфу! Сволочи, один другого хлеще! Вконец люди исподличались, ясней ясного. Тьфу! Пятьсот двадцать семь, пятьсот двадцать восемь… какая их сила! Пятьсот двадцать девять. Да, больше тысячи будет, я уж вижу».
Низкий домишко на густо заселенной стороне дороги, третий от края, принадлежит Зембалу. Стеклянные двери и большое окно с решеткой, побеленная стена, зеленые ставни, наружная дверь — из толстых дубовых досок, выкрашенных в красный цвет, — все выдает человека, который любит яркие краски, не обладает вкусом и боится окружающих. Вывеска расписана в шесть цветов. И даже фиолетовым. Она блестит, как новенькая, и тот, кому неизвестно, что Зембал подновляет ее каждый год — уходит на это целое воскресенье, — может подумать, будто лавочник только недавно перебрался в Планицу. И тут же непременно спросит себя: «Почему именно в Планицу, в эту нищую деревушку?» Но никто не даст толкового ответа на этот вопрос. Даже сам Зембал. От него скорее всего услышишь: «Всему виной мошенники», — чего прохожий, конечно, не поймет.
Зембал вошел в лавку. Над головой чисто и звонко прозвенел колокольчик. И лавка — не какая-нибудь жалкая лавчонка, а настоящее вместилище ароматов. Острые, приторные, одуряющие, и среди них, заглушая все остальные, — запах мышей и плесени. Запахи исходят отовсюду. От джутовых и бумажных мешков, от ящиков и бутылей, от бочки с керосином и от насоса с кривой ручкой, распакованных и закрытых картонок, от стекла в окне и в двери, от стен, от пола, а когда в лавку вошел Зембал, то запахло и от него, и от черной еврейской шляпы, которую он купил на аукционе, когда распродавали имущество какого-то Тауба. Зембал обращался со шляпой весьма деликатно, отдавая ей предпочтение перед прочими предметами своего туалета. Шляпа была новая, а все остальное на планицком лавочнике — старое и рваное.
В кухне он застал жену и сына. Они сидели за столом друг против друга, полные немого ожесточения, как люди, которым появление третьего лица не позволило продолжить ссору. Они то злобно переглядывались, то так же злобно смотрели на хозяина.
А тот снял легкое весеннее пальто и — давно, братец, ты свое отслужило — швырнул его на диван. Снял шляпу. Подвигая стул, подержал ее перед собой, а когда сел, положил ее на колени. Взгляд на сына, взгляд на жену. Жена рябая, сын преступник. На кого смотреть? Прежде всего почешем голову. И еще разок почешем. Я в этом доме хозяин! Может, нет?
Черную шляпу вознесло над столом.
Зембал встал, стиснув правую руку в кулак, прижал его ко лбу сына изо всей силы. Молодому Зембалу, должно быть, было больно, но он боялся отца и потому не оттолкнул кулак. Отец сам опустил руку. И черная шляпа не осталась над столом, а вызывающе поднялась и, описав полукруг, снова опустилась на его колени. Красивая черная шляпа.
— И за тебя, дурака, думать приходится! — «Это правда, но говорю я это, в общем, для того, чтобы вы слушали меня со вниманием. Пускай рябая и прохвост слушают».
— Я вот что думаю: ты будешь дорожным обходчиком!
«Побарабаним пальцами по столу. В левой руке у нас великолепная шляпа, а правой можно и побарабанить, ведь мы нервничаем. Что ответит сын? Прохвост! Все зависит от этой минуты!»
— Обходчиком?
Сын взглянул на мать, забыв, что в этом доме никто его не поддержит.
— Обходчиком? Ну что ж! — резким голосом отозвалась Зембалка и руками развела.
Она не была рябая — оспой она никогда не болела. Лишь на носу да на лбу виднелось немного веснушек. Огненно-рыжие волосы ее пылали, освещали лицо так, что на нем была видна каждая морщинка, каждая складочка. Зембалке шел пятидесятый год, а выглядела она самой настоящей старухой. Зембал был старше жены на четыре года.
И сын, единственный сын и единственный ребенок Зембалов, покорился, опустил голову, потому что ему шел уже двадцать седьмой год, и два года он просидел в тюрьме за изнасилование. Покорился, потому что лучше быть дорожным обходчиком, чем жить дома впроголодь, где попрекают каждым куском, где по утрам приходится выпрашивать у отца десяток самых дрянных сигарет. Уж лучше стать обходчиком, чем валить лес или отправиться на работу в Германию. Самое лучшее было бы торговать, унаследовать отцовскую лавку, но отец пока умирать не думает. Он сильный, ловкий, словно молодой, непостижим в своих выдумках и затеях, коварен, и сын боится его взгляда, горящего ненавистью. Вскоре после того, как младшего Зембала выпустили из тюрьмы и он вернулся в родной дом, ему приснилось, что отец хочет его зарезать большим ножом, которым в лавке режут мармелад и хлеб. Сон запомнился, глубоко засел в памяти. Но сын больше боялся самого себя. Матери он тоже не любил, но не смог бы причинить ей никакого зла, никогда не поднял бы на нее руку. Но отец! В голове мелькала какая-то неясная картина, она преследовала его и внезапно снова возникла перед ним, когда отец ткнул его костлявым кулаком, ухмыляясь ему в глаза… Лужа крови, в этой луже — рука, и в ней черная еврейская шляпа. И все. Однако молодой Зембал понимал, что это не конец, а лишь начало долгих мук. После этого он снова попадет в тюрьму. И снова карболовая вонь из унитаза в углу, голод, тычки надзирателей и их рявканье в длинных галереях с проволочными сетками, и снова карцер, хлеб да вода — за громко сказанное слово, за косой взгляд, за лежание на соломенном тюфяке, за курение в воняющем карболкой углу, за попытку выглянуть в окно, Даже за шумное дыхание…
Старому Зембалу доставляло удовольствие смотреть на опущенную голову сына. Тогда он забывал, что сын — неудачник, что он сидит на его шее, а ведь это уже взрослый человек, у него должны быть жена и дети, свой дом с вывеской над входом, размалеванной в шесть цветов. И тогда старик Зембал даже понимал сына, вот и сейчас взгляд его на минуту смягчился. Он порывисто встал, подошел к дивану и положил на валик черную шляпу. Потом удалился в лавку и, повозившись там, вернулся с бутылкой. Швырнув сыну, словно собаке, десяток дешевых сигарет, Зембал сказал:
— Держи! И уважай отца! — Потом достал две рюмки из буфета, налил, поставил на стол и, показав на одну, произнес: — Можешь.
И ничего другого сказать нельзя: пусть сын ни на миг не смеет забыть, что живет здесь из милости, и эту милость, как и все остальное в этом доме, он получает от старого Зембала.
Они выпили, каждый сам по себе, словно собаки, грызущие каждая свою кость в разных углах. Зембалка никогда не была посредницей между отцом и сыном. К тому же она от души ненавидела водку и, за исключением незначительных мелочей, всегда и во всем мудро соглашалась со своим мужем. Даже если дело касалось сына.
— Ну и воняет! — сказала она, закупоривая бутылку.
Старый Зембал не пил. А младший Зембал и запил бы, да не на что было. Входить в лавку он не смел: там хранилась выручка, крепкие напитки и табак, и в первую же ночь, когда он вернулся из тюрьмы, отец перенес свою постель в кухню на диван, даже во сне охраняя от сына свое добро. С тех пор старик спал только в кухне.
Вдруг старый Зембал отрывисто засмеялся, словно пролаял. Ему пришло в голову нечто забавное. Жена и сын с любопытством взглянули на него, но Зембал не любил делиться своими мыслями. Пришлось удовлетвориться видом его ухмыляющегося желтого лица.
Старик вспомнил Махоня и Швару, как эти ловкачи дали ему от ворот поворот и какую он от этого получил выгоду: он увидал «аллеи» Лукана, семьсот восемьдесят девять деревьев — целое состояние, которое поставит его на ноги. Можно будет сломать заднюю половину дома, новую сложить из обожженного кирпича и вернуть сыну солидное положение в обществе. Государственная служба — дело подходящее! Тогда уж не назовешь его преступником и он, Зембал, еще порадуется на негодяя. И как это его угораздило полезть на пятнадцатилетнюю? Таким позором покрыть родительскую голову! Стоит Зембалу вспомнить об этом — и он готов зарезать сына, как теленка, тем самым ножом, которым он режет мармелад и хлеб.
Но, кажется, этот распутник раскаялся в своем грехе, и пора бы подумать о прощении. Да и какой он мошенник? Людей не грабит, как Махонь или Швара, а просто гнусный негодяй. Вот станет дорожным обходчиком, будет отца слушаться, и тогда он, старый Зембал, простит его. Но до той поры нельзя спускать ему ни вот столечко! Пусть, пусть знает! А может, налить ему вторую рюмку, этому паршивцу? Нет, ничего он ему не нальет, пусть знает. А вот себе нальет…
И он налил, приказав затем жене:
— Убери! Чтоб не воняла!
Жена унесла бутылку и не вернулась, — прозвенел колокольчик, какой-то мальчишка спросил дрожжей на пятьдесят геллеров.
Зембал не раз в жизни брался за всякие дела. Он всегда точно знал, чего хочет, но не умел добиться цели. Он был уже достаточно стар, но жизнь так и не научила его, и потому всякая неудача ставила его в тупик. Как? Как же быть? Тут крылась какая-то несправедливость, подвох, подстроенный этим подлым миром, и не без участия ворюг. Разве не здорово придумано — сделать сына дорожным обходчиком? Вдвоем они уж похозяйничали бы на «аллейках» Лукана! Мысль эта так же великолепна, как и его черная шляпа. И плохо бы им обоим жилось, Иисусе Назаретский? И почему на свете все так запутано, почему нельзя просто высказать свое желание?
Вторая рюмка можжевеловой водки унесла эти безрадостные размышления, и Зембал понял, что в следующую минуту должен что-то предпринять. Так он и сделал. Надев пальто и черную шляпу, погруженный в себя, он вышел из дому через лавку. На вопрос жены, куда он идет, Зембал не ответил.
Зембал шагал вверх по Планице. Он ежился и вздрагивал от холода. Так всегда начиналось состояние неуверенности, в котором он провел четверть своей жизни.
— Добрый день, пан Зембал. Я слышала, вы в городе были. Не видели, поросят там не продают? Я бы молочного поросенка купила, да в Планице не у кого. Хочу боровка откормить, — посыпалось на Зембала, но тот прибавил шагу и еще больше съежился. — Я спрашиваю, не видели вы в Правно поросят продажных? Туда крестьяне всегда заезжают, если вздумают что продать. Боровка хочу… — пискливо говорила Фарничка, стуча кулаком по телеграфному столбу, потом пробормотала: — Остолоп! От злости в щепку высох. Одна шляпа от него осталась! — И, набрав воздуха, завопила на всю улицу: — Мой старик — пьянчуга, однако шляп еврейских не носит и носить не собирается. Да!.. — И она убежала на свой двор.
Но Зембалу было уже не до Фарнички. Он продолжал шагать по Планице. Ему нужно было пройти через всю деревню, до другого ее конца, к самому последнему дому на другом берегу речки. Дом этот — старинный, каменный — был с широкими воротами, какие бывают на постоялых дворах. За ним возвышалось кирпичное трехэтажное здание, по планицким масштабам очень большое и внушительное. Это была мельница. В каменном доме жил Пастуха, мельник и пройдоха.
У Пастухи все — от усов до башмаков — было огромных размеров. Этому соответствовало и все, что его окружало. В доме было не четыре комнаты, а четыре комнатищи, и кухня — словно двор. Не удивительно, что Зембал вошел туда с ощущением подавленности.
— На страж![2]
Пастуха в расстегнутом полушубке стоял у печи. Он так намотал на шею теплый шарф, что едва мог повернуть огромную голову. Усы его обвисли, штаны съехали ниже пупка. Мотня болталась у колен, налитые кровью глаза слезились. Он стоял жалкий, несчастный. Увидев Зембала, Пастуха бросил измученный взгляд на дверь, потом на черную шляпу. Ему было не до разговоров, и он только кивнул.
— Что с тобой? — спросил Зембал, обходя на почтительном расстоянии мельника и почему-то не сводя глаз с его живота.
— Ох, лучше не спрашивай! Болей, лихоманка меня бьет… — Его и в самом деле затрясло, и он шмыгнул носом.
— На твоем месте я позвал бы доктора. А?
— Чего ты вокруг меня ходишь? Почему не садишься?
— Сяду, сяду сейчас…
Зембал сел у стола как раз там, где дочь Пастухи собиралась замесить тесто. Перед ней стояли большая миска, мешочек с мукой, кусок масла на тарелке и несколько яиц. Но Зембал ничего этого не заметил. Он небрежно положил левую руку на стол, правой придерживая шляпу на коленях.
— Мне бы поговорить надо… но здесь… да ты и сам видишь… вдобавок ты еще и болен…
— Болен, болен! Третий день ни на что не гожусь. Кашель, страшный насморк, жар, наверно, есть — знобит вовсю. Лежать надо бы. А разве я утерплю в постели? И так каждый год. Зимой я человек, самые крепкие морозы мне нипочем. А весной стоит на солнышко посмотреть — и готов, чихаю. Вот она и опять пришла, говорю я себе.
— Кто?
— Ну, болезнь, хворь эта самая. Погляжу на солнышко — и давай чихать. Даже летом. Все добрые люди без рубашек ходят, а я всякий год хоть недельку да сижу в полушубке. С тобой такого не бывает?
— Чего?
— Хвораешь, говорю? Не слушаешь ты меня, что ли?
— Слушаю, отчего же не слушать. Марча, милая, может, ты выйдешь? На одну минутку. Успеешь замесить, до полудня еще далеко.
Дочь посмотрела на отца.
— Выйди, выйди! Видишь, поговорить нам надо. — А когда дочь, надувшись, гордо вышла, мельник продолжал: — Что там у тебя? Не забудь только, что я болен, и уже третий день.
— Что ты думаешь о Лукане?
— О Лукане? Почему я о нем думать должен? Не понимаю. Обходчик как обходчик. А в чем дело?
— Я только так, хотел знать твое мнение.
Пастуха встряхнул пестрый носовой платок и высморкался, после чего, шаркая домашними туфлями, совсем по-стариковски, перешел от печи к окну. На крючке висела барашковая шапка. Пастуха надел ее и, возвращаясь на прежнее место, остановился у стола.
— В чем дело? Говори ясно. Ведь ты меня знаешь? — Все так же шаркая огромными туфлями, он вернулся к печи и прижался к ней спиной.
— Он у тебя записан?
— В гарде, что ли?
— Ну да. Состоит ли он в глинковской гарде? Мне об этом неизвестно, в партии у меня он не значится.
— Так, так.
— Что «так, так»? — И Зембал, забывшись и преодолев подавленность, повысил было голос: — Записан или нет? — Но тут же опомнился и закончил спокойней: — Мне как председателю партии вообще надо бы об этом знать. Или нет? Я тебе уже два раза показывал свои списки, а ты от меня гарду прячешь. Такой Лукан, он… — Зембал вдруг умолк. — Я вижу, ты против меня настроен. А почему — одному господу богу известно, Ничего плохого я тебе не сделал. Думай, что хочешь, но я тебя не понимаю. — Зембал переложил шляпу на другое колено. — Это даже некрасиво с твоей стороны.
— О чем ты говоришь? Некрасиво? Куда как красиво! Моя болезнь некрасива, а… приходится терпеть. Третий день уже. При чем тут красота? Разве ей здесь место? С тобой мне обниматься, что ли, прикажешь? Ох, опять меня трясет, опять забирает лихоманка. А ты, гляди-ка, все прыгаешь. Будто сорока — с забора на забор. Ты здоров. И я бы прыгал, да еще как! Тоже с забора на забор. А разве я могу? Сам видишь, что не могу. В полушубке, в шапке бараньей сижу, париться надобно, будто картошке для свиней. Скоро, наверно, совсем сварюсь… — Пастуха опять громко высморкался и жалобно застонал, схватившись за голову. — Ну вот, видишь? Сам видишь, на что я гожусь. Уже третий день.
«Разбойник! Первый разбойник в Планице. Сам ни словечком не проговорится, а из меня все хочет вытянуть. Какие-то секреты с этой дурацкой гардой. А на что она, для чего ее организовали? Что это такое? Испокон веку была только партия, и все, а я в Планице ее председателем уже десятый год. В газете пишут, что гарда — только часть партии. Пастухе следовало бы мне подчиняться. Пожаловался я пану районному секретарю, — Пастуха, мол, начальник гардистов в Планице, не хочет мне подчиняться, а ведь вы знаете, что я председателем многие годы. Что он мне ответил? Что мне этот разбойник ответил? «Пана Пастуху я знаю как порядочного человека и доброго христианина…» Где же тогда правда? И еще он сказал, что в наши планицкие дела вмешиваться не станет и во всех несогласиях мы должны разбираться сами. Какие дела? Какие несогласия? Пастуха мне не подчиняется и не показывает мне даже список гардистов. «А сдается мне, пан секретарь, что у Пастухи или же нет никого, или он записал одних своих родственников. Они хотят все заграбастать в свои руки. Пастухи весь род такой». — «Я же сказал вам, пан Зембал, что в ваши дела вмешиваться не стану, сами разбирайтесь». И еще раз повторил, что Пастуха человек порядочный и добрый христианин. И руку мне подал. Я еще подумал, что ворон ворону глаза не выклюет. Все они мне руку подают, а потом взашей. Весь свет исподличался, У кого же искать поддержки порядочному человеку, кому верить? Конечно, только себе! Кому же еще?»
Пастуха поглядывал на Зембала красными воспаленными глазами. И про боль забыл, Нос у него болел. Три дня он его трет, тискает и не может уже к нему притронуться. А тут является эдакий Зембал, тварь ничтожная, бездельник. «Что он воображает! А? Я должен перед ним шута разыгрывать, плясать под его дудку? Накося выкуси! Не ему со мной тягаться. Руки коротки! Сожру вместе с его партией и всей его вонючей лавчонкой, от него и шляпы этой еврейской не останется! Нахал эдакий, оборванец! Сын лезет на пятнадцатилетнюю, а он думает мне на шею сесть. Хорошенькая семейка, нечего сказать! Ишь распрыгался! И еще доносит на меня районному секретарю! Хо-хо, накося выкуси! Не ему со мной тягаться! Секретарь-то ничего от меня не утаил, он человек порядочный. И я, понятное дело, раз речь зашла о таком человеке, не погляжу, если он и смелет лишний мешок муки. А что Зембалу до моей гарды? Зачем ему знать, кто у меня в гарде записан, а кто нет? Меня все кругом знают. Распрыгался этот голодранец! Стану я его слушаться! Это я-то? Контролировать меня! Вишь, чего захотел! Взять верх надо мной, контролировать меня, а потом на всю Планицу раззвонить: люди добрые, мельник Пастуха из рук у меня жрет! Хо-хо! Накося выкуси! Кто он такой, начальство, что ли? У власти сидят те, кого я посажу, и я никому не позволю совать нос в это! Не ему со мной тягаться! Сволочь! И что ему надо от Лукана? Что он еще затеял? Зря он не спросит… Да я у него все выужу, — добром не скажет — вытрясу… Опять меня знобит, снова жар будет. И где я этакую дрянь подцепил? Совсем замерзаю… Мол, записан ли обходчик в мою гарду? А если не записан? А если записан?»
В кухне было жарко. Зембал расстегнул свое пальто и облизал губы.
— Вообще-то я не против Лукана, но если он у меня не записан, так его и у тебя не будет. Вот что я думаю, и к тебе пришел проверить это. Ведь обходчик-то состоит на государственной службе. Вот какое дело. Ты должен хорошо помнить, как мы вместе были в Правно и пан районный секретарь сказали, что мы за всем должны присматривать: кто что делает, что говорит и в надежных ли руках деревня.
— В надежных руках. Еще бы, конечно. Шел такой разговор.
— Вот видишь, ты в этих делах больше моего понимаешь. В надежных руках. Ты правильно сказал: был такой разговор. А наш пан секретарь такой разговор попусту не заведут. Меня до сих пор то в жар, то в холод кидает. Прекрасно, прекрасно, Иисусе Назаретский, будь у меня столько ума, я бы не пропадал в Планице! Очень хорошо. И неужто я должен тебе напоминать, Пастуха, всякий раз, что в деревне я последний горемыка? Дом у меня валится, на подпорках держится, сам знаешь. А как я одет? В одно старье. Как-нибудь проснусь утром и увижу на себе только лохмотья, все расползется по кусочкам. Шляпу ношу с еврея. Говорят, грех это и христианину так поступать не к лицу. А у меня какой выход? Нет его. Я уж просто отчаялся. Что делать? На ремонт дома мне нужно шесть тысяч крон. Они-то у меня есть, по совести тебе признаюсь — есть. Но мне и на товар деньги нужны. Дом или товар? Тут призадумаешься. А сегодня утром встал и думаю: а ведь Махонь христианин, как и я…
— Махонь?
— Ну да. Махонь. Он нашей веры, я и подумал, что он даст мне товар в кредит. Я ведь ему верну, когда немного дела поправятся. Сам знаешь, крепкими напитками торгую, дела мои в гору пошли, и я уже не так бедствую. Почему бы мне не признаться тебе в этом? Признаюсь. А этот разбойник, Махонь, не дал мне ничего. Он бы и рад был, очень бы рад, да надо платить долг еврею.
— Разбойник он, я с ним сужусь.
— Судишься? Иисусе Назаретский! Значит, судишься! В первый раз слышу. Пастуха, Пастуха, берегись этого прохвоста. Берегись, я тебе верно говорю. Судишься, значит? Первый раз слышу!
Но Зембал прекрасно все знал: как Пастуха купил вагон кукурузы у оптовика Гекша, когда у того горела земля под ногами. Купил в кредит. У Пастухи в Правно была хорошая репутация, и старый Гекш, надеясь на лучшее, продал ему кукурузу, когда аризовали[3] еврейское имущество. Лавку Гекша переписал на себя Махонь и подал на Пастуху в суд.
— Суд! Но я не заплачу ни гроша, пусть он на меня хоть десяток адвокатов напустит. У Гекша купил, Гекшу и заплачу. Пусть Махонь ко мне его приведет.
— Гекш, говорят, сбежал.
— А мне наплевать на это. Пусть он ко мне его приведет. Махоню, этому святоше, я платить не намерен, не намерен и не намерен! — кричал Пастуха, топая ногами в огромных шлепанцах.
— Держись! Стой на своем! Я знаю, ты Махоня одолеешь. Как пить дать одолеешь. Не стоило ему с тобой связываться, Пастуха! Ведь одна твоя фамилия чего стоит! Разве не так? По-моему, так, клянусь богом, так.
— Не заплачу Махоню! Ни за что! Где ему со мной тягаться! Выпьешь? Глоток сливовицы у меня всегда найдется. Да. Когда речь идет о порядочном человеке, я рюмки и даже двух не пожалею. Это всему свету известно. Капельку пропущу и я. Опять меня трясет проклятая лихоманка.
С этими словами Пастуха достал из кухонного шкафа бутылку и поставил ее на стол.
— Ну… так и быть по-твоему.
Они пожелали друг другу здоровья и выпили.
— И на вкус хороша, и крепкая. Эх, Пастуха, что же со мной-то будет? Ты ничего мне не сказал насчет Лукана. А знаешь, нынче я его деревья пересчитал. Ты не поверишь: семьсот семьдесят девять деревьев! Целое состояние! У него денег куры не клюют.
— Лукан? Деревья? Что ты мелешь? Какие деревья?
— Те, что вдоль дороги растут между Правно и Планицей. Две аллеи, как он сам говорит. Да ну тебя, будто ничего не знаешь!
— Ну-ну, да тебе, видно, невдомек, на чем свет держится. Разве это его деревья? Государственные они.
— Иисусе Назаретский!
Не спрашивая разрешения, Зембал налил себе рюмку и выпил.
— Кое-что ему, понятно, перепадает. Но деревья-то государственные. Насколько мне известно, он имеет право на одно дерево. Может его выбрать и, конечно, выбирает, какое лучше уродило. У дорожного мастера их четыре. Поважнее человек — и деревьев побольше. Все справедливо. Остальной урожай продают с торгов. Кое-что при этом и ему перепадает. Но чтоб денег куры не клевали, такой чуши я не слыхал. До чего бы мы тогда дошли?
— Только одно? Э-эх! — Зембал хлопнул себя по лбу, чувствуя, что летит в пропасть по какой-то скользкой наклонной плоскости… — А как здорово было задумано! Вот он каков, этот свет…
— …Одно дерево… У дорожного мастера — четыре. И государство должно на что-то жить… — раздавался хриплый голос над лысой головой Зембала.
— Ты сказал, что ему кое-что перепадает. Я не ослышался?
То были удрученность и отчаянное желание удержать осколки разбитых иллюзий и, как всегда, удовольствоваться хотя бы ими, если мошенники так опутали мир, что ему, Зембалу, никогда не испытать настоящей радости. А что такое настоящая радость? Это вагон кукурузы, купленной в подходящую, самую подходящую минуту, не раньше и не позже. Пастуха сунет вагон за пазуху с таким видом, будто ничего не брал, и, хотя кукуруза у него, всем будет казаться, что у него ничего нет.
— Понятное дело, перепадает, с Лукана хватит.
«С какой насмешкой говорит это Пастуха! Поминает Лукана, а сам обо мне думает. И где этот ловкач научился делать из малых людей больших, из нищих — богатеев? Сам-то он с чего начинал? Ведь ничего за душой не было, а теперь у него каменный дом, трехэтажная мельница и невесть сколько земли. И о Махоне еще год назад слуху не было, никто о нем и ведать не ведал. Я-то его и тогда знал. Малюсенькая лавчонка у железнодорожной станции, куда меньше моей. А нынче он оптовик. Иисусе Назаретский, что нужно, чтобы стать пронырой? Или надо уродиться таким, или голова должна быть по-другому устроена, чем у меня, или еще что? А не морочит мне голову Пастуха? Деревья, может, и не государственные вовсе? Не хочет ли он меня провести, а потом повернуть дело к своей выгоде? Об этих торгах я тоже кое-что слышал. Теперь мне пришло в голову…»
— Уж не задумал ли ты сына обходчиком поставить, а Лукана побоку? — загремело в ушах Зембала.
«Он все знает, меня насквозь видит, будто я прозрачный, как вода в нашей речке. Может, знает и то, что я хотел продавать фрукты на севере и собирался нанять возчиков, ведь здесь ими хоть пруд пруди. И что я хотел делать из черешни сусло и гнать паленку. Иисусе Назаретский, не следовало мне ходить сюда, а уж коли пришел, надо было держать язык за зубами. Но я не сдамся, ни за что не сдамся! Если Лукану хватает, хватит и мне!»
Зембал посмотрел на мельника.
— Думал, Пастуха, дорогой, думал, а видишь, как получилось? Не везет мне, совсем не везет. Пусть он остается при своих деревьях, а я поищу чего-нибудь другого. Вот так! Пойду, не стану тебя задерживать, ты и без того болен. Да ты ложись, с лихоманкой шутить нельзя. Дай бог тебе здоровья, а когда соберешься в деревню, ко мне заверни. Никогда не заглянешь…
И Зембал, бормоча себе что-то под нос, вышел.
Пастуха опять прислонился к печке. Глаза его заблестели, и он лукаво подмигивал.
— Простофиля этот Зембал! А насчет деревьев Лукана недурная мыслишка. Скуплю-ка я нынче всю черешню и дам ее перегнать. Ведь это гроши стоит. Марча, Марча! Где ты там, чего не идешь? До каких пор собираешься месить? Скоро уж полдень. И убери со стола бутылку. А будет ли меня еще трясти после рюмки или нет?.. Совсем упарился…
ОТЦЫ
У Лукана только что был неприятный разговор. Он даже не пошел обедать, оставил тележку у кювета и отправился на второй километр — заделывать выбоины щебенкой и глиной.
Дорожного обходчика видит всякий, он же не видит лишь тех, кто крадется полями. А там много сусликов. Люди их не трогают и даже радуются, если задается заметить рыжего зверька. Потом дома говорят: «Я видел суслика», — и это событие, и всегда всех оно забавляет.
Михала Дриню Лукан знал и не знал. Было известно лишь, что тот живет в Острой и неутомимо разъезжает на велосипеде между своей деревней и Правно. Обыкновенно, заметив Лукана, Дриня останавливался. Вот и сегодня. Крикнул: «Бог помочь!» — и погнал дальше. Однако, немного отъехав, Дриня затормозил и повернул велосипед. На руле, как и всегда, висел портфель.
— Что нового в Планице, пан Лукан?
Дриня всегда об этом спрашивает. Голос у него мягкий, басовитый, цвет лица смуглый, как у Зембала, рыжеватые усики и такие же волосы. Дриня носит старую, засаленную шляпу с обвисшими, волнистыми полями. Но самое примечательное — его башмаки. Таких Лукан еще не видывал, а когда однажды спросил о них, Дриня охотно объяснил:
— Это канадки.
Башмаки были с высокими голенищами, на шнурках.
— Небось обуваться вам приходится целую вечность?
На это Дриня ответил странно:
— На свете нет ничего вечного.
Вообще у него была какая-то особая манера вести разговор. Лукан любил сравнивать, но Дриню ни с кем сравнить не мог.
— Что может быть в Планице нового? Ничего. Правда, ничего, пан Дриня. Вчера я вас не видел.
— А вы что, соскучились?
— Нет, нет, — виновато, словно оправдываясь, сказал Лукан, заметив, что его слова Дрине не понравились. — Я всего лишь обходчик и потому покорнейше прошу извинить, ведь у меня, как у всякого дорожного обходчика, есть глаза. Что с ними поделаешь? А дорога — это мой хлеб…
Лукану нечего было скрывать. Он выдержал взгляд Дрини. Потом спрыгнул в кювет и принялся стягивать проволокой охапку черешневых веток.
— Как поживает ваш сын? Все воюет?
Лукан не знал, что ответить, и продолжал старательно вязать охапку. Дриня добавил:
— Тот, кто на фронте, воюет. Я так думаю. И если ваш сын будет хорошо сражаться, то вернется героем. Господа дадут ему еврейскую лавку, и при сыне вы заживете неплохо. Лучше торговать, чем быть обходчиком.
— Какой из него торговец! Нет, не создан он для торговли… Он… — И тут Лукан понял, что попал впросак. Дриня просто насмехается над ним.
— Его счастье! Ведь лавки-то уже поделили между собой те, кто не воюет.
За шестнадцать лет службы на долю Лукана выпало немало несправедливостей и унижений, это сделало его человеком робким, затаившим в себе обиду. И ему стоило больших усилий решиться по-своему дать отпор Дрине. Это был отпор человека, всю жизнь прожившего в подчинении и повинующегося не только дорожному мастеру, но и всем господам в округе и даже капризам речки.
— Для чего вы мне это говорите, пан Дриня? Я очень боюсь за него — места себе не нахожу, а вы так нехорошо со мной шутите.
Он продолжал вязать охапку, явно показывая, что разговор окончен. «Ступайте, мол, с богом своей дорогой, а меня оставьте в покое». Но вслух ничего не сказал. Некрасиво было бы прогнать человека, как пастух гонит корову с картофельного поля. Некрасиво, конечно. Лукан уже стянул вязанку, сложил концы проволоки вместе и принялся их скручивать.
И Дрине, кажется, стало не по себе, потому что он снял свою старую шляпу и зачем-то заглянул в нее, — он не думал что-то найти там либо положить туда и так же растерянно надел ее снова. Поведение Лукана его не обидело, потому что он тут же улыбнулся, и стало ясно, что он стоит подле Лукана не случайно, а с определенной целью и намерен довести дело до конца.
— Так, так. Одни воюют, другие богатеют… Но у вас, видно, работы много, я поехал. Всего доброго, А завтра вам меня не встретить. Так что не удивляйтесь.
Дриня приподнял шляпу и улыбнулся.
— Прощайте.
Этой улыбки Лукан не видел. Он стоял нагнувшись, боком к Дрине, и лишь после того, как тот отъехал, выпрямился и посмотрел ему вслед. Дриня, к счастью, не оглянулся и не привел этим обходчика в еще большее смятение.
— Не пойду обедать, — вслух сказал Лукан. Он оставил тележку и вязанку в кювете, а сам с дорожными инструментами и шинелью на плече отправился на второй километр.
Михал Дриня из Острой… Кто он? Ходит в «канадках», цвет лица у него почти такой же землистый, как у Зембала. Велосипед, старый портфель и поношенная шляпа с обвисшими полями. Такую же шляпу носит и Фарник, сосед Лукана, — он сейчас работает в Липинах, в двух километрах к северу от Планицы. В шести километрах от Липин — деревня Остра, это уже на краю света. Шоссе там, с трудом протиснувшись меж высоких горных вершин, бежит потом вниз, совсем в иные места, где живут совсем иные люди. А в Острой живет Михал Дриня. Кто он? «Одни воюют, другие богатеют…» Нет, дорожный обходчик не даст сбить себя с толку словами, как бы справедливы они ни были, хотя бы потому, что их сказал Дриня, старый коммунист: он никому не дает прохода, всем лезет в душу и внушает всякие странные мысли. Обходчик не может позволить себе такие мысли, у него ведь есть свой кусок хлеба, а свой кусок хлеба дороже всяких слов и всей правды на свете. Сосед Лукана, Фарник, тоже коммунист, вернее, бывший коммунист, сейчас в политику не лезет, и впрямь совсем другой человек. Он другой человек, ни к кому не цепляется и ни разу еще не попрекнул Лукана тем, что сын его на Восточном фронте. Фарник — тот потолковее, понимает, что Лукан не сам послал сына на фронт, а что его отправили туда, как и всех остальных. Против закона не попрешь, и пан Дриня обязан ему подчиниться, если даже понимает, что закон не самый справедливый. Да, Фарник потолковее, и когда Лукан пришел к нему и сказал: «Вы разбираетесь в политике, сосед. Не знаете, долго ли еще господа продержат наших ребят на фронте?» — то Фарник ответил: «Не знаю. Откуда мне знать». — «Я за сына боюсь». — «Не бойтесь, пан Лукан, не всякая пуля убивает. И, как знать, может быть, там он кое-чему и научится». Фарник не сказал, чему сын может научиться на фронте, но он человек умный, да. «Одни воюют, другие богатеют…» — «Нет, нет, пан Дриня, оставьте-ка меня в покое. Я в ваши дела не лезу, а вы в мои не вмешивайтесь. Не вы мне хлеб даете, вот так».
Лукан набирал лопатой щебень из кучи, сыпал его в выбоины и все думал. Носил воду из речки, поливал и, сколько ни ломал голову, никак не мог догадаться, почему Михал Дриня из Острой не дает ему покоя.
Прошла легковая машина, а дорожный обходчик не поклонился. И даже не осознал этого. Он работал быстро, это было единственное средство избавиться от беспокойных мыслей, теснившихся в его разгоряченной голове. Он забыл о времени, забыл, что не обедал.
Что такое? Его окликнули?
— Эй, эй, пан Лукан! Я уже научился править одной рукой! Видите! — Пожилой седовласый человек в шерстяном полупальто проехал на велосипеде мимо Лукана, помахав рукой. — Смотрите же, смотрите! — с торжеством воскликнул он и ухватился за руль обеими руками, потому что переднее колесо врезалось в рассыпанный щебень и велосипедист чуть не свалился. Он затормозил и слез с велосипеда. — Вы нарочно мне тут щебня подкинули? Черт вас побери, эдак и упасть недолго. Заходил к вам домой, но никого не застал. Где-нибудь на шоссе, подумал я. Так оно и есть. Искал, искал вас, долго искал. Добрый день!
— Добрый день, пан учитель, здравствуйте! Где же мне быть, как не на дороге? Ищи рыбу в воде, а меня — на шоссе.
— А если рыба уже на столе, тогда как?
— У такой рыбы дела плохи, и обходчика вы тогда найдете за столом.
— Ишь, за столом! Чтоб вас, ну и шутник вы! А вы видели, как я проехал? Знаете, я не очень вас разыграю, сказав, что буду учиться вольтижировке на велосипеде. А вы все копаетесь? Вижу, вижу. Вот как испортили дорогу, ну и ну. Жена мне говорила: не покупай, мол, велосипед, старик, еще убьешься или под машину угодишь. Женщина, сами понимаете! А вот, говорю, возьму и куплю, — да так и сделал. Велосипед у меня всего неделю, а уже слушается, проклятый! — похвалился учитель и приподнял переднее колесо. — Шины-то какие! Эле-гант-ные! Звонить еще не умею. Звонок приделан с левой стороны, а мне надо справа. Приходится кричать: «Бабушка, посторонитесь, не то задавлю!» Теперь вы всё знаете. Я вам не мешаю? Нет? Хорошо. Я рад, что нашел вас. Как поживаете?
Слова лились непрерывным потоком, затопляли все вокруг, словно теплый благодатный дождь, которому помогает ветер. Ян Кляко, учитель и директор липинской школы, сам для себя был ветром. Он размахивал свободной рукой, а если не размахивал, то приподнимал велосипед за седло и руль или катал его взад и вперед. Делал он это не от смущения, а от избытка энергии, какой-то необычайной жажды жизни и потребности в непрерывном движении. Говорил он нараспев, подчеркивая каждое слово, будто вкладывал в каждое из них очень важный для него смысл и как будто обращался не к одному Лукану, а к целой толпе слушателей.
— Как я живу? Помаленьку, пан учитель. Деревья у меня померзли. Одна яблоня и пятнадцать черешен.
Лукан усердно носил лопатой глину и, улыбаясь, поглядывал на Кляко.
— А в мой сад зайцы забрались, черт их возьми, и обгрызли мои яблоньки. Три штуки. Осенью я обвязал деревца соломой, а зайцы все-таки их обглодали. Плохо, видно, я это сделал, кое-как, а заяц есть заяц — скверный гость, когда выпадает много снегу. Да я им спуску не дам, не позволю бесчинствовать. — Тут старик заметил пустое ведро. — Давайте-ка я по воду сбегаю, чтобы зря не стоять. — Он положил велосипед в канаву и поспешил с ведром к речке. — В дорожном деле я смыслю. Вы не возьмете меня в ученики? — засмеялся он громко и певуче.
— Сын вам не пишет? — крикнул ему вслед Лукан.
Кляко остановился.
— Шалопай! Бездельник! — Старик описал рукой большой круг и ладонью поставил точку в середине. — Мой-то? Вам все-таки скажу. Неудачник он, вот что.
Вскоре из ивняка звонко донеслось:
— Река разлилась. Еще бы — снегу-то сколько растаяло! «Не смейте подходить к воде, — твержу я ученикам каждый день. — И следите за братишками и сестренками, не пускайте их на речку. Это опасно, вы можете утонуть». Они, разумеется, обещают не ходить, но что с них возьмешь — дети! Сегодня поймал одного. «Ты тут зачем?» — «Камни бросаю и смотрю, как вода быстро бежит». — «Вот я тебя! Завтра в школе спрошу, что с водой делается — бежит она или течет». Отвел его к матери, и та при мне дала ему хорошую взбучку. Вот вам, извольте. — Учитель поставил ведро перед Луканом. — И лейте, лейте, сколько надо, не бойтесь. Я еще принесу. Жаль, что тут бочки у вас нет. Я бы в одну минуту натаскал полную. Лейте же.
Учитель большими шагами расхаживал по дороге над рекой, в некотором отдалении от Лукана.
— Пишет ли сын? Разве его благородие пан поручик снизойдет черкнуть несколько слов? Лентяй. Другого такого лентяя и не сыскать. После Нового года — одна открытка, и понимай, мол, отец, как знаешь: «Сердечно поздравляю с Новым годом, живу нормально, до скорого свиданья, ваш Яно». И все. Впрочем, я уже говорил вам об этом. С тех пор ни строчки, а ведь скоро май. Я послал пять писем.
— Мой-то пишет. Вчера письмо получил, все исчерканное, шесть строк в нем вымарано. Будто кистью мазали.
— Цензура?
— Должно быть.
— Да, это их работа. Мы не смеем ни о чем знать, а мир горит, земля стонет… Что же он мог написать такое?
Учитель остановился и покачал седой головой.
— Оба они одинаковы, что мой, что ваш. Поздоровается, соседей всех до единого помянет, а в конце напишет крупными буквами отдельной строкой: «Живу хорошо».
— Черт его побери! — рассмеялся Кляко. — «Живу хорошо», и, говорите, отдельной строкой? Славно придумано. Ловок парень на выдумки.
Кляко прохаживался, заложив руки за спину и опустив голову. Поскрипывали его новые ботинки. Брюки были перехвачены у щиколоток зажимами. Он был невысок, но крепкий, жилистый, широкогрудый, и в груди его рождался певучий низкий голос.
— Беспокоит меня сын. Не следовало бы так шутить с отцом. А у него ветер в голове. Я в его годы тоже был не ангелом, отнюдь! Однако в наставниках не нуждался, а если порой и выкидывал какое-нибудь коленце, то тут, — воскликнул учитель, ударив себя в грудь, — совесть была! Она грызла меня, спать не давала. «Ты, такой-сякой, в пьяном виде нагрубил хорошему человеку, стыдись!» Если я делал что-нибудь плохое, то мне казалось, что об этом знает весь свет. Я боялся смотреть людям в глаза. А он? Не знаю, в кого такой у него характер. Легкомыслие необыкновенное! Когда он отслужил срочную, то с год писарем сидел, на кусок хлеба себе зарабатывал в конторе. Однажды вечером приходит домой и говорит: «Отец! До чего же легко живется офицерам: ничего они не делают, только и знают что щеголять в своих мундирах». Так и сказал, пан Лукан, как вы слышите. Вдумайтесь в эти выражения: «Легко им живется: ничего не делают, щеголяют в своих мундирах и купаются в деньгах. Я пойду в офицеры». — «Покажу я тебе офицера!» Не сдержался я… «На, получай первый чин!» — и дал ему затрещину. Это меня до сих пор мучит. Ох, как мучит меня эта оплеуха! Должно быть, с нее все и началось. Из хорошего сына стал поручик, и воюет теперь против Советского Союза. А что, если он вздумает сделать карьеру? У шалопаев бывают такие наклонности. Что тогда? — Старик смотрел в поле. — Положа руку на сердце, пан Лукан: ваш сын ничего не писал о моем Яно? Ведь они в одной батарее служат.
— Я вам покажу это письмо. Оно у меня дома.
— Нет, не надо! Спасибо, вы очень любезны. Никак не отвяжется от меня одна мысль. А она мне совсем ни к чему. Мы ведь с вами старые фронтовики, пан Лукан, оба в первую мировую воевали. Тогда было все равно, кто по какую сторону фронта находится. Это было надувательство, ужасный обман. Люди на обеих сторонах умирали неизвестно за что, гибли как мухи. А нынешняя война другая, теперь не все равно, где стоит солдат. Это и моего сына касается. Моего и вашего.
— Это нас бог наказал…
— Мы оба несчастны, но я — вдвойне. Вам, по крайней мере, нет нужды опасаться за сына. Я знаю вашего парня, учил его. Но мой! Найдет ли он время иногда поразмыслить над своей судьбой, как делывал я в его годы? Поймет ли он, что вокруг него творится? Да, пан Лукан, я перестал надеяться и не жду ничего хорошего. Эта среда! Что тут скажешь? Я знаю офицеров, хорошо знаю и кому угодно напрямик открыто скажу, что, кроме водки, женщин и карт, они ничего не знают. Именно так, как сказал мой сын, — им легко живется и так далее… Только в деньгах они не купаются. В долгах утопают да на диванах валяются… Так ваш сын в самом деле ничего не написал о моем Яно?
Лукан стоял, беспомощно опустив руки, давно ужа занятый своими собственными безрадостными мыслями.
— Я верю, вполне верю вам, извините, что я вас затрудняю, перекладываю на ваши плечи свои невзгоды, у вас и своих достаточно. Но к кому еще я пойду, если не к вам? Даже своей жене я не могу сказать ни слова — она тотчас же начинает плакать, как вчера, например, когда увидела, что почтальон не зашел к нам. Дочери? Что она понимает в свои восемнадцать лет? Не знаю, как и быть…
Старик, ссутулясь, стремительно ходил по дороге. Он размахивал руками, будто ему не хватало слов и он вынужден был дополнять их жестами. И тогда слова приобретали желаемый смысл.
— Да и кто здесь может дать мне совет? Я готов прийти к такому человеку, встряхнуть его и потребовать: говори, говори, внуши мне хоть каплю надежды. Вам и мне или хотя бы только вам, я согласен даже на это. Скажите, вы знаете, что такое взаимная, всеобщая ответственность? — Учитель посмотрел на Лукана и, подойдя совсем близко, уперся ладонями в его грудь. — Вы знаете, что такое взаимная моральная ответственность? — взволнованно зашептал он, широко открыв глаза. — В Липины третьего дня вернулся солдат с Восточного фронта, Павол Томашин, сын липинского кузнеца. Я просидел с ним до глубокой ночи, запершись в комнате. Вы же знаете Томашина. Да, да, сын липинского кузнеца. Забулдыга, как и отец. Его ранило в ногу, и после госпиталя он получил отпуск на месяц. Немцы убивают всех подряд, пан Лукан, убивают детей, беременных женщин. Это не война, какую мы с вами знаем, это преднамеренное истребление. Они хотят истребить русский народ. Славян! А мы кто такие? Я? Вы? Турки мы или славяне? Понимаете? И мой сын!..
Он рывком отнял руки с груди Лукана и замахал кулаками, словно заколачивал в землю невидимые колья.
— Нет, нет! Он не насильник, нет, нет, нет! Не такой он человек. — И старик схватился за волосы. — Но разве это утешение? Какое в этом утешение? Возможно, он в своем эгоизме и не замечает убийств, а если замечает, то затронут ли они его душу, будет ли он из-за них страдать? Он ведь еще совсем молодой и такой легкомысленный! А вокруг него еще более легкомысленные люди, я ведь прекрасно знаю офицерскую среду. Когда-то и я был не лучше. Вспоминать тошно… Вон там идут двое. Посмотрите-ка, я их не узнаю.
Голос учителя оборвался, руки бессильно опустились, но кулаки он не разжал.
— Зембал с сыном. — Лукан невольно потер глаза, которые почему-то затуманились.
— С этим уголовником?
— С ним.
— Не лучше ли такому Зембалу, чем нам?.. — Учитель хотел было продолжать свою мучительную исповедь, но Зембалы быстро приближались. — Мне следовало бы уйти, но они, чего доброго, подумают, что я убегаю и что мы здесь строим козни, замышляем антиправительственный заговор. Теперь это модно. А Зембал не самый порядочный из людей. Сбегаю-ка я за водой, — мгновенно решил старый Кляко, так и сделал.
— Теперь гляди в оба и замечай, как это делается. Смотри! Ямку засыпают щебенкой, а потом глиной. И помалкивай, пока тебя не спросят, — вероятно, в десятый раз наставлял Зембал сына, который был выше своего отца на голову.
Сын не хотел сюда идти, нехорошо, мол, идти к тому, кого хотят вышвырнуть… Не может ли что-нибудь заподозрить Лукан? Пришлось дать разбойнику десяток самых дешевых сигарет. «И стопку!» — потребовал тот. «Вымогаешь, да? Не рано ли?»
Отец все-таки дал. Сейчас он у сына в руках. Впрочем, это ненадолго. «Вот устрою его дорожным обходчиком — сразу присмиреет. Постой, постой, что здесь надо этому седому? Что у них общего? Побежал с ведром к речке. Его место в Липинах, в школе, а он тут околачивается, с ведрами бегает, словно мальчишка. И почему у него такие волосы?»
Планицкий лавочник снял черную шляпу и крикнул:
— И мы помогать идем!
Лукан нахмурился.
— Речка разлилась, как бы из берегов не вышла, — сказал Кляко и холодно поздоровался с Зембалом: — Добрый день. — Потом обратился певуче к Лукану: — Куда прикажете лить, пан обходчик? Хорошенько показывайте.
— Сюда, пан учитель. Хватит, хватит. Всю глину смыли. Потоп устроили, как гроза.
— Потоп, говорите? Надо было предупредить. Теперь как, хватит?
— Еще чуть-чуть. Ладно. Из вас хороший дорожник получится.
— Ну что ж! Не всегда же мне быть учителем.
— Перемена не повредит.
— В самом деле не повредит.
— А теперь сюда. Лейте осторожнее. Выбоина маленькая.
— Вот как, значит — выбоина! А я называю ямкой. Выбоина! Пусть будет выбоина. Черт побери эту ямку, то есть выбоину. Теперь я угадал. Налил в самый раз и даже лучше вашего. Вот вам!
— Глаз у вас точный.
— Это верно. И тем зайцам, что обгрызли мои яблоньки, несдобровать. Осенью — пиф-паф! Принесу вам одного. Зайчатина — превосходное блюдо!
— Со сметаной.
— Разумеется, со сметаной. А еще лучше запечь с овощами. Морковь, петрушка, сельдерей, мускатный орех.
— И все протереть.
— Пре-вос-ход-но! Пан Лукан, мы сходимся с вами во всем!
— Во всем. И даже в том, что еще ведерко воды мне бы не помешало.
— Пра-виль-но! Бегу, бегу. Посторонитесь, здесь работают.
И он побежал вприпрыжку, размахивая ведром и описывая им круги.
Лукан отошел к дальней куче и принялся пересыпать щебень лопатой.
— Н-да! А… — только и мог сказать Зембал.
Все, что он увидел, показалось ему глупым и непонятным; в лучшем случае перед ним кривлялись двое придурковатых. «Пьяные они, что ли? — подумал он. — Но Лукан ведь не пьет. Однако, с каждым может случиться. Даже со священником».
— Даже со священником, — произнес вслух Зембал.
— О чем это вы?
— Ничего! Помалкивай! Гляди да помалкивай! Это называется выбоина. Запомнил? Заруби себе на носу, завтра я тебя повторить заставлю.
— Выбоина. Что тут трудного?
— Не рассуждай, а гляди. А впрочем, хватит, не гляди! Пошли домой! Лукан сегодня малость не в себе. Надрался, видно. Должно быть, седой принес бутылочку, и они вместе ее вылакали. В Липинах паленку гонят. Одному господу известно, кто и у кого там перегонный аппарат. Станешь обходчиком, пошарю-ка я в Липинах, и этого учителишку тоже на чистую воду выведу. Сами будем гнать. Идем. Ну, я пошел домой, пан Лукан. Прогулялся немного — и хватит. Здоровью не повредит! Прощайте! — Он приподнял шляпу. — Пьян, ничего не слышит. Пошевеливайся, чего стал! Седой назад идет. Пошли!
Зембал злобно дернул сына за рукав, тот проворчал в ответ:
— Не лайтесь! Чего это вы?
— Я тебе покажу «не лайтесь», дома узнаешь! Завтра сигарет не получишь! Проси не проси — не дам. «Не лайтесь!» Ишь ты, в тюрьме научился. Может, опять туда захотелось, а?
— Хоть бы и так…
В глазах младшего Зембала вспыхнул злой огонек, и он не угасал, а разгорался, словно его раздувало ветром.
— Поглядите-ка на разбойника! Отца ударить собрался, насильник?
Злой огонек все не угасал. Глаза пожелтели.
— А я-то уже хотел простить тебя, дать завтра десяток. Но теперь не дам, ни за что не дам. Я тебе мозги вправлю, так и знай, вправлю.
Сын до крови прикусил губу.
— Как называется ямка на дороге?
— Выбоина.
— Ладно, я еще подумаю, погляжу… Но о сигаретах забудь и думать, рановато еще. Как называется ямка на дороге?
— Выбоина.
— Что с ней делают?
— Засыпают щебнем.
— А потом?
— Заравнивают глиной и поливают водой из речки.
— Так и быть, подумаю еще, погляжу… А это что такое?
— Дерево.
— Какое?
— Черешня.
— Вот видишь! И что ты за человек? Не могли бы мы всегда так славно прогуливаться? Слышишь, как они смеются? Пьяные. И прилично ли учителю бегать с ведром, будто школьнику?
Сын не слушал отца. В его душе все так и кипело, как в речке, клокотавшей рядом с дорогой.
— Сбежали, ха-ха-ха! — рассмеялся учитель.
— Прогуляться вышли немного, здоровью не повредит, мол.
— Я слышал. Стоял в кустах и все слышал. Мы его проучили. Ну, мне пора, надо еще в Правно успеть.
Они дружески распрощались.
А Зембалы скрылись за поворотом, за тем самым коленом, где в фашины с камнем билась мутная вода.
И снова Лукан один. Немые суслики да полунемые люди: «Добрый день!» или: «Бог помочь!» — а то и этого не скажут, просто помашут рукой или улыбнутся, и снова он один на дороге. Под вечер вернется домой, перекинется словом-другим с кем-нибудь из деревни или даже с незнакомыми, что проходят через Планицу. Но для этого их надо встретить, а они должны спросить его о чем-нибудь, потому что неприлично окликать чужого человека без всякой причины или только потому, что хочется услышать человеческий голос. Потом он проспит ночь, утром отправится на свой участок к немым сусликам да полунемым прохожим. Так живет Лукан шестнадцатый год. В августе пойдет семнадцатый. Много это или мало? Хватает. Младшему сыну уже семнадцать лет, а самому Лукану втрое больше. Нет. Сорок девять. Это много, очень много, но пятидесяти ему еще нет. А что ожидает его, когда стукнет пятьдесят? Улыбнется ли ему тогда жизнь? И улыбнется ли вообще или будет он тянуть все ту же лямку? Или человек воображает о себе больше положенного?
Лукан бросил работу. Стоит. В ведре пусто. Он оперся подбородком на грабли. Пусто и на дороге. Никого не видно ни со стороны Планицы, ни со стороны Правно. Кляко уже в городе. Сказал, что вернется, неизвестно только — засветло или когда уже стемнеет.
Одиночество! Оно захлестывает Лукана, готово пробраться в душу. Как шестнадцать лет назад, когда он только что стал дорожным обходчиком. Тогда ему было тоскливо одному и вся радость была глазеть на сусликов — как они встают на задние лапки, оглядываются, вертят рыжей головкой, перебегают дорогу, торопливо семенят по кювету, заросшему травой. И кажется, что они не бегут, а скользят, словно стремительная форель в речке. Тоскливо ему тогда было, тоскливо и сейчас. Пора собираться домой в Планицу, там живут люди, больше четырехсот душ, там жил бы и старший сын, если б его не угнали на Восточный фронт. Кто за это в ответе? Его не спрашивали. Угнали. Иди! И с чего это Кляко говорит о взаимной ответственности? За что же может отвечать сын обходчика из Планицы? Сын безответного обходчика из какой-то там Планицы? А может, Томашин этот все выдумал? Вернется солдат с фронта и наврет, как водится, с три короба, чтобы кумушки шушукались за его спиной: «Погляди на беднягу. Если бы ты знала, какие муки он принял. Всего и не расскажешь…» Разве сам он, Лукан, не привирал, когда вернулся из Италии? И как еще! Вспоминал реку Пьяве, хоть никогда и в глаза ее не видел. В восьми километрах от этой самой Пьяве был, в грязи валялся, голодный. Это правда. Валялся. И траву вместо хлеба жрал. Корешки. Это тоже правда.
Лукан подходит к тележке, нагружает на нее три черешневых ствола, сверху бросает инструменты, шинель и охапку веток, впрягается и тащит тележку к повороту дороги, где бурную весеннюю воду укрощают фашины с камнями. Устоят ли они? Если не устоят, прибежит дорожный мастер, будет кричать и, может быть, выгонит Лукана со службы. Тоже взаимная ответственность. Всесильный Лукан приказал снегам покрыть двухметровым слоем поля, горные склоны, а потом зажег солнце и дул на него, чтобы оно лучше разгорелось — вот и произошел чуть ли не всемирный потоп. Возле деревни снесло фашины, и мутная полая вода размыла часть шоссе. И войну эту тоже придумал Лукан — ему ведь нечего делать, вот он все время и придумывает. Сыну приказал идти воевать с Советским Союзом и не возвращаться до победного конца… Взаимная ответственность!.. «А ежели я такой всемогущий, то чего же я медлю? Дай-ка лучше вылеплю из глины пару лошадей и — раз-два! — вдохну в них лошадиные души. Хоть бы одну вылепить, чтобы ее можно было в тележку запрячь! Пусть тащит эти черешни проклятые! А сын? Что с сыном? Как он живет там без меня? Да, да, один, без меня и там? Это совсем другое дело. Что видел Томашин, стало быть, видит и он… Славная ты деревенька, Планица! А уместишься в наперстке. Из труб идет дым. Значит, топят планичане дровами из общинного и казенного леса. А я топлю черешнями. Везу три дерева. Превращу их в тепло, и дым потянется через трубу к небу, а может быть, будет стлаться, как иной раз, по земле и поползет между домами. Услышу его запах и смогу закричать на весь мир, что я жив еще… Навозная жижа течет из планицких крестьянских дворов, и ее запах я слышу. Крепкий запах. И я все вижу. Вон шоссе. Для меня оно всего важнее и делит деревню на две неравные части. И дворы вижу, и дома. Вот тут дом Зембалов — на подпорках. Заборы, деревья с распускающимися почками. Вот стая голубей кружит. Это голуби Пастухи — их много, и все они белые. И я будто слышу, как планичане разговаривают за стенами своих домов, и каждого узнаю по голосу. И все-то я вижу, все знаю и все-таки не могу закричать, что я живу! Живу! Жизнь — это радость и что-то еще больше. Какая же радость, если я не знаю, что делает сын, что он делал вчера, что ждет его завтра? И найдется ли у него свободная минутка задуматься о себе, и понимает ли он то, что происходит вокруг? Правду говорил учитель Кляко. Мой сын парень серьезный, у него не было времени стать легкомысленным, он всю свою жизнь трудился, ему некогда было бездельничать. Может быть, он уже не раз думал об этом и уже написал все мне в своем письме. И за то, что все это правда, цензоры замазали письмо черной тушью. Завтра утром, когда в окно будет светить солнце, я приложу письмо к стеклу, может быть, мне удастся что-нибудь разобрать. Мой сын серьезный парень. В замазанных строках прячется его душа, но уж я пробьюсь к ней, и будет мне чем успокоить свою душу. Козленок! Козлик мой! Двадцать два года ему. Я-то зову его козленком, а он переносит такие испытания! Устоит ли он? Хватит ли у него сил устоять? Двадцать два года! Каким был я в его годы? Куда пошлют, туда и иду. В армии тоже был. И с ним может быть так же, да. Не знаю, вправду не знаю, может, Томашин что и приврал? А если все правда, опять же в этом письме… Как только взойдет завтра солнце, приложу письмо к стеклу…»
— Лукан везет черешни. Ого! Сразу три. Что ты на меня уставился? Хворый я, лихоманка меня трясет. Три дня парюсь у печки, а сейчас сказал себе: хватит! Иду проветриться.
Огромный Пастуха в шубе до пят, в барашковой шапке и с шарфом на шее перегородил все шоссе. Такой огромный!
— Ну, коли мы встретились, скажи, не приходил к тебе Зембал?
— Приходил. С сыном приходил. Я чинил дорогу, когда они пришли. Может, с час назад. Пришли и смотрели.
— Смотрели?
— Да. А что?
— Значит, смотрели… Зембал с сыном… Нет, накося выкуси. Где им со мной тягаться! Зембал — прохвост, а ты, Лукан, ступай домой…
Пастуха кивнул большущей головой и поплыл по дороге, величественный, как самая мощная колонна в верхней правненской кирхе, куда ходят немцы.
После этого Лукан рубил черешневые ветки. Когда стемнело и он перестал видеть колоду, он сел на нее, скрестив ноги, все еще думая о сыне. Что делает сын? Что делал вчера и к чему готовится? Лукан даже не заметил, как вернулся с работы младший сын, поздоровался, прислонил велосипед к стене и пошел на кухню. Поужинав, он снова появился во дворе и куда-то укатил на велосипеде. Дорожный обходчик не мог знать, что старый Зембал с женой сочиняют письмо-донос на него, Лукана. А в письме этом они приписывают ему подозрительные мысли насчет государства.
«…И я, как многолетний председатель глинковской словацкой народной партии в Планице, требую произвести обыск в доме вышеупомянутого, потому как естли его не зделают тотчас, я ни за што ниручаюс. На страж! С уважением Зембал Якуб».
Тени.
Огромная луна. Огромная, как голова Пастухи.
Что делает сейчас сын? Что делал вчера и к чему готовится?
ДЕТИ
— Наконец-то мы на месте.
Люди лежат вповалку, измученные, как скотина, и мало похожие на живых. Храп, дыхание сливаются с шумом ливня и порывистого ветра. Он врывается в разбитые окна, через дыры в потолке и на крыше, завывает и жалуется.
Сон подкосил солдат, они повалились наземь и уснули мгновенно, не успев даже вытянуться и расстегнуть ремни. Но Лукан не спит и мысленно повторяет: «Вот мы и на месте».
Издалека донеслись звуки выстрелов, резкие, злобные, но их тут же заглушил ветер, вновь налетевший на дом, и гулко загремел крышей. Крыша, должно быть, железная, вдобавок дырявая, ветер опять завывает и жалуется.
«На месте ли?» Лукан прислушивается, и его охватывают сомнения. Он сидит под окном, положив голову на колени. Капли дождя падают за шиворот, приходится поднять воротник. От сквозняка побаливают виски, лоб совсем застыл. «На месте ли?» И поручик Кляко говорил, что мы прибыли на место. Когда приближались к деревне, он закричал еще: «Эй, вы, там! Заткнитесь, мы теперь на фронте!» А когда третье орудие увязло в жидкой грязи, крикнул в последний раз: «Жмите! Но если хоть одно слово услышу, вам несдобровать!» Это было уже в деревне, но больше ничего особенного не произошло. Капрал Матей отвел солдат в этот полуразрушенный дом, и Лукану достался уголок пола под окном. Под разбитым окном.
Ш-ш-ш. Над головой что-то зашелестело, захлопало. Лукан смотрит на дырку в потолке. Вот опять захлопало, заглушая шум дождя, ударило: бумм, бумм!
— А, вон оно что! — бормочет Лукан, и в его голосе слышно доверие.
Опять полило. Ветер швыряет потоки дождя на железную крышу, завывает под ней. Поручик Кляко сказал правду. Лукан прижался к стене. Запах немытого тела подхватил ветер и унес в дырявый потолок.
— Один… два… — отсчитал поручик Кляко, а когда дважды ударило, сел. — Вот оно. Здорово у них получается. Раз — и в лепешку.
Он протянул руку к стене, нащупал свои штаны, висевшие на крючке, встряхнул их и достал сигареты и спички. Огонек озарил комнату с голыми стенами и без мебели. И еще двух человек. Один лежал на боку, укрывшись до самых ушей мохнатым одеялом, другой сидел, уставившись большими глазами на курильщика.
— Здорово у них получается. В лепешку… — пробормотал Кляко еще раз и лег.
Ничего в голову не шло. Он с шумом выпускал изо рта табачный дым. И вдруг встрепенулся.
— В бога мать! Ребята, скажите хоть что-нибудь!
— А-ах… — У другой стены кто-то повернулся. Должно быть, тот, большеглазый.
— Шли бы вы все…
— Спите же, поручик Кляко!
— Это что, приказ? — И так как ответа не последовало, Кляко злорадно захихикал: — Ну и здоров же ты спать, надпоручик Гайнич. Спать — чего уж милей! Эх, проспать бы все это подлое дело да вдобавок с ротой сестер милосердия… — Он повертелся, и его мысли в ту же минуту разбежались, он снова оказался в темноте и грустно закончил: — Я, ребята, и вправду не могу заснуть. Ноги воняют, не стоило сапоги снимать.
— Откровенность прежде всего, — рассмеялся большеглазый.
— Твои не воняют, что ли? Но ты Иисус и вслух об этом не посмеешь сказать.
Кляко поднял руку, — огненная точка взлетела, описав круг в воздухе.
— Наказание с тобою, Кляко. Дай-ка сигарету.
Надпоручик Гайнич сел, откинув одеяло.
— Наказание?
— И самое тяжкое. У тебя на языке одна похабщина. Послушаешь пять минут, так не поверишь, что ты интеллигентный человек. Ведь ты же интеллигентный человек!
Эти слова удивили и самого говорившего. Он тотчас же грубо их высмеял. «Собственно говоря, ты прав», — хотел было добавить, но лишь вздохнул, взял у Кляко горящую сигарету, откинулся на спину и замер.
— Пан надпоручик! Словарь Кляко состоит из тридцати слов, и одно похабнее другого. У первобытных народов…
— Иисус, заткнись! Когда господа разговаривают, молчать! Значит, ты, надпоручик, говоришь, что я послан тебе в наказание? — И Кляко захохотал.
Он плюнул на ладонь, погасил сигарету слюной и отшвырнул окурок. Потом он вытер руку одеялом, откашлялся и обнял колени.
— А мне что-то не хочется этому верить. Пан надпоручик ошибается, — с каким-то наслаждением, отчетливо выговаривая каждое слово, начал Кляко, и, хотя было темно, его собеседники видели улыбающееся остроносое лицо поручика. — Пан надпоручик сам для себя наказание. Да, сам. Приказ! Куда от него денешься? Командир батареи должен повиноваться приказу. Приказ — это тебе не почтмейстерша, его нельзя… В полночь подъем, задницу кверху, подтатранские парни, и в бой! За что? За дерьмо. Но на данной стадии важно не дерьмо. Приказ прежде всего, приказ важен! Батарея выступает в полночь, — займет боевую позицию, окопается, и вот тогда начнется самое главное. Знаете, что будет? Русские раздолбают батарею в щепы, не пощадят и герра командира. Вот оно наказание-то в чем. — Кляко, притворно вздохнув, снова тряхнул штаны. — Куда же я проклятые спички сунул?
Он выругался.
Огонек вновь осветил комнату.
Надпоручик Гайнич лежал на спине, заложив руки за голову. Он молча курил, хмуро изучая остроносый профиль Кляко. Нет, не справиться ему с этим Кляко. А ведь тот кажется совсем мальчишкой, хотя они и ровесники, обоим по двадцать пять лет. От слов Кляко ему стало не по себе. Возразить было нечего, он испытывал стыд: Кляко застиг его врасплох, вслух высказал правду, которая тревожила Гайнича. Как вести себя командиру, если подчиненный плюет ему в рожу, да еще и сапогом растирает?
— Ты циник, — хрипло проговорил Гайнич и испугался собственного голоса, потому что не сумел сказать этого равнодушно, как хотел. Он поспешил прикрыть свое волнение словами: — Какая ж дрянь эти сигареты, дерут глотку — мочи нет.
Он закашлялся, старательно прислушиваясь, убедительно ли звучит кашель.
— Н-да, кашляешь ты отлично, просто великолепно, показательно кашляешь. По меньшей мере под стать чахоточному, — усмехнулся Кляко, сожалея, что Гайнич в темноте не видит его усмешки.
— Да хватит тебе, спи уж!
— Не изволь волноваться. Я циник, ты сам это сказал, Но ты понимаешь, что цинизм — единственная роскошь, которую я могу себе здесь позволить! Ну, ладно! Подчиняюсь приказу и буду спать. Итак, я буду спать. — Голос Кляко перешел в свистящий шепот, слова звучат совсем тихо. — А ты разработай для второй батареи хороший план действий. Как завтра прорвать фронт и взять в плен дюжину русских генералов. Тщательно все обдумай, чтоб не осрамиться.
— Пан поручик!
— Не ори! Русские услышат и сразу накроют снарядом, крышу снесут. Или ты считаешь, что они не имеют права стрелять? Это их дом. Однако я вижу, что с вами не поговоришь. Жаль слова бросать на ветер. Буду спать. Ну вас, герр командир, и спокойной ночи. Эй, ты, Христос! Христосик, спишь уже?
— Что тебе, черт возьми, надо? Что ты к людям пристаешь?
— Ничего подобного. Доброй ночи, и поцелуй меня в…
Кляко сердито лег, в темноте мелькнула огненная точка его недокуренной сигареты. Она ударилась о стену и рассыпалась искрами, которые тут же угасли. Поручик еще немного повозился и затих.
Из углов поползли какие-то неопределенные звуки. Слышалось позвякивание, легкий треск, осторожный шорох, будто кто-то боялся разбудить солдат; откуда-то доносился однообразный приглушенный топот. Надпоручик Гайнич с досадой понял, что это стучит кровь у него в висках. Звуки смешивались и повторялись, но самым отвратительным было лежать под колючими одеялами, от которых разило конским потом. Одиночество обступало Гайнича, он почти физически ощущал его и терялся, не находя в себе сил сказать: «Такое малодушие недостойно командира. Это все дурацкие разговоры Кляко, его никчемная болтовня, но я разделаюсь с этой канальей. Пошлю его на НП. Блестящая идея! Превосходно. Больше эта скотина не будет мне портить кровь». Мысль эта опьянила Гайнича. Он может распоряжаться людьми, как ему заблагорассудится, с завтрашнего дня он вправе посылать их на смерть. Гайнич распрямился, поднял руки над головой, сжал кулаки и всем телом потянулся так, что правую икру свело судорогой. «Вот, вот, поручик Кляко, вы потеряли все шансы выжить. Наблюдательный пункт — это верная смерть. Я мог бы послать туда этого новенького, что лежит рядом со мной, этого благовоспитанного поручика Кристека[4], он и в самом деле какой-то Христосик, но я пошлю туда вас». Гайничу очень нравилось говорить Кляко «вы», как предписывалось уставом, хотя практически это было довольно трудно. А почему, собственно? Полторы недели назад Гайничу присвоили звание надпоручика и официально назначили командиром второй батареи. Прежний командир, капитан Киш, месяц назад так неудачно упал с лошади, что сломал ногу в трех местах. Его отправили в тыл, в Словакию. «Черт возьми, это называется подвезло! Старый хрыч! Дома будет корчить из себя героя, а сам ни одного большевика и близко не видел. Вот если бы…»
Поручик Кляко стремительно сел и зажег сигарету.
— И какого лешего я ввязался в это подлое дело? — Он три раза подряд затянулся — в темноте трижды вспыхнула яркая огненная точка.
— Ты не спишь?
— Нет! Кто сейчас спит, скажи на милость? Знаешь, Гайнич, — Кляко подвинулся к своему командиру, — ты знаешь, я самый обыкновенный негодяй!
— Ну?
Гайнич больше не сердился на Кляко. Он решил его судьбу, и теперь ему было интересно, что может еще сказать этот человек.
— Знаешь, как бывает после окончания гимназии? Знаешь, конечно. Мечты, планы, перед тобой открыт весь мир, только действуй! Но для меня все пути оказались закрыты. Какой-то вонючий сарай, и в нем строительная контора. Я устроился туда, да и то с грехом пополам, писаришкой, дебет, кредит, фактуры, счет в банке и тому подобная дребедень. А по ночам, чтобы меня не выгнали взашей, еще зазубривать все это приходилось. А ты говоришь: интеллигент. Не обижайся на меня, но ты иногда несешь чушь несусветную, а я этого терпеть не могу. В том сарае я провел год. Потом призыв! Меня взяли в армию. Какой из меня солдат, думаю. Оттрублю свои два года, а там опять в контору пойду. Прошел первый год в армии, все было хорошо, все спокойно. И вдруг как-то осенью — я тогда уже получил звание унтер-офицера, — иду по улице, жизнью интересуюсь. Черт возьми, вот красотка! А вон та еще лучше, так бы и расцеловал ее. И вдруг слышу: «Пан унтер-офицер!» Знаешь как это бывает: идет офицер, встретит унтеришку, тот не отдаст честь, офицер и говорит себе: «А ну-ка я его сейчас погоняю перед бабами». Оглядываюсь и вижу поручика. Уже и руку поднимаю, чтобы честь отдать, но — господи боже мой! — какой же это поручик? Это мой одноклассник Ондер. Карол Ондер. Ну, конечно, здравствуй, как поживаешь и тому подобные антимонии. Мы прошлись по всему городу. Он в трактир, я за ним, все еще ошарашенный тем, что из Карола Ондера сотворили офицера. Картинка, щеголь — в офицерской форме. Сапоги, брюки в обтяжку, чтобы, значит, ляжки видны были, а что еще бабам нужно? Они не любопытствуют, что там у тебя в голове, пусть она даже и пустая. И знаешь, Гайнич, — Кляко еще ближе подвинулся к своему начальнику, — ведь этот Ондер был самым тупым учеником в нашем классе. — Кляко жадно затянулся несколько раз сигаретой. — Господи боже мой, как вспомню теперь, что встреча с этим болваном решила мою судьбу, так готов реветь со стыда. А поможет мне это? Нет! Ведь я негодяй! У такого Ондера денег куры не клюют, он валяется с бабами, каждый вечер с новой, по улице ходит фертом, а я всю жизнь буду пером скрипеть. Эх, хватит с меня! Не бывать этому! Взял да и пошел в кадровики. Не сразу, конечно, далеко не сразу. Отслужил срок, стал штафиркой, но Ондер у меня из головы не выходил. В конце концов плюнул я на все, объявил отцу, что решил стать офицером, тот на прощанье отвесил мне пощечину, и все было кончено. Словом, дерьмо я.
Надпоручик отодвинулся. Этот Кляко созрел для виселицы, и он, Гайнич, учинит величайшее в мире свинство, если пошлет на НП не его, а благовоспитанного Христосика. «Черт побери, что мне лезет в голову! Решил, значит — все!»
— Гайнич, послушай… Если, так сказать, рассудить здраво, посмотреть на дело всесторонне, не предвзято, ничего не преувеличивая, ничего не утаивая, то мне кажется, что пером скрипеть совсем не так уж плохо. Понимаешь, о чем я думаю? Скажу откровенно. Вечером, брат, когда контора закроется и к тому же месяц эдакий поэтичный светит — черт побери! — да какая-нибудь шлюха рядом, — порядочная-то девушка с тобой и не пойдет, право же, Гайнич, будешь доволен жизнью, даже если ты всего-навсего писаришка.
Причмокнув, Кляко предался воспоминаниям. Потом спросил:
— Сигарету не хочешь?
— Давай.
— Мы болтаем, а скоро уже полночь.
— Сейчас одиннадцать, — отозвался большеглазый поручик Кристек.
— Превосходно, у нас еще целый час.
Кляко тихо сказал:
— Спи, Христос! Христосик!.. Он, брат, спит как убитый. Бедный малый! Не будь у него библейской фамилии, он бы не действовал так ужасно мне на нервы. Кристек. Ты не знаешь, откуда берутся такие фамилии? Жаль мне этого сопляка. Дрожит от страха, вторую каску себе выпрашивает. Псих!
И не успел Кляко договорить, как что-то загудело, захлюпало: ш-ш-ш, ш-ш-шшу и бу-ум! Бумм! Бумм!
— Где-то совсем близко.
— Так только кажется…
Они осторожно цедили слова сквозь зубы, чтобы не спугнуть наступившую тишину. А тишина была какая-то усталая, тяжелая, но она могла уползти и рассеяться вдруг, мгновенно.
И тут внезапно будто чудовищная птица пронеслась над домом, все вокруг взревело. Из-за одеяла, неплотно завешивающего окно, в комнату ворвались вспышки света, облизав стены.
— Господи! — вскрикнул Кляко.
Неподалеку взорвался одиночный снаряд. Над головой послышался звон.
— Что это ты? — спросил Гайнич.
— В бога мать! — Кляко уже сидел, курил и посмеивался. — Не знаю, как все получилось. Лежал на спине, и вдруг мне показалось, что снаряд летит прямо на меня. Удивительно дурацкое ощущение — снаряд в брюхе. Я мигом перевернулся. Все как-то легче, если он угодит в спину. Эти русские стреляют как боги. Но с меня хватит. Я оденусь. — Кляко встал, зашуршал одеждой. — Гайнич, у меня дрожат ноги. Ой-ой, как трясутся, словно у бабы. Вот потеха-то! — И, выругавшись, добавил: — Сапоги насквозь промокли и воняют. Ноги в них совсем сгниют.
Командир почти не слушал Кляко, но все же тот привлекал его внимание больше, чем хотелось бы. Он сам не понимал, зачем ему это нужно. Когда-то, очень давно, Гайнич думал, что понимает странный характер Кляко, и удивлялся ему. При всяких происшествиях он прежде всего спрашивал себя: «А что сказал бы Кляко?» Оба они были поручиками, младшими офицерами, не имевшими реальной власти. Недавно еще было так: они могли сидеть за одним столом, вместе дуть самогон и немецкий шнапс, который им выдавали в офицерской столовой. Тогда он мог положить руку на плечо Кляко, обнять его и постоянно твердить: «Ты, Кляко, молодец, с тобой и в преисподней жилось бы неплохо!» Кляко на это обычно отвечал: «Ты осел!» Но он, Гайнич, не обижался, потому что Кляко говорил это как-то по-своему, как не сказал бы никто другой, в его словах звучало одобрение, похвала. И он это ценил.
— Нет, никогда мне не надеть эти идиотские сапоги! Они вдрызг мокрые! — ругался Кляко, прыгая на одной ноге и проклиная все, что приходило ему на ум.
Месяц назад капитан Киш сломал себе ногу, и его, Гайнича, назначили командиром батареи. С тех пор многое переменилось. Не все, но многое. Совсем недавно, всего десять дней назад, ему присвоили звание надпоручика. Кляко сейчас обувается, у него мокрые сапоги. У Гайнича тоже мокрые сапоги. Ведь они уже много недель в походе, то верхом, то пешим строем плетутся по грязи, по воде, а до этого шли по бесконечным снегам, делая ежедневно по тридцать километров, и не отдыхали ни одного дня. Неоглядные русские равнины выматывают у них все силы, отнимают желание жить, учат проклинать все на свете и пить горькую. Люди пали духом, ворчат, как собаки, и поручик Кляко как будто ничем не отличается от всех прочих. Останавливаясь на марше, солдаты оглядываются на пройденный путь, и на каждом лице словно написано: «Куда нас гонят? Ведь мы зашли уже так далеко, что отсюда и домой не попадешь». И если Кляко поглядит на такого парня, то захохочет, как дьявол, и крикнет: «Что оглядываешься, Иожо? Татры, что ли, увидеть хочешь? Они далеко, братец. Не бойся, вернешься домой. Вернешься котлетой в консервной, красиво упакованной жестянке, а на ней твои имя и фамилия — чтобы не перепутали. Ценить должен!» И Кляко снова хохочет, словно злой дух, а у людей от его хохота мурашки по спине бегают. Кляко беззаботен, возможно, и смел, но, скорей всего, ему на все наплевать и в особенности на самого себя. Потому-то он непонятен, непохож на всех остальных. «Но я, Гайнич, завидую такой беззаботности…»
Надпоручик слышит, как Кляко звякает пряжкой, надевая ремень.
— Ну, я готов отправиться хоть к черту на рога!
Кляко отворил дверь. Кто-то вскрикнул.
— Валяется, как собака под хозяйской дверью, — раздался голос Кляко. — Соображать надо! Сколько вас тут?..
Дверь хлопнула, послышались голоса, но слов нельзя было разобрать.
— Ушел, слава богу. Скажите, пан надпоручик, вам еще не надоело слушать его ругань? Он выражается хуже последнего ездового.
— Спите, поручик Кристек. Привыкайте! — резко ответил Гайнич.
«Тоже несносный тип этот Христосик. Воображает, сопляк, что у командира батареи только и забот, что обучать подчиненных красноречию. В конце концов, эта скотина Кляко прав: война не духовная семинария». Гайнич прислушался к наступившей тишине, и она ему польстила. Он ее создал, она возникла по его приказу, словно он заказал в баре кружку пива. «Эх, черт! Кружка пива кому не придется по вкусу! Пиво — это да! А Христосик — и в самом деле притих, вздохнуть боится перед начальством. Лопнуть можно со смеху. Уважает меня. С такими христосиками неплохо даже на фронте. Он мог бы сделать карьеру, дотянуть до командира дивизиона, а там, глядишь, и командиром полка стать, чем черт не шутит! Командир полка!» «Генерал Лаудон едет по деревне, генерал Лаудон скачет по полям…»[5]
Поручик Кляко вышел во двор. Повалил снег.
— Холодно, — зевнул поручик, потягиваясь.
Сзади строчили пулеметы. Он махнул рукой и подошел к часовому, который стоял у белой стены, притопывая ногами.
— Холодно?
— Холодно! — сердито ответил часовой, и Кляко это понравилось. Так ответил бы и он сам, если бы к нему подошел какой-нибудь сонный офицер и задал такой бессмысленный вопрос.
— Фамилия?
— Лукан!
— Лукан? Не узнал тебя по голосу. Голоса у нас у всех стали одинаковые от этих сигарет. Проклятые швабы сеном их набивают — сдохнуть можно.
— Да я не курю.
— Поддел меня. Здорово, — захохотал Кляко во весь голос, безуспешно пытаясь отделаться от какого-то неприятного чувства, которое он не мог определить. Он ведь знал, что Лукан курит, знал также, почему тот отпирается. «Остроумно! Остроумно и вдобавок унизительно. Как же: я солдат, вы офицер, между нами нет ничего общего. И катитесь куда подальше».
— Громко не смейтесь, пан поручик. Начальник караула капрал Матей, приказал соблюдать тишину.
— Значит, капрал Матей приказал соблюдать тишину…
— Полную тишину.
— А ему кто приказал, рядовой Лукан?
— Может, и вы, но меня это не касается.
— Странно.
Поручик знал, что капрал Матей для этих Луканов обыкновенный офицерский прихвостень, но сейчас, каков бы он ни был, он частица солдатской массы и потому важнее, чем поручик Кляко, который не принадлежит к солдатской массе, а принадлежит к тем самым офицерам, что затеяли войну и гонят ребят второй батареи куда-то к черту на рога.
— Чего тут странного? — переспросил Лукан и сейчас же ответил: — Ничего странного тут нет.
— Ничего, конечно, ничего…
Кляко разозлился, у него зачесалась рука — хотелось что-то сделать, поставить солдата на место. Сунув руку в карман, он встряхнул спичечный коробок.
— На открытом месте и на передовой курение запрещено. За-пре-ще-но!
— Приказ начальника караула, капрала Матея, — закончил Кляко и подождал, пока догорит спичка.
— Нет, такого приказа он не давал. Нас этому учили, и потому такие приказы никому не нужны.
У солдата дрожал голос, как и у Кляко.
— «Никому такие приказы не нужны…» Ты мне наставления не читай! Ты что, солдат или учитель?
Кляко выдохнул дым прямо в лицо Лукану, понимая, что это небезопасно.
Солдат молчал.
Они зашли слишком далеко, надо было кончать. Часовой отступил в глубину темного двора, а у Кляко остался единственный путь — на улицу. Что произошло? Ничего. Обычный спор из-за немецкого курева.
— Труха паршивая! — выругался Кляко и отшвырнул сигарету.
Такие стычки между ним и солдатами были в порядке вещей. Он их не искал, они возникали сами, рождались из невинных пустяков. «Не умею я с ними ладить, старый олух. На свалку пора! Напрасно я осложняю себе жизнь».
Теперь он ругал себя за то, что бросил сигарету. Его знобило от холода. А в комнате тепло, он полеживал бы там под лошадиными попонами. «Никогда я ничего не додумываю. Ничего не додумываю до конца. Как бы сейчас та сигарета пригодилась: я посветил бы ею на циферблат. Нет, двенадцати еще быть не может. Вернуться в помещение?» Он отказался от этой мысли, не хотелось ему идти и во двор, к Лукану. Потом он вспомнил, что по ту сторону улицы, только гораздо правее, устроена коновязь, там стоят шесть лошадей. «Проверю-ка часовых, ничего мне от этого не сделается. Не мое это дело, но надо же убить время».
Он вышел на дорогу и свернул вправо. Но не успел сделать и нескольких шагов, как кто-то рявкнул:
— Halt![6] Пароль!
— Словак!
— Ist gut[7], — проговорил немец, успокаиваясь.
«Совсем позабыл об этих хамах. — И Кляко пошел дальше, он и сам не мог понять, как это он забыл о немцах. — Ничего-то я до конца не додумываю, вот что. Даже пароля не знаю, так и шлепнуть могут. Что мне здесь надо?» Но Кляко чувствовал, что возвращаться не следует. Это вызвало бы подозрения.
Валил снег. Снежинки таяли на лице. Непроглядную тьму подчеркивала цепочка мертвенных огней на юго-востоке. Казалось, они висят над главной улицей какого-то огромного столичного города, где беспрерывно то зажигают, то гасят уличные фонари. Светящиеся шары, таща за собой хвосты искр, взвивались в черную вышину, лопались и падали, рассыпаясь сверкающими осколками. И только над самой землей их поглощал мрак.
Кляко впервые видел эти цепочки мертвенно-бледных огней. В них таилась какая-то неопределенная угроза, и они не походили ни на какие другие огни. Они были сами по себе.
«Они мертвые», — уговаривал себя Кляко, где-то в глубине души упорно не соглашаясь с этим, что втайне радовало его.
Зарницы на юго-востоке.
У-и-и… у-и-и-и… Что-то ворочается в воздухе и свистит. Не плывет и не хлюпает, но именно ворочается и свистит, а теперь вот завыло, и от этого воя поручик Кляко холодеет до мозга костей.
Он упал на дорогу.
Трах… Трррах…
Земля ожила, словно взволнованная речная гладь, что-то застрекотало, будто швейная машинка. А теперь что-то валится. Трещит дерево. Снова треск. Слышны голоса, много голосов. Отчаянный крик. Кричит человек, кричит тот, кого собираются убить, и он об этом знает, и знает, что спасения нет.
Раненый внезапно смолк.
Кляко поднял голову и сплюнул грязь. На зубах захрустело. Правая рука оказалась по локоть в воде. Колени намокли.
У-и-и-и… у-и-и-и…
Кляко вскочил и побежал. Какая-то сила вдруг приподняла его и швырнула на земляной холмик. Рядом — доска. Кто-то приложил к его колену горячий уголек. Здесь хорошо. Здесь Кляко чувствовал себя в безопасности. Он потрогал колено. Штанина разорвана. Колено распухло. Крови нет. Должно быть, он ударился, наткнулся на что-то. Где он? На чем он лежит? Холмик ровный, со скошенными боками. Кляко припоминает, — так складывают щебень на обочинах шоссе. Здесь доска. Гладкая, хорошо обструганная планка. Кляко ощупывает ее. Планка с перекладиной… и поручика бросает в дрожь. Отшвырнув планку, он сползает с холмика и злобно хохочет.
— Это крест! — Кляко действительно видел крест, сам не понимая, как его можно видеть. Настал день, ночь сгинула. Он лежал рядом с могильным холмом. На черном кресте белыми готическими буквами выведено: «HALSCHKE», а над фамилией что-то еще, помельче, и какие-то цифры. Но Кляко не обратил на них внимания. Он весь дрожал, бессмысленно повторяя: «Хальшке, Хальшке…»
Как светло, какой длинный день! Кляко видел все до мельчайших подробностей. Белое пятно — подштанники, выглядывающие из дыры на колене, пятно потемнее — правая рука. Забрызганный грязью сапог, а за ним рухнувшая деревянная ограда. Рядом с сапогом немецкая каска. Кляко не посмел выругаться — все выше и выше, до самого горизонта, по склону поднимались земляные холмики, над ними торчали черные кресты с касками. Холодный отсвет исходил от них, а по краям ближайших к нему касок мерцали тяжелые холодные капли воды.
— Господи Иисусе!
И впервые в жизни поручик Кляко почувствовал, что все видит, все воспринимает, но тем не менее он мертв.
— HALSCHKE!
Буквы пока еще не стерлись, уцелели и цифры. Четыре из них — 1917 — наводили на Кляко ужас. Это был год его рождения.
Только что была ночь, а сейчас настал такой длинный день. Если бы Кляко взглянул на часы, то увидел бы, что через четырнадцать минут будет полночь. Но он смотрел вверх, на светлое небо. Оттуда медленно-медленно падала ракета, отбрасывая во все стороны мертвенно-бледный свет, а над ней гудел тяжелый бомбардировщик. Гудел, будто невидимый шмель. Внезапно вокруг все завыло и загрохотало. Потом послышался свист, словно нечто огромное расталкивало воздух, стремясь во что бы то ни стало дотянуться до крестов и касок на немецком кладбище.
Скорее за могилу!
Свист нарастал. Лавины раздираемого воздуха бурлили и клокотали. Кляко охватил озноб, между лопатками заныло. Голова была ясная, свежая. Одним глазом он видел на правом плече креста буквы «SCHKE». Пока они еще не стерлись. Это как-то примиряло Кляко со всем. Он лишь упрекал покойного Хальшке, что тот родился тогда же, когда и он, Кляко. Поручику вдруг захотелось зарыться в землю, спрятаться в этих могилах, боль между лопатками чудовищно усилилась. Он уже ни в чем не упрекал покойника, он бессильно царапал ногтями мерзлую землю, цепенея от визга над головой. Сознание померкло.
Но тут откуда-то извне ворвался грохот, принеся с собой горячие пронзительные звуки, и Кляко захотелось крикнуть: «Это не я!» Он закричал и почувствовал, что удаляющийся грохот унес с собой и все страхи.
Меж крестов продиралась лошадь. Почему она так высоко поднимает ноги? Все погрузилось в темноту. Он так и не успел разглядеть, куда направляется лошадь. Слышал только, как та приближается, топает, фыркает, натыкаясь на что-то. Раздавалось звяканье, треск. Должно быть, лошадь поворачивалась, вставала на дыбы. Она сражалась с крестами и стальными касками. Шла немая, отчаянная и бессмысленная схватка. Кладбище было огромное, с лошадиных боков, разодранных острыми перекладинами крестов, должно быть, лилась кровь. Звяканье удалялось. Кляко полз с ощущением, что все это тянется страшно долго. Но взгляни он на часы, — он убедился бы, что полночь настанет через тринадцать минут. А если бы поинтересовался тем, что происходит вокруг, то услышал бы громкие крики и голоса насмерть перепуганных людей.
Кляко вернулся в деревню. Никто его не остановил. В сенях он перешагнул через лежащих вповалку людей. Услыхав, что кто-то вошел, они замолчали.
В комнате было тихо.
— Кто там?
Это, должно быть, спросил надпоручик.
Кляко подошел к тому месту, где лежал раньше, и, не раздеваясь, грязный, улегся, ничего не ответив Гайничу.
— Война есть война, господа.
Но и на это замечание Кляко не откликнулся.
Надпоручик Гайнич только что разрешил сложную проблему, и потому голос его звучал спокойно. Сходить на батарею или нет? Ее могло накрыть тяжелым снарядом или бомбой. Там один «лошадиный батька» фельдфебель Чилина. Если сейчас показаться солдатам в пилотке без каски, то это поднимет их боевой дух. Но сегодня вечером он отдал приказ: «До двадцати четырех ноль-ноль назначается отдых и полный покой». После этого подъем и выступление на передовую. Дальше уже огневая позиция… и приказ есть приказ, а не жена почтмейстера, следовательно, нужно спать. Солдат баловать нельзя, только тогда они будут подчиняться приказу командира. Приказ относится и к нему самому. Сейчас он должен спать. Спать и под бомбежкой. А если кого убило — ничего не поделаешь. Как там? Поручик Кляко ничего не ответил. Что это с ним стряслось? «Война есть война, господа». На батарее находится фельдфебель Чилина. Но если Кляко думает, что игра в молчанку спасет его от НП, то он заблуждается. Чертовски заблуждается.
Христосик здесь ничего не понимает. Он похож на человека, заблудившегося в большом городе. На батарею он прибыл неделю назад, прямо на марше. Как и все остальные части, батарея спешила на фронт. Колонну нагнал немецкий грузовик, остановился. Из-под брезента выглянул словацкий офицер и спросил: «Вторая батарея?» — «Вторая!» Офицер спрыгнул. Грузовик загудел и уехал. Солдаты не удивились. Подумаешь, что тут такого? Еще на марше разнесся слух, что нового офицера зовут Христос. Вот потеха. Все охотно поверили, потому что это был офицер. Вечером солдатам зачитали приказ, в котором сообщалось, что ко второй батарее прикомандирован поручик Кристек. На батарее развеселились еще больше. Все знали, что прозвище придумал поручик Кляко. Кое-кто из батарейцев утверждал, что Кляко в общем-то славный парень. Но таких было немного.
Христосик здесь ничего не понимает и всего остерегается. Где-то в его голове засело, что свист снаряда, который ты слышишь, тебя уже не убьет. А другие тихие, неслышные, они летят прямо на человека и убивают. Он узнал это в штабе от бывалых офицеров. Сейчас затишье и поэтому Кристеку страшно. Вон тем двум хорошо. Они привыкли. Надпоручик герой, а у Кляко не все дома. Надпоручик — командир и обязан вести себя как герой, а у Кляко не все дома, и потому он не понимает, что находится на фронте и что здесь убивают. Как такого человека могли сделать поручиком? Всякое, конечно, случается. Одному везет, другому нет. Ему, Кристеку, судьба за что-то мстит. Его выгнали из штаба и отправили на фронт со второй батареей. А все этот новый начальник, эта обезьяна. И согреться как следует не успел, как вызвал Кристека и закричал: «На ночь достаньте мне девку!» А он, Кристек, стоял навытяжку и заикаясь лепетал: «К-как? Из-изви-ни-те, п-пан пол-ковник?» — «Девку мне достаньте на ночь. Или вы думаете, что я вожу с собой в чемодане собственную жену?»
Вышла неприятность. Кристек хотел возмутиться, показать, что такое требование его оскорбляет, что оно ниже его достоинства, но побоялся. Собрав последние крохи отваги, он смиренно ответил: «Я вас не понимаю, пан полковник. Не понимаю ни слова». — «Кругом марш! И чтобы духу вашего здесь не было! Я вам покажу, я вам покажу! Погодите… Смирно! — заревел полковник, когда поручик, отдав честь, уже шагнул к двери. — Завтра утром, в восемь ноль-ноль, явитесь к моему адъютанту. Документы, довольствие на три дня, и прости-прощай. На фронт. Русские прочистят вам уши! Здесь одна сволочь, одни негодяи. Никто ни черта не делает, только бьют баклуши. Человек высказал единственное человеческое желание, а он, извольте видеть, оглох. Марш! И чтоб духу вашего тут не было!»
С тех пор прошла неделя.
И вот он лежит здесь, под лошадиной попоной, рядом с героем, а тот между ним и этим психом Кляко. Стоит тишина, невыносимая тишина, та самая, в которой летят неслышные смертоносные снаряды. Нужно прислушиваться, только это может его спасти. Тем двоим хорошо, они привыкли, они беседуют и курят, а этот псих Кляко закуривает одну сигарету за другой. Словно он и не на фронте. Поэтому и мог выйти наружу и болтаться где-то ночью именно в тот момент, когда самолеты бомбили деревню. Сумасшедший, совсем рехнулся. Вот опять курит. Он, Кристек, и сам закурил бы, да боится высунуть из-под попоны руку. Еще, чего доброго, случится что-нибудь. А так ничего не будет. Ничего не будет, только не надо шевелиться. Тепло, по крайней мере. Молчит и этот ненормальный. Всегда он столько говорит, а тут онемел. Вернулся и хоть бы слово произнес. Надпоручик спросил: «Как там?» — потом сказал: «Война есть война, господа», — а этот псих промолчал. Скорей всего он не сумасшедший, а просто прикидывается, чтобы его как ненормального отправили домой. Это надо поиметь в виду. «Интересно, достал ли мне денщик вторую каску? Времени у него было достаточно, я велел ему еще позавчера. Солдаты распустились, всякий делает, что хочет, и командиру следовало бы знать об этом. Конечно, один он со всем справиться не может. Батарея уже третий месяц в походе, а этот псих ни о чем не беспокоится. Я должен помочь командиру, он человек хороший и герой. Я ему помогу. Солдат надо подтянуть. Где ж это видано, бьют баклуши, ворчат, шатаются по двору, а в приказе ясно сказано, что следует соблюдать полную тишину до двадцати четырех ноль-ноль…»
Отворились двери.
— Пан надпоручик! — И еще раз: — Пан надпоручик! Полночь. Двадцать четыре ноль-ноль.
— Знаю. Убирайся!
— Но… пан надпоручик…
— Убирайся, тебе говорят…
— Ребят у нас побило. Бомбами.
— Побило? — Гайнич вскочил. — Подъем, господа! Ну-ка, поди сюда! Кого убило? — спросил он дрожащим голосом.
— Не знаю. Пришли с батареи, сказали и сразу назад. Я один остался. Даже часовой туда пошел — посмотреть.
Слова звучат жалобно, словно мольба, жаждущая быть услышанной. Голос детский, жалобный: то ли солдат недавно плакал, то ли плачет и сейчас.
Надпоручик пыхтя натягивал сапоги. Он прыгал по комнате и ругался на чем свет стоит.
Христосик застегивал мундир, стискивая зубы, чтобы они не стучали.
Кляко продолжал лежать.
— Подъем, поручик Кляко!
— Я одет, еще успею.
— Кляко, подъем!
— Вечно вы: поручик Кляко, поручик Кляко! Сволочи! — взревел он, вскочил и, задыхаясь от ярости, не сразу нашел дверь, потом нащупал ее и выбежал.
— Сколько человек убито? И этого не знаешь?
— Ничего не знаю. Пришли с батареи, сказали, — тут все и побежали, я один остался.
— Не трясись ты. Война есть война.
— Я не трясусь, пан надпоручик.
Кляко шел не торопясь. Но внезапно ему стало стыдно, и он бросился бежать. «Проклятая мясорубка!» — хотелось ему кричать во весь голос. Офицеры дрыхнут себе под одеялами в тепле, треплются о чем попало, и не знают, что бомбы убивают их солдат. Пусть не он командир батареи, но он-то был на улице и мог сообразить, что от бомбежки пострадали люди. Надо было пойти туда, а не возвращаться в свое логово. «А чем бы я помог? Что изменилось бы, если бы я туда все-таки пришел? И что изменится сейчас с моим приходом? Чего я бегу?» Но он все бежал, стараясь отогнать прочь все эти мысли, не достойные военного. Лишь на миг он остановился, закурил и тут же помчался дальше. «Чего я бегу? Почему именно я? И почему именно я оказался на фронте, зачем я ввязался в это подлое дело, если не гожусь для него и не мечтаю о славе, только о бабе, черт возьми! Даже не обязательно красивой, лишь бы у нее было все, что полагается… И особенно то, вокруг чего весь свет вертится. Господи!.. Кого же убило?»
И тут Кляко испугался, что убит Лукан. «Лукана не могли убить, он стоял на часах, караулил эту сволочь — офицерье. Чтобы, не дай бог, не украли, да, да, не украли! Ха-ха! Вот комедия-то! Если бы вдруг украли всех офицеров, война сразу бы кончилась. Солдаты разбежались бы по домам — ха-ха! И как это было бы здорово! И я тоже свинья, обыкновенная свинья, которая затягивает эту подлую войну против русских. Они ведь братья, славяне, а немцы — это гитлеровцы, швабы, черт бы их побрал! Зачем же тогда я бегу? Поднимать боевой дух? Но это же подлость! Хватит! — Кляко остановился. — Время у меня есть». Он закурил, решив, что не тронется с места, пока не докурит сигарету. Но снова возникли мучительные сомнения: «Чего я тут торчу как кретин?.. А если я нужен ребятам? Пойду». Но теперь он уже не бежал, а шел медленно, ступая тяжело, и никто не признал бы в нем поручика Кляко.
— Ох, ох…
— Осторожно, ребята. Клади его сюда.
— Ох, ох, ох…
— Говорю, осторожно. Чего встали, будто… Посторонись!
— Хватит! Сволочь наш боженька.
— А люди?
— Скоты!
— Ох, ох…
— Одно на одно, значит, получается…
— Ну и что? Чему тут удивляться? Не пойму я тебя, Лукан.
При этих словах поручик Кляко невольно улыбнулся. Жив Лукан. А ему-то что до этого? Правда, они земляки. Но какое это имеет значение? Должно быть, для него Лукан — это частица родного края. А в такую проклятую ночь это очень важно! Если бы Лукана убили, он осиротел бы, и все выглядело бы еще печальнее. А что думает о нем Лукан? Лукан не сентиментален. «Не сентиментален и я, но хотел бы быть таким. Это кратчайший путь к безумию. Создать собственный мир с собственными законами и наплевать на все прочее. Кого бы я взял с собой? Надпоручика Гайнича! Чтобы уморить его. И, разумеется, бабу. Пусть даже некрасивую. Меня отправили бы в тыл, потому что сумасшедшим не место на фронте. Сумасшедшие не воюют! Но все нормальные люди ведут себя здесь, словно сумасшедшие. И сама эта война безумие, но настоящего безумца отсюда гонят прочь. Блестящая логика! Надо будет когда-нибудь вернуться к этой мысли».
— Кто там курит?
— Ну-ну!
Солдаты узнали Кляко по голосу, и один из них проворчал:
— Опять самолеты прилетят и перебьют людей.
Кляко хотел оборвать его, но понял, что при покойниках это будет неуместно.
— Кого убило? — спросил он.
Солдаты вдруг разом заговорили, и поручик Кляко похвалил себя в душе, что пришел сюда. Он прислушивался, не заговорит ли Лукан. Но голоса Лукана не было слышно, и потому Кляко стало грустно. Убило троих. Колесара ранило в ноги. Он лежит на повозке на груде батарейского имущества и стонет.
— Ох, ох…
— Слышите? Это он.
— Тяжело ранен?
— Откуда мне знать? При нем Лапидух и лошадиный батька, то есть — пан фельдфебель Чилина.
— Сняли сапог, а он полон крови.
Это сказал Лукан. И на сурового Лукана подействовала жестокая фронтовая обстановка, он тоже раскис. На войне в трудную минуту солдаты думают, что офицер не такой человек, как все прочие, и может уберечь их от самого страшного. Теперь Кляко уже жалел, что Лукан заговорил, сейчас он был бы рад, если бы тот вообще не отозвался. Он спросил Лукана:
— Ты боишься?
— Почему вы меня спрашиваете?
— Просто спросил.
— Никак я не пойму, пан поручик, чего вы ко мне все придираетесь, что вам надо! Вы сами понимаете, что я не могу сказать вам то, что думаю, и это…
— …а другое меня не интересует. Ты прав, Лукан.
— Чудной вы какой-то, — мягко заметил суровый Лукан, чем обрадовал Кляко.
Суровый парень оказался не таким уж суровым. И поэтому Кляко дружелюбно ответил:
— Все мы чудные. Тебе не кажется?
— Много мне всего кажется. Но я не люблю этих разговоров.
— Проводи меня к убитым.
— Пойдемте.
Лукан отступил, пропустив Кляко в узкий проход между забором и повозкой.
Бомба снесла пристройку позади длинного дома и оставила воронку в саду среди деревьев. Вокруг нее валялись глыбы мерзлой земли. В глубине сада лежали трое убитых, прикрытые плащ-палаткой.
Около них никого не было. За забором чернели поля.
Кляко приподнял плащ-палатку и положил руку туда, где следовало быть плечу. Рука попала в липкую жижу.
— В лепешку! — сказал он, прикрывая мертвое тело. Ему пришел на ум Хальшке. — Надо их похоронить. Здесь есть немецкое кладбище.
— Со швабами?
— Им уже все равно.
— Ну, как сказать!
Лукан произнес эти слова мягким тихим голосом.
Теперь Кляко понял, почему солдаты отнесли убитых так далеко. И он стал пугаться мертвых. От них веяло неизбывной печалью, и Кляко вспомнил о доме. В эту минуту он был уверен, что никогда больше не вернется в Липины. Ему представилась плакучая ива перед липинской школой. Там он родился, там вырос. Ива была густая, ветви ее свисали до самой земли. И вправду она была густая, и вправду ветви ее низко свисали, хоть и не до самой земли.
— О чем думаешь, Лукан?
— Я был дома, стоял на дороге и смотрел на сад. За нашим садом течет речка.
— Как странно. Я тоже. У нас перед школой растет старая плакучая ива, и сейчас я вспомнил ее.
Оба повернулись и торопливо зашагали прочь от убитых. Пришлось высоко поднимать ноги, чтобы не споткнуться о мерзлые комья земли, выброшенные взрывом бомбы. Мертвые пробудили и оживили в них какую-то давнюю дружбу, которой никогда не существовало. Но они почувствовали, что она должна быть, хотя раньше о ней и не подозревали. Они поджидали друг друга, предупреждая:
— Здесь воронка, осторожно.
Или:
— Тут упало дерево.
Каждый хотел оказать услугу другому, но идти пришлось недалеко.
— Ох, ох…
— Больно, должно быть, ему.
— Кость ему раздробило. Пониже колена.
Они подошли к повозке, где лежал раненый. Вокруг стояли солдаты.
— Посторонитесь, ребята, пан поручик Кляко идет.
— Ох, ох…
— Колесар, очень тебе больно?
— Кто это? Ох…
— Я, поручик Кляко.
— Ребята-а-а! Гоните отсюда эту офицерскую сволочь. Гоните его-о! Ребята-а, пускай он меня не мучи-ит, не то я его убью, ох!.. — стонал раненый.
Вдруг он расплакался. Солдаты, отворачиваясь, отходили черными тенями от повозки, не глядя друг на друга.
— Не реви, лежи спокойно! — сказал Кляко звонким, ясным голосом, как на казарменном плацу. — Зато самое страшное для тебя уже позади. Доктора так починят ногу, что ты и сам удивишься.
— А если больно? — пожаловался раненый. — Так больно, что я и сам не знаю, что говорю.
Он застонал и заметался.
— Перестань реветь, черт возьми! Кому охота тебя слушать? — прикрикнул на него Кляко. — Унтер здесь? Ребята, где каптенармус?
— Я здесь, пан поручик.
— Выдать раненому сто граммов рому.
— Ромом распоряжается командир батареи.
— Не возражайте, пан каптенармус, не то пожалеете. Выдать раненому сто граммов рому. Если через две минуты рому не будет, я вам покажу такое, чего вам и не снилось. Шагом марш!
— Но…
— Не желаю ничего знать! Шагом марш!
Кто-то громко засмеялся.
Раненый перестал стонать.
— Пан поручик! Мне так больно, что я и сам не знаю, что говорю.
— Эх, ты! Сперва обругал, а теперь вроде извиняешься. Так, что ли?
Раненый застонал.
— Ты же самый счастливый человек на батарее, а еще облаял своего командира. Что же это такое, а? Вот возьму и отдам тебя, голубчика, под суд. Тогда как? Но я на тебя того… ясно? Как ты на нас… Госпиталь, сестрички… Столкуешься с какой-нибудь, заживешь как в раю. Они любят, чтобы их обхаживали… Видишь, как я с тобой, не то что ты…
— Вот, пан поручик. Стопка рому.
— На, хлебни.
— Спасибо.
— То-то.
Раненый выпил. Солдаты обступили повозку, чтобы послушать разговор.
— Пора выступать! — послышался в темноте резкий голос.
— Командир идет, — шепнул кто-то Кляко.
— …меня это не касается. Это ваше дело… — приближался сердитый голос.
Тут и Кляко узнал голос Гайнича.
— Четырех коней убило, пан надпоручик. Должен как-то я выпутаться из беды? Да еще два ушли, отвязались незаметно, никак не найдем, — объяснял Гайничу фельдфебель Чилина.
— Забыли, с кем говорите? — оборвал Гайнич.
— С собакой! — произнес кто-то из солдат, черными тенями обступивших повозку с Колесаром.
Раздался смешок.
— Я командир батареи, а вы фельдфебель. Вы отвечаете за лошадей. Ни с чем больше ко мне не приставайте. Выполняйте!
— Слушаюсь!
— Здесь кто-то сказал «собака».
Солдаты отошли, у повозки остался один Кляко.
— Кто-то здесь сказал «собака». Раненый или не раненый, мне все равно. Он пойдет под суд.
Командир пнул ногой колесо. За его спиной выросла тень.
— Признавайтесь! — срывающимся фальцетом закричал Христосик, наклонясь над раненым, и, должно быть, задел его, потому что тот застонал. — Кто это был? Вы? Признавайтесь.
— Ох, ох, я ничего не знаю.
— Он, видите ли, не знает! Вы все тут вдруг стали невинными ягнятами.
Гайнича уже начало сердить, что дело приняло такой оборот. Визгливый голос усердствующего Христосика действовал ему на нервы, но он понимал, что отступать нельзя. Сегодня батарея отправляется на передовую, и любое ослабление дисциплины рискованно. Гайнич одернул Христосика:
— Оставьте его в покое, поручик Кристек. Ребята, даю вам одну минуту. Если виноватый сам не назовется, я возьмусь за первого попавшегося. Пусть — виноват не виноват — перед полевым судом ответит. Времени у нас мало, всего минута. Так-то.
— Слышали? — не унимался Христосик.
— Это я.
— Кто я? Назовитесь.
— Поручик Кляко!
Раненый как-то странно застонал «у-у, у-у» и закашлялся.
— А если я вам не поверю?
— Могу повторить.
— Не надо. С меня достаточно. Солдаты и младшие чины, немедленно выступать! Поручик Кляко, ко мне!
— Выступать! — Из-за спины командира выскочил Христосик и погнал солдат в непроницаемую темноту.
— Поручик Кляко, я вам не верю.
— Весьма сожалею.
— Будь у меня достаточно офицеров, я бы отдал вас под суд, вы предстали бы перед полевым судом.
— Извольте.
— Вы отправитесь на наблюдательный пункт.
— Слушаюсь! Есть отправиться на наблюдательный пункт.
— Я подам рапорт о вашем поведении командиру полка. Вы понимаете, что это значит? Устно или письменно подавать рапорт?
Кляко понимал, что Гайнич куражится над ним, и не хотел доставлять ему этого удовольствия.
— Авиапочтой.
— Вы свободны.
— Слушаю!
Кляко щелкнул каблуками и отдал честь.
— Батарее через двадцать минут к выступлению приготовиться! — скомандовал Гайнич в темноту.
— Выступать через двадцать минут! — повторил Христосик.
— Не визжите, черт вас побери!
Гайнич был раздражен и, нарушая предписания, закурил.
Поднялась суматоха, шум, крики, но все перекрывал бас «лошадиного батьки» фельдфебеля Чилины. Он так и сыпал во все стороны ругательствами и распоряжениями. Этого невысокого бойкого человека солдаты любили, он никого не обижал, не ябедничал. Все охотно выполняли приказы фельдфебеля, покрикивали друг на друга и на лошадей, подражая его голосу, и казалось, что повозки окружают одни Чилины, и все до одного весельчаки.
— Пан поручик, вы молодчина!
Мимо Кляко мелькнула тень и тотчас же растаяла в темноте.
— Пан поручик, посторонитесь, батарея сейчас тронется, — предупредил Чилина, подходя к Кляко, и заговорщически доложил:
— Мертвых придется взять с собой. Здорово придумано? А раненого в госпиталь. Только где мне взять лошадей — никто не скажет! Все упряжки пришлось перетасовать. Четырем коням капут, а два убежали.
— Я их видел, то есть одного видел.
— Да ну?
— На кладбище. Должно, уже подох. Кресты его доконали.
— А второй?
— Откуда мне знать? Убежал, этот, конечно, поумнее всей нашей батареи. На… он на войну, пан фельдфебель.
— Извините!
Лицо у фельдфебеля Чилины всегда-то было несколько удивленное, а тем более, наверно, сейчас, но в темноте ничего не было видно, и о выражении лиц можно было лишь догадываться. От дальнейших высказываний Чилина воздержался. «Солдат — это солдат, фельдфебель — это фельдфебель, а поручик — это поручик. Офицер может нагрубить командиру, даже назвать его собакой. Каждый здесь отвечает сам за себя. Я старый солдат и знаю, что положено и чего не положено». Чилина привык говорить сам с собой и давно уже перестал думать о том, что он самый старый солдат на батарее и служит уже без малого пятнадцать лет. Образования никакого не получил, дотянул до чина фельдфебеля, до «лошадиного батьки», и понимал — дальше дорога для него закрыта. Зачем суетиться, выслуживаться? Каждый год на батарее появлялись новые лица, а давно знакомые возвращались домой, оставался один он. Он, кони и повозки. Сменялись и офицеры. Не успев прижиться, они уже рвались уйти в другие полки, в другие гарнизоны, они делали карьеру, и каждый год на их петлицах прибавлялись новые звездочки. Зачем суетиться, выслуживаться? Чилина был доволен своей судьбой. Только уж очень некстати эта война. Но фельдфебель выбирать не может, он идет туда, куда его пошлют. Однако начало неважное. Четырем коням каюк, два сбежали. Что останется от батареи через неделю, если и дальше так пойдет? Сегодня пришлось все перетасовать, ну, а потом как быть? Говорят, на этом участке фронта у русских сильная артиллерия. Завтра утром надо составить шесть актов о потерях; интересно, что скажут по этому поводу в полку? «Я за это не отвечаю… Война есть война. А троих солдат у нас уже убило. Мы еще и пороху не нюхали. Что же будет через неделю? Что будет?»
— Батарея, слушай мою команду! Выступаем на огневые позиции! За мной! — командует надпоручик Гайнич, сидя верхом на коне и поигрывая стеком. На надпоручике пилотка. Все это видели, когда он закуривал.
— Пошли, ребята! Вот оно, началось подлое дело! — Кляко шагает вперед.
Батарея двинулась по разбитой деревне.
НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ И ФОСФОР
Отец сегодня почему-то был неразговорчив. Не спросил даже, куда он отправляется. Так и должно быть всегда — ведь он уже взрослый. Неделю назад семнадцать исполнилось. Теперь он всякому может сказать, что ему восемнадцать. Уже настоящий мужчина.
Фонарь отбрасывал яркий сноп света; вздрагивая, он беззвучно скользил по заборам и стенам планицких домов. Вот луч упал на женщину и ослепил ее — она заслонилась рукой. Лукан-младший с ликующим гиканьем погнал велосипед прямо на нее. Женщина спрыгнула в канаву.
— У, безобразник!
— Привет! — крикнул он и по-поросячьи взвизгнул, ему показалось, будто это Фарничка.
— Знаю я тебя, безобразника! — погрозила женщина из канавы.
«Глупый народ старики! А кому больше тридцати — все старики. И мой отец старик. Все! И важничают, что старики. А чего тут важничать? Кто их поймет? Я, что ли? И не подумаю даже. Я, мол, тебя, безобразника, знаю! Если бы знала, так по имени бы окликнула. Ох, уж это старичье!»
Он вздохнул, нажал на педали и, припав к рулю, помчался еще быстрее. Не замедляя хода, он, резко накренившись, пролетел крутой поворот, поглядывая на поля, освещаемые пучком яркого света. Шины свистели, из-под них веером летели мелкие камешки. Потом сноп света лег вдоль «аллей» старого Лукана. Отсюда шла прямая дорога до самого Правно. Лукан ехал по середине шоссе, приподняв фонарь так, чтобы свет падал на кроны деревьев. Рано еще, деревья голые. Только во второй половине мая, когда они распустятся, — вот тогда стоит съездить в Правно! Катить домой — и подсвечивать зеленые кроны все в белых цветах».
Молодому Лукану скучно, да и шоссе плохое, в ухабах. Он съезжает ближе к обочине. Скорей бы уж Правно! «У меня кастет, — думает он, ощупывая карман, он радуется скорости, кастету, тому, что до Правно уже недалеко и там будет весело. — Вот бы на сегодня невидимкой стать! Здорово было бы, у, черти! И не только на сегодня — когда угодно! Натворил бы я дел! Почище Ремеша! Он бы от зависти заплакал. Интересно, умеет ли он плакать? А кому мы сегодня отходную устроим? Наш Шеф мастер придумывать. Такие не плачут! А Лис? Ну, это еще пацан. Ему и семнадцати нет, только на нервы нам действует. Хоть бы кто сказал об этом Шефу. Нас и так хватает. Зачем он еще набирает? Да еще пацанов. Лис и разреветься может. Мал-мал, а нос задирает. Такие всегда плаксы. С чего это Шеф разрешил Лису сегодня пойти на дело? И чтоб я прикрывал его с тыла. Шефу двадцать шесть стукнуло, стареет. Оно и видно. Но кулаки у него покамест ничего. Врежет будь здоров — и с копыт долой. Как тогда — дал Пауку, а тот, пока дух переводил, посинел весь. Шеф Паука не любит, потому и назвал так противно. «Отец твой дорожный обходчик, ты будешь Суслик». — «Суслик?» — «Доволен?» — «А как же». Ненавижу сусликов, все норы залил бы кипятком. Суслик? Будь я невидимкой, показал бы Шефу. Кастетом. За Суслика. Отец виноват, не мог другой работы найти. Придумал, старый хрен. То ли дело я — горы динамитом рву. Мужская работа — ничего не скажешь…»
Дома…
Низкие дома, один двухэтажный. Какой-то мужик выводит пару лошадей из растворенных ворот.
«Жаль, что не попались они мне на шоссе. Лошади, если им в глаза посветить, бесятся. Мужик ругался бы, ха-ха-ха, шикарно старики умеют ругаться. Слушать приятно. И я сумел бы не хуже, да Шеф не велит. Говорит, что ругаются только слабые. Наш Шеф чудит. Двадцать шесть лет, ничего не попишешь. Впрочем, когда у человека силенок не хватает, вот он и ругается, не знает, как быть! Шеф прав».
…Несколько освещенных окон. Трехэтажный освещен весь сверху донизу. На улице пусто, по булыжной мостовой цокают подковы. Жужжит динамик, и свет фонаря падает на камни. Мостовая похожа на сеть, захватившую вместо рыбок клочки бумаги. Или на человеческую кожу под увеличительным стеклом. Где-то у меня было такое стеклышко. Надо поискать. Если найду, отдам Лису, пусть позабавится. «Поиграй, детка, стеклышком!» — Мужчины такой ерундой не интересуются.
Освещенный квадрат большой площади. В темном углу темно. Знакомых не видать. Под фонарем стоят шесть, не то семь эфэсовцев[8]. Ждут чего-то, покуривают. «Жми прямо на них, раз лошадям в глаза посветить не удалось!»
Люди стоят, заложив руки за спину, и все, как по команде, поднимают руки и заслоняют ладонью лицо. На рукавах — красные повязки, в белом кружке — черная свастика. «Известное дело, настоящему мужчине на эти закорючки и глядеть тошно».
— В чем дело? — спросил один из эфэсовцев.
— Ты что, милый! — крикнул другой, отскочив в сторону.
«Какие-то незнакомые, должно быть, это те новенькие. С пистолетами. Знает ли Шеф об этом? Он все знает, но сказать ему все же нужно. «Милый!» Ха-ха, нагнал я на него страху. Сегодня мы кое для кого споем отходную. Сегодня-то уж точно, чует мое сердце!»
И, не снижая скорости, он свернул в темный угол площади. За площадью в кривом переулке, идущем вверх по склону холма, стоял «Городской трактир».
Суслик соскочил с велосипеда, вошел через темные ворота в еще более темный двор. Сквозь узкие щели в ставнях пробивались тоненькие лучики света, словно светящиеся нити. Суслик любил подглядывать в эти узкие щелочки, но сегодня ему было не до того. Он вел велосипед в руках. Переднее колесо наткнулось на что-то. Это была поленница буковых дров. Он поднял велосипед и легко забросил его на поленницу. Ощупал карман. «Кастет на месте!» — Суслик даже захлопал в ладоши. Потом подпрыгнул, притопнул было ногой, но тут же опомнился, сообразив, что мужчины не ведут себя так даже в темноте. Он сконфузился и вспомнил Лиса. «Увидал бы — на смех меня поднял!»
«Городской трактир» помещался в старинном здании, вход в него вел через каменный портал. Косяки и двери его были окрашены в зеленый цвет. Прямо против дверей с потолка свисала яркая электрическая лампочка без колпачка. Внутри — шесть прогнувшихся балок, потолок из широченных досок; вдоль стен на уровне головы сидящего человека — дощатые панели, вырезанные по краю, как зубья пилы. Все было окрашено в густо-зеленый цвет, который придавал лицам входящих мертвенно-зеленоватый оттенок и нагонял тоску. Здесь все было зеленое: и стойка, и высокий буфет, заставленный пустыми бутылками, и столы, и стулья, и пустая скамейка. Засаленный, давно не метенный пол казался еще темнее.
— Добрый вечер.
— Добрый… — ответил трактирщик Домин, человек с ручищами, как лопаты, и в кожаном фартуке.
— Маленькую пива!
— Маленькую… — повторил Домин и принялся лениво накачивать пиво, шепча что-то себе под нос. Пиво пенилось, пена хлопьями падала на стойку, с ярко-красных губ Домина слетали какие-то хриплые звуки. Положив локти на блестящую жесть стойки, Суслик нагнулся, чтобы расслышать шепот:
— Ублюдки, ублюдки, ублюдки… — донеслось до него.
В трактире сидело четверо. Суслик был пятым. У печи расположился беззубый «инженер-архитектор» Мюних. Он подпирал кулаком лохматую голову. Перед ним стояла недопитая кружка пива и валялась шапка. Мюних быстро жевал что-то, острый кадык дергался, натягивая морщинистую кожу на шее, раздувались ввалившиеся щеки.
Через два стола от него тихонько переговаривались три пожилых эфэсовца. Суслик их не знал. Один из них вытянул ногу, словно она не сгибалась в колене. Поблескивало твердое голенище сапога.
Мюних слегка привстал и плюнул через стол на сапог.
— Промахнулся. Ублюдки… ублюдки…
Нога осталась в прежнем положении — эфэсовцы даже ничего не заметили.
Суслик знал Мюниха, как и все в Правно. Подобно большинству местных немцев, он был одновременно каменщик, плотник и жестянщик. Пьяный, он именовал себя «инженером-архитектором», и так его называли все. Пил он зимой, когда легкие, по его словам, пересыхали и начинали подозрительно хрипеть. Впрочем, хрипели они не только зимой. Но с тех пор, как эфэсовцы — почти два месяца назад — насильно забрали его сына в войска СС, он пил ежедневно, стал задирист и никому не давал проходу. Он устраивал скандалы на улице, привлекая всеобщее внимание. Вот и вчера крикнул жандарму: «Эй, жандармская морда, зачем сына моего угнал? Сам-то чего в эсэсовцы не подался, холуй буржуйский! Погоди, попадешься в руки «инженера-архитектора»!» И когда жандарм, подталкивая, повел его в участок, Мюних ругался на всю площадь, чтобы все его слышали. В жандармском участке ему как следует всыпали и отпустили домой.
В последние годы Мюних перешел на сторону коммунистов, об этом тоже знало все Правно. Удивляться тут нечему — на прошлых выборах[9] за коммунистов проголосовала почти пятая часть правненских избирателей. Но Суслик коммунистов не уважал; по его мнению, они боролись с фашизмом бумажками, а Мюних зря глотку драл. Сейчас он хоть плюнул, надеялся попасть на сапог эфэсовца, что было до некоторой степени даже интересно. Не будь «инженер-архитектор» «старым, как мир» (а «старым, как мир» был всякий, кому перевалило за пятьдесят), то Суслик предложил бы Шефу принять Мюниха в свою команду. «Мы бы его сделали настоящим мужчиной, характер у него для этого подходящий. Кое-чего ему не хватает, но зато у нас это в избытке! Из него вышел бы парень что надо, не то, что Лис. Интересно, попадет или не попадет? У меня кастет». — И Лукан-младший снова ощупал карман. Принимая от Домина кружку пива, он встретился взглядом с трактирщиком и заметил, что тот встревожен. Домин, навалившись на стойку, ухватился за ее край лапищами.
— Попадет, попадет… — приговаривал он.
Мюних, опершись руками о стол, встал в позу оратора и наклонился вперед. Был он невелик ростом, худощав, одежда висела на нем, как на вешалке.
Он плюнул. Плевок, пролетев со свистом по воздуху, плюхнулся на блестящее голенище.
Нога не сдвинулась с места. Седеющая голова эфэсовца медленно повернулась в сторону печи.
Мюних стоял, разинув рот, похожий на черную яму, где в левом уголке что-то поблескивало. Тому, кто знал Мюниха, было известно, что это два зуба, два его последних стальных зуба.
Суслик держал руку в кармане. «Их трое, у одного пистолет. Но настоящий мужчина не считает своих врагов, так поступают только трусы. Начнем с того, который с пистолетом, — трах ему прямо в брюхо, и все! Шикарная получится отходная, пускай запомнит, коли посмел войти в «Городской трактир»! Хорошо, что я сюда заглянул. Не то они, пожалуй, покалечили бы «инженера-архитектора». Потом примусь за второго, а третий и сам убежит. А не убежит, так Домин его выкинет вон. Жаль, что трактирщику уже сорок. Стареют люди. А что в этом хорошего? На тридцати следовало бы остановиться. Не всем, конечно. Но Домину надо бы оставаться всегда молодым. Мюниху тоже и Шефу, понятное дело. Руки у меня чешутся, кое-кто схлопочет по морде, это уж точно. Чует мое сердце. Эх, Лиса здесь нет. Поглядел бы, как действует мужчина… Стеклышко! Отыщу стеклышко, ха-ха, пускай забавляется…»
Домин быстро опрокинул рюмку. Она, должно быть, стояла наготове, в ожидании подходящего момента. Паленка была крепкая, но помочь не помогла. Во рту остался вкус можжевельника — и все. Зря только крона пропала. «Инженер-архитектор» стоит и ждет, когда на него эфэсовцы накинутся. Берет недопитую кружку пива. Скверный признак. Если они на него набросятся, он швырнет кружку в первого. Молодой Лукан держит руку в кармане. Должно быть, у него кастет. Молодой Лукан водится с ребятами Ремеша, а во дворе у него спрятан велосипед. Домин об этом знает, он много знает, но дела его с каждым днем идут все хуже. Еще два месяца назад ни один гардист, ни эфэсовец, ни кто-нибудь из Deutsche Partei[10] не осмеливался заглянуть в трактир. А если заглядывал, то тут же вылетал отсюда к чертовой матери, мордой прямо в грязь. В трактире всегда было полным-полно. Выручка? Тысячи. Но с тех пор как несколько парней угодили в войска СС, а трех коммунистов отправили под конвоем в Илаву[11], сюда заглядывают неохотно. Хочешь не хочешь, а терпи эту шваль со свастикой. Что поделаешь, если по всему городу идет молва, будто у него скоро отберут патент на торговлю. Что делать? Терпеть их, подавать им пиво и даже здороваться с ними, как предписывают законы трактирного ремесла! Они пьют только пиво, даже в долг не берут. Какое! Пьянки они устраивают у Малкого, у конкурента. А ему, Домину, приходится жить с женой на выручку с пива, содержать в Братиславе двух сыновей-студентов, платить жалованье служанке, вносить налоги… То ли дело «инженер-архитектор» — он сам по себе. Ему хорошо. У него одна забота — натрескаться, а там хоть трава не расти. И правильно — ведь человек живет на свете только раз. «Здорово он харкнул на сапог этому ублюдку, ей-богу, здорово. Лишь бы не вышло чего. Мне сейчас скандалы — зарез. Прикроют мою лавочку. Схватить бы Мюниха за острый кадык да вышвырнуть вон. «Не устраивай здесь, милейший, скандалов, ступай себе с богом, извини, ты ведь знаешь, что эти бандиты сейчас хозяева в городе и податься мне некуда. Я торгую пивом, того и гляди, совсем прогорю. Прости старого друга. Говоришь, больно сделал? Ерунда. Ничего тебе не станется, до свадьбы заживет, лучше приходи-ка завтра утром, я тебе стопочку поднесу или пивка, для бодрости. Вроде возмещения за увечье. И денег с тебя не спрошу, не надо мне». Надо было его выгнать. А сейчас начнется свалка, и мне каюк. Голодом насижусь, по миру с сумой пойду. Наверняка прихлопнут мою лавочку. Это уж точно. Они и на такое способны. Эх, пропадать, так уж с музыкой! Хвачу-ка еще рюмочку — хороша можжевеловая водка, — и будь что будет. А сапог он заплевал здорово, ей-богу, здорово. Кроме Мюниха, до такого никто не додумается.
Они по-прежнему смотрели друг на друга — беззубый Мюних, эфэсовец и два его спутника. Казалось, прошла целая вечность.
Суслик громко и презрительно захохотал, и эфэсовцы обернулись в его сторону. Суслик все понял, и потому взгляды эфэсовцев оскорбляли его. На него смотрели трусы, позволяющие плевать на себя, — и только и смогли, что повернуть свои поганые рожи. Суслик не ошибся.
— Скотина! Свинья неотесанная! — сердито сказал беззубому тот, у кого был пистолет.
— Это мы еще поглядим, кто свинья! — закричал Мюних, удивленный тем, что все сошло ему с рук. — Домин, накачай-ка еще одну, — потребовал он, подавая трактирщику кружку.
Тот подошел, взял кружку, она совсем исчезла в его лапище. Эфэсовцы поднялись, оставив на столе недопитое пиво и деньги, и у Суслика даже пропало желание провожать трусов презрительным смехом. И глядеть-то в их сторону, даже думать о них — унизительно для мужчины. Эфэсовец с пистолетом был толстый и старый. Эх, черт побери, а славная получилась бы отходная! Чистое дело, кошер, как говорят правненские евреи, чистое дело было бы и с пистолетом. Шефу Суслик не показал бы его, тот рыщет за такими игрушками, будто полицейская овчарка. «Не везет мне, нечем душу потешить. Скука!»
— Ублюдки! Слава богу, смылись, — обрадовался Домин, накачивая пиво. Он играет краном, крутит его. Голос такой же могучий, как и лапы, прямо медвежий.
— Что?
— Слава богу, убрались.
Суслик молчит. Слишком много слов просится на язык, теснится в голове. Хорошо бы как следует ругнуться и ругаться до тех пор, пока не отхлынет кровь, бросившаяся в лицо, не побледнеют уши и лоб. Шефу он скажет: в жизни, мол, бывают такие минуты, когда поневоле станешь ругаться, — руки-то у тебя связаны! Пусть Домин трус — это его личное дело, хоть и противно, да и вообще трактирщика не переделаешь. Вычеркнуть Домина из списка вечно молодых! Есть! Заметано! Что проку в его лапищах? И природа иной раз ошибается. А вот мужчине ошибаться не положено.
— Сейчас накачаю пива, Мюних, дорогой ты мой, сейчас. Пиво молодое, пенится, словно от злости. Плюнул ты этой швали на сапог — прямо любо-дорого посмотреть! Ей-богу!
В пиво он плеснул полстопки рома и отнес к печке.
У «инженера-архитектора» словно язык отнялся. Дрожа от нетерпения, он потянулся к кружке и принял ее из лап Домина.
— Я уж подумал — ну, все, сейчас начнется заваруха. Даже струхнул. Как ты думаешь, не отнимут у меня эти ублюдки патент?
Но Мюних был не в себе, к нему нельзя было подступиться. Он смотрел на кружку, любовался ею. К нему спешило счастье, и чем больше оно ускоряло свой бег, тем ниже Мюних опускал голову. Он сверкнул своими стальными зубами, потом скрипнул ими. Потом вскинул взгляд: «Есть ли свидетели моего счастья? Есть — хорошо, нету — тоже хорошо. Все блага и наслаждения этого мира в этой кружке, они прячутся под пеной, и нет ничего на свете, кроме этой кружки». Мюних смутно различал молодого Лукана, трактирщика Домина. Он опять пощелкал стальными зубами. Ему хотелось позабавиться. Стоя и держась руками за спинку зеленого стула, он, словно клещами, зажал в зубах кружку и запрокинул голову; из-за края кружки поблескивали белки глаз, напряженно вздрагивал острый кадык, и казалось, он вот-вот проткнет дряблую кожу на шее.
Суслик швырнул на стол несколько монет, не дожидаясь, когда Мюних допьет пиво. На его лице было написано удивление, не приличествующее настоящему мужчине, особенно в обществе такого труса, как Домин, потому что мужчина всегда сохраняет полное достоинства холодное равнодушие.
С порога он бросил взгляд на часы, висевшие над головой этого труса. Времени впереди было еще много. «С такими не прощаюсь. По-моему, ты созрел для отходной, несчастный торгаш. Только бы эфэсовцы не устроили мне на улице ловушку».
Притворив за собой дверь, Суслик постоял, прислушиваясь. В темноте прозвучали женские шаги. Тук-тук-тук. «Тьфу, баба! Бабы должны сидеть дома и вязать». Эта мысль доставила Суслику известное удовлетворение, потому что он не мог придумать для женщин ничего более унизительного. Он перескочил через три каменные ступеньки, через тротуар — прямо на середину узкого переулка.
Тишина. Никто его не подстерегал. «Оплеванные эфэсовцы не осмеливаются на предательское нападение. Кто обязан понимать стариков? Я? И не подумаю».
Суслик зашагал серединой кривого переулка, чтобы его не захватили врасплох. Досадно и грустно идти глухим переулком, где нет ничего подходящего, чтобы сорвать злость, дать хорошего пинка.
Он выпустил кастет из рук.
Скука.
Команда Ремеша собиралась на железнодорожной станции. И хотя было еще рано, Шеф с кем-то уже там прогуливался. Суслик видел, как оба скрылись в темноте. Второго человека он не разглядел. «Ничего, подожду. Кто это прилип к Шефу, по какому праву Шеф взял его под руку?»
Станционный фонарь освещал открытый перрон и четыре пары рельсов. Они блестели, как сапоги эфэсовцев.
Вот они возвращаются. Шеф и тот, второй. Второй — это Дриня, тот самый, что воюет бумажками. «Как это — Шеф связался с коммунистами? Надо его выручать».
— Здорово! Это я. У эфэсовцев есть пистолеты… если ты случайно не знаешь.
— Случайно знаю. Проваливай, с тобой разговор еще будет.
Суслик чуть не взвыл, как побитая собака. Он медленно поплелся в темноту. Руки его нащупали заборчик, он вцепился зубами в планку и стал грызть податливое дерево. Он выплевывал трухлявые щепки, боясь заплакать и тем уронить себя в собственных глазах. Ближе к середине доска не поддавалась, тут требовались стальные зубы Мюниха. Эх, стать бы ему, Суслику, невидимкой хотя бы на пять минут! Уж он бы свел кое с кем счеты. Пришлось бы им расплачиваться. И Суслик точно знал, кто будет платить по этому счету.
— Это кто, сын Лукана?
— Много будешь знать, скоро состаришься, Дриня.
— Давай поговорим серьезно, ладно?
Дриня вспахивал «канадками» шлак, оставляя за собой глубокие следы.
— Серьезно? — переспросил Ремеш, продолжая разговор, просто чтобы убить время, он был уверен, что перевес на его стороне. — О чем это?
— Слишком ты ко всему относишься легкомысленно.
— Проповедь? Покорно благодарю. Сыт по горло.
— У меня терпения хватит.
— Не сомневаюсь. В конце концов, это тоже тема, на которую мы могли бы поговорить. Терпение, святое терпение. Ты знаешь мой взгляд на такие вещи, я к терпеливым не принадлежу.
— Допускаю, ты ведь авантюрист.
— Повторяешься, товарищ Дриня. Однажды ты уже сказал мне это у Домина.
— Я люблю повторяться, когда прав.
— Прав? Прав в том, что касается меня?
— Да, прав в том, что касается тебя. Сейчас для меня это самое важное.
— Ты исправляешься! Это новость, это стоит запомнить. Короче говоря, все свое внимание ты направил на мою персону? Верно я выразился? Так ведь? — Ремеш чиркнул спичкой, и огонек на миг озарил его характерное лицо, красивое и вместе с тем какое-то безжизненное. Ремеш походил на манекен в витрине. Остановится человек перед таким вот манекеном и подумает: «А почему он не живой?» — и пожалеет этот манекен.
— Ты самодоволен. Тебе бы родиться в другое время. Ведь твой отец работал на железной дороге!
— Работал. У меня пролетарское происхождение, мое место среди вас. Знаю, знаю, что ты мне скажешь. Вижу тебя, Дриня, насквозь, слишком ты прост для меня.
— Кланяться тебе я не стану, и не воображай.
— Я не ошибся! Я нынче котируюсь! — Ремеш усмехнулся. — Вчера ко мне приходил Крамер, пусть будет по-твоему, товарищ Крамер тоже распинался не хуже тебя.
— Чего он хотел?
— Будто не знаешь! Сам его ко мне подослал, а теперь спрашиваешь, чего он хотел. Говорит мне: «Бросай свои дела, иди к нам». Отвечаю: «Я, мол, не коммунист, никуда не пойду, проваливай». А он точно оглох. Может, оглох и ты?
— Я в тебе заинтересован не так уж сильно, но все-таки отрицать не буду. Но это еще не причина, чтобы тебе заноситься.
— Все-таки? А не хочешь ли ты сказать мне что-нибудь еще? — возмущенно спросил Ремеш.
— Нет, — сдержанно усмехнулся Дриня. — Я тебе цену знаю. От такого, как ты сейчас, нам толку мало. Старшие товарищи тебя недолюбливают. Они мне говорят: оставь ты в покое этого анархиста и смутьяна, а когда он расшибет себе об стенку лоб, то придет и сам, без нашего приглашения. Я им говорю, что они неправы. Ремеш — антифашист, но вместо ног у него лошадиные копыта, ему бы только носиться галопом. Чего вы хотите? Он молод, но ума-разума поднабрался, на наши коммунистические идеи он смотрит со своей колокольни. Ищет приключений, которые волнуют его и разгоняют скуку. Да, да, он молод, а ему жизнь уже прискучила… — Дриня сдержанно засмеялся.
— Ты не выдумываешь? Вы в самом деле говорите и обо мне?
— Довольно часто. Ты котируешься, и у тебя даже есть кличка, тебя называют Одиночкой, Бунтарем на свой страх и риск.
— Меня? Одиночкой? Я один? У меня есть свои ребята!
— Ну, сегодня я не хотел бы об этом говорить. Оставим их в покое.
— А мне хочется говорить как раз о них. Эти ребята по моему приказу полезут в огонь и воду. Вы таким похвалиться не можете.
— Если Шеф прикажет, они полезут в огонь и воду! Пора бы тебе и поумнеть. Ты окружил себя молокососами, позволяешь им молиться на себя, словно ты божество. Ты тщеславен, тебе это льстит. Удивляюсь. А тебе не кажется, что ты уже вышел из этого возраста? Экое геройство, подумаешь, дать затрещину Киршнеру! Не понимаю.
— Господи, да ведь он собака! Перед ним дрожит весь город, его пальцем никто тронуть не смеет, и вот этот тип получит по роже, разве это для тебя ничего не будет значить?
— Ничего. Перед нами стоят более серьезные задачи. Мы должны поддерживать в людях бодрость духа, пробуждать их сознание.
— Не понимаем мы друг друга. Нет. Выходит, я не смею Киршнера и пальцем тронуть? Что же ты предлагаешь, товарищ Дриня? Поставить перед ратушей триумфальную арку с транспарантом: «Да здравствует Киршнер!»? — или что-нибудь в этом роде. Хороши мы будем, нечего сказать, очень хороши!
— Не остри и не болтай глупостей!
— Так что же мне делать?
— Подчинись партии!
— Вместе со своими ребятами?
— Нет, твою команду надо разогнать. Они вредят делу.
— Вот куда ты гнешь! Ты мне завидуешь, и только потому, что у тебя нет и не будет ничего похожего. Ремеш без своих ребят — вот как тебе хотелось бы! Чудесно, многоуважаемый товарищ! А потом вы заставите меня бумажонки разносить. Я буду их расклеивать, разбрасывать по улицам, совать под двери — словом, стану «бумажным борцом». Нет уж, покорно благодарю. Увольте от такой чести! Пойми, Дриня, ведь ты не из самых глупых. Плевали фашисты на ваши бумажонки. Листовка — товар безвредный, а потому и бесполезный, мягко выражаясь. Здесь нужно ударить с силой, вызвать у них растерянность, хаос, пристрелить Киршнера и еще человека четыре, и вся их лавочка лопнет сама собой. Фашисты давно уже созрели для этого, клянусь тебе. — Ремеш цепко ухватил Дриню за плечи и стал трясти его, словно перед ним был столб, который он собрался выдернуть из земли. — На этой же неделе. Ладно? Передай об этом партии, она тебя послушает, и мы провернем все сообща. В первую очередь Киршнера, его пристрелю я сам, а следующих четверых выбирайте вы, пускай даже пятерых. Так и быть. Чем больше, тем лучше.
— Провокация, демагогия! Я не допущу! — воскликнул Дриня, вырываясь из рук Ремеша.
— Не кричи!
— Не допущу, ни за что не допущу! — хрипел Дриня, потом, тяжело дыша, зашептал: — Дальше своего Правно ты ничего не видишь. Правно для тебя весь мир. — Он наклонился и указал на землю. — Скорее вот эта черная земля меня поймет, чем ты, хотя ты и мыслящее существо. Гитлер захватил всю Европу, занял Украину, стоит под Москвой, дьявол, а ты, ты да какие-то шалые сорванцы изображаете из себя спасителей человечества. Молчи, я не допущу этого, черта лысого тебе в Киршнере!! Хочешь на его трупе славу себе нажить! Этого я не понимаю, мне это чуждо. Опасное себялюбие, и ничего больше. Но прежде, чем ты пристрелишь Киршнера, тебе придется пристрелить меня. Меня!
— Вот какие дела! — присвистнул Ремеш и отступил.
— Именно так, и запомни, что партия не поступится своими позициями, не допустит, чтобы ты навязывал ей анархистские понятия о революции. Революция не удальство, не разбой. Революция — это прежде всего работа с людьми.
— Разносить бумажки, совать их под дверь, — насмешливо перебил его Ремеш.
— Да, и под дверь! Люди приходят в отчаяние, теряют голову. Многие изверились и не видят выхода. Гитлер готовит наступление на Восточном фронте и нисколько этого не скрывает: Кавказ, а за ним Индия, Волга, Урал, взять Москву в железные клещи с юга и востока. Подумай — Москву! Об этом кричат все газеты. В такой обстановке каждая листовка на вес золота. Да что там! Дороже всякого золота! Листовки — это борьба за людей, борьба со страхом и пораженческими настроениями, которые сейчас очень сильны. Листовки подготавливают к вооруженному сопротивлению. Со временем дело и до него дойдет, должно дойти, иначе наша жизнь была бы бессмысленна. Тогда получай своего Киршнера и делай с ним все, что тебе заблагорассудится. А теперь я не допущу! Думал ты когда-нибудь о том, что творится в голове простого человека? Задаешься ли ты вообще такими вопросами? — страстно продолжал Дриня. — Ты говоришь, что листовка — ничего не стоящий товар, — и снова сдержанно рассмеялся, — а представь себе, что эта пустяковина попадает в руки простого человека, который никогда не интересовался политикой. Да ведь в течение дня он на каждом шагу подвергается воздействию фашистской пропаганды. Она его гнетет, мучит, постепенно разлагает, а с другой стороны, этот человек понимает, чует сердцем, что фашизм ему чужд и отвратителен. И тут его берет страх, неодолимый страх, что нет на свете силы, способной справиться с фашизмом. Представь же себе листовки, которые напечатаны и распространяются «бумажными борцами». Этот человек, получив листовку в руки, читает ее и изумляется. Он видит, что не все потеряно, что есть какие-то люди, какие-то коммунисты, которые не теряют надежд, верят в Советский Союз, в его Красную Армию и в здоровые силы своего народа, убеждены, что эти силы в конце концов победят и фашизм исчезнет с лица земли, как дурной сон. И человек поднимает голову, хотя бы на минуту, на миг воспрянет духом, почувствует себя возродившимся. Ты меня спрашивал: неужели затрещина Киршнеру, перед которым трепещут правненские немцы, ничего для меня не значит? Да, ничего не значит. Но я тебя спрашиваю, и ты внимательно меня выслушай: разве тебе ничего не говорит то, что через два месяца будет год, как Гитлер напал на Советский Союз? Тебе это ничего не говорит? И вот в листовке может быть написано: «Гитлер уже целый год безуспешно пытается сломить Советский Союз. Но Красную Армию уничтожить нельзя! Она победит!» Простой человек над этим задумается и скажет себе: «А ведь коммунисты-то правы. Не ладится дело у Гитлера, — Францию-то он сломил за несколько недель». Неужели, Ремеш, тебе мало этого? Неужели это тебя не удовлетворяет? Конечно, печатать листовки, распространять их, не бог весть какой героизм. Кастеты при этом не требуются, кровь не льется. В крайнем случае можно перепачкаться клеем, как сказал мне один правненский немец. Что ты на это скажешь, Ремеш? Как жива-здорова мать-анархия, покровительница сильных мужчин?
— Н-ну… язык у тебя здорово подвешен.
— Разгони свою команду!
— Я не позволю связать себя, слышишь, не позволю! Свою команду я оставлю при себе, и вы ничего мне не сделаете. Нет у вас на то права! — Голос Ремеша срывался, звучал неуверенно, даже испуганно. — Я сам ее собрал. Нет, вы ничего мне сделать не посмеете. Моя команда еще докажет свою жизнеспособность, вы еще ей удивитесь, и ты тоже, клянусь тебе, Дриня. Знаешь, я давно собирался у тебя спросить, да все не решался. Но я считаю, что такой человек, как ты или я, должен быть готов ко всему. Ко всему! Я, конечно, понимаю, что это невозможно, что этого никогда не будет! Но что ты сделаешь, если Гитлер выиграет эту войну? Я понимаю, что говорю глупости, отлично понимаю. Мне незачем перед тобой выламываться, ты меня знаешь. Но ответь мне! — Ремеш тяжело перевел дух и утер потный лоб.
— Никогда больше меня об этом не спрашивай! Никогда! — Слова Дрини прозвучали доброжелательно, к них послышалась вроде даже жалость. Но как знать, так ли это было или нет, потому что как раз в эту минуту у здания станции появился железнодорожник с багажной тележкой. Несмазанная ось нещадно визжала на ходу.
— Не буду, — уверил Ремеш и наклонился к Дрине. — Я застрелюсь и прихвачу с собой Киршнера. Или сбегу в иностранный легион.
Кто-то остановился рядом с Сусликом. Один Лис умеет подобраться неслышно, как индеец, и видит в темноте. Суслик сказал громко, не оборачиваясь:
— Здорово, Лис!
— Здорово, Суслик! Ты чего это доску грызешь? Я стою тут уже целую минуту, а ты все грызешь да грызешь.
— Зубы точу.
— Серьезно?
— Серьезно.
— На кой Шефу Дриня понадобился? Гляжу на них, а они все расхаживают. Не знаешь, о чем они треплются?
— Шеф не треплется.
— Не придирайся. Всякому известно, что из них двоих может трепаться только Дриня. Он на счет этого мастак. Если надумаешь когда отправиться в страну Вечной Охоты, то от души советую зайти к Дрине. За одну ночь он уморит тебя своими разговорами до смерти. Словом, такого второго нет. Ну и нервы у Шефа!
— Сила!
— Что сильно, то и красиво. А что красиво, то сильно. Ты разве, дружище, этого не знаешь?
— Осел! Где ты вычитал такую глупость!
— Но-но!
— Что-о? — Суслик медленно обернулся. — Мне что-то послышалось. Кто-то здесь сказал «но-но»?
— Но-но!
— Хочешь? — Суслик коснулся груди Лиса. — Понюхай!
— Подумаешь, кастет! И у меня такой будет, вот увидишь. Все равно медведя им не убьешь.
— Медведя? Как ты до этого додумался? Гениальная дурость. Я потрясен.
— Долго еще будет трепаться этот Дриня? Тут и присесть даже не на что. — Лис подошел к забору, оторвал планку, другую, перебросил их в садик. — Теперь и посидеть можно. Соображать надо.
— Я заборов не ломаю. — Суслика глодала зависть, что он сам не додумался до этого.
Он опоздал, а мужчина не должен подражать другим. Пусть подражают бабы и обезьяны. Лучше я постою.
— Вот уж не думал, что ты заборы крушишь!
— Две планки не забор. Важно то, что мне захотелось посидеть. Две планки. Смешно! Жалко тебе?
— Мне? Плевал я на них.
— Садись, я подвинусь.
— Старый Мюних плюнул на сапог эфэсовца. Хорошо, что я был у Домина. Они чуть не изувечили «инженера-архитектора». Но вовремя смылись. Трое их было, а все-таки смылись. У одного был пистолет дамский, игрушечный, жалко. Эфэсовцы ведь трусы. И Домин тоже.
— А у Паука на глазу ячмень. Ячмень, ясно?
— Серьезно?
— Ну и повеселятся сегодня наши! Собираются разгонять какое-то сборище эфэсовцев. Когда эфэсовцы войдут в раж и начнут кричать «хайль», наши забросают их кирпичами. Такое дело как раз по мне.
«Выродок, откуда он это знает? Должно быть, ему Паук проболтался! А мне и словечка не сказал. Паук тоже выродок!»
И Суслику снова захотелось вцепиться зубами в деревянную планку.
— Вот бы где я разгулялся! Кирпичами по окнам, здорово? Может, там и стрелять будут? У новых-то пистолеты есть. Говорят, они приехали сюда из Жилины с дружеским визитом. Суслик, ты и вправду не знаешь, что там за дела у Дрини с Шефом? Может, Шефу просто интересно? Мне бы интересно не было.
— Шеф знает, что делает! Тебе-то что? Сам треплешь языком почище Дрини!
— Но-но!
Ремеш попрощался с Дриней. Они подали друг другу руки, и Ремеш еще долго смотрел вслед уходившему человеку в «канадках». Дриня давно уже скрылся в темноте, а Ремешу только теперь пришло в голову, что следовало ответить Дрине. «Бумажные борцы» — трусы, и Дриня трус, он против нападения на Киршнера только потому, что подозрение может пасть на него. Вот в чем дело! И все же Дриня смутил его, поколебал уверенность. Ладно, пора к ребятам.
— Здорово, Шеф!
— Здорово!
Суслик и Лис подошли к Ремешу.
— Здорово, пошли.
И Ремеш повел их по темному городу кривым переулком, мимо трактира Домина. Суслику очень хотелось сказать, что Домин — трус, но подходящего повода не находилось. Шеф упорно молчал, быстро шагая впереди.
Площадь была еще освещена, но совершенно пустынна. Не было там и эфэсовцев. В преддверии ночи жители попрятались за старинные толстые стены.
Простор площади воодушевил Шефа, и он наконец соизволил заговорить. Говорил он горячо, сам с воодушевлением прислушиваясь к своим словам, убежденный, что говорит так же, как Дриня. Суслик и Лис слушали, затаив дыхание, и даже перестали завидовать Пауку, Рыси, Выдре и Коршуну, которым предстояло бить самые обыкновенные окна какими-то паршивыми кирпичами.
— Вот потеха-то! Спятить можно!
— Вот потеха-то! Спятить можно! — повторил Суслик вслед за Лисом, совсем забыв, что мужчине это не пристало.
Шеф жил у речки. Попасть к нему можно было только по узенькому мостику. Суслик остался снаружи, Шеф с Лисом проскользнули в темный дом.
Речка шумела, мостик вздрагивал под яростным напором вешних вод. Дрожь эта передавалась Суслику, охваченному желаниями, которые можно было осуществить лишь в дальних странах, и потому он завидовал воде, что неслась куда-то. В Правно она не остановится, побежит далеко-далеко через чужие страны до самого моря. Увидит крейсеры, пароходы, авианосцы и подводные лодки, увидит иные звезды… Над Правно светят всегда одни и те же! Тощища! Кому охота на них глядеть! Если вода в речке еще поднимется, сваи не выдержат. Затрещит дерево, запляшут бревна, и речка все снесет к черту. Вот когда тут быть! Не везет ему. Сваи, сволочь, не трещат, да и сама речонка тоже дрянь порядочная. Только и может, что трясти мостик, не больше. А Шеф — голова. Здорово он все придумывает! Шеф — парень что надо, такие не стареют.
Вскоре Ремеш и Лис вернулись. На Лисе было темное пальто.
Шеф постоял на мостике и сказал:
— Идите, я немного погодя пойду за вами, потом скроюсь.
— Будь здоров, Шеф.
— Будь здоров, Шеф! Пошли! — самодовольно сказал Лис и зашагал впереди Суслика.
— Покажи! — шепнул Суслик, бегом догоняя Лиса.
— Не могу! «Никому не показывай, даже самому господу богу»! — сказал Шеф. — «Ир зон, ир зон…»[12] Суслик, я на седьмом небе! А ты?
— Я тоже. — И Суслик подумал о дальних странах, куда сейчас несутся вешние воды. Здесь его никто не понимает. И когда на освещенной площади он увидел, как Лис плотнее запахивает на себе темное пальто, не отнимая рук от груди, ему стало еще горше. Встретить бы хоть одного человека, который бы его понял!
— «Ир зон». Знаешь, что это значит?
— Что-то вроде «сын». Это по-немецки.
— «Сын», так оно и есть. «Ир зон». Эти слова мне нельзя забыть.
Суслик молчал. Ему опять не повезло! Он даже не может заглянуть под пальто Лиса. Что там?
По пути они никого не встретили. Пройдя площадь, свернули вправо и попали в новые кварталы Правно, выросшие за последние годы перед войной. Здесь был асфальт, тротуары, росли молодые каштаны, и потому горожане называли улицу «Каштановая». Официальное название — улица Гитлера — не привилось.
— Пришли, — прошептал Лис — Я перелезу через забор. Знаешь, что тебе делать?
— Знаю.
— Ну, тогда пока.
— Пока.
Они взволнованно пожали друг другу руки. Шепот звучал таинственно, таинственной была и ночь. Лис перескочил через забор. Суслик зашагал дальше. Он дошел до последнего дома, за которым уже начинались поля. Здесь повернул и направился обратно по другой стороне улицы. Хотя его ботинки были на резиновой подошве, он старался ступать как можно тише. Кастет был зажат в руке. Громко стучало сердце, перехватывало дыхание.
«Тихо. Долго ли еще тут ждать? Что сейчас делает Лис? Каково ему там? Господи, услышь меня! Не допусти, чтобы жену Киршнера кто-нибудь провожал, сделай так, чтобы она шла одна! Тогда и я увижу Лиса. Господи, тебе ведь это ничего не стоит…»
В смятении Суслик начал молиться, он просил, нахально приставал к богу, уверенный, что все теперь зависит от его воли.
Суслик ждал долго и, чем дольше он ждал, тем больше терзался сомнениями. Он был бессилен перед ними и машинально ковырял кастетом кору молодого каштана. Внезапно раздались шаги. Тук-тук… Женские шаги. Немецкая речь. Суслик выругался про себя. «Не одна, ее провожает какая-то старая ведьма. А вдруг это вовсе не жена Киршнера? Вот было бы шикарно!»
Женщины шли вдоль забора. Остановились у калитки.
«Она!»
У Суслика замерло сердце.
Женщины говорили по-немецки. Он ничего не понял. Вторая наконец ушла.
«Слава тебе, господи!»
Звякнули ключи. Суслик затаил дыхание. Ключ нашаривает замочную скважину. Резкие металлические звуки. Они вонзаются в Суслика раскаленными иголками. Он осторожно делает шаг. Калитка открывается. Опять резкие металлические звуки. Суслик делает второй шаг. Тук-тук-тук! Суслик уже стоит перед калиткой. У него ноет все нутро. «Господи боже, почему дорожка такая длинная? Лис! Шеф! Ночь! Калитка! Все восхитительно, таинственно! Где-то поют».
— Ир зон!
И тут Суслик увидел скелет. Он светился в кромешной тьме призрачным зеленоватым светом. Суслик оцепенел. Скелет светился, не отбрасывая лучей. Суслик застонал.
И тут раздался вопль. Протяжный, сразу оборвавшийся вопль. Что-то упало. Скелет все еще светится. И вдруг зеленые кости исчезли. Кругом тьма. Кругом ночь.
На улице раздается крик. Кто-то бежит по асфальтовой мостовой, кто-то бежит по цементной дорожке к калитке.
— Суслик!
— Лис!
Лис перелетает через железную сетку ограды на тротуар и просит тихим голосом:
— Подожди, подожди меня…
Суслик держится за калитку. Он не в силах ответить Лису.
— Она жива? — наконец тихо спрашивает он.
Суслика бьет дрожь. Он дрожит, как свая под напором буйных вешних вод.
МОЛЧУНЫ
Виктор Шамай был из молчунов. Справный хозяин в родной деревне и отец двух детей, он стал ездовым второй батареи. Служил под началом фельдфебеля Чилины. Во второй батарее было много молчунов, пожалуй, добрая половина, и все родом из Восточной Словакии. Они безропотно подчинялись приказам, делали все, что положено, но упорно молчали, так что батарея походила больше на тайное общество, чем на воинскую часть, которая шла на фронт с четырьмя орудиями, оптическими приборами, цветными флажками и километрами черного кабеля, и, по мнению командира полка и командира батареи, ей предстояло героически отличиться на поле брани.
Виктор Шамай вез трех убитых.
— Виктор, возьмешь с собой убитых! — приказал Чилина.
— Пускай их в мою повозку погрузят, — ответил Виктор. Хотя ему и хотелось спросить: «Почему я?» — он предпочел сказать: — Пускай их в мою повозку погрузят.
Ведь Чилина был фельдфебель.
Шамай не дотронулся до трупов. Он провел ладонью по плащ-палатке и нащупал с одной стороны головы, с другой — ноги.
«Хорошо еще, что они лежат ко мне ногами, — сам не зная почему, подумал он удовлетворенно. — Это хорошо. — Он хлестнул коней. — Будто у себя дома, в своем хозяйстве. Ей-ей!»
Батарея выступила из разбитой деревни в открытое поле. Вокруг все было еще замерзшее, обледенелое, но Шамай знал, что здесь плодородная, черная земля, и старался уверить себя, что он дома и едет на своей телеге в город. Он посмотрел на звезды, они мерцали так же, как дома. И небо такое же темно-синее, и темнота такая же. Уршула и Урна тащили повозку. Это были першероны, и им дали человеческие имена. Дома лошади, хоть и без имени, тоже хорошо работали, у них были такие же широкие, округлые крупы. Когда батарея придет на огневую позицию, он напишет жене, пошлет поклоны детям, деду и знакомым. «Почему «огневая» и почему «позиция»? Там стоят и ведут огонь». Неуклюже и медлительно работала мысль, останавливаясь на всем, что он видел вокруг, что испытывал, поэтому он и молчал сейчас, твердя про себя: «Дорогой муженек, тысячу раз кланяюсь тебе, и береги себя, и да сохранит тебя господь бог от всякого зла и спасет, а я буду на тебя радоваться, и дети будут радоваться. В это воскресенье были мы в церкви, и я заказала мессу, молилась, чтобы ты вернулся к нам цел и невредим, а отец капеллан — теперь у нас новый — сказали, что это мало чему поможет. Но мессу отслужили. Хочу надеяться на лучшее. Я было захворала и пролежала три дня…» Дальше Шамай не выучил, не захотелось. Не такое уж хорошее было письмо. Все о болезнях. «А я отпишу ей, что мы на фронте. Нет, не стану писать. Перепугается еще. Много ль бабе надо — враз испугается. Если напишу, что теперь мы идем на фронт и впереди зарево видно, что это самый фронт и есть, она до того перепугается, что все денежки на мессы просадит. Нет, лучше уж так: дескать, живу хорошо, скоро нас отпустят домой. А еще кланяюсь тебе, и деду, и всем нашим соседям, и всем нашим сродственникам, и, как положено, приготовься к моему приезду, потому как я, сама увидишь, вернусь, но пособие пока себе через нотара[13] выхлопочи, а на мессы больше тратиться не смей, стоят они дорого, а денежки нужны в дому, как соль. Я уже скопил двести сорок военных марок. Привезу деньги домой, потом обменяем их на наши кроны. Это мое жалованье, а покупать мне здесь нечего, и табак выдают, одевают и обувают, а троих у нас уже убило… Нет, нельзя об этом писать. Мы все живы и здоровы. Напишу, что одного у нас ранило, вот и все. Он поправится, ногу ему только повредило, и все завидуют, потому как в армию он не вернется, а которые говорят, что и пенсию еще получит. Вот видишь… Это здорово — чистые денежки в дом каждый месяц…»
Словно неуклюжие ночные птицы, со свистом и грохотом пронеслись над батареей снаряды и разорвались в разбитой деревне. Полоска света впереди сузилась, рассыпавшись мелкими блестками. Треск пулеметов приблизился.
Батарея вошла в лес.
В деревьях тихо гудели отзвуки боя, шедшего где-то впереди.
Батарея остановилась, по цепочке передали: «Привал десять минут. Курить осторожно. Мест не покидать». Приказ дошел до последнего солдата, дальше передавать было некому, но он должен был все это громко повторить. Команда доставила удовольствие, и потому ее произносили ясно, слушали внимательно каждое слово. Солдаты уже и так закурили. Поручик Кляко отстал от батареи и с удовольствием затягивался. Солдаты забирались в повозки, зажигали сигареты под брезентом, за щитами орудий или прячась за деревьями.
Надпоручика Гайнича, прежде чем отдать команду, долго мучило раздумье. Они везли с собой убитых. Может, поторопился он, приказав взять их с собой? Он хотел похоронить их на передовой, на своем, словацком кладбище. Только бы не среди немцев! Нет, нет. Он и сейчас был против этого. «А если на передовой? Это выглядит красиво, патриотично и, пожалуй, даже оригинально, но как отнесутся к этому солдаты? Солдаты будут смотреть на могилы, и могил будет все больше, а живых все меньше. Свое самостоятельное словацкое кладбище будет расти. Командир полка весьма прозрачно намекнул, что личный состав батареи пополняться не будет. Не лучше ли вернуть повозку с убитыми в разбитую деревню, послать с ними нескольких солдат и достойно похоронить погибших? Но непременно где-нибудь отдельно, в деревне, где их убили, а не с немцами. Это единственный населенный пункт в окрестностях. Можно послать туда поручика Кляко, тогда на душе у меня будет спокойно. Но я уже позаботился о месте для этой канальи. Он отправится прямо на наблюдательный пункт. Христосик не в счет. У Чилины и без того будет хлопот полон рот, у каптенармуса — тоже. И из унтеров никого нельзя послать: они заодно с солдатами, а сейчас самое время дезертировать…» Потом Гайничу захотелось покурить. Он остановил коня и скомандовал Кристеку:
— Привал десять минут. Курить осторожно. Своих мест не покидать. — По мере передачи команды то там, то здесь начали вспыхивать огоньки, — Осторожнее! Что еще за фейерверк?
Огоньки исчезли.
— Где повозка с телефонами?
— С теми, пан надпоручик?
— С теми, — повторил он, и у него мелькнула мысль, что живые избегают говорить об убитых.
— Где-то сзади.
— Их Шамай везет. Они на телеге у Шамая.
— У ездового Шамая, вы хотите сказать? И когда я только отучу вас от этих мужицких выражений! «На телеге у Шамая». Как в армии говорят, эй, ты, вояка? — Надпоручик тронул стеком ближайшую каску.
— Это телефонная повозка и еще с приборами, пан надпоручик.
— Болван! Кто знает, о чем я спрашиваю?
— На повозке ездового Шамая.
— Правильно, на повозке ездового Шамая. Курите осторожней!
Он стегнул коня и ускакал.
— Ездовой Шамай!
— Здесь!
— Ты не куришь?
— Только что бросил, пан надпоручик. — Шамай предпочел бы за свои слова врезать себе самому. Но сказанного не воротишь.
— И в самом деле, с какой стати тебе курить, если я разрешаю. Значит, всю дорогу куришь. — И надпоручик закричал: — Не хватает, чтобы я еще за ездовым смотрел! Фельдфебель Чилина!
— Здесь, пан надпоручик! — отозвался Чилина, сопровождавший Гайнича как тень, ожидая очередного разноса.
— Следите за тем, чтобы солдаты дорогой не курили. За это отвечаете вы лично. О нарушении приказа немедленно докладывать!
— Слушаю, пан надпоручик! Солдатам в пути не курить и о каждом негодяе немедленно докладывать.
— Правильно.
— Рядовой Шамай! А не могли бы вы спуститься с повозки, когда с вами говорит командир? Может, вам помочь? — заорал фельдфебель.
— Потише, потише, фельдфебель. Ездовой Шамай, как вы себя чувствуете? — Надпоручик с досадой заметил, что говорит солдату «вы».
— Я?
— Да, вы.
Тут была какая-то ловушка, и Виктор Шамай старался разгадать, в чем дело, мозг его заработал быстрее, чем обычно. Командир хочет обойти его и напасть с тыла. Так в армии его еще никто не спрашивал. «Скорей, скорей, надо взять что-нибудь в руки. Кнут я забыл в повозке. Сигарету!» — И Шамай сунул руку в карман, достал сигарету и тут же, сообразив, что оставил в повозке спички, переспросил:
— А что, пан надпоручик?
— Вы везете такой груз… Тугодум вы, право. — Гайнич засмеялся.
— Этих троих? Ну, везу! Пан фельдфебель приказали мне везти, вот и везу. Я, так я…
— Вы не боитесь?
— Боюсь, не боюсь, а что толку?
— Вам не хочется вернуться в ту деревню, где мы стояли? Мы бы и похоронили их там на немецком кладбище.
— Зачем? У немцев свои убитые, у нас — свои. Я не стал бы хоронить наших с немцами, не след обижать этих ребят, не надо. Некрасиво это будет.
— Хотите закурить?
— Охотно, пан надпоручик. — И Шамай взял сигарету у Гайнича, а тот даже протянул ему зажженную спичку.
— Нравится?
— Еще как, господи прости!
Завязался разговор, словно между хорошими знакомыми. К повозке Шамая подошли солдаты, все они открыто курили.
Над батареей со свистом пронеслись снаряды. Все притихли.
— В лепешку!
— Поручик Кляко!
— Есть, пан надпоручик!
— Явитесь ко мне, нам надо поговорить. Отправляемся дальше.
Гайнич повернул коня и ускакал к голове колонны.
— Батарея, за мной! Кончай перекур!
На земле заискрились огоньки.
— Гасите сигареты, эй, вы! Не слыхали, что ли? Помочь, может, прикажете? — крикнул фельдфебель и, когда батарея двинулась вперед, погрузился в суровое молчание, думая о своем.
Повозка ездового Шамая со средствами связи, оптическими приборами и тремя убитыми солдатами тоже покатилась. Она тихо, успокаивающе поскрипывала. Першероны Уршула и Урна были надежные молодые лошади и шли как заведенные. Их и погонять не приходилось. Они сами тронулись с места, почуяв, что повозка впереди двинулась, натянули постромки, на губах показалась белая пена.
Когда-то, еще в казармах, Шамай гордился своими лошадьми. Он любил их, как своих собственных. Знакомый повар из офицерской столовой всегда давал Шамаю несколько кусков сахару для Уршулы и Урны. Угостив лошадей сахаром, Шамай заводил с ними разговор, а они его слушали. Иногда ему казалось, что они и вправду понимают его слова. Тогда он с увлечением рассказывал им, что такие же лошади у него дома и что они скучают без хозяина. За ними жена ходит, иной раз и дед помогает, но этого мало, ему самому нужно жить дома, и все тогда шло бы как надо. Першероны знали о семействе Шамая все, знали, когда в последний раз Шамайка писала и что в письмах написано. Была тогда и у Шамая великая мечта. До мельчайших подробностей обдумал он свой последний день в казармах, Четверть кило сахара Уршуле, четверть кило — Урне, Он купит сахар на собственные деньги и даже знает, в какой лавке. Потом передаст лошадей своему преемнику. Обдумал он и то, что скажет о них. Накануне он приведет их в полный порядок, вычистит хорошенько, чтобы они блестели, как два солнышка. Лошади должны надолго запомнить его. Вот какая была у Шамая великая мечта, но все так и осталось мечтой. Это было давно, он уже и забывать ее начал. Сейчас-то он ходил за лошадьми только по обязанности. Какой теперь в этом прок? Эх, право, и думать не стоит, все пошло кувырком! И жизнь настоящая осталась позади — далеко, где Татры, где жена с детьми. Уршула и Урна — при мне, но все равно жизнь-то теперь другая. И эта другая жизнь здесь, рядом, так и сыплет шипящими брызгами. А потому лучше помалкивать, помалкивать — единственное средство выбраться отсюда. Я жизнь свою дома всегда помню, и то, что насчет коней думалось, не забуду. И жену, и детей, и деда — за то, что помогает в хозяйстве, — тоже никогда не забуду. Жена слабая, где ей справиться! Были бы дети постарше, еще так-сяк. Старший в школу только через три года пойдет. Я и забыл, какой он. А младшего вовсе не видел. Господи Иисусе! Неужто и так бывает? И есть ли бог? Тот, бородатый старик, отец небесный…»
Мысли Шамая перебил Гайнич, и молчуну захотелось поговорить по душам с человеком, ничего не тая.
«Рядовой Шамай, вы не боитесь?» — «А что толку, пан надпоручик? Здесь нужно всего бояться и ничего не бояться. И ни то, ни другое не поможет. Эти трое в моей повозке, может, боялись, может, нет, разве помогло им это? Убило их, я их везу, а они о том и не знают. Чего ж тут бояться? Помирать такой смертью никому неохота. Но я-то решусь жизни от чего-нибудь другого, пан надпоручик. Может, вы скажете, что кому-нибудь здесь нужно быть. Правильно. Только не пойму я, почему непременно мне надо быть здесь, при этой батарее? Вы меня понимаете?» — «Нет, не понимаю, ездовой Шамай. Вы сами сказали, что кому-нибудь здесь нужно быть». — «Нужно! Но почему непременно мне?» — «Я тебя не понимаю, ездовой Шамай!» — «Да ведь и я не понимаю, пан надпоручик. Понял бы раньше, сидел бы не здесь, а где-нибудь еще, не на вашей дерьмовой батарее. Жил бы да поживал дома, при жене, но вы этого не поймете, вы человек холостой». — «Ну, в женщинах-то я разбираюсь, ездовой Шамай!» — «Экий вы кобель, пан надпоручик. У меня и в мыслях такого не было. Я другое хотел сказать. Уж не думаете ли вы, что я насчет там всяких огневых позиций да пушек ваших поганых себе голову ломаю? Черта с два! Я волосок из хвоста моей лошади не променяю на всю вашу батарею. Волосок лошади, той самой, что пашет землю, возит сено и снопы, а зимой — лес с гор. Об Уршуле и Урне я не говорю, не буду на них тратиться, не получат они от меня на прощанье рафинаду. Ничего я им не куплю, так и знайте! Зря я с вами разговариваю, нам друг друга никогда не понять. Вот мы и двинулись вперед. Мол, батарея за мной, кончай перекур… А куда двинулись? Темно ведь впереди. Темнота. Ночь. А еще дальше — зарево. Ладно, пан надпоручик, так и быть, поеду. Ничего другого мне не остается. Не поеду — угожу под трибунал. А оттуда живым не выйдешь, там приставлен палач-офицер, командир карательной роты со своими холуями. Мы-то уж знаем, стреляные воробьи. Вот я и еду, потому что хочу уцелеть, и как-нибудь выкручусь, цел буду. Когда б я не верил, проще было бы предстать перед полевым судом. Прокурор в очках! Зачем военному прокурору очки? Ну, стало быть, прокурор в очках, пустые речи, не оберешься речей, а потом — бабах, и готово! Ты покойник! Лучше уж я поеду, пан надпоручик, за вами, вот в эту самую темень, как бы там ни было. Но для меня ты как есть свинья, так свиньей и останешься! Значит, все решено. Уршула с Урной сами идут, их подгонять не надо. И что это за лошади! А я еще собирался купить им полкило сахару! Почему солдат вперед идет — ясно, на то и полевой суд! Но вот лошади… Не пойму я их! Герои они, вот что! Как две капли на тебя, пан надпоручик, похожи. А из меня героя не выйдет. Мне это ни к чему. Моей жене герой не нужен и земля моя не нужна. Я ей нужен, я, такой, как есть. Мы живем с ней ладно. Для нашей любви только немножко дождичка нужно. Когда дождичка, а когда и солнышка. А здесь? Отвечай мне, ты, свинья! Что мне здесь нужно? Молчать и молчать. Слушаться и шагать в ногу. Что на этот счет говорит поручик Кляко? Он-то здесь во всем разбирается. У него свое мнение, он может себе это позволить. Да что там говорить, он мне по душе, и что «собаку» на себя взял — это он хорошо сделал, это ему зачтется. Он-то, конечно, может себе это позволить, он офицер. А ты, надпоручик, командир, тоже офицер, но ничуть не лучше этих лошадей. Вперед, вперед! В наступление! В наступление! За бога, за народ! Вот и весь ты, и одной сигареткой ты меня не купишь. Кляко — тот человек. Пан поручик Кляко — человек, что ни говори. Приказал дать рому раненому. Понимает, что к чему. Все бегали, крик подняли, словно головы потеряли, а он пришел, осмотрелся и сразу понял, что надо делать. Сто граммов рому под свою ответственность! Каптеру досталось — и поделом! — потому что и он свинья, как и всякий каптер. Вот Кляко — человек. Что он-то обо всем думает? Хорошо бы спросить его. У любого сразу бы ума прибавилось и легче было бы понять эту неразбериху. Мы все идем и идем, и все лесом. Так оно, конечно, лучше, чем в открытом поле. Мне все чудилось, что там я у всех на виду и все в меня целятся. И после этого начинаешь бояться попусту. Да еще вдобавок груз у меня какой! Понятное дело, мертвецов возить не стоило. Мертвец — он и есть мертвец. Но что поделаешь! С немцами их хоронить никак нельзя. Расхлебывать же ездовому Шамаю, а не кому другому. Но могилы я копать не стану. Свое дело я сделал… И куда же мы идем к чертовой матери? Где эта самая передовая? Ведь скоро и светать начнет».
Шамая пробрала дрожь. Утро его страшило, да и озяб он.
Впереди послышались какие-то крики, потом ясно донеслось:
— Батарея, налево! Батарея, налево!
Кто-то проскакал на коне, крикнув:
— Подходим к передовой! Не отставать!
Шамай узнал Христосика, тот каркал, словно птица спросонья.
Повозка с убитыми подкатила к развилке.
«Эта дорога ведет на передовую», — подумал Шамай и долго смотрел в тесную просеку, прорубленную в лесу. Впереди что-то случилось, отрывистые команды мешались с суматошными выкриками. Повозка Шамая то останавливалась, то продвигалась вперед на метр-два. Шамай залез в повозку, закурил под брезентом, задевая каской за сапоги убитого. «Завтра вонять, поди, будут», — подумалось ему. Рядом с повозкой кто-то сказал, что уже три часа, что пришли вовремя и все идет как по маслу. Шамай сидел под брезентом, не шелохнувшись. Говорить мог и Кляко.
Наконец все тронулись, теперь уже без остановок. Приехали на дно какой-то лощины, где их встретил бас маленького фельдфебеля Чилины:
— Распрягай лошадей, голубчики разэдакие, и все за мной. Да поживей, как по тревоге. Тут война настоящая, шутки с ней плохи, ребята.
Слушать его было приятно. В его словах не было злорадства, и солдаты быстро и ловко распрягали лошадей.
— Распряжем, почему не распрячь, пан фельдфебель. А можно мне по большой нужде сбегать? Разве наперед рассчитаешь, когда понадобится!
— Где ты раньше был? Дам тебе под зад, если через минуту не управишься. Может, помочь прикажешь?
— Нет, не надо.
— Ну, то-то!
Солдаты перекидывались шутками, и у всех стало веселей на душе. И у фельдфебеля и у молчунов.
Потом Чилина отвел всех в чащу. Там они привязали лошадей, задали им корму, и Шамай подумал, что теперь не грех бы и отдохнуть.
— Теперь, ребята, сгружай боеприпасы! Да аккуратненько с этими чертовыми куклами! Подорветесь еще. Придется тогда новых хоронить.
Три повозки выгрузили, и Шамай хотел было спросить, что делать с убитыми, но в суматохе забыл.
— Батарея, стройся! Батарея, стройся! — кричал солдатам Христосик, а когда все собрались, сообщил: — Сейчас выступит командир.
— Что такое?
— Речь скажет.
— Это еще зачем? Спать охота.
— Смирно!
— Солдаты! — обратился к строю надпоручик. Он забрался, как видно, повыше; голос его доносился откуда-то сверху.
— Никак на дерево залез?
— А бук здесь растет?
— А черт его знает.
— Наша вторая батарея…
— Молчи! Да не топчись, ноги мне отдавил!
— …наша вторая батарея прибыла в расположение передовых частей, к тому самому пункту, о котором договорилось наше командование с немецким. Мы сейчас находимся как раз там. — Гайнич помолчал, затем повысил голос и сердито продолжал: — Отсюда мы никуда не отойдем, у нас один путь — только вперед! Рука об руку с немецкими друзьями мы одержим победу над большевизмом! Положение резко изменилось! Теперь я требую строжайшей дисциплины, неукоснительного повиновения и точного выполнения всех приказов. — Минута была столь торжественной, что у надпоручика даже голос дрогнул. — С теми, кто не подчинится, разговор будет короткий. Немедленно в трибунал. Тому, кто не знает, что такое полевой суд, я разъясню лично.
— Бабах — и готово!
— Тихо там! Кто это сказал?
Послышался чей-то робкий одинокий смешок.
— Тут все время кто-то испытывает мое терпение, но я эту сволочь найду, он у меня узнает, где раки зимуют! Командиром огневой позиции назначаю поручика Кристека. На наблюдательный пункт отправится поручик Кляко. — Солдаты замерли: решались судьбы людей. — Да, да, все мы люди, и я ценю то, что вы совершили трехмесячный пеший переход. Это геройство. Я доволен вами, исключая нескольких сволочей, которые стараются внести беспорядок в наши ряды. Этими сволочами я еще займусь. Но в общем я вами доволен и потому приказываю каптенармусу выдать каждому солдату по пол-литра рому. Начинайте раздачу, каптенармус! Отбывающие на наблюдательный пункт получают ром в первую очередь.
Шамай хотел спросить про убитых, но тут поднялся такой гам, что все вылетело из головы молчуна.
— Шнапс, ребята!
— Ура, ром!
— Стройся!
Солдаты с котелками моментально выстроились в очередь. Мало у кого нашлись фляги. Их порастеряли дорогой. У Шамая фляжки тоже не было. Он медленно продвигался вперед и время от времени перекидывался словом-другим с солдатом, стоявшим перед ним.
— Не скоро дело движется!
А сосед всякий раз отвечал:
— Матерь божья, ох, и напьюсь я сегодня! Вот увидишь, как напьюсь.
Он тоже был из молчунов, женатый, но пока бездетный человек.
Когда каптенармус произносил: «Следующий!» — солдаты продвигались на шаг вперед. Каптенармус с казначеем и их ездовой, которых батарея дружно ненавидела за то, что они обворовывали солдат, соорудили из ящиков что-то вроде прилавка.
— Матерь божья, ты увидишь, как я напьюсь, — сказал молчун в последний раз и подставил котелок. Шамай услыхал, как солдат шепчет:
— Пан каптер! Дайте еще пол-литра. Заплачу пятьдесят марок. Пол-литра за пятьдесят марок!
Каптенармус зачерпнул следующие пол-литра и рявкнул:
— Катись, катись подальше! Следующий!
— Сто марок!
— Убирайся к чертовой матери! Следующий!
— Пан каптер… Сто…
— Пшел прочь, к дьяволу… Нахальная рожа.
— Тоже мне вояка, падло этакое! — зашипел молчун и побрел в темноту.
— Что ты сказал? Что ты сказал!
Каптенармус вскочил. Звякнуло что-то металлическое. Должно быть, опрокинул котелок.
— Не подходите ко мне, ром мой прольете, — чуть не плача, умолял молчун, но когда заметил возле себя каптенармуса, взревел: — Приколю штыком, как свинью! — И вдруг тоскливо взвыл, словно зверь: — Убью, убью!
Никто даже не улыбнулся — молчуны зря такого не скажут.
— Погоди, нахальная рожа, мы еще посчитаемся!
Налили и Шамаю. Куда же ему деваться? Каждый, конечно, возвращается домой. Где же лучше? И Шамай отправился к трем мертвецам. Он понюхал котелок. И вправду ром! Стало весело на душе, ноздри раздулись, как у загнанного животного. Он поднес было котелок к губам. «Нет, лучше досчитаю до десяти!.. Десять! А потом еще раз десять!» Но едва Шамай дошел до восьми, котелок поднялся сам собой, и Шамай жадно припал к нему. Теперь закурить. Он забрался в повозку и поставил котелок на полотнище палатки, куда-то в середку, прямо на живот покойника. Потом протянул руку за спину и, нащупав ноги убитых, усмехнулся. Взяв в руки котелок, он засмеялся: теперь мертвецы больше не пугали Шамая.
— Матерь божья, ну и натерпелся я страха, — бормотал молчун где-то рядом с повозкой, внизу, у ног Шамая. — Сроду так не пугался. Попробовал бы он у меня вылить ром, я бы… штыком его… штыком, как свинью. Матерь божья, ох, и наберусь же я сегодня!
И молчун затих.
Шамай посмеивался, прислушиваясь к знакомым добродушным словам, но молчуна не окликнул.
— Матерь божья, и капли не осталось! Да как это можно? — Что-то лязгнуло. Должно быть, молчун отшвырнул котелок. — Ребята, опомнитесь! Продайте хоть капельку рома! Даю сто марок за пол-литра. У каптера разума ни на грош, будьте хоть вы чуточку поумнее! Побойтесь бога! Я хочу вдрызг напиться! Христиане! Шли бы вы подальше… не христиане вы, нет! Вы язычники, безбожники, как наш каптер. — Голос молчуна затерялся где-то между повозками в лесу, потом снова возник, загремел с необычайной силой: — Сто двадцать марок, дурья твоя башка! Возьми их с собой в могилу! Подавись немецкими бумажками!
Вслед за тем раздался чей-то веселый смех:
— Хи-хи!
Шамай развеселился. Улыбаясь, он заглядывал в котелок, — хотелось узнать, сколько там еще остается. Но было темно. Тогда он опустил палец и стал им помешивать ром. «Кашку варила, варила…» — напевал он и никак не мог вспомнить, какие слова дальше. И песенка ли это или просто стишок? Кто-то, отчаянно бранясь, прошел мимо повозки с убитыми. Шамай испугался, подумав, что это молчун, который хочет купить у него ром. Он поднес котелок к губам, собираясь вылить в рот остатки. Шаги стихли, а Шамаю вдруг стало плохо. В желудке что-то поднялось. Ко лбу, потом к щекам будто приложили ледяную ладонь.
«Сейчас меня вывернет», — подумал он, сожалея о выпитом и невыпитом роме. Он преодолел тошноту, залпом проглотил остатки рома и ему показалось, что все его нутро запылало. Он хотел было закричать: «Горю, братцы! Пропал!» — но тут тошнота прошла и Шамай начал смеяться до слез. Он встал на дышло, подняв котелок над головой. «В какую лошадь бросить? В Уршулу? В Урну? Жаль, что нет второго котелка. В Уршулу!» Но котелок полетел куда-то в сторону, не попав в широкий лошадиный круп. Шамай удивился. Спрыгнул на землю. Он держался за дышло левой рукой, а правой шарил вокруг себя. «Где лошади? Украли лошадей! Братцы, лошадей увели! Мои лошади!» Перебирая руками, Шамай добрался до конца дышла. Он уперся, хотел оттащить повозку, что-то подсказывало ему, что тут опасно и нельзя оставаться на этом месте, а если останешься, то помрешь, как те трое. «Лошадей у меня украли! Теперь я сам должен тащить повозку, да не могу. Там у меня трое убитых. Тяжелые они. Воры, воры!» Потом что-то шепнуло ему, что тут вполне безопасно и повозка может остаться на своем месте. Он побрел дальше и в темноте наткнулся на котелок. «Ром! Хороший ром выдают! Но что такое пол-литра? Если бы каптер не воровал, всем хватило бы по целому литру…»
— Сто двадцать марок за пол-литра рому! Разве это справедливо? Матерь божья, дай мне ответ! — Молчун шумно втянул ром, подержал его во рту и, потом с отвращением выплевывая его сквозь зубы, кричал, как помешанный: — Что за радость в нашей геройской батарее! Я вами доволен, доволен — должен признаться, умею оценить. Только каптер — дерьмо! Кто тут лежит?
Молчун споткнулся — на земле лежал солдат. Молчун опустился на колени, поставил котелок на землю, ощупал лежащего.
— Лежит тут кто-то. — Вспыхнула спичка, мелькнул огонек. — Шамай. Ездовой Шамай здесь лежит, развалился будто герой. Труп! Вот так: кто возит мертвецов, сам помрет. А как это? Кто поднял меч, тот… Как дальше-то?
— …от меча и погибнет, — со смехом ответили ему из темноты.
— Вот так! Божья воля свершилась!
— Свершилась воля божья!
— Слова ты, невежда, переставил! — И молчун ощутил над собой горячее дыхание склонившегося над ним человека.
— Не свались на меня! Где бог? Подай мне его, я его угощу ромом! У меня еще осталось. Сто двадцать марок за пол-литра — это несправедливо. Но для бога у меня чуточку найдется, и после я спрошу его: господи, был ты солдатом? Знаешь ли ты что-нибудь о нашей геройской батарее или ничего не знаешь? И ведешь ли ты нам счет? Где у тебя ром?
— На, лакай, птичка-невеличка. Ты чего-то там говоришь, а что говоришь — не пойму. Подымайся, Шамай. Эй, птичка-невеличка, скажи же мне что-нибудь. Дрыхнешь, нализался.
— Мировой ром. Выпей. — Неизвестный протянул котелок. Котелок выскользнул из рук, ром пролился на спину молчуну, свалившемуся на Шамая.
— Сыграй, цыган… ихи-хи…
Незнакомец встал, и его шатнуло, он ткнулся лбом в повозку, вскрикнул. Что-то упало, но в ночной темноте ничего не было видно.
Полоса светового заграждения была совсем близко…
Она рассыпалась звездами, и они шипели…
ПАСМУРНОЕ УТРО
Если насчет солдат у надпоручика Гайнича и были какие-то иллюзии, то в это пасмурное утро они рассеялись. Еще вчера, когда он запросто беседовал с солдатами, ему казалось, что быть командиром батареи на переднем крае не так уж трудно. Нужно лишь уметь обращаться с подчиненными. Командиру перед боем не следует замечать мелкие неполадки и неловкие проявления солдатской удали.
Но сейчас он понимал, что, выдав солдатам ром, допустил непростительную ошибку.
«Теперь это ясно любому новобранцу, даже штабному писаришке. Батарея пьяным-пьяна, солдаты валяются в повозках, как бревна. Шестеро спят прямо на снегу, в грязи. В конце концов я мог и сам сообразить, что после такого длительного перехода, однообразного питания они обессилели и не могли перенести столько алкоголя. А как надо было поступить? Моим начальникам легко рассуждать: «Следи за дисциплиной!», «Держи солдат в ежовых рукавицах!». Мы не в казармах, господа! И я хочу и вы хотите, чтобы солдаты сражались и умирали, ибо война есть война, но чем можно их воодушевить? Красивыми словами? «Патриотизм», «геройские подвиги», «защита христианства и цивилизации от большевизма»? Да солдаты открыто смеются над такими словами. И не понимают, зачем они здесь. И этого им никто в мире не объяснит. Все они, не таясь, клянут войну, зная, что хуже, чем сейчас, им не будет. Офицеров они ненавидят. Весьма и весьма неприятно. Меня все время не покидает ощущение, будто я среди чужих, в стане врагов. Я знаю, что солдаты прохаживаются и на мой счет, решили, что войну затеяли офицеры. А я угрожаю им военно-полевым судом — его они еще, по-моему, побаиваются. Но я не в силах придумать ничего лучшего. Сегодня ночью мне пришло в голову выдать им ром, и тут, извольте радоваться, такое безобразие! Один солдат чуть не проткнул штыком каптенармуса. А теперь все лежат мертвецки пьяные. Им все равно, все нипочем, и я опасаюсь, что дальше дело пойдет еще хуже. А что будет, когда батарея вступит в бой, когда начнутся потери? Черт побери, надо же похоронить тех убитых! Да, да, но как поведут себя солдаты? Господа, вы там наверху ничего знать не хотите, думаете, что все здесь проще простого. «Дисциплина! Держать в ежовых рукавицах!» Легко рассуждать об этом, сидя за столом!»
Испарина выступила на лбу надпоручика. Он вел этот разговор сам с собой в полной растерянности, его трясло, словно в лихорадке. Он оправдывался перед своей командирской совестью и перед невидимым, но важным полковым начальством.
Забрезжило утро.
Окружающее все зримее выступало из уходящего мрака, цеплявшегося только за ветки густого кустарника. Среди деревьев и повозок, у орудий поблескивали разбросанные котелки и белели лица шестерых спящих солдат. Они лежали, как мертвые, и чем отчетливее видел их надпоручик, тем больше вскипал в нем бессильный гнев. Сам он даже не притронулся к рому, лег и тут же безмятежно уснул, в надежде, что все пойдет, как положено.
Вторая ошибка! Но ведь он устал. Только что его разбудил часовой, которого никто не пришел сменить, и рассказал о каптенармусе и обо всем, что тут творилось ночью. Есть еще, оказывается, люди в их части, на которых можно положиться! Но чем дальше Гайнич смотрел на спящих солдат, тем сильнее было ощущение, что он скоро останется здесь в одиночестве. Эта мысль пугала, и, чтобы защититься от нее, Гайнич рявкнул во все горло:
— Поручик Кристек, ко мне!
Заспанный Христосик явился. Он был без пояса, в расстегнутом мундире, растрепанный, но стоял, вытянувшись в струнку, руки по швам.
— Дружище, вы трезвы?
— Я вообще не пью, пан надпоручик.
— Совсем?
— Совсем, пан надпоручик.
— Что вы заладили — надпоручик да надпоручик! — Христосик вдруг предстал перед Гайничем в другом свете, он показался вдруг ему каким-то совсем непонятным. Трезвенников Гайнич презирал. — Почему же? Уж не подцепили ли вы какой-нибудь пакости?..
Кристек выдержал его взгляд и ничего не ответил.
— Простите! — спохватился Гайнич и улыбнулся: — Офицер на фронте — и трезвенник! Простите, но такого я еще не видел. — Он пытался шуткой сгладить возникшую неловкость. Обоим стало не по себе, и это мешало надпоручику сухо отдать распоряжение Кристеку. — Поручик, посмотрите вокруг себя и скажите, что вы видите?
— Спящих солдат.
— Спящих? И не кажется вам, что они какие-то странные? А то, что они еще и облевались, этого вы не видите?
— Да, вижу. Извините.
— Так, так. Батарея перепилась, и мы можем радоваться, если здесь найдется хоть десяток трезвых солдат. Приведите ко мне всех трезвых. Да побыстрее, потому что может нагрянуть инспекция и тогда дело плохо. — Гайнич подумал и сказал со вздохом: — Бывало ли такое в истории войн? И почему это случилось именно у меня? Можете ответить мне на этот вопрос?
— Извините, не могу.
— Ступайте!
— Слушаюсь.
Поручик козырнул и отправился приводить себя в порядок. Вскоре он уже в каске вышел из-за повозки. Только теперь Гайнич заметил, какая маленькая голова у Кристека.
— Батарея, подъем! Батарея, подъем! — заверещал поручик.
Несколько солдат в повозках приподняли голову. Наконец удалось разбудить десятка полтора.
— К пану надпоручику! — приказал Кристек.
— Вы не пьяны? — допытывался командир, подозрительно оглядывая каждого.
— Нет.
— Ваше счастье. Смотрите, ребята. Сейчас половина седьмого. В полдень батарея начнет пристрелку, а эти свиньи перепились. Даю десять минут. Разбудить всех солдат и поставить на ноги. Выполняйте!
Кто-то из солдат хихикнул. И все весело разбежались. Как пожар разнеслись по лесу крики, брань и смех. Из чащи выбрались фельдфебель Чилина и каптенармус. Чилина прихватил плетку и безжалостно стегал спящих.
— Встанешь ты, антихрист? Помочь, может, прикажешь? — А когда солдат просыпался, фельдфебель хохотал ему в лицо: — Что глядишь, пьяная рожа? Вставай, не то еще разок вытяну!
Фельдфебель мог себе позволить такое обращение. Он знал, что от него люди это стерпят. Впрочем, сегодня солдаты стерпели бы это от кого угодно, даже от надпоручика, а уж его они ненавидели пуще всех. С похмелья они не сразу могли понять, что происходит и где они находятся.
Тем временем надпоручик с упоением наблюдал за действиями подчиненных, выполнявших его приказ.
— Ничего не поделаешь, — бормотал он себе под нос. — Слово командира есть слово командира, и оно им остается даже в этой злополучной батарее. Нет, зря я так говорю. Ведь это все-таки моя батарея!
Через шесть минут батарейцы построились в четыре шеренги, лицом к лафету первого орудия, где восседал Гайнич. Вид у солдат был жалкий, что дало командиру повод к мрачным думам. «Они спят. Совсем еще спят», — вздыхал про себя Гайнич.
Христосик уже в десятый раз кричал одно и то же:
— Я не давал команды «вольно»! Пьяные хари, кто вам разрешил стоять вольно? Смирно! Батарея, смирно! Равняйсь, не то изувечу!
Ничего, никаких возражений, но никто не думает равняться, и никто их не увечит. Слышны только надрывные вопли беспомощного поручика.
«Пусть помается, трезвенник! Побалбесничал в штабе, пусть теперь мается». Гайнич сочувствовал сонным солдатам и отчасти радовался, что они не слушаются Кристека. Он только подлил масла в огонь, иронически заметив:
— Вы, видно, и батарею построить не умеете? Да, да, кажется, вы и на это не способны!
— Черт вас возьми, не спите! Черт возьми, стойте смирно!
Кристек схватил за плечо ближайшего солдата. Тот раскрыл глаза, тупо ухмыльнулся и продолжал стоять «вольно».
Прошло минут десять.
— Хватит! — Надпоручик встал. — Солдаты! Вы вели себя недостойно. Вы злоупотребили моим доверием, а на фронте это тяжкое преступление. Сейчас шесть сорок. Раздать всем шанцевый инструмент и копать укрытия до девяти ноль-ноль. В девять орудийным расчетам быть в полной боевой готовности! Остальным — копать без отдыха до вечера. Унтер-офицеры, ко мне! Разойдись!.. Пан поручик, вам еще нужно привыкнуть ко многому.
Кристек молча снял каску и вытер лоб.
— С ними невозможно справиться.
— Нет, можно, так и знайте! — резко ответил Гайнич и отвернулся.
Он был глубоко убежден, что с трезвенниками никакого дела толком не сделаешь, и таких людей можно только презирать. Гайнич влез в повозку и растянулся на черных попонах.
Солдаты рыли укрытия. Гайничу стало скучно.
Неожиданно тишину разогнал звонкий металлический вздох, донесшийся словно из отдаленной каменоломни. Взошло солнце. Оно засияло над лесистым горизонтом и смело поползло вверх по небу. «Так должна бы начинаться каждая весна, начинаться в точности по хрестоматии и по календарю. И еще ей положено благоухать, ведь, говорят, «запахло весной» и «благоухают распускающиеся деревья». А я ничего не ощущаю. Насквозь прокурился. Вот трезвенник Христосик ощущает ее аромат, но он ничего не чувствует от страха. Страх грызет его душу, а боится он потому, что трезвенник. Именно поэтому хлебну-ка я рому». На некоторое время ром разогнал скуку Гайнича.
Надпоручик тянул из фляжки и лениво поглядывал на работающих солдат. Они курили и с остервенением долбили землю. Кто-то принес ведро воды. Его быстро опорожнили. Потом один из солдат ушел с пустым ведром и исчез в чаще, где были привязаны лошади. Там, должно быть, находился колодец. Могла быть и речка, Гайнича некоторое время мучило любопытство. Но доставать карту не хотелось. Да он и не помнил, куда ее сунул. «Вода, может быть, отравлена!» Но вскоре и это перестало его волновать. «Выпью. За здоровье командиров всех батарей! Им лучше, чем мне. Всем им лучше, чем мне». Гайнич приложился к фляжке и выпил ром до последней капли. «Надо сказать каптенармусу, пусть оставит мне литров пять. Впрочем, я сказал ему об этом еще вчера. И хорошо сделал. Без рому тут и минуты не прожить. Почему пять? Почему бы не шесть? Не четыре? Пять! Возьмем круглое число, черт побери! Пять это пять. Десять ведь тоже круглое число. Не повредило бы, клянусь богом, не повредило бы…»
— Звонят с НП, пан надпоручик!
— Что им надо?
— Не знаю. Пан поручик Кляко…
— Кляко?!
Гайнич порывисто вскочил.
— Надпоручик Гайнич!.. Кляко? Привет. Что нового? Надрызгался?.. Нет?.. Помолчи! Серьезно? Надо было ему сказать, что существует договоренность… Но почему? Не может быть… Да не может этого быть. Я приду, жди меня! Кого?.. Это твой земляк? А я и не знал. Ну ладно. Привет.
Надпоручик положил трубку, выругался и сказал немцах что-то такое, от чего телефонист сначала пришел в изумление, а потом расхохотался.
Гайнич, заметив это, строго спросил:
— Пьян?
— Никак нет.
— Не отпирайся. Думаешь, я не вижу? Глаза у тебя, как у ангорского кролика. Попробуй только засни, увидишь, что я из тебя сделаю.
— Пан надпоручик, разрешите спросить?
Они сидели почти рядом, и это придало солдату смелости.
— Ну?
— Вроде мы тут самоволкой, а, пан надпоручик? Ведь немцы-то о нас ничего не знают. Не знают даже, что мы должны сюда прибыть. С НП мне сказали, что наших там за шпионов приняли и хотели перестрелять.
Не глядя на солдата, Гайнич тихо приказал:
— Вызовите ко мне поручика Кристека.
Поручик прибежал, придерживая каску.
— Предварительной пристрелки не будет. Я иду на НП. Ройте тут укрытия да следите, чтобы солдаты не били баклуши. Ни минуты передышки. Вы меня поняли?
— Понял, пан надпоручик.
— Вызовите сюда рядового Лукана! Он пойдет со мной. Когда вернусь, не знаю.
Он небрежно кивнул Кристеку и задумался.
Через десять минут надпоручик и солдат покинули батарею. Лукан шел впереди, в десяти шагах от него — Гайнич. Солдат держался телефонной линии. Она тянулась по опушке молодого лиственного леса, еще не пробудившегося от зимнего сна. Своим рыжеватым цветом лес напоминал линяющую овчарку. Широкая лесная дорога, вся изборожденная колесами, нервно петляла среди деревьев. Вдруг открылось странное, без единого деревца, обширное круглое поле. Гайнич и Лукан очутились в центре нижнего полукружья; до верхнего было километра два, не меньше. Оттуда и доносился сухой, отрывистый лай перестрелки.
Лесная опушка сворачивала влево, в ту же сторону убегала и телефонная линия. Выйти в открытое поле Лукан не решился. Какое-то шестое чувство подсказало ему, что это будет опасно. Обширное поле было пустынно, и совсем неподалеку, — рукой подать, — стоял обгоревший комбайн. Еще ближе виднелась развороченная полевая кухня, с которой свешивались тела двух убитых солдат в немецкой форме. Одно туловище было без головы. Шея превратилась в темно-красную шишку. Руки другого тянулись к земле. Земля будто притягивала и его волосы. Мягкие, светлые и длинные, словно у женщины, они удлиняли лицо мертвеца с разинутым ртом.
Надпоручик Гайнич спросил себя, отчего у этого солдата такое длинное лицо. В это время порыв ветра шевельнул волосы убитого и принес от кухни тяжелый запах, понятный живым и нагоняющий на них страх. Удушливый смрад дал Гайничу ясный ответ: «Так смердеть будешь и ты. Еще никто никогда по-другому не вонял, ибо смерть уравнивает всех и не знает исключений из правила». Смрад принес и второй вопрос: «А когда твой черед?»
Гайнич содрогнулся.
Ветер стих. Немного погодя новый порыв ветра пронесся над ними и зашумел в рыжеватом лесу.
— Скорей! — подгонял Лукана Гайнич. Они шли друг за другом, что-то принуждало их держаться вместе. — Скорей! — Гайнич опасался, не обстреливают ли дорогу, но знал, что сбиться с пути они не могут, нужно только придерживаться опушки. По другую сторону полукружья находится НП Кляко.
По желтовато-белому талому снегу поля расползались большие черные острова вспаханной земли.
Неподалеку от опушки возвышался розоватый холм. Лукан остановился, и надпоручик ничего ему не сказал.
— Убитые.
По-видимому, они здесь пролежали всю зиму. Осенью кто-то раздел их и сложил штабелем. Потом наступили морозы, нанесло снегу. Теперь весна, снег растаял и обнажил мертвецов. Они еще не были тронуты тленом, эти розовые, словно живые, тела, обмытые то леденящей, то прогретой солнцем талой водой.
Они еще не смердели, эти розовые, словно живые, тела.
А вот еще один, он лежит в стороне от других, внизу живота у него выжжена рана, будто темно-красная роза. Других ран незаметно. Этот убитый одинаково пугает и Лукана и Гайнича, может быть, потому, что он лежит на боку в пяти-шести шагах от тропинки.
Из розового штабеля торчит толстая нога, рядом высунулись три руки. Две словно о чем-то просят. Ладони их тянутся одна к другой, как будто желая соединиться в мольбе, скрестив пальцы в последней молитве.
Ни Гайнич, ни Лукан не смотрят на их лица. По крайней мере, Лукан не смотрит, но знает, что мертвецы эти молоды, что они его сверстники. Они были молоды, когда полегли в этом безлесном круге, и когда их сложили розовым штабелем. Лукан даже не чувствует отвратительного привкуса рома во рту, и голова не болит. Все окружающее обрисовывается перед ним болезненно-четкими линиями, и потому ему жутко. Жутко и оттого, что он не в силах шевельнуться, и оттого, что он не может отвести глаз от розоватых рук и спин, и ему все кажется, что две руки о чем-то просят, хотят в последний раз помолиться. Они — живые, и у них нет ничего общего с розовой грудой человеческого мяса.
— Это немцы или русские?
Никто не может ответить надпоручику. И именно сейчас, как случается порой, ему приходит в голову: «А что сказал бы об этом Кляко?» И он отвечает за него: «Твою мать, не видишь ты, что ли? Это швабы!» Гайничу становится не по себе, и он тянется к фляжке, которую ему наполнил денщик. Сейчас он выпьет сам и угостит, разумеется, Лукана, словно тот его близкий приятель.
— На, выпей, Лукан! Гнусное зрелище! Чего их так бросили?
Близость убитых стерла грань между солдатом и офицером. Суровый и упрямый Лукан взял фляжку, отпил и молча вернул ее Гайничу. Потом вытер губы и сказал:
— Много их тут лежит с осени. Видать, немцам дорого обошлось это дело. — И пошел дальше.
— Почему ты думаешь, что это немцы?
— Почему? Чувствую.
— Тебе хочется, чтобы это были немцы. Ты очень этого хочешь, несчастный. В том-то вся закавыка. Тебе это просто приятно.
— Мы немцев знаем, пан надпоручик. Стали бы они возиться с русскими! Вали в яму — и ладно!
Гайнич не стал спорить. Он выпил еще и закупорил фляжку.
— Посмотрим!
Еще пять розовых штабелей человеческого мяса. Они сложены на одинаковом расстоянии друг от друга. Это легко заметить. И странно, что в центре круга и дальше, куда бы ни посмотрел надпоручик в бинокль, больше нет ни одного штабеля.
В низинах стояла талая вода. Ручейки прогрызли в сугробах ледяные русла, бежали к рыжему лесу, где на рыхлом подтаявшем снегу виднелось множество следов. Больше всего их было вдоль красного телефонного провода. Тут Гайнич с Луканом и услыхали отдаленные, неразличимые человеческие голоса. Потом звонкий металлический звук разорвал тишину желтовато-белого круга, и из рыжего леса вышел высокий немецкий солдат с винтовкой на плече. Он выжидательно остановился на их пути.
— Фриц!
— Обойдем его! — прошипел Гайнич.
Солдат стоял на обледенелой тропинке, подбрасывая винтовку. Из-под каски выглядывала пилотка, натянутая на уши, и почерневшее, обмороженное, обветренное лицо. Он смотрел неприветливо, но внимательно, склонив голову набок и напоминая чем-то выжидающе-озадаченную собаку.
Пока Лукан и Гайнич приближались к немцу, напряжение росло. С каждым шагом усиливалось недоверие. Ни та, ни другая сторона не знала, как себя вести. Такие отношения были обычны в глубоком тылу.
Немец должен был видеть знаки различия у Гайнича, должен был знать, что перед ним офицер союзной армии. Все это могло ничего не значить для старого служаки, который наверняка самозабвенно приветствовал бы своих офицеров. Но тут было еще и другое, что следовало решить в ближайшие секунды: кто кому уступит дорогу? Стоять можно было только на обледенелой тропинке. По обе ее стороны лежал мокрый снег, струилась вода.
Лукан сделал шаг вправо, тогда и немецкий солдат шагнул в сторону от тропинки, улыбнулся и хрипло спросил:
— Ungarn?[14]
— Slovaken[15].
— O, ich dachte…[16]
Немец подкинул винтовку и, когда Лукан проходил мимо, схватил его за рукав и пощупал толстое сукно.
— Gut, gut[17], — произнес он и, показывая на свою поношенную зимнюю шинель, засмеялся: — Холот, сима, холот, сима, nichts gut, ich bin kranke[18].
— Schnaps, ja?[19] — предложил Гайнич и медленно протянул немцу фляжку.
— О! — Солдат, испуганно озираясь, отрицательно покачал головой.
Он боялся рыжего леса, боялся позолоченных офицерских звездочек и инстинктивно понял, что выход из этого сложного, немыслимого положения ему поможет найти солдат, сопровождающий офицера. Он повернул обмороженное лицо к Лукану, и тому стало жаль несчастного солдата. Он сказал:
— Trink![20]
— Danke schön[21]. — Немец отдал честь Гайничу и, спрятавшись за спину Лукана, принялся жадно пить огромными глотками. — Mein Gott, es ist ja aber wichtiger Rum! Danke schön, Herr Offizier![22]
Он вернул фляжку Гайничу и снова отдал честь.
— Front?[23] — Надпоручик указал вперед.
— Jawohl, Herr Offizier. Ivan macht bum-bum[24].
— Бум-бум! — засмеялся Гайнич.
— Криг ист шайсе, нихт вар?[25] — спросил Лукан, угощая немца сигаретой.
Немец взял ее и отступил на шаг. Его глаза в ужасе полезли на лоб. Он перевел взгляд на офицера, и Лукан понял его. Солдат опасался офицерских петличек и, как всякий немецкий солдат, молчал. И Лукан знал, что немец не согласится с ним даже в отсутствие над-поручика. Он знал немцев и именно потому никогда не мог их понять.
— Ауфвидерзеен!
— Auf Wiedersehen![26] — Немец отдал честь каждому в отдельности.
Некоторое время словаки шли молча, потом Лукан заметил:
— Не все немцы одинаковы. Среди них и хорошие люди встречаются. Вы так не считаете, пан надпоручик?
Гайнич ничего не ответил. Он рассматривал воронки от снарядов. Это «вы не считаете» оскорбляло его. Но в голове засел образ немца с почерневшим лицом. «Какой-то дурковатый деревенщина. Сразу видно». И вдобавок надпоручик понял, что немец вызвал в нем те же чувства, что и первый штабель человеческого мяса. Ему стало как-то жутко, возникло незнакомое ощущение собственного ничтожества. В нем словно что-то отмирало, и не было сил воскресить в себе это что-то, а сил недоставало потому, что, будь они у него, не было бы смысла искать их в себе. И Гайничу пришлось остановиться, чтобы, преодолев отвращение, — ведь фляжки касались черные, растрескавшиеся от лихорадки и ветра губы этого немецкого деревенщины, — отхлебнуть рома. В порыве минутной слабости он угостил немца. Впредь он такого не сделает. «А немец все еще там?» Гайнич оглянулся: немецкий солдат стоял на прежнем месте. С какой-то радостной непосредственностью он помахал им рукой, как, прощаясь с отцом, машут на железнодорожной станции дети.
— Придурок!
Надпоручик успокоился и отвернулся. Он не знал, и как он мог знать, что немецкий солдат все еще машет рукой и плачет при этом.
Завыл снаряд. Он разорвался с оглушительным грохотом в рыжем лесу, где-то совсем близко, — кроны молодых дубков зашелестели.
— Нас обстреливают, беги! — закричал Гайнич, бросаясь на землю, но отваги подняться и побежать у него самого не было. Он лежал в ледяной воде. Когда просвистел второй снаряд, надпоручик зажмурился, и ему вспомнился конь, которого он оставил на батарее. Тут земля позади него грохнула, что-то посыпалось сверху. Это падали комья земли и льда, шлепаясь в снег вокруг Гайнича.
Тишина.
Вода леденит тело.
В рыжем лесу все неподвижно.
Гайнич встал. С шинели капало. Лукан показывал на тропинку.
— В него попало. Кажется, ему нужно помочь.
— Ну давай! Живей, черт побери!
Солдат с обмороженным лицом не шевелился. Он лежал на обледеневшей тропинке, а в трех метрах от него чернела новая воронка.
— В лепешку! Беги, Лукан!
По дороге Лукан вспомнил, что так говорит поручик Кляко. Почему все подражают Кляко?
— Убит наповал.
Таково было надгробное слово над телом неизвестного немецкого солдата, который за две минуты до смерти согрел свое нутро словацким ромом и за две минуты до смерти боялся согласиться с тем, что «криг» — это обыкновенное «шайсе». Надгробное слово Лукан сказал на бегу, думая о том, что такого немца с обмороженным лицом жалко и что таким людям следовало бы уцелеть после этой войны. То, что надпоручик угостил немца ромом, похвально. И все же поступок Гайнича необъясним, потому что Гайнич пустобрех. «Если бы в него угодило, стало бы одним пустобрехом меньше. Командиром назначили бы поручика Кляко. Кого же еще? Христосика? Нет, нет! С таким много не навоюешь».
— Живей, черт побери!
Они дошли до таблички, где стояло красными буквами: «Von Mallow» и нарисована стрелка, указывающая в лес. Оттуда вели две разветвляющиеся тропинки. Лукану это ничего не говорило, а надпоручик воскликнул:
— Пришли!
Лукан понял, что они выходят на передний край. Блиндажи, замаскированные хворостом, из них торчат жестяные трубы. Ступеньки. Двери, завешанные пятнистым немецким брезентом. Блиндажи построены где попало: здесь густо, там пусто. Должно быть, их бросили — трубы не дымят. Лукану кажется, что они одни в лесу. Лес этот какой-то призрачный, одна видимость настоящего леса. Искалеченные, обгрызенные пулями и поваленные снарядами молодые буки печально шевелят голыми ветвями, похожими на руки, умоляюще протянутые из розовых штабелей, которые скоро начнут разлагаться под апрельским солнцем, распространяя знакомое зловоние.
В одном блиндаже слышался невнятный говор. Кто-то засмеялся и сказал:
— Найн, найн, шмуцик!..[27]
Еще одна табличка с красными буквами и стрелой. На развилке надпоручик растерянно остановился. Засвистели пули, одна клюнула дерево: тюк! Где-то впереди покашливал пулемет, и эхо выстрелов, словно туман, оседало в долине.
По средней тропинке они зашагали прямо на звуки пулеметных очередей. Блиндажей здесь не было. Пустые консервные банки, обрывки немецких газет. На свежем пеньке стояла нетронутая пол-литровая бутылка с пестрой этикеткой. Ба!.. Что-то французское! Гайнич не смог прочитать, но хорошо запомнил этикетку — девушка с корзинкой винограда. Простоволосая девушка в зеленой юбке.
Тропинка привела к окопу с мокрыми желтыми стенками. На дне лежали узкие доски. Гайнич и Лукан спрыгнули. Окоп доходил им до плеч и был довольно широк. Надпоручику захотелось услышать собственный голос.
— Будь поосторожней, зря головы не высовывай, потому что Ivan macht bum-bum! — усмехнулся он.
Лукан был слишком поглощен обстановкой и не понял.
— Извините, что?
— Ничего.
Передний край разочаровал Лукана. Тут не было ничего страшного, он не боялся, все казалось только интересным. Наблюдательный пункт Кляко он не мог представить себе даже приблизительно.
Разочарован был и надпоручик. И встревожен. Тревога его началась с первого розового штабеля и усилилась после встречи с обмороженным немецким солдатом. Розовые штабели! Лукан говорит, что это немцы. Теперь он, Гайнич, крадется по немецким окопам. Пока никто не остановил, не спросил: что вы здесь делаете? «Где эта хваленая… Что хваленая?.. Аккуратность, черт побери! Где она? У этих немцев… Черт возьми, в окопах полно воды! Я бы со своими солдатами поддерживал здесь иной порядок!» Он громко выругался. Сапог соскользнул в густую липкую грязь. Гайнич тяжело вздохнул и оглянулся — следует ли за ним Лукан.
Окоп внезапно раздвоился. Голоса! Эхо пулеметной стрельбы прошумело в ветвях и осело, словно туман в долину, видимо, уже совсем близко.
Тинь-тинь! — затенькали пули.
«Русские»! — Эта мысль потянула надпоручика влево, к пулемету. Через окоп были перекинуты бревна и присыпаны землей. Под ними в темной дыре виднелись заляпанные грязью сапоги и пола немецкой шинели.
— Алло, алло!
Надпоручик приблизился к укрытию.
Показалась каска, молодое лицо. Глаза заморгали, сверкнули белые зубы, и голова исчезла. Потом послышался топот и крик: «Ганс, Ганс!» Голос заглушила стрельба, и кто-то крикнул:
— Mein Gott![28]
— Черт возьми, что тут происходит?
Надпоручик ощупал ремень — искал фляжку. Закричал, почуяв опасность:
— Алло, хир словакен![29]
Опасность почувствовал и Лукан. «Нет, нет, не надо пригибаться, не надо прятаться. Дай-ка я лучше закурю!» Он закурил, подавляя в себе страх, который то захлестывал его, то отпускал.
Послышались чавкающие шаги.
Наконец с той стороны, откуда пришли они, появился немец в белом маскировочном халате. Белый капюшон был разорван над правым ухом. Без каски, с рыжеватой щетиной на подбородке, солдат остановился и тотчас вскинул автомат на изготовку.
Они долго глядели друг на друга, и Лукан не знал, что делать, но почувствовал, что молчать дольше опасно.
— Словакен. Беобахтен![30]
Рыжий хлопнул себя по лбу, сказав:
— A, so![31]
После этого он улыбнулся и ушел. Позвал кого-то:
— Herr Leutnant, Herr Leutnant…[32]
— Пан надпоручик!
— Что такое? — Гайнич вышел из укрытия.
— Был тут один рыжий, мне показалось, он нас знает. Надо идти за ним, да побыстрее. Как-то все странно.
— Пошли! Эти швабы трясутся от страха, будто зайцы. Перестреляют еще нас!
Они побежали рысцой — скользили, стукались плечами о мокрые желтые стенки окопов.
Рыжий вышел навстречу словакам. Он поманил их рукой, повернулся и спокойно зашагал впереди. Время от времени он посмеивался и говорил: «Словакен!» Неизвестно, что он подумал при этом, но слово звучало так, будто он чему-то радовался.
— Кляко! — радостно воскликнул Гайнич.
Перед ними в окопе стоял поручик и, заложив руки за пояс, загадочно улыбался.
— Господа, я страшно вам рад. Но если у вас нет глоточка рома… поворот кругом, марш, и я не хочу вас знать до конца жизни. Мою порцию выпил этот рыжий дьявол. Я всегда утверждал, что рыжие — проклятие человеческого рода, и порядочных поручиков в первую очередь.
Кляко был навеселе.
Рыжий, должно быть, почувствовал, что говорят о нем, потому что не сводил глаз с Кляко, с лукавым видом подмигивал ему.
— Кое-что найдется. Для тебя — всегда!
Лукану показалось, что надпоручик рад оказать услугу Кляко. Гайнич протянул ему фляжку и подмигнул рыжему.
— Могло быть и побольше. — Кляко встряхнул фляжку и тоже, в свою очередь, подмигнул рыжему. — И тебе оставить надо? Посмотрим. — Кляко пил долго. — Получай! Напейся и сгинь! Ты пугаешь деток порядочных словацких мамаш. Господа хорошие, если бы вы знали, сколько на этом парне вшей, вы бы того…
— Gut, gut, Herr Leutnant. Danke schön, — подобострастно произнес немец.
— Конечно, «danke schön», если я тебе, этакому паршивцу, делаю любезность. А ты гофоришь чешски? Варум не говоришь ничего чешски?
— Не говориль долго чешски, nur deutsch[33]. Сабиль.
— Одного этого хватит до рвоты. Судетский немец, бывший кельнер, но за ром продаст и свой несчастный фатерланд.
— Ja, ja, Herr Leutnant. Im Vaterland[34] есть много рум.
— Слыхали? При нем нужно говорить быстро, тогда он ни черта не поймет.
— Хватит разговоров, мы не на бал пришли! — заговорил Гайнич официальным тоном. — Объясни, что тут произошло?
— Ха-ха-ха! Не спеши, солнышко мое, не спеши. Рыжий должен исчезнуть. Или ты думаешь, что этот слабоумный тут просто так, для пущей важности? Боже, ты еще совсем ребенок! Пан надпоручик Гайнич, ты неисправимый ребенок!
И Кляко вошел в укрытие.
RITTERKREUZ[35]
— Ты идиот, — заключает надпоручик Гайнич.
— Допустим, — соглашается Кляко. Он чем-то озабочен.
— Ты допускаешь? — смеется Гайнич, и это избавляет его от упреков.
Разговор происходит при Лукане. Оба офицера забыли о нем. Или он им уже не мешает?
«На переднем крае может быть всякое», — думает Лукан, слушая разговор.
— Идиот, не идиот — всем нам тут грош цена, скажешь — нет? А если ты, герр командир, не согласен со мной, тогда… да, тогда надо выяснить, кто из нас больший идиот…
Но тон Кляко утратил для Гайнича прелесть и своеобразие. Его слова не колют, не вызывают у Гайнича желчной злобы.
— Черт его знает! — вздыхает тот и переходит с Кляко на «ты», как всегда, когда не знает, как поступить. — А твое мнение?
Офицеры сидят на пустых снарядных ящиках у выступа в окопе. Словно близкие друзья, примостились рядышком и уставились в землю.
— Ответь себе сам!
— Нам не доверяют.
На это Кляко засмеялся. Смех его звучал оскорбительно, ядовито, и разное слышалось в этом смехе. Была в нем и грусть — грусть по поводу участи Гайнича и своей, а может, и участи Лукана, земляка, потому что, повернувшись к Лукану, он продолжал хохотать во весь свой красногубый рот с двумя рядами белых зубов.
Что же случилось? О чем рассказал Кляко Гайничу?
Немцы встретили наблюдателей-артиллеристов во главе с Кляко холодно и враждебно. Они обступили словаков; два унтер-офицера предложили поручику следовать за ними и привели его в роскошный блиндаж, где был настлан пол и лежали ковры.
— …все стены, представь себе, в бабах и среди них такие две шлюхи в натуральном виде, — причмокнул Кляко. — Эх, где те времена! За столом сидел какой-то немецкий обер-лейтенант и орал то в телефон, то на меня, то снова в телефон. «Кретин, — подумал я, — так ведь и зубы свои выплюнешь!» Отвернулся я от него и стал разглядывать картинки. Ну и тела, скажу я тебе! Воистину боги всесильны, если сумели сотворить эдаких великолепных тварей. Наконец этот кретин спохватился. «Sprechen Sie deutsch?»[36] Я сообразил, что он обращается ко мне. «Найн», — говорю и продолжаю рассматривать голых баб. Я мог бы пялиться на них целый год, ей-богу. Когда-нибудь загляни туда — стоит, того. Не знаю уж почему, но немец вдруг засмеялся. Черт их разберет! Велел вызвать того рыжего, судетца. Герр командир и так далее… я от его слов и о бабах забыл. Знаешь, что сказал обер-лейтенант рыжему? Я ведь понимаю по-немецки. Что пришли, мол, какие-то типы, словачня дерьмовая, — запомни это, герр командир! — которые еще и пороху не нюхали. «Ах ты, думаю, идиот! Да ты не просто кретин, а еще и скотина!» Разумеется, я только так подумал. Он сказал еще, что они нам доверять не могут и что нам разрешается передвигаться только между шестым и восьмым блиндажами. А иначе, мол, он за нашу безопасность поручиться не может. Совсем белены объелся! Пристреливать батарею мы и то не имеем права. Сегодня должен прибыть командир батальона, какой-то «фон» («Такой же гад, как и ты», — подумал я), тот решит, как быть дальше. «Переведите ему все это, — говорит по-немецки обер-лейтенант рыжему. — Кроме оскорбительных выражений, все-таки он офицер. Что я думаю о словаках — это мое личное мнение, они ведь все-таки наши союзники». Рыжий унтер уже открыл было пасть — переводить собрался, а меня черт дернул за язык: «Спасибо, — говорю ему по-немецки. Он прямо позеленел. — Извините за беспокойство, я все понял — и даже очень хорошо». Уверил его, что все запомню, и ушел. Но все-таки я дал маху. Надо было еще сказать, чтобы он поцеловал меня в одно место. Это было бы прелестно!
Надпоручик Гайнич в заключение рассказа Кляко глубокомысленно изрек:
— Ты идиот!
Заливистый хохот Кляко не задел Гайнича. Надпоручик как бы отстранился от всего, и смех Кляко тек мимо него рекой, а он, Гайнич, стоял на ее берегу, чувствуя глубокое разочарование и все спрашивая себя: «Почему? Почему нам не доверяют?»
Замолчал и Кляко. Сначала ему было непонятно, отчего он не злится на немецкого обер-лейтенанта. А когда он попробовал было настроить себя против немца, ему показалось это смешным и фальшивым.
«Почему бы этому немецкому обер-лейтенанту и не орать, раз пришла такая охота? В конце концов, ха-ха… Это один из отличительных признаков расы! Раса! Рас[37] Гугса и рас Седжум, были такие эфиопы, не то футболисты, не то генералы. И почему немецкий обер-лейтенант должен верить каким-то словакам, причем ausgerechnet[38] мне? Он солдат. Не гнушаясь никакими средствами, он выполняет свой долг энергично и последовательно. На то он и немец. И если все его заслуги ограничиваются тем, что в его командирском блиндаже висят фотографии голых баб, так этот малый в некотором смысле даже симпатичен, хотя во всем остальном законченная скотина!»
И все-таки Кляко был недоволен, недоволен и озабочен больше, чем когда-либо. «Почему именно я стоял перед немецким обер-лейтенантом? Роскошный блиндаж с настоящим полом и коврами!.. Не зловещий ли это знак? Знак? Чего?.. Я люблю женщин, и предпочтительно голых. Я, как хорошо отточенная коса, подсекаю всех и вся… Но где же находится этот роскошный блиндаж с фотографиями? Где? Кляко, не будь трусом и ответь! Ты собираешься ответить на это вот уже несколько часов, и у тебя все не хватает духу. Вопрос, конечно, не из простых, одно это тебя и оправдывает. Ведь ответив, ты должен вложить в рот пистолет и нажать курок. Нет, сам ты себя не убьешь, ты уже решил. И еще ты просил вызвать на НП Лукана, своего земляка, чтобы сказать ему несколько слов. Каких? И есть ли в них смысл? Есть. Передай, мол, привет моему отцу, это прекрасный человек. Передай привет матери и сестре. Все они лучше меня, и последние минуты моей жизни принадлежат только им. Может быть, они и простят меня. Это все. И вот Лукан, твой земляк, здесь, а ты еще не сказал ему ни слова. Постепенно ты примиришься с мыслью, что ничего ему не скажешь, просто высунешь голову из окопа, получишь пулю в лоб, и все будет кончено. Просто, не правда ли? Тебе придется так поступить, потому что у тебя не хватает духу ответить на вопрос, где находится роскошный блиндаж и что ты тут делаешь. Ты что тут делаешь? Старый, как мир, вопрос! Впервые ты спросил себя об этом… Нет, ты не сам об этом себя спросил. Ты услышал этот вопрос, когда батарея была на марше, торопилась на фронт. Справа был молчаливый лес, слева — колхозная конюшня, за ней двенадцать домов в ряд. Прямо у шоссе — развалины каменного здания. Там же виселица. Ее сколотили незадолго до твоего прихода из совсем еще свежих сосновых бревен. Ветер рвал на повешенном незастегнутый пиджак. Грудь у него проколота штыком, на штыке — кусок картона с четко выписанным словом: «Бандит».
Кляко встретил угасший взор мертвеца и прочел в нем этот вопрос: «Ты что тут делаешь?» Потом Кляко спрашивал себя об этом все чаще. Но разве мыслимо беспрестанно задавать себе один и тот же вопрос? «Ты что тут делаешь?» Это даже не вопрос. Это звучит грозно, повелительно. Звучит так, словно у того, кто спрашивал, не было желания повторять. Но для Кляко вопрос этот не стал чем-то привычным. Он не в силах услыхать его еще раз, потому что зашел слишком далеко. Он не должен был заходить так далеко. До сих пор он вел себя непростительно легкомысленно, будто не знал, что в конце длинного перехода его ждет блиндаж с полом и коврами.
«Голым бабам здесь не место. Это дурацкое недоразумение. Всякое недоразумение выглядит в той или иной степени дурацким. Да, я не смел допускать это, не смел позволить себе попасть сюда. Я мог предполагать, что батарея в конце концов выйдет на свой огневой рубеж, не важно, где именно. Всюду одно и то же, и всюду меня преследовали бы укоры совести. Фронт растянут на две тысячи километров. Ничего себе, вот это цифра! И угораздило же меня родиться! Да, не повезло мне, братцы, чертовски не повезло! И давно не везет. Мой учитель математики сказал бы: «Чем длинней линия фронта, тем больше горя на земле — все это находится в пропорциональной зависимости». Пан учитель, теперь мне на все наплевать, я сыт по горло, вот увидите, что я сумею найти выход полегче. И немедленно! Теперь, после того как я побывал в роскошном блиндаже «Heimat»[39] и нам с надпоручиком Гайничем тесно на маленьком снарядном ящике, — теперь я обязан сделать это. Здесь и Лукан, мой земляк, но я не смею сказать ему ни единого слова. Он в упор рассматривает меня. Совесть во мне пробудить хочет, что ли? Стоит мне только высунуть голову — и все. Все, потому что ведь нигде не написано, что без меня мир перестанет существовать. Человечество забыло написать такое изречение или сознательно не написало его и этим вынесло мне приговор. Я — нуль! По крайней мере, не нужно ни у кого спрашивать разрешения. Обо мне никто не заплачет. Отец? Отец немножко всплакнет, но он знает, что такое война. Объяснил бы я ему все, он бы понял меня. Он прекрасный человек. Мать будет тоже плакать. А сестра — девчонка, такой ничего не объяснишь. Надо бы, чтоб плакали женщины, которых я мог бы встретить и полюбить. Теоретически, конечно, потому что я никогда уже их не встречу. И даже не знаю, где они, как их зовут. Но они должны были бы плакать, женщины это любят. Кто мне сейчас скажет, только быстро, — что такое слезы в теории?.. Ну, быстро, потому что я тороплюсь. Поручик Кляко, офицер второй батареи словацкого артиллерийского полка, торопится, господа… Скорей! Итак, мы доигрались! Раз мы доигрались, вы все хором можете меня очень ласково и сладенько…»
Он вскочил и, цепляясь за корни, полез вверх на бруствер.
— Ах, черт!
Его схватили сильные руки и потянули вниз в окоп.
— Пусти меня, сволочь! — закричал Кляко, отчаянно сопротивляясь.
Страх, что эти сильные руки стащат его вниз, придал ему нечеловеческую силу. Он лягнул надпоручика в грудь, сорвавшись при этом, но корни из рук не выпустил. Ну, выше, напрягись еще малость, ведь земля скользкая, липкая. И вот грудью и животом он лежит на желанном клочке земли. Закинуть ноги, и… на них повисло что-то тяжелое и стянуло его в окоп.
Затенькали пули — тинь-тинь… Раздался звонкий металлический гулкий удар.
— Сволочи, сволочи!.. — шепчет Кляко.
Он сидит в грязи, ни на кого не глядя. Бледное лицо покрыто потом. Кляко прислоняет голову к липкой стенке окопа, словно хочет заснуть.
— Пан поручик!
Кляко испуганно вздрогнул. Молча смотрит на него Гайнич.
— Пан поручик, у меня есть немного рому.
«Есть еще и Лукан на свете? И ром? Что такое ром?» — с недоумением вопрошают глаза Кляко. Но он выпил и после этого спросил Лукана:
— Что наши-то дома поделывают? Не знаешь? Я домой не пишу и письма получаю редко, вот и не знаю.
Лукан вместо ответа смотрит на Гайнича, ища у него поддержки.
— Вы думаете, я спятил. Вас это больше устроило бы.
Кляко язвительно засмеялся, и в смехе его больше не было ничего зловещего.
— Нервы у тебя сдали, пан поручик, — точно таким же смехом откликнулся Гайнич, тщетно пытаясь скрыть свой ужас.
— Да нет — душа. Нервы у меня в полном порядке, — печально сказал Кляко.
— А я говорю — нервы! Кто-то подошел к ним.
— Herr Major von Mallow[40] просит коспот офицер до бункер «Heimat», — сказал рыжий судетец и помахал словакам рукой. Засмеявшись, он подмигнул Лукану, который пристегивал к поясу фляжку. — Ах-ах! — поахал он и исчез.
— Пошли! — Гайнич побежал вслед за ним.
— А вы не пойдете, пан поручик? — обрадовался Лукан.
Кляко махнул рукой.
— Я не любопытный. Герр майор наверняка не лучше своего обер-лейтенанта. Дай еще немножко рому. Не бойся, я отдам.
— Не надо. Я обойдусь.
— Не выслуживайся! Здесь всем надо пить. Я отдам. Офицеры получают особый паек. Не знаешь, что ли?
— Слыхал.
— Гайнич велел каптеру припрятать для него целую бутыль, я знаю, Лукан! Не болтай о том… о том, что ты здесь видел.
— За кого вы меня принимаете!
— Спасибо! — И Кляко растроганно добавил: — Я всю ночь думал, как мне застрелиться. Но слаб человек. Потом я решил вызвать на НП тебя. Скажу, мол, ему несколько слов, пусть передаст привет моим старикам и сестре. А когда ты пришел, я даже взглянуть на тебя не посмел. Сам я не застрелюсь. — Он ткнул пальцем в бруствер. — А вот если бы меня угрохали те, вроде было б культурнее. Да только не получилось.
— Я вас понимаю.
— Ты не можешь это понять.
— Второй раз вы такого уже не сделаете.
— Не знаю. Вероятно, будет трудно. Откуда ты знаешь?
— Сегодня ночью, когда выдавали ром, на меня напала такая тоска, такая тоска навалилась, что я даже упиться не смог. Такая тоска не повторится. А если и повторится, так уже и не удивишься ей.
— Вот как? — искренне изумился Кляко.
— Теперь мне уж все едино. Что бы там ни случилось.
— Что бы там ни случилось. Н-да, только так здесь и можно выдержать. Была у тебя дома девчонка? Была! Почему я говорю в прошедшем времени? Или мы и в самом деле обречены?
Кляко уставился на переплетающиеся корни молодых дубков. Потом весело рассмеялся.
— Может, я лезу не в свое дело, Лукан? Есть у тебя дома девушка?
— Трудно сказать. Я и сам не знаю.
— «Сам не знаю», — передразнил Кляко. — У тебя должна быть девчонка! Только… ты, наверно, от всех подряд свое получаешь?
Кляко засмеялся. Лукан невольно присоединился к нему. Поручик ему нравился. Этот разговор их сблизил. Долго они искали друг друга. Теперь они не понимали, как могли столько месяцев ходить рядом, такие равнодушные, недоверчивые, и носиться со своими настроениями.
— И у меня нет девушки. Были какие-то фифочки, этакие… ну, сам понимаешь. А порядочной ни одной. Я, должно быть, не умею обходиться с женщинами. В голове у них больше свадьба, а мне это только на нервы действует. Я их боюсь. Все это как-то не так нужно. Как ты думаешь?.. Боже, сигарету!.. Такого со мной еще не бывало. Я не курил добрых полчаса.
Они закурили.
Солнце вырвалось из-за свинцовых туч, осветило призрачный дубовый лес. Культи истерзанных деревьев были черны и печальны. Когда ветру удавалось расшевелить и раскачать их, они становились еще печальней.
— Пан поручик! Я знаю вашу сестру!
— Ну! Лучше мне об этом не говори.
В глазах Кляко появилась тревога.
— Она на вас совсем не похожа.
— Еще бы! Может этому радоваться.
— Я хотел сказать — лицом.
— Ну! — Кляко со страхом ждал, что скажет Лукан, потому что любил сестру. «Как это отвратительно вдруг заговорить о сестре с чужим человеком, да еще в такой обстановке!»
— Во дворе у вас есть колодец.
Поручик прищурился.
— Ну, есть. И что же! — резко заторопил он Лукана.
— Когда не было работы… — Лукан ничего не заметил и продолжал чуть напряженным голосом: — …я помогал отцу на дороге. Заделывать щебнем выбоины, обкашивать кюветы, ну и прочее. Выбоину надо сперва засыпать щебенкой, потом полить водой. Воду я всегда носил с ближайших дворов, потому что ручей там далеко, за садами. До него и не добраться. Разве только через заборы, украдкой…
— За садами. Верно, — уже спокойнее сказал Кляко.
— Заходил я и на школьный двор. А ваша сестра всегда кричала пани учительше: «Мам, обходчики пришли! И один спрашивает, — она называла меня «один», — можно ли взять воды. Можно?» — «Можно». — «Берите, да только и нам оставьте». И смеялась. Я накачивал воду, а она смотрела. Она красивая.
— Да, — с гордостью сказал Кляко, но нахмурился. — Ну и что? — Весь этот разговор показался ему неприличным. Какое право имеет Лукан говорить о сестре, что она красивая? Он смял недокуренную сигарету и закурил другую. — Не знаю, правда ли это, я в такие дела не вмешиваюсь, но слышал, что за ней серьезно ухаживает один учитель.
И Кляко бросил на Лукана быстрый пристальный взгляд.
— Какой?
— Это ее дело. Не так ли?
— Конечно.
Лукан слегка смутился, потому что поручик вдруг, как безумный, расхохотался. Но Лукан все понял. Ему и во сне-то не снилось мечтать о сестре поручика, но его рассказ — чистая правда. И разговорился-то он, думая сделать приятное поручику. У него у самого есть братья, и, если кто бы то ни был завел о них речь в этом окопе, Лукан был бы ему благодарен.
Застрекотали пулеметы, и сразу весь фронт ожил.
Что-то зажужжало, прозвенело, ударило… Бумм!
Грохот сливался со вздохами в долине, которая не успевала возвращать эхо. Она отдувалась, пыхтела, вот застонала по-человечьи.
Два немецких солдата в длинных шинелях, заросшие, заляпанные грязью, пробежали по переднему окопу. Страх прижимал их к земле. Один выругался.
— Что-то случилось, — сказал Лукан.
— Да.
Кляко встал и перешел в первую линию окопов. Он не мог спокойно сидеть наедине с солдатом, не зная, что происходит и что ему ответить. Почему солдаты думают, что офицеру все должно быть известно? Откуда ему знать, что значило это звенящее жужжанье, Кляко в жизни такого не слышал.
Ррр… шрр… жж… ши, шш, бумм!
Кляко растянулся в грязи.
— Танки! — Навстречу Кляко бежал надпоручик Гайнич, нагнув голову, как баран. — Будем пристреливать батарею! Где наши? Телефон! Живо!
Рррр… шрр… ж… бумм!
Рев моторов пронизывал до мозга костей. Гайнич навалился на Кляко. Обоих жарко обдало воздушной волной. Передняя стенка окопа осела. В воздухе замелькали листья. Плавно, как осенью, они опускались на землю.
— Где телефон? — взревел Гайнич.
Телефонисты оказались там же, где утром их оставил Кляко. Три скорчившиеся человеческие фигурки, оцепенев от страха, жались друг к другу, будто овцы перед грозой.
— Телефон! Где телефон? Те-ле-фон! — Голос Гайнича перекрыл адский грохот.
Солдат махнул рукой куда-то назад.
— Связь есть, сукины дети? Вы проверили? — Солдаты молчали. Гайнич пустил в ход пинки. — Я вам покажу лодыря праздновать! Чтоб вы сдохли!..
Это были молчуны.
— Господи! — Надпоручик взвыл от изумления, видя, как равнодушно восприняли солдаты его пинки и даже не пошевелились! Тогда он сам подскочил к телефону, стал в грязь на колени и принялся названивать. — Ирена, Ирена! Здесь Петер! Почему вы не отвечаете? — И тут все стихло. Гайнича охватил ужас — Что такое? Что происходит? — Он беспокойно озирался, но так ничего и не прочел на удивленных лицах солдат. — Ничего, ничего, — крикнул он в трубку. — Я разговаривал. Слушайте! Вы меня слушаете?.. Батарее приготовиться к стрельбе! Сообщите об этом поручику Кристеку. Да, приготовиться к бою! Я лично буду вести пристрелку. Все. — И он положил трубку.
— Лично…
— Оставьте при себе свои замечания, поручик! — Взгляд Гайнича упал на молчунов. — Встать, сукины дети, или я вас вышвырну вон! Крысы паршивые, бабы вонючие! — Гайнич вытер лоб и вдруг почувствовал облегчение. Он сел в грязь и, прикрыв глаза, тихонько сказал: — Поручик, достаньте, пожалуйста, карту из планшетки. — И, пока Кляко вынимал карту, спросил: — Почему стало так тихо?
— Не знаю.
— Говорят, тишина на фронте хуже ураганного огня. Вы ничего не чувствуете, поручик?
— Ничего. Вот карта!
— Этот немецкий майор — интеллигентный человек. Он угостил меня коньяком. Жаль, что вас там не было. Почему вы не пришли? Был там и этот обер-лейтенант, с которым у вас вышла стычка. Ему пришлось оправдываться передо мной. Самомнение у него большое. Он просил передать вам, что придет мириться и что эта стычка была неприятным недоразумением. Он просит вас забыть о ней. Полагаю — так и следует сделать.
Кляко тем временем рассматривал лицо Гайнича. Надпоручику было лет двадцать пять, но лицо его, усталое и бледное, казалось старше. Под левым глазом виднелся шрамик, которого Кляко раньше не замечал. Кожа на лбу и на носу была пористая, словно исколотая иглой. Нет, человеческое лицо вблизи вовсе не так уж привлекательно. В уголках рта белела пленка, словно у неоперившегося птенца. Кляко стало мутить.
Молчуны подняли головы. Они все еще сидели скорчившись, не веря тишине. А она все нарастала и чудовищно сгущалась. Они уже жалели о ревущем аде, который их унижал. Уверовав в безопасность места, которое им определил случай, они не шевелились, убежденные, что тут с ними ничего не случится.
— Не бойтесь, ребята! — подбодрил их Кляко. — Все кончилось, не будьте бабами! Закурите-ка лучше, коли есть что. Эка невидаль, подумаешь, немного трескотни! — И поднялся сам.
Молчуны закопошились.
— Ты мне на ногу стал, — сказал один другому.
— Страшно тебе было? — обратился Кляко к заговорившему солдату.
— Страшно, пан поручик. Пробовал было молиться, да ничего не вышло. В голове пустым-пусто.
— Убило кого-нибудь? — спросил другой с ужасом в голосе.
— Больно много хочешь знать.
Гайнич развернул карту.
Лукан заметил, что рядом находится прочно выстроенный блиндаж и что окоп там, выдаваясь вперед, заметно сужается. Его долбили в белом камне. Блиндаж был неглубокий. Немцев там не оказалось. Лукан вошел. Блиндаж был достаточно хорошо освещен. Свет падал сюда через боковые входы и через небольшую прямоугольную амбразуру.
Где-то взвыл мотор.
Лукан подошел к стереотрубе. И сразу к нему приблизились пепельные и белые облака. В рваных, будто простреленных прогалинах облаков виднелось синее и чистое, как дома, над Планицей, прекрасное небо.
Лукан повернул черную рукоятку. Оптический прибор накренился. Из-под горизонта, как из воды, вынырнули далекие равнины, узкая полоска земли с черными полосами лесов. Потом появилась какая-то стальная башня, ослепительно отражающая солнце. Не было ни городов, ни деревень. Мирный, дремотный пейзаж под небом, затянутым облаками. «Вот они, первые квадратные километры не занятой немцами советской земли! Там бегут тропинки, шоссе, и ни один немецкий солдат еще не ходит по ним. Не прошла ни разу по ним и вторая батарея словацкого артиллерийского полка, а вместе с нею и я…»
Рукой подать до противоположного склона. Он весь в пятнах нерастаявшего снега. Мертвый склон. Чернеют стволы и ветви молодого букового леса. Долины не видно. Склон невысокий, но крутой. Над ним ровное плоскогорье, поросшее деревьями. Его пересекают толстые кривые полосы. Окопы! Там есть такой же НП с оптическими приборами. И там стоит солдат и, может быть, смотрит как раз сюда…
Лукан повернул стереотрубу вправо, но там вид заслоняли деревья, росшие поблизости.
Слева открывалась довольно широкая долина и пашня, совершенно черная, бесснежная. А вот и люди! Должно быть, убитые. Один, два… девять… Они черны, как земля, которая не чувствует их тяжести. У одного на голове что-то белеет… Да это лицо! Оно белеет не резко, не как бумага. Лицо под цвет грязного снега. Убитый словно хочет перегородить долину своим телом. Остальные восемь шли или бежали в сторону высокой стальной башни. Так они и полегли. Но трое из них бежали к востоку. Их мертвые руки того и гляди сольются с черной землей, а ветер принесет со стороны стальной башни их запах — их последний след. Идет апрель, зима кончается, и последний грязный снег скоро растает.
А там дальше, на пашне, никто не лежит, она совсем такая же, как планицкие поля, только земля здесь черная, словно сажа, и без камней.
Все время где-то ревет мотор.
За пашней видна деревня, разбитая снарядами. Шесть домов. Широкий проселок ведет к отдаленному лесу, а на дороге громыхает танк. И километра, пожалуй, не будет. Лукан думает, что так и следует: люди должны сидеть в блиндажах, а танк может свободно разъезжать по полю. Тут кто-то оттолкнул Лукана.
— Ну-ка дай! — Поручик Кляко смотрит в стереотрубу. — Вот тебе и раз! Значит… он просто здесь прогуливается. Ты видел?
— Еще бы!
Кляко навел прибор на резкость.
— Знаешь, что мне пришло в голову, Лукан? Немцы-то вроде малость обеднели. У них здесь и орудий нет, ни одной пушчонки приличной! Ха-ха! Вот мы и должны их выручать. Ну, надпоручик Гайнич, поручик Кляко и сопляк Христосик — три героя — справятся! Видно, фатерланду — ха-ха! — приходится туго. — И поручик протянул певуче: — Да-а! Честное слово, по танку никто не стреляет. — Потом крикнул: — Лукан! Смотри. Из танка выскочил человек и копается в земле. Словно фасоль сажает. Господи, столько развлечений за один день. — И он рассмеялся от всего сердца.
Пулеметная очередь!
Долина отзывается эхом.
— Беги, черт тебя возьми! — кричит Кляко, глядя в стереотрубу. — А ведь он все еще копается в земле. Давай, давай! Только поднял ногу — и уже на танке. Ну и долговязый! А танк попер к лесу. Ей-богу, они издеваются над немцами.
— Пан поручик! Посмотрите, что осталось от всей деревни. Шесть домов.
— Фронт стоит здесь пять месяцев. Чего же ты хочешь? — Кляко повернул стереотрубу. — Ну вот, извольте! Деревья! Не видно ничего. Эта дыра, как НП, гроша ломаного не стоит. Впрочем, какое мне дело…
Кляко принялся насвистывать.
Танк скрылся в лесу и, должно быть, покатил дальше, потому что рокот мотора не затихал. Пулеметы умолкли. Кляко смотрит в стереотрубу и спокойно произносит:
— Ничейная земля. Как в кино. А те девятеро и в самом деле убиты, бедняги. Капут. Девять штук. Здесь, похоже, отдал жизнь за фюрера и мой Хальшке. Геройски отдал! За фюрера иначе не гибнут.
— Кто?
Кляко слишком занят зрелищем.
— У него, наверно, была протекция! Его подобрали, а этих бросили. Девять штук. Ну что ж! Для начала отлично. Завтра там можем валяться и мы. А когда пригреет солнышко, будем геройски вонять, Лукан! Ты боишься смерти?
— Будь от этого толк, боялся бы еще больше.
— Я не понимаю, что с вами, ребята? Всякий выпендривается. Вчера я троих спросил, никто прямо не ответил: «Боюсь, мол, и баста». Только: «Будь от этого толк, боялся бы еще больше». Ты думаешь, тебе и вправду это поможет? Наложил полные штаны, как и я, и устраиваешь фейерверк из жалких слов.
— Что такое? — вмешался Гайнич с картой в руках. За ним следовал один из молчунов.
— А ты сам погляди, что там такое. Да не трогай инструмент, он наведен точно.
Ухмыляясь, Кляко отступил от стереотрубы. Гайнич припал к окулярам.
— Восхитительно, герр командир? Ну, каково?
— Война требует жертв, — сухо ответил Гайнич.
— А я-то и забыл. — Кляко сплюнул.
Гайнич молча изучал местность, лицо его было строго. Он сверял ее с картой. Тем временем в блиндаж вошел второй молчун с полевым телефоном и устроился в углу, позади надпоручика. Третий появился следом, закрепляя провода. В блиндаже стало тесно, и поручик Кляко вышел через другой ход. И невыносимо было видеть бесстрастное лицо надпоручика Гайнича, который все делал с таким видом, будто находился на полигоне.
— Гад, скотина! — пробормотал Кляко, не заботясь о том, что его может услышать командир.
— Слушай команду! — раздался голос Гайнича.
— Слушай команду! — повторил молчун в телефон.
Поручик Кляко шел, не оглядываясь, не в силах забыть вида Гайничева рта. Вот бы его разодрать! Он вспомнил, как Гайнич пинал молчунов, и бесился от их безразличия к ударам. Кляко захохотал.
Двое немцев с носилками. Лежавший на них, очевидно, был очень тяжел, потому что солдаты пыхтели, еле переводя дух.
— Готов? — спросил Кляко по-немецки.
Первый солдат бросил на Кляко дикий взгляд и что-то проворчал. Лицо убитого прикрыто грязным носовым платком. С носилок свешивается здоровенная желтая рука.. На рукаве видны ефрейторские нашивки.
Немцы свернули в боковой ход. Кляко остался на перекрестке — здесь было сухо. Он хотел побыть в одиночестве, но с наблюдательного пункта донесся торжествующий голос Гайнича:
— Во имя святой Барбары, огонь!
Телефонист повторил эти слова.
В воздухе просвистели снаряды, выпущенные по команде Гайнича, и долина откликнулась оглушительным эхом. Снаряды разорвались совсем близко, то ли на противоположном склоне, то ли на пашне — среди убитых. «Сегодня вечером надпоручик уйдет, и я останусь один. Буду слушать эти свистящие звуки и курить еще больше, еще больше сыпать проклятьями, потому что это будут снаряды, посланные мной, я буду приказывать и давать команду». Кляко отбросил сигарету и не смог выругаться. У него был вид застигнутого врасплох человека. Глаза были вытаращены.
Надпоручик Гайнич вел пристрелку батареи. Он переносил огонь с места на место, словно ощупывал землю перед собой, и проверял, где она тверже всего. Немецкие окопы ожили, сопровождая выкриками каждый залп. Немцы находились здесь не первый день, понимали, что артиллерия как каменная стена. И эту стену возводил сейчас надпоручик Гайнич. Но не прошло и двух часов, как убило четверых. Советские снайперы были опасны, их пуля нашла и рыжего кельнера из Судет. Убитых немцы складывали в большую яму, а ночью, когда полевая кухня привезла обед и прибыли повозки с провиантом, мертвецов отправили на кладбище, к Хальшке.
Надпоручик Гайнич приблизил заградительный огонь к разбитой деревне. Снаряды рвались среди развалин кирпичных стен. Неожиданно из-за самой высокой выскочил «виллис» и тем же путем, что и танк, помчался по широкому проселку к лесу.
Гайнич не спешил его обстреливать, хотя расстояние между кирпичной стеной и лесом было не больше полукилометра. Он прицелился на глазок, продолжая обстрел, и «виллис» влетел в фонтаны земли. Кто-то из него выскочил, автомобиль перевернулся вверх колесами и загорелся.
— Урра! — взревели немецкие окопы.
— Ritterkreuz, Ritterkreuz, — начало скандировать какое-то подразделение, это выкрикивали все блиндажи, кроме тех, что были справа и ничего не видели. Тут застрочили пулеметы, защелкали винтовочные выстрелы и даже взвились осветительные ракеты. Казалось, небо сейчас лопнет и рассыплется на кусочки. Долина застонала и завопила человеческим голосом. Только девятеро на черной пашне молчали, но трое из них по-прежнему протягивали руки на восток, где сверкала стальная башня.
Поручик Кляко ничего не понимал. Особенно озадачил его немецкий унтер-офицер, который бросился ему навстречу и заорал, улыбаясь во весь рот:
— Gut, gut! Браво! — И тут же исчез.
Где-то заиграла гармоника, запели солдаты. В ответ на поющих посыпались мины. Они падали густо, бесшумно, словно летний дождь. Они не взрывались, не свистели, подкрадывались неслышно и рвались среди молодых буков. Гармоника фальшиво вскрикнула и смолкла. Пенье оборвалось. Полуоглохший, испуганный поручик Кляко вбежал в блиндаж НП. Кто-то истошно вопил.
— А-а, вот и барин пожаловал! — холодно встретил поручика Гайнич, но вслед за тем дружески похлопал его по плечу. — Что скажешь, старина? Я им показал!
— Ничего не знаю.
— Я накрыл русскую автомашину, дружище! Прихлопнул на месте.
— Отстань! Мне так хочется выпить, что за каплю рома я готов отдать сапоги.
Пока Кляко стоял в окопе один, засияло солнце и лужа заблестела, как стекло. Стекло! Бутылка! Ром! Эта навязчивая картина никак не покидала его. Теперь оставалась одна надежда на Лукана или на кого-нибудь из молчунов.
— Нет у меня ни капли. Вы весь выпили, пан поручик, — огорченно сказал Лукан.
— Вот как! А у вас нет? — спросил он у молчунов.
— Из той малости, что нам выдали?
— Пол-литра! Много ль это для мужчины?
Молчуны выпили свою долю еще ночью, когда пришли на НП, но так трусили, что незаметно было, пьяны они или нет.
— Хватит! — выругался Кляко. — Пусть весь мир катится к чертовой матери, раз мне нельзя достать чуточку рому!
— Сходим к майору. В худшем случае он нас выгонит, — предложил Гайнич.
— Блестящая идея! Просто здорово, герр командир. Ты догадлив.
— Ну так пошли, старина!
Для Гайнича была важна не выпивка, ему просто хотелось видеть равных себе людей и свидетелей его геройского подвига. Этот потерявший человеческий образ Кляко ни черта не смыслит в таких делах.
— Идем! — Кляко, не задумываясь, вышел из блиндажа, но Гайнич ни на минуту не забывал, что он командир.
— Лукан! Ты будешь наблюдать. Если что заметишь, позови меня. Послушай, Кляко! За полем в разбитой деревне есть высокая кирпичная стена, ты ее, конечно, видел. Так из-за этой самой стены вылетел автомобиль…
— Очень хорошо. Тебя сделают генералом. Ты герой!
Кляко торопился. Когда они шли мимо немецкого дзота с пулеметами, солдаты вскочили и вытянулись. «Браво, браво!» — воскликнули они, и Кляко услышал еще: «Mensch, Slowaken!»[41]
— Слыхал?
— Ты герой, я же сказал тебе!
Кляко заметил командный блиндаж и забыл о Гайниче.
Внутрь их проводил часовой.
— А мы только что собирались к вам, — сказал майор, снимая шинель и доставая из всех карманов бутылки.
«Литр или семьсот граммов!» — мелькнуло в голове Кляко.
— Здравствуйте! Майор фон Маллов.
— Поручик Кляко! — И он пытливо посмотрел в лицо майору.
— А мы уже с вами знакомы, господин поручик, — сказал немецкий обер-лейтенант, выходя из-за занавески, и пожал руку Кляко. — Обер-лейтенант Виттнер, — представился он, глядя в глаза поручику. — Желал бы узнать, господин лейтенант, кто из вас этот удачливый стрелок?
— Обер-лейтенант Гайнич! — Кляко отступил в сторону.
— Поздравляю, от души поздравляю. Это был отлично сыгранный артиллерийский концерт. А машина — лучший его номер. Поздравляю!
Майор пожал руку надпоручику Гайничу, то же самое сделал и обер-лейтенант Виттнер, сказав при этом отрывисто и резко:
— Поздравляю!
Кляко переводил. Гайнич улыбался.
— Пожалуйста, господа, садитесь… Придется мне хозяйничать, моего ординарца полчаса назад убил русский снайпер. У «Ивана» здесь много снайперов. Бедняга Вилли…
Обер-лейтенант налил всем.
— Ваше здоровье, господа!
Майор замер и слегка наклонил голову.
— Ваше здоровье!
— Превосходный коньяк, господин майор.
— Французский, — скупо улыбнулся фон Маллов и вытер белым платком уголки рта. В его душе шевельнулись какие-то приятные воспоминания. — Еще месяц назад я был в Париже.
— И вы не жалеете о такой… сказал бы я, внезапной перемене? — Кляко заставлял себя говорить вежливо.
— Нет, ничуть. — Вопрос Кляко пришелся майору кстати. Опираясь на стол, сбитый из ящиков, он отрывисто приказал обер-лейтенанту: — Наливайте, прошу вас! — Потом доверительно обратился к Кляко: — Вы видели пашню, где лежат девять убитых? Неделю назад у нас с русскими произошел серьезный разговор.
— Видел, господин майор.
— Очень серьезный! — подчеркнул обер-лейтенант Виттнер.
— Пашня черная, как сажа, — продолжал майор, выкатив глаза. — И я буду недалек от истины, если скажу, что эту землю можно мазать на хлеб.
Он провел пальцами по открытой ладони.
Обер-лейтенант Виттнер стоял за словацкими офицерами. Наклонясь к Кляко, он громко зашептал над его ухом:
— Наш господин майор душой и телом земледелец. Пусть этот мундир не вводит вас в заблуждение. Вы не верите?
Обоих немцев забавляло удивленное лицо Кляко, и вдруг они оба взорвались смехом, словно грохнули две мины, установленные на одно время. Этот смех был искреннее всего остального.
У надпоручика Гайнича, должно быть, подступала к горлу желчь. Он казался кислым и, судя по всему, пересиливал себя. Он ничего не понимал: никто им не интересовался. Говорили что-то о земледельцах, но какую связь это имело с тем, что здесь происходило, понять он не мог. То, что ему удалось накрыть русский «виллис», ничего как будто не значило. Но разве майор не слышал скандирующих солдат? Может быть, во всем виноват Кляко, потерявший человеческий образ? Не завидует ли ему Кляко и не старается ли всеми способами замолчать его геройский подвиг? Где он так научился говорить по-немецки? Он, Гайнич, тоже ходил в гимназию и целых восемь лет учил немецкий язык. Но это был необязательный предмет, и Гайнич хорошо помнил, как еще в шестом классе считалось геройством неуменье просклонять слово «die Mutter».
Все чокнулись, и майор фон Маллов невольно вытер уголки рта белым платочком. Потом он заговорил:
— Да, господа, в Мекленбурге у меня поместье. Но мои занятия земледелием не нужно понимать буквально. Господин обер-лейтенант Виттнер любит шутить, очень любит. По нашей мекленбургской традиции — нет различия между солдатом и земледельцем. Мы воюем и никогда не отказывались от этого, но одновременно мы занимаемся колонизацией… Налейте, пожалуйста, господин обер-лейтенант! Французский коньяк так же превосходен, как головы в нашем генеральном штабе. — Он вызывающе рассмеялся. — Мы воюем, но при этом смотрим на страну глазами земледельца. — И он быстро поправился: — Глазами немецкого земледельца, а, откровенно говоря, среди коллег, среди коллег по оружию, так и следует говорить, — глазами мекленбургского земледельца. Поэтому я и спросил, видели ли вы эту пашню.
Майор поднял стопку и выпил один, никого не дожидаясь.
— Наш господин майор — безнадежный Lokalpatriot[42], — сказал обер-лейтенант Виттнер, и это вызвало новый взрыв хохота.
Оба немецких офицера — между ними была большая разница и в чине, и в общественном положении — удивительно походили друг на друга, как шестеренки одного механизма, и мало-мальски наблюдательный человек мог прийти к выводу, что своими замечаниями Виттнер льстит фон Маллову, удерживая его расположение к себе.
— Я хочу, чтобы вы меня поняли. — Уже порядком распалившийся майор налил себе и поставил бутылку перед Кляко, которого не надо было упрашивать. — Правильно. Наливайте же! Коньяк на то и существует. Поймите меня правильно. Господин обер-лейтенант Виттнер происходит из Кеппельна, из какого-то захолустья в Шлезвиг-Гольштейне. Я никогда там не был и не жалею. Море, рыба, сети и яхты. Я всегда говорю ему: милый мой, у вас пиратская кровь, хек-хек, ваши предки, хек-хек, грабили на морях, хек-хек… — Майор задыхался от смеха.
— Совершенно с вами согласен, господин майор, хек-хек!
Немцы даже смеялись одинаково: словно покряхтывали.
Кляко налил себе, Гайничу, который совсем стушевался и сидел молча — страдающий, пристыженный и жалкий.
Откупорили вторую бутылку и тотчас же ее почали.
— Должен вам пояснить, господин офицер, наш пират ничего не понимает в земле и смотрит на нее с таким же отвращением, как я на сардинки. Ненавижу сардинки. Сардинки и русских, хек-хек!
— Сардинки и русских! Хек-хек, изумительно! Боже мой! — Виттнер вытирал заслезившиеся глаза.
Каждый уже наливал себе сам. Бутылка переходила из рук в руки. В блиндаж не доносилось ни звука.
— Я был в Норвегии. — Майор расстегнул мундир. — Господа! Вот куда ездить отдыхать! Построить там желтый, красный или зеленый охотничий домик, а потом ловить в фиордах лососей… Вся Голландия — крошечный садик; а во Франции удается только вино. Этакая Рейнская область номер два. А здесь! — указал майор под стол. — Здесь моя мекленбургская душа поет.
Он мечтательно посмотрел сквозь табачный дым. Коньяк понемногу его разбирал, он то и дело узкой ладонью вытирал уголки губ.
Кляко подливал себе и ужасался. Он не участвовал в разговоре, да его об этом и не просили. Немцы вполне довольствовались разговором между собой, и Кляко был им нужен лишь как благоговеющий слушатель, ошеломленный зритель. Возможно, что они собирались блеснуть своим величием. А Кляко удерживал здесь только коньяк, и он до того вошел во вкус, что, наверно, заплакал бы, отними у него недопитую бутылку и унеси ее за занавеску.
Разговор взлетел на головокружительную высоту, откуда Норвегия представлялась майору фон Маллову глухим, обледеневшим уголком земли, а Голландия — садиком, крошечным садиком с тюльпанами, где некуда вытянуть ноги и как следует улечься. И проживи Кляко хоть миллион лет и не встреть он такого майора фон Маллова, ему бы и в голову не пришло, что вообще можно думать подобным образом.
— После этой войны здесь будет тоже Мекленбург. Великий Мекленбург без песков и сосен.
Фон Маллов уже видел его перед собой. Его пьяные глаза поблескивали даже в клубах табачного дыма.
— А Шлезвиг-Гольштейн, господин майор? — Это прозвучало отнюдь не льстиво.
— Пираты? Для пиратов мы отведем кусок берега у Черного моря. Какие-нибудь анчоусы там найдутся.
— Нет, нет, господин майор, анчоусов там нет, — с грустью отвечал Виттнер. — Не шутите.
— Не разочаровывайте меня.
— Там нет анчоусов! Клянусь честью офицера! — заплакал обер-лейтенант.
— В самом деле? — Майор тоже опечалился. Он расстегнул рубашку и стал почесывать себе живот и бока. — Вши! Проклятые вши.
У Кляко внезапно похолодело лицо и лоб, холод проник в грудь. Он с трудом пересиливал противную дрожь. Голос обер-лейтенанта Виттнера доносился откуда-то издалека.
— Шлезвиг-Гольштейн — это часть великого немецкого рейха. Дания тоже часть великого рейха! Дания — это Шлезвиг-Гольштейн! Да, да, да! — стучал Виттнер кулаком по столу.
— Lokalpatriot, Lokalpatriot! — захлопал в ладоши майор.
— Мы создадим новый порядок! Мы покажем русским! Уничтожим их, уничтожим! Ликвидируем, сотрем с лица земли! Уничтожим и переселим поляков и чехов… Ликвидируем французов. После славян они самые опасные!.. Бельгийцы и голландцы могут остаться на своем месте. А Данию переименуем в Великий Шлезвиг-Гольштейн.
— «Так, так, так, они сеяли мак…» — Майор восторженно хлопает в ладоши. — Вот так-то, мой милый. Бельгийцы и голландцы — это подлинные немцы, наши соплеменники, а ты — пират из Каппельна.
— Да здравствует Каппельн, мой родной город!
— Да здравствует великий Мекленбург! Выпьем за его блестящее будущее, господа!
Майор встает, желая чокнуться с Кляко. Рука у майора дрожит, расплескивая коньяк.
— Благодарю вас, господа. С меня хватит. — Лед в груди Кляко растаял, ему стало жарко.
— Пейте, пейте! Как вы смеете отказываться! — взревел обер-лейтенант Виттнер.
— Тихо! Не оскорбляйте моего гостя. Если хватит, значит, хватит. Вы доставили мне большое удовольствие, хек-хек! До свидания, волшебные стрелки, хек-хек!
— Хек-хек!
Виттнер вытирает слезы.
Кляко вышел вслед за Гайничем.
У двери его начало рвать. Немецкий часовой отвернулся. А майор фон Маллов глядит из-за стола, хлопает в ладоши и кричит как полоумный:
— Ба-ба, ба-ба, ба-ба…
Гайнич почти трезв. Он заметил, что штанина у Кляко на колене разорвана и стянута медной проволокой.
РАЗДЕЛЕННЫЙ ГОРОД
В Правно о Яне Мюних знали только, что этой высокой рыжеватой девушке около двадцати лет и что она превосходно вяжет на ручной машине чулки и свитеры. Раз в две недели они с матерью выходили из дому, неся в белых узелках свой товар, и отправлялись продавать его по окрестным деревням. Домой они возвращались среди дня или под вечер.
Но в эту зиму торговля вразнос пришла в упадок. Жена Киршнера, председательница Frauenschaft[43], энергично занимавшаяся Winterhilfe[44], вместе с членами этой дамской организации завалила мастерскую Мюнихов заказами. Яна целыми днями сидела за машиной и вязала, ее брат работал на второй машине, а по ночам еще красил и сушил мотки вискозной пряжи, развешивая ее на шестах в комнате столько, что нельзя было пройти. Старуха Мюних сшивала связанное, вела в тетрадке учет, а также готовила обед, стирала, обшивала семью и убирала в доме.
Старый Мюних занимал в доме унизительное положение. Он был никто. Единственное, чем он мог похвастать — это тем, что он точно помнил, с каких пор попал в такое положение.
— С тех пор, товарищи, как моя старая ведьма организовала капиталистическое производство.
Он имел в виду свою жену.
Мюних презирал заведенные теперь порядки в доме, грохочущие машины, разноцветную пряжу на шестах. Когда ему приходилось подлезать под эти пестрые гирлянды, он отваживался на слабый протест:
— Когда-нибудь я все это вышвырну, сожгу этот хлам, честное слово, так и будет! Сгорит в два счета, ведь все из дерева. Дьяволы! Все вы дьяволы! Убирайтесь в преисподнюю!
— Посмотрела бы я! Только попробуй! Повторяю: попробуй — своих не узнаешь! Старый черт!
— Сама ты чертовка!
И старый Мюних предпочитал удалиться.
Дома он ни к чему не прикасался, всю зиму ждал весны, радовался, что скоро она придет и он пустится странствовать по белу свету, будет работать. Ведь «инженеры-архитекторы» всюду требуются. Весна приближалась. Шел уже февраль. Переждать еще март, а в апреле все правненские мастера разбредутся кто куда. Уйдет и он. Близость весны придавала Мюниху смелости. Он цеплялся ко всем в доме, задирался.
— Недолго вам меня терзать! Буржуи! Бедноту грабить — вон что затеяли!
— Какую бедноту? На разных барынек работаем, пусть платят! Это же Winterhilfe, пустомеля!
Мюних не знал, что возразить, но по этому поводу не горевал. «Этот-то месяц я уж перетерплю, хоть бы и на острие иглы сидеть пришлось», — утешал он себя, отправляясь посмотреть, что делается на свете да каково там людям живется-можется. На улице он попадал в объятия такого же, как он, «инженера-архитектора», и они уже толковали о политике. Вечер заставал их у Домина, где они сидели до ночи. Расходились в полночь, когда Домин выгонял их вон.
Два раза в месяц Мюних позволял себе выпить пять кружек и, будучи немцем, точно соблюдал и срок и количество. От пива ноги у него иной раз подкашивались, а иной раз и нет. Не подкашивались они в те дни, когда жена кормила его обедом.
— Возьми в духовке. Лопай! И тарелку с ложкой не забудь помыть! Кому ж еще мыть? Мне некогда.
— Только для эксплуатации время есть, — бормотал он, но съедал обед, и ноги его от пяти кружек не подкашивались. Его тянуло, подмывало выпить и шестую, но он справлялся с соблазном. И не мог удержаться, чтобы не похвастать на весь трактир:
— На свои пью. Будь я миллионером — и пил бы как миллионер. Но я «инженер-архитектор», — и пить должен по-другому. Пять кружек! На шестую не хватает, весна еще далеко. Моя ведьма завела капиталистическое производство, по комнате пройти нельзя. Вы меня послушайте, товарищи! Моя ведьма накопила целый миллион! А на что ей столько денег? В могилу она их возьмет? — Он хохотал, показывая свои два стальных зуба. — А и возьмет, так они там ей ни к чему. На том свете не пьют, не едят, это давно доказано, — кричал он на весь трактир, ораторствовал, но никто его не слушал, и голос Мюниха тонул в оживленном гомоне.
Сытый, он засыпал после пятой кружки. В полночь его приходилось вытаскивать, вернее, выносить. Просыпался он на крыльце Домина. Там его оставляли друзья-приятели и товарищи, уже однажды проученные: пьяного Мюниха как-то раз доволокли до дома, но «миллионерша» набросилась на мужа и избила бы его, если бы Мюниха не вырвали из ее когтей. Дело дошло чуть ли не до драки. И она, похожая на привидение, в длинной белой рубашке, гналась за ними до самой площади. Лучше всего Мюниху было на крыльце у Домина.
Шел февраль 1942 года. У Мюнихов все катилось по наезженной колее. И тут Иозеф Мюних, девятнадцатилетний брат Яны, получил повестку из Deutsche Partei. В девять часов он ушел в ратушу, а в половине двенадцатого вернулся весь в слезах.
— Там было шестеро господ, двоих я даже не знаю. Сперва они уговаривали, потом стали кричать, я и дал подписку. Я должен пойти в войска СС. Не знаю только — когда. Это еще, мол, решается. Завтра надо пойти в ратушу, какой-то господин из Братиславы поговорить со мной хочет. Вы не знаете, что ему от меня нужно?
И в назначенное время за ним пришли пятеро, шестым был жандарм. Словно они не верили, что он явится сам. А он уже собирался, торопливо допивая горячий кофе. Иозеф перетрусил — ведь все они были с пистолетами и подгоняли его: «Пошли, пошли!»
Когда Иозеф вышел с ними из дому, на нем лица не было. Яна проводила его до самой ратуши, громко плача.
— Молодая Мюнишка воет, — смеялся мясник Пешко.
А старуха Мюнишка впервые в жизни замолчала. Весь день она ни к чему не прикоснулась, не плакала, сидела словно каменная, либо неслышно, как призрак, бродила по кухне.
Мюних сперва приглядывался ко всему этому со стороны, будто не его было дело. «Они — сами по себе, а я — сам по себе». Но когда Иозефа уводили и он вышел со двора, а потом зашагал через площадь, старику стало страшно. А когда сын скрылся в дверях ратуши, Мюних прекрасно видел, как Иозеф входил в дверь, словно норовистый конь, — в груди отца захрипело, он произнес: «Господи Иисусе!» — и сломя голову бросился к ратуше проститься с сыном. Его не впустили.
В этот день взяли семерых. Двое сбежали.
Соседка пришла с новостью:
— Эфэсовцы оцепили дома этих двух, обшарили все углы, стариков увели на допрос.
Она еще долго сидела на кухне.
Яну это не тронуло, но родители не спали всю ночь. Мать плакала в большой комнате. Над ней сохла развешенная пряжа, перед ней стояли стихшие вязальные машины. Они не гремели, ничьи руки их не обслуживали, и разбитое сердце матери высказало неосуществимое желание:
— Лучше бы провалиться мне, чем заводить их в доме!
Слова эти походили на проклятие, потому что машины, только они довели Иозефа до беды. Два года они держали парня, приковав его к месту, заморочили ему голову, когда он нуждался в просветлении, и не выпускали за порог как раз в те годы, когда он должен был людей узнать. Из-за них, из-за этих проклятых железок, он ничему не научился, умел только вязать, красить, сушить, и все посторонние люди были для него чужими, он их боялся. Двое сбежавших — те не побоялись. Как и другие одиннадцать, что отказались записаться. Они-то не вязали чулки и свитеры, не красили вискозную пряжу, не сушили ее. А они были сверстниками Иозефа. Ведь в войска СС вступают добровольно!
— Боже, кто мне это сказал? От кого я это слышала? Да от пани, что вчера приходила за шестью свитерами для Winterhilfe.
Мюних возненавидел себя. «Они — сами по себе, а я — сам по себе!» Он ненавидел себя. Он отец! Иозеф — его сын! Его ли сын Иозеф, это еще неясно. Слушался он отца? Нет. Он слушался матери. Сам Мюних ничего не требовал от сына, решительно ничего. Случалось, похлопывал его по спине, говоря: «Мать тебя эксплуатирует! Не поддавайся!» А сын лишь сутулился. И он невзлюбил сына. «Не то чтобы совсем невзлюбил, я не могу это утверждать, но было в нем что-то такое, за что я не уважал его. Как можно говорить так о своем сыне? Девятнадцатилетний парень, разве это человек? Мальчишка! Что он понимает в жизни? Что он понимает? А я ему ничего не объяснял и даже не пытался объяснить. Вот он и сдался в ратуше. А не должен был! В войска СС вступают добровольно. На него прикрикнули, он и поддался. Кричала на него мать, он ее и слушался. Почему не кричал я? Соседка говорила, что вызывали человек двадцать. Согласились только девять, да и то двое из них сбежали. Она еще добавила, что в Правно их нет, но ушли они недалеко. Сбежал Келлер, молодой Келлер, и Колеса. Кто им посоветовал? Я знаю старика Колесу и старого Келлера тоже. Насчет Колесы понятно. Старик симпатизировал коммунистам и нашел время объяснить сыну, что творится на белом свете. Но почему сбежал молодой Келлер, если его отец носит свастику, организовал в Правно генлейновскую партию и кричит «хайль»? Какой позор, какой стыд на мою голову! Они — сами по себе, а я — сам по себе! Почему я это допустил? Сын старого Мюниха пошел в эсэсовцы! Боже, как это могло случиться? Не много мне надо было ума, чтобы додуматься, что в ратуше его не ждет ничего хорошего. Сейчас война, а я вел себя легкомысленно. Легкомысленный отец и человек. Боже, а эти Советы все отступают! Что нас ждет?..»
Этот вопрос так испугал старого Мюниха, что он сел на кровати и прислушался. Ничего не слышно, не видно, темно и тихо вокруг. «Здесь я не выдержу, надо сходить к Домину».
Он оделся и ушел. Было часов десять. До полуночи он выпил семь больших кружек пива и семь стопок рому, не проронив за все это время ни слова. Никто его не беспокоил, никто не решился подсесть к его столу. За седьмой кружкой он заплакал, все это видели, но прикинулись, будто ничего не замечают, словно старого Мюниха тут и не было. А когда Домин своими медвежьими лапами стянул вниз жалюзи и запер дверь, старик остался сидеть на крыльце трактира. Он смотрел в темноту. В городе стояла тишина. У верхнего костела лаяла собака. Когда под утро засвистел скорый поезд, Мюних произнес: «Господи Иисусе!» — и потащился домой.
Наступил апрель. От его тепла проснулась река и ручейки. Приятели, друзья и товарищи «инженера-архитектора» разбрелись кто куда. Мюних остался в городе и с грустью в душе пропивал женин миллион под зеленым потолком «Городского трактира». По большей части он сидел там один, потому что после февраля многое переменилось в трактире Домина, так же, как и в Правно и в доме Мюниха. Старуха Мюнишка чахла, не открывала тетрадку, не занималась подсчетами, не кричала. Барынькам из Frauenschaft у нее всегда наготове был ответ: «Для Winterhilfe не работаю», — и они перестали ее посещать. Они не ходили больше к ней и по другим причинам: «Близится лето, и всякая сознательная немка должна забыть о Winterhilfe. Winterhilfe — помощь зимой, но больше она не понадобится, потому что это лето принесет окончательную победу немецкому оружию. Думать о новой Winterhilfe — государственная измена». Так сказала фрау Киршнер, и дамская организация с ней согласилась.
Теперь вязала одна Яна. Она сама красила, сама сушила пряжу, но это уже не было прежней работой. Она Яну не радовала, и Яна избегала ее, а мать не настаивала. Каждый день в половине десятого Яна смотрелась в зеркало, накидывала на голову шерстяной платок и выходила из дому.
Сегодня было тепло, и она набросила платок на плечи.
— Добрый день! — поздоровалась Яна с фрау Ласлоп, членом Frauenschaft, и поклонилась ей.
— Так жарко, а вы в теплом платке, фрейлен Мюних? Знаете вы, что нынче ночью фрау Киршнер видела скелет. Голый скелет, такой зеленый! — Но тут фрау Ласлоп, жена процветающего лесоторговца, вспомнив о своем общественном положении, ушла без дальнейших объяснений.
Яна постояла, вздохнула и расправила плечи и грудь — на нее смотрел незнакомый парень. Она покраснела, опустила голову и быстро пошла прочь. Парень отвернулся к витрине. У него были черные глаза и ботинки на толстой подошве. Вот все, что Яна разглядела. Но эти глаза были теперь неотступно с ней. Они совсем не походили на глаза Иозефа. У него были тоже черные глаза, но веселые, и такими она любила их больше всего. Они смеялись, если он говорил ей смешное, а когда молчал — молчали и глаза, становились печальными. Однако взгляд их не обжигал, не заставлял опускать голову, перед ним она никогда не краснела. А это кто был? Почему он там стоял и пристально смотрел на нее? Его черные глаза преследуют ее и сейчас, стоят перед ней, тревожат, вызывают трепет в груди Яны. Она завернулась в белый шерстяной платок.
— …все это, прошу меня извинить, выдумки. Фрау Киршнер преувеличивала. Это всем женщинам свойственно.
— Я бы не поверил, нет, не то, что вы…
Обширная квадратная площадь жила обычной жизнью. С самого раннего утра ее заполняли сотни людей, десятки деревенских телег и вдвое больше лошадей. Все это вместе казалось гигантской приемной и одновременно конюшней. Люди и животные здесь мирно уживались. Лошади хрупали сено, перекликаясь громким ржанием. Хотя мух еще не было, они по привычке обмахивались хвостом, мотали головой, позвякивая железными удилами.
Люди обычно беспокойнее животных. Но в это утро они не расхаживали, не суетились, словно муравьи в муравейнике, а стояли группками, рассуждали, сопровождая свои слова резкими выразительными жестами.
— Одно у меня в голове не укладывается: почему скелет был зеленый? Смерть ведь белая! — Человек беспомощно взмахивает рукой. Сейчас эта рука должна опуститься. Так и есть — опустилась.
— Белая? Почему же белая?
— Да ведь всякий знает, что она белая! — восклицает пожилой усатый крестьянин в бараньей шапке, для пущей убедительности вздымая руки к небу и качая головой. Он не мог себе этого простить. Вечно ему попадаются люди, не понимающие самых простых вещей.
— Кости белые — вот почему! — приходит ему на помочь женщина, стоящая рядом. Она шагнула вперед, а высказавшись, отступила на прежнее место.
— Кости! Вот почему! — Усатое лицо просияло, крестьянин смотрит на женщину с нескрываемым уважением. — А еще говорят, что у бабы ум короток.
Мудрая женщина смеется…
— Ха-ха!
Лошади стоят на площади, подбирая мягкими губами стебельки сладкого сена, упавшие на землю.
В десять часов Яна должна быть на почте. С самого февраля она ходит туда каждый день узнать, не пришло ли письмо от Иозефа.
«Нет, мадемуазель Янка, не пришло, — отвечает почтарь. — Не понимаю я вашего брата. Будь у меня такая сестра, ежедневно писал бы ей. Хоть бы из Америки!» — «Какая же?» — «Красивая! У вашего брата красивая сестра». — «Так ведь это я и есть. Нас всего двое — Иозеф и я», — смеется в ответ Яна.
Ее смешит, что почтарь говорит о ней так, будто ее нет у окошечка, а ведь она стоит в метре от него. Их разделяет только деревянная стойка и большое матовое стекло с круглым отверстием. «Не люблю я матовые стекла». Сегодня она опять увидит своего почтаря. Он красивый, по фамилии Ремеш. У него тоже черные глаза, и он так хорошо смеется. Лучше, чем Иозеф. Что он обо мне подумает, если я стану ходить каждый день? Зря беспокою…»
— Матей! Пойдем пиво пить!
— Не пойду! — И Матей сплевывает в сторону, Яне под ноги.
— Ты что, в конюшне? Здесь барышни ходят.
— А, черт!.. Ну, пойдем, можно и пропустить кружечку…
…К столбу прислонился деревенский парень. Шляпа съехала на затылок, в правой руке — кусок колбасы, в левой — булка. Карманы набиты булками. Он жует, заглатывая огромные куски, давится и при каждом глотке наклоняет голову, словно лошадь.
Яне хочется сделать так, как она еще не делала и что неприлично. Ее волнует этот проголодавшийся парень. Ей хочется поближе заглянуть ему в лицо. Она спускает с плеч шерстяной платок и выпячивает грудь. Сейчас она пройдет перед ним, улыбнется. А что он сделает? Заметит ее? Но губы Яны дрожат, ноги деревенеют, она невольно замедляет шаг, так и не решаясь подойти к парню.
— И-ик! — давится парень и скалит зубы. — Ах ты, голубка. Умеешь выставлять эти самые… они у тебя, словно Татры. Ну, чего ж ты убегаешь? — кричит он вслед Яне, подняв над головой булку.
Пристыженная Яна убежала. На бегу она накинула платок на плечи, схватила его за концы и прикрыла грудь руками. Зачем она это сделала? Она не понимает молодых людей. Почему они засматриваются на ее грудь? Лицо у нее красивее. И волосы красивые, она моет их каждые три недели и каждое утро расчесывает и заплетает. С ними столько возни! За это время можно целый чулок связать.
— …Смерть показываться не любит, но уж если покажется, так не к добру.
Все только и говорят, что о смерти. Что же такое случилось?..
Яна уже забыла о фрау Ласлоп и о скелете тоже. Вот и улица, где стоит новое здание почты и на втором этаже работает он, Ремеш, за окошечком номер три. Сегодня их тоже будет разделять деревянная стойка и матовое стекло. «Не люблю я матовые стекла».
Но тут улица зашумела от множества голосов. Она запружена людьми, они что-то взволнованно обсуждают, громко кричат, а впереди шагает почтарь Ремеш с белым конвертом в руке. Он ведет толпу за собой, нет, она сама идет за ним, а он протестует. Он останавливается, машет белым конвертом. Наступает тишина, и все его слушают.
— Я ведь говорю вам, что у пана Киршнера сын погиб на фронте, и я несу ему извещение о смерти. Разойдитесь! Так нельзя себя вести! — кричит Ремеш, и на его голос сбегаются люди со всей площади. Толпа растет, теснит Яну к Ремешу. Он ее не видит. Она уже может коснуться его. Подняв высоко над головой белый конверт, он пробивает себе дорогу.
— Разойдитесь! У Киршнера погиб сын. Что вам еще надо? — громко повторяет он снова и снова.
Счастливая Яна ничего не замечает. Ремеш с ней, и нет между ними никаких матовых стекол.
Люди смотрят, выпучив глаза, на белый конверт а черной рамкой.
— Зеленый скелет! — раздается позади Яны визгливый голос, и Яна чувствует запах чеснока.
— Что такое? Что это значит? — К Ремешу проталкивается толстый пожилой жандарм.
— Смерть! Зеленый скелет!
— Что это значит, пан Ремеш? Я не позволю нарушать порядок в городе. Разойдитесь, именем закона! — Жандарм окидывает взглядом людей вокруг Ремеша.
— Я им то же самое твержу, да они меня не слушают, — усмехается Ремеш. — Опомнитесь и разойдитесь! У Киршнера сын погиб, я несу похоронную из Вены. Что вам еще надо? — кричит Ремеш толпе.
— Что? У Киршнера? Покажите!
Толпа стихает. Куниц, жандармский начальник, рассматривает белый конверт с чувством отвращения и страха, так же как и люди, столпившиеся на улице. Потом он поспешно возвращает конверт Ремешу.
— Нате! — После этого, словно стряхнув с себя какую-то тяжесть, что-то неопределенное, вселяющее неуверенность и скользкий страх, он отчетливо произносит:
— Именем закона, следуйте за мной!
Эти слова действуют на толпу, она расступается, отхлынув на тротуар, и дает дорогу Куницу и Ремешу. А на мостовой все еще стоит Яна и несколько подростков, которые ничего не поняли и долго еще ничего не поймут.
Куниц на полшага сзади пошел вслед за Ремешем к ратуше, находящейся по другую сторону площади. У обоих были строгие лица. Куниц подозревал, что здесь разыгралась какая-то дикая комедия. Он подержал в руках конверт с полминуты, но сообразил многое: сквозь довольно прозрачную бумагу конверта легко можно было прочесть: Ihr Sohn Franz Kirschner[45]. Штемпель венского почтамта был поставлен неделю назад. Неделю! А это вчерашнее происшествие с фрау Киршнер! «Ihr Sohn…» — крикнул зеленый скелет, как заявила фрау Киршнер еще вчера ночью в жандармском участке. Сегодня утром в садике перед домом обнаружили следы ботинок на резиновой подошве, такие сейчас носит каждый второй мужчина. Что это был за скелет, по подошвам не раскроешь, но они доказывают, что скелет был простым смертным. А Ремеш-то не так уж глуп: сейчас на ногах у него полуботинки, но это косвенно свидетельствует против него. Куниц отроду не слыхивал, чтобы письма торжественно носили по городу, словно святые мощи. Письмо! И чтобы почтарь, который его несет, возвещал на всю площадь, что написано, пардон, напечатано в письме. А это также свидетельствует против пана Ремеша. Да, все явно связано между собой, все нарочно подстроено, чтобы посеять в городе панику, нагнать на всех страх. Но зачем? Кто в этом заинтересован? Сам ли Ремеш или он исполняет чью-то волю? Кто бы ни был, можно, конечно, предположить только одно: это сумасшедший! «Выходит, пан Ремеш влип в неприятную историю и меня втянул в нее».
— Вы ведете меня в участок?
— Вы должны разъяснить некоторые… мелкие подробности, пан Ремеш.
— А есть и крупные подробности?
— Где вы, например, провели вчерашний вечер?
— А-а, все это из-за «зеленого скелета»? Поздравляю. У вас большие способности, пан начальник, вы умеете сопоставлять. Но оставьте их при себе, у меня алиби. «Городской трактир». Свидетели: пан Домин, несколько почтенных граждан города Правно, плюс трое пьяниц, вдребезги пьяных. Свидетелями они быть не могут. Достаточно?
— С какого часа и до какого?
— До какого? Это я знаю точно. В полночь пан Домин выгоняет клиентов, а пьяных собственноручно выкидывает. Он делает это удивительно ловко, приходите взглянуть. Чистая работа. Но с какого часа — точно не скажу. С начала девятого. Пять, десять, пятнадцать минут девятого. Не помню!
— А это письмо?
— Я родился под несчастливой звездой, пан начальник. Черт меня дернул разбирать мешок с почтой. Я это делаю часто, но сегодня была не моя очередь. Там оказался и этот конверт. Согласитесь, что он бросается в глаза. Такие письма в Правно не приходили, но, кажется, будут часто приходить. Конверт пошел по рукам, поднялся шум. Понятно почему! Конверт попал к Кильяну, и его затрясло. Он немец, но, подчеркиваю, достаточно порядочный, а штаб пана Киршнера на его участке. По всем правилам, письмо должен был вручить адресату Кильян. Я и говорю ему: «Кильян, Кильян, бедная твоя головушка. Ты принесешь такую горестную весть шефу правненских немцев, в душе он будет оплакивать своего сына-героя, потом придет в исступление и отдаст тебя в эсэсовцы». Больше я ему ничего не сказал. «Не пойду я с этим письмом, лучше под поезд брошусь!» — истерически закричал Кильян, как с ним иногда бывает. «Ну, тогда схожу я, я словак, у Киршнера руки коротки меня достать!» — говорю ему. И Кильян от радости расплакался. Я еще подумал, как противно, когда плачут мужчины. Вот и все, пан начальник. Или вам охота послушать еще что-нибудь трогательное? Что-нибудь такое, от чего растает даже сердце человека в жандармском мундире? Могу рассказать вам о своем трагическом детстве. Сущая мелодрама! Посмотрите-ка, Киршнер бежит, ему уже все известно. Не пристало пану Киршнеру бегать. Полные люди должны ходить степенно. Возьмите себя в руки, к интересах своей будущей карьеры возьмите себя в руки! Я лично вручу ему письмо. Увидите, как он его выхватит! И, не сходя с места, прочитает. Я выражу ему соболезнование, скажу, что геройски погибший Франц был моим лучшим другом и потому… и так далее. Он это проглотит. Сегодня — да. И ставлю свое месячное жалованье против вашей кроны, что он подаст мне руку и поблагодарит. Не желаете выиграть? Вам следует присоединиться к моему соболезнованию. Придумайте что-нибудь. А тем временем я бы подбил всех на площади тоже выразить ему соболезнование. До вечера затянулось бы дело, хе-хе! Молчите, он уже близко! После церемонии я к вашим услугам. Мне будет весьма приятно. Тсс!..
С холодным лицом Ремеш поклонился Лео Киршнеру.
— Этого не может быть! Не может этого быть! — бормотал тот, приближая багрово-красное лицо к конверту в черной рамке. Он вырвал письмо из рук Ремеша и, держа перед собой, крепко стиснул его пальцами. Сквозь бумагу проступили туманные очертания больших черных букв готического шрифта. Киршнер вскрыл конверт и стал читать. Глаза его бегали, вылезали из орбит, губы слегка шевелились, произнося: «Мой Франц, мой Франц…»
— Разрешите выразить мое искреннее, глубокое соболезнование. Франц был моим близким другом, пан Киршнер, — повысил голос Ремеш. — Ваш сын был великий человек. Родина его не забудет.
Ремеш протянул руку.
— Они пишут, пишут… — В смятении Киршнер показывал на последнюю строчку похоронной, потом мутным взглядом посмотрел на Ремеша и схватил его руку.
«Комедия! Дикая комедия!» — возмущался Куниц в душе и растерянно бормотал что-то бессвязное.
Киршнер протянул руку и ему, посмотрел на башенку ратуши. И, уходя, строго приказал:
— Пан Куниц, в двенадцать зайдите ко мне. — Левую руку он прижимал к груди.
— Мы можем идти, пан начальник. Я с величайшей охотой разъясню вам все до мельчайших подробностей.
«Он сумасшедший. Мои ребята сделают обыск в его доме. Я распоряжусь немедленно. Только сперва нужно основательно все обдумать. Все, с самого начала. Совершенно ясно, что он ненормальный».
— Я пошутил, пан Ремеш, — сказал Куниц. — Вы свободны.
— Приятно слышать, хе-хе! Вы весьма догадливы. Я хорошо это понял. Там стоит Яна, дочь Мюниха. Брат у нее эсэсовец. Что вы скажете, если я на ней женюсь?
«Он ненормальный, или…» — Куниц посмотрел в упор на Ремеша и встретил зловеще поблескивающий взгляд прищуренных глаз.
— Женитесь, конечно, пан Ремеш. Я вам мешать не стану.
Куницу с трудом удалось произнести эти слова. Он презирал Ремеша, брезговал им и отошел от него, как от неживого предмета, не прощаясь.
«Ну-ну! Это опасный дядюшка, он достаточно умен. Надо держать с ним ухо востро. Ищейка старой школы. Сразу видно! Что он знает? Все?» И когда Ремеш нехотя допустил это, он пожалел себя. Вчерашний вечер и нынешний день! Вчера он пережил несколько волнующих часов. Такие мгновения окрыляют. Но стоили ли они того? И холодный разум взял верх над минутной растерянностью: «Доказательства, дядюшка, доказательства! Для вас они всего важнее, а их-то у вас и нет!»
На площади стояли грохот и гомон. Это вереница телег выезжала из боковой улицы с грузом досок, направляясь на железнодорожную станцию. Окна в шести трехэтажных, во всех двухэтажных и одноэтажных домах были раскрыты. На подоконниках белели перины и подушки, пышные, округлые, напоминающие грудь и бока жены Домина.
Зябко поеживаясь, выбежал из двери правненский аптекарь Седлитц, потер руки, вытягивая длинные пальцы, и, когда вобрал в белый халат немного солнечного тепла, юркнул назад, в аптеку, крикнув:
— Греет, греет! И еще как греет. Все, конец зиме, конец этой проклятой зиме.
Деревенские мужики и бабы толпились на широкой площади, толкуя о зеленом привидении и неожиданной смерти Киршнерова сына. Беспредельное голубое небо было неподвижно. Оцепенели и три правненских еврея: Тауб, Политцер и Прайсер, по прозванию Пайзес. Они стояли тесным кружком, наклонившись друг к другу. Желтых звезд не было видно. Тауб почесывал ляжки.
— Добрый день, прекрасная Яна, — произнес, обнажив голову, Ремеш. Ни с того, ни с сего он, словно вокруг никого не было, обнял девушку за талию, и она негромко вскрикнула. Он тут же убрал руку, — так ему захотелось, и взял ее за локоть. — Я вас чуточку провожу. Разрешите? Вы не к нам на почту? — вполголоса произнес он над ее ухом.
— Да, на почту.
Яна представляла себе все не так. Он обнял ее, держит за локоть, и у нее деревенеют ноги. Тут столько народу! Все на них смотрят! И она может посмотреть ему в лицо. Оно близко, совсем близко, как она мечтала. Но у нее не хватает сил. Когда она дома, на диване, засыпает, и словно издали доносится тиканье стенных часов — тогда все легко и все делается по ее воле. Она ничего не боится, ноги у нее не деревенеют, и только тело охватывает какое-то томление. Иной раз настолько сильное, что ей надо спрашивать себя: «Откуда это идет и куда девается?.. Осторожно, — пан Ремеш, пожалуй, еще обидится». Как можно осторожнее она пытается высвободить руку. Иначе ей не устоять на ногах. Она упадет. Это трудно, очень, очень трудно. Она дышит тяжело, словно поднимается на крутую гору, вон ту, что высится над Правно.
— Вы за письмом от брата? Нет письма. Брат забыл вас. Будь у меня такая красивая сестра, я писал бы ей каждый день, хоть бы и из Америки.
Яна не знает, как высвободить руку из клещей. Она смотрит на Ремеша. Встретив взгляд его черных глаз, она резко отворачивается. Он глядел на ее грудь. У него белые блестящие зубы. Скорей натянуть платок!
— Ваш брат эсэсовец. И Франц Киршнер был эсэсовцем, а теперь он павший в бою герой. Вы дрожите, Янка, что с вами? Боитесь за брата? И я за него боюсь. Не желал бы я вручить вам белый конверт в черной рамке. — Тут Яна вырвала руку из железных пальцев Ремеша и в недоумении уставилась на ухмыляющееся лицо. А его губы снова смеялись, поблескивали белые зубы. — Я плохо воспитан — тяжелое детство и так далее, милочка.
Он хотел было взять ее за подбородок, но Яна уклонилась. Она готова бежать, что-то в Ремеше теперь отталкивало ее. Уже без дрожи она переносила его искрящийся взгляд. Что-то в ней изменилось. Разобраться в этом Яна не умела. И не убегала она лишь в надежде, что все станет как прежде и что ей опять захочется услышать его голос и, лежа на диване, испытывать прежнее томление.
— Вам это неинтересно, Янка. И мне. Я болтаю попусту. Если я вижу кого-нибудь перед собой, я должен говорить. Удивительная болезнь, не правда ли? У меня из-за этого вечные неприятности. — И Ремеш понизил голос: — Сегодня в пять мы можем встретиться. Здесь! Или где вам угодно! Назначьте место сами, мне все равно где. — Он приближался к ней, а она отступала, потом лицо ее болезненно исказилось, и она побежала домой.
— В пять! — крикнул он ей, уверенный, что она придет. «Придет. Она будет моей. Интересно, чем сестра эсэсовца отличается от других? Ура, весь мир будет у моих ног!»
Ремеш вернулся на службу и сообщил всем:
— Панихида прошла благополучно.
Он снова взялся за работу. «Разве это работа, на почте-то? Однообразная, как пески в пустыне», — любил он говорить. Но сегодня он с головой ушел в нее и очень удивился, когда наступил полдень. Помещение почты опустело. В одиночестве он подумал о Яне: «Придет». Но до пяти было еще слишком далеко. Дело было не в этих пяти часах, вообще дело было не во времени. «Возможно, что в кабинет Киршнера сейчас входит начальник жандармерии. Должно быть, он уже там, потому что Киршнер, как всякий немец, любит точность. Они не ладят между собой. Киршнер не любит Куница, как не любит все ненемецкое. Но в данном случае это вещь второстепенная и не имеет значения. Старый криминалист прежде всего захочет спасти свою шкуру. Затея с письмом была плохо продумана. Если бы я не напугал Кильяна, он сам отнес бы письмо Киршнеру. И у Кильяна хватило бы ума положить письмо на стол секретарше, на газету «Гренцбот», сказать: «Хайль Гитлер!» — и уйти. На почте все знали о смерти Франца. Надо было послать кого-нибудь на площадь. Нет… Пойти на площадь нужно было мне самому да шепнуть двум-трем приезжим мужикам эту новость, и она тут же разнеслась бы по всему городу… Затея с письмом плохо продумана. Теперь далее тугодум Киршнер легко догадается, что похоронную умышленно задержали на почте, а затем кто-то натерся фосфором — хе-хе, недурная была идейка! — и в таком виде предстал перед его женой. А когда зеленый скелет привел обывателей в смятение, торжественно припожаловал мертвый Франц и взбаламутил город окончательно. Но в наш блестящий век мало кто верит в привидения. И меньше всего начальство. Старая ищейка Куниц не упал в обморок от страха, услышав о выходце с того света, а деловито спросил меня, где я был вчера вечером. Об этом стоит подумать». Ремеш не чувствовал голода. Но его охватила мрачная неуверенность — ощущение, до сих пор ему неведомое. Кто-то должен решить его судьбу, и кто-то уже мог ее решить… Слова Куница звучали неубедительно: «Я пошутил, пан Ремеш. Вы свободны… Вы свободны…» Куниц старая ищейка. Но у него нет доказательств! Как я мог это допустить? До сих пор я сам решал свою судьбу. И не только свою. Яна? До нее еще слишком далеко. До пяти многое может произойти…»
Матовое стекло. Цифра три просвечивает сквозь него, словно готический шрифт сквозь конверт. Помещение просторное, этакая небольшая площадь, но Шефу душно, что-то его здесь гнетет.
Он выругался и встал. Привел в порядок стол, запер его, ключ положил в карман и вышел, но тут же вернулся и бросил ключ на стол.
— Почему вы так задержались, пан Ремеш?
Он не помнил, что ответил телефонистке. Вон отсюда, и как можно скорее! Полдень, пора обедать. Но голода Ремеш не чувствует. Рука в кармане сжимает пистолет. Куда идти? Не в помещение, нет, никаких помещений, там могут схватить. Теперь над его головой должно быть небо. Площадь, улица, поля. Поля? Улица и площадь. Вот ресторан, где он обедает и ужинает. Ни в коем случае! Черный ход здесь ведет в глухой двор, окруженный высокой кирпичной стеной, ворота всегда на запоре. Ни в коем случае! Захотелось есть. Ремеш зашел в мясную лавку Пешко. Он ел, стоя перед лавкой и посматривая на марширующих артиллеристов. Веснушчатый унтер и семнадцать солдат. Они идут сменить караул у артиллерийского склада, что в двух километрах от Правно. Подсумки, на касках двойной белый крест[46]. Шеф проводил их презрительным взглядом.
Он кончил есть.
Лошади, доев сухое сено, мягкими губами подобрали стебельки и теперь понуро стояли.
Шеф посмотрел на ратушу. Там была канцелярия Киршнера.
Из дверей ратуши вышел районный жандармский начальник Куниц и быстрыми шагами направился к участку, через три дома справа. «Поглядишь на этих людей — они как мыши. Бегают из норы в нору. Пан Ласлоп? Что там делал пан Ласлоп?» За лесоторговцем из дверей ратуши вышел Леммер, учитель из Судет, а за ним Притц, владелец правненской лесопилки. Все они были в эсэсовской форме. Шеф закурил. Он был доволен. Над его головой простиралось открытое небо.
— Ишь, троица немецких святош. Озираются, пан Ремеш. Они знают лишь одного немецкого господа бога — Киршнера. Что там они удумали? Что-то удумали, не иначе…
Ремеш оглянулся. Это мясник Пешко в белом фартуке.
— Здорово вы его проучили, пан Ремеш. Такого только по голове глушить, как быка. — Мясник подмигнул Ремешу и отправился на бойню, постукивая подкованными сапожищами по плитам тротуара, а три немца разошлись в разные стороны. Уверенность Ремеша поколебалась. Вызывал сомнения и костюм. «Пойду переоденусь, да и переобуться надо. А можно? — насмешливо спросил он себя. — Нужно. Раз уж такой осел, как Пешко, догадался, что я замешан… Да, затея с этим письмом была плохо продумана. В этом единственная моя ошибка».
Из дому он вернулся переодетый. Красный глухой свитер будто у футбольного вратаря. Брюки гольф, толстые носки и ботинки на кожаной подошве. Пальто нараспашку. Теплое белье. «Ищейка старой школы врасплох меня не захватит. Теперь надо побродить по площади. Здесь все решится. Здесь стоят два дома, две вражеские штаб-квартиры. Жалко, что дело кончилось слишком скоропалительно и я не могу вернуться на почту. Жалко, что и с Яной ничего не выйдет. Интересно, как получилось бы с сестрой эсэсовца? Она придет, прибежит в пять часов, словно лань, а оленя будут травить псами. Следовало бы отправиться на вокзал и уехать с первым же поездом. Куда? Неважно. В неизвестность. Но я знаю, что этого не сделаю, единственное, что я знаю. Настоящий мужчина не бежит с поля боя… Это россказни, годные разве что для моей команды, для восемнадцатилетних сопляков! Суслик! К дьяволу команду! Ремеш, признай в конце концов правду! Ты все еще думаешь, что ничего не случилось, что тебе ничего не грозит, и думаешь так потому, что тебе этого хочется. — Шеф улыбнулся. — У меня приличное жалованье, на еду хватает, одеться, обуться тоже, и я могу делать, что мне вздумается. И девушек здесь достаточно. Я умею за ними ухаживать, добиваться цели. Сегодня мог бы спать с сестрой эсэсовца. Если мне вздумается, я набью морду немецкому господу богу или напущу на его жену фосфорный скелет. Моя команда — штука хорошая, мне с ней весело. Правно создано для меня. В других местах мне будет хуже, придется начинать все сызнова… Мы поняли друг друга? Вполне. Значит, так. Но одеться потеплей не помешает. На всякий случай. Куниц — ищейка старой школы. Да, с ним надо держать ухо востро. Смотри в оба, чтобы он тебя не застиг врасплох. Я этого не допущу. Пусть дядюшка лучше со мною не связывается».
Ремеш расхаживал по главной улице перед рестораном. Два жандармских мундира вывели его из задумчивости. Руку в карман! Справа площадь… и Ремеш засмеялся. Жандармы шагали широким размеренным шагом. Как солдаты в конце длинного перехода. В запыленных сапогах. А перед ними уныло плелся молодой Келлер, тот самый, что сбежал в феврале, подписав уже согласие вступить в войска СС. Руки он держал за спиной, похоже, даже связанные.
Эскорт появился на улице со стороны Планицы.
«Так возвращаются люди домой». — Шеф подумал о себе, и ему стало жаль молодого Келлера. Он по-своему любил его и взял бы даже в свою команду, не будь старый Келлер фашистом, организатором генлейновской партии в Правно.
Ремеш увидел, что у Келлера и в самом деле связаны руки. Он кашлянул. Келлер оглянулся. Ремеш кивнул ему, подбадривая: мол, мужайся! Но арестованный, вероятно, не поняв его, яростно дернул связанные руки и закричал:
— Глядите, как набирают в эсэсовцы!
— Молчать!
— Не стану я молчать! Вот как набирают в эсэсовцы! Позор! Не стану я молчать! Словаки! Не выдавайте меня!
И Келлер расплакался.
Ремешу стало стыдно за Келлера, он не предполагал, что у того так мало мужества. Шеф зашагал прочь. Он шел все дальше и дальше, пока не очутился за городом.
Поля, одни поля.
Он идет куда глаза глядят. То по шоссе, то по проселкам. Останавливается на берегу полноводного ручья. Потом снова идет, не зная куда, что-то гонит его вперед. Внезапно он удивленно вскрикивает. Прошло немало времени, а он стоит на том же самом месте — на берегу ручья.
В поля его привела тревога, но в полях она лишь усилилась. Они были широкие, бескрайние. Он затерялся в них, здесь он был ничто. Ему здесь не с кем было себя сравнить, не над кем посмеяться, не на кого окрыситься, некому приветливо улыбнуться. Пустыня! Все чужое, удручающее, без дверей, без окон, без лестниц. Он нашел старую подкову, ее потеряла лошадь, и эта лошадь наверняка хоть однажды побывала в городе. Иначе она ничего не значила для Шефа. Ремеш поднял подкову, долго ее нес, потом забросил. По полю брел пахарь за своей лошаденкой. Далеко-далеко. Да кто к нему пойдет!
И размышляя о том, какие отношения царят в этой пустыне, без окон, без дверей и лестниц, Ремеш поспешил вернуться в город. Поля гнали его взашей, и Шеф охотно подставлял им свою спину. Пахарь останется в поле совсем один. «Хотя — нет, у него еще есть лошадь», — усмехнулся Ремеш.
А в Правно, словно созданном для Ремеша, на площади построились отряды СС и ФС, потом они разделились на две части и отправились по своим делам. Одна группа промаршировала к дому Шёна. Часть отряда осталась на улице, часть вошла во двор, потом в дом. Это было дело невиданное и неслыханное, и все обитательницы соседних домов высыпали на улицу. Эфэсовцы были в коричневых рубашках, в черных галифе и высоких черных сапогах, в фуражках, с красной перевязью на рукаве. На ней белел круг с черной свастикой. Под рубашкой у них, должно быть, были свитеры и теплое белье. Маршируя, эфэсовцы взмахивали левой рукой, и чудилось, будто свастики сплетены из живых змеенышей и шевелятся. Трудно было поверить, что эти люди прежде были не такими, как теперь — перед домом Шёна и у него на дворе. Все без исключения — богатые, уважаемые граждане города Правно, торговцы, мелкие предприниматели, служащие лесопилки Притца и новой строительной фирмы, которая рыла тоннель в горе над городом. Этих жители в Правно мало знали. Эфэсовцы стояли на улице и во дворе с таким видом, будто совершают нечто важное. Шён был тоже «инженером-архитектором» и уже отправился в путь-дорогу по свету. Его жене пришлось принимать важных гостей, ей и ее восемнадцатилетнему сыну.
Любопытство правненских женщин возрастало.
И тут-то Анчинова увидала Ремеша, возвращавшегося в город. Похоже было, что он шел из Планицы. «Конечно, он был там по какому-нибудь делу. Расспросить бы его. Он мог все рассказать, ведь он служит на почте, со всеми хорошо знаком, и сегодня о нем наговорили ворох всяких небылиц. Какой-то зеленый скелет являлся пани Киршнер, ее сын погиб на фронте. Потом пан Ремеш понес какое-то письмо, и толпа запрудила всю главную улицу. Как во всем этом разобраться?» Анчинова и ее соседки живут на окраине, все новости узнают последними, да и вдобавок непонятные. «Почему бы не порасспросить, что случилось и что ищут в доме Шёна? Но окликать прохожих как-то неудобно. А пан Ремеш на почте служит. Вот он уже прошел мимо, спешит куда-то. У него на почте столько работы! Но он оглядывается — видно, не знает, зачем тут стоят эфэсовцы. Ну, коли не знает этого и пан Ремеш, так кто же из нас может знать? Живем мы здесь, словно на задворках, ничего не знаем, ну ничегошеньки.
А пан Ремеш опять оглянулся. Парень-то хоть куда! Не грех бы… хоть разок с ним в траве поваляться. Искушение дьявольское, прости господи! Какая у него походочка! Как он ножками перебирает! Чего это он так тепло оделся? Я давно твержу своему дубине: ты, говорю, не косолапь, не криви свои ножищи, каблуки стаптываешь! Только и знаю ношу их чинить к сапожнику! На тебя не напасешься!»
Жители центра все были на ногах. Заплаканные старые немки бежали на площадь. Все были в черном. Рихтерша, редко выходившая из дому, высунулась из окна одноэтажного дома и закричала:
— У нас сыновей забирают! Словаки! Помогите несчастным!
— Сын у тебя «хайлем» глотку себе надорвал, пускай теперь и воюет! — отвечала улица.
— Где ты слышала, чтобы он «хайль» кричал? Ты, ты, ты… И какое тебе дело до моего сына, старая ведьма?
Рихтерша захлопнула окно, опустила шторы.
Немки в черном сбегались к ратуше. Они шли с просьбой к Киршнеру. Около ратуши их набралось около пятидесяти. Вот две из них появились в дверях ратуши.
— Нет его. Ушел, говорят.
— От нас скрылся!
— Домой отправился!
— И дома найдем!
— Немецкие женщины! Зачем вы унижаетесь? Кто…
— Потише, дамочка! Твой-то пролез в эфэсовцы. Туда все богатеи пробрались. А наших вы на фронт гоните.
— Мой муж… — Фрау Ласлоп хотела что-то сказать, но черная галдящая толпа, вереща и всхлипывая, повалила мимо нее на улицу, где стоял особняк Киршнера. Оскорбленная фрау Ласлоп расплакалась и никак не могла найти носовой платок.
Появились рабочие с лесопилки Притца. За ними пришли рабочие из туннелей, которые пробивала немецкая строительная фирма и о которых в городе никто ничего определенного не знал.
На квадратной площади было шумно, как и утром. Рабочие молча смотрели на происходящее. Вопли и ужас немок их не трогал. Довольные, они потихоньку радовались.
Правно был небольшим городком, в нем жило около двенадцати тысяч человек. Немцы составляли едва ли треть. Откуда они взялись здесь и почему тут жили — над этим никто всерьез никогда не задумывался. Они тут жили, и словаки женились на немках, немки рожали детей от словаков, вместе устраивали голодные походы, вместе стояли в очередях за нищенским пособием по безработице и вступали в кровавые драки перед выборами. Словак стоял рядом с немцем против других словаков и немцев. Немцы преобладали в социал-демократической партии, в коммунистической их была лишь четвертая часть. Но вот появился Генлейн. Тогда многие правненские немцы впервые вспомнили о своей национальности, и даже такие, что и говорить-то по-немецки уже не умели! Социал-демократическая партия развалилась. От самой сильной политической партии остались лишь обломки — шестеро ошеломленных и ничего не понимающих, отчаявшихся людей во главе с Мюнихом. Они, не колеблясь, присоединились к коммунистам. В тот памятный день старый Келлер воткнул палочку между двух камней и заявил: «Этот земля — немецкий». Так Правно разделилось надвое, и в нем поселилась вражда. Задолго до Мюнхена старый Келлер потерял свою палочку. Он купил себе чекан и, когда в Мюнхене все было кончено, куда бы ни пришел, говорил: «Мы шелаем был в великонемецкий империа. Если я попадаль в великонемецкий империа, я получаль сфой Gau»[47]. И ввинчивал чекан в землю. Так в Правно окончательно воцарилась вражда. В разделившемся городе даже горе было двояким. Страдания, ужас были совсем различны. Когда черная туча немок от ратуши повалила на Каштановую улицу, словакам, стоявшим на тротуаре вокруг обширной квадратной площади, не было до этого дела. Они потихоньку радовались, кивая головой, переглядываясь и жестикулируя, словно немые.
Ремеш затерялся в толпе зевак, которые упорно стояли на месте и не торопились домой, наслаждаясь смятением разделенного города. Тщеславие Ремеша забило фонтаном, словно мощный источник, вырвавшийся на поверхность из недр земли. «У Киршнера и Куница и без меня немало забот. Киршнер возвеличил Правно и поверг его к своим ногам, хе-хе! Жандармы Куница должны патрулировать в этом враждующем городе и следить, чтобы все имело благопристойный вид. Утрать двенадцатитысячное Правно хоть на минуту эту благопристойность, это было бы насмешкой над господом богом и всеми его твореньями. Людей надо держать на цепи, как животных, хе-хе, днем и ночью, зимой и летом. Но у людей есть головы, их мучают беспокойные мысли, и что-то постоянно толкает их на размышления; как же могут такие Киршнер и Куниц угадать, что может зародиться в этих таинственных головах? Едва ли то, что одобряют и всегда одобряли боги. Двенадцатитысячный город не может утратить свою благопристойность. Даже будь он двухтысячный, хе-хе. И потому жандармы Куница патрулируют, им помогают черные гардисты, а все вместе они помогают лощеным эфэсовцам. И еще прикидываются, что делают невесть какое важное дело. Тоже мне!..»
Ждать Яну оставалось уже недолго, и Ремеш старался сосредоточить мысли на ней. Его злило лишь то, что он так тепло оделся. Было уже без четверти пять, зайти домой он не успеет. Вон, как собака, рыщет Паук. К нему пробирается Лис. Они разыскивают его. «Ну нет, ребята! У Шефа есть и личная жизнь! Сегодня он побалуется с сестрой эсэсовца, сегодня для своей команды его не существует». Ремеш поспешил скрыться от ребят в толпе.
С Каштановой улицы возвращались черные немки. Словно стадо без пастуха. Даже горе их улетучилось. Они шли, будто смирившись перед судьбой. Это было печальное зрелище, но разделенный город не испытывал печали, глядя на черных немок.
Пять часов!
«О чем же она думает?»
Семь минут шестого.
«У нее брат в СС, и она воображает о себе бог весть что!»
— Здорово, Шеф! — К Ремешу подкатился Паук.
— Проваливай! Не то схлопочешь по морде!
— Тогда привет!
Десять минут шестого.
Ремеш произносит грубое слово, которое не пристало повторять даже попугаю.
Одиннадцать минут шестого.
Она примчалась, как лань. И псы не травили оленя. «Ура, весь мир будет у моих ног. А ты должна быть моей хотя бы за то, что наступила ногой на мою гордость. За эти одиннадцать минут ты заплатишь!» Вслух Ремеш сказал:
— Я думал, вы уже не придете. Какая вы румяненькая и как вам это идет! Вы красивая, Янка.
Она объяснила, что сперва решила не ходить, потом захотела, потом опять передумала, но после пяти часов, больше уже не раздумывая, не спрашивая себя, прибежала. Он ответил, что она поступила правильно, что в жизни нужно действовать, только действовать и никого ни о чем не спрашивать. Даже себя. Так поступают мужчины, но так следует поступать и женщинам. Он повел ее по городу на восток, потом на запад. Перед домом Шёна эфэсовцев уже не было. Они перебрались ближе к центру, пропустив четыре словацких дома. Вполне возможно, что Яна этого не видела, потому что пан Ремеш был рядом, держал ее за локоть и говорил не умолкая. Потом он повел ее за город, где были только поля. По проселкам они блуждали недолго — начало смеркаться. Они постояли на берегу ручья. Шеф снял с себя пальто.
— Что вы делаете, пан Ремеш?
— Мне жарко. Пальто я постелю на землю, и на нем нам будет хорошо.
Он разостлал пальто.
Яна с громким плачем бросилась в сгущающуюся темноту. Она бежала, не останавливаясь, падала, и вставала, и опять бежала, словно потеряв рассудок.
Когда мрак сгустился, в ручей что-то упало, и одинокий прохожий отправился в путь. Он вышел на шоссе, повернулся лицом к городу. Город его притягивал. Город был создан для него, и потому он должен был вернуться туда. Камень, брошенный в ручей, никогда не вернется на свое место. Камень — не человек.
Шеф вернулся домой, в свою меблированную комнату, которую снимал у вдовы Пилховой. Он запер за собой дверь, швырнул пальто на кровать, застеленную одеялом, сел на него и прислонился к стене. Света он не зажег. Темнота его устраивала. В темноте легче было оценить события у ручья, найти ошибку. Даже ошибаясь, умей сохранить присутствие духа, особенно когда ты не хочешь видеть, как от гнева у тебя дрожат пальцы. Нет, Шеф не позволял шутить над собой даже самому себе.
Темнота его устраивала.
В комнату просачивался шум речки, вздувшейся от вешней воды. Без этого здесь было бы тихо. Тишина стояла очень долго. Послышались шаги. Тяжелые шаги. В дверь постучали — тук-тук.
— Кто там?
— Откройте, пан Ремеш!
— Кто там?
— Откройте! Именем закона!
В дверь забарабанили.
— Сейчас. Мне надо одеться.
Шеф встал, надел пальто, застегнул, прислушался к биению собственного сердца.
— Минуточку. Сейчас, господа. Сейчас открою.
Ухмыляясь, Ремеш направился к окну. Он открыл его, дважды выстрелил в дверь и выскочил вон.
За дверью кто-то вскрикнул.
И Ремешу захотелось крикнуть. Он выстрелил и закричал. Он целился в большую звезду, а она не упала. Вероятно, потому, что был апрель, а звезды падают только летом.
Шагнув во мрак, Шеф вышел из города, который был создан для него.
ПРИДЕТ ЧАС, И Я ВОССТАНУ ИЗ МЕРТВЫХ
Трое сидят за столом, а говорить им не о чем. Над ними висит облачко голубоватого, едко-ароматного дыма. Это облачко выпускают губы пана Швары. Рот его напоминает кадильницу, в которую церковный служка ложечкой подсыпает ладан. В кадильнице у Швары шесть золотых зубов. Они матово поблескивают, как и его круглый, будто шар, череп. Чернота торчащих усов кажется неестественной. Лицо гладкое и свежее.
В это воскресенье Швара отсидел всю малоприятную, утомительную торжественную мессу в костеле, а потом еще столько же сидел в доме декана[48]. Декан Цингора праздновал день своего рождения, который всегда заканчивался званым обедом в тесном кругу друзей. Этот «тесный круг» в нынешнем году составили не менее тридцати человек. Восклицания гостей, звон посуды и столовых приборов, невыносимо противный смех самого декана, как и блюда, обильно приправленные пряностями, способствовали тому, что Швара лишь сожалел о потерянном воскресенье. В воскресенье каждая минутка дорога — каждая должна доставить человеку удовольствие. Но разве не наслаждение хотя бы этот плов? Отменный, золотистый рис, зернышко к зернышку, приготовленный на утином жире. А попробуешь — язык словно огнем опаляет.
— Многовато пряностей, — сказал пан декан.
— А я и не заметил, досточтимый отец, — отозвался пан Швара. Ему не хотелось омрачать едва начавшийся обед.
— Вы говорите, не заметили? Вы очень любезны, пан Швара. А у меня внутри все го… го… — Смех не дал ему договорить. После этого неприятного эпизода настроение Швары испортилось. А когда он выходил из дома, его остановил Махонь и спросил:
— Домой, пан директор?
— Домой.
— А если я осмелюсь пригласить вас к себе на чашку кофе?
— Ко-офе?
— Кофе, пан директор.
— Пан Махонь, вы… мм… не шутите?
— Устроим все на холостяцкую ногу. Моей жены нет дома, уехала вчера к родным.
— Хотите — верьте, хотите — нет, а я и не припомню, когда пил кофе… Мм… С месяц, пожалуй. Извините, я даже забыл вас поблагодарить. Кофе я люблю… мм… чрезвычайно люблю. Божественный напиток! И вы говорите, на холостяцкую ногу? Когда речь идет о кофе, я готов и дров нарубить, и в кухню их принести. — Обычно неразговорчивый, директор банка не удержался и закончил:
— Пойдемте скорее! Пока нам ноги не отказывают.
— Ну что вы! Ну что вы, пан директор! Меня ноги слушаются. Смотрите!
— Вот и превосходно. Мм… я хочу сказать еще, что декан Цингора весьма приятный человек. Да. Но годы идут, и он с каждым годом все больше старится.
— Верно, верно. И мы этого не избежим. Попросту говоря, это не в нашей воле. Пятьдесят четыре… Мм… годы идут и идут.
— Да, идут.
Махонь жил в доме Гекша, напротив ратуши, на площади. Низ занимали торговые помещения, во дворе тянулись склады с товарами. Махонь, проводив Швару в гостиную, сам развел огонь, поставил воду на плиту, и оба предались терпеливому ожиданию. И тут пришел брат Махоня.
Махонь сразу начал нервничать, то и дело бегал в кухню, звенел посудой, а вернувшись, всякий раз сообщал:
— Еще не закипела.
— Это дело долгое, — волей-неволей отвечал пан Швара, и его воодушевление постепенно улетучивалось.
«Куда я попал? Ничего плохого про пана Махоня не скажешь. Он почтителен, приглашает на кофе. Что же, похвально, не каждый день это случается. Он мне не откажет, продаст немножко кофе. Смотря по тому, какие у него запасы. Если позвал, значит, кое-что найдется. Я заплачу любые деньги, сколько бы он ни спросил. Я не мелочен. Кофе! В такое время! Нет, это не просто. А кто это такой — тот, что позволил себе прийти без приглашения? Брат пана Махоня. Отчасти меня это успокаивает. Будь я невоспитанный человек, я спросил бы его напрямик: «Разрешите узнать, кто вы такой?» — «Начальник отрядов глинковской гарды города Правно и всего района». — «А я вам скажу по-другому: гарда меня не интересует. Вы писаришкой были, так и говорите. Вы простым писаришкой были. А теперь, заправляете гардой». Так бы я ему сказал, будь я просто неотесанный невежа. Он был писаришкой в ратуше, теперь заправляет гардой. Начальство! Таких людей я просто не выношу. Разве это люди? Выскочки! Более удобного времени для визита такой выскочка не выберет. Он просто не найдет другого времени, а непременно явится сюда следом за мной…
— Еще не закипела.
— Это дело долгое.
Кадильница пана Швары выпустила струю благовонного дыма. «По совести говоря, я должен понимать, что сижу в кресле Гекша, в его доме, и внизу находится его магазин. Пан Аладар Гекш сбежал. Он старый человек. Пускаться в дальний путь, где его ждут всякие неожиданности, ему бы не следовало. Как он теперь устроился? Повезло ли ему? Бедняга! А если я сижу в кресле Гекша, кто же в таком случае его преемник и заместитель? Кто он? Я человек вежливый и просто спрашиваю. Заполучить оптовую торговлю Махоню помог брат, тот самый, что раньше был писаришкой и теперь пришел сюда незваный через несколько минут после меня. Прежде он был писаришкой. Но без его помощи пан Махонь не заполучил бы дома Гекша так вот просто. Торчал бы и дальше в своей вонючей лавчонке у вокзала. К тому же это означает, что Махонь всецело зависит от бывшего писаришки, который обладает теперь куда большим весом, чем он. Вот как неслыханно оборачивается дело, изволите ли видеть. И как я очутился в их компании — сам не понимаю. Должно быть, единственно потому, что не учел всех обстоятельств и, как только услышал о кофе, лишился способности здраво рассуждать. Неслыханно! В компании выскочек!»
Швара сунул в рот новую сигару.
— Еще не закипела.
Швара промолчал.
Махонь сел. Это был долговязый, костлявый, похожий на мертвеца человек. Тонкие бескровные губы и большие круглые очки в черной оправе придавали ему болезненный и в то же время строгий вид. Мягкие волосы лежали на продолговатом черепе словно приклеенные.
Когда он заговорил перед домом декана со Шварой, то поступил так от чистого сердца. Он понимал, что с его стороны это дерзость, и приготовился к вежливому отказу. Махонь трезво оценивал себя и отлично понимал, что декан Цингора допустил его в тесный круг знакомых ради черного перца и других пряностей, ради изюма, чая и прочих продуктов, которых давно не было в продаже и запасы которых своевременно сделал предприимчивый Гекш. А директор Швара страдал от отсутствия кофе, как страдают от ревматизма, но даже и при этом приглашение на кофе было очень неосторожным.
Директор банка пан Швара не отказался. Но по пути к дому Махоня, когда они немного протрезвели и дружески подбодряли друг друга, лавочник внезапно вспомнил нечто неприятное и мысленно даже упрекнул себя: «А тот ведь сегодня еще ничего не ел!.. Это ужасно!» Но было поздно, отказать теперь Шваре он не мог.
Он проводил директора в гостиную и принял все меры, чтобы вода закипела возможно скорей. Неожиданно пришел брат, и это только усилило нервозность лавочника. Посидеть в гостиной ему не удавалось, он то и дело убегал в кухню, чтобы обдумать в одиночестве, как найти выход. «Какая неприятность, — думал он в кухне. — И зачем я пригласил Швару? Еще решит, что я набиваюсь ему в друзья или же хочу разгласить по городу, что директор самолично навестил меня. А мне это ни к чему. Чего могу я ждать еще от жизни, чего могу еще достигнуть? С меня хватит. Мне больше пристала бы скромность и благодарность судьбе. Смирение возвысило бы меня над эгоистичными людьми. Почему я вчера не пришел к отцу Цингоре и не сказал, что не заслуживаю милости досточтимого пана декана? «Освободите меня от обязанности присутствовать у вас завтра на торжественном обеде. И без того я буду вашим преданным слугой!» Вот как должен был я сказать. А я что сделал? Пока шла месса, весь дрожал от нетерпения, молился кое-как, пел сбивчиво, потому что слова псалмов вылетели из памяти. Я жалкий прах земной! Мне представлялся торжественный обед, и чревоугодие настолько овладело мной, что я только и думал о том, чтобы досточтимый декан не затягивал мессы. Это чревоугодие и безмерная жажда попасть в круг друзей декана не были ли искушением дьявольским? А когда я уже удовлетворил свои желания и дьявол понял, что больше меня этим не соблазнит, он быстро сменил личину на более хитроумную, что ему так свойственно. Он шепнул мне: «Подойди к пану Шваре и спроси: не домой ли он идет?» А уж относительно кофе я сам придумал. У меня кофе есть. Каков я! Ах, каков я! Сам себе противен, а как я противен всевышнему! Ах, я жалкий, грешный человек! Но я достаточно наказан, спасибо хоть на этом. Теперь меня терзают укоры совести, ибо я оставил того на целый день без пищи. Это ужасно! И я не скоро смогу пойти к нему, надо дождаться, когда они уйдут. Это ужасно!»
Махонь вошел в гостиную и сказал:
— Еще не кипит.
— Это дело долгое, — уже как-то недовольно произнес Швара.
«Ну какая я компания для пана директора? А мой брат и того меньше, он ему даже кофе предложить не может. Пан директор много курит. Как он не боится захворать? Своей сигарой он провоняет комнату. Всю ночь придется проветривать. Открыть окно надо бы уже сейчас, но как истолкует это пан директор? Он и так все продымил, ведь табачный дым забивается во все телочки в стенах, в мебели, даже щелочки не нужно, — хватит самой малюсенькой дырочки. А мой брат? С чем он пришел? Или просто так? А почему бы ему не прийти? Все-таки он мне брат, и пусть себе приходит, когда ему угодно, но сегодня никак нельзя было. Что я стану делать? Как тот там выдержит? Он и крохи сегодня не ел. Я о нем забыл и должен мучиться из-за этого».
Младший Махонь приехал сегодня на машине из соседнего города. Последние дни он был очень занят, а перед этим неделю отсутствовал, так что не виделся со старшим братом добрые две недели. «И чего мне тут надо? Мне и своих забот хватает. Но каков братец? Скажите пожалуйста! Он осмелился пригласить пана Швару! Пан директор — старый хрен, с допотопными взглядами, но в нашем городе он кое-что значит и многое может».
Трое сидят за столом, а говорить им не о чем. Над ними висит облачко едкого дыма.
Пан Махонь ушел в кухню, пробыл там порядочно, а вернувшись, сказал:
— Еще не кипит.
Паи Швара, вероятно, не слышал его, а брат спросил:
— Что не кипит?
— Вода. Вода для кофе.
— Ах, вот что! Пан директор не пьет, ты не пьешь, так что же вы варите? Если не капусту, значит, глинтвейн? — рассмеялся младший Махонь.
«Выскочка!» Кадильница выпустила дым.
— Какой там глинтвейн! Нет, нет! Зря искушаешь, — замахал старший брат тощими руками.
— Я бы на вашем месте не смеялся, пан… как вас там… Если так пойдет дальше, однажды мы проснемся и не увидим даже вашей пресловутой капусты. Дело это серьезное. Риса я уже целую вечность не видел, о шоколаде просто надо забыть, мы, пан… мм… катимся вниз, и никто не скажет — куда. Я, во всяком случае не знаю.
— Война.
«Зачем ты споришь с выскочкой?» — предостерег внутренний голос, но Швара не мог удержаться.
— Все валят на войну, и все на нее ссылаются. Решительно все. А разве я ее начал? Если я ее не начинал, почему я должен во всем себя ограничивать?
— Хорош!
— Что вы изволили заметить?
— Хорош!
— Вот как! Вы слышите? — Швара сунул в рот сигару, ища взглядом поддержки у старшего Махоня. Но тот встал и вышел в кухню.
— Вы не желаете понять простейших вещей. Во время войны все должны приносить жертвы. Вы жертвуете рисом и шоколадом. А солдат на фронте жертвует жизнью. Да, жизнью, потому что это война, пан Швара…
— Неслыханная зависимость! Что у меня общего с солдатами? С кем вы меня сравнили? Пан Махонь! Не угодно ли вам пожаловать сюда! Ваш брат говорит мне ужасные вещи! — восклицал Швара, заметавшись в кресле Гекша.
— Вода кипит. Я мелю кофе.
— Да, — беспомощно произнес Швара. Только теперь он осознал свое положение.
— Сейчас война, пан Швара. Стреляют даже в Правно. Нельзя закрывать глаза на такие факты.
— Вы говорите об этом типе? Я и фамилии его не знаю. Мне-то какое до него дело? Вообще какое мне дело до всего этого? Пан Махонь, не угодно ли вам пожаловать сюда? Ваш братец…
— Я мелю кофе.
— Вот как…
— Я сейчас из больницы. Раненому жандарму плохо. Раздроблена кость ниже колена. Врачи говорят, что надо подождать несколько часов и, если состояние больного не улучшится, ногу ампутируют. Вы думаете, пан Швара, легко пожертвовать ногой?
— Я ничего не думаю, решительно ничего, а если бы и думал, то вам-то какое до этого дело?
Швара бросил разъяренный взгляд в сторону кухни. Брат Махоня продолжал все с той же настойчивостью:
— Преступник до сих пор не пойман. Он бежал. Во всех этих событиях много неясного. Вы, например, ни разу не задавались вопросом, почему Ремеш стрелял?
«Нет! — холодно сказал Швара, окутываясь облаком дыма. — Он все больше наглеет. Почему я не ухожу? Ужасно!»
— Мы говорили об этом с паном Куницем в машине. Почему Ремеш стрелял? К нему пришли сделать обыск, ничего больше. Пан Куниц думал, что обыск мог бы прояснить происшествие с фрау Киршнер. Это была очень хорошая догадка с его стороны. Пан Куниц вообще очень догадливый человек. И он попал в самую точку. Ремеш стрелял, думая, что пришли его арестовать. Тут я согласен с Куницем, но… вам я могу, конечно, сказать, вы человек, достойный доверия…
— Как вы изволили сказать, извините? Какой я человек?
— Достойный доверия, — многозначительно повторил брат Махоня, чтобы пан Швара понял: начальник гарды имеет право с кем угодно в городе говорить таким тоном. — До этого момента я согласен с паном Куницем. Но пана Куница уже не интересует происшествие с фрау Киршнер. Его интересует сам Ремеш. Кто он? — И младший Махонь сделал неожиданный вывод: — Как вы хорошо помните, в городе несколько раз разбрасывали листовки. В феврале сбежали два немца. Молодого Келлера удалось поймать. Он скрывался в Липинах. На его след навел властей родной отец. Это, впрочем, между нами: надеюсь, вы забудете об этом. Молодого Келлера сегодня утром отправили в Германию, в концентрационный лагерь. Потом кто-то напал на господина Киршнера и нанес ему жестокое оскорбление. И теперь, при последнем наборе в войска СС, бесследно исчезли три немца. Пан Куниц предполагает, что ко всему этому причастен Ремеш как глава тайной коммунистической организации. Мне неизвестна ваша точка зрения, но я лично в этом сомневаюсь. По силам ли все это молодому человеку двадцати шести лет? В общем, дело очень, очень неясное.
Тут вошел старший Махонь:
— Да, какие-то странные происшествия. Что ни день, то новые волнения. А почему ты считаешь, что пан Куниц неправ? Ремеш стрелял, и это уже достаточное доказательство. Но хватит разговоров о неприятностях. С вашего разрешения, пан директор, я накрою на стол. А тебя я и спрашивать не стану, ты должен к нам присоединиться — ты ведь мой брат, и я старший. Он стоял между паном Шварой и Махонем-младшим, высокий, черный, и говорил строго, сдержанно, торжественно, причем едва шевеля губами.
— Вы очень любезны, пан Махонь, а я… я… того… видите ли, я просто забыл о своем обещании. Я собирался наколоть дров.
— Что вы, что вы… Позволить вам колоть дрова! Да я был бы нахальнее этого Ремеша. Вот, пожалуйста, сахару я вам не положил. Вы не любите сладкий кофе. Я и об этом знаю. — Махонь-старший наклонился к пану Шваре с подносиком, и глаза его заблестели. — Теперь ты возьми, милый братец. Кофе придает бодрости, это нам очень кстати. А я возьму себе последним с вашего разрешения. Моя первая жена, — прошла целая вечность с тех пор, как она умерла, — царство ей небесное, говорила, что после бога человек самое совершенное создание. — Махонь сел. Его острые колени уперлись в край стола. — Эти слова не следует понимать буквально. Бог един, а людей много. И этот Ремеш тоже человек! И я создан по образу и подобию божию, и вы, пан директор. Всего трое из миллионов, а какая между нами разница! Пан Ремеш — коммунист, то есть злоумышленник, он оскорбляет творца, владыку неба и земли, и потому не заслуживает, чтобы мы о нем говорили. Из троих остаются двое — пан директор и я. Может, ты еще не знаешь, что я был на торжественном обеде у самого декана? У самого декана! Его милости вчера исполнилось пятьдесят четыре года, и он решил, что к нему должен прийти некий Махонь, Иозеф Махонь. Сидеть за одним столом с досточтимыми деканом и паном директором! Чем я заслужил подобную честь?
— Перестаньте же, пан Махонь. — Погасшая сигара повисла в губах Швары, образуя вместе с усами большую букву «Т». Швара положил сигару в пепельницу и понюхал кофе. — Отменный… мм… Я уж и не помню, когда пил кофе. С месяц назад, должно быть.
— Нет, не перестану! — Глаза Махоня за очками сияли. — Мне следовало вчера пойти к досточтимому декану, так и так, мол, снимите с меня это бремя, потому что я не достоин. Но я этого не сделал! Искушение было слишком велико, и я не устоял. Пейте же, господа! Не заставляйте угощать себя.
Братья переглянулись между собой.
Швара отхлебнул кофе.
— Изумительный кофе, пан Махонь! — сказал он, думая при этом о братьях, об их совершенно разных характерах. Он уже простил пана Махоня-младшего. — Кто же был этот Гекш? Я человек вежливый и спрашиваю просто так. Кто был пан Гекш? Просто еврей, только и всего.
— Пейте же, пейте, пан директор. Я сварю еще. У меня есть, а это все равно что у вас, — сказал Махонь, легонько коснувшись ладонью руки Швары, и тут же отдернул ее, зная, как противно, когда мужская ладонь или пальцы долго задерживаются на руке другого.
— Дорогой брат, — насмешливо сказал младший Махонь, — ты смущаешь пана директора своим мурлыканьем. Ведь ты не говоришь, а мурлычешь. Замолчи, пожалуйста.
Швара поискал спички в карманах, а коробок лежал перед ним.
— Пожалуйста, — услужливо подал спички младший Махонь.
— Я и не заметил, что они на столе.
— Я мурлычу? Не понимаю тебя, милый брат. Может быть, ты объяснишь мне? Я не настаиваю, конечно, но если можешь…
Во рту виднелась крепкая челюсть, крупные длинные зубы.
— Перестань хвастаться своей скромностью! Слушать противно. Ты надоедлив!
— Слишком сильно сказано, пан… мм… слишком сильно. Это ваш брат. Я полагаю, что скромность никому не вредит.
— Истинная правда, пан директор. — Махонь погрозил брату сухим пальцем и усмехнулся.
— Я не хочу быть судьей между вами, это совсем не мое дело. Но я, просто так, хотел бы узнать, что… что вы имели в виду, сказав, что и в Правно… того… стреляют и что на это не следует закрывать глаза? — Швара поощрительно улыбнулся старшему брагу, словно желая сказать: «Не бойтесь, пан Махонь, вдвоем мы с ним справимся».
— Что я имел в виду? Линия фронта проходит не только на востоке, но и у нас здесь, в Правно. Все мы солдаты. Вы, мой брат, я. Все! Но многие этого не понимают, и в этом их ошибка.
— И вы считаете, что это… мм… надолго?
— Предположим, что да. Пока идет война, именно так.
— Меня это несколько изумляет, пан… Мм… Вы… мм… человек все-таки более или менее военный, ну и вообще. Я изумлен…
«А он ведь еще не ел. Это ужасно!» Махонь сухими пальцами взял чашку и поднес ее ко рту.
— Вы можете изумляться, но это ничего не изменит.
Младший Махонь надул губы, желая показать Шваре, что он владеет собой и мог бы ответить резче, если б считал это нужным.
— Но я хочу, хочу знать, в чем дело! Вы, пан… мм… человек все-таки более или менее военный, вы обязаны поддерживать порядок в городе. Куда мы катимся? Я не понимаю. Всякий, кому вздумается, стреляет — и все тут! Чувствуешь, что ты в опасности, вот как! Дичь какая-то, да! Все валят на войну, все хотят ею прикрыть как дырку заплатой, мм… и я… я утверждаю, что все это от нерадивости и почти от бездарности властей. — Швара взял чашку, залпом выпил кофе. — И вообще… — Он откинулся на спинку кресла Гекша.
«Старый хрен!» — подумал младший Махонь.
— Нет ли у тебя немного рому? — спросил он, стремительно оборачиваясь к старшему брату.
— Найдется.
И Махонь ушел в кухню. С ним ушло что-то, заставлявшее Швару поддерживать разговор.
— Я этого просто не понимаю… мм… как это понимать? У нас тут так много войска, целый артиллерийский полк и…
— Войска? Чем дальше, тем вы лучше! Нельзя ли прекратить этот разговор?
— Позвольте!
— А вот и мой братец, мой преподобный братец! Он принес нам ром. Не хотите ли выпить? Ром укрощает страсти.
Махонь-младший взял бутылку, намереваясь налить Шваре.
— Простите! Я не пью!
— Дорогой брат! Ты молод и не умеешь сдерживаться. Ты набрасываешься на пана директора, оскорбляешь его. Тебе не стыдно?
— Завтра!
— Что?
— Завтра мне будет стыдно. Ваше здоровье, пан Швара! За твое здоровье, милый брат! — Махонь-младший преувеличенно низко поклонился каждому.
Никто ему не ответил.
Наступила тишина.
Трое сидели за столом и не могли молчать. Над ними висело облачко голубоватого дыма, чуть едкого, чуть ароматного. Оно сгущалось, проникало во все поры стен и мебели. Первым заговорил Швара, желая хотя бы отчасти оправдаться:
— Я не сказал вашему брату ничего, решительно ничего. Я только заметил, что просто не понимаю, как в городе при наличии войск, жандармерии, и… мм… гарды, и немцев почтенные люди не чувствуют себя в безопасности. Коммунисты стреляют, ни за что ни про что обидели господина Киршнера, и завтра то же самое может произойти с вами или со мной… Мм… я попросил бы еще чуточку кофейку. — Швара протянул чашку Махоню.
— Очень рад!
Невероятно черный, невероятно долговязый Махонь вскочил, сухими пальцами схватил чашку и ушел в кухню. Он подложил дров в печку, налил воды и уставился на чугунную плиту. Прядь волос скользнула по гладкому виску и повисла над правым ухом.
Младший Махонь перестал обращать внимание на своего собеседника. Он вел себя так, словно был один в комнате. Налил рому, выпил. Тихонько насвистывая, положил ногу в туфле себе на колено, завязал шнурок. Заметив следы пыли на штанах, потер их пальцем, обмахнул, продолжая насвистывать в такт.
Швара, не желая смотреть на все это, курил, пуская клубы дыма, словно хотел спрятать за ними свой неуверенный взгляд.
— Я просто не согласен с вами.
Младший Махонь разрешил себе отвлечься.
— Ну! С чем же еще?
— Вы знаете, с чем, пан… мм… пан Махонь.
— А если не знаю? — рассмеялся тот ему в лицо.
— Знаете!
— Этот ром очень хорош, еще из старых запасов. Кто бы сказал, что еврей знает толк в напитках? А? За ваше здоровье, пан Швара!
— Вы… мм… человек более или менее военный и в качестве такового, простите, ответственны в некотором смысле, так сказать, за порядок в нашем городе, за поддержание действующих законов и вообще… Как, например, я должен понимать ваше утверждение, что все мы якобы солдаты? Я не согласен, ибо это означает, что я тоже простой солдат, вы сами это, в конце концов, только что утверждали, и потому я вынужден спросить вас, куда вы меня толкаете? Я вижу, что здесь выдумывают какие-то нелепые теории, играют словами и тем…
— За ваше здоровье.
— …извращают правду и истинное значение слов. Но за этим нет ничего иного, кроме как… мм… попытки попросту взвалить свою ответственность на чужие плечи, и вообще…
Швара взял спички и энергичным жестом переложил их с края стола на середину, к большой пепельнице.
— Вы все сказали?
— Да!
— Ну так за ваше здоровье!
Губы Швары опять начали кадить.
— За ваше здоровье, говорю я. Вы не слушаете? За ваше здоровье! — рявкнул Махонь-младший. «А-а, так ты и теперь не слышишь меня, старый хрыч? Нет? Ладно!» Он опорожнил бутылку до дна. — Братец, мой преподобный братец, наконец ты примчался из кухни. Дай мне свою фарисейскую руку, я ухожу. Не дашь? Ладно! Когда-нибудь дашь и еще оближешь. Мое почтение, господа, нижайшее почтение. Сейчас вы меня еще видите, а через секунду меня здесь не будет. Из-за вас, господа, и особенно из-за тебя, сушеный проповедник. Бутылку я захвачу с собой — ее запах пришелся господам не по душе. Хороший был ром у Гекша. Кто бы мог подумать, что этот еврей понимал в спиртном? Не то, что ты! Я ухожу. Я человек более или менее военный, вы меня, так сказать, наняли, вот я и пойду охранять ваши почтенные задницы. Я понимаю, прекрасно понимаю, вы боитесь, что кто-нибудь даст вам под зад коленкой. Ох, наплевали вы мне в душу, и еще как! Посторонись, старый хрыч, а ты убери ноги, ха-ха-ха! — Он с громким хохотом шваркнул бутылку о стену и затопал. — Ох, и наплевали вы мне в душу. Вы не видите? Вы ничего не видите, вы ослепли? Но я ухожу, не люблю смотреть на слепых. Не люблю, не люблю… Матерь божья, где огонь? — Он озирался. — Где он? Я горю! Горю! — Он рванул на себе рубашку, пуговицы полетели во все стороны. Он потер ладонью грудь и помрачнел. — Я горю… — Он провел рукой по груди еще несколько раз и ушел. Немного спустя хлопнули какие-то двери.
Двое сидят за столом и молчат. В кухне кипит вода, а они молчат.
На ковре валяются осколки бутылки, поблескивая, словно золотые зубы пана Швары. Медленно вечереет, в гостиную сегодня уже не заглянет солнце. И если Махонь не зажжет света, они не увидят треугольной вмятины, оставленной бутылкой Гекша в штукатурке.
Швара встал и вышел вон. Кухонные двери были открыты. На раскаленной плите ключом кипела вода, разбрызгивая на плиту шипящие капли, но директор Швара ничего не заметил. Он надел зимнее пальто, накинул шарф и вышел на веранду, не застегнувшись. Уже спускаясь по лестнице, нахлобучил шляпу, застегнул пальто и сунул руки в карманы. В каждом Швара нащупал свертки с какими-то зернышками. Он не знал, что это такое и кто их туда положил. Он смотрел под ноги, потому что уже стемнело. Каменные ступеньки были сбиты. В голове неотвязно кружилась никому не нужная истина: «Под человеческой ногой собьются и каменные ступени».
За столом остался один Махонь-старший. Теперь времени хватит на все. Дрова в плите сгорели, угли подернулись пеплом, но еще тлеют. Вода выкипела. На столе стоит кофейная мельница.
Когда совсем стемнело, черный высокий человек встал. Его фигура сливалась с мраком. Он зажег свет на кухне. Лицо у Махоня было бледное, пальцы хрупкие, почти прозрачные.
Свет в кухне погас.
По каменной лестнице Махонь спускался медленно. Пятно света от электрического фонарика прыгало со ступеньки на ступеньку, потом замелькало по двору и вдруг исчезло. Звякнул ключ в огромном замке. Бесшумно распахнулись железные двери. На мгновенье снова мелькнул свет, осветил длинный узкий проход между ящиками. Воздух здесь тяжелый, затхлый, стоит могильная тишина. Шаги звучат глухо. Внезапно проход расширяется.
Махонь отодвинул в сторону два пустых ящика, снял доски и поднял деревянную крышку люка, закрывающую спуск в погреб. Двенадцать ступеней — и дверь. Махонь открыл ее.
— Добрый вечер, пан Гекш.
Круг света падает на домашние туфли из черного сукна, на ноги, согнутые в коленях, на стол с картонными коробками.
Махонь достает из корзинки кружку, две кастрюльки, хлеб в белой салфетке и еще что-то, завернутое в газету.
— У меня сегодня были гости, пан Гекш. Вам пришлось долго ждать, извините. Этого больше не повторится. Жена уехала вчера к родным. Я один.
— Один, — прошептал кто-то.
— Один. Вынести ведро не нужно?
Воздух здесь был спертый, прокисший, и здесь тоже стояла могильная тишина. Свет упал на лицо Гекша.
— Не нужно вынести?
Гекш отрицательно покачал седой головой.
— Я забывчив. Мы выносили его вчера. Доброй ночи, пан Гекш.
— Один, — прошептал Гекш, но Махонь его не слышал. Он уже запер двери и поднимался по лестнице.
— Один, — еще раз шепотом повторил старик, обращаясь к двери. Он сел и принялся есть. Потом ощупью нашел коробки. В одной была сухая корка. Туда он поставил кастрюльки, кружку с водой и положил остатки еды. Потом подвинул к себе другую коробку. В ней лежали ножницы и гребенка.
Старика одолевала дремота. Он ослабел, сидя у дверей. Гекш весь день прождал Махоня. Он сидел, прижимая ухо к железной двери, ржавой, толстой, и ждал, не послышатся ли шаги. Ржавое железо уже не холодило, он согрел его своим ухом, в котором ведь тоже текла кровь. Старик весь горел, словно в лихорадке. Порой его знобило. Тогда он опускал ладони на колени. Он мог лечь в постель, укрыться шерстяными одеялами и набросить сверху меховую шубу, но он был здесь один-одинешенек, и некого было оставить у двери. А если б здесь и был еще кто-нибудь, ему бы пришлось быть очень терпеливым. Один! Как может пан Махонь, не задумываясь, произносить такое сильное, тяжелое слово — «один»? Понимает ли он, что оно значит?
В одной руке старик держит ножницы и гребень, другой растирает колени.
Гекш ослабел, сидя у этой двери. Земной холод сковал его старческое тело. У земли холода вдоволь. Он всегда это знал, но все-таки добровольно спустился сюда, поближе к ней, к земле, три месяца и шесть дней назад. Вот, должно быть, переполошились все в Правно, из уст в уста полетела новость: старый Гекш сбежал! Наверняка в Швейцарию, к своему сыну.
Он держит в одной руке гребень и ножницы, другой растирает застывшие колени — то правое, то левое — и улыбается при этом.
Три месяца и шесть дней… Он перестает улыбаться, не зная, велик или мал этот срок. Он не заглядывает в будущее. Эта холодная земля тоже его не знает. Будущее! Кто может что-нибудь сказать Гекшу о будущем? Окно? Оно обито снаружи густой проволочной сеткой и пропускает мало, очень мало света, потому что он сам приказал пану Махоню свалить перед крохотным оконцем погреба два воза саженных поленьев. Оконце стало совсем незаметным, и он оказался отрезанным от мира, из которого ему пришлось удалиться и куда он не теряет надежды вернуться. Да, в этом его будущее. Вернуться в тот мир, что наверху, когда-нибудь вернуться…
Ножницы он кладет в коробку, расчесывает гребнем бороду. Волосы потрескивают.
Завтра будет три месяца и семь дней, послезавтра — три месяца и восемь дней… Время измеряется еще также часами, минутами, секундами, но у них нет ничего общего с этим подземным миром. И с ним, Гекшем. Они существуют для тех, кто остался на земле. Кто живет наверху. Здесь действуют другие мерки. В году триста шестьдесят пять дней, в високосном на день больше. Его ждет еще двести шестьдесят девять дней. Тогда исполнится год. Год! Велик или мал этот срок?
Рука лежит на колене неподвижно. В руке — гребень.
Гекш верит в Ягве, а пан Махонь — в бога без имени, но все равно Махонь честный человек. Самый честный из всех правненских торговцев, которые поклоняются богу без имени. Гекш сам остановил свой выбор на Махоне. Он пришел к его брату, который ходит в больших начальниках над отрядами глинковской гарды, и сказал: «Вы большой начальник, пан Махонь. Ваш брат перебивается со дня на день в погребке при станции, а я еврей. Ваш брат честный и порядочный человек, он от души поклоняется своему богу. Пусть он станет аризатором моей оптовой торговли, да поскорей. Ровно час назад ко мне во двор приходил немецкий торговец Рихтер и смотрел на все так, будто он уже хозяин у меня в доме. Я боюсь этого Рихтера, а вашего брата не боюсь, ибо он честный и порядочный человек». — «Пан Гекш, вы мудрый еврей». — «Ваш брат мог бы тотчас и переехать в мой дом. Мне достаточно и комнатки, я старик». — «Вы очень мудрый еврей, пан Гекш. Я подумаю!» — «Долго не думайте, пан Махонь. Рихтер был у меня в доме час назад и смотрел на все, словно хозяин». Гекш не пожалел о своем выборе. Хорошо поладил он и с пани Махоневой. Она любезная особа. Нет, о Махонях он не может сказать ничего дурного. А когда евреям велели пришить желтые звезды, Махонь сам сказал ему: «Не по душе мне это, пан Гекш. Сегодня звезды, а завтра, глядишь и еще что похуже. Надо бы вам скрыться, дорогой мой». — «Вы так думаете?» Он, Гекш, еще колебался день-другой, а на третий вышел в город. Он отошел от дома совсем недалеко, и тут его окружили подростки, погнали назад, словно заблудившегося гуся: «А ну, иди бери свою звезду! Еще раз без нее появишься — мы тебе покажем!» — «Я переберусь в подвал, пан Махонь. Возьмите ключи!»
С тех пор прошло три месяца и шесть дней. Сегодня в первый раз им овладел страх. Он знал, конечно, что сегодня воскресенье. По воскресеньям на дворе тихо, а в подвале — словно в могиле. Никто не закричит, не засмеется. Окошечко высоко, заложено саженными поленьями, но Гекш может, если ему вздумается, приоткрыть его шестом, может проветрить помещение. Окно шесть дней в неделю соединяет его с людьми. Люди наверху кричат, смеются. Слов он почти не улавливает, но эти звуки так же необходимы ему, как телу — пища и вода. На дворе гремят колеса, стучат копытами лошади — это ему и необходимо. Вот и все его развлечения. Позавчера за поленьями, должно быть, совсем близко, плакала какая-то женщина. Она плакала, а он улыбался, ему было хорошо. Всякий, у кого горе, должен выплакаться у этой поленницы. И тогда он, Гекш, не будет так одинок. Он будет знать, что и наверху есть несчастные. А то он уже стал забывать об этом. Но они есть. Позавчера под окном плакала какая-то женщина. Это было в пятницу. В воскресенье никто не заплачет, не закричит, не засмеется. Телеги не громыхают, копыта не стучат, и потому в воскресенье Гекшу грустно и тяжело.
Он положил гребень в коробочку и взял ножницы, другой рукой ухватил бороду, вытянул ее как следует, потом прижал к груди. Борода была длинная, до нижней пуговицы. Он зажал бороду между пальцами и подстриг снизу. Состриженные волосы положил в коробочку, ножницы — на стол, потом взял гребень и стал расчесывать бороду. После этого вычистил гребень, волосы упали в коробку. Положив гребень на стол, рядом с ножницами, он съежился на стуле.
Все это он должен был проделать сегодня еще после завтрака, но пани Махонева не пришла. Он ждал ее, сидя на постели. Иногда он ложился, хотя ему не так уж и хотелось лежать. Он просто решил дождаться пани Махоневой на постели. Не хотелось выползать на холод. И вдруг погреб наполнился звуками. Среди них некоторые походили на шаги. Он приподнялся, прислушался, но когда сел, звуки смолкли, наступила могильная тишина. В воскресный день окошечко было немо. Уже наверняка за полдень, и Гекш не мог дольше выдержать. Он надел свитер, пиджак, суконные домашние туфли и присел у дверей, приложив ухо к холодному шершавому железу. Его охватил холод, от холодной земли зябла спина. Тут, у железной двери, его начала преследовать одна мысль. Ведь эти железные двери открываются только снаружи, с лестницы, а окно заложено двумя возами саженных поленьев. Стены погреба из камня, камень склизкий. Чем не могила? И тишина здесь могильная. Могила — это яма в земле. Но не всякая яма в земле — могила. В ней должен быть человек, именно так, как здесь. Он сознавал это. Мысль об этом пронизывала все его тело и бешено гнала кровь по жилам. Поэтому он мог прижать ухо к ржавому железу еще сильней и ничего не почувствовать. Мог сидеть на голой земле, не замечая ее холода. Даже на миг не смел он отнять ухо от железа, мог только неслышно дышать, он весь превратился в слух. Он не смел отойти за шубой — могло случиться что-нибудь страшное. Нет, нет, он все выдержит, и бог без имени это увидит. Но как он это увидит? Ягве шепнет ему об этом. Кто же еще может шепнуть? И тот бог без имени шепнет дальше, передаст пани Махоневой, пану Махоню, они откажутся от дурных умыслов и придут. Они не допустят, чтобы эта яма стала могилой, если в ней даже и есть человек. Было изнурительно сидеть на голой земле у двери и прислушиваться. Но он вынужден был сидеть и слушать, полный решимости, даже умереть на месте, он не имел права отойти ни на шаг, ибо Ягве разгневается — что ему стоит! И ничего не шепнет богу без имени, и те люди, которым он верил, осуществят свой умысел и превратят эту яму в могилу.
Шаги!
Ягве справедлив. Ягве добр и всемогущ, а также капризен, злобен и непостижим, но он всемогущ, так всемогущ, что и бог без имени вынужден слушаться его. Он, Аладар Гекш, был бесконечно терпелив, он все выдержал, не поддался человеческим слабостям, которые его одолевали, и это больше всего понравилось Ягве.
Пришел пан Махонь. Он сказал, что у него были гости, что жена уехала к родственникам. Да, да, у деток всех богов есть родственники, но дети бога без имени обманывают и смешно оправдываются.
Гекш улыбается, берет коробочку, относит ее в угол и ссыпает в ведро отрезанные и выпавшие волосы. От ведра воняет, но Гекш улыбается. Коробочку он ставит на место, кладет в нее гребень и ножницы. И идет к постели. Он снимает суконные туфли, пиджак и свитер и свертывается в комочек под шерстяными одеялами и шубой.
«Ягве всемогущ. Придет час, и я восстану из мертвых», — думает Гекш с улыбкой на губах.
АТАКУЕТ ШТРАФНАЯ РОТА
— Доброе утро, пан поручик.
На НП начинался день.
Кляко в зеленом свитере сидел на нарах и яростно чесал живот.
— Сколько вшей развелось за ночь!
Он закашлялся и быстро надел сапоги. Выйдя из блиндажа, он продолжал надсадно, до слез, кашлять. Отхожее место было устроено метрах в тридцати. Кляко согнулся и побежал. На этом участке смерть летала на высоте около полутора метров. Вообще-то для каждого местечка, для каждого квадратного метра была своя высота: от полуметра до трех! Там ползи на животе, а здесь ходи во весь рост и слушай на здоровье свист и визг пуль, приговаривая: «Плевал я на вас!» Снайпер укладывал каждого, кто не был знаком с местностью. Убитого отталкивали в яму, где он дожидался немецкой повозки с продовольствием, а потом: «Н-но, пошел!» — «Прощайте, меня везут к Хальшке, тому самому, который родился в один год с Кляко».
А для мин преград не существовало. Они падали всюду, взрывали землю, дробили молодые буки, убивали людей. Прилетали они неожиданно, густым роем, после часового или пятиминутного перерыва, начинали сыпаться снова. Мины не подчинялись никакому расписанию и держали ошеломленного новичка в непрерывном выматывающем страхе. Держали они в страхе и Кляко, даже в отхожем месте. Он курил и искоса поглядывал на деревья.
Был май. За прошедшие три недели солнце растопило снег, высушило лужи, дно и стенки окопов. Розовые штабели тел на открытой поляне уже давно были убраны. И никто не мог сказать, немцы это или русские. А те девятеро еще лежали на черной пашне и не смердели. Они как бы впитывались в землю. Молодые дубки и весь лес в этом году покрылись редкой листвой — стволы стояли искалеченные, без веток. Зазеленели обрубки, но лес просвечивал, словно зимой, не давая тени, не защищая от снайперов.
Жизнь брала свое. Трава лезла из-под тонкого покрова полусгнивших прошлогодних листьев. Кто-то из солдат сказал Кляко, что в ложбине между фронтами распустился какой-то желтый цветок. «Должно быть, калужница!» — подумал поручик. Кляко поражался всему этому, а больше всего тому, что никто и ничто не может остановить жизнь.
Теперь бегом в блиндаж. Если в лесу послышится грохот — значит, Кляко уже опоздал. Ему остается только лечь, ждать и надеяться, что и на этот раз все обойдется.
— Ну, я сыт по горло, черт побери! — обрадованно сказал Кляко Лукану, своему ординарцу и телефонисту. Лукан сидел на нарах, уписывая с хлебом густую гороховую кашу.
— Умоемся, что ли? — С тех пор как они поговорили о сестре, Кляко не мог приказывать Лукану. Пришлось отдавать распоряжения по-новому: «Ты бы позвонил на позицию» — или: «Было бы недурно сбегать на НП».
— Давайте.
Лукан налил в котелок немного воды. Перед блиндажом Кляко снял с себя свитер и рубашку, бросил их на солнышко и, голый по пояс, расставил ноги. Лукан лил воду ему в ладони, а Кляко мыл лицо, шею и грудь.
— Опять теплая! Ну и подлецы! Напомни мне вечером, я их погоняю. — Он вытерся. Когда он прижал полотенце к лицу, послышалось:
— Моргн![49]
— Моргн! Как поживаешь, Вальтер?
Немецкий унтер-офицер, пригнувшись, проходил мимо блиндажа и на вопрос Кляко махнул рукой. А затем отчетливо прошептал грубое словацкое ругательство. Он научился ему у Кляко.
— Шик! Отличный парнище этот Вальтер. Немец, а я его люблю! Черт подери, эти вши меня скоро живьем сожрут!
Отойдя шагов десять от блиндажа, Вальтер остановился, постоял, согнувшись, подумал немного и сказал:
— Иоганн, Иоганн! — и поманил Кляко рукой.
— Что такое? — спросил Кляко, подбегая.
— Сегодня вечером здесь будет здорово вонять. Штрафная рота атакует высоту триста четырнадцать. Но молчок! Ясно?
— Само собой!
— Смотри! Ну, пока!
Вальтер настороженно оглядел лес и убежал. Обер-лейтенант Виттнер не любил, когда немцы якшались со словаками.
— Приготовься к вечеру, Лукан. Будет свистопляска.
— Что? Вальтер сказал вам что-нибудь?
— Говорю, свистопляска будет! — Кляко снял крышку с котелка, поглядел на густую гороховую кашу, ткнул в нее пальцем. — Слушай, братец, эта гадость уже корой заросла, да все равно жрать придется. Ну, приятного аппетита! — сказал он, подсаживаясь к Лукану. — Вместе так вместе, ха-ха-ха.
Кляко начал есть.
— Не так уж плохо. Только зеленая, черт побери! Как лягушачья икра! А что давали фатерланду? Не видел?
— Гуляш из мясных консервов с картошкой.
— Видали? — Кляко жевал горох, причмокивая. — Не так уж плохо, если б не цвет. Не могу его видеть. Все съешь?
— Еще бы!
— И я. По крайней мере, спокойнее будет.
После этого Кляко и Лукан не произнесли ни слова. Оба ели загустевшую кашу, потому что были голодны. Они никак не могли привыкнуть к фронтовому режиму питания. Суп и сигареты им доставляли около десяти вечера. Они сейчас же съедали суп, оставляя прочее на утро и ждали весь день — шестнадцать часов — новой порции.
Что-то загрохотало. Земля содрогнулась от глухих, тяжелых ударов.
— Мины!
С потолка посыпалась земля. И Кляко и Лукан прикрыли котелки руками. Блиндаж тряхнуло. Они втянули головы в плечи и сидели не двигаясь. Наверху еще раз ожесточенно забарабанило.
— Интересно бы знать, кого накрыло. Не позвонишь ли ты на НП?
Лукан схватил трубку.
— Жив?.. Говорит — хорошо, — Лукан взглянул на Кляко и сказал в телефон: — И мы целы. Скоро придем, тогда и выспишься… Да, да, все.
— Ну, раз ты у телефона, не позвонить ли заодно и на батарею? Надо каптера с песком продраить.
Кляко прикрыл крышкой остаток гороха и стал ждать.
Лукан связался с батареей.
— За ним пошли.
— Ладно. — Кляко языком очищал зубы от каши, помогая себе еще и пальцем. — Липнет, черт подери! Не муку ли подсыпают?
— Каптер, — шепнул Лукан и передал трубку Кляко.
— Говорит поручик Кляко. — Вдруг он закричал во весь голос: — Докуда ты будешь кормить нас этой дрянью? Цвет — как у лягушачьей икры… Не еда, а жабуринье! Не знаешь, что это такое? Это из чего лягушки выводятся, покарай тебя бог! А фатерланд опять гуляшом кормили… Что такое фатерланд? Немцы, балбес! Знаю, что из консервов, без тебя знаю… Вот это здорово! — И Лукану: — Будет сегодня гуляш! — Снова в телефон: — Слушай, Лайош, ты там один? — И тихо: — Достал что-нибудь? Твою в бога… и слушать не хочу! Должен достать!.. Я не шучу, ты глубоко заблуждаешься!.. Ладно. Любопытно! — Кляко положил трубку и ехидно заметил: — Живодер! Готов последнее содрать, и грязными исподниками не побрезгует!
Они доели горох. Лукан вымыл котелки.
Мускулы у них расслабились, все тело обмякло. Огорошенные желудки выталкивали пищу обратно, и они заново ее пережевывали; Кляко сопровождал каждый глоток руганью. Его тянуло прилечь на нары, но он знал, что ложиться нельзя — еще, пожалуй, стошнит и он останется голодным.
Лукан разделся до пояса. Кляко сходил за свитером и рубашкой.
— Эх, вошки, вошки! — Он встряхнул рубашку и свитер и подсел к Лукану у входа в блиндаж.
— Тяжелый танк. — Кляко поднес крупную вошь к глазам и с удовольствием раздавил ее на дощечке.
Вошь щелкнула.
— Слыхал?
Щелкнула вторая.
— А ты мою?
Они били вшей каждое утро…
Извлекали их из шерстяных свитеров, куда они зарывались головами, и снаружи торчали лишь их толстые грязно-серые зады. Извести насекомых они были, однако, не в состоянии. Кляко не мог поручить это, как, например, Гайнич или Кристек на батарее, своему ординарцу, — Кляко стеснялся и бил вшей самолично, называя их, в зависимости от величины, — тяжелыми, средними или легкими танками. Он даже придумал для вшей особые состязания, но вот уже два дня как они этим не занимались, потому что кто-то утащил большой кусок картона, на котором эти состязания устраивали. Вошь сажали на этот расстеленный на столе картон, у черты «Старт». Затем к ней подносили горящую сигарету, вошь лопалась и отскакивала. Расстояние, на какое отлетело насекомое, придирчиво измерялось, причем нередко доходило до ссоры…
Кто мог уволочь картон? Вот эта бы прыгнула, а? Все бы рекорды побила! И — щелк ее. Ну, черт с ним, стащил и стащил. Охота была зря ругаться!
Дощечка покрылась пятнами.
Потом Лукан оттер их землей.
Мина! Воздух ахнул. Они бросились в блиндаж и дружно повалились на землю. Воздух над блиндажом ахал, земля сыпалась на обнаженные тела. Лукан взглянул вверх. Земля снова содрогнулась. Захотелось кричать. И Лукан закричал в безграничной тишине, и кричал долго, пока не понял, что этот тоскливый звук вырывается из его горла.
— Что с тобой?
Кляко приподнял Лукана, перевернул на спину, ощупал голову и грудь.
Лукан видел его лицо. Никогда еще так хорошо не видел. Оно очень близко. Поручик шевелит губами. К нижней губе пристали комочки земли. У поручика белые зубы, два ряда белых зубов.
— Лукан!
Поручик стоит беспомощный, удивленный. У него сильно дрожат руки. Пальцы то удаляются, то снова приближаются. Губы двигаются очень быстро.
— Вода!
Кляко спохватился и бросился в угол, где стояло ведро. Его засыпало землей. Он взглянул на потолок и охнул. В блиндаж попала мина. С потолка свешивались клочья разбитого в щепы бревна.
Кляко облил Лукана водой, растер ему лоб, грудь, избегая его взгляда. В глазах Лукана было что-то такое, чего он не мог понять. В них застыл ужас, только что пережитый ужас, который, быть может, не прошел еще и сейчас, и вместе с тем — полный покой мертвеца. Но веки Лукана моргали, глаза следили за каждым движением Кляко. Рот был нем, конечности неподвижны. Но Лукан дышал.
Кляко выбежал из блиндажа, надеясь кого-нибудь увидеть и позвать на помощь. Там он закурил, потом вернулся и медленно-медленно опустился на нары. Вероятно, Лукан его не видел, потому что продолжал смотреть на вход.
«Что с ним? Куда он смотрит?» Поручик подскочил к солдату и потрогал веки. Они были податливы. Глаза закатились, словно у покойника. Он отвернул губы Лукана. И тут заметил, что на левой руке ординарца шевелятся пальцы. Вот он положил руку на голый живот.
С поручика лил пот в три ручья. Волосы, шея, спина — все было мокро.
Лукан приподнял голову.
— Ну, брат, нагнал ты на меня страху! — Кляко вытер пот рубахой.
— Я совсем ослаб.
— Мать честная, ну и нагнал же ты на меня страху! Ведь ты был и мертвый и живой сразу. А я взмок, как мышь. У тебя какой-то шок, видно, был. Я в этих делах не разбираюсь.
Лукан сел, держась за голову.
— Закурить хочешь?
— Орал я?
— Орал? Кажется. Впрочем… почем я знаю. Гляди! Прямое попадание. Счастье еще, что в угол… И не поверишь, что в мине такая сила. Курить хочешь? — Кляко раскурил и протянул Лукану сигарету. — Самая пора отсюда смыться.
— Знаю.
— Ну а ты как? Голова не болит?
— Только слабость.
— Наверно, это шок. Я в этом не разбираюсь. Да, тут мы словно скот на бойне. Прикованы цепью к стене и ждем, когда нас оглушат обухом. Ты бывал на бойне?
— Нет.
— И не ходи. Обухом по лбу! А скотина это чувствует. Каково, должно быть, этой скотине!
— Как и нам.
Кляко захохотал.
Через несколько минут они отправились на НП. Он был близко. Всего в каких-нибудь семидесяти метрах. Лукан сменил солдата, который дежурил ночью. Молчун ушел в блиндаж. Кляко стал у стереотрубы.
На этом участке фронта было спокойно. Можно было подумать, что обе стороны молча условились не менять позиций. Не будь обстрела минами, здесь мало что напоминало бы о войне. Винтовочный огонь был не опасен, как и снайперы. Тот, кто знал местность, мог ничего не опасаться. Так считал Кляко, да и Лукан тоже. Какое еще мнение могло сложиться у необстрелянных новичков, которые провели в окопах всего для два! Через неделю они, однако, заметили, что повозки, доставлявшие продовольствие, каждый день увозят с фронта убитых и что большинство их убито снайперами.
— А ведь погибают самые опытные, обстрелянные солдаты, как ни странно. Ты понимаешь что-нибудь? Я — нет. Этак у швабов скоро не останется ни одного мужчины. Безобразие! Каково придется женщинам!
В последние дни Кляко стал кое о чем догадываться. Ведь и его одолевало искушение встать во весь рост, плюнуть на все. В эти моменты для Кляко все было безразлично: попадет он под пулю или нет. Но он еще умел подавлять в себе этот опасный порыв, болезнь позиционной войны, от которой ежедневно погибали солдаты. Но этот опасный порыв совсем не походил на тот, который заставил Кляко выскочить из окопа, когда Лукан с Гайничем стащили его вниз.
Гайнич пристрелял батарею, а дальше что? Ни танки, ни «виллисы» не показывались. Гайнич заскучал бы здесь. Это был мертвый, очень спокойный участок. На таком участке командиру батареи не выдвинуться в командиры дивизиона. Теперь Гайнич сидел на огневой позиции, но там сидеть можно: каптенармус под рукой. Вот Гайнич и не вылезал из блиндажа, пил с утра до ночи.
— Я когда-нибудь пристрелю этого каптера. Герр командир хлещет целыми днями, а я здесь трезвый, словно монашка, — негодовал Кляко, глядя в окуляры. — Лукан, а не ударить ли нам по одиннадцатому квадрату?
Одиннадцатым квадратом была пашня, на которой полегли девятеро.
Лукан продиктовал по телефону данные на огневую позицию. Он давно знал их наизусть.
Четыре снаряда с воем пронеслись над головой.
— Немножко в сторону взяли. А, черт, не все ли равно!
Кляко отошел от стереотрубы и сел на ящик, накрытый попоной, потом закурил.
— Это верно!
— Хватит! За этот поганый горох мы героев из себя корчить не будем! Ждите! Фиг вам!
— Было б хоть гороху побольше…
— Это другой разговор. А ты не соображаешь, что делается? Поспорим, что наш каптер эту дрянь и в рот не берет. Герр Гайнич тоже. Эти скоты жрут по-царски, это я даже здесь чую.
Они молча сидели, покуривали. Так прошло не меньше часа. Кляко сказал:
— Не пора ли ударить по двенадцатому? — Это была северная часть пашни, примыкавшая к высоте триста четырнадцать. Все квадраты были перенумерованы.
— А почем я знаю! — Лукану хотелось спать. Он привалился в углу, к стенке, локоть — на полевой телефон, и подпер подбородок ладонью.
— И то правда. Мать в бога того, кто этот блиндаж строил!
Кляко не мог вытянуть ноги. Ему мешали камни.
Ничего не происходило, все дышало покоем. На отдельные винтовочные выстрелы ни Кляко, ни Лукан не обращали внимания. Короткая пулеметная очередь всколыхнула воздух, словно ветерок качнул простыню, повешенную на дворе.
Ничего не происходило.
Между двенадцатью и часом дня возникало некоторое волнение.
— Ты не спишь?
— Нет.
— Хотелось бы мне знать, что они там лопают. Немцам раздали гуляш и еще какие-то свертки. Не знаю, что в них было.
Первое время Лукан вставал неохотно, но разговор повторялся каждый день, и Лукан понял, что это его обязанность. Его и самого уже начинало разбирать любопытство — какой обед у немцев. Он становился вторым Кляко. Сегодня, вернувшись, он доложил:
— Фатерланд угощают маслом. Намазывают толщиной с палец, — показал он, но это уже не интересовало Кляко.
— Ну и пожалуйста.
А после продолжительного молчания, когда Лукан прикрыл глаза пилоткой и сказал себе, что постарается ни о чем не думать и заснуть, Кляко спросил:
— Так говоришь — маслом?
— Маслом.
— Тогда я тебе скажу…
Но Кляко ничего не сказал и только сердито покачал головой. После этого он про себя начал с кем-то ругаться и спорить. С кем? С каптенармусом. А у того, капрала-сверхсрочника, была тень, но почему-то не своя, а чужая — тень Гайнича. И Кляко тут же заспорил с тенью. Он мог нарушать законы природы, голодный как собака.
Было около трех часов.
— Начнем от Адама. Скажи им, чтоб ударили по первому! — приказал Кляко. После трех часов голос его звучал жестко. Он командовал.
Батарея дала залп. Послышались разрывы. Кляко прислушивался лежа, потому что после трех к стереотрубе не подходил. Он лежал, ворча себе под нос, и время от времени сердито произносил:
— Еще семь часов.
— Да, еще долго.
— И дурак понимает, что долго. В десять принесут жратву, все холодное. К чертовой матери! И кто такой порядок выдумал? Немцы! Легко догадаться, дьявол их возьми! Наброшусь на жратву, как собака.
Около четырех он сказал:
— Еще шесть часов. Жрать хочу, как собака. — Но, вспомнив немецкого унтера, добавил: — Сегодня они собираются атаковать высоту триста четырнадцать. Любопытно. Штрафники, эти обмороженные щеголи. Любопытно. Сегодня гуляш обещали, можно и потерпеть. Но если мне не принесут бутылку, ты, Лукан, увидишь, что я сделаю с этим канальей… — Мысль эта настолько воодушевила Кляко, что он даже сел.
— Что?
— Увидишь!
— Все это трепотня! — Лицо Лукана было прикрыто пилоткой.
— Трепотня? — взвился Кляко и яростно выругался. Но, поглядев на прикрытое пилоткой лицо Лукана, умолк. А вскоре произошло нечто необыкновенное: поручик Кляко встал. Свой поступок он сдержанно отметил:
— Сегодня я что-то нервничаю. Не понимаю. Из-за этой высоты триста четырнадцать. У меня такое ощущение, что и нам ее не миновать. Что ты скажешь?
Прежде чем майор фон Маллов решился атаковать высоту триста четырнадцать, у него произошел с обер-лейтенантом Виттнером такой разговор:
— Мы сидим на месте, дорогой господин обер-лейтенант Виттнер. Солдат заели вши и нас… нас тоже, в конце концов.
— Да. — Обер-лейтенант умел, где следовало, соблюдать осторожность.
— А польза? Какая нам от этого польза? Прошу вас, вы можете мне объяснить? — Майор махнул рукой, желая сказать, что ответа не требуется, и продолжал: — За последний месяц у нас убито тридцать восемь человек. Фантастическая цифра для немецкого пехотного батальона! За всю французскую кампанию — я был лейтенантом и командовал ротой — в нашем батальоне было трое убитых. Четвертый умер в госпитале месяц спустя, когда все уже кончилось. А на поле брани погибли трое, хотя мы прошли всю враждебную нам Бельгию. Тридцать восемь убитых! Просто думать не хочется…
— Позиционная война, господин майор. Я давно утверждаю, что такая война противна немецкому духу. Нам нужны размах, движение, неожиданные удары, охваты. Непрерывное движение…
— Не торопитесь, дорогой мой обер-лейтенант, не торопитесь. Мы не хотели позиционной войны, они нам ее навязали. — И он показал под стол.
Обер-лейтенант не хотел признаться себе, что тон майора его задел. Майор был тридцатишестилетний мальчишка, а ему не сегодня-завтра стукнет сорок. Не мог же он быть всюду. Всякий выполняет патриотический долг по мере своих сил и способностей. Будь он в возрасте майора, он тоже говорил бы о французской кампании, о роттердамских крышах и Нарвике. Нечего ему этим колоть глаза. И вообще, как это «навязали»? Могут ли русские что-нибудь навязывать? Нам! Простая перемена тактики! Хотя майор уверяет, что я не прочь пошутить. И отчего бы не пошутить? Юмор — приправа к жизни. Где я это слышал?.. Правда, перемена тактики что-то затянулась, судить об этом я не могу, не имею права. Куда мы зайдем, если каждый начнет судить? Это же смешно! И я в своих торговых делах не советовался с мелкими акционерами. Я не спрашивал у них, что мне следует и чего не следует делать. Хек-хек…
— Вы улыбаетесь?
— Нет, нет, господин майор. Но я подумал о некоторой связи..
— Какой? Разрешите узнать?
— Вас это рассмешит. О связи войны с торговлей. Например, с торговлей рыбой.
Майор изумленно переспросил:
— Хек-хек, вы, конечно, изволите шутить, хек-хек?
— Совершенно серьезно, господин майор, хек-хек.
И майор стал серьезен.
— В конце концов, если существует связь между войной и сельским хозяйством, почему бы не могло быть… — И майор снова засмеялся. — Хек-хек, связи войны с вашими сардинками, хек-хек? Вы любите пошутить, хек-хек!
Оба сообразили, что они слишком много смеются и смех этот неприличен, ибо может отвлечь от чего-то важного.
— Наши потери, господин майор… — Он побоялся произнести слово «велики». — Да, потери есть. Но, извините, зима прошла, сейчас май, светит солнце, дороги просохли, следовательно, создались условия, которых полгода ждет наша техника. Это вещи известные и… извините, что я повторяю их. Я хотел сказать, что перед нами открытый путь, впереди у нас нет никаких препятствий, я хотел бы это подчеркнуть, ничто не помешает нам ликвидировать большевистскую Россию в этом году. И еще более точно: до осени.
— Да. — Майор задумался. — Это вещи известные. И вот еще вопрос, господин обер-лейтенант Виттнер: а если нам не удастся это сделать до осени, как вы говорите, тогда что?
Продолжение фразы повисло в воздухе, но оно было всюду и они ощущали его вокруг себя. Слова были самые простые. Однако обер-лейтенант даже вздрогнул. Он впервые услыхал их — и от кого? От своего командира! В первый раз прозвучали они, живые, обнаженные, но он давно уже носил их в себе, в самом дальнем тайнике души. Когда он оставался один, обычно в этом командирском блиндаже, его искушал злой дух, нашептывал ему эти слова. Их хотелось произнести, лишь один-единственный раз произнести и услыхать, как они звучат… а звучат они очень просто. Но он не поддавался искушению, убежденный, что совершит государственную измену.
— Вы шутите, господин майор.
— А если бы… дорогой обер-лейтенант, если бы я не шутил?
— Ах, нет, нет. Вы шутите. Именно сейчас вы себя выдали! — Виттнеру удалось на время рассеять напряженную атмосферу.
— Этот вопрос, — сказал майор, сосредоточенно разглядывая свои пальцы и зажженную сигарету. — …вы, правда, этого случая не знаете — в дивизии его скрывают. Произошло это совсем недавно, недели две назад. Я полагаю, между нами не должно быть секретов…
— Благодарю!
Майор остановил его движением руки.
— Наш сосед — саксонский гренадерский полк. Есть там командир батальона некий майор Рундель или Рендель, точно не помню. Но это не так важно. Заметьте, любопытное совпадение! Его зовут Адольф, и он родился в один день с нашим фюрером. Понимаете…
— Он, господин майор, должно быть, весьма интересный человек.
— Почему?
— Имя и такая дата — это…
— Да, конечно. Я с ним незнаком. Я только хотел сказать, что майор устроил небольшой праздник в честь этого дня. Он пригласил и командира полка, а, между нами, — господин полковник Керн не пропустит такого случая — с ним-то я знаком, очень хорошо знаком. Он из Мекленбурга. Там ели, пили — словом, пировали, насколько это возможно в этих крысиных норах, хек-хек. Все, как мне рассказывали, шло наилучшим образом. Господин полковник от души веселился. Он бывший преподаватель военной академии и любит потеоретизировать. Он набросал перед присутствующими некий фантастический план ликвидации большевистской России до середины августа. Был там и молоденький лейтенантик. Мальчик, должно быть, хватил лишку, иначе я не могу себе объяснить того, что произошло. Он спросил полковника: «А что, если нам не удастся разбить русских и в этом году? Что тогда?» — «Приведите себя в порядок, лейтенант, — приказал ему Керн. — Ваш пистолет заряжен? — Сидевшие за столом побледнели. — Выйдите вон… — Керн, говорят, посмотрел на часы. — И даю вам две минуты сроку…» Все поняли, понял и лейтенант, однако не поверил. Он встал. «Может быть, я сам должен проводить вас? Чего вы ждете?» — рявкнул полковник. Молодой человек отдал честь, вышел, и, едва за ним захлопнулась дверь, раздался выстрел. Вышел и полковник. Лейтенант лежал перед дверью. «Он не был трусом. В донесении отметьте, что лейтенант умер геройской смертью». Как вам это нравится, дорогой обер-лейтенант Виттнер? Любопытно, не так ли? А ведь не менее любопытен был и вопрос застрелившегося лейтенанта. Да-а…
«Это предостережение? Как это понимать? Что это означает? Командование дивизией скрывает такую историю не без оснований. Зачем майор рассказывает это мне?» Виттнера взволновала не смерть лейтенанта, его ужасало совеем другое — ведь тот же самый вопрос мучил и его! «Сколько солдат спрашивают себя о том же? Или… но… господи, это невозможно! Неужели все? Если все, значит, возникает этот вопрос и у господина майора фон Маллова…»
— Вы начали с того, дорогой обер-лейтенант, что немецкому воинскому духу присущи размах, движение, непрерывное движение вперед. Прекрасно. Смерть этого лейтенантика на вас не произвела впечатления? Не правда ли?
— Нет, нет, господин майор.
— Со временем это пройдет. Я хотел сказать: на нашем участке необходимо создать впечатление движения, некоего предвестия крупных операций. Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли…
— Понимаю, понимаю, господин майор. Мы должны кое-кого побеспокоить.
— Я не предполагал, что мои намерения можно объяснить подобным образом, хек-хек. Побеспокоить! Правильно. По совести говоря, для меня очень важен этот разговор. То есть я хочу вас убедить, убедить в лучшем смысле этого слова. Не обижайтесь, прошу вас. Вы мой подопытный кролик, хек-хек. Подобный разговор будет у меня с нашим шефом, я хочу убедить и его. Вы меня понимаете?
— Да, да.
— Как вам нравится высота триста четырнадцать?
— Блестяще, просто блестяще!
— Я не авантюрист, — быстро добавил майор. — Я никогда зря не рисковал, мне всегда был дорог каждый мой солдат. В наступление пошли бы штрафники.
— Штрафники? Деклассированные элементы? Да их давно следует проверить в бою. Я слышал…
— Вы могли слышать все, что угодно, но все это хорошо для хрестоматии. Вблизи жизнь выглядит по-другому, и потому штрафники должны получить по заслугам. С другой стороны, между нами, высотка эта немногого стоит. Она слишком выдвинута вперед, подступы к ней легко уязвимы, она низка. Мы не получим ничего нового для обозрения территории противника, я уверен в этом. Доводов против много. Но попытаться стоит.
— Да, конечно. И, насколько мне известно, вы в хороших отношениях с господином полковником, так что…
— Это к делу не относится, — холодно сказал майор.
— Извините…
— У вас привычки штатского человека. Давно ли вы на фронте?
— Четыре месяца. Добровольно.
— Срок достаточный. Во время этой операции я рассчитываю на поддержку словацкой батареи. Знаю, знаю. — И майор добавил строго: — Не забывайте! Это наши союзники. Понимаете, Виттнер, ваше отношение к ним внушает мне серьезную тревогу. Ничего личного, решительно ничего. Ваше отношение к ним довольно близко к моему, это наше, немецкое отношение. Вам должно быть известно, что я принадлежу к классу, покаранному гордостью. С младенческих лет мои привилегии стали для меня мукой. А у человека есть глаза, чтобы видеть, и разум, чтобы размышлять. Кажется, я уже заслужил право говорить о жизненном опыте? Мне тридцать шесть лет, в наш век этого вполне достаточно. А мой опыт подсказывает мне, что гордостью и высокомерием мы только оттолкнем от себя союзников. Это неприятно. Я вспоминаю свою юность. Обычно ценить юные годы начинаешь только с возрастом, увы — слишком поздно. Когда я приезжал домой в родное поместье на каникулы, мне всегда казалось, что я против воли подвергаю себя каким-то страданиям. Что мне было делать в родительском доме? Ходить из комнаты в комнату? Бродить по огромному парку? Я хорошо знал, что буду лишь издали глядеть на игры своих сверстников, детей из низшего сословия, на их развлечения. Их крики и восторженные вопли возмущали и одновременно манили меня. Но я не подходил к ним, и они тоже не осмеливались приблизиться ко мне. Это будет звучать странно. Но я… — Майор замолчал.
Продолжение фразы должно было гласить: «Но я думаю, что самая большая опасность грозит немцам потому, что они, как нация в целом, объявили себя избранными. Завтра мы останемся совсем одни, как я когда-то в родном имении на каникулах… А послезавтра? Послезавтра это может означать наше поражение». Закончив про себя эту фразу, майор усмехнулся — хек-хек — и недовольно подумал: «Достаточно глупое положение. Мне следует остерегаться обер-лейтенанта».
— Оставим этот разговор, — сказал он.
«И у аристократов есть свои заботы. Странно. Кто бы мог подумать!» Обер-лейтенант Виттнер мало что понял из слов майора и чуть не признался в этом вслух.
Все это происходило как раз в то время, когда Кляко сказал Лукану: «Хотелось бы мне знать, что они там лопают?»
А на следующий день между четырьмя и пятью часами пополудни майор фон Маллов приказал обер-лейтенанту Виттнеру:
— Пришлите ко мне офицера-наблюдателя со словацкой батареи. Но никаких опрометчивых поступков, Виттнер. Этого я не потерплю.
Высота триста четырнадцать находилась левее НП Кляко. В объективе стереотрубы это был конический лысый холмик, и если бы не белые камни на вершине, он походил бы на искусственный. В течение столетий дожди смыли с него почву, прорыв в его склонах овражки. Здесь не могло пустить корни ни одно деревце, зато у подножия высотки разросся густой кустарник.
НП Кляко как раз переводили в другое место. Словакам помогал при этом молодой немец с черным обмороженным лицом. Он сказал просто: «Я тоже был телефонистом», — и схватил катушку с кабелем.
На вопрос Кляко: «Был? А кто вы сейчас?» — немец ответил не сразу. Вопрос смутил его. Он враждебно осклабился:
— Не видите, что ли? Я из штрафной роты.
Когда все перешли на новый НП, Кляко закурил. Прямо перед ними была высота триста четырнадцать. Чернолицый немец остановился. Кляко перехватил его взгляд, но не понял его.
— Извините, господин офицер, что я осмеливаюсь. Не дадите ли мне сигарету?
Немец жадно затянулся.
— Я никогда не был телефонистом. Я сказал так нарочно, побоялся, что вы не разрешите мне нести кабель.
— И все ради сигареты?
— Да. Я увидел, что вы закурили. Я следил за вами добрых десять минут и уже подумал, что вы не курите. А потом вы закурили… Ну, я и осмелился. У наших я боялся попросить. Они бы мне ни за что не дали.
— Вы не получаете пайка?
— Очень маленький. Мне на полдня еле хватает.
— И давно вы в штрафной роте?
— Почти полгода. С рождества.
— За что?
— Не знаю, господин офицер, приходилось ли вам иметь дело с нашими солдатами, но вы могли бы убедиться, что они не любят отвечать на некоторые вопросы. Они не доверяют друг другу, а тем более иностранцу. Ну, а я хоть и немец, но штрафник, выходит, тоже что-то вроде иностранца, как и вы.
— Не понимаю.
— Я могу снова стать немцем, такая возможность здесь существует. — Он громко засмеялся. — Да, такая возможность здесь существует. И даже не так далеко, не больше двухсот метров отсюда по прямой. Это высота триста четырнадцать. Погибнув, я снова стану немцем… Извините, я забылся. За сигарету самая сердечная благодарность.
Он подобрал окурок, брошенный Кляко, и мгновенно исчез.
Кляко хотел позвать его и еще дать несколько сигарет, но все произошло слишком быстро. Он только прошептал: «Штрафная рота», — и добавил громко для Лукана:
— Вот какие дела, дружище. Жуть!
— Я знаю, о чем вы говорили, понял кое-что. Я планицкий. Правно от нас близко. Три недели назад, когда мы с Гайничем шли сюда, нас тоже остановил один такой… с черным лицом. Я догадался, что он не похож на остальных. Только мы отошли от него метров на двадцать, как его убило снарядом. Я тогда еще подумал, что жалко такого. Такие немцы должны бы пережить войну.
— Пережить? Ты слишком многого хочешь. Мы на бойне, дружище, и ждем, когда и нас пристукнут. Здесь я… здесь я не вижу выхода. Это подлое дело, и мы увязли в нем по уши.
— Но одно-то здесь вроде как ясно…
— Ничего ясного не вижу! — Разговор пришелся не по вкусу Кляко, и он закричал: — Я голоден. Из одной миски с собакой стал бы жрать! А когда бы мы все слопали, я сожрал бы и собаку. Какое мясо может быть у собаки? Собачатина! Жрать собачатину, ха-ха! Что тебе ясно, кроме того, что ты голоден, пан рядовой?
— Немцами я сыт по горло, и этой войной тоже.
— Великое открытие! — Кляко злобно рассмеялся. — Дружище, об этом знают даже наши лошади и не хвалятся. Особенно те, что убежали во время бомбежки. Одну я видел, ее доконали кресты.
— Иногда я вас не понимаю, пан поручик. Почему же нельзя об этом сказать? Я ношу это в себе, понимаю, что это правда, а когда высказываюсь вслух, еще лучше вижу правду.
— Ого! Ну и ну! — Кляко больше ничего не сказал, что означало: он хочет послушать.
— До дому мы не доберемся, это я уже понял. А зачем мне тогда жить?
— Ну, ну! Это становится интересно!
— Только то, что я сыт немцами по горло, и что с этой войной у меня нет ничего общего, и я не желаю иметь с ней ничего общего.
— Что, что, многоуважаемый? Ты воюешь! Ты воюешь — и все тут!
— Меня заставили. Как и вас заставили.
Они наскакивали друг на друга, не раздумывая, не готовясь заранее.
— Вся штука в том… — Кляко несколько замялся. — Ты, размазня, братец. То, что ты сказал, не стоит и понюшки табаку. Ты что, думаешь, мало немцев, которые рассуждают по-твоему? Они не согласны с этой войной, а все-таки воюют. Воюют, как Лукан, как Кляко, чтоб им всем пусто было! Только страх держит немецкую армию в кулаке, только страх. Они боятся друг друга так же, как боятся русских. Страх — это горючее, которое приводит в движение механизм войны. Он движет и нами. Но корень зла где-то в другом месте, не здесь.
— Вы что же, хотите сказать, что между нами и немцами нет разницы?
— Вот именно!
— Неправда это! — громко воскликнул Лукан. — Не может быть это правдой.
«С этой войной у меня нет ничего общего, и я не желаю иметь с ней ничего общего!» — Кляко противно захихикал. — Ах, Лукан! То же самое я думал еще три недели тому назад. Лукан, Лукан! Мы живем в такое безумное время, когда никого не интересует, что ты думаешь. Или очень мало интересует. Важно то, что ты делаешь. Что делаешь, дружище! Здесь это решает все. Правда, из этого ада можно выбраться несколькими путями. Одним путем идут Гайнич и полоумный Виттнер. Они воюют, воображая, что знают ради чего. Они считают этот ад неизбежным. Благодарю покорно, мне с ними не по пути. Спасибо! Я говорю тебе об этом откровенно. Другой путь — особый. Не воевать. Где-нибудь окопаться, сбежать домой, но практически это неосуществимо. Или выскочить из окопов под пули снайперов. Я уже раз попробовал. Но свинья Гайнич и ты, Лукан, мне помешали. — Речь Кляко звучала то зазорно, то мрачно. И тогда он, задумываясь, опускал голову. — Я трус, рядовой Лукан, подонок! Я уже Гайничу однажды сказал это и не вижу причин, почему бы не повторить это тебе. Так вот, подонок — и потому боюсь третьего пути, а на него могут стать только сильные люди. Вон там высота триста четырнадцать. В двадцать два ноль-ноль ее будет атаковать штрафная рота, и поручик Кляко из-за того, что он трус и подонок, поддержит атаку сосредоточенным огнем, когда первое подразделение атакующих подаст сигнал двумя зелеными ракетами. Видишь, видишь… — И после долгого молчания Кляко с какой-то надеждой обратился еще раз к Лукану: — Чего молчишь?
— Что тут можно сказать…
Поручик Кляко в ответ кивнул и вдруг закричал:
— К черту!
После этого оба прислушались к отдаленному грохоту и одиночным выстрелам. Но без интереса, равнодушно. Быть может, они думают о третьем пути, который не для слабых и не для подонков. А может — о доме. Пожалуй, это вернее, потому что о доме думают тогда, когда предчувствуют, что больше его не увидят.
Шесть часов вечера, и на окопы медленно опускаются сумерки. Еще четыре часа, — и сюда доставят бачки со жратвой, и Кляко с Луканом смогут утолить голод. Четыре часа — не так уж много времени, гораздо меньше, чем пятнадцать часов, но оба молчат об этом.
Вот уж и совсем стемнело, на небосклоне сверкает большая звезда, до десяти становится на час меньше.
Оба молчат. Ни тот, ни другой не отметили этого.
Кто-то пришел на НП, ну и плевать. Тут все время кто-нибудь ходит, и с этим ничего не поделаешь.
— Господин офицер!
— Да?
— Разрешите на минутку. Я тот самозваный телефонист.
— Пожалуйста, пожалуйста. Узнаю вас по голосу.
— Мы получили сигареты, целых два десятка. — И немец шепчет: — Я хочу вернуть вам долг. Пожалуйста!
— Нет, нет, что вы выдумали! Я дам вам еще. Нет, нет!
— Возьмите, прошу вас!
— Какой вы упрямый! Спасибо! — Кляко протянул руку и нащупал пачку.
— Тут с вами еще один сидел. Я хотел бы и его угостить. Он здесь? Я не вижу никого, даже вас, господин офицер.
— Возьми, Лукан. Потом мы угостим его своими. Бедняга. Господи, как мне его жалко. Пришел… пришел вернуть сигарету… — И Кляко продолжает по-немецки: — Спасибо. Мы потом дадим вам из своих.
— Вы бегло говорите по-немецки…
— За восемь лет, милый мой, кое-чему научишься. Хотя немецкий язык и был необязательным, но я выучил его. В гимназии языки давались легко.
— Мы с вами из разного теста. Окончив гимназию, я занимался химией. Проучился четыре семестра и… по некоторым причинам, не очень серьезным, на меня напялили военный мундир. После этого я убедился, что со мной считаются все меньше и меньше, пока в конце концов я не докатился до штрафной роты. За что? Вы меня спрашивали — за что? Словом, я отказался застрелить русского пленного. — Наступила мучительная тишина, не было слышно ни звука, и немец понял, что никто, кроме него, не заговорит. — Это было двадцать шестого декабря. Мы сопровождали пленных, обычный транспорт из лагеря в лагерь. Дело было под Львовом. Накануне весь день мело, и ветер сдул снег с кучи свеклы. То ли ее забыли, то ли еще почему, не знаю. Понятно, голодные пленные набросились на эту свеклу и в один миг всю расхватали. После этого всех построили на дороге, как положено, и я подумал, что сейчас мы двинемся дальше. Начальник транспорта, некий фельдфебель, прошелся вдоль колонны, вытащил первого попавшегося пленного и направился с ним ко мне: «Интеллигент, давай прихлопни его!» Фельдфебель ненавидел меня и вечно ко мне придирался. Дурак, тупица, опьяненный властью! Я отказался. Он даже не прикрикнул на меня. Расстреляв пленного, он сказал: «Уж я о тебе позабочусь, интеллигент! Как следует позабочусь!» На следующий день меня перевели в какую-то новую часть, а когда я явился на место, то понял, что это штрафная рота.
Кляко с Луканом усердно дымили. Поручик не посмел прервать этот монолог. Да он и не знал, что сказать. Больше всего его удивляло, что немец разговорился сам. Люди не меняют свои взгляды в одну минуту. Какие обстоятельства заставили немца рассказать о себе? Какие причины? Возможно, их и нет. Он сам додумался, что с ними можно говорить откровенно. В этом нет ничего нового. Так было и с самим Кляко.
— Кажется, вам непонятно, почему я все это вам рассказал. В свой первый приход, два часа назад, я молчал. Пришлось молчать, потому что тогда я не знал того, что знаю сейчас. В двадцать два ноль-ноль мы атакуем высоту триста четырнадцать, и наше подразделение идет первым.
— Поэтому?
— Да.
— Вы не верите, что останетесь в живых; — вырвалось у Кляко.
Неосторожные, глупые, неуместные слова! Их уже нельзя было ни зачеркнуть, ни вернуть. Кляко бранил себя. Он понимал, что немец не ответит, не может ему ответить.
Но немец продолжал:
— Вы словаки?
— Да, — вмешался Лукан, так как Кляко продолжал молчать.
— Я знаю Братиславу. Сам я из Вены. Два раза был у вас, ездил на трамвае.
— Нравится вам Братислава?
— Нравится. У всякого города на Дунае есть своя прелесть. У вашей Братиславы, нашего Линца, Кремса, а больше всего у Вены. Вы бывали в Вене?
— Нет.
— А вы? — обратился немец к Лукану.
— Тоже не бывал.
— Жаль. Сейчас война. А во время войны все города выглядят одинаково печально. И одинаково однообразно. Как и люди. Из-за военных мундиров. Но я пожелал бы вам видеть Вену до войны и до аншлюса. Такой она будет и после войны. А вы как думаете, будет?
— Будет! — с воодушевлением ответил Кляко.
— Будет… — неуверенно поддержал его и венец. — Должна быть. Но я вас задерживаю, извините. — Он встал, поднялись и словаки. — Благодарю вас за этот приятный разговор. Вы были так любезны. И если я сказал что-нибудь лишнее, что-нибудь неудачное, не сердитесь на меня. Меня зовут Реннер, Отто Реннер.
— Ян Кляко!
— Ян Лукан!
— Ян. Тот и другой Ян. Это Иоганн?
— Да.
— У меня есть брат. Он старше меня на три года. Тоже Ян. Он воюет где-то в Африке. Тунис, Ливия. — И он понизил голос: — Не думаете ли вы, господин офицер, что наш век впал в безумие?
— Я думаю о нем как нельзя хуже, господин Реннер.
— «Господин Реннер!» — Он сухо засмеялся. — Давно я этого не слышал. Прощайте, господа! — Он быстро вышел из блиндажа, они думали, что они хотя бы обменяются рукопожатиями.
— До свидания! — крикнули они вслед.
— Прощайте! — Реннер вернулся и сказал, стоя в дверях блиндажа: — Передайте от меня привет Братиславе и Вене. Прощайте!
Шаги удалялись, и по мере того как они затихали в душу Кляко пробиралась тоска. Или она была уже раньше, а он этого не осознавал. И все же в душе Кляко затлелась еще искра. Он спросил Лукана:
— Ты бывал в Братиславе?
— Нет.
— И я, дружище, не был. Опять я этому бедняге забыл дать сигарет… Отто Реннер, Отто Реннер.
После этого время потекло быстрее, как половодье. В темном блиндаже нового НП, будто неугасимые лампады, горели два красных огонька. Они то светили ярче, то тускнели, поднимались и снова опускались, когда рука отнимала их от губ. Кляко с Луканом курили и курили, лишь бы не говорить.
По телефонному проводу уже передали приказ на позицию, и батарея была в полной боевой готовности. Разверстые пасти орудий отвратительно уставились в темную безлунную ночь — в небо с редкими звездами.
Гайнич храпел. Христосик тщательно наблюдал за порядком, обо всем помнил. Ординарцу он приказал:
— Завесь вход двумя одеялами, чтобы не было слышно храпа. — Одна каска была у него на голове, другую он держал в руках.
Солдаты с бачками уже отправились на НП.
Виктор Шамай сидел в своей повозке и клевал носом.
Неподалеку расхаживал фельдфебель Чилина и грозил приглушенным голосом:
— Не спите, ребята, такие-сякие, не то я вам головы поотрываю!
— Пан фельдфебель!
— Что надо? Чего орешь?
— Атака готовится, что ли?
— Молчать!
Чилина знал не больше солдат, не больше солдат знал и поручик Кристек, но еще меньше знал надпоручик Гайнич, пьяный Гайнич, с пяти часов храпевший в блиндаже.
Орудия, отвратительно разинув пасти стволов, смотрели в темную ночь. В стальной утробе лежали снаряды, начиненные порохом. Орудийные расчеты сидели на лафетах, дремали, растянувшись на непромокаемых плащ-палатках у колес. Никто не осмеливался отойти даже на шаг, потому что Кристек, словно овчарка, кружил рядом и на всех набрасывался:
— Куда? Не знаешь, что объявлена боевая готовность?
— Иисусе Христе, уж и до ветру сходить нельзя?
— Хватит поминать Иисуса!
— Ребята, — чуть не плача говорил солдат, — истинно верующему христианину уж и к богу своему обратиться нельзя. Слыхали?
— Проваливай!
Кто-то засмеялся и затянул:
— Христе, боже наш!
— Тихо!
Поручик Кристек знал, что это солдаты над ним смеются. Он стиснул зубы — не в его силах было что-либо предпринять, — и он в сотый раз давал себе слово не поддаваться на провокации.
— Что вы сказали, пан поручик?
— Тихо! — рявкнул Кристек.
— Да! Я не расслышал или позабыл. Тихо? Ну, ладно.
Это был кто-то из расчета второго орудия. Остальные засмеялись. Смех встряхнул людей после долгого молчания. Ночь была темная и скрывала лица виновников.
— Слышите, ребята? Кто это так храпит, будто мерин!
— Должно быть, мерин и есть.
— А не наш ли это командир?
— А разве это не одно и то же? Ну и бестолковый же ты!
— Ага!
— Я не должен поддаваться на провокации, не должен, не должен! — бормотал поручик Кристек, кусая ремешок от каски. Он злился не на солдат, а на пьяного командира, к которому он потерял всякое уважение. Солдат он не понимал. Как могли они смеяться в такой момент? Поручик Кристек еще не знает, что под личиной смеха иногда кроется страх. Не знали этого и солдаты, но смеялись. Им было страшно.
— Курить разрешается, но осторожно. Поняли? — Кристек кое-чему все же научился.
— Иди ты!
— Поручик молодчина! Валяй, ребята!
После этого все стихло. Рдеющие точки зароились во мраке и плавали в нем.
Чилина ходил среди повозок, приговаривая:
— Можно курить, ребята. Только брезент не сожгите!
Чилина ходит среди повозок. На голове у него каска. Он все время ходит, и никому это не кажется странным. Ему тоже. И уж совсем никто не задумывается над тем, что голос у него стал другим.
— Наступление, пан фельдфебель?
— Ничего я не знаю, но что-то готовится. Боевую готовность неспроста объявляют.
— Ребята говорят, что готовится наступление. Но на переднем крае что-то тихо.
— Помолчи…
— Да я ничего…
Последнее слово слилось с отдаленным треском, который все усиливался.
— Начинается!..
Чилина бросился в темноту.
— Уже начинается!
Лукан хотел выбежать с НП, но Кляко его остановил.
— Ты что, маленький?
— Сонные мухи! Растяпы! — орал майор фон Маллов, стуча кулаком по столу. — Двадцать два часа семь минут. За эти семь минут не сумели добраться даже до половины склона! Застряли где-то в кустах. Сонные мухи! Иван забросает их гранатами. Растяпы! — взревел он и выскочил из командирского блиндажа.
Штрафная рота должна была захватить врасплох защитников высотки, незаметно доползти до половины склона и затем, бросившись вперед и схватившись врукопашную, взять высоту и закрепиться на вершине. Словацкая батарея должна была отрезать высоту заградительным огнем.
В низине вспыхивают и быстро гаснут огоньки. Отрывистые, сухие взрывы напоминают мины. Но здесь они слышатся глухо, будто из глубины. Сквозь узенькую амбразуру доносятся визгливые человеческие голоса, мало чем отличающиеся от завывания снежной вьюги.
— Две зеленые ракеты, — твердит поручик Кляко, и дрожь пробирает его до костей. По амбразуре хлещут вспышки рвущихся ручных гранат.
Где-то далеко поднялась белая ракета и ярко осветила все вокруг.
Пулеметы лают, хрипят, шипят. Трассирующие пули, словно водяные струи, носятся наперегонки по безлунной ночи и угасают вдали. Они падают и сразу исчезают. Это вершина высотки триста четырнадцать. Они отскакивают рикошетом от камней, скользят по ним, вдруг взвиваются к небу, разлетаются в стороны. «Итак, я жду сигнала — две зеленые ракеты, — а потом даю команду батарее. Я трус и подонок, но хотел бы я знать, что сделал бы на моем месте другой?»
В низине видны вспышки гранат, но разрывов не слышно, не слышны и стоны раненых штрафников, которые до этого выли, будто вьюга. Низина сейчас как огромный котел, в котором все бурлит и клокочет, а может быть, люди неожиданно разбудили от долгого сна преисподнюю, непростительно оскорбили ее.
— Легко обругать себя трусом, когда ты потерял голову от ужаса. Всегда ли слово «трус» будет означать одно и то же? Одна зеленая, вторая? Они трещат и сыплют искры, как бенгальский огонь на рождественской елке.
— Лукан! Слушай мою команду!..
В двадцать три часа двенадцать минут вторая рота батальона фон Маллова и остатки штрафников захватили окопы на вершине триста четырнадцать и нашли там шесть убитых защитников.
— Шесть русских и тридцать два наших — хорошенькое соотношение! Ставь носилки, я хочу закурить.
Рядом с новым НП Кляко траншея разветвлялась. Довольно долго немцы выносили убитых. В свете ракет Кляко хорошо видел согнувшиеся фигуры солдат. Вот двое с носилками подошли к НП.
— Давай в сторону, не будем мешать движению, да… Вот и хорошо…
— Черт побери! Эта высотка — всего-навсего несколько жалких камней! Засветло я видел ее как на ладони. Непонятно, чего туда наших понесло!
— Тактика, дружище. Готовится что-то значительное.
— Хоть бы деревья там были.
— Где?
— На этой высотке! Где же еще?
— Ух, и вредный ты старик!
— Деревья — это богатство. Доски, балки…
— Отстань.
— Как бы там ни было, будет позор, если в этом году не покончим с большевиками.
— Позор на весь мир, это и я скажу.
— Ну вот видишь! Чего ж ты меня-то обзываешь?
— Черт побери! Что тут общего?
— Говоришь, как идиот, все путаешь.
— Я ничего не сказал. Разве я говорил что-нибудь?
— Ничего.
— Ну, то-то…
Шаги. Все время кто-то приходит, уходит.
— Чую дым. Старый заслуженный штрафник утверждает, что здесь курят.
Это был новый голос, грубый, властный, не вязавшийся с беззаботным тоном говорившего.
— А-а! Штрафная рота!
— Куда прешь, братец! Здесь мои ноги!
— Blboune![50] — вырвалось вдруг чешское слово, и тот же голос произнес по-немецки: — Откуда мне знать, что ты тут свои вонючие клешни растопырил! Подвинься малость!
— Ну, ну!
— Ну, ну! — Кляко насторожился, потому что голоса звучали вызывающе.
— Так я сразу и испугался вашей милости!
— Штрафная рота! — И один из первой пары даже плюнул.
Новый, зажигая сигарету, сказал:
— Да, штрафник. Но я бы не советовал тебе так говорить, особенно в темноте, нет, не советовал бы. А ты еще и плюнул. Милок, не надо так делать!
— Ух, а я испугался!
— Милок, не делай этого. Я старый заслуженный штрафник. А почему? Потому, что во мне больше солдатской доблести, чем во всей твоей семье вместе с твоим прадедом. Ты понимаешь, дружок, что такое бывалый солдат? Один унтер, некий Пауль Кеттнер, — с ним ты не встретишься, ведь унтеров на божьем свете как собак нерезаных, — тот тоже не хотел мне верить и — недосчитался зубов. Вот я и говорю, что если и есть у нас порядочные люди, так они ходят в штрафниках. А что касается меня, — это истинная правда.
Кто-то рассмеялся.
— Сегодня-то вы ничего геройского как раз и не совершили.
— Это другое дело, дружок. Как следует не подумали.
— Как это?
— Я тертый калач и что знаю, то знаю. Да разве так делают? Наши начальники думали, что Иван на триста четырнадцатой спать будет. А он не дремал. Скверную штуку он нам подстроил, вот что, милок. И когда я лежал под высоткой в этой вонючей яме, я сказал себе: «Фридрих, пробил твой последний час. Так ты хоть помолись, безбожник поганый, и геройски вгрызайся в землю!» А эти русские забросали нас гранатами, будто тухлыми яйцами. Сверху-то сподручнее бросать, будто камешки в пруд. После сегодняшнего вечера я самым старым в штрафной роте остался. Эх, самым старым и самым порядочным. Восемь месяцев в штрафниках хожу, а Ганс Бергер приказал долго жить. Мой друг и приятель и, вроде как я, порядочный человек! Несу его, вот он лежит. Когда нам приказали убирать убитых, я сказал себе: «Смотри, Фридрих, Ганса не забудь. Он был твой друг и приятель, он заслуживает того, чтобы ты его сам нес». Наша дружба была бы не в дружбу, если бы я позволил кому-нибудь нести его. И я сдержал слово, потому что я человек порядочный. Вот, взгляните-ка на него! — Говоривший поднес горящую зажигалку к лицу убитого. На лице вместо носа и рта зиял кровавый провал величиной с кулак.
— Гаси!
— Конечно, погашу! — Фридрих погасил зажигалку. — Мертвые не говорят, мертвые не поют, они только пугают. Вот мы их и собираем да поскорей в землю упрятываем. Я быстро, очень быстро это правило понял.
В словах Фридриха звучали отчаяние, безнадежность, куда делся шутливый тон! Наступила долгая гнетущая тишина. Она разила быстрее и беспощаднее шквального огня мин.
Кляко подошел с сигаретой в зубах к немцам и спросил по-словацки:
— Тут кто-то говорил по-чешски…
— Я… — послышался неуверенный ответ. — А ты кто такой?
— Словак! Словацкая батарея.
— Ах, так!.. — Разговор оборвался. Солдат, видно, соображал, с кем имеет дело. Первая пара встала и, сказав коротко: «Мы пошли», — удалилась. Убитого они унесли с собой.
— Ты чех?
— Ты что? — ответил он по-чешски. — Откуда здесь взяться чеху? Я паршивый судетец, немчура и заслуженный штрафник — если хочешь знать.
— Отто Реннер жив?
— Ты его знал?
— Немного. Он забрел перед атакой в наш блиндаж.
— Ну так от нашего интеллигента мокрое место осталось. Свалился и не пикнул даже. Ясное дело — прямо в грудь. И как раз рядом со мной. Да что тут рассказывать? Загнулся.
— Жалко…
— Еще бы. Мне тоже. Хороший малый был. Послушай-ка, а ты здесь почему очутился? — Кляко промолчал, не найдя подходящего ответа, а солдат продолжал: — Слыхал я, будто здесь где-то словацкая батарея стоит. До чего же чудно мне это показалось!
— Я ничему больше не удивляюсь.
— Вот-те на! — насмешливо сказал Фридрих. — И давно ты на фронте?
— Три недели.
— Извини, братец, но ты все врешь. Я почти три года служу. С самого первого дня, понял? И что ни дальше, дела все такие творятся, что только диву даешься. И я дивлюсь. Погоди, и не такое увидишь. Три недели — курам на смех. Поверь старому солдату.
— Сигарету не хотите?
— Не откажусь. В самую точку попал, спасибо. В штрафной роте паек убогий. Нынче получили по два десятка, чтоб в башке прояснилось, а кроме того, — он наклонился к уху Кляко, — еще и в карманах Бергера пошарил. Ведь ему, бедняге, курево больше не понадобится.
— Возьмите еще. — И Кляко протянул непочатую пачку.
— Вот спасибо-то. Хороший вы человек, сразу видать. — Солдат стал говорить Кляко «вы», в голосе его зазвучала искренняя взволнованность.
Второй солдат, который пришел с Фридрихом, долго молчал и вдруг спросил по-немецки:
— О чем вы говорите?
Фридрих грубо и тоже по-немецки отрубил:
— Тихо ты, дерьмо вонючее! — И обратился к Кляко по-чешски: — Одно слово по-чешски скажешь, а эти сволочи уже думают, что ты рейх продаешь. Странные люди эти немцы! Я сам из Судет, но Прагу хорошо знаю: десять лет там прожил. Работал сторожем на пристани, зимой лед развозил и что придется делал. Но держался все поближе к воде. Лед-то ведь та же вода! Скажете, нет? Не знаю почему, но в нутре у меня что-то чешское, должно быть, сидит. Не верите? С чего бы я тогда в штрафники угодил? Да что там, и говорить не стоит! Все глупость одна! Чокнутый! Так в нашей роте говорят. Поверь мне, словак! А вот как вас-то в это дело втянули, и понять нельзя. Чем заманили-то, спрашиваю? И ведь верят вам, словакам, немцы, верят…
— Верят, да не всем.
— Ну, ты мне этого не говори. Ты что тут делаешь? Не на прогулку же ты отправился, понятное дело. Когда эти самые наци пришли, я себе сказал: «Ну, Фридрих, времечко настало лихое, может, и тебе теперь счастье улыбнется. Нужно только показать, на что ты способен». И, глядите, докатился до штрафной роты. Зря, по-глупому. Но служу я честно, что правда, то правда. И все себя спрашиваю, как это получилось, что вам немцы верят. Кое-что я уже раскусил, а это — никак! Чехи и словаки вроде бы одним миром мазаны. Ан нет! Ну, мы пошли, каждому, как говорится, свое, словак. Вот бедняга Бергер могилы ждет не дождется. Прощай и воюй с умом! Это тебе старый солдат говорит. — И добавил по-немецки своему напарнику: — Пошли! Пошевеливайся, ты!
— Еще одну, на дорожку!
— И то дело! Ради такого и Бергер охотно подождет, не обидится, — он-то хорошо понимает, что штрафник никогда от сигареты не откажется.
Вспыхнул огонек, и Фридрих в испуге отскочил.
— А чтоб вас! Офицер вы! — испуганно воскликнул он и, не прикурив, быстро по-немецки объяснил своему товарищу: — Сматывайся, живо! Это офицер и морочит людям голову! Черт возьми, такого со мной еще не бывало!
Потом вдали послышалось:
— О чем вы говорили?
— Это был офицер! Мотай быстрей, пока цел!
— Ах ты господи!..
НА НИЧЕЙНОЙ ЗЕМЛЕ
Когда Кляко вернулся в блиндаж, Лукан уже лежал. Кляко достал из-под попоны поллитровку, откупорил ее, понюхал.
— Ром! Не отхлебнешь ли и ты?
— Спасибо. Спать хочется.
— Спи.
Поручик погасил свечу. Легкий запах парафина напомнил костел. Было темно, а Кляко все казалось, что свеча продолжает гореть. Это была уже не свеча, а зажигалка в руках Фридриха. К огоньку склонились люди: в пятне света лежал безликий Ганс Бергер с кровавым провалом вместо носа и рта. Белели кости, кости Бергера.
— Гаси! — воскликнул кто-то, пока еще живой: мертвые ведь не говорят, мертвые не поют, они только пугают.
«Мертвые не поют», — про себя повторил Кляко, и слова эти ему понравились. Каждое из них принадлежало разным мирам. С удивительной легкостью Фридрих соединил, казалось бы, несоединимое, не сознавая, что тем самым ему удалось перешагнуть границу, разделяющую столь далекие друг от друга миры. Хоть Кляко и привык мысленно преодолевать расстояния между ними, его при этом никогда не покидал ужас…
И Кляко видел безликого Ганса Бергера. Кровавый провал наводил ужас. Восклицание немецкого солдата «Гаси!» было совершенно искренним. Кляко хотел сказать то же самое. А если бы там лежал Отто Реннер? А если бы катушку с телефонным проводом вместо Реннера нес Бергер? Это жестоко, но ведь правда, что у него, Кляко, болит душа только за участь Отто Реннера. Ведь у любого солдата штрафной роты, у всех убитых была своя жизнь, свои увлечения, любовь, какие-то надежды, за каждым, словно тень, следовала какая-то трагедия. Слава богу, что Кляко не знал их всех, не встретил Ганса Бергера! Но разве это счастье? Отто Реннер мечтал о химической лаборатории, он жил в Вене. Он бывал и в Братиславе, но ни на что не надеялся. Он знал, что домой не вернется. Кляко не всерьез воспринял его слова и… Что переживал Фридрих, когда нес тело своего друга в яму? Он говорит, как истый пражанин, и, быть может, это поддерживает в нем бодрость духа даже в штрафной роте. Что же еще?
«Я все себя спрашиваю, как это получилось, что немцы словакам верят?.. Отец небесный, этот ром словно сам льется в глотку! А ты что тут делаешь? Не на прогулку же ты отправился, попятное дело…» К дьяволу!
— Что такое? — отозвался Лукан.
— Ничего. Спи!
Кляко вдруг пожалел Лукана. «И Фридрих жалел Бергера. Они были друзьями. Этот Фридрих говорил обо всем в открытую. Мы здесь не на прогулке, мы прибыли сюда воевать с русскими. Мы помогаем немцам! И потому я с самого начала утверждал и утверждаю, что это подлое предприятие. Подлое дело, Herrschaften![51] Я понимаю, что мало думать так про себя. В наше время о людях судят по их делам. Взять хотя бы Отто Реннера. Он не примирился с этой войной и погиб сегодня после десяти часов вечера. Через несколько дней почта доставит в Вену извещение о геройской гибели солдата Отто Реннера на высоте триста четырнадцать в битве за фюрера и родину. Все это неправда, ложь! А русский командир подаст своим начальникам сухое донесение: «В ночном бою мы потеряли высоту триста четырнадцать. Фашисты понесли тяжелые потери». Господи Иисусе! Что было общего у Отто Реннера с фашистами? Ангел-хранитель, спаси мою душеньку, ведь это не только история Отто Реннера, это история и Яна Кляко, поручика словацкой батареи, которая поддерживала атаку на высоту триста четырнадцать. Какая это мерзость! Надо выпить и забыться!»
И Кляко пьет, пьет.
Трах! Пустая бутылка с треском разлетелась, ударившись в дощатую обивку блиндажа.
— Спи, Лукан! Плюнь на выродка, сумасшедшего поручика Кляко, твоего злополучного земляка.
— Вы все выпили?
— А что мне, смотреть на нее? Пол-литра.
— Почему не спите?
— Почему?.. Слушаю дело поручика Кляко. Ты его знаешь?
— Немного.
— Только немного? Мне такие шутки не нравятся.
— Спокойной ночи.
— Спокойной ночи!
«Многоуважаемые мыши, блиндаж кишит вами, сволочи! Вы могли бы прекратить свою беготню. Слушается дело поручика Кляко… Оно требует полной тишины. Вернуться домой мне нельзя. А покушаться на самоубийство можно только раз в жизни. Фашизм я отвергаю. На фюрера мне… Фашизм — это преступление. Обер-лейтенант Виттнер болтал не попусту. Он собирается физически уничтожить русских, поляков, чехов, а также французов, — после славян они самые опасные. Бельгийцы могут остаться на своем месте. Превосходно! Народы — все равно что картошка в погребе. Перелопатить их, растоптать сапогами. Превосходно! А что делать со словаками, герр обер-лейтенант? Расстрелять или утопить их в Ваге? Как будет угодно вашей милости? Так, так… и поручик Ян Кляко должен вам помогать. Внимание! Поручик Ян Кляко помогает. Бог почему я давно утверждаю, что он подонок. Хватит. Ты подчиняешься стечению обстоятельств. Вот и все. А ты должен сам подчинить их своей воле. Здесь каждый отвечает сам за себя, а ты, как офицер, отвечаешь и за остальных и потому обязан бороться с немцами, с преступлением. Это новая песенка, прекрасная песенка, такая прекрасная, что за нее надо выпить, черт побери! Эх, если бы эта скотина каптер не ломался, не требовал, чтобы я за пол-литра три дня лизал ему пятки! Русские — славяне, братья! За это тоже надо бы выпить. Если быть немного потолковей, как следует взяться за ум, так с русскими можно договориться. Договорился бы я и с немцами, но это было бы совсем другое дело. А русские — коммунисты. Да! Но в этом я мало что понимаю. Коммунисты есть и у нас, в Липинах, в Острой, а главное, в Планице и в Правно. В Правно и некоторые немцы тоже коммунисты. Кто в этом разберется? Однако наши коммунисты утверждают, что кто не работает, тот не ест. Работать, конечно, нужно. Но работы-то у нас и не было. Неизвестно почему. Я кончил гимназию и еле-еле устроился простым переписчиком в строительную контору. Наши коммунисты говорят, что богачи — враги народа. Да! Это правда, мой шеф был порядочная свинья. Но самое важное то, что русские — славяне, это всякому понятно. Бочку рому! Сюда ее! Слушается дело поручика Кляко, и сейчас оно решено. На бочках с ромом сидят матросы и поют: «Йохо-хо, хо-хо…» Да, там еще поется про мертвеца, как же это? Давно не читал ничего порядочного. А тем мертвецом надо чтоб стал каптер. Наш век впал в безумие! И хватит! Будем спать! «Тили-тили-бом, загорелся кошкин дом!» Надо думать про длинный-длинный туннель. Туннель — это темнота. Темнота — это темнота, черное — это черное, белое — это белое. Белое? Сигареты! Черт побери, мы рассмотрели дело одного поручика, а был он такой подонок, что мы забыли покурить. Гоп-гоп! Потрясающе!»
Кляко курил одну сигарету за другой. При шестой послышались шаги.
— Пан поручик!
Кто-то вошел в блиндаж.
— Чего тебе?
— Немцы вас зовут. Пришел ко мне какой-то шваб, я кое-как разобрал, что вам надо явиться на НП. Он там ждет. Орал во всю глотку. Эти швабы только и умеют, что орать.
— Съездил бы ты ему в морду, Иожко.
— Были бы мы дома…
Это был один из молчунов, третий в наблюдательном подразделении Кляко. Днем он отсыпался в блиндаже, а по ночам дежурил на НП. Блиндаж был связан телефоном с НП и с батареей.
— Не знаешь, что ему надо?
— Дьявол его разберет. Орал чего-то. Но я думаю, нам надо туда сходить.
— Сейчас.
— Что-то готовится. Швабы мечутся в окопах, как не знаю кто…
— Посмотрим. Лукан, вставай и не отходи от телефона. Я пошел.
— Ладно, — ответил сонным голосом Лукан.
Далеко за полночь Кляко и Лукан перебрались в окоп на вершине высоты триста четырнадцать. Молчуна Иожко оставили в блиндаже у телефона. Окопы были мелкие, вырубленные в камне.
— Не нравится мне здесь!
— Что вам сказали?
— Ничего. Эта свинья Виттнер, представь себе, похлопал меня по плечу: вы, мол, господин офицер, отправитесь на триста четырнадцатую, она прямо создана для НП.
— Скотина!
НП устроили среди белых камней на вершине высотки. Стереотрубу установили в небольшом углублении. Наблюдателям приходилось стоять на коленях или сидеть. При свете ракет были видны извилистые линии окопов, а в них скорчившиеся фигуры куривших немецких солдат. Четверо сидели справа, двое — слева.
— Контратаки русских не ждут?
— Ждут. Боятся, что под утро они постараются отбить высотку. Ну и вспотел я! — Кляко расстегнул рубаху.
— Боитесь вы, что ли?
Кляко загадочно улыбнулся, но почему он расстегнул рубаху, Лукану не объяснил. И сказал только:
— Потом увидишь.
Резко зазвонил телефон. Звонок было слышно далеко.
Шесть немецких солдат повернулись к НП. Все они попали сюда случайно: вызвали шестерых добровольцев для обороны высоты триста четырнадцать. Это было устное распоряжение командира третьей роты. Явились лишь двое. Еще полгода назад привалила бы вся рота. Но солдатам третьей роты высотка не по душе. Окопы мелкие, пули и осколки рикошетом отскакивают от камней и разлетаются во все стороны. Сегодня ночью солдаты хорошо это видели. Высотка выдвинута вперед. Один русский пулемет с правого фланга может ее отрезать. Справа, сразу же за пашней, русские окопы. Но теперь шестеро немцев сидят уже здесь и все свои надежды возлагают на артиллериста-наблюдателя. Он устроился как бог среди камней на макушке высотки. Сейчас там звонит телефон. Все, что там происходит, важно, очень важно. Телефон следовало бы прикрыть одеялом. А то его и русские услышат. Но самое интересное, что один из наблюдателей хорошо говорит по-немецки.
— Это здорово. Нам повезло.
— Чему ты удивляешься? Чехословакия на две трети была немецкой.
— А ты там жил?
— Нет.
— Откуда же ты знаешь?
— Читал в наших газетах.
— Погоди, тихо. Он говорит по телефону…
— Может, услышим что-нибудь.
— Жаль, не понимаю их языка. Но думаю, что сейчас батарее надо бы открыть огонь. Заградительный огонь. Когда начнется контратака, будет уже поздно.
— Ты думаешь, русские будут отбивать высотку?
— Не знаешь ты их, что ли?
— Посмотрим…
Кляко сердито кричит в телефонную трубку:
— Скажи ему, Иожко, я и сам соображу, как поступить… Ты немецкий не знаешь? Так скажи ему это по-турецки и не приставай. Все! — Кляко положил трубку.
— Виттнер? — спросил Лукан.
— Да. «Шисн, шисн!»[52] Будет еще мне всякое швабское хайло приказывать! Наш командир — Гайнич. Нет, что ли? Тоже хайло, да свое, тем и дорог. И вообще я сыт по горло! Сегодня что-нибудь да произойдет.
— Что?
— Не знаю.
Из немецких окопов позади них то и дело взлетают ракеты. Они освещают и склоны пустых полей на восток от триста четырнадцатой.
— Господин офицер!
— Что такое? Что тебе надо?
Это был один из шестерых немецких солдат.
— Мне что-то не нравится эта тишина, господин офицер. Не подсыпать ли им снарядов? Я ведь русских знаю…
— Я тоже их знаю. Вы понимаете, черт возьми, с кем вы говорите? Я офицер! Как вы смеете обращаться ко мне как к равному!
— Извините, господин офицер, извините.
Солдат затопал ботинками и уполз. Он обогатился опытом, знал теперь, что все офицеры на свете одинаковы.
— Слышал, Лукан, как он хвост поджал? Еще слово, и я съездил бы ему по роже. Сопляк! Он, может, думает, что я ни черта не понимаю, а впрочем, начхать мне на это.
— Они повинуются, словно машины.
Кляко хотелось рассориться со всем светом.
— Реннер, к примеру, не одобрял этой войны.
Лукан тоже понизил голос:
— Но и он повиновался, словно машина. От страха. И мы тоже повинуемся, как он.
— Опять тебя одолевают изменнические мысли. — Кляко хрипло засмеялся. Голос его звучал враждебно. Так когда-то он ворчал на солдат, когда батарея шла на фронт. Лукан промолчал и снова забился в угол. — Сознайся уж. У меня-то этих мыслей полна голова.
— Вас не разберешь… — Лукан был смущен.
— Лукан! — Кляко, видимо, хотел сказать что-то очень важное, потому что подполз ближе к Лукану. — Ты понимаешь, что мы, в сущности, на ничейной земле?
— Вы хотите сказать…
— Я ничего не хочу сказать. Пораскинь-ка мозгами получше.
— Ясно.
— Не так-то это просто. Оттого я малость не в себе, твою мать!.. — И Кляко разразился ругательствами, подумав о том же, что и Лукан.
— Не будь здесь этих шести фрицев, все было бы очень просто, — засмеялся Лукан.
— Очень просто. Такого удобного случая у нас еще не было.
Лукан промолчал.
Ракеты озаряли небо мертвенно-белым светом. Пологий восточный склон высотки был густо усеян небольшими воронками. Дальше его пересекала какая-то светлая широкая полоса. Иногда казалось, что это длинная стена белого цвета; она вздрагивала, словно плохо натянутый холст.
— Ну и приплясывает! Что это может быть за чертовщина?
— Стена какая-то.
— Проклятая ночь!
Позади скатился камень. Кто-то, тяжело пыхтя, карабкался на высоту. Появилось ярко освещенное ракетами лицо Виттнера.
— А мне говорили, что в России одни равнины, — сказал Виттнер вместо приветствия, перевалившись в окоп через торчащие камни. — Счастливым велением судьбы я не стал альпийским стрелком, — засмеялся он. — Вы представляете меня в роли альпийского стрелка? — И, не получив ответа, добавил: — Я тоже не представляю.
С Виттнером пришел кто-то еще и тоже спрыгнул в окоп.
— Мой ординарец, — пояснил Виттнер, не зная, как понять воцарившееся молчание.
«Эта словачня дрожит за свою шкуру и питает ко мне почтение. А стрелять боятся, хе-хе! Они думают, что если сидеть тихо, так Иван оставит их в покое. Союзнички! А этот офицеришка — блаженненький. Глако, Глако… почти что Glako[53]. Господин майор заблуждается, полагая, что их можно принимать всерьез».
И богатый шлезвигский торговец решил быть великодушным. Он снисходительно спросил:
— У вас тут ничего нового? Но все же… — Лицо Виттнера в свете ракеты стало белым пятном. Он щурился. — Все же мы захватили несколько квадратных метров земли. Это рождает в моей душе возвышенное чувство, это мое боевое крещение. Несколько часов тому назад здесь сидел Иван… Долго ли еще протянется эта ночь? Я бы охотно обозрел окрестности из этого гнезда.
— Пожалуйста! — И Кляко уступил ему свое место.
— Благодарю за внимание. — Виттнер улыбнулся: — Знаете, что меня сбивает с толку? Вы прекрасно говорите по-немецки. Я этого не предполагал. Научились в школе?
— Да, хотя немецкий и был необязательным предметом. Но за восемь лет можно кое-чему научиться.
— Необязательным предметом? — возмущенно переспросил Виттнер.
— Обязательным был французский язык. Французский и латынь, — ухмыляясь, ответил Кляко.
— Вы можете объяснить, почему?
— Очень просто: латынь — международный язык, а французы, по-моему, самый культурный народ в мире.
— И это вы говорите мне?! — вскрикнул Виттнер.
— Я предполагал, что вы интеллигентный человек…
— Молчать! Я приказываю молчать! — Виттнер опомнился и понизил голос: — Кое-кому пора бы уже запомнить, что названную вами страну дегенератов мы победоносно прошли за несколько дней.
— Чуть-чуть подольше. За три недели, если я не ошибаюсь.
— Молчать! Я приказываю молчать!
Немецкие солдаты открыли огонь. Они знали Виттнера и не любили его. Он долго сшивался в тылу, а теперь этот дурацкий крик мог стоить им головы. Пришел ругаться! Сейчас он пришел сюда ругаться! Но вместе с тем он прав. В этой Чехословакии слишком уж много себе позволяли. А французы, Himmel[54] — одни сутенеры да шлюхи, а все остальные заражены большевизмом.
— Что это? — удивился Виттнер, услышав стрельбу.
— Вы кричите, господин обер-лейтенант, а Иван недалеко, и ваши солдаты его боятся.
— Мы еще поговорим на эту тему.
Шипение и яркая вспышка над высотой триста четырнадцать. Огненный шар ракеты рассыпается перед НП на тысячи потрескивающих искр. Видны воронки. Длинная белая полоса заколебалась.
— Почему вы не стреляете? Боитесь?
— Приказано экономить боеприпасы… Вчера я слышал интересную фразу, господин обер-лейтенант.
— Могу ли я ее услышать?
— Если мы в этом году не покончим с большевиками, будет позор на весь мир. Это сказал немецкий солдат.
— Вы узнали бы его?
— Нет. Была ночь.
— Глупые разговоры! В этом году мы непременно их разобьем.
То были последние слова Виттнера перед рассветом. Начало медленно светать, и непонятная белая полоса превратилась в широкую проселочную дорогу. Виттнер молчал. Вид с высотки, очевидно, не понравился шлезвигскому торговцу, потому что, глядя в щель между камнями, он ворчал:
— Ничего особенного. — Предполье за НП, тянувшаяся дальше обширная, слегка волнистая равнина, окаймленная чернеющими лесами, — все было пусто. — Я пойду, господин офицер. Ничего особенного здесь нет. Держитесь крепче. — Виттнер встал, приказав своему ординарцу: — Пошли!
И тут, откуда-то с левого фланга, в отдалении загремел гром. Не успел он отгреметь, раздался грохот справа. Этот грохот не прекращался, быстро приближаясь к высотке. Вокруг все ревело и завывало, казалось, что гром поразит сейчас всех. Все прижались к земле. Виттнер сыпал проклятьями, но и он лежал ничком на каменистой земле. В грохоте отчетливо слышался свист больших раскаленных осколков. Они падали, как безобидные камушки, в окопы и на НП.
«Фридрих, пробил твой последний час. Так ты хоть помолись, безбожная твоя душа, и геройски вгрызайся в землю!» — припомнил Кляко слова Фридриха, в которых звучала такая боль. Лукан трясся, ни о чем не думая. Виттнер, ругаясь, лежал на земле, и со стороны можно было подумать, что он не боится.
Вся высота дрожала. Дрожал весь мир.
Взлетали фонтаны земли и едкого дыма. Он не рассеивался, окутывал деревья, немецкие окопы, полз по голым склонам высотки. В дыму сверкали вспышки молний.
Границы дымного облака невозможно было определить. Оно тянулось вдоль линии фронта далеко на север и далеко на юг, куда не достигал взгляд. Виттнер определил это сам. Он не был ни трусом, ни глупцом, но стал подозревать, что попался в собственную ловушку. Зачем его сюда понесло? Теперь он не может уйти с высотки, а когда обстрел прекратится — тем более. Это походило бы на бегство. Нет, такого спектакля третьей роте он не покажет. Он, солидный человек, не побежит на глазах солдат с высотки, не будет пробираться ползком, когда все остальные останутся здесь. Нет, ни за что! «Я пришел сюда по собственной воле, так и уйду. Разве что меня отзовет господин майор. Но тогда я попрошу майора сообщить третьей роте, что я выполняю его распоряжение».
Вдали взревели танки.
Невидимые руки прервали обстрел. В мягкое мурлыканье моторов ворвались резкие, но пока еще далекие звуки выстрелов. Постепенно они слились в общий гул, напоминая шум отдаленного водопада.
Смех. Смеется шлезвигский торговец. Смеяться в такой тишине, когда у людей кровь стынет в жилах, — геройство! Этот смех звучит искренне, сразу вспоминается родной дом, воскресенье…
Кляко сел, удивленно прислушался. Лукан тоже.
— Хек-хек, а вы не из героев. Стрелять давно уже перестали. Иван истратил все свои боеприпасы, а это… с военной точки зрения, неблагоразумно. Очень неблагоразумно. Солдаты! Вы все целы и невредимы? Каждый в отдельности отвечайте мне «да»! — закричал Виттнер солдатам в окопах.
В ответ семь раз прозвучало «да».
— Видите? Иван истратил столько боеприпасов, и никого даже не поцарапало. Но… — На лице Виттнера мелькнуло недовольство. Он прислушался. К югу и северу от высоты триста четырнадцать рев моторов усиливался, катился в тыл, на запад, за линию немецкого фронта. — Не думаю, что это что-нибудь серьезное, — уговаривал себя обер-лейтенант и сам же себя спросил: — Почему же они не атакуют нас? Обхват? — После чего он крикнул своему ординарцу: — Эй, ты там, принеси бутылку!
Прибежал молодой немец, и пока Виттнер пил, ординарец подмигнул Лукану, что должно было означать: «Ишь, хлещет старик. Боится».
— Господин офицер, — Виттнер зажал бутылку между колен, — вы не можете соединить меня с вашим блиндажом? — И он указал на немецкие окопы.
Лукан поднял трубку. Телефон молчал.
— Плохо, очень плохо. — Виттнер снова отхлебнул из бутылки. — Но я уверен, господин офицер, вы знаете свой долг. Нам нужна связь. Нужна любой ценой. Мы на ничейной земле, а Иван обходит нас.
— Не беспокойтесь, связь восстановят.
— Как? Кто ее восстановит, если вы тут сидите? Бог?
— Это уж мое дело. И не кричите! Вы что, дома?
— Молчать! Я приказываю молчать! Вы забываете, кто здесь старший по чину. И затем… господин офицер, я у себя дома. Прошло целых пять часов, как эта земля стала немецкой. Молчать! Когда я говорю, извольте молчать!
— Черт побери, я тоже закричу! Вы не имеете права мне приказывать!
Солдаты открыли громкую пальбу, чтобы заглушить сердитые голоса. А вообще это было интересно. Не часто удается солдатам послушать, как офицеры кричат друг на друга. Но сейчас на это нет времени. Иван близко, высота триста четырнадцать на ничейной земле, и похоже, что их обходят. И когда один из четверых справа насмешливо заметил: «Да поможет нам бог, сошлись двое сумасшедших», — солдаты принялись стрелять еще яростней, потому что смельчак, если он и в другой раз не удержит язык за зубами, запросто угодит в штрафную роту.
— Иожко! — закричал Лукан.
В ложбинке между немецкими окопами и высоткой по небольшой полянке среди густого кустарника, полз словацкий солдат, один из молчунов. Он не слышал оклика Лукана, хотя уже стояла тишина, лишь где-то в отдалении разрежаемая булькающими звуками тяжелых орудий. Молчун полз по прогалине и в сгустившейся тишине не воспринимал голоса и окружающий мир. Он дополз до кустов у подножия высоты и задержался в них — должно быть, обнаружил место обрыва. Телефонный провод перебило осколком.
За Иожко из каменного гнезда наблюдали трое.
Довольный Виттнер проворчал:
— Прекрасно, господин офицер, как зовут этого смелого воина?
Взбешенный Кляко не ответил.
Молчун встал во весь рост. Должно быть, его обманула тишина.
— Иожко! — Лукан еще раз помахал ему рукой.
Тот не услышал. Наблюдавшие увидели в его руке моток провода. Иожко возвращался с ним прогалиной, то и дело нагибаясь, словно подбирая монеты с земли. Он не достиг и середины полянки, как застрочил пулемет. Молчун упал, скорчился в клубок, уронил каску, опустился на колени и замотал головой. Еще раз из отдаленного угла прокашлял пулемет, и молчун повалился ничком.
— Вы не знаете, как звали этого храбреца?
Виттнер отхлебнул из бутылки. Мясистое лицо его было неподвижно, но глаза загорелись любопытством.
— А вы хотите воскресить его, что ли? — глухо спросил Кляко.
— Я вас понимаю. Извините.
Виттнер вынул блокнот и что-то записал в нем. Затем вырвал листок, сложил его и приказал своему ординарцу:
— Отнеси господину майору и вернись с ответом.
— Слушаюсь!
Молодой немец, согнувшись, прошел через НП, потом по окопу слева и там выскочил из него. Он скатился по крутому склону, как колода, прикрывая лицо руками. Прополз через кусты. Перед прогалиной солдат присел.
— Интересно, — сказал Виттнер и отпил из бутылки.
Молодой немец перекрестился, вскочил и на другой половине прогалины попал под пулеметную очередь. Он не успел даже вскрикнуть — смерть наступила быстрее, чем у молчуна Иожко, лежавшего чуть повыше.
— Господа, мы отрезаны. Я так и думал. Иван хладнокровен. Ваше здоровье, господа! А главное — крепких вам нервов. Они нам еще понадобятся. — Виттнер тщетно пытался улыбнуться. Глаза его бегали по сторонам и ни на чем не могли остановиться. Пальцы — короткие, толстые, похожие на сардельки — вздрагивали.
Канонада сонно булькала уже где-то далеко за немецкой линией фронта. Восходящее солнце на миг озарило высоту. Притупившиеся мысли Кляко постепенно окутывал сон. Но мозг боролся с усталостью, то и дело вступая с ней в краткие, яростные схватки. «Все полетело вверх тормашками. Мое дело кто-то глупо усложнил. Зря погиб Иожко. Я не предупредил его. «Иожко, если заметишь неисправность, сходи проверь», — говорил я ему всегда. Иисусе Христе, не следовало понимать мои слова буквально. Мало ли что говорится на фронте! Старый солдат мог бы знать это. Но ты, Кляко, свинья, не оправдывайся! Ты ждал этого. Ты знал, что Иожко пойдет устранить обрыв, и даже еще хвастался перед этим хайлом Виттнером. А то, что он — хайло, сразу видно, хотя бы по тому, что сам он хлещет коньяк, а угостить и не думает. Коньяк! Конечно, коньяк, по запаху слышно. Но ведь ты, Кляко, сказал себе, что не будешь якшаться с немцами, что ты против них. С кем ты сидишь? И разве не унизительно ждать, когда один из них угостит тебя коньяком? А разве я говорил что-нибудь подобное? Отвяжитесь! Убирайтесь все к чертовой матери! Кругом марш и отстаньте от меня! Я хочу спать…»
О смерти Иожко не думал уже и Лукан. Канонада, что сонно гудела на западе, пробуждала тоску по дому. «Домой! Домой! Все побоку! Домой! Теперь это самое важное! Домой — и конец этому аду. Хватит! Русские гонят немцев! Домой! И конец этому аду! Почему здесь стало так тихо? Почему здесь не стреляют, чтобы как можно скорее прекратить это подлое предприятие? Боже, вот бы красота-то была!»
— Пан поручик, далеко ли до нас?
— Докуда?
— Ну, до нас, до Липин, до Планицы.
— Две тысячи километров.
«Долгонько ждать придется, загнали нас на край света. Ничего, сапоги у меня добрые, тридцать километров в день я сделаю. Сейчас лето, и крыши над головой не нужно. Через три месяца буду дома. Дома! Как раз в сентябре, когда у нас созревают яблоки и груши. Но немцы так легко не сдадутся. Они дорожат своей шкурой. В походе я всякого насмотрелся. Легко они не сдадутся. Немецкие солдаты говорят, что им так приказывают генералы, да что-то не верится мне. И немецкие офицеры сами такие, и многие солдаты. А этот толстый, что с нами сидит, сволочь первостатейная. С виду похож больше на торговца, на почтенного отца семейства, а своего ординарца отправил на смерть и глазом не моргнул, лишь бы проверить, случайно ли убит Иожко. Если он сумел с немцем так поступить, так что уж после этого… Сволочь и есть».
— Пан поручик! Сколько у немцев генералов?
— Пятьсот! Тысяча! Откуда мне знать? Да что с тобой? Ты здоров?
— Это много. А не меньше?
— Не приставай! Какие глупости тебе в голову лезут! Тебя не стукнуло?
— О чем это вы говорите? — спросил Виттнер, и на его неподвижном лице вдруг появилась приветливая улыбка.
— Это не ваше дело! Я хочу спать.
— А я хотел было вас угостить настоящим французским коньяком!
— Ворованным французским коньяком, хотите вы сказать? Нет? Но, быть может, вы станете утверждать, что все зависит от точки зрения?
— Именно это самое я и утверждаю, господин офицер. Это зависит от точки зрения и от вкуса. Но не будем об этом спорить.
Оба — и словак и немец — заставляли себя проявлять смешную сентиментальную учтивость, но каждый решил про себя продолжать в том же тоне и дальше. Он как бы служил им порукой, что с каждым словом ненависть их друг к другу будет все возрастать.
— Так вы не станете пить?
— Спасибо! Не пью!
— Я считал вас более остроумным. Кстати, в блиндаже я наблюдал нечто иное.
— Сожалею, что у вас столь блестящая память.
— Не понимаю.
— Поверьте, господин обер-лейтенант, что в нашем положении, на этой отрезанной высоте, у каждого — свои желания.
— Да, конечно. Например, желание выбраться из этой каменной дыры.
Кляко беззастенчиво расхохотался. Смех звучал жестко, как тогда на марше, когда солдаты оглядывались на запад и прикидывали, какое расстояние отделяет их от дома. Лукан помнил этот смех и теперь заметил, что Виттнер начинает побаиваться Кляко. Он убедился в этом, когда поручик после долгого молчания окликнул Виттнера.
— Разрешите мне кое-что заметить?
— Пожалуйста, пожалуйста! — И осчастливленный Виттнер наклонил к Кляко красное лицо.
— Когда вы молчите, вы еще сносны. Вот и все. Мне хочется спать.
«Он ищет ссоры», — подумал Лукан. Виттнер от скуки или от страха рассматривал свои толстые пальцы и изредка поглядывал на прогалину, где лежали двое убитых. Между пальцами и прогалиной была какая-то связь, но Лукан пока не уловил — какая же. Поведение поручика Кляко тоже требовало объяснения. Оно было опасно, было… Боже! Кляко сомневается, что уцелеет здесь. Или же он не хочет возвращаться. Да, Кляко не хочет возвращаться на запад, домой.
На прогалину выбежал немецкий солдат. Он бежал к ним, на высоту. Глаза живых, кто тут был, неотрывно, против воли, смотрели на убитых. Солдат благополучно проскочил прогалину, а пулемет в дальнем углу промолчал. Солдат спрятался в кустах, переводя дух и постепенно приходя в себя. Ему посчастливилось преодолеть зону обстрела. Это было ощущение радостного, но бесполезного второго рождения: человек остается в живых только для того, чтобы умереть через час или через неделю.
Солдат подполз к каменному гнезду, а пулемет так и не дал о себе знать. Солдат бросился в окоп и на четвереньках добрался до НП.
— Приказ господина майора! — И он подал Виттнеру листок.
— Да, да, — пробормотал Виттнер дрожащим голосом. И пальцы его тоже дрожали. Потом он воскликнул: — Невероятно! «До семи ноль-ноль покинуть высоту. Майор фон Маллов».
— Этого следовало ожидать. Итак, позор на весь мир обеспечен, господин обер-лейтенант. Блистательно!
— Послушайте, дружище!
Виттнер снял каску. Волосы его взмокли от пота.
— Дружище, дружище! — передразнил Кляко.
— Объявить солдатам и — шагом марш! — решил Виттнер, вспомнив, что он обер-лейтенант, помощник командира пехотного батальона.
Выполнив приказ, — объявить солдатам, — связной вернулся.
— Разрешите обратиться, господин обер-лейтенант?
— Пожалуйста.
— Можно мне остаться здесь с вами?
— Нет! Вы пойдете первым.
— Но…
— Молчать! Приказываю молчать! Какая это дисциплина! Кругом марш!
— Слушаюсь!
Солдат подчинился. Он отполз, в трех метрах от НП выскользнул из окопа и кубарем скатился в кусты. Но картина повторилась: он присел на корточки, перекрестился и, не успев перебежать прогалину, попал под пулеметный обстрел.
— Я так и знал. Иван пропускает сюда, а отсюда не выпустит никого. Господин…
— Господин обер-лейтенант! А как быть с гранатами?
Немецкие солдаты сгрудились у НП: вопрос о гранатах был лишь хорошим предлогом обратиться к офицеру. Солдаты курили, беспокойно озираясь, но в глазах их еще жила надежда.
— Молчать! Шагом марш! Впереди пойдут стрелки, за ними пулеметчики! В нашем распоряжении семнадцать минут. — И уже потише Виттнер добавил: — Солдаты, придумывайте что-нибудь сами, иначе Иван скосит вас, как траву.
Первые двое не придумали ничего нового и погибли. Один еще подергивал ногой в предсмертных судорогах. Третий, казалось, сошел с ума. Став во весь рост, он сбежал со склона и, не останавливаясь в кустах, огромными прыжками перепрыгнул убитых. Скрытый пулеметчик от неожиданности не успел дать очередь. Он, видно, ждал, что немец остановится в кустах. Вслед за тем удалось перебежать прогалину и четвертому солдату. Пятого пулеметчик скосил в кустах.
— Господин обер-лейтенант, я боюсь, — сказал, подползая к НП, пепельно-бледный унтер-офицер без каски.
Канонада удалялась в глубокий тыл. Ее звуки слабо доносились откуда-то издалека. В немецких окопах стояла подозрительная тишина.
— Господин унтер-офицер, я не слышал, что вы мне сказали. Мои часы показывают пять минут восьмого. — Виттнер старался сохранять самообладание, но не смотрел на унтер-офицера. Пока здесь находится хоть один-единственный солдат, он не собирается думать о своей собственной судьбе.
«Как люди трусливы! Они худые, тонкие, у них легкое, ловкое тело, как у ласточек, и все же они трусят. Он сам через прогалину не перебежит… У русского пулемета сидит отчаянный нахал и развлекается. Нахалу радости он не доставит, это решено! Обдумать, как быть, времени хватит. Здесь еще находится струсивший унтер-офицер и словаки. Их офицер разговаривает, как изменник. В немецкой армии за такие разговоры полагается пуля. Надо с ним рассчитаться. Он скрытый большевик. А что удивительного? Ничего: словаки — славяне и большевики. Господин майор! Чего же стоят ваши теории относительно союзников? Жаль, что я не могу объяснить вам этого лично…»
— Боже мой!.. — И за вскриком раздался пистолетный выстрел.
На высотке остались трое. Не успело смолкнуть эхо, и на НП остались уже только двое. Лукан, вскочив, крикнул:
— Прощайте, пан поручик!
— Сумасшедший!..
Но Лукан уже перепрыгнул через тело застрелившегося унтер-офицера. Вот он добежал до кустов и залег там, ожидая, когда замолчит пулемет. Пулемет умолк, а Лукан все лежал. Сколько это могло длиться в конце концов — минуту или пять минут? Лукан вскочил, и тотчас же в знакомом углу затрещал пулемет. Лукан мгновенно упал. Но убитые так не падают. Он даже прикрыл голову руками. Это было на середине прогалины, между трупов. И когда уже давно смолкло эхо выстрелов, Лукан взвился, словно стальная пружина, и исчез среди израненных деревьев в долине, прежде чем спохватился пулеметчик.
— Мы остались одни, господин обер-лейтенант.
— Теперь ваша очередь!
Это прозвучало как приказ.
— Я уступаю ее вам. Все преимущества чистой расе, — с притворной вежливостью произнес Кляко.
Он заметил, что у обер-лейтенанта расстегнута кобура. Незаметно он сделал то же самое. Следовало бы позаботиться об этом раньше. Его план был прост: ему и Лукану не уходить с НП и сдаться в плен. До приказа об отступлении у Кляко не было определенных планов, только все сильнее крепло желание во что бы то ни стало распрощаться с немцами. Виттнер же исходил из того, что не перебежит поляну. Он умрет по собственной воле, мягко выражаясь, как тот струсивший унтер-офицер… Но неожиданно судьба поставила на его пути словацкого офицера Глако, который ведет себя, как замаскированный большевик. Он предполагал, что Глако оставит высоту предпоследним. И он, Виттнер, изрешетит его своими пулями. Это был бы патриотический поступок. Жаль, что никто об этом не узнает. Хотя бы фон Маллов. Там, в батальоне, тишина. Они отступили. Они отступили, ведь уже четверть восьмого, семь часов пятнадцать минут.
— Вы мне не доверяете! — Теперь было все равно, шептаться или кричать.
— Предположим, что так.
— Я немецкий офицер. — Виттнер хотел любой ценой осуществить свой план.
— Именно потому.
Виттнер словно не слышал. И не мог слышать. Он не приготовился к такому обороту дела.
— Как-то, помнится, вы говорили о новом порядке в Европе. Русских, поляков, французов — перестрелять. И, если не ошибаюсь, чехов тоже.
— Вы не ошибаетесь, — ответил Виттнер, только что принявший новое решение. Теперь его не интересовало, уйдет отсюда Кляко или нет.
— Бельгийцы и голландцы смогут остаться там, где они живут. Весьма великодушно с вашей стороны. Но в третьем классе гимназии я собирал марки и с тех пор знаю, что Лихтенштейн — самостоятельное княжество. Главный город Вадуц. Что же будет с ним? Что же с ним? Всех перестрелять или переселить?
— Но ведь это все-таки немцы! «Не следует вызывать подозрения у Глако. Еще некоторое время нужно прикидываться дурачком».
— Видите ли, я этого не знал. Дорогой обер-лейтенант, а что же будет со словаками — этим мирным «голубиным» народом?
— Фюрер ведь гарантировал вам самостоятельность.
— А у меня не выходит из головы другое. Дело ли Гитлера решать вопрос о нашей самостоятельности? Ведь он педераст и слабоумный идиот. — И так как Виттнер открыл было рот и потянулся за пистолетом, Кляко взревел: — Молчать! — пнул немца в живот и приставил револьвер к его груди. — Вы будете говорить только то, что я вам позволю. Повторяйте за мной: Гитлер…
— Гитлер…
— …идиот…
— …иди…
— Не шути со мной. Я жду. Времени мне хватит. Даю тебе последнюю возможность на минуту продлить жизнь.
Кляко тыкал пистолетом в грудь Виттнера.
— Вы хотите меня убить? — писклявым голосом спросил Виттнер, с его подбородка струился пот.
— Не знаю. Я очень хотел это сделать еще минуту назад. — Кляко отнял пистолет от груди Виттнера и, помолчав, сказал: — Но мне противно.
Не успел Кляко произнести эти слова, как Виттнер прыгнул и всем телом навалился на него. Поручик выстрелил. Обер-лейтенант зарычал и мясистыми пальцами вцепился ему в горло.
Когда Кляко всадил в немца всю обойму, смертельная хватка на шее ослабела, и бездыханное тело Виттнера сползло и ничком распростерлось рядом.
Кляко долго сидел не двигаясь.
Потом неуверенно нащупал в кармане сигареты, закурил и сказал:
— Скотина! Лукан старая скотина! — Затем крикнул, обращаясь к солнцу в ясном небе: — Скотина!
Он почувствовал смертельную усталость. Мертвый Виттнер вызывал отвращение. Кляко курил. Он жалел, что сигарета не так длинна, чтобы курить ее многие часы, не думая ни о чем. Думать он будет после, когда докурит.
— Лукан все равно скотина…
Оставалось еще несколько затяжек, но Кляко уже знал, что он сделает. Он понял это еще раньше, тогда, когда Лукану удалось перебежать полянку. Он отбросил сигарету и, не думая, как-то равнодушно сунул пистолет в кобуру, взял фляжку Виттнера и отполз к застрелившемуся унтер-офицеру. Там он выскочил из окопа и через несколько секунд был в зарослях.
Никто не стрелял, все было мертво впереди и вокруг Кляко. В тихом воздухе слышались лишь его шаги… хруст веточек, ломающихся под сапогами, шорох прошлогодних листьев. Немецкие окопы были брошены. Кляко злобно пнул ржавую банку. Тишина действовала на нервы. Он ничему не удивился, все было понятно само собой. И отступление немцев, и путь в полном одиночестве. Но Лукан — старая скотина! При первом же удобном случае он даст земляку в морду. Они могли бы навсегда распрощаться с этим подлым предприятием и поставить точку. «Вы слышали? Поручик Кляко перебежал к русским! Вместе с Луканом». «Ха-ха-ха! Оставьте меня в покое! Но совершенно ясно, что Лукан получит по морде, это уж точно, черт возьми! «Мы старые пражане, пражская кровь», будь я проклят! «Я шагал через границу, помахал рукой девице!» Какие глупости! Не в этом дело. Русские надавали немцам по шеям. Всех изрубят на форшмак! …твою мать, а ведь это похоже на конец войны. Аминь, говорю я вам. Аминь и литр рому. За литр рому я воскрешу и покойного Виттнера. Вот мое последнее слово! У нас есть коньяк. Краденый, французский — все зависит от точки зрения и от вкуса. Выпьем же за здоровье своих ног. При отступлении всего важнее ноги. Да здравствуют мои ноги!»
От наблюдательного пункта до огневых позиций батареи было около трех километров. Полчаса ходьбы. Но поручик Кляко, несмотря на свою беззаботность, шел не по открытому полю, а извилистыми тропинками через лес, и путь его занял значительно больше времени. Дорогу он знал — по ней он прошел трижды, когда просьбы и угрозы по телефону не действовали на каптенармуса. Он говорил тогда: «Ребята, я иду на батарею, очень интересно послушать, как закудахчет эта гадина каптер. Хочу пересчитать ему зубы». И сейчас он охотно пофантазировал бы на эту тему, но боялся, что не найдет батареи на прежнем месте. Провались она в преисподнюю, вот если бы его ждала бутылка рому, он, Кляко, простил бы все и каптеру, и всему миру. Лукан уже с ними и рассказал, что произошло. Батарея поставила на нем крест. Пускай! Он будет долго жить.
Лукан побоялся явиться на батарею один. Где поручик Кляко? Где молчун Иожко? Что ответить? Он ни на минуту не допускал, что с поручиком может что-нибудь случиться. Он догадывался, что вел себя как трус, но был уверен, что сумеет все объяснить Кляко.
Лукан спрятался в лесу, отделенный от батареи широкой, прорубленной немцами просекой, прямой, будто стрела. Он следил, как по ней отступали немецкие пехотные части. По ту сторону просеки бесновался надпоручик Гайнич. Лукан понял, что тот собирается переместить орудия и стрелять прямой наводкой по каким-то наступающим танкам, но никто его не слушал. Какие танки? Опять уже надрался? Еще только утро. И Лукан, боясь заснуть, курил сигарету за сигаретой.
Но вот на просеку вышел человек. Он осторожно огляделся по сторонам и снова скрылся в чаще.
— Пан поручик!
— Ага! Хочешь схлопотать по морде? Ну, подойди, подойди! — Кляко поджидал Лукана, расставив ноги.
— Пан поручик, я…
— Молчать! Приказываю молчать! Как стоишь? То-то! Равнение направо! — И Кляко влепил Лукану две пощечины. — Это тебе привет от обер-лейтенанта Виттнера. Молчать! Ни слова. Конечно, он убит. А наши, как я слышу, еще не отошли. Это не Гайнич? Почему он так кричит? Я разуюсь на минутку. — Кляко снял сапоги и вытянулся, заохав от наслаждения. — Ох, ох, как здорово! С ума сойти! Ну-ка, смотри внимательно!
— Пан поручик, прошу вас, не сердитесь на меня. Я…
— Ты свинья! Но плюнь на все. Почему ты не разуешься? Мы отступаем, братец, ноги сейчас поважнее головы.
— Я уже все рассчитал, пан поручик. Если мы будем делать каждый день километров тридцать, в сентябре можем быть дома.
— Дома?
— Дома. А в октябре у меня кончается действительная служба. Через несколько дней…
Кляко шевелил пальцами на ногах, проветривая их.
— У тебя в октябре кончается действительная военная служба. А у меня?
— Вы кадровый офицер, у вас…
— Ну, договаривай!
— У вас не кончится. Знаю.
— Видишь, какая ты скотина? Почему я должен бежать домой? Вернусь, а меня опять сюда пошлют. Куда же тебя понесло с высотки? У нас уже все могло быть позади.
— Я знаю, пан поручик. Но ведь война кончилась. Совсем кончилась. Мы все домой идем, и вы с нами.
— Хоть бы ты глупостей не говорил. Черт побери, там как-то уж очень тихо. Брось мне этот сапог!.. Так и знал. Теперь я его не надену, будь он проклят! Еще и об этом надо думать! Какой ты ординарец, Лукан? Когда ты их смазывал?
— Почем я знаю? И чем смазывать-то?
— Чем? По мне, хоть соплями, но сапоги должны быть мягкие! Такой подлости еще бог не видел. Честное слово, там тихо. Пошли! — Они двинулись по просеке. — Нам бы плакать надо: там Иожко остался… Гнусное создание человек. Быстро все забывает.
Батарея Гайнича была построена. Надпоручик держал в руке часы и прохаживался. Он только что сказал:
— Осталось полминуты на размышление.
— А тут все еще играют в солдатики, — шепнул Кляко.
— Он пьян вдребезги.
— Прошло три минуты. К орудиям! Приготовить батарею к стрельбе прямой наводкой!
Только поручик Кристек, фельдфебель Чилина и несколько унтеров вышли из строя. Они направились к орудиям. Солдаты стояли неподвижно. Побагровевший Гайнич бегал вдоль строя.
— Всех перестреляю, сволочье поганое!
— Что это за балаган? — Кляко медленно подошел к Гайничу.
— Не мешайте, пан поручик! Доложите, как положено, и… Почему вы покинули НП?
— На НП сидят русские. Если угодно, можешь позвонить им по телефону, они пожелают тебе доброго здоровья.
— Что вы себе позволяете?
— Осел!
— Домой, ребята! Идем домой, — вопил Лукан.
Было восемь часов сорок шесть минут. Строй рассыпался. Бросая винтовки и каски, батарейцы кинулись в блиндажи за вещевыми мешками. Отчаянно ругаясь, молчуны разбивали винтовки о деревья и о колеса орудий. Они смеялись и плакали от радости. Надпоручик звал своего ординарца и не мог дозваться. Один Чилина и поручик Кляко сохранили здравый рассудок. Фельдфебель отвязывал лошадей и отпускал их на волю, а Кляко держал каптенармуса за глотку.
— Не ври, ворюга толстомясый, пасть порву!
— Это для пана надпоручика. Не могу!
— Последний раз тебе говорю, сволочь! — Кляко выхватил пистолет и погнал перед собой перепуганного каптенармуса, поддавая ему сзади коленкой. — Топай, топай!
Отвоевал Кляко две пол-литровые бутылки какого-то желтоватого немецкого ликера. Это была не грушевая настойка, а что-то вкусом напоминавшее ему Виттнера. Он выпил залпом бутылку и швырнул ее в орудийный щит.
Все уже покинули огневую позицию, когда Кляко последовал за батареей. Сбиться с дороги он не мог — путь показывали брошенные ранцы и штыки. Он догнал батарею в деревне, где они когда-то ночевали, и даже не вспомнил о том, что на немецком кладбище лежит Хальшке.
В деревне не было ни солдат, ни гражданского населения. Дома горели, где-то громыхали танки.
Следующая деревня горела тоже. Дым стлался по земле. Пьяный Кляко один шагал позади всех. В руках он держал недопитую бутылку. Он ничего не видел, яростно кричал что-то и плакал. Ему слышалось какое-то пение. Он бежал, падал и снова бежал, опустив голову. Он задыхался от дыма. Пахло гарью, словно горело мясо, очень много мяса. А батарея шла быстро. С каждым шагом дом становился ближе. Из двух тысяч километров десять уже остались позади.
Молчуны шагали во главе и покрикивали на остальных:
— Скорей!
Виктор Шамай плакал.
Где-то впереди взревели танки.
ДЕФИЛЕ
— Не вздумай нализаться, говорю! Как придешь, дыхнуть заставлю — смотри у меня, коли что учую! Так что крепись лучше! Свищи, свищи! Еще аукнется тебе этот свист!
Фарничка стоит на дороге.
— Что такое? Чего кричишь?
— Это я-то кричу? Добрый день, пан Пастуха. Мужу напоминаю. Не сказать, так нахлещется в дым. Последнюю крону спустит.
— Да ведь он не пьет. Я ничего такого за ним не примечал.
— Ничего вы не знаете! Месяц назад так напился у этого недоростка Зембала, имечко свое вспомнить не мог.
— О, месяц назад? Это с каждым бывает! А куда он пошел?
— Тридцать крон пропил! Тридцать крон! А почем я знаю, куда он пошел? Говорил, что в Правно, там чего-то такое развесили — вроде занавес какой, а на нем все города, и реки, и война обозначена.
— Карту, что ли?
— Пускай карту. А как я могу ему поверить? Он все выдумал, лишь бы из дому сбежать. Вот теперь я и гляжу, чтоб он к этому недоростку Зембалу не завернул. Не надо бы его отпускать.
— Не надо. Я поговорить с ним хотел.
— О чем?
— Тебе только скажи. Все, как сорока, выболтаешь. Ну… работника моего в солдаты забирают, моего Имриха, если хочешь знать. Пришли ко мне мужа, когда вернется.
Фарничка и спасибо сказать забыла, даже перестала следить за мужем. Визгливо крикнула уже со двора: «Пришлю!» — и исчезла в доме. Пастуха вперевалку зашагал по деревне, обливаясь потом.
А Фарник дошел уже до поворота за Планицей. Июльские дожди задержали уборку, и хотя была половина августа, на полях еще виднелось много копен. На жнитве паслись стаи гусей, при каждой стоял пастушок с хворостиной.
Фарник насвистывал. Его обогнал велосипедист, затормозил и окликнул:
— Эй, давай подвезу? — Это был Дриня, человек в «канадках». — Подсаживайся! Вперед немного подвинься! Что в Планице нового?
— Что? Гардисты сделали обыск у Лукана. Сам Махонь, районный начальник.
— Знаю. А еще?
— Еще? Зембалов сын записался немцем и пошел в эсэсовцы.
— И старый Зембал грозится его убить. Знаю.
— Все-то ты знаешь. Что твой министр.
— Ты в Правно?
— Ну да! А говорят, ты торгуешь коровами, барышничаешь!
— Верно говорят.
— Ага!
— Что за «ага»?
— Ничего, ничего. Ты хорошо устроился, ну так что. Живешь-поживаешь, на велосипеде паном раскатываешь, ну так что. Жена называет меня остолопом, и, должно быть, так оно и есть. Ты листовку выпустил, чтобы парни не ездили в Германию Гитлеру помогать? Выпустил?
— Партия ее выпустила.
— Ладно, значит, партия. Я послушался, отговаривал, да все попусту. Одиннадцать человек из Планицы уехали, из них трое коммунистов.
— Вот это жаль.
— Останови! Говорят тебе, останови! Пешком пойду, не поеду с таким. Почему жаль? Они деньги хорошие домой посылают, а я здесь торчу, приличной работы никак не найдешь, и все из-за тебя. Да что говорить, тебе-то все равно, сам ты пристроился. Я давным-давно это хочу тебе в глаза сказать. И уж коли ты подвернулся под руку, все выложу. Ты сам когда-то говорил, что торговцы — живодеры. Говорил или нет?
— Говорил. — Дриня тоже пошел пешком, ведя в руках велосипед. — Пораскинул бы ты мозгами, сам бы додумался. Жить-то мне чем-нибудь надо? Да не в том дело. Барышником хорошо быть!
— Еще бы! А почему не быть? Один я такой остолоп. Моя жена правду говорит.
— Барышник-то за день деревень восемь обойдет, в каждой остановится, никаких подозрений. Найди мне другое такое занятие, и я брошу барышничать, хоть сегодня. И жизнь у меня тогда спокойная пойдет, не надо будет ничего объяснять, даже ты не станешь на меня коситься. Верно ведь?
— А ты сразу же и на дыбы…
— Нет, не в том дело. Найди мне другую работу! Я углежог, ты это прекрасно знаешь. Я жег древесный уголь, как жег мой отец, дед, и так до седьмого колена. Углежог что медведь — целые недели и месяцы в лесу. Там и спит, и пищу себе готовит, от мира оторван. Удивляюсь, что тебе объяснять это приходится.
— Ладно, ладно. Да все не так обстоит, как ты говорил.
— Я не обманываю.
— Да я не о том. Иду сейчас в Правно. Немчура там какую-то карту вывесила. Помнишь, что ты говорил, когда Гитлер напал на Советский Союз?
— Ну, говорил. Но это другое дело.
— Знаю, знаю. С этой войной, должно быть, промашка какая-то вышла. Почему наши отступают? Я и по деревне-то пройти боюсь. Наговорил я людям всякого, а теперь… Знаешь, что я им теперь говорю? Товарищи, это большевистская тактика.
— А они что?
— Что? Да ничего. Кажись, не верят мне. А с чего верить-то? Я и сам не верю, страшно мне делается. А тебе разве не страшно?
— Большевистская тактика? Недурно сказано. Но я считаю, что кое-чего не хватает. Это надо обосновать, потому что сами по себе это пустые слова. Тут важны две вещи: первая — война тянется уже четырнадцать месяцев. Подумай только! Французы сдались через три недели. А вторая? Зима уже скоро! И оглянуться не успеешь, все вокруг будет белым-бело.
— Откуда мне знать…
— Ты не веришь в победу?
— Твоими бы устами да мед пить! Но я только говорю, что в этой войне какая-то промашка вышла. То ли немцы и взаправду непобедимы, то ли какое-то тайное оружие у них… Кто их знает!
— Опомнись, что ты!
— Не расстраивай меня. В деревне я не сдаюсь. Но с глазу на глаз мы с тобой можем говорить обо всем. Можем мы друг дружке все сказать или нет?
— Должны!
— За что же ты на меня нападаешь? Я и в Правно-то боюсь идти из-за карты этой. Кто его знает, что они там намалевали? А сходить вроде надо?
— Коли ты собрался…
Они шли уже по окраине Правно. Навстречу им попались марширующие немецкие дети. Их вел учитель, судетский немец Леммер. Дриня долго смотрел им вслед.
— Ну, что глядишь? — грубо одернул его Фарник, сам ясно не понимая, почему он это сделал. Ему хотелось на кого-нибудь закричать, скорее всего на Леммера. Он знал его, потому что немецкие дети ходили через Планицу до Липин и даже до самой Острой, раза два в неделю, и всегда он их видел. Они маршировали через деревни с флажком, под барабанный бой. Они приносили с собой напоминание о разделенном городе, о грохоте далекой войны, рождая в душе Фарника леденящее беспокойство. Лучше бы никогда их не видеть. Фарник ненавидел высокого голенастого Леммера так же, как и четыре барабана, в которые барабанили в первой шеренге мальчишки лет четырнадцати, самые высокие, самые сильные, такие же голенастые, как их учитель. Теперь Фарник ясно понял, почему он одернул Дриню. И правда, что на них глядеть? Никак нельзя поддаваться, а тут поглядишь на этих мальчишек — и духом вроде сразу слабеешь.
Дриня, потихоньку ругаясь, шел дальше.
— Уж и Смольник с ними. Ты его знаешь?
— Нет.
— Он поступил ночным сторожем на лесопилку Притца всего неделю назад, а сын уже марширует с гитлерюгендом. Смольник! Воды не замутит — такой тихоня. И «гутн таг»[55] сказать не умеет, и — на тебе — уже фольксдойч! Покупают немцы людей. Покупают за деньги, за обувь, за вшивый лоскут. Онемечивают людей! Да! Келлер, дьявол щербатый, идет! Не гляди на него, еще привяжется. Я его не выношу.
— Добрый день, пан Дрина!
— Добрый день.
— Идешь в Прафно?
— Да, насчет двух телушек я договорился.
— Естли са два телушка идешь, можешь идти и к карте, большой карта, красифый карта, там конец война показан. И überhoff[56] ешо этот гот!
— Погляжу. И товарища с собой позвал! Он идти не хотел, политика, мол, меня не интересует. А я ему и говорю: «Пойдем, пойдем, своими глазами все увидишь».
— Латно ты сказаль, очень латно сказаль тфой камарат. Скажи, кто это война победит?
— Не знаю, пан Келлер. Я войну не веду.
— Ты думай, что ты хитрый, ошень хитрый, когда все гофоришь, что ты война не ведешь. Смотри, пан Дрина! Ты ошипаешься, а потом для тебя ошень плехо бутет. Я говорю, ибо я снаю, кто ты был при первый республика, при Бенеш, при этот некодник и свин, что обишаль немец.
— Ну, ну, скажи, а то я уж и позабыл.
— Большевик и партай фюрер ф Острая.
Дриня рассмеялся.
— Ты не смейсь, ты смотри.
— Поневоле засмеешься. Скажи лучше, Киршнер знает, что ты социал-демократом был?
Келлер ударил палкой по телеграфному столбу и отошел, раздосадованный.
— Вечно у меня с ним, с этим Иудой, такие стычки. Подлец. Собственного сына выдал. Лучше его обходить стороной. Он с утра до вечера, как злой дух, бродит по городу и занимается провокациями.
— Опасное у тебя дело. Чертовски крепкие нервы, должно быть, у тебя, Дриня.
— Я торгую, и многих это вводит в заблуждение. Правительственный комиссар в Острой написал, что Дриня стал порядочным человеком, частным предпринимателем, бросил политику. В конце бумаги он пишет, что это мое решение заслуживает всяческой похвалы. — И Дриня торжественно процитировал: — «Просьба ко всем официальным лицам оказывать всяческое содействие вышепоименованному и не чинить ему никаких препятствий. На страж!» Вот как! В этом-то вся штука. Какая же опасность? Старик Келлер меня боится. Я держу его в страхе.
Фарник недовольно пробормотал что-то. Его задело, что сейчас Дриня припомнил ему упрек, когда он сам уже забыл об этом.
Огромную карту Восточного фронта немцы вывесили на пожарной каланче примерно на высоте второго этажа. Каждое утро зябкий аптекарь Седлитц взбирался на пожарную лестницу и передвигал синий шнур на восток, прикрепляя его гвоздиками.
Карта висела уже пятый день. Это было огромное белое полотнище с кружками крупных городов, обозначенных черными буквами, и голубыми извилинами больших рек. Внизу, в правом углу, синело пятно западной половины Каспийского моря, левее — часть Черного с Азовским. Синяя линия фронта напоминала изогнутую курительную трубку. От Ленинграда она тянулась на юго-восток, проходила перед Москвой, за Орлом, через Воронеж к излучине Дона перед Сталинградом. Оттуда она сворачивала на юг, касалась Моздока и потом шла на запад прямо к Новороссийску. Из Моздока вырастала кроваво-красная стрела с надписью у острия: «Baku — Indien»[57]. Две такие же стрелы торчали из Воронежа. Одна из них, изогнутая, устремлялась к Москве, словно собираясь ее проткнуть. Другая была прямая, у ее острия было написано: «Ural — Sibirien»[58].
У карты толпился народ из окрестных деревень. Всякий, кому по делам приходилось быть в Правно, сворачивал сюда и молча глядел на белое полотнище с кроваво-красными стрелами. Стрелы были видны издалека, дразнили воображение, увлекая его в дальние края, и оно уподоблялось стрелам на полотнище. Их ярко освещало солнце, и они превращались в кровь, в человеческую кровь, а далекие края вдруг оказывались совсем рядом — рукой подать. Казалось, что кто-то касается зрителей холодными пальцами, беспрестанно проводит ладонью по плечам, по темени и спине, и по коже пробегают мурашки, поднимая дыбом волосы, лицо мертвеет от пережитой боли, оставившей свежие, еще не зажившие раны.
Квадратная площадь в Правно похожа на гигантский зал ожидания без окон и крыши. Похожа она и на конюшню, там и сейчас стоят запряженные лошади, но без хозяев, без возчиков; нет здесь и жен, которые всегда сопровождают упряжки. Поэтому квадратная площадь похожа на пустой зал ожидания. Она обезлюдела, а тесное пространство перед пожарной каланчой — это приемная горя, бесконечно затянувшегося горя, а карта — это не карта, а разверстая могила, и ее, с милостивого разрешения пана Киршнера, освещает солнце. Люди стоят перед разверстой могилой и переживают неизбежное. Здесь нельзя говорить громко, лучше совсем ничего не говорить. И потому все молчат. Это единственный способ поговорить с покойником. Покойник любит тишину, любит то, что сливается с тишиной, — шелест листьев, тонкое посвистывание ветра и шепот живых. Эти звуки не мешают покойнику, не будят воспоминаний, они уместны над разверстой могилой.
— Конец. России пришел конец, — шепчет на ухо один старик другому.
Тот кивает в ответ. Четырежды кивает и стоит, опустив голову. Потом он хватает за рукав первого, сердито дергает и шепчет:
— Пошли, Игнац! Пошли отсюда скорей!
— Иду. — И оба уходят из приемной горя. Другие остаются.
Дриня видит морщинистую шею и седой затылок, слышит сухой шепот:
— Конец. России пришел конец.
«Как можно произнести такое? Синий шнур похож на изогнутую курительную трубку. Между Ленинградом и Москвой, в оккупированную немцами территорию глубоко врезался советский полуостров со своими берегами и границами, и синяя полоска вынуждена обходить его, вынуждена растягиваться на пять метров по белому полотнищу, набитому на доски, и непонятно, почему никто в это не вдумывается. Люди не видят этого длинного пятиметрового синего шнура, у них нет глаз, а если они и есть, то в испуге прикованы к кроваво-красным стрелам и надписям: «Baku — Indien, Ural — Sibirien». Пять метров на такой карте — это две тысячи километров фронта. Опомнитесь же, люди добрые, отведите глаза от стрел и получше присмотритесь к карте Киршнера, к синему шнуру, что протянулся на таком огромном пространстве. Это сила гитлеровских армий, разлившихся по русской стране, как вода по правненской площади, на которой вы стоите. Я мало что знаю о давлении, я угольщик, жег древесный уголь, но об этом мне кое-что известно. Всякое мыслящее существо понимает, что чем выше и уже сосуд, тем больше в нем давление воды. А если вода широко разольется во все стороны, то потеряет свою силу, застоится и загниет. Столько-то я знаю, потому что я углежог, а в куче дров есть тоже свое давление. И пока я дышу, пока в силах ходить, шевелить мозгами и двигать пальцами, я не приду в отчаяние и не поддамся страху. Он преследует меня, словно тень, вьется вокруг, так и поджидает, не усомнюсь ли я. Страх ловит мое одиночество и липнет ко мне. Я физически ощущаю его, как живое существо, и тогда я стараюсь вообразить, что я не один, что меня окружают люди, и толпа шумит, и тишина эта гудит вокруг меня, и я вслушиваюсь в нее. Сначала шум ее непонятен. Но вскоре в нем начинают выделяться звуки, похожие на стоны и жалобы, слова, полные отчаяния и горя, и тогда я вступаю в спор с плачущими, разочарованными детьми человеческими, говорю им правду об этой войне, о непобедимости коммунистических идей и Красной Армии. Baku — Indien! Ural — Sibirien! Пан Киршнер, это трюк, это обыкновенный психологический террор, как вчера очень хорошо объяснил мне учитель Кляко из Липин. Я и сам подозревал нечто подобное, но не умел назвать правильно. А всякое дело получает название, какого оно заслуживает. Трюк, пан Киршнер, психологический террор. Когда вчера учитель Кляко сказал мне об этом, я готов был его расцеловать. Эта истина настолько меня обрадовала, что я даже плохо спал. А может, я совсем не спал, не знаю. Теперь я готов с кем угодно вступить в драку и кому угодно доказывать эту истину. Я не зря не спал ночь, пан Киршнер. Вы боитесь, страх наступает на вас со всех сторон. Вы сами лучше всех знаете, что война идет пятнадцатый месяц и гитлеровские дивизии ждет вторая русская зима. Вашей жене придется организовать новую Winterhilfe. А от Москвы вы дальше, чем были в это же время в прошлом году. Но пока ваша фантазия служит вам надежно, приносит вам пользу. И аппетит у вас еще не пропал, весь мир сожрать готовы. Три кроваво-красные стрелы с надписями должны обеспечить вам спокойный сон, они должны внушить людям пораженческие настроения, убедить в безвременной гибели кого-то дорогого, кого они ждут. О ком идет речь — вы, как и я, хорошо знаете. Мы не должны, пан Киршнер, играть в прятки. Открыто скажем себе, как обстоит дело. Как обстоят дела вокруг нас и что чувствуют окружающие нас люди. Вы разделили этот город пополам, овладели умами немцев. Многих из них вы привлекли на свою сторону, а вместе с ними привлекаете и тех, кто вас боится. Своим безграничным чванством вы восстановили против себя словаков. Я говорю о правненских жителях и о простых людях из окрестных деревень. Я не думаю о десятке тех ваших прислужников или о тех, кто еще открыто не служит вам, но охотно это сделает, если убедится, что настало его время, или если вы сами его пригласите. Они меня не интересуют. Я думаю о тех, кто стоит здесь и сокрушенно смотрит на вашу карту и на три кроваво-красные стрелы, которые нагоняют страх. Здесь никто не разговаривает, никто не кричит, здесь царит торжественная тишина. Приходите послушать ее. И если бы вы на миг отбросили свое презрение и просто пришли сюда, вы, вероятно, поняли бы эту тишину и горе нашего народа. Приходите, пан Киршнер, и прислушивайтесь, если у вас хватит смелости. Я слушаю и все понимаю. Я горжусь этой убитой горем толпой, у которой сердце исходит кровью, оно стонет от боли, а смятенный ум не находит выхода. Эта карта — разверстая могила. Но вы забыли, что истинная ценность жизни познается над разверстой могилой. Будь вы моим другом, я пришел бы к вам и посоветовал бы, пока не поздно, снять эту карту. Ибо это не карта, а роковая ошибка, допущенная вами, пан Киршнер».
— Конец. России пришел конец, — услыхал Фарник сухой шепот и увидел склоненную голову старика, его ухо с торчащим клоком седых волосков. Увидел он и другого старика. Потом оба ушли, шепча что-то, Фарник ничего не расслышал, но не жалел об этом. В шепоте не могло быть ничего ободряющего. Зачем он сюда приходил? Словно предчувствуя горе, он вернулся было домой с полпути. Не будь Дрини, он сидел бы дома, а не стоял бы здесь. Что теперь? И Дриня смотрит на карту. Он серьезен и бог весть о чем сейчас думает. «Зачем думать? Все разлиновано, и несутся они, как на курьерских. А кто — и спрашивать не надо. Немцы. Indien — по-словацки Индия. Немцы ведь объявили, что в Индию они промаршируют напрямик через Советский Союз. Серьезного сопротивления они не ждут. Промаршировать! Прочь с дороги, идем мы, новые хозяева мира! Не попадайте под ноги! Мы маршируем, и голенастый Леммер бьет в барабан. Собака! За Сибирью нет ничего. Океан! Вода! Сибирь — край света, а на краю света ничего не может быть. Только ужасный холод. И все. Да еще звери. Медведи! Что теперь? Как? Дриня серьезен, задумался. Что будет? Фашизм — это рабство, террор. В Чехии застрелили какого-то фашистского начальника. В Праге. И теперь фашисты беснуются, как говорят люди, убежавшие с сезонных работ. Каждую ночь гестаповцы расклеивают на стенах домов длинные списки, и чехи, когда утром идут на работу мимо них, вынуждены читать их. Прочтет какой-нибудь чех имя своего расстрелянного друга и спросит себя, когда дойдет очередь и до него. С нами, словаками, фашисты пока церемонятся. Дружба, мол! А нам плевать на это! Вот дойдут они до Индии и перестанут с нами церемониться. Получим мы тогда под зад коленкой. И как следует! Угодим прямо в покойницкую! Леммер? Собака! Киршнер? И того хуже! А где же знаменитый немецкий пролетариат? Дриня говорит, что его перестреляли. Всех? А что же с мировым пролетариатом? Нет, обман! Не иначе. С этой войной какая-то промашка вышла. Что станется с нами? Что станется с нами, если не будет Советского Союза? С беднотой в Планице, в Липинах и вообще с беднотой? Капитал силен, он стоит и за Гитлером. Кому же верить? Кому я поверю, если на востоке все раздавят танки? Не Дрине, нет, он сказал неправду: через месяц, мол, здесь будут наши, готовьте красные знамена! Дриня правды нам не говорит, он смотрит на все легко, а война не игрушка. Капитал — он сильный! Верить себе? Верить себе смешно. А что я отвечу, если меня спросят в Планице, видел ли я карту? А? С этой войной и вправду вышла промашка. Разве не знают об этом в Москве? Разве нет в Москве такой карты, где обозначен фронт? Она есть в Правно, значит, должна быть и в Москве. Нужно собрать пролетариат. Я тоже пролетариат. А что я скажу другим? Карта! Голенастый Леммер собака! Он марширует через Планицу и бьет в барабан. Не следовало приходить сюда, нужно было вернуться. Леммер собака. Не пойди я сюда — услышал бы его в деревне, — смерть с барабаном сама ходит за человеком. По Планице шагает голенастый Леммер, а здесь нарисованы три кровавые стрелы. От них нигде не спрячешься, никуда не убежишь. Будет так, как в Праге. Списки на заборах и на стенах сараев, когда немчура дойдет до Индии. Как в Праге, где убили какую-то фашистскую сволочь. А Дриня еще и улыбается. Он улыбается! И что это за человек! Правды не говорит. Капитал силен, а Леммер голенастая собака. Чего Дриня улыбается? Что тут смешного? Он ослеп или опять что-нибудь придумывает? Что тут можно придумать? Один обман, ложь, как в тот раз, когда он сказал, что наши будут здесь с минуты на минуту и надо готовить знамена… Капитал силен…»
— Смотришь красивый карта? Красивый карта. — Келлер воткнул палку между двух камней и оперся на нее.
— Не великовата? Как ты думаешь?
— Ты смотри фнимательно!
— А я что делаю? И эта синяя линия слишком длинна. Пять метров.
— Ты смотри фнимательно, ты отно думаешь, другой гофоришь. Ты думаешь, я ничего не видель? Я не гофорю на ветер, и тепе будет плехо. Видишь там: «Baku — Indien»?
— Когда вы собираетесь там быть?
— В Индии überhoff будем прийти этот год.
— Горы! Кавказ! Как вы туда придете «überhoff» в этом году?
— Не змейся. Смотри фнимательно! Кауказ пустяк. Мы имеем альпийский стрелки. Это зольдат в шапка, и розочка на шапка. Ты будешь видеть еще этот год, как альпийский стрелок переходиль Кауказ. Или ты не вериль? Скажи, что ты не вериль?
Пятый день наблюдал Киршнер в высокое окно своего кабинета молчаливую толпу. Если бы фюрер был вездесущ и видел Киршнера в этой позе, он бы не смог ни в чем его упрекнуть. Разумом и сердцем Киршнер предан рейху, работает на него и сейчас, хотя кое-кто и пробует отрицать это. Для великих задач человек должен созреть, как созревает плод на дереве. И мелкий ручеек должен созреть, чтобы стать большой рекой, принять в себя все притоки и достойно влиться в море. Все созревает, нация тоже, и так как ее составляют люди, то прежде всего должен созреть и каждый в отдельности. Да, Киршнер в эти дни многое понял. Возможно, это жило в нем и прежде, давным-давно, но проявилось только теперь, этого было много, интересно а завтра это уже будет и жизненно важно, как воздух и вода. Речь идет не о нем, Киршнере, он это знает. Речь идет не о личной славе; личная слава — мелочь. Важна цель! Цель и затем человек, который ее увидел и сумеет ее достигнуть. То, что таким человеком будет, например, Киршнер, — дело случая, и не это важно Киршнеру. Правда, работать здесь трудно, очень трудно, и если он вообще чем-нибудь гордится, так только тем, что никому не пожаловался, хотя поводов было более, чем достаточно. «Вещи вблизи выглядят совсем иначе, чем издали, и это как нельзя верно. Пусть это звучит непривычно, чуждо, речь идет и об утверждении немецкого духа, самосознания немцев здесь, в Правно, на данном историческом этапе. Немцы тоже ведь как-то подвержены влиянию окружающей среды и внешним воздействиям, как и все люди. Нет, тут что-то не так. Пассивная масса, говорящая по-немецки, находится здесь под влиянием окружающей среды и внешних воздействий. Этой массе нужно привить немецкое самосознание, она должна созреть, как созрел он, Киршнер, Только тогда она выполнит свою историческую миссию. Здесь было восемь случаев дезертирства. Поймали же только одного молодого Келлера. А часть более пожилых немцев слишком отравлена еврейско-большевистской демагогией, которая пустила здесь глубокие корни и существует по сей день. Совсем непонятно, на чем она держится, как непонятно то, что до сих пор не пала Москва и на московском фронте не происходит никаких исключительных событий. Это… это… Да, это странно. И вообще… Да, это странно. И даже слегка удивляет. Почему сопротивляются Москва и осажденный Ленинград?»
И Киршнер смотрит на штору. Узор на занавеске похож на липовые листочки, размещенные попарно. Два и два вместе. Киршнер трогает узор пальцем, потом, придерживая занавеску рукой, вслух пересчитывает пары листьев сверху вниз. «Одиннадцать пар. А война тянется четырнадцать месяцев. На шторе одиннадцать пар, одна над другой, двадцать два листика, двадцать два месяца. Нет, это невозможно, немыслимо, абсурдно и потому исключено! Раз это абсурдно, то есть противоречит разуму, значит, этого не может быть. Произойдет то, что должно произойти, и об этом выразительно говорят три кроваво-красные стрелы. Окружение Москвы, походы на Baku — Indien и на Ural — Sibirien осуществятся. Все это должно осуществиться, все это хорошо и полезно для немецкой нации, и потому все так и будет».
Киршнер смотрит на молчаливую толпу и многое начинает понимать. Уже пятый день висит на каланче белая карта. Она не примелькалась. Аптекарь Седлитц делает свое дело на совесть. При первой же возможности Киршнер похвалит его. Люди это любят. «Три стрелы должны быть далеко видны, пан Седлитц. Обратите особое внимание на это, они решат будущее нового порядка в мире». Седлитц сделал стрелы ярко-красными, кровавыми. Он удачно выбрал цвет, ибо новый порядок не может родиться без крови. Новый порядок родился, он здесь, он будет установлен во всем мире; и эта безликая ненемецкая масса чувствует это, он проникает в глубины ее сознания, проникает в их головы. Враги нового порядка неохотно покоряются, но воспринимают нашу победу как непреложный факт. Нехотя, против воли и пока не скрывают своего горя. До недавнего времени Киршнер думал, что существует разница между еврейским большевизмом и славянством, хотя и незначительная, незаметная, и потому не осмеливался отождествлять их. Но, должно быть, он ошибался, как ошибались многие до него. Не раз уже подчеркивалось, что славянскую душу трудно понять, и трудность эту часто недооценивали, и, может быть, именно поэтому в прошлом году в декабре возникли некоторые неприятности на Центральном фронте, на подступах к Москве. Правда, это чисто военный вопрос, не ему, Киршнеру, судить об этом. Лишь бы провидение хранило фюрера в добром здравии. Его гений даст ходу истории то направление, которого заслуживает немецкое начало. Фюрер и провидение за немцев. Уже эти два факта сами по себе обеспечивают немцам моральное превосходство над всеми врагами. Враги бывают тайные и явные, и лишь карта, появившаяся в Правно, заставила Киршнера перестать упорствовать в своей ошибке. Армии фюрера громят на востоке государство красных, они ликвидируют его создателей, и когда все это обозначено на карте, оно показывает перспективы этой титанической борьбы; а здешнее население приходит к пожарной каланче и вместо проявления благодарности и понимания жертв, которые приносит немецкая нация, часами стоит перед окнами Киршнера, молчит и горюет. Да, он многое понял за эти дни, очень многое. Нет никакой разницы между славянской стихией и еврейским большевизмом. Славяне — те же большевики и евреи, только в иной личине; не может быть никаких сомнений, как к ним относиться. Хорошо, что он уяснил себе это, очень хорошо, а завтра или послезавтра это будет жизненно необходимо. Как вода и как воздух. Это немецкая земля, и если эта истина во многом не совпадает с действительностью, надо ликвидировать, убрать эту разницу, чтобы в будущем здесь не было и признаков чуждых влияний».
Киршнер резким жестом отдернул штору, распахнул двойную раму и высунулся из окна. Со второго этажа была хорошо видна вся площадь. Толпу перед каланчой он видел сбоку. Толпа сливалась в одно серое пятно, в котором нельзя было различить отдельных людей. Так оно и должно быть — незачем ему выделять в ней отдельных людей. К тому же на это понадобилось бы какое-то время, известная сосредоточенность, а эти люди ничего такого не заслуживали. Не ко времени это и ни к чему — может лишь с толку сбить, привести к непоследовательности, к новым ошибкам. Словаки все на одно лицо, независимо от пола и возраста. Да, он, Киршнер, многое понял в последние дни, очень многое. Не важно, все ли они собрались здесь или только их тысячная часть. И тех, кто еще не решился прийти сюда, или не придет вовсе, или придет, подавив печаль, скрыв свое непокорство, и начнет выражать благодарность и понимание, он, Киршнер, все равно сочтет хитрыми ловкачами, куда более опасными, чем те, что стоят сейчас перед картой и удрученно молчат. Никто уже не может изменить судьбу ненемецкой массы, а эти меньше всего. Они должны уступить место живым, новой силе, которая возвысит весь мир. Они пока еще дышат, еще ходят и поют, они еще делают все, что должно делать живое существо, и вполне возможно, что тем самым они обманываются и только потому не впадают в явное отчаяние. И все-таки они, сами того не зная, уже безнадежно мертвы. Они узнают это, когда придет время.
— Хайль Гитлер!
Перед ратушей стоял старый Келлер, Киршнер кивнул ему. И старый Келлер ушел довольный, постукивая чеканом.
Киршнер закрыл окно и задернул штору с узором из одиннадцати пар липовых листиков.
У Махоня, в отличие от Киршнера, не было свободного времени. Ему было недосуг смотреть в окно или торчать перед каланчой. Он мог только выйти за дверь, постоять там немного и вернуться. Жена сидела за кассой; когда не принимала денег — грызла сухари, с бледного лица ее не сходила улыбка.
— Старый Келлер совсем из ума выжил, — сказал приказчик.
— Подай мне лесенку! Подай лесенку и помолчи!
— Не видишь? Опять он там!
— Пан Махонь! Значит, я зайду завтра за селедками.
— Завтра они будут.
— Ну, так я зайду. До свиданья.
Махонь не ответил покупателю. Не отрывая глаз от каланчи, он покосился на дверь, чтобы запомнить, кто это был. Карту он знал уже наизусть. Названия городов прочитать он не мог, но прекрасно видел извилистые реки, голубые моря, три кроваво-красные стрелы с надписями и синюю линию Восточного фронта. На этой карте были изображены беспредельные русские равнины. Там пылала война, горели города и леса, там ежечасно умирали тысячи людей. Махонь хорошо изучил карту. Но он не понимал себя, не мог разобраться в себе. Он не был насильником, насильников он презирал. Когда пришел брат и сказал, чтоб он стал аризатором оптовой торговли Гекша, Махонь ответил: «Нет, этого я не сделаю! Это же насилие! Ступай, брат мой, с миром!» — «Аминь! Ты спятил!» — ответил брат и ушел, а затем прислал к нему Гекша. «Что я слышу! Пан Махонь, пан Махонь! Что я слышу? Вы не хотите взять себе мое дело, сказал ваш брат. Это правда?»
Махонь долго не отвечал, глядя на еврея, умоляюще сложившего руки, наконец он решился и неуверенно спросил:
— А это не будет насилием? Мое — это мое, ваше — это ваше, пан Гекш. Или нет больше такого закона?
— Нет, пан Махонь. Для евреев его не существует.
— Но при чем же тут я?
— И вы еще спрашиваете, пан Махонь! Если бы вы были евреем и не имели бы права написать свое имя на фирменной вывеске, вы бы тоже стали искать, кому передать в опеку, кому доверить свое состояние. И среди порядочных людей вы бы выбрали самого порядочного. Пан Махонь, опомнитесь!
Но Махонь долго не мог опомниться. Что-то похожее на благодарность разлилось теплом в его длинном и тощем теле, а может, то было чувство примирения со всем миром. Или — счастье. Еще мальчиком он любил церковные песнопения. Когда на хорах пели и звучал орган, он благоговейно слушал музыку и чувствовал себя так же, как после визита доброго пана Гекша. Он не мог не поверить брату. Пан Гекш явился воплощением награды за скромную жизнь, которую Махонь посвятил богу и выполнению своего долга. С этой минуты Махонь больше ничему не удивлялся, ибо пришло то, что должно было прийти, если была на свете справедливость божья и человеческая. Существование и той и другой подтверждалось визитом пана Гекша и его словами. И Махонь сам отправился к Гекшу. Черные глаза горели на его широком лице, но он шел по улицам города смиреннее, чем когда-либо. Он был более внимателен, чем обычно, к людям, которые попадались ему навстречу. Он торжественно здоровался с ними. Гекшу он сообщил, что готов аризовать его лавку, ибо это не идет вразрез с его совестью. Он попытается вести торговлю, как свою собственную, и в самом деле вернет ее, когда позволят обстоятельства, когда опять вступит в силу закон: «Мое — это мое, а ваше — это ваше».
Он заверил Гекша в своей благодарности и эту благодарность затем возвел в принцип. В конце концов он был счастлив хотя бы уже потому, что поступки его соответствовали словам и обещаниям. Доброму Гекшу пришлось до поры до времени удалиться от мира, уйти в заточение, ждать, укрывшись от всех, кроме Махоня и его доброй болезненной жены. Гекш превратился в тайну, известную лишь троим и четвертому — богу. И жалость, безграничная жалость терзала Махоня при мысли, что пан Гекш пребывает один на один с самим собой в вечном мраке подвала, которого не могут и не смеют развеять лучи солнца. А Гекш такой старый человек! Он зависит от него, Махоня, и от его жены, как новорожденный ребенок — от материнского молока, как это трогательно, как прекрасно, что бог избрал его, именно его, Махоня, хранить старика от превратностей судьбы, служить ему во всякое время и во всем, даже в том, что людям представляется низким и отвратительным. Но, Иисусе сладчайший, разве не омывали добродетельные еврейские женщины ноги простым путникам, когда те входили в дом? Это он понимал, не раз возвращался к этому в мыслях и всякий раз находил в своих поступках что-нибудь новое, прекрасное, так что мог любоваться собой и играть своими чувствами с таким же восторгом, с каким ребенок играет куклой.
Пускай где-то грохотали орудия, пылали города и леса, пускай умирали ежечасно тысячи людей — ничто до него не доходило. Он не воспринимал даже действительности, в которой жил, не замечал города, разделенного на две части. И город был далеко от него. Когда же надо было выйти из дому и что-нибудь доходило до его ушей, он высокомерно проходил мимо и еще горячей молился о прощении чужих грехов, нетерпимости, ненависти, убийств, которые терзали человечество, как осенние ненастья — деревья. Да, вокруг был злой, грешный мир, и понадобится еще много таких, как он, Махонь, чтобы бог перестал испытывать это поколение, одно из самых неблагодарных и самых непонятных.
И тут Киршнер распорядился вывесить на каланче карту, на которой были изображены реки, моря, пылающие города и по которой протянулась синяя линия фронта, похожая на изогнутую курительную трубку. Гекш напрасно ждет в темнице! Немцы завладеют всем миром! От этого Махонь пришел в смятение, мысли его сбились, словно поезд, сошедший с рельсов. Пошли прахом его труды и заботы, они утратили всякий смысл, а бессмыслица никому не приходится по вкусу, даже господу богу. Махонь замирал от страха, боясь глубже копнуть в своей душе, чтобы не открылась какая-нибудь горькая правда, противоречащая его правде, отчего все полетит кувырком. Он страшился стен, земли, по которой ходил, боялся солнца и воздуха, которым дышал, потому что все это было тесно связано с Гекшем. Они могли донести до изгнанника весть, что он, Махонь, мысленно начинает предавать его. Трудно было поверить, как быстро и опасно оживают понятия и бездушные вещи, как умеют они грозить и нагонять страх.
Карта висит на каланче, а Гекш ничего о ней не знает, не может знать о том, что немцы через Урал и Сибирь готовятся в поход на Индию, а оттуда — на американский континент. Он, Махонь, ничего не сказал старику и уже пятый день посылает к нему свою больную жену. В его, Махоня, власти лестница в подвал, железные двери и самое главное — отвратительный старик с колючими блестящими глазищами, терпеливо, но напрасно ожидающий во мраке того, что никогда не наступит. Никогда старику не увидеть ни квадратной площади, ни своего дома, не пройтись по комнатам, по каменным ступеням, сбитым человеческими ногами. Все для него погибло. И бог отвратил от него лицо свое, как отвратил от всех евреев, дабы снова напомнить им о божьем сыне, которого они распяли. Гекшу не на что надеяться. Его имущество переписано на имя Махоня, и так оно и останется за ним. Эта мысль, неслыханно новая, настолько взволновала Махоня, что временами он выходил из магазина, желая убедиться, что карта все еще висит на своем месте, что она ему не привиделась, что все возникшее в его душе истинно и неотвратимо. Глаза на его широком лице горели.
В толпе перед пожарной каланчой толкался и старый Мюних. Он искал на карте сына, своего шалопая, и, не найдя, с болью в сердце отправился в трактир к Домину.
А когда стемнело и наступила глубокая ночь, у карты остановился одинокий прохожий в очках, в шляпе, надвинутой на глаза. Руки он держал в карманах. Вдоволь наглядевшись на карту, он выругался и твердым шагом свернул в узкую улицу. Голос его был точь-в-точь, как у Ремеша, по прозвищу Шеф.
БАРАБАНЫ
Фарник вернулся домой. С Дриней он расстался в городе.
— Наконец-то явился! Ты и на Страшный суд опоздаешь! Иди-ка скорей к Пастухе! Он хочет с тобой поговорить — батрака-то его в армию забирают. Не пропустил маленькую? А ну, дыхни. — И Фарничка уже сунулась к мужу, но тот бросил на нее злобный взгляд и замахнулся. — Ах, ты драться? Ну, знаешь ли! — Фарничка успокоилась, не учуяв запаха паленки. — Сбегай к нему! Только смотри не продешеви! Все нынче дорого — война, не забудь. И девчонка у тебя на выданье. Что зятю-то дашь?
— Какому еще зятю? — остолбенел Фарник.
— Обыкновенному. Когда-нибудь выйдет замуж, вековухой не останется. Пятнадцать лет ей, годика через два, глядишь, и под венец пойдет, об этом уже теперь надо думать. Кстати и дом побелить, крышу залатать, а ты не больно-то обо всем этом заботишься. Пьянчуга! Тебе лишь бы глотку залить!
Ни к чему все это. Пронзительный голос жены ввинчивался в голову Фарника с немыслимой скоростью. Сколько лет прожили вместе, а он никак не привыкнет к ее голосу. Ни к чему все это. Да что поделаешь — не развенчаешься теперь. Пастуха звал? Вот так новость! Фарник встал. Он был голоден, но не попросил жену накормить его. Пастуха звал? Вот так новость!
Жена вышла за ним на улицу. Фарники ничего не скрывали. И тут вся деревня тотчас узнала, что Фарник не должен продешевить, потому что нынче все вздорожало из-за войны, опять же — дочери пятнадцать лет и дом небеленый, прохудилась и крыша. Все это разносилось по дворам, проникало через стены планицких домов, а остальное поглотило журчанье речки, заросшей по берегам ольшаником.
Фарничка победоносно стояла посреди дороги как статуя. Муж шагал на верхний конец деревни к каменному дому. Фарничка видела этот дом и трехэтажную мельницу позади него. Никогда ей и в голову не приходило, что она с таким удовольствием будет глядеть на эти здания.
— Добрый день!
Пастуха, не оглядываясь, предостерегающе поднял палец. Он сидел на стуле у запруды и смотрел в клокочущую прозрачную воду.
Фарник осторожно приблизился к нему.
— Молчи и гляди хорошенько! — прошипел мельник.
Затвор был открыт. Зеленоватая вода, бурля, скользила по бетонному стоку, кружилась воронками, била, словно ключом, со дна, разливалась широким кругом и убегала меж высоких берегов.
Над водой нависла туча мошкары. Солнечные лучи, прорвавшись сквозь листву старых ольховых деревьев, падали на пруд. Там, где легли тени, вода была темнее. В солнечных бликах мошкара мелькала серебристым пухом. В тени же оставалась мошкарой.
Из воды выпрыгнула форель. Рыбка полумесяцем блеснула в воздухе и шлепнулась в пруд.
Пастуха и Фарник переглянулись. Пастуха первый поглядел на Фарника, приподнял брови, выставил вперед подбородок.
— Молчи и гляди знай!
В стоке мелькнул желтый лист вербы.
Рой мошкары неутомимо кружил в жарком усыпляющем воздухе. Веки слипались, дыхание становилось ровнее. Падающая вода тонко, предостерегающе звенела. Громче всего этот звук слышался над водопадом в белом тумане водяных брызг. То ли это пел неутомимый рой мошкары, то ли ветер в ветвях старых деревьев. Но он присутствовал всюду, как солнце.
И не мешал тишине.
Не мешали ей и два человеческих лица. Одно — смуглое, с грубыми чертами: нависший на лоб клок волос, брови, полуоткрытый рот, черная щетина на подбородке, — недоумевающее лицо терпеливого человека, готового ждать и молчать в этом затерянном уголке мира.
Лицо и круглая большая голова второго блестят от пота. Этому все ясно, здесь для него нет тайн, и все его мысли здесь, где и он сам. Ему понятен звенящий предостерегающий звук, который доносится отовсюду, и вода, скользящая и бурливая, и рои мошкары, и старый ольшаник. Он только боится, что его оторвут от запруды и вся картина после этого замутится, словно глаза больного, поэтому он и велел смуглому глядеть и молчать.
По воде расходятся круги.
Расходятся и исчезают, а звенящий звук стоит в воздухе. Это даже не звон, а скорее тонкий-тонкий свист. Он едва слышен. Но он присутствует всюду.
— А-а-а! — зевнул Пастуха. — Все это мое, Фарник, — показал он на зеленоватую воду. — Сидеть бы так, ни о чем не думать, глядеть и глядеть. Это все мое.
Фарник сидел на корточках. У него затекли ноги, и он опустился на траву. Бросил в воду сухую веточку.
— Рыба выпрыгнула и сожрала мошку. Глупые они, если позволяют себя жрать, — задумчиво произнес Пастуха.
— Природа.
— А чего они выше не поднимаются? Места там много. Будь я мошкой, только бы меня и видели! Лишь бы от воды подальше! Я бы летал высоко!
— Вас бы птицы сожрали! Ам — и нет вас.
— Вишь ты! — Пастуха озадаченно посмотрел на Фарника. — Плохо мошкаре, всяк сожрать норовит. И правильно, на то она и мелковата. Рыбы тоже жить хотят — ну и пускай мошкару жрут. А-а-а, такой рыбе лучше, чем мошке, да-да. Так?
— Конечно! — Фарник начал сомневаться в словах жены, в наказе Пастухи.
— Жарища!
Пастуха вытер лоб.
— Н-да. Парит.
— Парит? — Пастуха посмотрел на небо. Это был новый повод для ленивых размышлений. — Небо чистое. Но вот выплыло пятнышко, глядишь — тучкой стало. Ветер подул, и изволь — радуйся! Полил дождь.
Фарник обхватил поджатые колени и положил на них черный подбородок.
— Ну, так, значит, ты пришел.
— Жена мне сказала.
— А-а-а, я ей наказывал. Она говорила, что ты в городе был. Карту видел?
— Видел.
— Что же ты скажешь?
— Да ничего. — Фарник пожал плечами и вытянул ноги.
— Немцы своих коммунистов разогнали, что верно, то верно, а войну-то все-таки проиграют. Проиграют, это я говорю! Америка, Фарник, свернет шею Гитлеру, а не твоя Москва! Запомни! И на это ты ничего не скажешь?
— Ничего.
— Что-то ты не в себе. Видать, не дает тебе что-то покоя, вот как мошкаре этой. Знаешь, что моего батрака в армию берут?
— Слыхал.
— В прошлом году я ему отсрочку выхлопотал, комиссия посговорчивей была. А нынче ни в какую! Война, Имрих мой — парень подходящий. Войне мужчины нужны. Хоть бы их, как этих мошек, было, — все равно мало. Так вот, Пастуха, говорю я себе, война и тебя не обошла. Имрих был парень неотесанный — дубина. Я из него человека сделал, а теперь его забрали. Кого взять? Да тут Фарник есть, мыкается по свету, в лошадях смыслит.
— Смыслю.
— Ну, ведь я тебя знаю. Что же ты скажешь?
— Попробую.
— Правильно.
— Надо договориться.
— Вот-вот! Это по-моему — договориться! Всякий знать должен, что и как. Пошли в дом. Не все сидеть тут, около рыбы.
Пастуха поднялся и зашагал впереди Фарника к каменному дому. А когда Фарник с ним поравнялся, Пастуха пристально уставился на него. Поглядел-поглядел, потом сказал:
— А стул ты мне не принесешь?
Фарника это удивило, но он сбегал к запруде.
Ему ли договариваться о чем бы то ни было с Пастухой? Он только слушал.
Фарник хорошо знал, что не мед это будет, но хоть по свету больше мыкаться не придется. Так оно и вышло. Он покинул каменный дом почти довольный и беззаботно зашагал по деревне.
Уборка шла полным ходом. Ячмень уже Фарник сложил в амбар, пшеницу еще не снимали. Разика два обернуться с коровами, и все будет убрано. У Лукана пшеница тоже еще в поле. На двух коровах — Лукана и его, Фарника, — управятся за день. Пожалуй, и без мужиков обойдутся. У Лукана и так работы на дороге по горло, а Фарник с завтрашнего дня пойдет молотить. Со двора на двор — и так до половины сентября. Молотили разве когда в Планице и чтобы Фарник колесо не крутил? Не было еще такого! Фарнику приятно об этом думать, он будет крутить колесо до середины сентября. Потом две недели — его. Никуда он не пойдет. Дома побудет. Нужно заготовить дров на зиму, подправить крышу. А с первого октября он начнет службу у Пастухи.
— Придешь ко мне первого октября. Вот сюда, в эту кухню. А теперь ступай.
Это были последние слова Пастухи, и Фарник с удовольствием повторяет их, потому что все очень ладно выходит. Он беззаботно шагает по деревне. Вот и Герибан пшеницу везет. Колосья тяжелые, они радуют хозяина. Герибан выступает важно, довольный, как и Фарник, который радуется всему — и солнцу, и дороге, и скрипу колес. А как красиво было у запруды! Серебристый рой мошкары, рыбки, жаркая тишина…
— Последняя? — окликает он Герибана.
Герибан оглянулся.
— Это ты, Фарник? Нет! Еще на один воз осталось. Но до вечера успею.
— Конечно, успеешь.
— Смотри, приходи завтра! На рассвете начнем.
— Приду!
Фарник удивлен. Как мог Герибан усомниться? Кому же крутить колесо, как не ему с Минатом? Это ведь мужская работа. Женщина бы так из сил выбилась, что потом три дня в лежку бы пролежала.
Герибан шагает дальше. Он живет на нижнем конце деревни…
— Хорошо тому, кто по сторонам глазеет. И я бы поглазела, будь у меня времени побольше. Чего легче — глазеть! Ты бы хоть посторонился, милок!
Жена Микулаша, повязанная платком, с ребенком в холстине, вела коров, запряженных в телегу.
— Посторонюсь, так и быть. Подай-ка сюда кнут!
— А на что он тебе?
— Тебе помочь?
— На! — Она отдала кнут Фарнику. — А этого взять не желаешь? — И Микулашова протянула ребенка. — Не хнычь, не донимай меня. Ш-ш-ш… ш-ш-ш…
— Себе оставь, мне своих хватает. Детей ведь сделать нетрудно. Правда?
Микулашова вспыхнула.
— У вас, мужиков, одно это на уме. Сил нет спесивость вашу терпеть. И слова вам не скажи. А скажешь, так со стыда сгоришь. И мой точь-в-точь такой же.
— Как он поживает?
Фарник заглянул к себе во двор — не видно ли там жены или кого из детей. Он хотел крикнуть, что через час будет дома. Но во дворе было пусто.
— Мой-то? А чего ему делается? Посидит, походит, опять посидит, поворчит — и так целехонький день. Скорей бы уж гипс этот сняли. Не хватало мне еще собственного мужика обхаживать!
— Нога-то не болит?
— Да не болит. Пора бы зажить ей, срастись. Ягодка! — прикрикнула Микулашова на корову и, подбежав, хлопнула ее ладонью по шее. — Не желает тащить. Станет, а за ней и вторая, и таращатся обе по сторонам. Просишь их, бьешь, а они ни с места. Хоть тресни! И еще дитя вот!
— Все минет, Ката. И не заметишь, как все минет.
В этот четверг ничто не могло омрачить Фарника.
А вот и двор Микулаша.
— Давай мне кнут, а сам берись за дышло. Я подхлестну.
Фарник отдал кнут Микулашовой, взялся за дышло и стал поворачивать его вправо, во двор.
— Гей, гей, Малинка! Гей, Ягодка! Пошли, чего стали! Не реви ты, шш-шш, гей-гей! Не реви! — баюкала Ката младенца, а коровы с помощью Фарника заворачивали с телегой в ворота. Взбираться на бугор было тяжело, да еще и камень под колесо подвернулся. Телега накренилась, того и гляди, завалится. Но Микулашова пнула камень ногой. Охнула, но отпихнула. Коровы учуяли хлев. В хлеву тихо, никто на них не кричит, Длинной палкой по бокам не бьют, ремни не стягивают, не обжигают кожу. Коровы вздохнули, закрыли большие глаза и подтащили воз к амбару.
— Справились!
Микулашова смеется и качает ревущего ребенка.
— Справились! Сама гнет затягивала?
Фарник схватился за гнет, повис на конце.
— Да нет, Герибан.
— Ну, иди иди! Покорми малыша, а я пока снопы сброшу.
— Ладно. Молока тебе вынесу.
— Лучше простокваши немного. Пить хочется.
— Нет у меня.
— Тогда воды. Все внутри пересохло.
Двери дома Микулашей открыты настежь. Хозяин Винцо с кем-то ссорится.
— Здесь была моя палка. Куда вы ее задевали?
Микулашова подошла к дверям.
— Чего тебе?
— Палки нет. Твои ребята вечно все растащат.
— Что мои, то и твои. Вон она.
Микулашова показала на землю.
— Принеси-ка ее, бандит! — прикрикнул отец.
Из дому выскочил мальчуган лет семи в черных трусиках. Он подал отцу палку и, подпрыгивая, словно козленок, убежал на улицу.
Фарник тем временем выпряг коров и привязал их в хлеву. Он хотел было снять гнет, но тут подошел Микулаш — смуглый человек с маленькими колючими глазками под косматыми бровями, ростом выше Фарника на две головы. Микулаш опирался обеими руками на палку. Он стоял на левой ноге, подогнув правую. Вся ступня была в гипсе, выглядывали только пальцы.
Не здороваясь, он кивнул Фарнику и улыбнулся.
— Больной! Не сидится тебе на печке?
— Отстань! Второй месяц валяюсь. Кто это вытерпит?
Прихрамывая, он добрался до Фарника.
— Помочь тебе?
— Ногу еще повредишь! Спохватишься, ан уже поздно, и конец тебе. Без ноги нельзя жить, Винцо.
Фарник отпустил цепь. Громыхая, она тяжело упала на землю.
— Конец мне? А сейчас мне не конец?
Фарнику не хотелось его слушать. Он снял гнет и понес к амбару, чтобы поставить его там, у стены, но укоризненный голос Микулаша настиг его.
— Всему приходит конец. Не сегодня, так завтра. Не сбылись твои пророчества, ни одно не исполнилось. — Микулаш язвительно рассмеялся. — Я уже ошалел от всего этого. Нога заживет, гипс снимут. Ладно. А дальше что? Я не знаю. А ты догадываешься почему?
Фарник швырнул вилы на телегу и встал на дышло.
— Потому что ничего хорошего впереди не вижу. Ни старости своей, ни детей взрослыми — ничего, словом, себе представить не могу. Ничего! Сижу целыми днями и думаю. И ночью от дум голова кругом идет. Все мозгами и так и этак ворочаю! А кому до этого дело? На свете все идет своим чередом. Вот я и думаю: ты не понимаешь, о чем я сейчас говорю.
Фарник поднимает снопы, швыряет их к дверям амбара. Шелестит солома, осыпается, ломаясь, ость, а отдохнувший Микулаш все говорит и говорит.
— Мир не заслужил еще коммунизма. Ему прежде надо кровью умыться. Может, тогда заслужит. Но это уж сказки.
— Не выдумывай!
— А мне показалось, что ты онемел, — насмешливо говорит Микулаш. — Вот ты сказал: не выдумывай! Будь у тебя столько времени, как у меня, и ты бы дошел до того же самого. Это точно. Мир еще не заслужил коммунизма. Делай, что хочешь — злись, кричи, а ничего не поправишь. Хватит. Бедноте останутся сказки, мечты глупые. Ошалел я от всего этого… — Микулаш умолк. Оглядел двор, — где бы сесть. Должно быть, нога заболела.
Между дверями амбара и хлева стоят козлы. Микулаш ковыляет туда и садится. Фарнику это неприятно. Они смотрят друг другу в глаза. Он стоит высоко на возу, и это еще хуже. Поддев деревянными вилами сноп пшеницы, Фарник высоко поднимает его и со всего маху бросает к дверям амбара.
— Видал я долговязого Леммера с гитлерюгендом. Опять с барабанами прошли по деревне. Это они с умыслом делают, страх, что ли, на людей нагоняют. Я от этого и ошалел. Поглядел так на него, — пускай запомнит. Но все это сказки. Не стоит себя мучить. Дриню не видал?
— Видал.
— Что он говорит?
— Что? Будто ты его не знаешь!
— Он давно ко мне не заходил. Милый мой, все до поры, до времени. И усердие его тоже. Коммунизм Дрини, милый мой, тоже сказки. Он хорошо учуял, что будет. Торгует теперь, барышничает, а может, он и прав. От этого и ошалел. Они заспорили.
— Не верю я! Это все сказки! Отстань ты от меня! А если был в городе, как ты говоришь, скажи-ка лучше, видел ты эту карту?
— Видел.
— Фарник! — Микулаш слез с козел и торопливо, тяжело дыша, приковылял к фуре и обеими руками вцепился в обрешетку. — Фарник! Далеко они от Москвы?
— Далеко.
— Мне ты можешь сказать правду!
— А я ничего от тебя и не таю.
И Фарник подумал о трех стрелах. О них Микулаш не должен знать.
— Москва — вот что самое главное. Туда их никак нельзя допустить. После этого всему конец… Ничего я не понимаю. — Микулаш покачал головой и снова отошел к козлам. Усевшись, он ударил палкой по гипсу, ударил еще раз. — На будущей неделе велю отвезти меня в Правно и попрошу доктора снять гипс. Терпенья моего не стало, сейчас нужно быть здоровым. Иначе ничего не выйдет.
Микулаш брезгливо скривил губы, глядя на грязно-белую гипсовую повязку, и угрожающе насупил косматые брови.
Когда Фарник уходил, жена Микулаша выбежала из дома.
— Господи, что ж это я! И воды-то тебе даже не принесла. Хоть разорвись — столько дела! Спасибо! Потом сочтемся, — сказала она и обратилась к мужу: — Да не стой ты, сядь! Потом хныкать будешь. Кому тебя слушать охота? Этак и до Страшного суда от гипса не избавишься. Прирастет, пожалуй, либо антонов огонь прикинется. Спаси нас, господи, от всякой напасти!
— Аминь! — пробасил Микулаш. — Иди в дом, слышишь, дитя твое надрывается.
— Пускай! И твое орет. Что твой, что мой.
Фарник ушел. Пусть покричат. Радостные его чувства улетучились, снова стало внутри пусто, словно в больном дуплистом дереве. Солнце сияло ярко, но больше не радовало. Вот здесь живет Минат, друг и товарищ Минат, его сверстник, они родились в один год. Завтра они встретятся в риге у Герибана. А вот и Минат, везет снопы на коровенках, но Фарник с ним еле поздоровался. Пробурчал что-то отяжелевшим языком, руку не поднял. А когда он заводил коров Микулаша во двор, его согревала мысль, что он может помочь семье, попавшей в беду. Согревала, но больше не греет. С завтрашнего дня он будет крутить колесо, молотилка будет греметь, бренчать, он наглотается пыли; в волосы, в глаза и за потную рубаху сколько мякины набьется! Тело от нее зачешется, будто от вшей. А с первого октября к Пастухе. Ну что толку, что толку от всего этого? Он живет день за днем, лишь бы как-нибудь прожить и дышать. А человеку этого мало. Что такое? Бьют в барабаны? Да, бьют в барабаны. Это возвращается голенастый Леммер, а ему, Фарнику, некуда убежать от него. Барабанный бой пронизывает стены и землю, и нельзя убежать от Леммера. А от жизни убежать можно? От какой жизни? Микулаш говорит, что ничего не видит в будущем, не представляет себе своей старости, своих детей взрослыми. Что это значит? Как Микулаш до этого додумался? Ничего более интересного и более правдивого в последнее время Фарник не слышал. Точь-в-точь то же самое чувствует и он с той поры, как не сбылись предсказания Дрини и Красная Армия стала отступать. Он не сумел так точно выразить свои ощущения, как Микулаш, и потому не понимал себя. Он не понимал, что нагоняет на него уныние. Это война! Ладно. Где-то далеко горят города, леса, гибнут люди, где-то далеко от Планицы. Здесь люди еще смеются, женятся, здесь еще живут, война идет где-то за горами и с каждым днем уходит все дальше от Планицы.
Фарник чувствовал, что это состояние неестественно, временно, и понимал, что потом должно настать нечто ужасное. Он предчувствовал это. А когда пришли новости о фашистских расправах в Праге, когда он смотрел на карту Киршнера, он понял многое, и его охватил страх. Теперь он знает все. После слов Микулаша он понял все. Он понимает себя, понимает, что нагоняло на него уныние. Разлетелись все радостные чувства, он пуст внутри, как дуплистое, трухлявое дерево. Он знает почему. Гитлерюгенд под началом Леммера сейчас бьет в барабаны, маршируя к каменному дому Пастухи. Пастуха! Первое октября! Микулаш ничего не видит в будущем, не видит своей старости, взрослых детей. Да и он, Фарник, носит в себе ту же мысль, то же самое пророчество. Неясно, туманно, но он думает то же самое, ничего другого. По какому праву люди в Планице продолжают смеяться, жениться, по какому праву живут прежней жизнью? Они ничего не предчувствуют? Они… не задумываются? Разве им все равно, что делается на фронте? Обманывает их расстояние? До такой степени обманывает? Можно ли быть настолько слепым? Возможно ли это? Марширует гитлерюгенд под началом Леммера. Сейчас они перед домом Фарника. И жена его вышла на улицу. Она молча всматривается. Тра-та-та, тра-та-та-та, бумм! Раз, два, три, четыре! Айн, цвай, драй, фир! Собака Леммер, голенастая собака Леммер! Что он видит в будущем? Свою старость, своих взрослых детей? А те, что маршируют, видят они что-нибудь в будущем? «Быть коммунистом, товарищи, — значит смотреть вперед!» Так сказал Дриня на последнем, уже тайном собрании партии в Планице. Они собрались в передней комнате у Микулаша через три дня после запрещения компартии. И смотреть вперед сейчас больно. Быть коммунистом сегодня тяжко, выше человеческих сил. А Микулашу немного надо, хватит и одной искорки. «Фарник! Далеко ли они от Москвы? Москва — это самое главное, туда их нельзя допустить!» Гитлерюгенд под началом Леммера проходит уже рядом с ним, бьет в барабаны. Это под барабаны марширует капитал, ведь он силен, и у кого-то в этой войне вышла промашка. А Микулашу искорки достаточно! На следующей неделе он поедет в Правно, увидит там карту, три стрелы. Что-то он тогда скажет? А сам-то я долго ли выдержу? Я раздвоился. Сам в отчаянье, а остальных подбадриваю, на Микулаша кричу, чтобы он не смел выдумывать, а на языке вертится: ты прав, Микулаш, так оно и есть. Человечество не заслужило еще коммунизма, оно должно прежде умыться кровью. Что мешает мне сказать ему это? Нет, я всегда буду кричать на Микулаша, никогда с ним не соглашусь, никогда! Почему? Опять я не понимаю, сам себя не понимаю. Куда проще сказать все, что просится на язык! Язык! Откуда он это берет? Он сам не думает, откуда же он все это берет? Из головы, из мозга? Или это сидит где-то в душе? Душа? Это поповская выдумка. Религия — опиум для народа, я верю Ленину. Сердце? Сердце! Как связано сердце с мозгом, мозг с сердцем? И как связан с ним язык? Провалиться бы всему этому в преисподнюю, хватит так безбожно мучить себя!
— Дай мне поесть!
— Ишь какой прыткий! Нет, чтоб поздороваться, а только и знаешь орать, как на собаку, — огрызается Фарничка с дороги.
— Помалкивай.
— Смотри не лопни! — Но Фарничку смутило странное лицо мужа, и она умолкает. На языке у нее вертятся вопросы о Пастухе, о голенастом Леммере, не дают покоя, а ей приходится пересиливать себя и молчать.
Ночь, как вода, унесла с собой все волнения. На заре Фарник проснулся.
Планица вставала рано. По улице прошли три женщины. Фарник издалека не узнал их. Охватив полнеба, занималась яркая зорька. На бледно-зеленой от росы траве пробежавшая собака оставила пятна следов. А может, это лисица? Э-э, да что делать лисице в деревне летом? Собака бегала! Собака или кошка! Кричат петухи. Воздух свежий. Небо ясное. «Если б я был мошкой…» — вспомнился Фарнику Пастуха.
К риге Герибана Фарник пришел не первым. Ворота были уже отворены. Во дворе — две скирды снопов, на гумне молотилка. Фарник поздоровался.
Женщины встретили его визгом, одна воскликнула:
— Третий!
Он не понял, к чему она это сказала. У молотилки стоял Минат. Фарник подошел к нему. Они поздоровались за руку. Минат сказал:
— Бабье! По-другому не умеют, всегда кучей стоят. В костеле, в корчме ли, на молотьбе. Заметил? И всегда зубы скалят. Бабы — бабы и есть.
Хозяина не было видно.
Пришел маленький Мрачко. Пиджак перекинут через плечо, словно у парня. Он улыбается, быстро вертит головой, как воробышек. Что-то жует.
Женщины завизжали. Одна крикнула:
— Четвертый!
— Какие там четверо! Три с половиной! Не видишь, что ли, какой он недомерок!
— У, язва! — обругал женщину Мрачко и сплюнул черную слюну.
— Жвачка!
— Пятый!
Из дому вышел Герибан с бутылкой.
— Будет чем червячка заморить, кум несет, — сказал Мрачко и поздоровался с Минатом и Фарником.
Все женщины, и молодые, выпили по рюмочке. Мужчины — по две. Герибан отнес бутылку в кухню. Вернется — и можно начинать. Минат и Фарник сняли пиджаки, повесили их во дворе на забор, засучили рукава.
— Ишь мускулы-то у тебя! — сказал Минат, обращаясь к Мрачко.
— Надрываешься, как вол, с утра до ночи, а толку что? Мускулы! Ты, Минат, тоже насмехаться любишь. Минат — он и есть Минат.
— Ты послушай его, Фарник! Я с ним как с человеком, как с партийцем…
— Ну ты и ловок выворачиваться! Как с партийцем! Пора бы забыть об этом. Глаз у тебя нет? Не видишь? — Мрачко опять сплюнул.
— На́ тебе!
— Оставь ты меня в покое! — Мрачко отошел и закричал на женщин: — Эй, вы, язвочки! Кто со мной наверх пойдет?
— Я.
— Глаза бы мои на тебя не глядели. На что ты там нужна, старуха!
— Жвачка!
Раздосадованный, Минат задумчиво поглядел на Мрачко и сказал с сердцем:
— Как есть баба! Поставь его среди них — и не разберешь, где кто. Баба и есть! Давай, Фарник, поплюй-ка на ладони, вон хозяин идет. К черту и работа вся полетит! Такой недомерок на весь день настроение испортит. Где ты хочешь стоять?
— Мне все равно.
— Ладно! Я стану сюда. Ладно, сюда так сюда. К черту и всю работу! — проворчал Минат и добавил, обращаясь к женщинам: — Будет вам спорить. Начинать пора!
— Правда твоя, Минат. Кому еще лезть вперед-то? Ты что, дома?
Разъяренный Минат поднял было кулак, открыл рот, собираясь осадить Мрачко, но только махнул рукой.
— Я сейчас готов на стену лезть из-за невесть какой пустяковины. А Мрачко — баба. Может, оттого и табак жует, чтобы мужиком себя показать? Начали!
Фарник и Минат повернули маховое колесо молотилки.
Барабан закрутился, загремел. Заходили ходуном сита. Молотилка звякнула, отчетливый резкий стук разнесся по всей деревне. Мрачко подал первый сноп. В барабане зашуршало. Веялка выбросила мякину. Охапками полетела на землю солома. Сита просеивали зерна пшеницы. Герибан сгреб их, пересыпая в ладонях, и кинул несколько зерен в рот. Он был доволен.
Руки, держащие ручку колеса, описывают точный круг. Два тела то наклоняются, то выпрямляются. Через некоторое время привыкнут руки, ноги и мышцы живота. Немного поболят, потом окрепнут. В них не останется ничего человеческого, они сделаются частью гремящей машины. Наклон — круг, наклон — круг. И так до самого вечера, и так до половины сентября. Все в этом году запаздывает. Природа, а с ней и люди. И все это от ужаса перед тем, что творится в мире и что еще будет. Уже многое произошло, и многое еще должно произойти.
«К черту такую работу! — думает Минат. — Где-нибудь молотилку крутит электричество либо мотор, а здесь мы с Фарником надрываемся, словно лошади. Но если бы здесь было электричество, мы с Фарником снова сидели бы без работы. И этак плохо, и так скверно. Глупо устроен мир. Фарнику хорошо, он хоть на время устроился. Пастуха нанял его к себе. Само собой, ведь Имриха берут в армию. Война! О чем бы ни думал, все она приходит на ум. Лучше бы всего ни о чем не думать. А кто так сумеет жить? Хотел бы я видеть такого волшебника. Разве что бабы так живут. Если можно прожить не думаючи, от всего как-то убежать, ослепнуть, оглохнуть, но не совсем, понятно, а только так, чтобы видеть и слышать одно хорошее да красивое. Кто так сумеет? Оставлю такие мысли, они ни к чему не ведут».
И Минат заговорил с Фарником:
— Я слышал, тебя Пастуха к себе в работники нанимает?
— Верно. Мы вчера договорились.
— Это хорошо. Без дела шататься не придется, у кого попало работу просить. Пастуха — сума переметная, как говорится, и нашим и вашим, но с ним можно поладить… Я его, шельму, еще мальчишкой помню, и тогда уже он был этакий скользкий. Из Америки вернулся щепка щепкой. А дома опять откормился. Тебе повезло.
Наклон — круг. Наклон — круг…
Женщины сгребают солому. Хозяин поддевает ее деревянными вилами и закидывает на чердак. Летит мякина. Герибан жмурится.
Молотилка гремит, издавая отчетливый, резкий стук. Ее слышно далеко вокруг, за садами, в полях, до самых гор.
Наклон — круг…
— Тебе повезло. За лошадями ходить ты умеешь, что еще надо. А я все по-старому: тут ухвачу, там ухвачу, потом дня три простаиваю. Ты и сам знаешь. Слыхал я, что осенью будут нанимать на работу в лес. Стану лесорубом. К черту такое дело! Опять же война. Лес-то для немцев пойдет, а как скажешь «немец», так будто сказал «война». Противно.
Наклон — круг…
— Чего улыбаешься, будто знаешь что-то. Ну, говори.
Молотилка гремит, издает отчетливый резкий стук. Он чем-то напоминает барабаны Леммера.
— Война тянется уже четырнадцать месяцев, товарищ Минат, а Москва все еще стоит. И вторая зима не заставит себя долго ждать. Не заставит. И не заметим, как все вокруг будет белым-бело. Или…
И Фарник словами Дрини заговорил о воде, о давлении, говорил быстро, уверенно, чтобы не думать о барабанах Леммера, которые гремели в дребезжащей молотилке.
Минат пал духом, и Фарнику теперь это было непонятно. Но он знал, что сперва все должно улечься в голове Мината, как улеглось в его собственной.
МЕРТВЫЕ НЕ ПОЮТ
— Вылитый Христос!
Кляко смотрится в зеркальце и качает головой, выставляя вперед заросший подбородок. Бородка густая, рыжеватая, аккуратно подстрижена вровень с уголками губ. Бреясь, он обычно говорит: «Если я отпущу бороду, увидите — буду рыжий, как лиса. Волосы у меня каштановые, а на лице — рыжие. Может, вы знаете, почему это так?» Серьезно над этим он не задумывался. И когда борода в конце концов отросла, он часто гляделся в зеркальце и говорил себе: «Вылитый Христос, — втайне ненавидя эту рыжину. — Творить чудеса я не умею, и потому меня назначили командиром батареи».
За тем же столом сидит поручик Кристек, подперев голову руками. Он сидит здесь с утра и просидит так до ночи, а если его о чем-нибудь спросить, грубо выругается и опять будет упорно молчать.
«Он кончит тем, что спятит», — думает иной раз Кляко. Они стоят на этой огневой позиции два месяца. Уже несколько недель он, Кляко, командует второй батареей, наивно полагая, что обязан интересоваться душевным состоянием своих подчиненных.
— Кристек! Почему тебя не сделали командиром?
Поручик Кристек не отвечает.
«Н-да, так оно и должно быть. Кристек должен сидеть молча, подпирая голову руками. Обязан ли он отвечать Кляко? Нет, не обязан! А почему нельзя спросить Кристека, тем более зная, что тот не ответит?»
— Что бы ты сделал, став командиром?
Кляко знает, какой последует ответ, и потому теребит бородку, сожалея, что через вход в блиндаж не проникает солнце. Тогда было бы видно, как сыплется перхоть.
— Дерьмо! — смачно отвечает Кристек, и кажется, что вокруг начинает вонять. Поручик громко хохочет и потом еще долго сидит, ухмыляясь.
Раньше Кляко думал, что это новые проявления безумия, и лишь недавно убедился, что Кристек вполне серьезно и даже наслаждаясь представляет себе, как к нему приходят солдаты и добиваются от него хоть словечка. А он ничего им не отвечает. Солдаты вызывают командира дивизиона, тот — командира полка, все стараются вытянуть из Кристека хотя бы слово. А ему плевать, он не скажет ничего, он будет молчать даже перед генералом. Он ничего не скажет, не поднимется из-за стола, пальцем не шевельнет, чтобы взять телефонную трубку, не отдаст ни одного приказания. А ночью ляжет на нары и будет спать, сколько ему вздумается. Потом он снова сядет на свое место, ординарец принесет ему жратвы, а иной раз и немного рому. Он выйдет из блиндажа только за нуждой, да, выйдет, потому что его нужда важнее всякого генерала и любого военного начальства… Все это однажды пьяный Кристек рассказал поручику Кляко, и тот его понял. Кристек теперь пил, и было бы что — пил бы не меньше Гайнича. От прежнего Христосика ничего не осталось. С тех пор как он научился пить и похабно ругаться, беззаботно отсиживаться в блиндаже, Кристек завоевал симпатии солдат. Он забросил свои каски и дал под зад коленкой ординарцу, запретил приносить ему в блиндаж эти ночные горшки, видеть он их не может. Никто не называл его теперь Христосиком, в этом не было нужды.
— Что-то Гайнич поделывает? Что делает этот калека, этот герой, кавалер Железного креста? — спрашивает Кляко и сам себе отвечает: — Кутит, — и умолкает.
После этого он прячет зеркальце в нагрудный карман, ерошит бородку. Взглянув на Кристека, тотчас же отворачивается и думает: «Нельзя на него смотреть. Я возненавижу его. У него всегда одно и то же выражение лица, и это действует мне на нервы. Он, правда, не виноват, но я-то тут при чем? За что меня заставляют вечно на него смотреть? Может, я его уже ненавижу. Всегда одно и то же лицо! Тот же самый стол, нары, застеленные зелеными и черными одеялами. Когда я завтра проснусь, все повторится». И Кляко озирается, будто впервые попал в этот блиндаж. Он в смятении. Если он будет глядеть на Кристека и дальше, не прекратит этого занятия, смятение перейдет в страх, и тогда он, Кляко, сделает какую-нибудь мерзость, например, даст Кристеку в морду или… все может статься. Дело не только в одной проигранной жизни.
— Привет, господин Виттнер. Вот так сюрприз! — И Кляко недоумевает, не понимая, откуда взялся призрак, и именно сейчас, когда это всего опаснее. — Удобрили вы высотку триста четырнадцать? Безусловно! Ну вот, видите, а то некоторые утверждают, что от этой войны один только ущерб. Я по-прежнему воюю, тяну, в общем, лямку, как говорится, и могу выдать вам секрет: все это у меня в зубах навязло. Но это дело давно известное. Старина Гайнич смылся. В один прекрасный день бросился в санчасть, а оттуда отбыл со славой в Vaterland, unter die Hohe Tatra, unter das schönste und höchste Gebirge der Slowakei[59]. Он благодарит вас за Железный крест и сказал, что напишет благодарственное письмо тому идиоту и педерасту в одном лице.
Ну ладно… А меня назначили командиром второй батареи. Впрочем, все это пустяки, и вам они не интересны. Вы помните, как… Что я говорю! Вы не можете помнить. Словом, мы тогда отступили на всем участке фронта, и наши солдаты радовались, что идут прямехонько домой. И я так по глупости своей думал. Отступали все словацкие батареи. При этом русские взяли в плен нашего командира полка, судетского немца, и с ним еще двадцать словаков. Те, попав в плен, повесили своего командира на первом же суку. Так говорят, и я этому охотно верю, потому что он был первостатейной скотиной. Но о том, что произошло дальше, я мало что знаю. Человек вроде меня здесь мало что знает. Вашим соплеменникам удалось остановить наступление русских и перейти в контрнаступление. Вас это радует, да? Мы все лето проторчали в тылу, извели стопы бумаги на акты о том, как «пан пес потерял свой хвост». Могу сказать точно: семнадцать актов составили мы на брошенные орудия, лошадей, боеприпасы и все прочее. Ну и насочиняли мы там! И я сочинял, да что я! Но у нас тут есть один поручик, Кристек по фамилии. Нет-нет, его вы не знали. От этих актов он совсем пал духом. Бедный парень даже пить начал. Слишком близко принял к сердцу, что мы в этих актах сочинили множество красивых и интересных сказок. Надо же было как-то объяснить наше беспорядочное бегство без оглядки. Нет? На войне и такое бывает. «Немцы догадаются — расстреляют нас!» — даже во сне кричал этот парень. Словом, он совсем пал духом. И запил горькую. Лишь изредка я мельком вспоминаю ваш французский коньяк. Он был великолепен, ничего не скажешь. Боже мой, было же такое время! Пить теперь нечего, просто хоть плачь. И если бы вы знали нашего каптера, господин Виттнер, если бы вы знали его, вы бы только плюнули: тьфу! Мы на Кавказе вот уже третий месяц стоим на месте. Я отрастил бородку и думаю, что принадлежу к поколению, которое от нечего делать проклял господь бог. Ну, пока, пока — и молчать! Я приказываю молчать, черт возьми! Гнить и молчать! Я завидую вам, многоуважаемый господин Виттнер, страшно вам завидую. Вы уже сгнили насколько положено, ваши кости пока не рассыпались, что еще вам нужно? У вас уже все позади. А я вынужден глядеть на Кристека, на его лицо, подпертое руками, встречать его тяжелый взгляд, видеть нары, одеяла, котелки с объедками на дне. Но хотя я начинаю ненавидеть этого Кристека, он все-таки редкостный парень — такого поискать. Принципиальный парень. И боялся он принципиально, хотя со своими двумя касками был посмешищем всей батареи. Он сумасшедший! Сумасшедший ли? Я просто подонок, но всякая душа да хвалит господа, ибо не пробил еще двенадцатый час. Если бы у меня был литр рома, мать честная, мы бы с Кристеком здорово тяпнули. А так я могу только дать ему по морде».
И Кляко заорал на Кристека:
— Пляши, ходи на руках, черт тебя побери, или пусти себе пулю в лоб! Только не сиди! Не сиди, а то я тебя убью!
Кляко вцепился что есть силы в волосы Кристека и оттянул его голову назад.
И что? Что он увидел в глазах Кристека? Что еще было в этом тяжелом взгляде, кроме насмешки?
— Нервы расходились. — И Кляко выпустил волосы Кристека и почему-то вытер руки о штаны.
— Нервы? — насмешливо переспросил Кристек. — Нервы и нервишки.
«Такого парня поискать. А я подонок, потому меня и назначили командиром батареи. Я не смогу сделать то, что сможет он. Сейчас я выйду отсюда и буду гонять солдат за то, что они лодырничают, и первому, кто подвернется мне под руку, влетит больше всех, он расплатится за всю батарею. Вы не верите? Не угодно ли вам пойти за мной, потому что командиру положено быть впереди. Герр командир! Вы и этому не верите? Прочитайте приказ по полку за таким-то номером, от такого-то числа. Я не помню. Можете уточнить это в канцелярии. Но канцелярия довольно далеко отсюда, до нее шесть километров, потому что начальство всегда тащится позади. Там не так пыльно. Можете выяснить и по телефону. Вызывайте «Софью». Вот и все. И не угодно ли вам последовать за мной?..»
Командирский блиндаж был вырыт прямо на огневой позиции. Солдатские блиндажи охватывали его подковой. Этот полукруг замыкали четыре орудия. Опушка старого дубового леса, луг, рыжий, пожелтевший луг, местами серый, потому что сейчас конец января и трава пожухла от ночных морозов.
Снегу нет.
Он идет часто, но тут же тает на солнце.
Солнце светит, но в воздухе еще прохладно, хотя скоро полдень. Видимость очень хорошая, однако здесь это не играет роли. Впереди несколько холмов, поросших лесом, вправо и влево такие же холмы, и все они рыжие, ржавые и местами серые, как и луг перед огневой позицией.
Деревья без листьев.
Ведь сейчас конец января.
Телефонист сидит под старым дубом на пустом снарядном ящике. Он сгорбился, утонул в овчинном тулупе, в лицо ему светит солнце. Заслышав шаги у командирского блиндажа, телефонист приоткрывает глаза и тотчас же зажмуривается.
Кляко стоит перед ним и ждет. Ждет долго.
— У меня времени достаточно. Я жду, когда ваша милость, — Кляко повышает голос и говорит все быстрее, — соблаговолит подняться с места и отрапортовать по всей форме.
Солдат встает, отдает честь, докладывает, что на НП происшествий не было, и затем насмешливо добавляет:
— Ну и что?
Они одного роста.
Орудийные расчеты роют землю. Теперь все бросают работу.
— На НП ничего нового. И не звонили даже оттуда?
— Нет, не звонили. Ну и что?
— Молчать!
Кляко сейчас куда больше занимают землекопы, чем издевающийся над ним телефонист. В конце концов тут происходит нечто интересное. Не понимая, в чем дело, Кляко медленно подходит к солдатам и с любопытством спрашивает:
— Копаете?
— Копаем.
— А зачем копаете?
— Так. Просто так.
— А почему не вот так?
Кляко показывает рукой поперек свежего окопа. Все молчат. Никто не смеется. Копают все орудийные расчеты и молчуны-ездовые тоже. Четыре окопа — четыре орудия! Четыре окопа метровой глубины. Земля! Одна земля, черная и желтая, без единого камушка. Солдаты усердно копают. Должно быть, они спешили — утром этих окопов еще не было. Зачем они копают, почему торопятся? Солдаты чего-то боятся. «Меня?» Кляко озабоченно спрашивает:
— Кто распорядился?
Между ним и солдатами разверзлась прежняя пропасть, которую он видел и ощущал во время долгого похода на фронт. Или они стали старше, огрубели, а может, с ним произошло что-то похожее? И без того он уже не в силах видеть застывшее лицо поручика Кристека, какое утешение могут ему дать эти крестьяне? Это ведь крестьяне! Такой крестьянин пашет свою землю, добивается от нее нового и нового урожая. И так из года в год, всегда, вечно. И он всегда будет гнуть над ней спину, а если земля позволит ему распрямиться хоть на миг, даже и тогда спина его останется слегка согнутой. И руки его делаются длинней. Вон там копает землю Лукан. Что из того, что они из одной долины, что Лукан знает его сестру и что они три недели по-братски делили хлеб и сигареты? Что из того! Когда-то это имело значение, представляло какую-то ценность, могло быть важно, но в то время Кляко был уверен, что это подлое предприятие скоро кончится. Тогда он еще не знал, что принадлежит к поколению, проклятому богом. Теперь и слепому видно, что эта война сильнее человека, сильнее людей и их желаний. Мечтать, как прежде, цепляться за прежние представления — значит попусту тратить силы и раньше времени копать себе могилу. Война раздавит всякого, никого не пощадит. Для чего же солдаты роют землю и почему делают это с таким воодушевлением? Откуда это воодушевление? Ведь воодушевляться может лишь тот, кому удалось сохранить какие-нибудь иллюзии.
— Кто это вам приказал, ребята?
Их воодушевление все-таки трогательно, и Кляко не находит в себе смелости высмеять его.
— Сами придумали.
— Это просто так, пан поручик. От нечего делать.
— Вы недисциплинированная банда, делаете, что вам взбредет в голову! — И все-таки Кляко не в силах их высмеять, потому что окопы вырыты по строгой системе, в них заключается какой-то таинственный смысл, непостижимый для Кляко и связанный с воодушевлением солдат. — Ну, копайте, коли охота припала!
Кляко сел на лафет третьего орудия и позвал Лукана.
— Рядовой Лукан явился по вашему приказанию!
— Сядь. Сигарету?
— Спасибо!
— Рядовой Лукан отказывается взять сигарету у офицера. Это нам знакомо. Мы это когда-то переживали и пережили. Просить тебя я не стану.
— Я курил…
— Я ничего не говорю. — Кляко обхватил руками колено и стал раскачиваться на лафете. — Помнишь триста четырнадцатую высотку?
— Помню.
— Штрафную роту?
— Реннера? — Лукан встрепенулся.
— Обер-лейтенанта Виттнера.
Лукан исподлобья внимательно посмотрел.
— Я убил его.
— Так я и думал.
Лукан ждал этих слов и быстро на них откликнулся, словно не хотел на них задерживаться.
Это не удивило поручика Кляко. Мысль молниеносно подсказала ему несколько причин, которые позволили Лукану прийти к такому заключению.
— Я никому об этом не говорил и никому не скажу.
— Для чего ты это мне говоришь, рядовой Лукан?
— Вы такой задумчивый…
— Что означают эти окопы, Лукан?
— Ничего. И вправду ничего, пан поручик.
На этом разговор их кончился. Они расстались холодно, без всяких сожалений. И оба были уверены, что так будет лучше. Кляко поплелся обратно в командирский блиндаж, к Кристеку с его тяжелым взглядом, а Лукан к лопате.
— Что ему надо? Об окопах спрашивал?
— Спрашивал, но я ничего не выдал.
— Мог бы и сказать. Что тут такого.
— Не сходи с ума!
— Вот здорово будет, если офицера кондрашка хватит. Люблю на такое смотреть, ничего с собой не могу поделать.
— Все узнает, не беспокойся. И тебе долго ждать не придется, от силы полчаса.
— Твоя правда.
— Достаточно глубоко, ребята. Бросайте!
— Хватит и этого.
Солдаты повыскакивали из окопов, свалили шанцевый инструмент в кучу. У окопов остались молчуны. На то они имели право — это была их выдумка, достаточно наивная, хотя и рискованная и продиктованная отчаянием. Хотя как сказать? При Гайниче они не посмели бы так сделать, это ясно. Но всему приходит конец.
Гайнич откомандовался, война тоже когда-нибудь кончится. Вчера фельдфебель Чилина говорил, что фронт растянулся на две тысячи километров — от Финляндии до Черного моря. Где же эта самая Финляндия? А Черное море, говорят, вон за этими горами. Две тысячи километров! Одного этого хватит, чтобы нагнать страху на всякого. Но всего страшнее эта война потому, что они участвуют в ней. А если подсчитать время от перехода словацкой границы до нынешнего дня, так они воюют уже шестнадцать месяцев! И потому им пришлось вырыть эти самые окопы. Только потому, не почему-либо другому. Лукан правильно говорит, что русские — славяне, братья, с ними можно легко договориться. Они пробовали проверить. Так оно и есть. Но Лукан еще говорит, что русские — славяне, да к тому же коммунисты. Славяне — братья, а коммунисты стоят за бедноту. А что такое солдаты? Та же беднота. Вот почему эти окопы здесь нужны. И никакой Кляко, никакой Кристек им больше не помешают. Солдаты еще не знают, зачем эти окопы, но скоро узнают все. А тогда хоть трава не расти. Офицеры скажут, пожалуй, что это бунт, и тогда вторая батарея предстанет перед полевым судом.
«Так далеко заходить нельзя. Полевому суду не видать второй батареи, потому что мы убьем Кляко, как договорились. Я при этом сговоре не был, ребята сами все придумали, и это недурная выдумка. Я в то время валялся мертвецки пьяный. — Молчун Виктор Шамай рассмеялся. — Но выпивка была — господу богу лучше не придумать! Нет. И не придумает он, как отдать под суд вторую батарею. Понадобится — и Кристека, и фельдфебеля Чилину убьем, хоть он и хороший человек, и каптера прихлопнем. Но только если иначе не обойдемся. Вот как договорились на своей сходке солдаты. Жалко, что меня там не было. Когда мы их всех перебьем, придется собраться еще раз и подумать, как быть дальше. Все в разные стороны тянут. Кто хочет к русским переходить, другие говорят, что лучше будет всем разойтись по двое, по трое и пробираться через горы по ночам к себе домой. Так я и не знаю, что же потом-то будет, когда мы офицеров порешим. Но подумать времени у нас еще хватит. Придется собраться и все обдумать. Нет у нас другого пути! Зря господа говорят, будто нас солдаты другого призыва сменят, мы этому не верим. Полгода обещают, лишь бы рот заткнуть. Больше мы не дадим морочить себе голову. Хватит! Дальше терпеть невозможно! Вши заели, голодно, губим здесь лучшие годы, а чего ради? Зачем, спрашивается? Немцам помогаем! Немцы здесь целые деревни, целые города под корень выводят. Вот она истина-то. Никто ничего нам не говорит, да нам и так все известно. Уж лучше Лукана послушаться и перебежать к русским. Ну ладно, поживем — увидим. А нужно будет, так и еще разок соберемся».
От всех этих дум на лбу Шамая выступил пот. Он знает, как договорятся ребята, он уже предчувствует: «К русским!» Ночами идти через горы домой — ни черта не получится. Никто там не проскочит, полевая жандармерия всех выловит. Все они сейчас герои, покуда идти никуда не надо. А когда же он, Виктор Шамай, увидит свою жену и сына? Ей ведь пособия не дадут, если дознаются, что он перебежал к русским. И еще: можно ли будет провести Титана с Сильвией? Об этом на сходке само собой речи не было. Разбудили бы его, так он сказал бы насчет лошадей; на другую сторону переходить — так и их надо с собой брать. Они, правда, казенные, но в этом не виноваты. Они не то, что Уршула с Урной были, нет, он их любит, а на русской стороне они будут напоминать ему дом, его собственных лошадей, на которых пашут землю, возят бревна из лесу, а не повозки со снарядами, телефонными аппаратами и проводом. «Сейчас конец января, значит, вся деревня на ногах, народ лес вывозит. А справится ли дед с таким делом? Или кони стоят в конюшне? Из дому нет писем второй месяц — и господи! — что, если и сегодня вечером с полевой кухней письма не привезут? Боже!.. Окопы уже вырыты, все решено, того и гляди, ребята полевой кухни ждать не станут. А на русскую сторону жена мне не напишет. Господи боже мой!»
И Виктор Шамай снова вытирает потный лоб. «Окопы вырыты. А чего проще — вон лопаты лежат, взять их да опять забросать землей, а после посмеяться и доложить начальству, что солдаты, мол, просто так, от нечего делать копали. А чтобы офицеры поверили, завтра опять выкопать и снова засыпать. Вот так и играть, да еще объяснить командирам, что за такой работой забыть можно и про фронт и про войну. Отчего бы и не поверить? Поверят! Обзовут дураками, но поверят. А когда офицеры не ругаются? Может, и вправду попытаться? Придется, может, объяснить ребятам, что это, мол, был дурной сон, просто дурной сон и больше ничего. Сказать, что теперь мы проснулись и нужно вести себя так, как подобает людям, которые как следует выспались, а не продирают глаза спросонок. Это будет нам куда как выгодно, потому что можно успеть получить письмо из дому еще сегодня, можно и подождать недельку-другую, а то и побольше. Тогда у моей жены пособие не отберут, ведь это чистые денежки в дом, они всегда пригодятся. Эх, и жалко мне, что не был я, когда ребята сговаривались. Сказал бы я им все это, и никто не стал бы тогда окопы эти рыть. Лукан остался бы ни при чем. А кто виноват, что меня там не было? Я сам? Как бы не так! Все Чилина! Зачем он меня в город посылал? Зато выпивка была, какой свет не видел, сам господь бог лучше бы не придумал. И я жив остался! Жив и смерти не побоялся.
Как же это вышло? Я оттого и пил, что смерти боялся, и в то же время меньше всего думал о ней. Не знаю, не знаю. «Лошадиный батька» меня в город послал. Город тот далеко, двадцать часов мы туда ехали, на шести повозках, и вернулись сегодня ночью, часа в три. Я лошадей выпряг и в блиндаж пошел — разбудить Яно. «Встань, Яно! Встань и ни о чем не спрашивай, приведи-ка ко мне наших. Жду всех у своей повозки». Яно встал и тут же пошел, куда надо. Он из нашей деревни, и еще двое — из соседней. Я к повозке вернулся, взобрался на нее и попоной прикрылся. «Что тебе надо?» — спросили ребята, когда пришли. Я так и знал, что они придут. «Сейчас увидите. Да одеяла захватите, здесь холодно». Они ушли, ни о чем спрашивать не стали. Потом вернулись, уселись на возу, в одеяла закутались, Я еще им сказал: «Хорошенько закутайтесь, холодно». — «Вот мы», — сказали они, и тут часовой вмешался. «А я и забыл про часового!» — сказал я. «Вы что тут делаете? Почему не спите?» — «Да мы просто так, мы все из одной деревни, — говорю, а потом жалко мне его стало, я возьми да и позови его: — Присядь и ты с нами и послушай».
Мы чуточку этак потеснились, и всем местечко нашлось. Он был не из нашей деревни, и даже не из соседней, но тоже солдат, как и мы. Обыкновенный солдат, это самое главное. «Я в городе побывал. Знаете ведь?» — «Знаем». — «Я водки привез. Литра три. Цельную бутыль! Вот она!» Сперва я по бутылке рукой похлопал, потом поднял ее. Сухая лоза, которой бутыль оплетена была, зашуршала. Поболтал я ее немного, и в ней этак приятно забулькало. Все это слышали. Я поставил бутыль на землю, потрогал ее руками, и тут Яно, которого я раньше всех разбудил, спрашивает: «Три?» — «Три». — «А нас пятеро. Сперва было четверо». Понял я, о чем он подумал. А Яно эдак сердито продолжает: «Если бы нас четверо было, на каждого почти по литру пришлось бы». Я хорошо понимал Яно. Он не пьяница. Не то чтобы он совсем не пил… Этого не скажешь, нет. Не каждый день, а случалось выпивал и даже мертвецки иной раз напивался. Кишки чтоб, значит, прочистились. И, по-моему, неплохо это, кишки-то прочищать. И часовой понял, что речь о нем идет. И потому молчал. А прогнать его из компании — такое и для Яно противно было. А мне? Как же можно человека выгнать? Знай Яно то, что было известно мне, ничего бы он не стал говорить. Но я махнул на все рукой — пускай себе говорит.
Наконец все стихло, и долго все молчали. Потом я начал: «Стянул я эту бутыль на складе немецком, где мы провиант получали. И был там один в гражданской одежде русский. Увидел он меня, отвернулся, будто не видит ничего. Погрузились мы, сел я на воз. Мы нашего каптера еще ждали, тот доставал что-то, он вечно что-нибудь достает. Русский-то и подходит ко мне, спрашивает, знаю ли я, что взял». На этом самом месте запнулся я. Вдруг в голову мне пришло ничего дружкам моим и часовому не говорить, да не смог я промолчать, тяжкий грех это был бы, смертный грех, нельзя такой на душу брать. И тут я без утайки выложил, как дело было. Но и прибавлять ничего не стал. Да и что прибавлять-то? О русском, что ли? Этот русский сказал мне, будто никому неизвестно, что в этих бутылках находится — яд ли, водка ли, древесный ли спирт или обыкновенный, какой все пьют. Полон склад этого добра, и лишь поезда ждут в Германию отправить, пускай там сами разбираются. И отобрали этот спирт у разных людей из местных, и тут же их расстреляли, потому как немецкой солдатни много от этой выпивки жизни лишилось, полно кладбище набралось. И яд тот от настоящего спирта отличить невозможно, и вкус, и цвет — все как надо быть. И спирт этот люди продавали бутылками, по триста марок за литр брали. И хорошим спиртом они торговали, и яд, однако, примешивали. И русский еще сказал мне, что, будь я немцем, ни слова бы он не проронил. Вот как он мне сказал. А после того делся куда-то: наш каптер пришел и давай на него орать что есть мочи. Каптер всех нас созвал, предупреждать принялся, что, мол, у нас есть еще час времени, но чтоб мы не смели спирт покупать. И чтоб пить ничего не вздумали, потому как спирт древесный, ядовитый и много немецких солдат от него на тот свет отправились, — вот как, мол, русские партизаны с немцами расправляются. Стал он меня спрашивать, чего этому русскому от меня понадобилось. Тут я объяснил, что это был человек со склада, ну каптер и отстал. А еще каптер рассказал нам, какая это страшная отрава. Выпьешь, говорит, двести граммов — ослепнешь, а пол-литра кишки все напрочь выест, и через два часа с жизнью прощайся. Вот и все.
Долго молчали мои дружки, долгонько-таки молчали. И тут Яно облапил бутыль, откупорил ее и понюхал. «Как есть чистый спирт», — говорит и передает бутыль соседу. И так дошла она, бутылочка, до меня. Я тоже понюхал — уж в который раз — и тоже сказал: «Чистый спирт, как есть спирт!»
И снова мы замолчали. Никто с повозки не слез, никто не заговорил. Сидели мы, будто привидения, а бутыль посередке. Не видно ее было, однако все знали, что тут она. И это было самое страшное. Что она в себе затаила? Радость или смерть? Слепоты мы не боялись. Пить — так уж до дна.
Часовой высморкался. Он не из нашей деревни был.
Высморкался еще разок, быстро слез с повозки, и след его простыл. Он плакал. Он был не из нашей деревни и не из соседней. Он плакал. Противно это было. Ночь, солдатские слезы — и войне конца не видно. Все вдруг на меня навалилось, и мне стало боязно, что не станем мы пить, все выльем.
— Боится! — сказал Яно.
— Боится!
Часового не слыхать было. Он не из нашей деревни был и не из соседней, и я знал, что о нем все думают то же самое.
И мне стало еще страшнее. И Яно тоже боялся, потому что деревянным голосом сказал: «Надо написать письмо. Каждый пусть напишет письмо». Но сказал он это так, что всякому стало понятно: сам он ничего писать не станет. «Домой?» — «Да, домой написать. Жене». Он все еще говорил этим деревянным голосом, и я понял, что он о жене и не думает. «Темно!» — «Да, темно!»
Мы понимали, что о жене и ни о чем другом думать нам нельзя. Можно только о том, что стояло посредине в бутыли, оплетенной лозой, которая шелестела, если взяться за ручку. Мы должны были думать только об этом и о войне, которой конца не видно, о бутыли и о бесконечной войне! То и другое было крепко связано меж собой: бутыль могла нас от войны на несколько часов или навеки избавить, и потому стоило посидеть на возу и подождать, пока не расхрабрится кто-нибудь. Ни так и ни этак проиграть мы не могли. Всякий это знал, и потому спокойненько мы сидели и никто не жаловался на холод, никто не удивился шагам в темноте и тому, что кто-то подошел к нашей повозке. «Это я!» — сказал часовой.
Он мог себя и не называть. Мы и без того знали, что он вернется, и на повозку к нам подсядет, и будет с нами, никуда не денется. Сел он на свое место, и его никто не прогнал. Мужик, значит, что надо! Теперь он стал наш, связанный с нами, как рука с телом, и Яно теперь не посмел ему сказать, что нас пятеро и что на каждого пришлось бы больше, будь нас четверо. Этого Яно не сказал, ведь он тоже мужик что надо! В нашей батарее таких много, слов нет.
И Яно из нашей деревни опять схватил бутыль, и прутяная оплетка зашуршала. Я все хорошо слышал. Откупорил Яно бутыль, понюхал и сказал: «Совсем как спирт», — и на прежнее место бутыль поставил. Голос у него был, как всегда. Потом Яно резко сказал: «Начинай!» Он это мне сказал, никому другому не мог сказать, и все правильно его поняли. Первому выпить полагалось мне. Осенил я себя крестом второпях и порадовался, что ночь сейчас и никто не видит, а то еще подумали бы, что я боюсь. Я уже притронулся к бутыли, а часовой и спрашивает: «А попрощаться нам не надо?» — «На это времени хватит!» — сурово ответил Яно. И ясно стало, что он никому уклониться не позволит, потому как сам боится, что испугается и убежит. «Конечно», — сказал я, голос мой дрожал, и я сказал себе, что бутыль надо держать крепко и что ни слова не могу больше произнести. Дыхание у меня сперло, словно я был уверен, что в бутыли спирт древесный и такова воля божья… И начал пить. Показалось мне, что долго очень я пью, и остановился. Дружки мои молчали. Перепугала меня эта тишина, а может, этой ночи я боялся. Не знаю почему, но никто бутыль у меня не просил, и тут мне страшно стало: бросят они меня, да и уйдут. И боязно мне было еще, что выпил мало. Этого я боялся больше всего. Много древесного спирта мимо пролилось, подбородок мой стал весь мокрый. «Пресвятая богородица!» — только и сказал я да подумал еще, что ослепну, а этого уж никак нельзя было допустить. И тут я чуть не расплакался, поднял бутыль, снова пить стал, и все пил бы и пил, пока Яно не вырвал бутыль из моих рук, и когда мы с ним сцепились, он сильно двинул меня в грудь, но сказать я ничего ему не посмел, чувствовал, что сделал я что-то не по-товарищески. И стало мне грустно.
Пил Яно, пил следующий. Лоза все шуршала, потрескивала. Слышать это невмоготу мне было, особенно когда булькал этот древесный спирт в чужой глотке и она открывалась и закрывалась. Я пить хотел, хотел пить, а они мне не давали. «С тебя хватит!» — «Не пейте, помрете ведь! Это спирт древесный, я знаю, я его принес и знаю». Слова эти меня радовали, и оттого я их повторял. Приятно было их повторять. «По роже получишь! Перестань!» — пригрозил мне Яно. «Не пейте, братцы, помрете ведь. Это древес…» И тут Яно дал мне в морду и что-то сказал мне вроде: получай, мол, по заслугам. «Ты мужик что надо, Яно, но тебя это не спасет, все равно вместе со мной помрешь. Ты себя в жертву принес, чтобы мне одному не оставаться. Ты знал, что все равно я пить буду, если остальные даже откажутся. Но как дойдет до этого часовой? Он не из нашей деревни и не из соседней — и помрет вместе с нами. Это несправедливо! Не дежурь он сегодня на посту, мог бы спать, а вместо него кто-нибудь другой отдал бы богу душу. Несправедливо это. Он не из нашей деревни и даже не из соседней…» — «Замолчи». — «Дай мне в рожу, может, это меня от греха спасет. Я вижу, нельзя было с собой смерть приносить, а раз уж я принес ее, все один и выпить должен. Стреляйте в меня! Пальните в меня, как в бешеную собаку, я не пикну! Буду словно истукан стоять».
Часовой отпил, поставил бутыль рядом со мной. Я потряс ее. Спирт булькал совсем на донышке. Им было боязно, как и мне, ослепнуть. В голове моей затуманилось, внутри становилось все приятней и жарче. Этот жар, должно быть, и была смерть, и через два часа я помру, когда он по всему телу разойдется…
Батарее нашей и всем словацким солдатам на Восточном фронте крышка. Хоть этого никто из них не знает, но это истинная правда. И нам лучше, чем прочим. Мы смерть сами выбрали. Жар в желудке — это она и есть, жар, который по всему телу растекается. Других разорвут снаряды, передавят русские танки. Заодно и немцев в кашу перемешают. «Котлету сделают!» — еле выговорил Яно. «Котлету!» Яно дубина, так говорит человек, которого я ненавижу. А кто он? Батарея спит, все солдаты спят и не знают еще, что уже умерли. Надо было бы их всех разбудить да сказать им об этом. И я радовался, что никто не шевелится, и мне тоже двигаться не хотелось. Хорошо было в повозке сидеть. Эта повозка моя, и каждый в своей сидеть должен. А откуда часовому свою повозку взять? Он из орудийного расчета, и потому нам пришлось оставить его здесь. Почему же он не пьян? Древесный спирт допить надо, что осталось, между всеми поровну разделить, ослепнуть нельзя никому. Такая беда будет похуже бесконечной войны. Вот мы и допили. Туман в голове рассеялся, из желудка по телу ползла горячая смерть. А когда мы все прикончили, Яно бутыль бросил, и она разбилась. Тут я понял: что Яно ни делает, все хорошо, ведь он из нашей деревни. И в это время кто-то из нас забормотал. Не знаю, что это было. Боль? Нет, песня. Пел Яно, и мне одернуть его пришлось. «Перестань, Яно, мертвые не поют!»
Он меня не послушал, все пел нашу песню, песню без слов, знакомую, и плакать от нее хотелось. Я тоже не помнил ее слов и вдруг понял. Наш Яно — мужик что надо! Не пел наш Яно — он молился. Он из нашей деревни был. Молился он, был душой в нашей деревне, в лугах, на сенокосе. С незапамятных времен бежал там ручей, вербы склонялись над ручьем, и я понял, что над Яно склоняется его жена. И потому я хотел подойти к нему. И дойди я до него, в лугах увидел бы и свою жену. Но это было далеко, и никакие силы не могли меня туда доставить. Где Уршула с Урной? Где кони мои добрые? Никого здесь у меня нет, я один и один помру. Нутро горит, того и гляди лопнет, горячо у меня в груди и в боках. Жар подступает к горлу, но недавно еще в голове стояли туманы, а сейчас даже прохладно.
Кто-то поет.
Кишки! Кишки будто раздирает кто, вот-вот лопнут. И откуда тут дерево взялось? Надо его обнять. Кто-то хочет, чтобы я лег на землю, а я не могу — это ведь смерть. Нет еще, нет! Не хочу умирать! Умирать один не хочу! Позовите ко мне Яно! Яно из нашей деревни! Яно! Яно!
Ноги меня не держат, и того дерева уже нет. Здесь вербы, луга и кто-то колышет траву. Кто колышет траву в лугах? Поет женщина, это жена моя поет, и колышется трава в лугах. Я должен пойти к жене, и я верю, что мы еще встретимся.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Мертвые не поют!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
А ведь кто-то поет…»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Молчуны сидят у окопов и заглядывают вниз, словно в собственные могилы. Виктор Шамай, с презрением глядя на товарищей, думает: «Вы боитесь, потому что смерть вас еще не коснулась, а у меня уже все позади».
Тут подскакали два всадника — командир дивизиона капитан Рудай со своим ординарцем.
— Пан поручик Кляко!
Капитана отвели в командирский блиндаж.
— Привет, поручик, привет, Янчи! Как поживаешь? Медведь, настоящий медведь, только медку маловато, — быстро сыпал капитан словами, пожимая руку изумленному Кляко и похлопывая его по плечу.
— И ты еще жив? — приветствовал Рудай Кристека, но более холодно, и тут же добавил: — Мне нужно поговорить с командиром батареи, пан поручик Кристек.
— Пшел вон, словом. Понимаю.
— Ну, ну, пан поручик! — тем же веселым дружеским тоном, что и в разговоре с Кляко, остановил его капитан. — Сам понимаешь, что есть дела, которые…
— Да, есть такие дела, вот я и ухожу вон, и очень мне хотелось бы знать, повлияют ли ваши дела на ход войны. Наше вам!
И поручик Кристек, чертыхаясь, вышел из блиндажа. Он отвык двигаться, вечно сидя за столом или валяясь на нарах, и шагал он неуверенно, словно пьяный.
Рудай посмотрел ему вслед.
— Какой чудной!
— Несчастный.
— Ну а ты, поручик, ты, Янчи, как поживаешь? Ну, говори же! Бородку отпустил. Я, — он стиснул руку Кляко у плеча, — я даже стал подумывать, не приказать ли всем офицерам дивизиона отпустить бороду. Бородку а-ля Кляко. Вот здорово-то было бы!
— Пардон! Сегодня утром я видел двух сорок. — В дверь вошел Кристек. — Двух обыкновенных сорок. Плевали они на войну. Они перелетали с дерева на дерево, с дерева на дерево…
— Да-а, — растерянно заметил Рудай.
Кристек громко захохотал и вышел.
— Чудной какой-то! — повторил капитан, потом долго молчал и наконец заговорил, понизив голос: — Янчи, я приехал по очень важному делу. Сегодня ночью мы отступаем! Командование дивизии и нашего полка упаковало чемоданы уже с утра и отбыло. Сам понимаешь: начальство. Собирайся и ты, да поскорее! Солдат на НП не забудь! Отзови их оттуда! И отзови мигом. В четыре часа надо выступить. Времени у тебя осталось больше четырех часов. В шесть часов вечера на перекрестке тебя будет ждать мой адъютант, у него ты получишь дальнейшие инструкции. Как настроение у солдат, Янчи?
— Великолепное, блестящее настроение, — огрызнулся Кляко, которому что-то не понравилось в тоне капитана. Он еще не понимал, где тут собака зарыта, но запах одеколона, которым разило от Рудая, раздражал его. — Ребята ждут не дождутся, когда к ним приедет генерал или кто-нибудь из этих сумасшедших гардистских министров, они с наслаждением перережут им горло. Чик — и готово!
— Преувеличиваешь, Янчи! Ты всегда преувеличивал. Но, говоря откровенно, я потому сам и приехал, что по телефону нельзя все сказать. Сам понимаешь, скажу напрямик, ситуация отнюдь не идиллическая. Ростов, того и гляди, падет. Ждем с минуты на минуту. Да, да, Ростов! И под Сталинградом что-то неладное творится. Но у этих швабов разве что выведаешь? Сам ты, Янчи, понимаешь, когда русские захватят Ростов, нам будет отрезан единственный путь к отступлению. И потому начальство и запаковало чемоданы еще с утра. — Рудай вытер потное лицо. — Ты сидишь здесь, будто медведь, знать ничего не знаешь, но я могу тебе сообщить, что весь Кавказ поднялся, все дороги с востока забиты отступающими войсками. Тут и немцы и румыны, будто за ними черти гонятся. Своими глазами видел. Иначе бы и не поверил. И вдобавок скажу (смотри не проговорись, Янчи): даже на самолетах армию вывозят. На аэродромах до драки дело доходит. Стреляют друг в друга. Конечно, каждому хочется стрекача задать, потому что вокруг все горит. И немцы дерутся с немцами, румыны с немцами, крошат друг друга, славный гуляш получается. И ты, повторяю, сними солдат с НП, только живей. В шесть тебя будет ждать на перекрестке мой адъютант, потому что… Не закуришь ли, Янчи? У меня отличные сигареты, немецкие. Швабы последнее время что-то расщедрились, должно быть, полные штаны наложили, понимаешь? Один капитан дал мне две пачки, говорит — из генеральского пайка. На, бери! Что я стану тебя оделять, как мачеха, возьми всю пачку! Генеральские! В последние дни у нас такая буря разыгралась, — говорить не хочется! Наш генерал, этот старый аристократ, со швабами поцапался, дело чуть до драки не дошло. Я в генштабе узнал, там у меня знакомый есть, может, и ты его знаешь. Такой высокий, пижон с усиками, майор Кисена. Не знаешь? Понятное дело, откуда тебе всех знать, когда ты здесь торчишь, будто медведь, и холишь свою бородку. Твоя правда! О нашем отступлении немцы и слышать не хотели. Через три дня, мол. Считая с нынешнего. В своем они уме? Ну, скажи. Но наш старик молодчина. Поднял крик и отбился. Дескать, после этого он за армию не ручается, она и сейчас уже разложилась, а за эти три дня могут произойти такие события, о каких он и подумать боится, и говорить вслух не осмеливается. Немцы перепугались, потому мы сегодня ночью и выступим. Мы сосредоточим наши войска где-то на юге Украины, туда должны прибыть и новые пополнения, со стариками ведь просто сладу не стало. Их надо сменить, чтобы перед немцами не осрамиться. Не осрамиться, Янчи! — И Рудай уставился на бородку Кляко.
Но Кляко едва не расхохотался ему в лицо, он не поверил ни одному его слову. Да и как поверить? Напрасно искать здесь и в окрестностях хоть какие-нибудь признаки, подтверждающие слова Рудая. Последние недели на этом участке фронта стояло затишье. С НП не поступало никаких сигналов. Словаки отойдут на Украину. Оттуда рукой подать до Татр. Но здесь не верится, что существуют на свете такие горы. Следовало бы обрадоваться этим новостям, повеселеть, а Кляко не может. Да он и не умеет. Он забыл все на свете. «Нет прошлого, ничего нет в настоящем, кроме зеркальца, бородки и скучного лица Кристека. Скучного, нагоняющего уныние Кристека, который не поддается никаким уговорам, не желает и пальцем шевельнуть и торчит целыми днями на одном месте. Заживо сгниет, скоро и следа от Кристека не останется. Почему же притих Рудай, эта надушенная сорока с капитанскими петличками, почему он больше не трещит? «Янчи! Янчи!» Почему эта сорока лебезит, почему дарит сигареты из генеральского пайка? Для него я всегда был только пан поручик Кляко. Но я-то знаю, он приехал, чтобы устроить мне разгон. Сейчас он скажет, что все это неправда, что он меня разыграл. Потом отправится на огневые позиции, начнет там гонять солдат и мне всыплет по первое число за эти окопы. А я знать не знаю, ведать не ведаю, зачем они. Он распорядится их засыпать. «Прикажите-ка их мигом засыпать, поручик Кляко! Что за свинство! Удивляюсь, как вы это терпите. Мигом засыпать!»
— …обидно было, но старику пришлось согласиться. Ничего нельзя было поделать. Немцам эти восемь пушек нужны позарез. Когда наш командир получил предписание, он начал ругаться на чем свет стоит. Впрочем, ты его знаешь. Говорят, он метался по блиндажу, как тигр, и кричал без умолку: «Восемь пушек! Кого я им дам? Восемь пушек! Кого я им дам?» Наконец он вспомнил о тебе. Ты говоришь по-немецки, человек молодой, самый молодой из офицеров, так что… Тебе не повезло, Янчи. Я говорю все откровенно. Сегодня в шесть на перекрестке ты найдешь еще четыре орудия с прислугой и двумя офицерами запаса. Это третья батарея нашего полка. Ты присоединишь ее к своей и будешь командиром сводной батареи. Понятное дело, тебе мало радости от этого, но ничего не поделаешь. На перекрестке тебя будет ждать мой адъютант и немецкий офицер. Кроме того, должен предупредить тебя, что сводная батарея подчинена немецкому командованию. Наш старик просил тебе передать, чтобы ты над этим не ломал голову. Истратишь все снаряды — новых тебе в этом хаосе не доставят, и ты отправляйся за нами вслед. Я считаю это разумной точкой зрения, вполне разумной. И старик со мной согласен. Да, чтобы не забыть, Янчи: не утруждай себя, не ломай над этим голову!
— Я это, кажется, уже слышал.
— Так привет, Янчи. Я поехал, — сказал капитан, протягивая руку, но Кляко отвернулся.
— Не задерживайтесь, пан капитан. Скачите скорей упаковывать свои чемоданы. — И Кляко взревел: — Ну, чего вы еще ждете?
— Я понимаю тебя, Янчи…
С этими словами капитан выскользнул из блиндажа.
Кляко стоял выпрямившись, с каменным лицом и не шевельнулся до тех пор, пока не услышал топота двух скачущих галопом коней.
Когда он вышел из блиндажа, Кристек сидел на дышле.
— Эх, мальчик, мальчик!.. — сказал Кляко, постояв рядом с Кристеком. Подумал было приказать ему построить батарею. Пришлось бы с ним ссориться. Да он все равно не подчинится. Двенадцать часов восемнадцать минут. Времени терять нельзя. Кляко повторил: — Эх, мальчик, мальчик! — приложил ладони ко рту и закричал, словно в рупор: — Батарея, стройся!
Построение заняло меньше минуты.
— К вам мой приказ не относится? — рявкнул Кляко каптенармусу, который выглядывал из повозки. Кляко подождал, пока каптенармус встанет позади Чилины.
— Лукан!
— Здесь!
— Возьми трех солдат, пустые катушки и сними линию, что ведет на НП. Но предупреждаю, будь здесь в половине четвертого, хоть сдохни. Шагом марш!
— Слушаюсь!
— Кореник!
— Здесь!
— Марш к телефону и сообщи ребятам на НП, чтобы сматывали удочки и шли сюда. Немедленно!
— Слушаюсь!
— Фельдфебель Чилина!
К трем часам батарея была готова выступить, а несколько минут спустя вернулись связные с мотками провода. Пришел с НП и наблюдатель, поручик-запасник, служивший на батарее уже второй месяц. Раньше он был учителем. Голова у него была голая, как колено. Он утверждал, что в роду у них все такие лысые.
Один поручик Кристек сохранял сдержанное достоинство. Он никого не искал, чтобы поделиться своими мыслями. Мысли его были печальны. Приходилось покидать места, где он сумел отгородиться от внешнего мира. А сейчас эту стену беспощадно разбили и на него обрушился поток человеческих голосов, замелькали какие-то скучные картины, беспрестанно меняющиеся. Вокруг было светло, не то что в полумраке блиндажа, батарея готовилась выступить в поход. Куда? Зачем? В конце концов все это узнают, и это так же важно, как конская моча. Вообще все вокруг провоняло конской мочой! Провоняли одеяла, повозки, деревья и даже люди. И после этого говорят… Что, собственно, говорят? Лучше всего будет в той повозке, с тем солдатом…
— Как тебя звать?
— Виктор Шамай. Ездовой Шамай…
Кристек прикинулся, что это говорит ему очень многое. Он забрался в повозку, сел и опустил голову на руки.
— Пан поручик, это мы домой собрались?
Они почти не знали друг друга. Молчун Шамай повторил вопрос, а не получив ответа, не обиделся на немого поручика. «Домой идем, наконец-то домой! Через шестнадцать месяцев — домой! Эти сборы ничего иного не могут означать. Когда отдают такие приказы, они ничего другого значить не могут. Батарея не попадет под трибунал! Окопы батарее не понадобятся. Как вдруг все может измениться! Идем домой! Все солдаты так считают, и фельдфебель Чилина на что-то такое намекал. Домой!»
— Солдаты! — Кляко вздумал обратиться к своим подчиненным. Конь становился на дыбы. Его давно не седлали. — Солдаты! Мы отступаем. Отступает вся словацкая армия, она идет на Украину, но нас оставляют под командой немцев, нам предстоит воевать и дальше. Я знаю, о чем вы думаете, и я, ваш командир, думаю то же самое. Я знаю, для чего вы вырыли окопы на огневой позиции. И я понимаю вас. Солдаты! Вы все должны отдавать себе отчет в том, что с этой минуты мы предоставлены сами себе и никто нам не поможет. Я требую от вас строжайшей дисциплины. За-пре-щаю вам какие бы то ни было контакты с немецкими солдатами. Не говорить с ними ни слова! Мы немые! Мои слова относятся и к офицерам и к унтер-офицерам! Того, кто ослушается, я пристрелю на месте. Но я вам верю. Рядовой Лукан!
— Здесь!
— Вести переговоры с немцами разрешается поручику Кляко и рядовому Лукану. И еще: к нам присоединятся солдаты третьей батареи с пушками. Распоряжение относится и к ним. Вы должны вбить им это в голову. Да приглядывайте за ними. Мы их не знаем. Мы должны обезопасить себя на марше. Фельдфебель Чилина!
— Здесь, пан поручик!
— Чередовать: их орудие — наше орудие. Повозки тоже! Вы меня поняли?
— Так точно, пан поручик!
— Шаго-ом марш!
Кляко пришпорил коня и поскакал в конец колонны.
Батарея тронулась. Солдаты шли молча, как немые. Лишь поскрипывали повозки, визжали немазаные колеса да слышались окрики ездовых.
Колонна уже скрылась в высоком густом лесу, а на огневой позиции метался поручик Кляко. Он кружил вокруг груды оставленных снарядов. Их хватило бы на четыре повозки. Может, нужно было разгрузить здесь еще несколько повозок? Нет! Сводная батарея подчинена немецкому командованию. Нельзя рисковать, рисковать чересчур явно. Он пустил коня рысью, чтобы догнать поскорее ушедшую вперед батарею, хоть и знал, что для него нет возврата. В конце концов, он хотел этого! Хотел! Заткнуть рот подонку и трусу Кляко! Отрезать все пути подонку и трусу!
К перекрестку они прибыли около шести часов. Было уже темно. Все произошло точно так, как говорил надушенный капитан Рудай. И третья батарея ждала, и четыре орудия, и немецкий офицер. Все было так, как говорил надушенный капитан, кроме двух незначительных мелочей: немецкого офицера сопровождали двадцать немецких солдат, как он, верхами, а в хвосте бывшей третьей батареи катилось двадцать шесть повозок со снарядами. Кляко трижды проклял капитана, трижды проклял себя, но на душе легче не стало. Полетел к черту весь план. Он все равно вынужден возглавить сводную батарею, дать ей команду, погнать вперед и поехать во главе ее. Впереди потянулась дорога, запруженная отступающими войсками. Кто-то его окликнул. Или ему это только показалось?
— Пан поручик…
— Чилина?
Фельдфебель подошел ближе и процедил сквозь зубы:
— Не выйдет.
— Вижу. Плюнь!
— Я буду приглядывать за новенькими. И ребята пусть глаз не спускают. Эх, такие-сякие, не по душе мне это. Не везет нам, пан поручик.
— Бог нас проклял. Я безбожник.
Чилина вытаращил глаза.
ДАЛЕКОЕ И БЛИЗКОЕ
Зима выдалась снежная. Снегу навалило еще в декабре, до рождества. Рождество и конец года промелькнули так быстро, что старый Лукан не успел даже задуматься, почему сын Яно второй год не сидит с ними за столом в сочельник. Начались метели, и занесло дороги. На шоссе, у поворота за деревней, выросли высокие белые гребни сугробов, между ними тянулись глубокие канавы. Приходилось непрерывно расчищать снег. Лукан работал лопатой с утра до ночи. Он метр за метром рушил белую стену, вырезал большие снежные кубы, сбрасывал их на занесенные вербы у речки. Ее сковали льды, метели сровняли с берегами русло. Угадать его можно было только по черным верхушкам ивняка.
В январе Лукану стало полегче. Ложась вечером спать, Лукан прислушивался, не завоет ли опять за окном вьюга. Только от нее одной делалась у него бессонница. Утром он вставал, с лопатой на плече обходил свой участок — от второго правненского километра до Планицы, оттуда — до Липин и через все Липины до самого моста. И так ежедневно, весь месяц, и не только потому, что он был добросовестным дорожным обходчиком, но и из боязни, что за ним следят. Лукан никак не мог забыть обыск в своем доме. Три жандарма и гардист рылись в доме, переворачивали все вверх дном, а начальник гарды Махонь сидел за столом, просматривал бумаги и все повторял:
— Так вы, значит, тот самый обходчик? На государственной службе состоите!
Было начало февраля 1943 года.
Лукан возвращался с правненского километра. Он успел побывать в Липинах и навестил директора школы Кляко. Они поговорили, пожаловались друг другу на свои недуги, выпили по рюмочке домашней настойки, и потому обходчик шел сейчас, держась очень прямо, по-солдатски, подняв голову. Пар от дыхания расплывался в воздухе. На шинели Лукана оседал иней. Под ногами похрустывал снег.
— Добрый день, пан Лукан, — сказал догнавший его велосипедист и остановился.
— А-а, пан Дриня! Добрый день. Мы, кажется, оба никак не можем расстаться с этой дорогой.
Лукан громко рассмеялся.
— И то правда! Что нового в Планице?
— Ничего. Да и что там может быть нового?
— Гардисты вас больше не навещали?
— С тех пор, черт бы их взял, не были. — И снова смех.
— А обходчик Лукан что-то сегодня веселый.
— Есть такой грех. У пана директора Кляко согрешил. Я и с вами бы выпил, было бы что. Зембал торгует спиртным, да я к нему не хожу. Знаете, что он сказал перед рождеством? Незачем, мол, сыну его было идти к немцам. Сейчас был бы дорожным обходчиком вместо меня! Не Зембал ли и гардистов на меня натравил? Чтоб ему пусто было!
— Все может быть.
— Правда! — И Лукан самодовольно продолжал: — Посмотрите, пан Дриня. Сугробы тут были, что твои горы! А я все вот этими самыми руками убрал. Этот поворот когда-нибудь меня уморит. Зимой ли, летом — всегда жди беды. Ну, да ладно! — И Лукан выдохнул большое облако пара. — Я все выдержу, лишь бы Яно мой воротился. Скоро два года будет…
— Воротится, теперь уж наверняка.
— Так мне все говорят. Доброе слово сказать — не за деньги покупать, а старому Лукану они по сердцу. Так почему бы его не порадовать? Вот так-то. А Яно все еще там. Уже второе рождество без него прошло. Не пишет даже. Как и сын учителя Кляко.
— Вернется. Большие события произошли, коренной перелом в войне, пан Лукан, теперь-то он непременно вернется. Через несколько дней все узнаете, попомните мои слова. Ну, до свиданья, тороплюсь я.
И Дриня сел на велосипед.
— До свиданья. Порадовали вы меня. А плохо сейчас ездить на велосипеде.
— Плохо. Дышать трудно.
— Оно и понятно. — А сам подумал: «Коренной перелом…» А сама-то война не перелом, что ли? Эх, Дриня, Дриня! — Тут он спохватился, что говорит сам с собой.
Фарника на мельнице у Пастухи не оказалось. Дриня нашел его дома. Они вышли на улицу, и уже за деревней Дриня сказал:
— Собери-ка членов партии в десять часов вечера!
— Что-о?
— Нет у меня времени тебе объяснять. Коренной перелом в войне. На десять часов вечера собери коммунистов. Только хорошенько обдумай, кого позвать.
— Где я их соберу? Какой такой перелом? Что случилось?
— Я еду в Липины, оттуда в Острую, потом вернусь сюда, в Планицу. Сейчас полдень. Между тремя и четырьмя жди меня на шоссе, на этом же месте. Скажешь, где вы соберетесь, и точка. Не забудь!
И Дриня, даже на подав Фарнику руки, с разбегу вскочил на велосипед.
Фарник побежал домой.
— Чего же ты на работу не идешь? — сердито накинулась на него жена.
— Сходи к Пастухе, скажи, что сегодня я не приду. А спросит почему — скажи, что заболел.
— Ты что, рехнулся? И не подумаю! Иди сам говори!
— А ну живо!
Фарник подскочил к двери, отворил ее и показал рукой на валивший из кухни пар.
— У, злыдень! Дай хоть платок теплый взять! И не оставляй дверь открытой! Для кого я печь топлю?
Дочь штопала чулок, украдкой поглядывая на рассерженного отца. Ей было смешно. Но она прикусила язык, потому что отец, стукнув кулаком по столу, воскликнул: «Чертова работа!» — и ушел из дому.
Фарник злился на Дриню. Тот ничего не объяснил ему, так и не сказал, какой такой коренной перелом произошел. Насчет войны, наверно, что-нибудь. А что? Партийное собрание велел созвать! Хорошо Дрине распоряжаться! Будто он совсем забыл, что последнее собрание коммунистов четыре года назад было. Ладно, так и быть, соберу! Всего лучше, пожалуй, у Микулаша. У него и то, последнее, собрание было. В десять! Какой такой перелом? Радио отобрали, газеты врут, откуда мне знать, что на свете творится?
Не было еще и трех часов, а Фарник уже нетерпеливо топтался, поеживаясь от холода, на дороге между Планицей и Липинами, на приличном расстоянии от первого планицкого дома — от каменной мельницы Пастухи. Он ходил, стараясь убить время, и быстро размахивал руками, чтобы согреться. А любопытство все разгоралось. От ослепительно сверкающего белого снега заболели глаза. Фарник один-одинешенек торчал черным пятном на белом снегу. Пушистый иней облепил деревья. Стволы были черные, как и Фарник. И такими же черными казались деревянные стены планицких домов и липинских хлевов и амбаров. Фарнику были видны обе деревни. Над крышами вился дымок.
Еще засветло подъехал Дриня. Он соскочил с велосипеда, положил его на дороге, а сам затопал, заплясал вприсядку, размахивая руками, и объяснил:
— До костей промерз!
Фарник, весь скособочившийся, съежившийся от холода, стоял, скрестив руки, грея ладони под подбородком.
— Холодище чертов. Созвал, кх-кх, в десять к Микулашу, созвал, кх-кх…
— До костей промерз.
— Придет шестеро. Надежных, кх-кх. Да ты их знаешь. Мината знаешь…
— Черт возьми, никак не согреюсь.
— Да ты меня послушай…
— Дальше говори.
— Что еще сказать-то? Это все, кх-кх…
— Что товарищи говорят?
— Ничего. Раз собрание, так собрание, кх-кх, Я только не знал, что им отвечать, как объяснить, зачем собираемся. Коренной поворот — и крышка! От таких слов никто умней не станет. Что случилось-то?
— В десять придет один товарищ. Ты с ним знаком, не беспокойся. Значит, у Микулаша?
— Где же еще? У меня, что ли? Ты что, жену мою не знаешь? Завтра же утром на всю Планицу раструбит, кх-кх. Одно горе от такого языка, кх-кх.
— До свиданья. Ты понимаешь, мне еще нужно до Правно доехать и обратно — в Острую. Дышать просто невозможно на велосипеде. До свиданья! Вечером все узнаешь. — Дриня хотел было отъехать, но спрыгнул с велосипеда, вернулся к неподвижно стоявшему Фарнику и крикнул: — У фашистов нынче бессонница будет!
Фарник шагнул было к Дрине, хотел побежать за ним, но тот уже несся к деревне, к крайнему каменному дому Планицы…
— Добрый вечер!
Минат вошел в кухню Микулаша.
— Садись! — предложил ему Микулаш.
— Дай хоть человеку кожух снять. Вылезти из него, — сказала Микулашова.
— Сразу видно хозяйку. Она понимает, что к чему.
Минат разделся, подал кожух Микулашовой, и та отнесла его в комнату. Минат сел, вынул кисет с табаком и заговорил:
— От своей бабы еле отбился. Пристала: куда, к кому? К которой? Подумайте только! В мои-то годы… Мне только баб не хватало!.. Который час? — Он окинул взглядом стены — часы висели над его головой. — Есть, кажись… где-то тикают.
— Девять.
— А я с семи, да что там, поди, с половины седьмого сидел под своими часами, все дождаться не мог. Просто ужас, как медленно время ползет, когда чего-нибудь ждешь. Полкисета, наверно, выкурил, если не больше. Да разве тут усидишь? Станешь разве бабу слушать? Да ну ее к… Взял да и пришел. Фарник наказывал в десять приходить, да уж все равно. Дело не в часе. Верно ведь, Фарник? Какие такие дела, что он тебе сказал?
— Коренной перелом какой-то получился.
— Ну, это насчет… насчет…
— Насчет чего? — накинулись на него.
— У меня голова кругом идет.
— Непременно насчет войны что-то. Непременно. Чем угодно ручаюсь. Ну, да скоро узнаем. Через часок. А кто придет? Дриня?
— Нет.
— Тогда кто же?
— Не знаю, — сердито ответил Фарник.
— Одни тайны. Хотел бы я только знать, как мы тут разместимся? Надо бы в комнату, как в тот раз. Когда это было?
— Да-а, чтобы табаком всю ее провонять. Там дети…
— Ты, хозяйка, вроде моей…
— Мы все собрались. Больше я никого не звал. Шестеро — ну и хватит. Прежний комитет.
Наступила тишина.
Лампа на столе, фитиль привернут, в кухне полумрак. Но, приглядевшись, можно различить и узнать всех. Вот у двери в комнату чернявый небритый Фарник. Рядом стоит жена Микулаша. Она придерживает дверь за ручку и время от времени заходит в комнату взглянуть на спящих детей. Дверь не закрывается, а напустить в комнату табачного дыма не хочется. Между столом и плитой греется хворый Яниска, самый старый из собравшихся. На скамье у задней стены между Микулашем и Минатом сидят Контур с Дулаем, оба чуть помоложе Яниски, обоим уже за пятьдесят.
Все курят, стряхивая пепел на каменный пол, окурки бросают в плиту, горящую жарким пламенем.
— Половина.
Минат оборачивается, смотрит вверх на часы и тоже говорит:
— Половина. Еще полчасика. А если он не придет?
— Придет.
— Может и не прийти.
— Может и так быть.
— Понятно. — Минат прочищает трубку.
— Ты, Фарник, сказал, что мы все собрались, весь прежний комитет… — слышится голос старого Яниски.
— Самые надежные. За остальных поручиться не могу.
— Мрачко тоже был в комитете.
— Нас достаточно. Шестеро.
— Мрачко — баба! Табак жует, показать себя мужиком старается, но он баба. Попробуй отличить его среди баб. Не отличишь. Фарник правильно сделал, что его не позвал. Я это одобряю. Не знаешь ты Мрачко, что ли?
— Конечно.
— Ну и помалкивай.
— Принеси-ка мне одежду. Я выйду к а улицу, — сказал Фарник хозяйке.
Он оделся, натянул шапку на уши и вышел вон.
— Чудно, — говорит Яниска. — Не знает, кто придет, а встречать пошел. И темно вдобавок. Ты, Минат, если такой умник да во всем разбираешься, объясни-ка мне… Объясни, как Фарник его узнает, если неизвестно, кто придет.
— Кто тут умника из себя строит? — сердито басит Минат. — Выдумываешь все. Выдумывать ты мастер, а сам ни черта не понимаешь. Разве Фарник не сказал Дрине, что собрание будет здесь? Сказал. Так что тот товарищ знать должен, где Микулаши живут.
— Должен-то должен…
— Ну вот… Непременно насчет войны что-нибудь будет. Непремен-но! Головой ручаюсь. Скоро, должно быть, придет. Еще двадцать минут подождем. Я на место Фарника сяду. Буду на часы смотреть. У меня шея уже заболела то и дело оглядываться. — Минат пересел на стул у двери в комнату и посмотрел на часы. — Они правильно идут?
— Да, правильно… И я тоже думаю, что насчет войны речь пойдет. Немцы стоят на одном месте, а это ничего доброго им не сулит.
— И мерзнут, — засмеялся Дулай.
— А если речь не о войне пойдет, а о чем-нибудь еще?
— Не знаю.
— А если ничего не будет, если никто не придет?
— Не морочь нам голову, Минат. Сиди и жди.
— Ладно, понимаю…
Фарник прошел по деревне, до поворота на Правно, но никого не встретил. Жители Планицы спали. Даже в кухонном окне Зембалов было темно. Срубы потрескивали от крепкого мороза. Луны не было и в помине. Зябко мерцали звезды. За поворотом дул резкий ветер, пощипывал за нос. «Не могу здесь стоять. Пойду-ка во двор к Микулашу, там хоть не дует. Прижмусь к стене, увижу всех прохожих. Холодище невиданный! Коренной, стало быть, перелом! Товарищи, поди, умирают от любопытства. Яниска с Дулаем пришли в семь. Дриню я обидел зря, он себя совсем не жалеет. И Мрачко можно было бы позвать, да я не позвал. Если этот мужик не опомнится, неизвестно, до чего докатится. С Зембалом его видали. Надо бы его одернуть как следует да напрямик ему все сказать. Когда-то он хорошо служил делу революции».
Фарник прислонился к стене дома Микулашей. Ноги у него совсем застыли. «А что, если не придет никто? На такую погодку валенки бы хорошо. Да где их взять?»
На дороге остановился какой-то человек. От снега было бело на дворе, и Фарник видел, как он огляделся по сторонам и, нагнувшись, быстро вошел к Микулашам во двор.
— Ты кто? — спросил Фарник, выходя навстречу незнакомцу.
— Тише ты. Я Крамер.
— А, чтоб тебя! Ну, входи же, входи. Товарищи ждут. Какие новости ты нам принес? — шепотом спрашивал Фарник, заведя его в сенцы. Он отворил дверь в кухню и пропустил впереди себя Крамера.
— Ба! Да это Крамер! Крамер! Добро пожаловать! — Минат встал и протянул ему руку. — Я на часы гляжу, на двери, все глаза проглядел, думал — невесть кто придет. А это ты! Здравствуй!
— Да, это я, просто-напросто Крамер. Но я привез тебе новости прямо из Москвы. Из Москвы, повторяю.
— Слышим!
Минат сел, а Крамер тем временем поздоровался с остальными.
— Пусть он отдохнет. Я тебе и чаю приготовила, дорогой ты мой! Промерз, наверно. Снимай пальто, я в комнату отнесу. — Микулашова взяла с плиты кружку, поставила ее на стол и заметила, обращаясь к Минату: — Мог бы и подвинуться. Человек из Правно пришел в такой мороз. Эх, ты!
Все уселись. Микулаш сходил в сенцы, запер дверь на щеколду. Крамер взял кружку в обе ладони, согревая их, потом вывернул фитиль. Все молча следили глазами за его движениями. Микулашова снова встала у двери в комнату, придерживая ручку. Для Фарника не осталось места.
— Товарищи! Вот дело какое! Красная Армия… словом, Красная Армия уничтожила гитлеровские войска под Сталинградом. Сначала она их окружила, потом уничтожила… — Крамер достал из бокового кармана бумажник, вынул из него листки.
— Так и есть, о войне! Говорил я, что разговор о войне пойдет. Ну, послушаем…
Крамер читал по бумажке:
— «…взято в плен двадцать четыре генерала, да-а…»
— Ох! — Фарник вытаращил глаза.
— Среди них, да-да, генерал-фельдмаршал фон Паулюс, командующий шестой армией. Кроме того, взято в плен две тысячи пятьсот офицеров; девяносто одна тысяча солдат! Девяносто одна тысяча пленных, повторяю.
— Пресвятая богородица! — Яниска прижал ладонь к горлу.
— Ребята! Запишите! Или ты, хозяйка!
— Не надо, у меня все на машинке отпечатано. Как в книжке. Каждому по бумажке дам. И тебе, мамаша. В благодарность за чай.
— Капля чаю-то, — покраснев, сказала хозяйка.
— У фашистов убито больше ста сорока тысяч человек. Вот какие дела!
— Пресвятая богородица!
— Красная Армия захватила тьму военного снаряжения. Да! Тысячу пятьсот пятьдесят танков, да-да. Семьсот пятьдесят самолетов, шесть тысяч семьсот пятьдесят орудий, свыше шестидесяти одной тысячи автомашин, пулеметы, минометы, девяносто тысяч винтовок — словом, почти столько же, сколько солдат, мотоциклы, радиостанции. Повторяю: это было грандиозное сражение. Эти цифры сами за себя говорят. Мамаша, кот тебе листок. Тебе первой. Раздай товарищам.
Хозяйка раздала листки, и все стали проталкиваться поближе к лампе. Яниска сидел за столом. В одной руке он держал листок, другую прижимал к горлу.
— Мне сразу все подозрительным показалось. С самой осени в их газетах только о Сталинграде и писали.
— Умник! Всегда умника из себя строишь. Скажи еще, что ты этого ждал.
— Товарищи! Еще не все. Красная Армия начала наступление на всех фронтах. Фашистов погнали с Кавказа.
Но никто уже не слушал Крамера. Он мог говорить все, что угодно, — все глядели только в листовки.
— Что такое, товарищи? Соблюдайте порядок! Все сядьте. Товарищ Крамер еще не кончил говорить.
Глаза Фарника сердито сверкнули.
— Сядем, сядем! Слушаем! Во всяком случае, событие важное. Мы слушаем!
— Это торжественный день! Весь мир радуется, а я больше всех, потому что я немец. И Германия когда-нибудь свободно вздохнет.
— Ну, товарищ, какой же ты немец? — Минат встал и подошел к столу. — Ты старый коммунист и хороший человек, насколько я тебя знаю. Разве ты немец? Что ты такое мелешь?
Крамер удивился. Он вытаращил глаза на Мината и покачал головой.
— Поглядите на него, на этого немца…
— Что ты к нему пристал? Чего не сядешь? Мы интернационал. Вот кто мы! У Белы Куна на всяких языках говорили и друг друга не понимали, а все вместе были интернационал… Что тебе надо? Чего ты не сядешь? Умника из себя строишь, а такой простой вещи не понимаешь. Крамер, дорогой мой, сказал, что в плен взяли девяносто одну тысячу фашистов. Просто даже не верится!
— Москва по радио сообщила. Уже второй день по радио передает. Весь мир может слушать.
— Значит, все верно. Теперь я доволен. Крамер, ты Мината не слушай. Ты такой же, как и раньше. Главное, что ты наш. У Белы Куна тоже так было. Ты за революцию или против нее? Больше ни о чем не спрашивали. Но все и так было ясно. Я порядок знаю. Только неизвестно мне, что нам сейчас делать. Объясни, коли знаешь. Ведь делать-то нужно что-нибудь и нам!
— Нужно, конечно.
— А что?
Крамер помолчал. В его ушах еще звучали слова Мината. Но он не ожидал такого вопроса. И сам себе его не задавал. Некогда было. Как некогда было осознать даже то, что он немец. Он чуть не сошел с ума от радости, не мог трезво рассуждать. «Планицкие мужики — хладнокровные люди. Деревенские люди — тугодумы. Но когда раскусят, в чем дело, на одном месте уже не топчутся». Мы выслушали тебя. Спасибо. А теперь пораскинем мозгами, что делать дальше? Что же дальше делать? Что? Спросят ли об этом Дриню? Или остальных? Как и что отвечать? У товарищей может сложиться впечатление, что все опять по-прежнему стало, что во главе партии кто-то есть, руководит, что все идет своим чередом… А на самом-то деле… у нас нет никакой связи. И мы сами не так уж много сделали. Каждый жил в одиночку, каждый старался выплыть, как умел. И я пришел в отчаяние. А кто не отчаивался, кто не боялся? Как страшно было в прошлом году! Как ужасны были эти бесконечные ночи! Теперь все изменилось. Нет, не все. Обстановка все та же, но дышать стало легче. Подполье еще существует, кое-что нужно изменить в нашей работе, ведь теперь фашисты встанут на путь террора. Другого они не знают, и что еще могут они теперь предпринять? А я — немец! «Ты старый коммунист и хороший человек, насколько я тебя знаю». Выходит, что я не имею права быть коммунистом, что ни один немец не имеет права быть человеком. Но ведь я не такой, как Киршнер, я могу смело смотреть этим людям в глаза. Перед ними стыдиться мне нечего. Я на таков, как Киршнер, нет, не таков!»
Все не сводили с Крамера глаз, ждали, когда он заговорит. И он начал:
— Товарищи! Мы должны бороться, да, да, бороться за людей. Ты, хозяйка, будешь работать среди женщин, среди женщин, повторяю. А вы должны привлекать на нашу сторону мужчин. У нас в руках все козыри. Вся Планица должна стать нашей.
— Хоть бы немного оружия, Крамер! Ничего не будет? У Белы Куна…
— Замолчи! Мы слушаем Крамера.
— Умник! У Белы Куна много не разговаривали: вот тебе винтовка, и иди! Потому я и спрашиваю, чтобы всем было ясно.
— Да, правильно. Со временем дело дойдет и до оружия. Но прежде всего, говорю, мы должны привлечь на свою сторону людей. В деревнях, в городе — всеми доступными нам способами. Работы будет по горло. Мы должны действовать с умом, должны действовать, словом, как наши под Сталинградом действовали. Собирались долго, зато прямо в лоб немцев стукнули.
— Большевистская тактика! Я все думал, что с этой войной какая-то промашка вышла. Нет, не вышла. Все дело в тактике, — сказал Фарник, выйдя на середину кухни. Затем он подошел к дверям в сенцы.
— Крамер! — сердито воскликнул Дулай. — Почему же в газетах ничего не пишут? Такое дело ведь не утаишь.
— Хорошо, что ты об этом напомнил. Чуть не забыл. Сегодня вечером и фашистское радио сообщило о поражении армии Паулюса. Завтра все, должно быть, Появится и в их газетах, да. Фашисты объявили траур.
— Траур? Иди ты!
— И знаете, как этот траур называется?
— Ну, как?
— Национальный траур. Приспущенные знамена, никаких кино, театров, никаких развлечений. Национальный, повторяю. Значит, война идет к концу. Гитлер лежит на лопатках, ему конец пришел! Конец! Теперь все под горку покатится. Фью — и трах! И все кончится еще в этом году.
— А знаете, ведь Минат-то, может быть, и прав! Крамер, дорогой, неужто оружия никакого не будет? У Белы Куна долго не разговаривали, там…
— Тише ты! Словно в корчме! — прикрикнул Фарник.
— Я только хотел сказать… — начал было оправдываться Яниска, показывая на Крамера.
— Товарищи! — Микулаш встал. — Завтра все поедем в Правно. Все до одного! Фарник выпросит у Пастухи коней и сани, и мы съездим в город. Очень мне любопытно поглядеть на фашистов. И на их карту. Да они все теперь попрячутся. Я просто с ума сойду от радости.
Микулаш уже ни в чем больше не сомневался.
— Можем и поехать. Коней я у Пастухи выпрошу. И сани. Он даст. Я что-нибудь придумаю.
— Но никаких провокаций, товарищи! Никаких провокаций, повторяю. Мы все еще в подполье.
— Конечно! Чего ты боишься? Я не я буду, если хоть один из них покажется на улице.
— Дорогой, — спросила, положив руку на плечо Крамеру, жена Микулаша, — а что я должна с женщинами делать?
— Вот что нужно, хозяйка…
Фарник прислонился к двери, его лохматые брови нахмурились. Он уверял себя сейчас, что ждал такого известия с первого дня, с тех пор, как стоял на площади в Правно, когда пришел Дриня с газетами и сказал: «Через месяц здесь будут наши. Готовьте красные флаги». Он этого ждал. Был уверен в победе, и сегодняшний вечер должен был когда-нибудь наступить! Не сегодня, так через неделю или через месяц, но наступил бы. «Дело решает тактика. Все сделала большевистская тактика: собирались долго, зато прямо в лоб немцев стукнули. Мощь немецких армий растекалась, как вода по площади в Правно, и потеряла свою силу. Существуют такие законы давления. А Дриня себя совсем не жалеет. Он человек умный. А я его обидел. Когда завтра мы поедем в город, Дриня понаблюдает за Леммером. Только увидит ли? Теперь его барабаны меня не испугают. Что видит Леммер в будущем? Видит ли он свою старость, своих детей взрослыми? Нет, не может он ничего этого видеть! Теперь он ничего не может видеть в будущем, как раньше Микулаш не видел. Как Микулаш! В этом году все кончится, в этом году наступит мир! Леммер ничего не может видеть в будущем, бедняга Леммер! Леммер бедняга! Леммер… А все дело в тактике…»
КОМАНДИР ЖЕЛЕЗНОЙ РОТЫ
Они шли всю ночь и часть дня заснеженной равниной, сделали привал на снегу и затем шли еще одну ночь по дорогам, забитым войсками. И под утро, когда уже брезжил рассвет, вошли в переполненный войсками город. Солдаты располагались на улицах, во дворах, в большом парке рубили деревья и разводили костры.
Порывы ледяного ветра крутили и рвали огонь костров, и языки пламени метались и взлетали клочьями, исчезая в воздухе. Солдаты грели над огнем почерневшие обмороженные руки и, чтобы согреться, топали, словно табун подкованных лошадей. Злобно звучали хриплые голоса. Солдаты садились орлом там, где стояли, и это казалось совершенно естественным, никого не возмущало. Окружающие равнодушно смотрели на свежие испражнения, разве что кто-нибудь скажет: «С такой ерундой, как дизентерия, в госпиталь и соваться нечего!» — вот и все.
Середина улицы была свободна, по ней шли войска. Кляко ехал верхом. Он посинел от холода, но продолжал сидеть на коне. Перед ним была картина Страшного суда, иначе не назовешь. Он отдал бы несколько лет жизни, если бы мог воскресить Виттнера и показать ему этот город. Поражение! Разбитая армия похожа на престарелую пьяную проститутку, которая вышла на панель.
В этом городе не было видно начищенных сапог. Шагали тысячи ног, завернутых в тряпки, двигались тысячи нечеловеческих голов, закутанных в шерстяные платки, шла армия в женской, мужской штатской одежде. Определить воинские звания этих людей было невозможно. Военные в меховых пальто могли быть офицерами, потому что их насчитывались единицы, но они могли быть и из полевой жандармерии. Над меховыми пальто торчали огромные головы.
На доске висел клочок бумаги с надписью: «Не пейте спиртного, опасно для жизни!» Под надписью — череп и скрещенные кости.
— Не пейте спиртного!.. В этом городе все обезумели, — вслух произнес Кляко и рассмеялся так, что стоявшие на тротуарах подумали было, что он сошел с ума.
Дул порывистый ледяной ветер, но Кляко не замечал окоченевшего тела, не думал о застывших ногах. Его поразила эта картина всеобщего разложения, он никогда не предполагал, что оно может быть столь всеобщим и в то же время сконцентрированным на таком незначительном по размерам пространстве.
Этот хаос распада вдохновлял Кляко, ибо его самого он не захватывал. Он был здесь чужаком, окруженным врагами. Его больше не злило, что сводную батарею сопровождает два десятка немцев и что ему так и не удалось бросить где-нибудь по пути хотя бы еще одну повозку с боеприпасами. Он даже и не пытался это сделать. Еще ночью он приходил от этого в отчаяние, он приходил в отчаяние от всего, но лишь потому, что ночь мешала ему видеть многое. Двадцать шесть повозок со снарядами подкинул ему этот проклятый раздушенный капитанишка, да еще пять своих — всего, значит, тридцать одна. Снарядов хватит до конца зимы. Когда батарея окажется на новых позициях, он, Кляко, прикажет вырыть при орудиях окопы, подложить бикфордов шнур и взорвать все к чертовой матери. Ребята здорово это придумали. Они не смогут достать из патронных сумок ни одного патрона, им придется оставить там их содержимое, и дня через два уничтожат орудия, превратив их в бесполезную груду стали. Он сам прикажет сделать это, когда словацкая сводная батарея останется на огневой позиции одна. После этого он сам, под свою ответственность отпустит солдат на родину. Под свою ответственность? Он ведь с ними не пойдет. Но сводная батарея подчинена немецкому командованию, на новых позициях едва ли оставят одних словаков. Придется каждую ночь прятать по нескольку повозок со снарядами. Куда? Выкопать большую яму где-нибудь в лесу. А будет ли еще там лес?..
Планы возникают, вытесняют друг друга, и все до одного — наивные, нереальные, потому что Кляко не хочет понапрасну проливать кровь; ведь действуя на крохотном боевом участке, он не в состоянии учесть всех привходящих обстоятельств.
«Не страх ли это? Не боюсь ли я? Нет, не боюсь! Но солдаты рвутся домой и затаили подлые мысли, они воображают, что дом — это разостланная постель. Молчуны женаты, и это их тянет домой сильнее всего. Разостланная постель всегда выглядит заманчиво, и я готов поспорить на что угодно, что окопы, вырытые на старых позициях, — выдумка молчунов. Мысль сама по себе очень хорошая, и если мы очутимся одни, то его воспользуемся. И тогда я отпущу солдат домой, пусть пробиваются сами. Они достаточно сообразительны, чтобы добраться. Им поможет наступивший хаос. На юге Украины их заменят свежим пополнением. А мне что делать? Идти с ними я не могу. Перед уходом со старых позиций я наболтал всякого вздору, не сдержался со зла. Всему виной этот раздушенный шут, спешивший уложить свои чемоданы. Я потерял голову, вот что. Солдаты подлецы. Не все, конечно, но среди них найдется несколько подлецов; если я вернусь домой или на Южную Украину, они все свалят на меня, и… черт-те что будет. Покажут мне небо в клеточку и еще кое-что вдобавок. Каптер терпеть меня не может и продаст при первом же случае».
Кляко привстал в стременах и громко крикнул:
— Каптенармуса к поручику Кляко!
Этот зов передали в задние шеренги, и там он стих в грохоте колес.
Явился каптенармус.
— Возьмите коня у учителя и подъезжайте ко мне.
— Слушаюсь, пан поручик! — Каптенармус прискакал на коне учителя. — Прибыл по вашему приказанию, пан поручик. — В голосе его был страх.
— Ты разговаривал с немцем. Мне об этом известно.
— Но, пан поручик, я все время лежу в повозке!
— У тебя ничего такого не найдется? Холодно!
— Ни капли, пан поручик. Клянусь богом…
— Придержи язык!
«Этот тип продаст меня при первом же случае. Каждый каптер из кожи вон лезет, чтобы выслужиться, и потому его следовало бы расстрелять… Снег белый, совсем белый, на нем все хорошо видно. Если я шлепну каптера, могу и я отправиться домой. Дома нас ждут разостланные постели. Черт побери, разостланные постели! Хватит! Заткнитесь, поручик Кляко! Подонки и трусы, закройте пасть! Вы не слышите, герр командир Кляко? До каких пор вы будете уклоняться?.. Я хорошо, по-мужски, говорил перед уходом со старых позиций… Мне никогда не придется стыдиться этого. Я отведу солдат на новый участок, они славные ребята, там что-нибудь придумаю, может, еще и по пути туда придумаю, и пусть они после этого уходят. Адье, адье! Я останусь. Каково мне одному придется, сколько времени я проведу один? Горы! Хорошо, что здесь есть горы! В этих горах я должен встретить их! А будут ли горы на новых позициях? Если их не будет, придется вернуться сюда. Самое важное, что русские — славяне. Не нужно бы, чтоб этот снег был такой белый, и не должно быть его столько. На нем все слишком хорошо видно. Еще прилетят самолеты, и от меня останется мокрое место».
Так думал Кляко в ту ночь, когда батарея оставила старые позиции.
А сейчас был день. Поручик ехал на коне по городу, дожившему до Судного дня. Кляко больше не строил планов, а смотрел, наслаждаясь зрелищем. Но он знал, что, какой бы план он ни придумал, с этим хаосом придется считаться.
Порывы ледяного ветра свистят и уносят клочья пламени. Огонь согревает тысячи почерневших пальцев…
Кристек еще до въезда в город слез с повозки Шамая. Он шагает, придерживаясь за нее правой рукой. Он не устал, ему не хочется спать, он мог бы долго, еще очень долго вот так шагать, потому что человек — это вол и, будь у него еще рога в придачу, он был бы еще более совершенной скотиной, еще лучше вола, этого неповоротливого животного. Если человек не опомнится, навсегда останется дураком, так у него и рога вырастут. «А что значит, скажите на милость, «опомниться»? Объясните мне это таинственное выражение, и я успокоюсь. Я буду слушать вас, словно школьник. И, слушая, буду слегка раскачиваться, как полагается прилежному школяру. Я не пну вас ни в пах, ни под коленку, я человек цивилизованный. Но вполне возможно, что я заеду в морду тому, кто станет давать мне объяснения… Ни в чьих объяснениях я не нуждаюсь. Я слишком неповоротлив для этого. Тело, сапоги, вши, мундир, ремни, плюс мать-гравитация. Мать-земля и ее притяжение… Так будет точнее. Итак, начинаем! Нет, не надо ничего начинать, ни в чьих объяснениях я не нуждаюсь…»
Дует порывистый ледяной ветер — Кристек улыбается, потому что в нем сдвинулись с места лавины слов. Вонючая каша этих слов из него так и валит. Это больно, но эта боль доставляет наслаждение, самое лучшее из того, чего можно здесь достигнуть. Кто не понял всего этого, кто не пережил и не прочувствовал этого очищения, у того всю жизнь мозг находился в состоянии отвратительного покоя, а глаза были закрыты. Что происходило в душе вола? Да и есть ли у него душа? Да, она была и есть, вот в чем вся беда! Вол, пошевели мозгами! Шевели, работай мозгами! Мозг управляет десятью пальцами, одной рукой — половина мозга, правая или левая рука — не все ли равно. Мозги! Дай им работу, пораскинь ими, подхлестни их, дай пинка своим мыслям, и они начнут послушно работать. Трудное это дело, оно тянется достаточно долго, но придет день, и ты отпразднуешь победу. И это будет тогда, когда ты потеряешь душу. Это мой день, мой торжественный день, он настал в этом городе, и я могу назвать его своим. Сегодня я выплюнул душу, покончил с этим паразитом и пугалом. Она угнетала меня, а я не понимал, что меня гнетет. Может быть, только сию минуту я ее того-этого, не знаю. Но души во мне больше нет! Я больше ее не боюсь! Я могу презирать кого угодно и что угодно. Могу презирать людей и пространство — все имеющее размеры и не имеющее их. Вселенная — это грязная лужа. Я горд, что постиг это. Ничто не привязывает меня к луже. Ничто, ничто, ничто! Я свободен! И мне нет нужды держаться за эту повозку! Руки прочь от нее! Я иду! Иду, ни за что не держась! Я шагаю, я марширую по городу, который имеет право называться моим. Мой город! Ты и я! И есть еще третье понятие, о котором хорошо знаем лишь мы двое. Ты и я. В этом ничто может поместиться и лужа».
И Кристек шагает, лицо его озарено внутренним светом, как у святого. Лицо его дышит силой, надеждой, пылает, погруженное в безграничный покой.
«Блаженный! — рассуждает Виктор Шамай. — Точь-в-точь такой святой есть на картине в нашей церкви, и пан священник любит говорить про него в своих проповедях. Он говорит — нет, говорил, потому как сейчас у нас новый священник, не знаю только, помер ли старый или еще что с ним вышло… Но он говорил в проповеди, что был бы очень доволен, если бы у всех прихожан было такое благостное лицо, как у того святого Винцента на картине. Это благодать божья! Пан поручик Кристек верит, что мы доберемся до дому. Откуда иначе этой благости взяться? И я верю, что так и будет взаправду, хоть и неказисто выглядит наше возвращение. Господа пожертвовали нами, но пан поручик Кляко что-нибудь уж придумает, он обведет этих проклятых швабов вокруг пальца. Эй, слышите? Знаете ли вы, какой у нас поручик? Отец! Не поручик, а отец родной! Десяток ваших генералов с ним не сравнится. Где им, беднягам, без своих ленточек и бантиков. Кажись, русские отделали вас будь здоров. Отделали! С утра до ночи любовался бы вами, до чего ж теперь хорошо и легко было бы у меня на душе! Тьфу, свинья ты бесстыжая! Что ты делаешь? Охальник! На виду у всех раскорячился! В штаны наложил!.. Мы уже домой идем, доберемся туда — а вы тут сдыхайте все до единого! Не глядели бы глаза мои на вас, а то еще жалеть станешь. Вот было бы чудно-то! И когда всевышний поможет нам выбраться из этого несчастного города? Хорошо бы шагу прибавить. Домой идти надо быстро… Вот благодать-то! Хоть бы холодно так не было… Благодать! Пан поручик Кристек вылитый святой Винцент…»
Порывистый ветер завывает на перекрестке.
— Ростов! Путь на Ростов еще свободен! — Немецкий обер-лейтенант показал на широкую улицу, ведущую к северу. — Мы повернем вправо. На восток!
— На восток?
Они ехали рядом, оба верхом. Иногда касались друг друга коленями.
— Куда мы направляемся?
— В свое время узнаете, — ответил немец, не глядя на Кляко.
— Я командир и отвечаю за своих солдат. Я должен знать, куда мы идем. Нужно подготовить ночлег для солдат, воду для лошадей, конюшни, а я ничего не знаю. Я требую, чтобы вы мне все сказали.
— Вы несколько нервозны. Две ночи без сна, это способствует нервозности. Я привык не спать по ночам. Как сова.
— Это меня не интересует.
— Упрямец вы. А меня все интересует. Почему, например, молчат ваши солдаты? Они что, немые? Но я ведь не проявляю нервозности, не спрашиваю вас об этом?
— Вероятно, у них есть на то веские причины, — осторожно отвечает Кляко.
Он смотрит на обер-лейтенанта, прищурив глаза. Немцу лет тридцать. Упитанное, продолговатое лицо, нижняя губа слегка оттопырена. Обер-лейтенанту не удается скрыть насмешку.
— Я не спрашиваю вас об этом, — как ни в чем не бывало продолжает обер-лейтенант. — Я понимаю, в чем дело. Я знаю, что ваша словацкая армия отходит в тыл, а вы остаетесь здесь. Догадаться не так уж трудно, почему молчат солдаты. Так?
— Объясните положение более конкретно. — Нужно втянуть немца в разговор, узнать, с кем он, Кляко, имеет дело.
— Они уже по горло сыты войной.
— А вам это кажется странным?
— Вы говорите, как штафирка. А вам самому хочется воевать?
— Такие вопросы не задают военному, господин обер-лейтенант. Я кадровый офицер. Получаю жалованье, плюс полевую надбавку — за службу на фронте.
— Спасибо за откровенность. Курт Грамм, обер-лейтенант Курт Грамм. Я лишь колесико в этой колоссальной войне и, возможно, должен был просить вас объяснить своим солдатам, что я, обер-лейтенант Курт Грамм, тут ни при чем. Я вас об этом не прошу. Я не верю словам, которые можете сказать вы, я или кто угодно. Здесь слова ничего не значат. Эта страна, ужасные люди, которые ее населяют, уничтожили мою веру в слова. С большевиками можно говорить только таким языком. — Обер-лейтенант поднял руку и показал на деревья, где висели люди в гражданской одежде. — Они делали спирт, продавали его нашим солдатам, а какой солдат откажется от выпивки? Он платит триста марок за литр — и покупает смерть. Он покупает денатурат. Может быть, вы купите настоящий, чистый спирт, и тогда вы можете говорить, что вам повезло. Настоящий спирт стоит те же триста марок. Но я считаю своей обязанностью напомнить вам, что вы подчинены нашему командованию, а в немецкой армии анархия нетерпима.
— Это что, угроза?
— Нет. — Немец любезно улыбнулся. — Совет. Дружеский совет. Вы симпатичный, откровенный, немного несдержанный молодой человек. Я бы не хотел, чтобы ваши солдаты ввязались в какую-нибудь историю. Я не фантазер и трезво смотрю на вещи, пожалуй, даже слишком трезво, и на ваш вопрос, куда мы направляемся, я все еще не ответил только потому, что это совсем не важно. Это не деревня и не город. Вам будет там хорошо.
— Там степь? Горы?
— То и другое.
«Курт Грамм — опасный человек. Он сказал лишь часть того, что ему известно и что он подозревает. Анархия! Какой смысл вкладывают в это понятие немцы? Неповиновение приказу? Или выполнение его с явной неохотой? Или они имеют в виду случайно вырвавшиеся слова, слова, сказанные где-нибудь втихомолку? Одного такого слова достаточно, чтобы угодить в штрафники, а в критическом положении и под расстрел. Что известно Грамму? Что еще может он знать? Важно и то, что он подозревает. Немцы попросту нас конвоируют. Они растянулись цепью вдоль всей нашей колонны и стерегут нас. Господин Курт Грамм опасный человек! Он подозревает, что мы попытаемся воспользоваться все возрастающим беспорядком. Это значит… да, это значит, что я должен принять меры, не предусмотренные Граммом. Боже, шепни мне, что делать, или я с ума сойду от всего этого».
Сводная батарея продолжала продвигаться к востоку. Казалось, весь мир тронулся ей навстречу, весь мир идет на запад, одна лишь словацкая батарея направляется в обратную сторону.
Отступающие немецкие солдаты смотрели на нее, удивлялись, не понимая, что будут делать эти солдаты в незнакомой форме там, откуда пришлось бежать немцам.
Здесь, где расположилась батарея, и в самом деле были и горы и степь. Занесенная снегом бесконечная белая степь с разбросанными кое-где голубыми пятнами озер. На юге тянулись горы. Они казались значительно выше тех, что находились на прежней позиции, и были видны совсем близко, всего в каком-нибудь полукилометре. Низкий кустарник вплотную подступал к зданиям, по-видимому, недостроенной усадьбы совхоза. Впереди — кирпичный неоштукатуренный дом, низкий и длинный. Посередине фасада — двери. Слева и справа от дверей — по пять окон. Окна справа застеклены, из двух труб идет дым. Левая половина дома мрачная, кирпичи над окнами закопчены, черепичная крыша провалилась — по всей вероятности, от бомбы. Второе двухэтажное здание — повыше, оно значительно лучше, но совсем без кровли. Трубы торчат, как пальцы. Жилой дом. Позади домов — четыре огромнейшие недостроенные конюшни.
Батарея направилась туда, лошадей выпрягли.
— Где здесь вода, пан поручик? — спросил у Кляко повар с двумя ведрами в руках…
— Я еще и воду тебе искать стану! — рявкнул на него Кляко и добавил по-немецки, обращаясь к Грамму: — Им и воду еще найди!
— С солдатами нужна прежде всего строгость, — ответил Грамм.
Кляко только сейчас заметил, что Грамм прихрамывает, — правая нога у него была короче левой.
— Не хочу вам льстить, но меня удивляет ваш немецкий язык. Вы говорите очень бегло. Впрочем, это, пожалуй, не совсем точно. Вы сразу находите слова. Ваши коллеги мне говорили, что вы научились немецкому языку в гимназии. Мне просто не верится. Вы не из немецкой семьи? Или, быть может, ваши родственники… Вы не обязаны отвечать, это, так сказать, исключительно личное любопытство.
— Разве у меня немецкая фамилия?
— При чем тут фамилия? В моей роте есть солдат по фамилии Танеса. Та-не-са! Загадочное происхождение. Или фельдфебель Лессуа. Оба немцы. Нет, фамилия тут ни при чем.
Грамм многозначительно помолчал и, не получив ответа, закусил губу.
По пути к строению офицеров разделили кусты — они обогнули их с разных сторон. На самом большом расстоянии друг от друга они внезапно переглянулись и тотчас же отвернулись. Кляко не мог избавиться от неприятного ощущения. Когда они снова оказались рядом, Грамм пояснил:
— Соседство не из приятных. Я не должен, полагаю, подчеркивать, что леса в этой стране так же опасны, как и люди. Здесь следует поставить усиленную охрану.
Кляко заметил в кустах часового.
Они подошли к двухэтажному зданию, и после короткого совещания Грамм отправился в дом с пятью застекленными и пятью закопченными окнами.
Из-за угла вышли двое часовых.
«И тут часовые! Выяснить расстановку часовых, состояние роты Грамма и ее вооружение. Все это надо узнать сегодня же. Теперь я бы соснул часок. Итак, мы будем жить здесь, на первом этаже. Выходит, что второй этаж приготовлен еще для кого-то. Для кого же? Там нет ни единого окна. Вот солдаты будут браниться! Курт Грамм хромает, гм. Итак, он хромает. Если он станет так же внимательно следить за мной, как я за ним, то и до греха недолго. А он следит. Почему хоть однажды судьба не пошлет мне дурака? Герр командир Кляко, ступайте спать! В вашей голове станет яснее…»
— Господин фельдфебель, вы когда-нибудь видели словаков?
— До сих пор я никогда не видел словаков, господин обер-лейтенант.
Грамм раздевался. Он сидел на постели и курил. Фельдфебель Ринг стоял почти навытяжку и сдержанно улыбался.
— Вы скоро их увидите.
— Охотно посмотрю на них, господин обер-лейтенант.
— Охотно?
Грамм встал, снял с себя брюки, вывернул их наизнанку и принялся искать вшей.
Когда Ринг не знал, что ответить, он поднимал голову, слегка отворачивался и смотрел в угол потолка, где сходились три прямые линии.
— Это не армия в нашем смысле слова, это кочевники и анархисты! Господин фельдфебель, вы отвечаете мне головой за то, что наши солдаты не будут с ними соприкасаться… Разве рота Грамма не известна своей железной дисциплиной?
— Так точно, господин обер-лейтенант. Рота господина обер-лейтенанта Грамма известна своей железной дисциплиной. Я распоряжусь, чтобы наши солдаты не соприкасались со словаками.
— Хорошо.
Грамм снял кальсоны и остался голышом. Ринг старался сохранять серьезность. Грамм вывернул кальсоны наизнанку. Это были самые обыкновенные вывернутые кальсоны, но фельдфебель Ринг продолжал стоять с серьезным видом.
— А вы знаете, почему воюют словацкие офицеры?
— Не могу знать, господин обер-лейтенант, почему воюют словацкие офицеры.
— Потому что они получают жалованье, плюс полевую надбавку за службу на фронте. Смешно.
— Так точно, господин обер-лейтенант. Смешно.
— Ничего тут смешного нет, это очень плохо. Это происходит от недостатка национального самосознания, а отсюда недалеко и до измены.
— Так точно, господин обер-лейтенант… — Ринг повторил всю фразу, но вместо слова «самосознание» сказал «воодушевление». Грамм осторожно поправил Ринга, и тогда тот повторил фразу правильно.
— Здесь их командир. — Голый Грамм проковылял к окну. У него было женское белое тело.
— Так точно, господин обер-лейтенант. — И Ринг промаршировал к окну.
— Он в чине лейтенанта и говорит по-немецки ничуть не хуже нас с вами.
— Это постыдно! Он осмеливается отрицать свое немецкое происхождение, а мы не в силах воздействовать на него. Это постыдно!
В углу под потолком сходятся три линии.
— Вы хорошо меня знаете, надеюсь, вы меня хорошо знаете, господин фельдфебель. — Грамм вытряхнул подштанники и достал из-под подушки яркую пеструю пижаму. Тем временем Ринг усердно ему поддакивал. — Я требую от своих солдат железной дисциплины. Они должны оказывать мне знаки уважения, какие положены командиру. Дело не в моей особе. Я командир! Если бы вы были командиром, а я фельдфебелем, вы должны были бы требовать от меня точно такой же дисциплины. Если бы вы ее не требовали, я счел бы своей обязанностью тактично и деликатно предупредить вас об этом. — После каждой фразы Грамм делал паузу. Тогда Ринг мог говорить, повторять слова Грамма. Ринг мог и не повторять его слов, но он не был идиотом и потому повторял и поддакивал. — Фамилия этого лейтенанта — Кляко. Он лейтенант словацкой армии, армии наших союзников. А между нашей армией и их армией существует не-ко-то-рая разница. Тем хуже для них. Вы ее поймете, когда я скажу, что он разговаривал со мной, словно с каким-нибудь капралом. Вам это понятно?
— Это вообще невозможно понять, господин обер-лейтенант.
— Хорошо. Я лягу. Проследите, чтобы эти кочевники не заняли второй этаж. Вы знаете, что я приготовил его для альпийских стрелков. Они прибудут сюда через три дня, господин фельдфебель! Вам не кажется странным, что в степь посылают альпийских стрелков? Над этим вы не задумывались?
В углу под потолком сходятся три линии.
— А я об этом думаю… Что у вас тут нового?
— Хлебный паек уменьшили вдвое.
— Что? — испуганно переспросил Грамм.
Три прямых сходятся в углу под потолком.
— Что еще?
— Больше ничего.
Ринг забылся, подумав о хлебе. В сорок первом году он был под Москвой. В тот раз, как и сегодня, им уменьшили хлебный паек, а на следующий день большевики перешли в наступление. Рота Грамма понесла тяжелые потери: было убито двадцать человек. Лейтенанта Грамма ранило в ногу под коленом, а уцелевшие солдаты жалели, что он не был двадцать первым.
— Господин фельдфебель Ринг забывает, что он говорит со своим командиром?
Грамм покраснел от гнева. Он встал, сбросил с себя одеяло.
— Больше ничего нового нет, господин обер-лейтенант.
— Можете быть свободным!
— Так точно, господин обер-лейтенант! Я могу быть свободен! — Ринг щелкнул каблуками, а когда командир кивнул, громко произнес: — Хайль Гитлер! — Повернулся и вышел вон.
— Идиот!.. — проворчал Ринг в коридоре, вытащил носовой платок и вытер лоб и шею — в комнате было жарко. Обер-лейтенант Грамм любил тепло и собственные слова, хоть и говорил, что в этой стране он потерял веру в слова. — Идиот, идиот, миллион раз идиот! Тьфу, даже пот прошиб!
В коридоре с каменным полом гулко отдавались шаги Ринга, и его слов никто не слышал.
Призадумавшийся Грамм не ответил на нацистское приветствие Ринга. Он был под Москвой. Тогда вдвое уменьшили дневной паек хлеба, и на следующий день началось русское наступление. Его ранило в ногу. «А что будет теперь? Война все продолжается, скоро пойдет третий год. Сейчас февраль тысяча девятьсот сорок третьего года. Невероятно! Что позволяют себе эти большевики? Пе-ре-стре-лять! Кто позволил им двинуться на Ростов? Кто позволил им наступать на Кавказе? О Сталинграде точно ничего не известно. Шестая армия удерживает город, перерезала Волгу. Но как же так получается? Бои идут к северу от Ростова, под Ворошиловградом и под… тьфу! Эти большевистские названия не выговоришь! Как же так получается? Значит, Сталинград окружен. Невероятно! Окружена Шестая армия! Невероятно! Армия — это двести пятьдесят тысяч человек… «Отче наш, иже еси на небеси…» — сколько же это автомашин? — «да святится имя твое, да приидет царствие твое» — невероятно! — «да будет воля твоя яко на небеси и на земли…» Большевики воображают, будто могут делать, что им вздумается! — «хлеб, да, хлеб наш насущный даждь нам днесь» — половинная норма — «и остави нам долги наши» — расстрелять! — «яко же и мы оставляем должником нашим, не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь».
Грамм еще немного подумал, потом встал, опустился на колени и смиренно помолился богу. Так когда-то он молился вместе со своими родителями перед сном.
— Идиот!
Теперь эти слова были слышны. Но тут не было ни стен, ни чужих ушей. Ринг, однако, сам не считал себя идиотом и придавал этому обстоятельству большое значение. Он сказал это слово уже во дворе. Прежде… да, существует «прежде» и «теперь». И человеческая жизнь, и война — все разделяется на несовместимые «прежде» и «теперь». «Прежде»… ах боже, всякий имеет право иной раз быть дураком. Прежде он воображал, что война не затянется и у него не будет ни времени, ни случая заслужить себе отличия. Теперь же он опасается за ее исход. Фельдфебель Ринг понимает, что он не генерал, что и до обер-лейтенанта ему далеко. Вот уже месяцы, как он генерала не видел и сказать о нем ничего не может. Зато об обер-лейтенанте Курте Грамме Ринг может сказать, что тот спокоен и за исход войны не опасается. Тиранит своих солдат, вбивает им в головы железную дисциплину. При фельдфебеле донага раздевается, грязные подштанники выворачивает, бьет вшей без всякого стеснения, чтобы Ринг ни на миг не забывал, что в немецкой армии есть начальники и подчиненные. И обер-лейтенант совершенно спокоен.
Зато у меня на душе неспокойно. Потому, должно быть, что я простой фельдфебель. Но кто мне ответит на вопрос? Кто объяснит, почему в нашей роте перестали даже смеяться? Почему солдаты лежат на постелях и глядят в потолок, заложив руки за голову? А другие сидят, стиснув голову руками? Придешь в казарму, и все, кто лежал или сидел, тотчас вскакивают и хватают что под руку попало и начинают возиться, будто дело какое делают, между собой разговоры заводят. А я все знаю — только что за дверью стоял, подслушивал, как все фельдфебели, и ничего не мог услыхать, там было совсем тихо. А войдешь — и тишины как не бывало: такая удивительная суматоха поднимается, видимость жизни, и в ней столько мелких радостей и пустяковых интересов. Солдатам лежать жутко, сидеть тоже. Пусть я простой фельдфебель, мне все это понятно, потому что я обо всем много думаю. Было «прежде» и есть «теперь»? Ведь когда я, фельдфебель Ринг, вхожу, солдаты боятся сидеть или лежать: тот, кто лежит или сидит, думает и вспоминает. Солдаты меня боятся. Они боятся, что я догадаюсь об их мыслях и воспоминаниях. Я не должен этого знать, не обязан догадываться, а уж если я не должен знать, так и никто, никто знать не смеет. Они понимают, что это стоило бы им головы. Вот они и остерегаются, хотя я всего лишь фельдфебель. Они меня боятся, как я боюсь Курта Грамма. Я прикидываюсь, будто мой наивысший идеал — вдалбливать в солдатские головы железную дисциплину и нести службу, а больше ничего — только знай нести службу и доказывать на каждом шагу, что я давно вырвал из груди сердце и ничегошеньки меня не волнует — даже мысли о жене и о детях, изображать из себя этакого твердокаменного служаку, не падающего духом и при нынешней, все возрастающей панике, никогда не сомневавшегося в исходе этой войны, неколебимо верящего в конечную нашу победу. Альпийские стрелки!.. Почему альпийских стрелков направляют в степь? Будто это не ясно, как дважды два, что русские их с Кавказа турнули… Но я не идиот… разумеется, это дела сложные, в которые фельдфебелю нос совать не положено, господин обер-лейтенант Грамм. А как вы? Вы спокойны, несмотря ни на что! Может, и ваше спокойствие обманчиво? Солдаты боятся меня, я — вас, а не оттого ли вы спокойны, что боитесь своего начальника? Тот настолько могуществен, что ему незачем постоянно быть при вас, а вам не к чему торчать у него на глазах. Вам и подписи его на бумаге хватит да вызова к нему раз в неделю. А после вы зовете своего фельдфебеля, свою верную моську и все ему повторяете… Не знаю, я всего лишь фельдфебель! Может, вы и не все мне говорите, мало ли чего мне знать не положено! Но вы бьете вшей, говоря со мной! Вы не знаете — да и откуда вам знать, вы же идиот, — что мне отчасти даже бывает приятно, когда я вижу жирных вшей, напившихся вашей крови. Колоссально! Вши — решительно демократический элемент. Я всегда буду это говорить и хотел бы дожить до той минуты, когда можно будет сказать вам все это прямо в глаза. Это было бы еще колоссальнее! Не знаю, может, это достойное внимания насекомое не дает покоя и вашему начальству. Вообще, я мало что знаю о вашем начальстве, могу лишь предполагать, что и оно живет в страхе, и так все, вплоть до генералов. Они боятся сумасшедших, но чего боится он, самый главный сумасшедший, мне разгадать не удалось, должно быть потому, что я всего-навсего фельдфебель, и только. Мы боимся сами себя, мы боимся друг друга, я думаю, так оно и должно быть, иначе мы не победили бы в себе еще больший страх — страх перед русскими. Зачем мы полезли с ними в драку? Русские ужасны. Как случилось, что этого никто не предусмотрел? Плохо то, что голова у меня фельдфебельская, и я ничего не в силах придумать. Надо обходиться той, что есть, я должен поддерживать железную дисциплину в роте, тянуться перед голым обер-лейтенантом и благодарить бога за сумасшедших, которые над нами поставлены, и за главного сумасшедшего, до которого не достать, как до бога. Он далек и невидим и наводит на всех ужас только тем, что где-то существует. И страх этот доходит до меня, а я нагоняю его на всех своих подчиненных в роте. Раз мы полезли в войну с ними, перед лицом своей совести я снова повторяю, что только этот страх поддерживает во мне надежду все-таки когда-нибудь победить, надежду, что я все-таки вернусь в родной Гарц. Там шумят ели, бегут чистые, как Христова слеза, ручьи. Я питаю надежду, что останусь в этой стране не дольше, чем потребуется, никогда сюда не вернусь, не навещу ни одного приятеля или знакомого из тех, у кого здесь будут поместья и плантации. Мои нервы не выдержат этого… Кажется, сегодня не будет солнца… Черт побери! Эти кочевники выглядывают из окон на втором этаже, а обер-лейтенант ясно сказал их командиру, что они должны разместиться на первом. Знают ли что-нибудь эти солдаты о дисциплине? Бегу!..»
Ринг помчался что есть духу к двухэтажному зданию, а словацкие солдаты отпускали по его адресу какие-то непонятные шуточки.
Трое с мешками и винтовками тащились вверх по лестнице.
Под сапогами хрустело стекло.
— Эй, вы там, куда лезете?
Солдаты оглянулись, в упор разглядывая Ринга.
— Вам надо вниз, на первый этаж! Словаки на первый этаж! — Ринг показал жестом, где, а они как захохочут и марш наверх. Ринг обогнал их и загородил им дорогу. — Словаки на первом этаже! На первом этаже!
Они, словно ничего не заметив, молча обошли его у стены.
По коридору неслись крики и топот. Ринг зашел в первую комнату. Вещевые мешки были уложены у стены, несколько солдат высунулись из окон. Человек десять лежали на полу. Фельдфебель выругался, схватил два мешка и вышвырнул их в коридор. Когда он взялся за следующие, позади него появилась тень, и он инстинктивно посторонился. Первое, что он увидел, было круглое, добродушное, ухмыляющееся лицо. Солдат, произнес:
— Швабикбоится.
Ринг ничего не понял. Потом тот же солдат вышел в коридор, принес выброшенные мешки и повторил, приложив палец к губам, то же варварское слово «швабикбоится» и громко захохотал.
— Но, господа, вам сюда нельзя…
Ринг пытался понять, в чем дело, но смех сбивал его с толку.
— Что такое? Почему вы не спите? — спросил Кляко, входя в комнату.
— Окон здесь нет, и загажено все… — недовольно загудели солдаты.
— Что? Может, вам еще и шторы повесить? Спать!
— Этот шваб все к нам привязывается. Наши мешки выбросил.
— Скажите, чтоб убирался, а не то…
Фельдфебель Ринг выглядел, должно быть, очень глупо, потому что тот же круглолицый солдат подошел и по-коровьи промычал прямо ему в лицо: «Му-у!»
Кляко увидел немца и окинул его строгим взглядом с ног до головы.
— Фельдфебель Ринг!
Разыгралась давно не виданная словацкими солдатами, единственная в своем роде сцена. Немец вытянулся, прищелкнув каблуками, отставил левый локоть от тела на положенное уставом расстояние. Правая рука образовала прямой угол с телом.
— Поручик Кляко.
Ринг не сразу решился подать руку, но словацкий офицер дважды дал понять ему, что ждет этого. Ринг протянул руку и тотчас отдернул ее, словно обжегся, затем, опустив руку к ноге и продолжая стоять навытяжку, сказал:
— Господин лейтенант, осмелюсь доложить, что для вашего подразделения мы отвели помещение на первом этаже. Здесь…
— Здесь… — Кляко кивнул.
Это привело Ринга в замешательство.
— Сюда прибудут… извините! Осмелюсь доложить, господин лейтенант, что на второй этаж прибудут альпийские стрелки. Мы ожидаем их через три дня.
— Сколько их будет?
— Этого, извините, господин лейтенант, не могу знать. Этого не знает даже господин обер-лейтенант и никто не знает.
— Вольно!
— Спасибо!
— Ребята! Отнести барахло на первый этаж — и спать! Давно пора!
— Только и знай, что таскайся. На кой дьявол?
— Не все ли равно, тут или там?
— Помочь, может, прикажете? Кого-нибудь пригласить, чтоб мой приказ выполнили? — заорал на них Кляко, и оттого, что он вдруг стал похож на Гайнича, солдаты свесили головы и пошли.
Уходя, они, словно у них отнимались ноги, зашаркали сапожищами по полу. Винтовки они волокли за собой, взяв их за дуло, вещевые мешки тащили за ремни, пинали осколки стекла. И фельдфебель Ринг, фельдфебель душой и телом, никогда в жизни не видевший и даже не представлявший себе ничего подобного, стоял, разинув рот, и тут же решил про себя, что, как только он покончит с этой своей неприятной обязанностью, немедленно отправится к своим солдатам и исполнит приказ Грамма. Рота Грамма славилась железной дисциплиной. В этом была и его, Ринга, заслуга. «Роту необходимо изолировать от этих варваров, кто их там знает, да и вообще солдата легче научить дурному, чем, хорошему. А о хорошем он быстро забывает. Это на солдаты. Их офицеры подают фельдфебелям руку, но командуют кочевниками и анархистами. Я был бы счастлив, если бы они попали в мои руки денька на два. Даже одного дня хватило бы! К вечеру они бы мочились кровью. Вот было бы колоссально! И на смертном одре они помнили бы, как я их гонял».
— Разрешите обратиться, господин лейтенант!
— Пожалуйста.
— Солдаты распущены, без…
— Дисциплина словацкой части пока что мое дело!
— Извините… — И Ринг сбивчиво пробормотал что-то.
Уходя исполнить приказ Грамма, в душе Ринг одобрил строгий тон словацкого лейтенанта. Он признал, что превысил свои права. О том, что он видел, следовало доложить обер-лейтенанту Грамму. Может ли Грамм приказывать словацкому лейтенанту, хоть он и старше по чину?.. И фельдфебель Ринг бодрым шагом хорошо кормленного тридцатилетнего человека вошел в дом, постоял перед дверью Грамма, прислушался.
— Спит…
И Ринг поплелся в свою роту.
Днем застрелился поручик Кристек. Он выстрелил себе в грудь. Рука его не дрогнула в последний миг, потому что он продолжал улыбаться и после смерти. Эта улыбка была единственным, что он оставил после себя. Кляко приказал выкопать могилу и назначил похороны на пятнадцать часов. Земля замерзла, могильщикам пришлось спешить. В их распоряжении было не больше часа.
— Глупое положение.
— Так точно, господин обер-лейтенант, глупое положение.
Грамм встал и в пижаме начал расхаживать по комнате. Рингу пришлось отступить к самой стене.
— Самоубийство при создавшейся ситуации есть проявление самой гнусной трусости и равняется измене. Это мне ясно! Но должен ли командир всегда руководствоваться своими чувствами? Или следует взвесить все обстоятельства даже в том случае, когда некоторые из них для него унизительны? Как быть?
В углу сходятся три линии…
— Мы не пойдем на похороны, пусть они сами хоронят своего труса.
— Так точно, господин обер-лейтенант. Пусть они сами хоронят своего труса.
— А если они это дурно истолкуют?
Обер-лейтенант повернулся на пятках. Он коснулся пальцем пуговицы на мундире Ринга и подергал ее. В растрепанных волосах Грамма поблескивали серебряные нити. «А это что же такое? Черт возьми! Это вошь! Вошь в волосах! Нет! Слава богу, это только перхоть. Было бы прескверно, если бы оказалась вошь. Черт возьми! Это было бы очень скверно! Платяная вошь редко заползает в волосы, а если заползет, то, по уверениям старых солдат, — это дурная примета, она сулит смерть».
— Они дурно истолкуют наше поведение, а мы не в таком положении, чтобы пойти на это. Или вы иначе думаете? — Грамм дернул за пуговицу изо всех сил, так что Ринг пошатнулся.
— Я ничего… то есть извините. Ничего другого я не думаю, господин обер-лейтенант.
— Моя рота в этой церемонии принимать участия не будет, но никто не скажет, что ее там не было. Понимаете?
— Так точно, пожалуй…
— Ни черта вы не понимаете, фельдфебель Ринг! Не лгите в глаза своему командиру. Он этого не заслужил, и он этого не желает.
— Так точно, он этого не заслужил, нисколько не заслужил!
Ринг смотрел в глаза Грамма, и в этом взгляде обер-лейтенант мог прочесть, что фельдфебель ради него пойдет в огонь и в воду и даже через три дня после смерти будет гордиться своим поступком.
— Я доволен вами. Я решил, что на похороны пойдете вы один — как представитель нашей роты.
— Слушаюсь! Есть пойти на похороны как единственному представителю нашей роты!
— Надеюсь, вы будете вести себя образцово. — Грамм выпустил пуговицу, прикрыл рот рукой и зевнул. — Я еще немного сосну…
— Я должен вести себя образцово. Что это значит? — Ринг открыл дверь в комнату, где разместилась рота, и проревел: — Шерер! Бриться! — Потом он направился в комнатушку, где он спал с заместителем Грамма, лейтенантом, который второй день болтается в соседнем городишке, ожидая прибытия альпийских стрелков. «Что должен означать приказ господина обер-лейтенанта? Прежде всего надо побриться. Я бреюсь через день. Мне полагается бриться завтра, но будет правильно, если я сделаю это сегодня. А Шерер, эта ослиная башка, должен почистить мой мундир и навести глянец на сапоги».
Ринг разулся, а когда снимал с себя одежду, вошел рядовой Шерер, простоволосый, маленького роста солдат с крохотным хитрым личиком, похожий на лису. Через руку у него было перекинуто полотенце. Он держал шкатулку с бритвенными принадлежностями и жестянку, из которой шел пар.
— Где твоя шапка?
— Что?
— Одежду и сапоги вычистить! Я потом все посмотрю. А ты хорошо знаешь, что означает, если я говорю: «Потом все посмотрю».
— Так точно, господин фельдфебель, я знаю, что это означает.
— Ну ладно.
Ринг милостивым жестом показал, что принадлежности для бритья можно поставить на столик. Шерер, взяв мундир и сапоги, вышел из комнаты, а Ринг начал бриться. «Какое наслаждение! Искупаться бы в горячей воде, вот было бы колоссально! И находятся же такие болваны — гробят себя! Я должен вести себя образцово. Что он имел в виду? Выразить соболезнование словацкому командиру нельзя. Черт возьми, ясно, что застрелился трус. Как это будет выглядеть? Что эти варвары подумают обо мне? Нас весь мир считает цивилизованной нацией. Мое ли дело решать такие вопросы? Почему их решает не Грамм, а я, всего лишь фельдфебель. Идиот! Он посылает меня на похороны, чтоб потом на мне и отыграться. Идиот! Он будет смотреть из окна, будь все проклято! А потом мне на шею сядет. Это не война, а содом какой-то, хотел бы я знать, как бы поступил бог на моем месте? Находятся же такие ослы, которые выбирают самое неподходящее время, чтобы себя шлепнуть! Я не стану выражать соболезнование словацкому командиру. Плевать я хотел на этих варваров, а вот с Граммом нужно считаться. Ох, горячая же вода. Если бы еще ванну, душ — черт побери! — и как следует, докрасна растереть спину льняным полотенцем… Я буду держаться немного в сторонке, пусть они поймут, что хоронят труса…»
— Шерер, Шерер! Осел треклятый! Порезался я. Не гляди, как баран на новые ворота, а достань мне квасцы, камешек достань, жук ты навозный!
«Черт побери, еще и это! А еще говорят, что у фельдфебеля легкая жизнь. Я знаю, кто так говорит. Господин Грамм, вы идиот! Я фельдфебель, а вы идиот! Извините…»
На похоронах не произошло ничего примечательного… А за то, что произошло, никто не мог отвечать — ни покойник, ни Кляко, ни державшийся несколько в стороне фельдфебель Ринг. Шоссе, которое было хорошо видно и по которому еще совсем недавно валила отступающая армия, внезапно затихло и опустело. Перестали рычать перегруженные автомашины, греметь конские упряжки, не шли по степи на запад пехотные части. На востоке, должно быть, что-то произошло.
«Или все немецкие войска уже отступили и мы одни остались лицом к лицу с неприятелем, или же кто-то остановил русское наступление! А что, если русские отрежут все дороги на Ростов и у нас для отступления останется только море? Это колоссально! Перепрыгнем мы его, что ли?»
Солдаты проходили мимо открытой могилы, бросали в нее по горсточке земли, а фельдфебель Ринг отправился доложить Грамму, что на шоссе, по которому отходила немецкая армия, прекратилось всякое движение.
С востока доносилась канонада.
У засыпанной могилы остались Кляко и ординарец покойного поручика. Чувствуя себя в роли родственника, ординарец стеснялся уйти раньше Кляко.
— Надо привести в порядок его вещи. Принеси их мне.
— Какие вещи, пан поручик? У него ничего не было. Мне все пришлось распродать. Ранец, простыни, запасную пару сапог, пистолет и бинокль. Деньги все ушли на шнапс. У него уже давно ничего не было…
— Я имею в виду переписку. Фотографии. В карманах ничего не нашли?
— У меня ничего нет. Ведь он не получал писем. Разве вы не знали?
После этого Кляко долго стоял, молча разглядывая в бинокль шоссе. И только сумерки прогнали его от могилы. Он уныло поплелся прочь, сгорбившись от непомерной тяжести, рой мыслей жужжал в голове, приводя его в смятение. Этим мыслям он когда-то придавал трагически огромное значение. А над могилой Кристека он понял, сколько было в них высокомерия и неуместной гордыни. Он понял Кристека только сейчас и теперь мог сказать, что хорошо его знает. Смерть Кристека застигла Кляко врасплох, но теперь он видел: в ней ничего не было странного, и ничуть она не противоречила, а, наоборот, логически завершала жизнь опустившегося человека, молчаливого или некстати ронявшего нелепые замечания. В его смерти не было ничего непонятного, ничего такого, что можно было бы назвать несправедливым. Кляко видел Кристека сегодня утром, но это был уже другой Кристек. По-прежнему молчаливый, замкнутый и неприступный, как и на старой огневой позиции, он, казалось, нашел то, чего давно искал, и потому презрительно улыбался. Эту улыбку он унес с собой в могилу. А он, поручик Кляко, командир словацкой сводной батареи, все еще в нерешительности. Уже полгода назад он сказал себе, что служит преступлению и что подло служить ему дальше. Но он продолжает служить, холопски служить и стал даже начальником. И только на недавно покинутых позициях он отважился выступить с невнятной речью. Он даже не помнит, что сказал тогда. Потом он великодушно решил отвести батарею сюда, в незнакомое место, теперь уже известное, и что-нибудь здесь придумать. Господи, насколько смерть Кристека понятнее! «Как у этого парня все было прямолинейно! Когда же я поумнею и спущусь с облаков на грешную землю? Обернись же тетерев ясным соколом! Самое главное, что русские — тоже славяне. Я перебегу на ту сторону — и во веки веков аминь. Эй, ты, опереточный офицерик, послушай, может, тебе хочется при этом бегстве еще и замшевые перчатки надеть? Или белые? А начищенные сапожки тебе не потребуются? Нет? Нет. Мозги твои еще не совсем размякли. Нужно ли тебе это, молодой человек? Тебе всегда что-нибудь нужно, но все твои желания обычно ни черта не стоят. Время от времени тебе необходимо обругать себя дураком, подонком и трусом, и ты крепко ругаешь себя, а после этого снова преспокойно живешь подонком и трусом. А когда от всего этого тебя начинает мутить, ты опять принимаешься себя ругать. Чтобы не повторяться, ты выкладываешь все это кому-нибудь постороннему. Во всяком случае, эффектно! Больше тебе ничего и не нужно. Да, любишь ты поиздеваться над собой. А ведь никчемное ж это занятие. Конечно, это отличает тебя от других, делает тебя оригинальным, но ты все-таки подонок и трус, только в иной личине. Сейчас ты надел на себя личину элегантного офицерика, пижона в белых перчатках. Для чего ты наговариваешь на себя, обливаешь себя помоями? Какой в этом смысл? Ты не расплачиваешься за это кровью, вот в чем вся штука. Ты ревниво следишь, чтобы не пролилась кровь, и остаешься прежним Кляко. Ты боишься за свою шкуру, вот оно что! Ты уже изведал кое-какие прелести жизни, уже пользуешься кое-какими удобствами, как же тебе не бояться? Но так поступают действительно только самые настоящие трусы. А разве ты другой? А что же ты делаешь, обливая себя помоями, как не оправдываешь в себе труса? А? И чем ты оправдаешь себя завтра? Завтра тоже будет день. Останется ли все по-старому? Тебя это мучит, причиняет боль. А прежде что было? Прежде тебя ничего не мучило? Не было тебе больно? Что будет завтра? Не знаю. Это, по крайней мере, откровенно. Значит, не летать тетереву ясным соколом, а попросту говоря — шлепнуться в грязную лужу. И не в первый раз. Мы уже не думаем, как спасти батарею, перестаем прикидываться спасителем. Ну, дай нам господь бог здоровья. Услышь нас, господи! Мы начинаем сначала. Первая буква в азбуке — «а». Она бывает прописная и строчная».
Кляко сплюнул и был рад, что на обратном пути никого не встретил. Солдаты на огневой позиции рыли орудийные окопы. Работой руководил поручик запаса, лысый учитель.
Кляко лег. На полу были постелены две конские попоны, он лежал не на голых досках. Единственное окно в комнате для офицеров было затянуто брезентом, но он не сохранял тепла. Под двумя одеялами удастся вытерпеть до утра. Кляко решил, что так и поступит. Его не смущало, что придется лежать тринадцать часов. Тишина стояла такая, что ему захотелось снова озлобиться, истерзаться, снова уйти в себя от этого гнетущего мира.
Из этого состояния его вывели топот и крик. Ординарец заглянул в комнату.
— Вы здесь, пан поручик?
— Что тебе надо?
— Я хотел только узнать, тут ли вы. Я принесу вам ужин.
— Не лезь ко мне! Шкуру с тебя спущу, а потом… — Не владея собой от ярости, он захлебнулся собственными словами.
Но тут вернулись остальные офицеры. Вдобавок все трое сразу.
— Темно, как в погребе.
— Свечки у тебя нет? Мне бы хоть огарок.
— Нет.
— Я, братец, этого письма так и не напишу. Уже второй день собираюсь, и ты думаешь, время у меня есть? Нету!
— Собачий у тебя характер. Только что похоронили поручика Кристека, а ты свечку ищешь!
— Ну, похоронили. Так что?.. Что из этого следует? Жизнь остановилась, что ли?
— А если остановилась?
Вопрос прозвучал страстно и заинтересовал молчащего Кляко.
— Ты ничего не видел? На дороге, по которой отступали немцы, пусто; что-то произошло на востоке. Новое наступление? Новое отступление? А о Ростове ты слышал? Как мы попадем домой? Морем? Мне что-то не хочется. Я моря боюсь… А ты не боишься моря?
Никакого ответа.
— Вы поужинали, господа? — спросил Кляко, закуривая.
— Поужинали. Извините, пан поручик, я не знал, что вы тут.
— Пора спать. У нас у всех есть о чем подумать. Курить разрешается, но я не желаю слышать ни единого слова. Вопросы есть? Нет? Тогда спокойной ночи!
— Спокойной ночи! — послышалось трижды.
Двухэтажный дом засыпал.
Мир погружен в темноту. Он уже отдыхает, как Кристек. У него тоже прострелено сердце. Кляко яростно курит.
Темнота тянется очень долго. Не до бесконечности, но долго, и нет в ней ничего величественного. Бог времени скорее уж страшен. Это марш секунд, минут и часов, движение руки с сигаретой, усталое хлопанье век, а в ушах — гул летящих самолетов. И висят надо всем этим устрашенные мысли. И самолеты в ужасе проносятся над двухэтажным домом и сбрасывают бомбы, где-то неподалеку на востоке. И тогда исчезают и не возвращаются больше мысли, а с ними улетает и ночь. Она уже не идет, а мчится, и с каждым мигом угрожает все настойчивее: «Я ухожу, ухожу очень скоро, и за мной настанет день!» И все эти угрозы Кляко должен был услышать и вытерпеть.
И все-таки в конце концов произошло то, чего он боялся: настало утро. Он не спал всю ночь, но спать ему не хотелось. Охваченный отчаянием, он не замечал бомбежки. Завтра прибудут альпийские стрелки, но завтра будет уже поздно. Решить все нужно сегодня. И небо пасмурно, словно враждебно Кляко. Он смотрит в окно. Тишина. Не грустит ли он о Кристеке? Как страшно встречать новый день! Или это присуще только отчаявшимся? Он не спал всю ночь, и ему страшно встречать новый день. Ординарец Кляко приносит всем кофе и шепчет своему поручику:
— Пан поручик, ребятам чего-то надо от вас, чего-то они от вас хотят. Боюсь, с ними что-то неладное.
— Не приставай и убирайся вон!
Кто ничего не знает и не хочет знать, кто живет лишь настоящей минутой, тот может смеяться и найдет время обругать повара и каптенармуса, которые мухлюют с сахаром и подают офицерам горький кофе, и это не кофе, а настоящие помои. Такие люди найдут время сказать, что были бы счастливы, если бы повар и каптер у них на глазах сварились в этих помоях и они увидели бы, как их потом выбросили собакам, и тому подобную муру, порожденную минутой и выдуманную людьми, что живут только ради нее.
Нет, кофе вкусный, горячий, если это вообще что-то значит. Кляко невыносима глупая болтовня офицеров. Он уходит. Солдатам что-то нужно. Он уходит так решительно, словно у него есть ясная цель, а ее-то и нет. Он утратил ее вчера, у могилы Кристека, и прошедшая ночь подтвердила это. И предъявила ему соответствующий документ — его собственное лицо, пожелтевшее и осунувшееся. И подписала его. Темный круг под одним глазом, темный круг под другим. Подписала, как неграмотный человек. Где же третий круг?
Непрерывно бомбят самолеты. И рвутся снаряды. Это похожа на раскаты грома. Дом содрогается, с востока все ближе доносится мрачный гул, глухие клокочущие звуки. Это рвутся бомбы, артиллерийские снаряды и снаряды, выпущенные танками. Кляко знает уже многое, ко многому привык, и именно потому все это ему неинтересно.
Ординарец сказал правду. Солдаты ждут Кляко, они в полном снаряжении, с винтовками, пулеметами, в касках. Когда он выходит из командирской комнаты, солдаты отделяются от стены. После бессонной ночи он воспринимает все очень четко, более четко, чем когда-либо. Может быть, это лихорадка, что вполне естественно. Ведь он прежде всего подумал, что каждый коридор состоит из двух длинных стен и похож на сильно вытянутый прямоугольник. Солдаты стоят вдоль этих длинных стен. Все организовано, все отлично организовано кем-то, кто объявил поручика Кляко, командира словацкой сводной батареи, врагом; Кляко это чувствует, как и то, что рука, устроившая все это, очень сильна. Солдаты стоят строем! Для Кляко оставлен лишь узкий проход между двумя шеренгами. Он, Кляко, преступник, да, преступник, и потому должен пройти сквозь строй. Он не баловень судьбы, нет! Но у его солдат та же судьба, и потому они имеют право на гнев, ненависть, на желтые, осунувшиеся лица. И под глазами у них ночь оставила свою печать, и они боялись этого утра. И, наверно, они тоже подумали: как странно видеть новый день!
«Сквозь строй надо пройти гордо, высоко держать голову. Упасть в середине и умереть в конце. Раз, два, три, четыре! Стой! Вольно! Должно быть, у меня лихорадка. Я похож на безумца. Чего они хотят?» И Кляко кричит солдатам:
— Что вам надо, ребята?
— Мы ждем.
— Кого?
— Вас. Мы идем домой на свой страх и риск. А вы или пойдете с нами, или…
— Или?
— Что ты с ним чикаешься? Дай ему раза, этому пижону!
— Нам никаких офицеришек не нужно. Доберемся и сами.
— Тихо, ребята!
Стены дома дрожат. Все явственней доносится канонада.
«Вот он, вот эта сильная рука, что все организовала», — думает Кляко, узнав голос Лукана.
Лукан подошел с другого конца коридора. В руках у него пулемет.
— В этом коридоре вы должны все решить, пан поручик.. Мы отправляемся домой. Это наше последнее слово.
— Ты знаешь, что я не могу вернуться. Ты лучше всех это знаешь.
— Мы будем молчать. Даю вам честное слово за всех.
— Плевать на него! Пошли! Если мы не сделаем этого сейчас, то не сделаем никогда. Эту кутерьму надо…
— Alarm! Alarm![60] — раздались крики немцев. Перед домом затрещал немецкий автомат, послышались крики, громкий топот. Солдаты в коридоре оцепенели.
— Все тут? — спросил Кляко командирским тоном.
— В конюшнях еще остались люди с Чилиной, — послушно и тихо ответил кто-то за спиной Кляко.
— Беги! — Кляко схватил за ремень ближайшего солдата и оторвал его от стены. — Веди их всех на огневую позицию.
Солдат побежал сквозь строй, предназначенный для Кляко, свернул вправо, к черному ходу.
От дверей черного хода Кляко отделяли восемь шагов. Он сделал их, успев, однако, спросить себя: «Чем объяснить, что я так спокоен?» И его голос прозвучал по-командирски:
— Солдаты! Все за мной на огневую позицию! Лукан! Ты станешь здесь и уйдешь последним! За мной! Бегом!
Он выскочил вон, воодушевив всех остальных. Солдаты побежали следом, потому что только он знал, чего хочет и что нужно делать. Один за другим они исчезали в густых низких зарослях кустарника позади двухэтажного дома.
Обер-лейтенант Грамм стоял на дворе и терпеливо ждал, когда последние запоздавшие солдаты его роты выбегут из дома. Он не имел представления о положении, никто ничего не доложил ему, не было даже телефонной связи. Фронт должен был стабилизироваться на берегу речки, километрах в восьми к востоку. В трех километрах уже несколько дней назад начали возводить вторую оборонительную линию. Но Грамм не предполагал, что русские могут пробиться сюда, да еще за такой короткий срок. Ведь командир полка совершенно ясно сказал ему несколько дней назад: «Считайте, что вы отправляетесь на отдых, обер-лейтенант. Никаких блиндажей, никаких лачуг — у вас будет дворец. А если соорудите постели, то останется только вообразить себе пляж, и вы почувствуете себя, как на Ривьере. Поддерживайте в роте дисциплину».
«Russische Panzern!»[61] He бред ли это? Слышен подозрительный гул. Это гудят моторы танков. Лязг гусениц. «Никакой паники, Курт Грамм! Ты бывал в переделках и похуже. И все же не терял головы. Два-три русских танка прорвались через фронт и сеют панику. Знаем мы эту тактику, знаем мы и русских танкистов. Это отчаянные головы. Но и в моей роте нет трусов!»
— Все вышли, фельдфебель Ринг?
— Все, господин обер-лейтенант! Словаки! — Ринг кивнул головой в их сторону.
— Достойно удивления, фельдфебель Ринг. Я рад, что ошибся. Пожалуй, за месяц я сделал бы из них настоящих солдат. Принесите мне каску. У словаков они есть, а у меня нет.
— Слушаюсь!
Ринг охотно выполнил этот приказ. Глухие громыхающие звуки на востоке его уже не так пугали.
— Не будем терять времени, — сказал Грамм, надев каску и подтянув пояс. Он дружески похлопал Ринга по плечу. Фельдфебель понял, что положение серьезно.
Рота Грамма окапывалась в каких-нибудь ста метрах от своей казармы. Солдаты ковыряли штыками промерзшую землю, вычерпывали ее касками.
Грамм не очень беспокоился за них. Они уже научились делать, что полагается. Теперь они окапывались, и потому он решил, что положение серьезное. Но, разумеется, он и не подозревал, что у его солдат не осталось никаких идеалов. «Железный вал против большевизма!», «Передовая линия обороны европейской и немецкой цивилизации!». Все это вылетело из головы солдат Грамма. Они были обыкновенными солдатами, и это была подлая война, в которой как никогда действовало правило: «Я убиваю, чтобы остаться в живых. Если я убью десяток, в десять раз увеличатся шансы выжить и выкарабкаться из этой гнусной истории. Поэтому я окапываюсь. Прежде наших убитых солдат называли «герои». Дерьмо! Совсем они не герои, а просто дохлое пушечное мясо, и стать им я совсем не намерен. Если я буду убит, меня могут все… Я говорю «все», а это, черт возьми, кое-что да значит. «Отче наш, иже еси на небеси…»
Солдаты работали упорно, пересиливая боль в окровавленных пальцах. При этом они молились. Они верили в бога, только в бога и больше ни в кого. Все остальное было ни к чему. Наплевать! Пока бог их не обманывал. Это свой парень! Они молились ему перед каждой атакой, и он их слышал. Они живы. Еще живы! Они — живое доказательство его надежной спасительной руки. Ибо те, кто погиб, то ли вовсе не молились или же молились кое-как. Факт. Мало ли лентяев на свете! Это верно. И лентяям будет крышка. Совершенно правильно. Бог молодчина, а не шарлатан. От всех он требует выполнения долга на все сто процентов. В конце концов, это и правильно. Для бога сделай все с благодарностью, и он воздаст тебе сторицей. А что ты получишь, если сделаешь кое-что для этой свиньи Грамма или для Ринга — вдвойне свиньи? Шиш! Если бы только шиш! Смерть…
Грамм залег впереди и без бинокля убедился, что солдаты оценили обстановку правильно. Русские танки были близко, меньше чем в двух километрах. Путь отступления, вчера после полудня опустевший, снова был забит бегущей армией, грузовиками, транспортерами. За дорогой по полям и всюду, куда хватал глаз, в беспорядке отступали немецкие пехотные части. Танки обстреливали шоссе. Какая-то артиллерийская батарея продолжала еще сопротивляться. Она подожгла два танка. На дороге горели грузовики, рвались снаряды. Обезумевшие лошади, с повозками и без них, носились, обгоняя друг друга между двумя линиями огня, их косило пулями, они гибли, они становились на дыбы и тихо подыхали. Возле последнего стреляющего орудия что-то мелькало. Грамм взялся за бинокль. Это были три солдата. Вдруг пространство вокруг орудия окутал дым. Грамма словно стегнули кнутом. Он положил бинокль и пошевелил губами, произнося: «Герои». После этого взвыли моторы, и шесть… восемь… одиннадцать танков выползли на шоссе, и никто не оказал им сопротивления. За танками двигались человеческие фигурки. Они бежали, и от их крика холодела кровь. Молчаливое шоссе пылало погребальным костром.
— Они нас обходят, господин обер-лейтенант, — сказал Ринг, лежавший рядом с Граммом.
Что может сказать на это обер-лейтенант Курт Грамм? Фельдфебель всегда останется фельдфебелем. И все-таки Грамм ответил:
— Если бы в моем распоряжении была двадцатиметровая вышка, я доказал бы вам, что вы ошибаетесь. Вы разве не слышите? — Он показал на горизонт, где виднелся спуск в какую-то ложбинку. И в это мгновение, словно из воды, там вынырнула башня танка, а за ней — еще четыре. Это был решающий момент. Или танки свернут вправо, к дороге, где отступает немецкая армия, или же они пойдут прямо на роту Грамма. С танков стали спрыгивать человеческие фигурки. Облачко. У-и-ии! Ба-бах! Еще облачко.
— Вы останетесь с солдатами. Словаки должны стрелять прямой наводкой. Я иду!
Грамм пополз.
Два солдата окапывались вместе. Грамм не преминул ободряюще заметить:
— Отлично, ребята! Вдвоем веселее!
— Дурак, — сказал один солдат, но Грамм не мог этого слышать, потому что на крыше дома, где до этого была размещена немецкая рота, разорвался снаряд. Второй солдат усмехнулся и вытер окровавленные пальцы о штаны.
— Все мы дураки! — сказал он.
Грамм побежал. Он потерял выдержку и побежал. Существование железной роты зависит от его ног, от его легких, и потому он не смеет беречь себя, вообще не смеет остерегаться. А раздвигая кусты, он зря теряет время и энергию. Здесь не больше трехсот метров, но сейчас это очень много. Пока не поздно, он должен добежать.
«Орудия необходимо вытащить из земли. Кажется, их закопали не очень глубоко? Нет, не глубоко. Я знаю, что не глубоко. Солдаты любят делать все кое-как, и словаки — не исключение. Потом мы протащим орудия через кусты и установим для стрельбы прямой наводкой. Десять минут. А если это старательные ребята, управятся и за восемь. Они сумеют это сделать, и мы остановим танки. Достаточно остановить танки хотя бы на час, а там мы уж как-нибудь выкрутимся. Я всегда выкручивался, когда попадал в переделку. А в переделку я попадал не раз. Мне и двух лет будет мало, чтобы все рассказать внукам. У меня будут внуки. Когда мы победим, я найду жену и сделаю кучу детей. Они вырастут, поженятся и выйдут замуж, у них будут свои дети. Это будут мои внуки. Сначала я стану обо всем рассказывать детям, потом внукам. Я стану рассказывать им обо всем, что я пережил в этой стране. Мы должны победить. С такими солдатами, как у меня в роте, мы, конечно, добьемся победы. Удивительно, как они сумели отбросить от себя все, что не связано с войной. Они живут только ради нее. Они действуют самостоятельно, настолько самостоятельно, что любой из них мог бы стать полководцем. Они закапываются в землю, будто кроты. И я бы ничего лучшего не придумал. Они сделали это и без меня. Блестяще, я горжусь…» Грамму хотелось развить эту мысль. Он искал в глубинах мозга новые истины, новые факты, чтобы затем высказать убеждение, что все немецкие пехотные части на русском фронте таковы, как его рота. Это было необходимо, он хотел это продумать, но в голове шумело, кустарник больно хлестал по лицу, и все ближе слышался лязг танковых гусениц.
Два снаряда снесли часть крыши над жарко натопленной комнатой, где осталась постель и пижама обер-лейтенанта. Крыша некоторое время парила в воздухе, затем с грохотом рухнула на землю. Впереди блестели щиты гаубиц словацкой сводной батареи.
Словаки стояли молча, сбившись в кучу. Они мрачно посматривали на кустарник, откуда должны были появиться коноводы с фельдфебелем Чилиной во главе. Где они? Неужели этих кляч нельзя отвязать поскорей? Да и зачем отвязывать? Люди поважнее лошадей. И пусть наконец кто-нибудь, черт возьми, заговорит! Пусть хоть словечко вымолвит! Может, оно что решит, а может, и нет, ведь все уже давно решено. Кто его знает, зачем этот горластый Кляко потащил их на огневую позицию? Они не спали всю ночь, толкуя между собой. И, решив бежать на родину, взяли свои каски и винтовки. В такие скверные минуты лучше себя чувствуешь, если эта дрянь у тебя в руках. Кляко тоже думал, как они, и потому привел их сюда.
— Все к лучшему, — сказал кто-то.
— Что к лучшему? Не будь Лукана, и след бы наш простыл. Но он стоял на том, чтоб мы взяли с собой и поручика, мол, тот знает по-немецки, и с офицером легче пробраться мимо полевой жандармерии.
— Истинно так.
— А теперь что? У нас под носом русские танки. Небось прорвали фронт. Немцам достанется на орехи, а мы-то чего здесь торчим?
— Объяснял же я тебе, что мы ждем «лошадиного батьку», ты забыл? Они там лошадей отвязывают, на свободу их выпускают.
— И то правда. Подло было бы бросить товарищей в беде. Но все равно эти коноводы порядочные скоты. Я бы Чилине как следует намылил башку. Жди их теперь! А как придут, мы через кусты и подадимся. Сам господь бог их тут посадил. У Кляко-то котелок варит! Лучшего места не придумаешь. Это, братец, схоронка что надо, нас тут никто не найдет.
У-и-ии! Бах!
— Ложись! Здорово тряхнуло! И чего они не идут? Пошли им навстречу! Крышу сорвало! Смотрите, смотрите, несет, будто парус! Коноводы вот-вот появятся. Эти кусты здесь посадил сам господь бог и шепнул, должно быть, об этом Кляко…
— Herr Leutnant! Herr Leutnant! — кричал Грамм, словно пьяный вываливаясь из кустов. Он тяжело отдувался, лицо его было в крови. — Господин лейтенант, русские танки! Мы должны их остановить, остановить хоть на минутку, стрелять прямой наводкой…
— Ну и?.. — с сатанинской усмешкой спросил ледяным голосом Кляко. — Не угодно ли вам закурить, господин обер-лейтенант? Сигарета успокаивает нервы.
Кляко хотелось сделать что-нибудь ужасное. И это было заметно по его поведению, все было заметно. Так хищный зверь готовится к прыжку. И если бы хищный зверь умел курить, он точь-в-точь так же закуривал бы сигарету, и, если бы у него были руки, он точь-в-точь так же сунул бы их за пояс и направился бы к орудию, и точь-в-точь, как Кляко, он должен был бы перепрыгнуть через лафет.
У-и-ии… уи-и-ии-и! Бах!
Никто не закричал «ложись», никто не бросился на землю, никто не заметил, как облако пыли взлетело над постройками, никто не ждал «лошадиного батьку» и молчунов.
Грамм, по-видимому, не понял ничего.
Грохот превратился в звон, в металлический лязг, и Грамм бросился к гаубице, попытался выдернуть ее из земли один. Он быстро говорил что-то, и все слова его сливались в хриплое воронье карканье. Словаки не понимали его, но догадались, чего добивается немецкий офицер. Кляко стоял неподвижно, ожидая чего-то. Кобура у него была расстегнута.
— Чилина!
— Чилина идет!
Грамм выпрямился.
— Господин лейтенант, приказываю вам… — Грамм постучал по щиту. Тут к нему подскочил молчун с легким пулеметом, ударил немца по руке и закричал:
— Унзер канон, ферштест, никс дойч, словакиш канон, ферштест?[62] И вали отсюда! — Солдат оттолкнул Грамма, и лишь кусты удержали немца на ногах. Тот мгновенно схватился за револьвер. Кляко трижды выстрелил, а вслед за тем молчун всадил в Грамма половину магазина легкого пулемета. Рука Грамма продолжала сжимать ремешок. Кустарник держал его мертвое тело. Вдруг оно сползло и так и осталось лежать на правом боку.
Уи-и-ии…
Кто-то протолкался вперед и сказал:
— Ну, проклятые богом!
Это был фельдфебель Чилина.
Кто-то захохотал как безумный.
Это был Кляко.
Молчун держал пулемет, глядя на убитого Грамма.
С полминуты стояла тишина. В этой тишине в сердцах солдат отмирало все детское и все, что относится к детству и что тесно с ним связано. В этой тишине отмирали все их детские выдумки, их замысел с окопами на прежней огневой позиции, их намерение взорвать батарею, их клятвы и планы любой ценой добраться до дому. В этой тишине уходили навсегда все затеи молчуна с легким пулеметом. Он хотел выгнать немецкого офицера с огневой позиции, а там — прощай, война, мы уходим через кусты, которые посадил здесь сам господь бог… И пока Кляко с молчуном не выстрелили, до тех пор все это казалось умным и правильным.
— Уи-и-и! Бах!!
— Пулеметы, ко мне! — Кляко держал над головой руку с роковым пистолетом. Подошли солдаты с пулеметами, пришел и Лукан. Кляко сказал: — Мне нужно еще двадцать человек. Пока не придут русские танки, мы должны держать под угрозой немецкую роту. — К Кляко присоединились двадцать молчунов. — Фельдфебель Чилина!
— Здесь!
— Занять круговую оборону! И быстро! Мы идем! За мной!
Кляко бросился вперед и побежал, и кусты царапали его лицо, как царапали обер-лейтенанта Грамма. Но Кляко упорно мчался вперед, бежал навстречу какому-то героическому поступку, который ждал его впереди и который позволил бы ему заглянуть в глубину своей совести и почувствовать глубокое удовлетворение.
— Растянитесь цепью. Мы пойдем в атаку! — закричал он, оборачиваясь, и снова побежал, боясь, что не прибежит вовремя, что все там впереди сделает за него кто-то другой.
— Ребята! Такие-сякие, вы слышали? Круговая оборона! Ясно вам? Стрелять во фрицев, ни на шаг их не подпускать! Ясно? А если русского солдата увидите, не стреляйте, а кричите: «Свои!» Все ясно?
— А если мы танки увидим?
Фельдфебелю пришлось посмотреть вверх на длинного солдата, который наклонился к нему.
— Тихо! Никаких вопросов! А вы, пан поручик, если вам угодно, со своими солдатами отправляйтесь вон на тот участок. — И Чилина показал на горы. — А вы, — обратился он ко второму — пан поручик, займите вот этот участок! — Чилина обвел рукой западную часть горизонта. И третий офицер тоже подчинился ему.
— Ах вы такие-сякие, ну и дела! Слушаются меня!
Рядом взревели танковые моторы. В той стороне, куда ушел Кляко, послышались частые выстрелы.
Солдаты словацкой сводной батареи расположились широким кругом. Земля дрожала.
— Ребята! Вы там слишком густо лежите. Идите сюда, вас трое, — позвал Чилина, а когда батарейцы приблизились, сказал: — Вы будете моими связными. Ясно? — Он сел на лафет третьего орудия. Глаза его остановились на убитом командире железной роты. Долго смотрел Чилина на белый лоб Грамма, хотел понять, что еще надо сделать, чтобы выполнить боевое задание. Но лоб был безнадежно мертв. «Хорошо я придумал насчет связных! Сам не знаю, как до этого додумался. Свыше осенило!»
— Как, ребята, закурим?
— Ну… — неуверенно ответил рябой солдат, а Чилина никак не мог вспомнить его фамилию. Но лицо было такое знакомое… Боже, ведь он вез в своей повозке снаряды. Эх… И когда Чилина предложил молчуну сигарету, у него дрожали руки.
Дрожали руки и у молчуна Виктора Шамая, потому что под ногами дрожала земля. Тут раздвинулись кусты. Пришлось стиснуть зубы и выстрелить. Но он промахнулся.
— Nicht schießen![63] — заорал немец, замахал винтовкой и кинулся к Виктору Шамаю. Но слева от молчуна выстрелили, и немец упал.
В той стороне, где был Кляко, лаяли пулеметы.
В кустах перед Шамаем кто-то бежал. Молчун отбросил пустой магазин, вставил новый, прицелился, и руки его уже не дрожали, ибо много секунд прошло с тех пор, как он перестал быть ребенком.
ЧЕРНЫЕ И БЕЛЫЕ КРУГИ Рассказы
МЕРТВЫЕ ГЛАЗА
На пятнистом камне сидит мужчина. Гранит играет свежими красками, будто его только что доставили из каменоломни. А вот грани на нем уже стерлись, как и на всяком камне, отданном на волю ветра, дождя и неуемных человеческих рук.
У мужчины лицо ребенка, и это детское выражение останется на его лице навсегда, как родимое пятно. Даже когда он состарится. Детское лицо покроется сетью морщин, и это будет страшно.
Он улыбается приятной, немного изумленной улыбкой, широко раскрывая глаза, и смотрит прямо на солнце, словно это просто зеркало, висящее в жаркой тени.
Смелый, видать.
— Солнце! — восклицает он низким голосом, и камень под ним вздрагивает. Потом он подымает руку с растопыренными пальцами, ловит что-то, ловит страстно, наполняя пальцы беспокойством своего большого детского сердца. Рука кружит в воздухе — сначала терпеливо, потом отчаянно борясь с пустотой, и бессильно опускается на колени.
— Адам! — зовет женский голос.
Адам будто и не слышит. Смотрит вверх и размышляет — как это получается — светит на небе всего одно солнце, а греет так сильно? Так оно и есть, знать-то он это знает, только высоко оно очень, и дотянуться до него невозможно. Мать ему это сказала. И еще сказала, что солнце желтое.
— Желтое, — улыбается Адам земле. Или своим коленям?
— Адам! — снова раздается сердитый женский голос.
«А какое это желтое?» — Глаза его блуждают, ищут чего-то. Но ничего не находят, а сердитый голос матери не оставляет в покое, — от него не отмахнуться, — и Адам поднимается.
Он любил сидеть здесь на своих камнях за амбаром, и тропинку сюда протоптал. Вот он идет по ней, семенит. Палкой с железным острием на конце простукивает перед собой землю — справа, слева, шаг — детский шажок, и входит на подворье.
— Слепыш! Обедать! Ну же! — надсаживается в крике, мечется мать и, подавшись вперед, кулаками сучит в воздухе, словно гвозди заколачивает. — Ох, крест мой тяжкий, наказанье мое. — Платок у нее сбился на лоб. Она выпрямляется, поправляет платок, волосы, повязывается. Ее худое лицо пылает, глаза мечут ядовитые стрелы.
— Грелся я, на камнях пригрелся. — Голос Адама ласков. Он добродушно и легко выкладывает эти слова и, чтоб душу свою выпустить подальше из мрака, взмахивает свободной рукой, добавляя: — Здесь, за гумном. Солнце там припекает, а мне нравится. — Голос его заполняет и двор, и материнское сердце, и оно смягчается, оттаивает.
Она подходит к сыну.
Адам, хоть и незрячий, видит все, — ее торопливые шаги, озабоченное лицо, перечеркнутое робкой улыбкой. Сердце велело ему вытянуть руки — он вытянул. Велело смеяться — засмеялся и так ждал ее — свою мать.
— Ах ты, мой большой слепыш, — проговорила мать, стыдясь за свою вспышку. Она хотела было повести его через двор, но он запротивился:
— Я сам, мамка! Сам пойду! — И — палкой вправо, влево, тюки-тюк! И пошел быстрей, а палка застучала дробнее. Но вдруг лязгнула, попав на камень, и мать даже вздрогнула, прижала руки к груди.
Прибавляется камней…
Тюки-тюк!
Тюки-тюк!
Руки ее прижаты.
Никак не привыкнет мать к этому стуку. Сколько лет прошло, а так и не привыкла. Пугает он ее. Пугает и стук маятника стенных часов. Проснувшись ночью, прислушивается она, и чудится ей — то слепой сын ходит с палочкой по комнате — тюки-тюк, словно нет для него места в ее доме.
А это часы на стене тикают.
«Господи, может, и правда нет для него места в доме?» — подумала мать, когда сын остановился у порога и обернулся к ней.
В страхе подняла она руку для сотворения креста, но не перекрестилась. Сын смотрел на нее так пристально, что она не отважилась шевельнуть рукой. Он бы увидел. Слепой, а увидел бы…
— Видали, мамка, как я хожу! Как с глазами. Порой мне кажется, будто у меня и вправду есть глаза. — В радостном порыве он затопал ногами, похожий на танцующего медведя, которого приводит сюда цыган на храмовый праздник и берет пятак за показ. В Адаме и в самом деле есть что-то от медведя. Рослый, крепкий, как ствол здорового векового дерева. Чуть склоненный вперед, он будто прислушивается к чему-то.
А мать все стоит на дворе, пригвожденная к земле невеселыми мыслями.
Адам родился на седьмой месяц после свадьбы и, как потом выяснилось, слепой.
— Бог нас наказал, — сказала она тогда мужу, и муж молча кивнул.
В тягостном молчании зрела мысль, что они вместе понесут этот тяжкий крест. И они несли его. Шли годы, мальчик рос, окруженный любовью, которая должна была умерить ему его темноту. Потом родились еще двое детей, и с той поры слепой первенец рос уже сам по себе, создавая в себе свой собственный мир. Слепота постепенно оттесняла его в сторону, так он и жил, ничего ни от кого не требуя — ни милосердия, ни утешения. С годами у него прибавлялось сил, он мужал, и одиночество удручало его все больше. А люди так интересно умели рассказывать! Он не навязывался им, поняв, что они в нем не нуждаются. Но беда, если кто заговаривал с ним, неважно — по-хорошему или со злом! Сердце у Адама начинало колотиться от счастья, он льнул к любому и за людской теплотой побежал бы на край земли.
Но мать ничего этого не знала, и никто даже не догадывался, как мало нужно Адаму для счастья. И сейчас, когда она стояла тут в нерешительности, вся жизнь Адама прошла перед ее мысленным взором. И из всего самое страшное было даже не его слепота, а случившееся вчера за ужином. Она казнилась из-за вчерашнего. Ее второй сын, годом моложе Адама, ни с того ни с сего сказал вдруг:
— С Адамом надо чего-то делать, так дальше не пойдет.
Слова эти, видно, давно были у него приготовлены. Сказав их, он, ни на кого не глядя, торопливо продолжал доедать похлебку.
— Что?! — строго откликнулся отец и рывком положил ложку.
— В приют его послать. Есть такие приюты. Что-то надо придумать, потому что дальше эдак не пойдет. — Сын покраснел. Нелегко, видно, давались ему эти слова.
— Он мешает тебе, что ли? — заорал отец, тоже весь красный, и опустил кулаки по сторонам тарелки. — Чтоб я ни слова больше не слыхал, сопля сопливая! Не то… — Он бухнул кулаками по столу, и после этого все замолчали.
Мать с благодарностью взглянула на мужа. Но дочери, глупой еще девчонке, это показалось смешным, и она прыснула.
— Поскалишься у меня, враз изукрашу рожу! — И отец так треснул дочку ладонью по плечу, что она взвизгнула от боли и расплакалась.
— Не дури, опомнись! — заступилась мать за дочку, прижав ее к себе.
— Оставьте меня в покое, оставьте меня! — раздельно выговорил отец страшным голосом и вдруг раскричался, захлебываясь словами: — Не то худо будет всем в доме! Худо будет, говорю вам!
Семья притихла. Дочка перестала хныкать. Улучив миг, когда отец опустил глаза в тарелку, она высморкалась.
Сын оскорбленно уставился на миску с дымящейся картошкой.
«Нечистый его попутал, не иначе, как нечистый попутал», — заключила мать уже поздней ночью, прислушиваясь к назудливому тиканью стенных часов с маятником, — потому что сын грубо выругался, оттолкнул тарелку и, не страшась ни бога, ни отцовской угрозы, твердо отрезал:
— Жениться мне надо! О том вы не думали?
Мать мысленно осенила себя крестом.
Отец не был готов к такому разговору. Он тяжело вздохнул и мешкотно полез в карман. Достал сигарету, чиркнул спичку и поднял ее. Пламя съедало дерево, облизывало желтые пальцы, но отец ничего не замечал.
Мать с дочерью сидели, полуживые от страха.
Сын строптиво вскидывал голову.
А спичка погорела и сама по себе погасла в потных пальцах. Отец ничего не замечал, не заметил он и того, что спичка догорела, испепелилась, а ее почерневшая головка упала в тарелку. Он не мог опомниться. «Господи боже, как же летят годы! Неужто это правда? Неужто я такой старый, что сыну моему жениться пора?» Большое хозяйство не давало ему перевести дух, заняться вздорами. Он шел в жизни только вперед, продирался вперед и в гору, нагнув шею, точно бык, и не оглядывался по сторонам. И во всем был удачлив. В нем, не потухая, горел огонь, огонь молодости и вечного беспокойства. Он смеялся над годами, воображая, что повелевает ими. И вот они заявились сами, никем не прошенные, никем не званные. Заговорили с ним сыновними устами. Отец оглядел жену, ее лоб, волосы. Лоб немолодой, и волосы, хоть и закрыты платком, видно, что постарели.
«Подошла их осень, вот и зацветают», — он положил руку себе на голову, пригладил волосы, больше не сказал ни слова.
Мать следила взглядом за этой рукой и ничего не понимала. Муж сидел перед ней подавленный, как тогда, двадцать один год назад, когда она, вернувшись из города от врача, скорбно сообщила, что Адам слеп. Какая-то тяжесть гнела его, а мать не знала, чем помочь, чтоб тяжесть эта не задавила мужа.
Она боялась раскрыть рот.
— Жениться хочешь, — произнес наконец отец безо всякого выражения и, ни к кому не обращаясь, равнодушно спросил: — Слыхала, мать? Сын жениться хочет. Слышишь?
— Слышу…
— И что скажешь на это?
— Что скажу? Ты решай. — Она уже обрела необходимое спокойствие и управляла голосом.
— И решу. — Муж отшвырнул сигарету и взял ложку. — Стареем, мать. Сыну жениться пора. — Он склонился над тарелкой и с аппетитом принялся за еду — ему вдруг показалось, что он давно уже думал о сыновней свадьбе, но откладывал, отодвигал ее куда-то в будущее, далекое и туманное.
Мать не обрадовалась, близкая радость младшего сына не согревала ее. Слепой первенец не ужинал с семьей, он и сейчас тешился где-то за гумном своими камнями и не знал, что только что решена была его судьба. И то ладно. Ей было бы тяжелее, сиди он за столом, видеть его лицо, его мутные глаза, умевшие смотреть так настойчиво и печально. И ладно, что его не было. Пусть себе позабавится со своими камнями. Это его камни, она сама навозила их ему из соседней каменоломни. У него есть право и на гумно, и на этот дом, и на все остальное, как и у второго ее сына, а вот, поди ж ты, его выгоняют.
Мать зачерпнула ложкой похлебку, но еле проглотила — еда комком застревала в горле. Словно ложку слез она глотала. И такая жалость ее охватила, что она зарыдала в голос. И тут снова все перестали есть. Мать уткнула лицо в ладони и запричитала так, что плечи ее затряслись.
Убежав в комнату, она бросилась на постель, зарылась головой в перины.
Сын отчужденно смотрел в тарелку и несмело бросил:
— Мать плачут из-за всякой глупости.
— Баба! — пробормотал отец и швырнул под печь обгрызенную кость. Взял второй кусок мяса, картофелину из миски и продолжал есть. И уже порядком погодя, когда, казалось, он забыл о словах сына, вдруг со смехом добавил: — И твоя будет плакать. Все они плачут, такая уж их бабья доля. Против этого ничего не поделаешь, самое лучшее — оставить их в покое. Пусть выплачутся.
— И то правда! — снисходительно согласился сын. То ли он понял, что отец говорит с ним, как с равным, то ли потому, что по его получалось?
Отец спустил сыну снисходительный тон, впервые в жизни, озабоченный совсем другим, чего не посмел еще произнести вслух. Эта игра словами, ни к чему не обязывающая, увлекала обоих и отодвигала недосказанное, неприятное. Но игра эта бессмысленна, игру пора кончать. Лицо отца приняло бесстрастно-жесткое выражение:
— А сколько там платить надо?
— Нисколько. Кое-что при записи, а потом ничего. Они там плетут корзины, фигурки вырезают, берендейки всякие. Зарабатывают помаленьку. Чего ему будет недоставать? — И сам же ответил: — Ничего.
— Хм… — Голос отца бесцветен, но его снедает злость. Сынок самостоятельный, сам обо всем дознался! Все-то до буковки знает и выкладывает отцу на стол готовеньким. Он взглянул на сына, и что-то притушило его гнев. Он увидел, как в зеркале, себя, себя самого увидел.
— Пускай его счастья попытает… — Сын не договорил — в дверях появилась мать, простоволосая, без платка.
Это произошло вчера вечером.
Потом наступила ночь, безутешная ночь с тиканьем часов, ранившим мать, будто колючий терновый венец. Это стучала по полу Адамова палка, зная уже, что владельцу ее нет места в родном доме.
Палка стучала до утра.
Вот и сейчас она стучит, и мать Адама боится войти в кухню, осталась на дворе. Позабыла даже, что звала сына обедать.
Адам, чуть наклонясь вперед, прислушивается — хочет уловить звук шагов, шорох одежды.
А матери страшно. Она боится Адамовых глаз. Они смотрят пристально и, конечно, видят, что она стоит на дворе, несчастная и смятенная, и глаза эти давно знают все то ужасное, что промелькнуло сейчас в ее измученной голове.
— Мамка! — Он потерял мать. Он не слышал ни ее шагов, ни шороха ее одежды. По этим звукам он всегда узнавал ее и знал, — рядом ли она, даже если она молчала.
Вокруг глухая темнота… без материнских шагов.
— Мамка! — Ему стиснуло грудь, и он позвал громче. Неспокойно, громко и испуганно, и кольнул землю железным острием палки. Но и земля не отозвалась. И темнота обезобразила морщинами большое детское лицо, и было это грустно и неприятно.
— Тут я, тут! На крышу загляделась, на голубей.
— На голубей? А не слыхать их, не воркуют. — И Адам глядит вверх, туда, где должна быть крыша.
— Сидят, греются на солнце, как ты на своих камнях. Пара черных, с белыми пятнышками на шее. — Мать высматривает голубей, да не видать их — нету, летают где-нибудь над полями.
— Белые, черные. — Он недовольно махнул рукой и вошел в дом, пригнув голову под низкой притолокой.
— Ух, и голодный же я, ей-богу, голодный! — Он разводит руками, уже сидя за столом, и оборачивается к входящей в избу матери. Потом опускает руку, ощупывая стол в поисках ложки. Он нашел ее и сегодня, только лежала она не на обычном месте, а посредине. Он даже удивился. Схватил ее, широко размахнулся, словно веля матери молчать.
— Не-е, не подсказывай мне ни словечка! — Лицо его похорошело от возбуждения, он подпер щеки кулаками и втянул запахи кухни — запахи обеда. — Ага… это… ничто другое, только молоко — молоком пахнет! Галушки будут! — воскликнул он и просительно обратился к матери: — Мамка, полную-преполную миску налейте мне. Уж как я люблю галушки с молоком! Верно я угадал? Будто увидел глазами.
От него, от его слов веяло простодушием, простодушием и теплом. Так веет с полей на исходе весны.
Для него было игрой — угадывать, какую еду приготовила мать. И мать принимала эту игру. Бесхитростное материнское сердце радовалось, что сын прогоняет окутывающую его темноту. И пускай она так и не понимала до конца, что же составляет это в жизни слепого, что вызывает у него смех, удовлетворение, но все же она была недалека от истины, угадывая скорее сердцем, чем умом, все эти мелочи, незначительные мелочи, мимо которых прочие люди проходили бесстрастно, не замечая и даже не видя их.
Но сегодня, когда небо расцвело ясным солнцем, а каменистая земля, укрыв свою нищету под зеленым покровом, погрузилась в святой покой, в материнском сердце поселилась темнота, худшая, чем во взоре сына. Потому-то она нерадостно ответила ему:
— Правда, правда.
Адам приметил эту горечь. Вытянутой руке уже нечего было искать, и она как-то страдальчески опустилась, тяжело упала на стол, — большая, жилистая, сильная и жесткая рука, и силы покидали ее. Слепой сжал кулак, пытаясь удержать их, и от этого боль отдалась во всем его теле, но он ничего не мог поделать и истекал бессилием.
Мать молча поставила перед ним розовую миску с молоком и галушками, не пожелав, однако, как обычно, чтоб он ел на здоровье. Слышно было лишь тиканье маятника да тяжелое дыхание Адама. И Адам, склонившись над миской, начал через силу есть.
Ложка не звякает — глухо постукивает. Миска оловянная, вот и звук такой — оловянный, бесцветный, однообразный.
И время тянется так же бесцветно и монотонно.
И в этом времени — двое людей.
Мать и сын.
— Адам!
Это раздалось неожиданно. Сын перестал есть, но головы не поднял, не поняв материнского голоса.
— Яно жениться собрался.
— Жениться? — В вопросе не было удивления, только страх, пока еще невысказанный, скрытый. Какое-то предчувствие, что порядок жизни в доме изменится, что кто-то перевернет его и установит свой, новый, по своей воле.
— Да, жениться собрался. — Дрожащий голос матери укрепляет в сыне мрачные опасения. Он уже хотел спросить: «А со мной что будет?» Но вдруг его охватила жалость. Слова не шли, костью застревали в горле.
Материнские шаги, шорох ее одежды. К нему приближается! Словно несет в себе тяжкие слова, слишком тяжелые, чтобы они могли долететь до него издалека. Адам ощутил ее руку, ее тепло на своей голове. Мать взяла его в свои бездонные объятья, руки двумя змеями обвили шею, а в ухо его продирался голос:
— Не отдам тебя, не отдам! Они хотят из дому прогнать тебя, в слепецкий приют засадить, будто в темницу, только я не отдам тебя… ты мой, ты мой большой слепыш… ты мой… — Звенящий голос расщепился, обмяк и затих печальной песней: — …ты мой…
Адам с красным лицом вышел во двор, но направился не по тропинке к своим камням — палка его застучала в сторону дороги. Он прошел через распахнутые настежь ворота, воткнул палку в землю. С изгороди вокруг широких капустных грядок и небольшого лужка со старыми сливами и огромной елью, обрубленной чуть не до самой верхушки, снял пояс и подпоясался. Туго, как кисуцкий возчик, едущий свозить лес с гор, затянул ремень. Взял висевшую рядом с ремнем цепь, перекинул через плечо, а толстую веревку, свернутую кольцом, надел на руку.
Нащупал толстое топорище, заткнул топор за ремень и, вооружившись еще киркой, ступил на проселочную дорогу.
И она поглотила его целиком, даже шапки не видно было. Лишь изредка выныривает он. Идет, невидимый, по глубокой расселине, вырытой и промытой вешними и осенними водами, которые текли по ней, как по руслу настоящей реки, и уносили с собой и добрую мягкую землю с пашен, и мелкий камень, — чтоб на горах его поменьше оставалось и чтобы он не изводил людей, — и этой мутью поили ненасытную Кисуцу. Она проглатывала ее, как собака — муху, но ей все было мало. После дождей на дне проселочных дорог оставались лежать большие круглые каменья. Обмытые водой, они сверкали на солнце.
По такой дороге и брел Адам. Дорога поднималась вверх, туда, где виднелась вершина горы с темной макушкой. То была роща.
Вот Адам виден уже во весь рост. Он шагает прямо, с сосредоточенно трагическим выражением лица, которое всегда выдает слепых, потому что смотрят они ни влево, ни вправо, а прямо перед собой, и лица у них напряжены. Это они ищут и ловят звуки, чтобы читать по ним, как по книге.
И походка у Адама, как у всякого слепца — небольшие, частые шажки; есть в этой походке что-то механическое.
Адам свернул уже с дороги на тропку, ведущую прямиком к роще, и шел хвойным ерником.
Ерники, ернички на горах кисуцких! Не леса, не пашни, — лужайки без кустов терновых, без груш диких. Рябина здесь не алеет, не цветет боярышник, не родит даже дикий крыжовник. Только там, где смежаются ерники с лесом — редкие поросли можжевельника.
Знакомы эти места Адаму, он тут каждодневный гость. Палка его не стучит, хоть и тычет он ею вправо — влево. Острие палки мягко погружается в податливые пучки травы. А он идет себе и идет, знай шагает, и по лицу его ничего не прочтешь. Ни по мертвым глазам.
Под башмаками зачавкала вода. Это Адам идет через мочажину, через трясину, которую сушит и не высушивает солнце, и, когда на нее ступает нога человека, она вздрагивает и прогибается, словно резиновая. А он идет себе, знай шагает, размеренно, будто заводная машина. И усталость его не берет, и дыхание все такое же ровное.
Под ногами уже не трава, а толстый и мягкий ковер из мха. Это роща подает знак: «Я уже близко, Адам, совсем близко — ты по мху ступаешь. Мох мой мягкий, словно пух. Иссиня-зеленый! Ах, Адам, до чего же я забывчива! Откуда тебе знать, что такое — иссиня-зеленый? Прости, если можешь». «Прощаю тебя, прощаю, забывчивая роща!» «Спасибо, Адам, ты добрый человек». И роща замолкает. Слышно только ветер, скользящий по макушкам елей.
А Адам все идет, все шагает. Подымается уже на вершину, крутую, будто кровля.
Пахнет можжевельником.
Пахнет можжевельником, а он идет между его кустами, шагает без устали, ни на что не оглядываясь. Как и его отец. Только отец идет вперед, нагнув шею, точно бык.
И вот Адам останавливается.
Палка клюнула и попала в яму. Яма — это язва в земле. Края ее присыпаны щепой и комками глины. Кто-то вырвал у земли пень с корнями, да и спрятал куда-то. Вокруг много таких ям, а подальше белеют еловые пни. Так, так. Лес вырубили, свели, и теперь корчуют. Потом эту землю распашут. Испокон века повелось так на Кисуцах. Эта вырубка на совести у Адамова отца. Ну и пускай он держит ответ сам перед собой. И будет держать. Хотя ему что! Совесть у него, как мешок без дна, — все в нее уместится. Так, так… Отец купил лес, зимой ели вырубил, зимой же и продал, а слепой сын корчует пни. Грех останется в семье.
Возле белеющего пня Адам скинул с плеча цепь, снял с руки моток веревки, вытащил из-за пояса топор и опустился на колени. Ощупал землю вокруг пня, обошел его кругом на коленях; корень, торчащий над землей, обрубил, другой поддел топорищем и выдернул, вытащил с силой из земли. Мелкие корни оглушительно трещали, словно зажженная смолистая лучина.
Пень ощетинился обрубками корней.
Адам перевел дух. Все еще стоя на коленях, снял шапку, вытер ею потное лицо. Расстегнул рубаху, обмахиваясь ладонью, с упреком поднял лицо к небу, к солнцу.
— Желтое солнце и два черных голубя с белыми отметинами, — вспомнил он с недоброй усмешкой. — А этот какого цвета, а? — Он взвесил на ладони камешек и равнодушно отбросил его. Снова лицо его омрачилось, беззаботность будто сдуло.
Он схватил кирку и поднялся. Поплевал на руки и с размаху всадил ее в землю. Обкопал пень кругом. Затем снова топором обрубил сплетенье корней, отложил топор за спину и опустился на колени.
Руками Адам выгребал раскопанную землю. Стоя на коленях, он обходил пень, кланялся, выпрямлялся, раскачивался равномерно и с такой покорностью, что казалось, будто он покаянно молится. Алтарь — большой пень, и перед ним кающийся грешник — слепой Адам.
Соленый пот заливает лицо, но он его не вытирает. Пальцы и ладони изранил он себе на острых обрубках корней, но не издал ни стона и все кланялся и выпрямлялся, молился беспощадному богу, воплощенному в виде этого пня или просто скрыто живущему в нем.
Над вырубкой пролетала ворона и хотела каркнуть. Двести лет летает она над кисуцкими горами, а такого дня еще не видала. Она хотела приветить его, восславить карканьем. Но когда увидела слепца, кающегося беспощадному богу, крик замер у нее в толстом клюве, и она улетела. Улетела прочь, подальше в горы, сказав себе, что никогда не вернется на это место позорища.
Слепой больше не кланялся. Он встал, размахивает киркой.
И тут роща сердито зашумела. Поднимая черные лапы елей, мотая тонкими верхушками — заскулила, загудела. Это был громкий стон, он понесся в долины, врываясь в избы, и был таким необычным, что люди выходили на крылечки и поглядывали на грозное небо:
— Гроза надвигается.
— Недолгая будет, да лютая, — озабоченно говорили они.
— Слепыш мой, где ты? Ни за что пропадешь, — скулила мать заодно с ветром и глядела на горы.
— Воротись! — кричала мать, но ветер относил ее плач, будто полову.
Небо заволокло. Закрыло чернотой, как огромным вороньим крылом.
Зарыдала роща, затрещали ели. Страшный шум поднялся — это роща заговорила:
— Адам, добрый человек, беги домой, пока не поздно. Не видишь разве, что небо чернотой затянуло? Ветра — не слышишь?
— Слышу, роща, слышу. Только разве небо может быть черным? Черные — это голуби с белыми отметинами на шее.
— Я позабыла, Адам, позабыла. Ты не знаешь ведь, что такое — черное. Бывает и небо черным — перед грозой. Беги домой, Адам, пока не поздно.
— Гроза будет?
— Да, Адам, гроза! Беги!
— Не могу я, ушел бы, да не могу. Надо пни корчевать. Два-то выворочу до конца дня. Тогда отец с братом не выгонят меня из дому.
— Кто сказал тебе, что они выгонят тебя из дому?
— Мать мне сказала, моя добрая мать.
— Твоя мать добрая.
— Ты это знаешь?
— Знаю, ведь люди мне все говорят.
— Оставь меня. В другой раз потолкуем. Корчевать мне надо, два пня до вечера выворотить.
— Замолчи, перестань кланяться, добрый человек! Но коли не можешь иначе, — руби, подрубай, а я пойду своей дорогой! Эй, ели мои, сосны, липы в долинах и яворы вдоль дорог, боярышник на межах, — подтяните ветру, пусть у людей кровь стынет в жилах! Слишком много среди них завелось неправедных. Взять хотя бы твоего отца с братом, Адам. Эй, туча ярая! Мечи молнии, крести небо и землю! Рази неправедных в хари! Лупи их, как мой добрый человек лупит по корням. Бейте их, ничтожьте, жгите, чтоб извести злое семя! Все зло, все, что живет с нечистой совестью, спасай свою душу…
— Смилуйся, не убивай!
— Коли просишь, коли ты просишь…
Тяжелые капли дождя застучали по вырубке. Наступила тьма. Ночь. Роща заревела раненым зверем. Молнии сжигают воздух, и он клокочет, бурлит, и на всем огромном пространстве — одно-единственное существо, которое не замечает темных сил и не боится их.
Это добрый человек Адам.
Окровавленными ладонями он выгреб уже всю землю из-под пня и когда над вырубкой грянул гром, последний раз рубанул Адам по корню и обрубил его. В шипении молний, в грохоте, от которого сотрясались земля и душа Адама, он зацепил пень и выворотил его из болотистой ямы.
Адаму захотелось кричать, кричать вместе с ветром и рощей, но он только улыбался, подставив дождю окровавленные пылающие ладони.
Дождь был холодный, должно быть, где-то выпал град.
Туча излилась, и роща успокоилась. Из Кисуцы поднялась радуга. Огромной дугой обхватила она разбросанные по долине избы и другим концом уткнулась в стиснутый двумя скалистыми обрывами ручей, который отдавал свои воды Кисуце.
И люди снова выходили на крылечки и восклицали:
— Гляньте-ка, радуга!
— Похолодало, уж не из-за града ли?
— Да, да… — И шли через огороды к своим полоскам, прятавшимся под крутыми межами, неся в душах страх и надежду. И расползались по горному склону маленькими точками.
Адам радуги не видел и не пошел смотреть, что сталось с отцовскими нивами. Когда гроза кончилась и дождь перестал, он встряхнулся и перешел к следующему пню. Вот он уже и руками его осмотрел. Пень был большой. Вековая ель росла на нем, десятилетия тянула из земли влагу. Пень был сучковатый. Звоном отдавало в топорище, обух отскакивал от корней. Пень был здоровый, здоровый, как и Адам, оба могли похвастаться силой.
— Хек! — крякнул Адам, ударив по нему первый раз.
И он рубил, отсекал корни, и руки его не знали усталости. И яму вокруг пня выгребал, снова раня пальцы и ладони. Порой он выпрямлялся, вытирал лицо тылом руки и смотрел куда-то мертвыми глазами. Его мысли убегали вниз, за мочажины, в родную избу. Снова все будет хорошо. Он притащит домой два пня, дома увидят, что он не обуза, что от него есть подспорье, и не выгонят. Снова все будет хорошо. И как легкий ветерок перебирает под окном листочки рябины, так и душа Адама понемногу раздувала в себе искорки надежды, пока они не вспыхнули костром, и в его тепле Адам согревался.
На мочажинах зазвенели колокольцы.
Это пастухи и пастушата выпустили скотину из хлевов и пригнали сюда пасти. Верно, и костры уже развели, топят смолу. Все это Адам знает. Как будто видит это.
Внизу, в долине, идет поезд. Паровоз сопит, тянет с трудом, громко пыхтит.
Адам видит все, ему и глаза не нужны. За Кисуцей вздымаются горы, а выше гор подымается солнце. Взлетает, как голубь. Оно желтое и за день перелетит через все небо.
Адаму это известно. Как будто все это он видит. Нет, никуда он не может уйти, уехать отсюда, ему суждено жить здесь, среди этих гор, потому что для здешней жизни и глаза-то не нужны. Да… и снова все будет хорошо. Вот только он стащит вниз эти два пня…
— Хек! — выдыхает он, всаживая топор. Душе и телу его необходимы эти всхлипы, они уносят его боль, как быстрая вода. Душа очищается, становится легче и телу.
И мертвым глазам.
Пень поддался. Адам выпрямил спину, поставил на него ногу и постоял так. Снял шапку. Мокрые волосы блестели от пота. Угасшие глаза сверкали, лицо улыбалось.
В этот миг был Адам самый счастливый человек во всей кисуцкой долине. Ничего ему больше не надо было ни от мира, ни от неба. Лицо его уже не улыбалось, только сияло, будто солнышко. Даже сама природа была очарована этим мгновеньем. Она молчала, покоренная. Молчала и роща, молчали поля под крутыми межами, и в эту тишину роняли звон колокольцы с ближних мочажин.
Утих и ветер.
Адам подкатил этот пень к первому, скрепил их цепью, связал, приладил веревку. Топор убрал за пояс и впрягся в лямку. Левой рукой он придерживал натянувшуюся веревку, правой сжимал свою палку. Голова его и плечи устремились вперед, и на несколько мгновений он, словно окаменев, повис так в лямке. Лицо его исказилось от натуги, покрылось морщинами. Еще детские, они уже пугали.
Но тут пни стронулись с места. Сперва чуть заметно, потом подвинулись на ладонь, на две — и потащились по земле, загребая хворост и оставляя после себя широкий след черной борозды.
Под вырубкой Адам остановился. Стоило ему распрямиться, как в пояснице заломило, в голове загудело, пришлось сесть. Волей-неволей привалился он к пням спиной, закрыв глаза, ничего не слыша, даже колокольцев с мочажин.
Но тут же вскочил, подавив искушение отдохнуть.
По мочажинам тащить было легче. Вернулся к нему и слух, и совсем близко он услыхал звон колокольцев. В какой стороне развели пастухи костры? Дыма он не замечал, но его потянуло подойти к большой груде камней. Он скинул лямку и подошел. Такие насыпи камней встретишь на всех кисуцких горах, их и не счесть. Навалены они обычно в конце межи, и каждый год к ним подсыпают собранные с полей новые камни, и груды все растут, год от года подымаются все выше, будто поливаемые живой водой.
— Какой он страшный, — услыхал Адам впереди.
— Ага, нашел вас! — воскликнул слепой и чуть не побежал на человеческий голос.
Пастухи сидели вокруг костра на камнях. Намокшее дерево чадило, дым взметался прямо вверх, потом его затягивало за каменную насыпь, и он исчезал.
— Что делал, Адам? — боязливо спросил его вихрастый пастух.
Остальные тоже смотрели на Адама со страхом: весь он был перемазан глиной, лицо — бескровное от усталости. Он стоял неподвижно и мертвыми глазами смотрел куда-то поверх их голов. От него исходил страх, и не много человеческого было в его облике.
Тело его перепоясывал ремень, который с одной стороны оттягивал топор, с другой — кирка, но на его медвежьем теле они выглядели двумя веточками, присосавшимися с боков. Огромный, перемазанный глиной, с измученным отрешенным лицом, он разжигал детскую фантазию и ужасал ее. Однако его улыбка, по-детски нескладные руки и сердечный голос привлекали к себе пастухов, и их чуткие души понимали, что между ними и слепым Адамом нет того рубежа, который всегда будет разделять людей на молодых и на старых. Может, они знали, что этот рубеж стирает слепота, что причиной этого чуда — мертвые глаза? Неизвестно. Может, они это лишь предполагали. Кто знает? Даже взрослая душа — хрупкая. А детская и подавно соткана из тончайшей паутинки и даже из чего-то более тонкого, более благородного, на что у нас даже нет сравнения. И хорошо, что нет. Потому что чувства человеческие можно только переживать. Словесные образы, образы из красок и мрамора — не ровня им.
— Лес я корчевал, ребята. Погреюсь маленько возле вас, чего-то озяб я. — Он подошел поближе.
Один из пастухов встал, взял его за рукав:
— Иди сюда, Адам, садись на мой камень.
Адам сел, вытянул руки к огню, помял ладони.
— Хорошо тут, ребята, до чего ж хорошо. А то холод какой! Меня аж трясет. Солнце светит, а? — Он поглядел на небо.
— Светит, Адам.
— Чудно. Солнце светит, а мне холодно. — Он подался ближе к огню вместе с камнем.
— Ты весь промок. Не боялся грозы-то?
— Чего ж мне ее бояться? А тут у огня хорошо. Подвинусь-ка еще поближе. Можно? — И он посмотрел поверх ребячьих голов.
— Двигайся, двигайся…
— Обсохни. А потом повернись спиной, — охотно советуют ребята, довольные, что могут сослужить ему службу. Кто-то подбросил в костер веток, трое побежали в лес за новым хворостом.
— Живицы нет у вас кусочка?
— На, пожуй. — Пастух с озорными глазами схватил головешку и подал ее Адаму.
Адам вытянул на голос руку, раскрыл ладонь, добродушно улыбаясь, — окровавленную ладонь, обезображенную пнями, всю в глине. Рука пастуха дрогнула и опустилась. Он уставился на страшную ладонь, и лицо его свело судорогой. Он крепко стиснул зубы, повесил голову и пристыженно пробормотал:
— В костер упала…
— Жаль, — сочувственно проговорил Адам. — Какая она была?
— С почек! Вкусная!
— Да, с почек вкусная, красная.
— Натопим еще, Адам, не горюй, пожуешь. — И виновник положил ему руку на плечо, а затем побежал в лес.
— Далеко до вечера?
— Час-другой.
— Тогда обсушусь немного да пойду. — И он повернулся к огню спиной.
Из оставшихся у костра никто не отваживался заговорить с Адамом. Ребятишки пялились на него, разинув рты, и оборачивались в сторону леса — не возвращаются ли старшие. Не по себе им было с Адамом, боязно.
— Пойду я. — Адам поднялся, и ребятам показалось, будто он втиснул голову в самое небо. Один облизал пересохшие губы и судорожно глотнул слюну.
— С богом, ребята.
— С богом, — прошелестел самый смелый. Голос не повиновался ему. Но Адам услышал его и чуть улыбнулся.
Он ушел.
— А найдет ли он дорогу? — зашептались у костра.
— А то нет…
— Нашел, будто и вправду видит. — Детские глаза сияют от счастья.
Адам надел лямку. Левой рукой придерживает натянутую веревку.
— Адам! Смолу-у топить бу-удем! — кричат ему из лесу.
— Завтра-а, — отвечает он, приложив ко рту ладони.
— Ладно-о…
И снова он берется за натянутую веревку, в правой руке — палка, голову и плечи наклоняет вперед и несколько мгновений висит, будто окаменев. Лицо искажается напряжением.
И — в путь через мочажины. Через бесконечную трясину. Впереди вспыхивают всполохи, его темнота наполняется холодными разноцветными молниями, на миг ему даже показалось, что снова надвигается гроза.
Ему стало страшно. Далеко вокруг не слыхать ни человеческого голоса, ни колокольцев…
За пнями тянется широкая черная борозда, печально напоминающая его самого. Словно это его собственный портрет. Начинавшийся на вырубке, над можжевельником, и еще не законченный. Словно он вытесывал свой портрет в самом твердом камне, а пока что — вырезал его в мокрой земле.
Палка звякнула о камень.
Где-то стучат колеса…
Проселком ехала телега. Звонкие частые удары — это от лошадиных копыт, тарахтенье — от колес.
— Нно! — покрикивает возница.
Лошадь одна. Адам словно видит это. Кто ж это едет? Если 6 еще раз услыхать голос, он узнал бы. Но кто б это ни был, Адам не будет загораживать ему дорогу, обождет, пока тот проедет.
— Тпру! — Телега остановилась. Тишина.
Лошадь фыркнула. Словно выстрелило из ноздрей. Адам знает, что они холодные, как его одежда на спине, на груди. Чудно́! Солнце греет, а ему зябко. Но кто ж это? Верно, незнакомый, с какого-то дальнего хутора.
— Господи, Адам, на кого ты похож! — Возчик всплеснул руками.
Адам обрадовался, узнав возчика.
— А!
— Эдак и людей перепугать можно, ей-богу! — Возчик смеется, и в этом смехе таятся изумление и страх.
— В лесу я был. Вишь, пни. А тут гроза, дождь ливанул. — Неизвестно почему, но Адаму хочется поскорее кончить этот разговор.
Может, только сейчас возчик разглядел лениво покоившееся позади Адама бремя, имевшее сто рук и сто ног. Кривых, корявых, черных. Поглядел он и на борозду, пересекавшую мочажины и взбегавшую мимо можжевельников к вырубке. Возница вздрогнул. Борозда была словно живая. Она извивалась, изгибалась, ползла за Адамом, еще чуть-чуть — и она подкатится ему под ноги и схватит его. Жуткая, как смерть.
— Адам, — тихо проговорил возчик, — и надо же тебе эдак надсаживаться!
Зря Адам прикинулся глухим, не послушался внутреннего голоса, велевшего ему кончить этот разговор. Не умея лгать, Адам рассказал возчику и о свадьбе, и о приюте, и о двух пнях.
Они стояли друг против друга, дышали в лицо. Адам рассказывал, возчик слушал краткую исповедь, а лошадь скребла копытом по камням. Вот и все свидетели, даже солнце ничего уже не слышало, закатившись за горы.
— Закуришь, Адам? — Возчик не знал, как иначе проявить сочувствие.
— Нет. Я не курю. Раз попробовал — не понравилось. Язык щипало.
Возчик не спеша скрутил цыгарку. Поднес ко рту, чтоб послюнить, но беспокойство мучило его, он не мог смолчать и проговорил глухо:
— Нету сердца у твоего отца. Богатый он, потому, видно, и без сердца. — Но этого, наверно, не стоило говорить, потому что Адам только хуже расстроился. Возчик сразу понял это по еще сильнее побледневшему детскому лицу. И он заторопился.
— Поеду я, Адам. Оставайся здоров. Давай руку!
Адам любил здороваться и прощаться за руку, но редко кто ему предлагал это. Обычно, прощаясь, ему пожимали локоть и говорили:
— Ну, с богом!
Возчик не сразу взял его руку. Адамова окровавленная рука показалась ему страшной, искалеченной. Он взял ее осторожно, чтоб не причинить боли, и подумал, что с такими руками Адаму не стащить своих пней по камням. А пни могут решить Адамову судьбу. А он — на телеге, свезти их вниз ему ничего не стоит. Как это он раньше не додумался?
Адам сопротивлялся, но напрасно. Возчик развернул телегу, они погрузили пни и подъехали к избе. В воротах их встретила мать, одетая, чтоб идти искать сына в лесу. У изгороди уже были навалены пни, и вот к ним прибавится еще два.
Когда мать увидела сына, сердце ее застонало от жалости и от боли. Она не позволила ему сбросить пни с телеги и сердито прогнала:
— Не путайся тут! Шел бы лучше умылся, на черта похож. Чего я только не передумала, господи, наказанье ты мое! — И сама помогла возчику сбросить эти чудища наземь.
— Я вот целых два. Вишь… Смог…
— Да ладно, ладно, вижу. Ступай умойся. На глаза людям такой не показывайся, — излила она на него свою досаду.
— Иду ведь. — Он уходил неуверенный, сокрушенный. Собственная мать не поняла его. Возчик, чужой человек, тот понял, а мать — нет. — Чудные дела, — бубнил он себе под нос, входя на кухню.
— Сколько мы тебе должны? — спросила мать у возчика, когда тот развернулся с телегой в проулке и собирался вспрыгнуть на телегу.
— Еще чего, что ты! Это я просто так… как человек человеку. — Он запнулся, не сразу придумав, как высказаться для него словами непривычными.
— Дай тебе, господи, и бывай здоров. — Она сдержанно поклонилась.
— Завари ему чаю, пускай пропотеет как следует. И если есть — водки туда плесни, его это укрепит. Ишь какой он — в лице ни кровинки, еще холеру какую схватит. Жалко было б… человека. Ну, оставайся с богом. — Возчик собирался сказать что-то совсем другое, но, спохватившись, рассудил не встревать в чужие дела. Жаль ему было Адама, но он свое дело сделал, помог ему, и если бы каждый столько сделал, Адаму, глядишь, хватило бы для счастья… Хотя — может ли быть слепой человек счастливым?.. С этой мыслью он взобрался на телегу.
— Езжай с богом. Сделаю, как ты говорил, сделаю. Только за спиртом придется к Кмохуле сбегать. С богом! — Она еще раз поклонилась.
— Нно! Трогай!
Мать проводила возчика взглядом, а когда он вместе с лошадью исчез из виду в глубокой расселине, села на пень и погрузилась в мрачные думы. Она поняла своего сына, она хорошо понимала, что означают эти пни, и до того пала духом, что, казалось, не выдержит больше… Ее слепыш мучится, защищается, как умеет, чем может. Какой гордый приехал, как держал себя, его слова «я вот целых два, вишь, смог» она слышит до сих пор.
— Но жизнь выглядит не так, как ты себе ее представляешь, сынок. И люди тоже. Что им твои два пенька? Боюсь, сынок… Ах, если б это от меня зависело! Только что же я могу — нет у меня ни силы, ни власти. Не та я, что прежде, когда молодая была да красивая. Тогда он моих слов слушался. А нынче… Ах, да, спирт! — промолвила она с удивлением. Совет возчика показался ей сейчас спасительным. Не то позабыла бы про него, подавленная мрачными мыслями, а после еще пуще болело бы у нее сердце.
Она бросилась на кухню. Адама там не было, наверно, умывался на ручье. Она взяла кошелек из кухонного стола, заперла избу и что есть духу поспешила вниз по тропинке. Пересекла пути, торопливо взбежала по склону, и вот она уже у корчмы.
Над головой звякнул колокольчик, когда она открыла дверь.
— Ах ты, господи! — воскликнула она вместо приветствия. — Бутылку-то дома забыла!
— Что надо? — Из боковой каморки выглянула остроносая корчмарка.
— Водки.
— Дам тебе шкалик, только уж пятак накину.
— Дай.
Она вернулась домой, приготовила чай. Когда в кухню вошел сын, умытый и переодетый, по кухне разносился пряный запах паленки.
«Господи, как он смотрит на меня! Как чужой», — говорила она себе и, заглушая в сердце тоску, громко сказала:
— Испугалась я за тебя. Один в горах в такую-то грозу…
Сын смотрел хмуро и не слушал, нечего было слушать. Собственная мать не понимает, не разумеет его. Вот и теперь говорит какие-то слова, но он знает, что словами этими она что-то скрывает, таит перед ним.
«Что еще надо таить от меня? Неужто вы не догадались, мамка, что все на свете передо мной таятся? За двадцать один год, что живу я на свете, вы о том не догадались? Еще и вы таитесь! Все говорят мне, что солнце желтое, и вы мне то же самое сказали. И пшеница, когда созреет, тоже желтая, и цветы одуванчики за гумном возле моих камней, и купальницы у ручья. Как это понимать? Если цветы желтые, почему они не греют, как греет солнце? А голуби — черные, говорите, как небо в грозу, как ночь и земля, и мои волосы, и зрачки моих мертвых глаз — черные. Как это? Весь мир для меня тайна, не таились бы хоть вы, мамка. Я два пенька выкорчевал, а вы и словом о том не обмолвились. Хорошо я сделал? Или плохо? Выходит, мне уж этого и знать нельзя? Так, что ли?» Все это он мысленно говорил про себя, потому что не слушал мать.
— Чаю я тебе крепкого приготовила, с паленкой. Выпей, чтоб холера какая не прицепилась. И ляг. Надо тебе пропотеть. — Мать перемалывала слова возчика, ставя перед сыном жестяную кружку.
Он послушно и нехотя, безо всякого удовольствия, принялся прихлебывать горячий чай. Водка обжигала, горло пылало и после каждого глотка пересыхало еще больше, словно обожженное пламенем. Где-то в желудке перекатывался раскаленный шар, он впитывал в себя боль из тела, и она понемногу исчезала.
Глаза у него заблестели. Заблестели, но остались безжизненными. Мутная поволока не сошла с них.
Они были мертвы.
— Темно уже? — спросил он спокойно, с торжественным умиротворением, которое нет-нет да и нисходит на любого из нас, напоминая, как это прекрасно — быть человеком, высказывать мысли, окрашенные настроениями своей души.
А из души матери, растревоженной голосом сына, все ушло. И мука, и терзания, и злость, и временная досада, и осталась душа, будто голая верба поздней осенью, — ствол и ветви без листьев — ее материнская любовь.
— Темнеет, темнеет. Скоро совсем ночь наступит, — и не смогла говорить дальше. Вышла из кухни. Пускай Адам посидит один, не то она еще спросит:
— На что тебе это знать, сынок? Твоя-то ночь вечная… — И она поскорей вышла, чтоб унять боль.
С пастбища возвращались коровы. Спускаются с мочажин проселочной дорогой, покрытой камнями. Идут, покачивая большими головами.
Звякают колокольцы.
— Скоро стемнеет. — Адам встал, прислушиваясь к вечерним мелодиям. — Скоро стемнеет, — повторил он, и это звучало как молитва.
Природа, не спросясь людей, разделила жизнь на день и ночь. И люди привыкли к этому. И не просто привыкли. Они считали это мудрым, единственно возможным, словом, таким, что ничем лучшим это и не заменишь. А вот слепой первенец привыкал к этому с трудом. Его тяготило такое разделение, он его не понимал. Он выходил из дома и, наклонившись вперед всем телом, прислушивался. И шел к мочажинам в горы или вниз, на берег Кисуцы. И на ходу, не переставая, шептал:
— Ночь. Темно.
— Все спит, настала ночь.
И он эту ночь чувствовал, она прикасалась к нему. Ночь приходила с умолкших полей, спускалась с немого неба. Напрасно подымал Адам лицо к небу, — слезы не выступали на его глазах, ибо не было солнца.
Тишина и ночь, — нигде ни звука. Только его шажки да постукиванье палки с железным концом. Если и крикнет где сыч, ухнет сова или прошелестит крыльями над его головой — Адама это не сбивает с толку, — звуки эти сливаются с ночью, не оживляя ее. И он повторяет:
— Тишина. Ночь.
Да, да, люди нынче устали, спят. И птицы спят, и поля, и солнце. Адам вздохнул. Тяжко ему. Он отправляется домой, на свое ложе. Попробует уснуть. Адам тоже подчинится всемогущему закону ночи. Должно быть, он всемогущ — ему ведь подчиняются люди и поля, птицы и солнце.
И сейчас придет ночь. Наступит тягостное молчание полей и неба, которого он так страшится, потому что не слыша — совсем не понимает. Он не идет на гумно, где ему постелила мать, а семенит через двор мимо хлева и амбара к своим камням.
Он садится на пятнистый камень. Сейчас, правда, пятен не видно — их смазал полумрак.
Еще надо подождать. Торопиться не надо — вон стучат железные ободья колес по шоссе, еще звенят вдали колокольцы на шеях коров, вернувшихся с пастбища. Колокольцы должны умолкнуть и умолкнут. Тогда до его слуха будут долетать только их вздохи, и ночь зазвенит сама по себе. Только тогда он сможет взяться за камни. Только тогда…
Он прислушивается.
Прислушивается, наклонив голову.
Колокольцы уже не звякают, а лишь вздыхают. Тихо-тихо…
А ночь звенит. Неповторимо.
Адам встает.
Палку втыкает глубоко в землю, вешает на нее куртку, шапку, засучивает рукава рубахи. Вытянув руки перед собой, сжимает их в кулаки. Два мускулистых комка словно угрожают кому-то. Нет, они никому не грозят, но Адам хочет, чтобы они стали еще крепче, такими, как эти гранитные глыбы позади него и рядом с ним.
Он делает несколько шагов без палки. Здесь она ему не нужна. Этот клочок земли, полого спускающийся к воде — его владения. Здесь палка ему не нужна. Она стоит одиноко, держит слепому куртку и шапку.
Адам коленом легонько касается гранитного камня. За гумном их шесть, а этот — наибольший.
Адам становится на колени. Навалившись на камень всем телом, упирается руками и плечом, толкает, толкает его и — опрокидывает, — и земля отзывается гулом под его ногами. Камень упрям, неподатлив, ему хорошо лежать на Адамовой земле, он пролежал бы на одном месте века, не будь слепца. Как гранит ни упирается, как ни злобствует, приходится ему поворачиваться, и он перекатывается, будто огромный мельничный жернов, а земля стонет под ним. И после каждого его поворота два комка из мускулов вскидываются к черному небу. В руки Адама вступает новая сила. Словно ночь их ему придает. И он черпает ее из ночи этими ручищами, отдувается, мертвые глаза вылезают из орбит, а он переворачивает глыбу, и так докатывает до самого ручья.
На берегу он садится на камень.
Ручей неширок. Он берет начало неподалеку, в болотце на мочажинах, но за короткий свой путь успевает набрать довольно воды. Юркий, словно козленок, бежит он меж камней, фыркает, как кошка, и, несмотря на все преграды, пробивается к жизни. Как и жители здешних гор.
По шоссе грохочет запоздалая телега, но с полей уже веет ночной тишиной. Одному ручью ни до чего нет дела — ночь ли, день ли, — знай журчит, перепрыгивает через камни, щебечет. Сил его не убывает, он и не помышляет о сне.
Звездные стада пасутся на синих мочажинах неба, сияющими глазами глядят на ручей за Адамовой избой. Приглядываются к неравной схватке, слушают тяжкие стоны земли, угнетаемой гранитом. Человек и гранит.
Человек сопит, гранит у его плеча качается, будто пьяный, вот-вот навалится на человека, задавит его, размозжит собой, но человек протягивает в черную темень ночи свой кулак, ночь вливает в него свою силу, и пятнистый камень опрокидывается.
Человек толкает его вверх по склону, перекатывает камень, тяжелый, как жизнь. Лицо человека от натуги синее, как небесные мочажины над его головой. Пот льет с него ручьем. Просолилась земля позади камня, позади человека.
О ночь, будь столь же милостива, сколь ты тиха, заслони месяц, чтоб не видели люди пологого спуска к ручью за Адамовой избой! Люди не поймут и только зря испугаются, и жить им будет еще трудней, чем сейчас. Адаму ведь просто некуда деть свою силу, и он хочет быть таким, как другие. Хочет сравняться с ними, изнурить себя и спать по ночам, коли уж природой так определено — как спят поля и небеса. Утром он вырвал из земли пень, к вечеру — другой, однако сила у него еще есть, и он вкладывает ее в камень, но сила его выходит из тела лишь по каплям, не течет ручьем.
О ночь, будь милостива!
Ты заслонила месяц.
Спасибо тебе.
Камень отдыхает, рядом с ним отдыхает и Адам. Он уже такой, как и другие люди в этой долине, ему нужна ночь. Тело устало, но душа — нет, душа не успокоилась. Мать ведь до сих пор и словом не обмолвилась об этих пнях. И что-то скажут отец, брат, воротясь из города?
— Добрый вечер, хозяйка. — Это во дворе кто-то здоровается с матерью.
— Наконец-то хоть ты объявилась! Все будто провалились, слепыш спит, а я тут сиди одна, как перст. Жди до ночи, будто волчица. Господи, не жизнь, а наказанье! — Голос матери прерывается от злости.
Она судорожно глотает воздух, словно пловец, погружаясь на глубину.
— И ведь говорила ему — езжай один, сына мне дома оставь — какой там слепыш помощник! Нет, уперся! Подались к черту на кулички, а напоследок и девчонка к ним на телегу сиганула. На́ вот тебе! Я от злости мало что не лопнула.
— И до сей поры не приехали? Ночь ведь уже.
Мать в ответ только раззадорилась:
— А то вернулись! Не видишь разве, божья душа, что в избе никого? Еще бы! Заявятся среди ночи с шумом, с криком, пьяные, а ты не успеешь глаз сомкнуть — подымайся с постели и обхаживай их. — Язвительный голос звенит, срывается на альт, то клокочет, то скрипит мокрым пальцем по стеклу и — снова взвивается на верха и дрожит тоненько, будто свистелка. — Вот крест-то мой тяжкий, наказанье господне! И ведь говорила ему — езжай один, оставь мне сына дома, какой там слепыш помощник! Нет же, уперся! А ты что стала? Ну ж погоди, обломаю я об тебя кочергу! Придет и станет, барыня-сударыня! Сняла бы уж ношу-то свою и помогла хозяйке!.. — И — хлоп дверью.
Тишина осталась. Но не настоящая, потому что ее разбивает поток материнских слов, приглушаемый стенами дома.
Еще раз отворилась дверь. Задребезжало ведро, будто брошенное оземь, и снова покатились слова:
— …небось черт тебя не ухватит! А за пастьбу я тебе…
Мать кричала на батрачку, вернувшуюся с горных выпасов, где летом они держали скотину. Был у них еще и батрак. В деревне они были самые богатые, и только в соседней деревне, разбросанной хуторами по другую сторону реки, были еще двое таких же богачей. А богатый хозяин на Кисуцах не обойдется без летних выпасов, без лето́вья. Это избушка в горах, обыкновенная изба, в ней кухня с допотопной печью, сени и клеть. За избой — загон для овец и хлева. Все лето держит там такой хозяин овец, коров, батраки ходят за скотиной, пасут, доят, бьют масло, собирают творог и приносят все это в деревню хозяевам, сколько надо для семьи, а все остальное переправляют прямо торговцам в городе.
Батрачка ничего не принесла хозяевам, потому что Адамов отец с матерью оставляли себе на лето корову в деревне, самую дойную. Вот какие они были хозяева! Батрачка пришла с пустой корзиной, увязанной в холстине. Хозяйка даст ей муки, крупы, гороху, фасоли и на рассвете отправит назад на летовье.
Слепыш уже надел куртку, шапку, подержал на ладони свою палку. Она была совсем легкой для его руки. Во дворе все замолкло, а ему так хотелось услышать хотя б слово! Даже визгливый материн голос не казался неприятным только потому, что рядом с ней была батрачка с летнего пастбища. Пока мать кричала на нее, выкладывая ей свои напасти, Адам видел батрачку, представляя себе, как она стоит перед ним, смотрит на него и рассказывает ему про житье в горах. Он однажды побывал там с отцом. Когда они пришли на место, где воняло овечьим пометом, отец стал повертывать его вокруг и заносчиво твердил:
— Все тут мое, все, что вокруг видно.
Но Адам заметил только, что земля там твердая, пахнет хвоей и травами, а ручья не слыхать, и Адам спросил отца:
— Отец, а где ручей?
— Ручей? А с чего тут ручью быть? Тут колодец. Хочешь пить? Сейчас принесу тебе воды.
Адаму вовсе не хотелось пить, просто было непонятно, почему у отца там нет ручья. Дома, за избой, есть, а тут нету. Какая ж это земля без ручья или реки? Со временем Адам забыл про это, а сейчас старое воспоминание вернулось.
И вернулось потому, что пришла девушка, принесла ему воспоминание и, быть может, овечьего сыра. Овечий сыр вкусный.
— Спасибо, спасибо, — шепчет Адам, и детское лицо его преданно улыбается.
У девушки с летовья мягкий голос. Как трава на мочажинах, такой мягкий. И руки у локтей мягкие. Он подыскивал, с чем бы сравнить их мягкость, и не нашел. Ненароком пощупал свои руки, всунув пальцы под рукав, выше к локтю. Нет, куда там, у него руки совсем другие. И сердце не замирает, не сжимается боязливо, когда он трогает свою руку, и в груди от этого не теплеет. Лица ее он не трогал еще, но знает, что оно красивое. У девушки с такими руками и лицо должно быть красивое. Как-то, неделю-две назад, она заплетала свою косу. Они сидели на пятнистых камнях за гумном, и он держал в руках ее ленту. Тогда он потрогал ее волосы.
Что она делает? Где же она так долго? Приходя с летовья, она всегда первым делом направлялась за гумно.
А ну ж не придет…
Слышны шаги. Она! Она, со своим мягким голосом и необыкновенными руками.
Она принесла с собой напоминание о прежнем, запах овчины и молока. Она уже не просто идет, — крадется, но Адам чувствует на себе ее взгляд.
— Я знал, что ты придешь.
Ей не хотелось выдавать себя, она задерживала дыхание, подавляла смех, зажимая ладонью рот, но ей это не удалось. Такой звонкий и чистый смех Адам слыхал только в горах, на мочажинах. Сестра его так не смеялась — она, как и мать, пискливо хихикала.
— А еще что ты знаешь?
— Ты мне овечьего сыру принесла. Дай! — И он протянул обе руки.
Ее обливал лунный свет. Она была высокая, стройная, юбка туго перетянута в поясе. Лицо ее было худовато, вытянуто, с большим, жестко очерченным мужским ртом, который придавал лицу суровое выражение. Даже лунный свет не мог прогнать, рассеять хотя бы на время эту глубоко проникшую суровость.
Она подошла к Адаму и дала ему кусок сыра, завернутый в салфетку.
— И все-то ты видишь, Адам!
Этого слепой уже не слышал. Он прикрыл своей ладонью ее руку с протянутым сыром. Темнота в его глазах стала влажной, будто он поглядел на солнце.
— Твоя мать злится, — проговорила она вполголоса, села на пятнистый камень рядом с Адамом и потянула руку к себе, пытаясь ее высвободить, но слепой крепко держал ее, и она чувствовала, как он дрожит, вздрагивает.
— Спасибо тебе, спасибо, — отрывисто произнес он, с трудом выталкивая слова и порывисто, все быстрее и быстрее водил пальцами по ее руке от ладони к локтю и назад. В этих пальцах, в их горячечном трепете, в болезненной безустальной маете было что-то жуткое, и девушку с летовья охватил испуг. Адам ведь слепой! Даже ночь не может скрыть его слепоты, его дрожащих пальцев и горячего дыхания. Слепота проникала всем его телом и дошла до кончиков пальцев правой руки.
— Твоя мать злится.
— А то нет! Злится. Кричит, но это она просто так. Я поем сыра. — И он отпустил ее руку.
— Поешь.
Голова Адама равномерно покачивается. Когда он ее поднимает, ниже подбородка обрисовывается черная линия близких гор.
Она молчит, пораженная красотой увиденного — черная кайма гор и над ней — черный силуэт головы. Там, в горах — летовье, а эта голова… глаза… А эти глаза… Девушка не могла взять в толк своего отношения к Адаму. Кто он для нее?
Где-то за рекой заиграла гармошка.
— Слышишь?
И она рассмеялась тем неповторимым смехом, каким не умела смеяться его сестра.
— Отчего же не слышу? За рекой играют.
— Я, поди, каждый вечер ее слушаю. А там, у вас?..
— У нас? А что у нас — собаки брешут да овцы блеют по ночам. Скучно, одни горы да небо, — сказала она грустно.
— Даже ручья у вас нет, — горячо добавил Адам с сочувствием, но девушка с летовья не поняла его.
— Ну да, даже ручья, — и недоуменно засмеялась.
Слепой замолчал. Этот смех обжег его, будто злым пламенем, замкнул ему рот и душу и грубо оттолкнул в беспроглядную темноту заколдованной страны без ручьев, без людей, по которой он блуждал один. Там он мог кричать или шептать, плакать или радоваться — что бы он ни делал, темнота никогда не расступится. Там все было мертво, как и его глаза, и ничто не откликалось, не подавало голоса.
А девушка с летовья глядит на его затененное лицо, четко обозначенное на лунном небосклоне, на линию гор, протянувшуюся от его подбородка. Все ниже опускается вечерняя звезда, скоро она коснется его лба, потом промелькнет перед его глазами, Адам же ничего этого и знать не будет. Будет сидеть молчком, словно и не было на небе никакой вечерницы. Отчего она так ярко светит, отчего падает и прячется за горы? Верно, есть в том какая-то тайна, которую человеку не дано знать. И с Адамовыми глазами, должно быть, так… Кто он для нее?..
Ночь. Тишина. За рекой горячо вздыхает гармошка, внизу лопочет ручей. Можно ли думать в такую ночь?.. Кто он для нее? Сын богатого хозяина, а она батрачка. Он калека, а она здоровая. Она бы крикнула радостно, не будь рядом его лица, этого темного лица на ясном небе. Красивое лицо, детское, только печальное. Как открытая могила. Печально глядеть на нее — и возле Адама тоже охватывает печаль. Вот и все, что чувствует она, видя его; это чувство подкрадывается к ней, стоит ей приблизиться к их избе. Оттого и носит она ему овечий сыр. Он так радуется этому, всегда благодарит ее, смеется, может, даже забывает о своей слепоте. А если б все вокруг сговорились и если б… нет, все это блажные мечты. А виной всему тихая ночь и его печальное лицо.
Вечерница вот-вот опустится на его лоб.
Он вздрогнул и головой закрыл от нее звезду.
— Пойду умоюсь к ручью. Посидишь тут? — И это она сказала, жалеючи его.
— Ладно, — легко согласился Адам, толком не зная, что она сказала.
— Нет, пойдем вместе! Чего тебе тут оставаться, — вдруг передумала она, взяла его за руку и повела к ручью. Их соединенные ладони горели. Это пламя не было злым, но оно наполняло их дурманом, смешанным с песней гармоники за рекой. Адам не ощутил ничего нового, лишь снова убедился, что у девушки с летовья необыкновенные руки.
— Сиди тут и не шевелись!
Журчит ручей, трава мягкая, густая, Адам погружает в нее свои пылающие ладони.
Опускается ночь.
Девушка развязала платок и со смехом бросила ему.
— Лови!
Он подставил обе ладони.
— Это платок, — засмеялся он и бережно, будто стеклянное, положил платок на траву.
Она расстегнула блузку, и белый месяц облил ее молочно-белые плечи своим белым светом. По какой-то безотчетной прихоти она тряхнула головой, сняла блузку и, сцепив руки, подняла их к месяцу. А все ночь, эта тихая ночь заводит руки девушки за голову и снова вытягивает их к месяцу.
Все ночь, эта тихая ночь.
— Лови!
В его ладонях что-то легкое и теплое. Пальцы нащупали пуговки, рукава. У него стянуло горло. Ему даже почудилось, что он держит в руках девушку с летовья, но это наваждение длилось один миг. Оно исчезло, едва к журчанью потока примешались чуждые звуки — заплескала вода, и брызги попали ему на лицо.
— Холодная, брр! — Девушка повизгивала, играла с водой, а Адам сжимал ее теплую блузку и прислушивался. Он сидел, наклонив голову и будто видел, как ее необыкновенные теплые руки погружаются в журчащую воду ручья и набирают в ладони студеную воду. Вода стекает по мягким рукам, а отдельные капли летят к нему и милостиво оседают на его лице. Как дождь.
Но вот плеска уже не слышно. Девушка с летовья села на камень, спустила ноги в ручей и болтает ими. Адам знал это. Ему сказала об этом ночь, она принесла ему об этом звуки, принесла и вздохи девушки.
Адам держит блузку. Дрожащими пальцами перебирает, пересчитывает пуговицы:
— …восемь, восемь, — шепчет он про себя.
Девушка с летовья сидит на камне, болтает в воде ногами, и вода бурлит. Девушка до пояса обнажена. Нагота ее светит ярче месяца. А груди — как две вечерние звезды.
Где же вечерница?..
Девушка видит ее, еще видит. Яркая звезда мерцает меж верхушек елей на самом темени черной горы. И опускается все ниже и ниже. Что-то черное заслонило ее. Вот она снова ярко взблеснула. Всего на миг, и все… Теперь девушка увидит ее лишь завтра, с летовья ее хорошо видно. Она будет смотреть на нее, это ведь ее звезда. Сядет на камень и станет смотреть. Только не сможет болтать в ручье ногами. На летовье нет ручьев. И она рассмеялась, вспомнив про Адама.
— Адам! — В этом зове были и взволнованность и изумление — оттого, что он сидит здесь, против нее, по ту сторону ручья и смотрит прямо ей в лицо. В первый миг она смутилась, скрестив руки, прикрыла груди — две вечерние звезды, а потом наклонилась, чтоб лучше видеть его лицо.
Адам молчит, молчание его тягостно, он молчит, как еще не молчал ни разу в жизни. Шумно дышит полуоткрытым ртом. Руки его дрожат, он чувствует на себе какое-то неведомое ему сияние, свет, горячий, будто солнечный, но какой-то другой — диковинный, дурманящий. От этого света кровь стучит в висках, больно хлещет все тело, и надо стискивать зубы, чтоб не закричать, о-о-о… только бы не закричать!
Течет, журчит ручей, а по берегам его вспыхивают молнии, исходящие из двух человеческих туч. Молнии скрещиваются над ручьем, кружатся огромным огненным колесом, которое крошится и рассыпается от какого-то смеха.
Это ее смех, той, с летовья.
Она смеется.
Смехом стерло жесткие складки около лица и оно стало женственней. Девушка убирает руки с груди, и две вечерницы снова призрачно светят в тихую ночь.
Обнаженная до пояса, она сидит на камне, ноги ее неподвижно свесились в воду. Ручей омывает их, студит.
Девушка дразнит ночь своей наготой. Она покачивается, тело ее змеится, она отдается вся этому танцу, в глазах ее застыло изумление и дотлевающий страх. Ибо по ту сторону ручья сидит тот, кто до сих пор был для нее никто и вызывал в ней только жалость. Но эта ночь шепчет ей, что на том берегу сидит не слепой Адам с детским лицом, а широкоплечий мужчина.
Это шепчет ей ночь.
Ночь, эта тихая ночь.
Это чудесно — сидеть перед ним безнаказно, сидеть обнаженной перед мужчиной, под заслоном его мертвых глаз.
Плечи и грудь ее высохли.
Ночь — теплая.
Но на лицо ее вернулось суровое выражение. Ночь ли его выплюнула или принесла откуда-то с полей, а может, сдула с верхушек елей, тех, меж которые упала вечерница.
Адам оглох. Кто-то перерезал нити, связывающие его с миром. Он совсем один, и лишь где-то внизу клокочет ручей.
— Где ты? — позвал он.
— Тут, — откликнулась она с другого берега. Ей тоскливо на камне, а у него сильные руки и широкая грудь.
Она соскользнула с камня и чуть постояла. Дно ручья ослизлое. Она прислушивается, как только что прислушивался Адам. Поворачивает голову. Однако ночь безмолвна, не слыхать и гармошки. Сердце сумасшедше колотится, больно отдается в горле. Она дрожит, колени ее ослабели, и она хватается за камень. Сперва одну ногу ставит на берег, затем вторую, но ноги не держат ее, и она садится.
Теперь они оба на одном берегу — девушка с летовья и мужчина с сильными руками и широкой грудью.
Вдали тарахтит телега.
Девушка опускает голову и шепчет:
— Адам.
Ночь уже не безмолвна. На шоссе тарахтит телега, доносятся пьяные выкрики.
— Иди, иди сюда, — зовет Адам и протягивает руки. Она подалась ближе к нему.
Ночь уже не безмолвна. Голоса доносятся отчетливей. А телега громыхает, ободья колес лязгают на камнях. Стучат лошадиные копыта.
Девушка с летовья дрожит. Она подалась еще на два шага вперед, но до Адамовых рук, до груди Адама еще далеко-далеко.
Голосов два. Один — хриплый, надтреснутый, другой — низкий, ухарский, видать — молодого еще человека.
— Иди, иди сюда, — шепчет Адам. Глаза у него влажные, будто он смотрит на солнце.
Но девушка стоит на месте. Слушает голоса ночи. Ночи — с ее громыханьем телеги и пьяными вскриками.
— Господи, Адам! Твой отец возвращается!
Руки его опустились:
— Отец…
— Подай мне блузку, одеться надо.
Он молча протянул ей блузку. Адам был уже в ином мире. На вырубке, среди пней — и возле телеги, свернувшей с шоссе на проселок, где колеса медленно переваливаются через булыжники.
Девушка натянула блузку и, не успев застегнуться, подскочила к Адаму, чмокнула его в губы и побежала на подворье тропкой между камней. Там она остановилась и застегнула блузку. Лицо у нее раскраснелось.
У Адама — мертвые глаза, но сейчас и губы его омертвели. Опасливый поцелуй словно не коснулся его. И все стало неправдой — и что она тут сидела, мылась в ручье, а он держал ее теплую блузку с пуговками. Правда одно — что телега грохочет на переезде железной дороги. Адам хорошо знает этот звук! Вот обод колеса стукнул о рельс…
— Отец и брат, — говорит он в ночь. Его никто не слушает. Но ведь Адам сказал это лишь себе самому, еще и повторил: — Отец и брат. — Потом в его сознании промелькнуло что-то, похожее на девушку с летовья, но тут же исчезло, и мысль зацепилась за что-то, похожее на вывороченный из земли пень, да так при нем и осталась.
Он взял в руку палку и пошел.
— Нно, удалые, нно! — Это заносчивый голос Адамового отца, самого богатого мужика в деревне. Лошади дико несутся, дребезжит телега, над головами лошадей щелкает кнут.
— Нно, нно! — Это уже молодой, ухарский голос брага Яно. По голосу видно, что он будет таким же удачливым, как и отец. Он будет пробиваться в жизни, как и его отец, — вперед, только вперед, наклонив голову, точно бык.
— Нно, удаленькие! — пищит девчоночий голосок. Материн голос — Удалые! — взвизгивает она еще раз и хохочет. Девушка с летовья красивей смеется. Неведомо почему, Адама стала искушать мысль, что в их доме все злые. Окованную палку он воткнул в землю и ввинчивал ее до тех пор, пока она не уперлась в камень.
И тут распахнулись двери кухни:
— Наказанье мое, явились! Пьянчуги! Несутся, как скаженные! Матерь божья, лошадей загубят, телегу поломают, волки, как есть волки, — причитает мать. — Ишь глотки дерут, дьяволы! И эту дуреху споили, верещит с ними, господи, господи, да что ж это за жизнь моя за окаянная!
Голос матери чужой для Адама, и слова ее не доходят до него. Безразличны ему и ее причитанья. Он ищет девушку с летовья, наклоняет голову, слушает, но ночь не приносит ему знакомых шагов, знакомого шороха одежды.
— Мама! Это мы! — верещит дочка.
— Тпру! — Отец тянет вожжи на себя, но не сворачивает во двор. — Ух, ну и дорога была! И часа не ехали из города, прямо на крыльях летели.
Дочка спрыгнула с телеги, подбежала к матери с большой картонкой:
— Если бы вы только знали, мама, что тут у меня! На два платья!
На телеге выругались. Это Адамов брат. Хмель не выветрился еще у него из головы, как у отца. Он с трудом вылезал из телеги, цепляясь за обрешетку. Наконец, когда ему удалось-таки спуститься на землю, он постоял, шатаясь, и на неверных ногах направился к калитке. Справа — под окнами избы — куча пней. Споткнувшись, Яно перекатился через пень и растянулся. Тяжело отдуваясь, встал, злобно скрипя зубами:
— Кто тут… — И ругань. А потом вспомнил: — А-а, слепыш лес корчует. Слышь, отец? Слепыш лес корчует. И ведь докорчует вот-вот! Ей-богу, докорчует! — И он исступленно захохотал, и смех его понесся в ночь как проклятие и богохульство.
Адам вытащил палку из земли и ушел в глубь двора, подальше от телеги и от брата.
— Не возводи хулы на бога, несчастная твоя душа! Было б тебе остаться, где надрызгался. Ох, пошел мой сыночек по пьяной дорожке, ох, господи, наказанье мое! — И она всплеснула поднятыми над головой руками.
— Вы еще тут будете меня учить! Я и сам не маленький и при своем уме, — раздельно проговорил сын, сдерживая злость. Голос у него протрезвился.
— Слыхали, что он несет, слыхали? Ах ты, неблагодарный, как у тебя язык не отсохнет! Так-то ты с матерью говоришь! Глядишь — и наподдашь матери. Но я тебе скажу: подыми только на меня руку — и конец тебе. Брал бы со слепыша пример. Нынче три пня здоровенных выкорчевал! Три! Понимаешь ты, что это для него значит? И домой их приволок. Сам! — Слезы вот-вот вырвутся у нее наружу.
— Подумаешь, — послышался глуховатый, уже совсем трезвый голос сына, — три пенька, тоже мне божий свет! Чушь собачья. Вся его работа — чушь. Три пенька притащит, а сожрет за четверых. Какой от него прок? Ничего, недолго ему их еще таскать. Недолго. Поедет себе! — И Яно закурил. Пламя осветило его искривленное злобой лицо.
— Не тебе порядки в доме устанавливать, молчи, сопляк!
— Заткнись, мать! Не лезь не в свое дело! Адам пойдет в приют, и весь тут сказ. И хватит об этом, слушать не желаю, не то худо будет! Худо, говорю вам! Нно! — Отец щелкнул кнутом, и лошади, высоко задирая головы и фыркая, влетели во двор, как очумелые.
Телега стоит на подворье. Хозяин, бормоча проклятья, слезает с нее.
У матери нет слов. Их вырвали из ее горла. Где-то, на самом дне души какие-то еще барахтаются, но ей их не высказать. При муже — нет, она боится его.
— Ему ж там лучше будет. Еще и заработает кое-чего, на берендейках заработает. — Это примирительно сказал Адамов брат, проходя мимо онемевшей матери в дом.
Месяц царил над долиной и горами.
В глубине двора, в самой его глубине, показалась чья-то тень и неслышно промелькнула по тропинке, ведущей к камням.
Никто и не приметил ее.
А когда во дворе все стихло, и дочка показала матери ткани на платья, а Адамов отец с Адамовым братом поужинали, тень снова промелькнула во дворе.
И никто эту тень и не приметил.
Только одна из лошадей забила копытом в настил, но она колотила так каждую ночь.
Тень прошла калиткой на улочку — ворота на ночь запирались — и сняла ремень с загородки вокруг капустных грядок и лужка со старыми сливами и обрубленной чуть не доверху елью, — подпоясалась, перекинула через плечо цепь и свернутую веревку, заткнула за пояс топор и кирку и вышла на проселочную дорогу.
Тюки-тюк!
Постукивает железо, глухо и равномерно.
Человек идет в ночи, не склоняя головы. Выпрямившись, он идет знакомой дорогой с целью, известной ему одному. Дорога поглощает его, лишь изредка он выныривает из нее, и тогда видно его голову, плечи, и — он снова исчезает в глубокой расселине. Да это и неважно. На дворе ночь, и никто не следит за прохожим.
Вечерница давно запала, Адамовы родные легли спать. Спят лошади, спят все, одна мать не спит, слушает оглушительное тиканье маятника, и оно страшит ее. Как будто это уже и не Адам ходит, а кто-то больше ростом и тяжелей его и как-будто этому-то, который больше и тяжелей Адама, — нет места в избе. Кто ж он?
Мать плачет.
А часы знай тикают…
Мочажины.
Мягкая трава-мурава.
Трава-мурава и трясина. И снова мурава и чьи-то мягкие руки, но он никак не вспомнит — чьи ж они? Пахнет цветущий боярышник, крыжовник и дикие груши. Пахнет рябина и тянется поверх густого терновника.
Пахнет и роща.
Адам шепнул что-то роще, но это, должно быть, были страшные слова, потому что роща не ответила. Онемела и не отважилась шевельнуть ни единой веточкой в ответ.
Что шепнул он ей?
Никто не знает, лишь ночь да Адам. А рябина, что ли, не слыхала? Нет, она шумит себе, пошумливает листьями. И змеи под насыпями камней не слыхали, спят они.
С шорохом пролетела птица над самой головой Адама. Он постоял, поглядел, куда это полетела сова. И пошел дальше вверх по крутому склону. Не будь сейчас ночи, все бы видели, что он идет как раз по той самой борозде, что пропахал вчера, таща свои пни.
Вырубка!
Тут — язвы в черной земле, а там — еще не вывороченные пни. Они блестят, освещенные луной.
Адам встал на колени возле одного из них, положил на него голову. Как будто и пню он сказал что-то, будто жаловался ему. Только все это, должно быть, неправда, потому что на вырубке тишина.
Долго ли, коротко ли стоял он так — неведомо. Ночь сегодня решила не мерять время. Должно быть, сказала про себя, что нету в том смысла.
Хватит того, что Адам встал и пошел назад той же дорогой, что и пришел. Он держался все так же прямо, ничего в нем не изменилось, разве что голову он теперь не склонял да брови не подымал удивленно. Словно безразличны ему были звуки, приносимые ночью, словно все вокруг умерло для него.
И мочажины.
И мягкая трава-мурава. И он не вспоминал больше, у кого ж это удивительные мягкие руки.
Он идет быстро, безучастный ко всему, словно машина. Спускается вниз проселочной дорогой. Палка стучит по булыжникам, но он не слышит.
Ничего не слышит, даже собственного дыхания.
Родной дом!
Он останавливается, но всего лишь на мгновенье. Поворачивается лицом к дому и низко кланяется. То ли пням, то ли двум окошкам? За окнами спит мать, он кланяется ей и, быть может, говорит:
— Спасибо, моя добрая мать. За все спасибо, — а, может, и не сказал этого или сказал что другое, а то и вовсе ничего.
Кто знает?
Ночь скрыла это.
Он двинулся дальше, и цепь на плече зазвенела, но он словно и не слышал, и все шел. Дзинь-дзинь!
— Рельсы, — пробормотал он, и в этом бормоте не было ни радости, ни печали. Какое-то время назад застучали на этих рельсах колеса отцовской телеги и копыта его лошадей. На телеге сидел и брат. В душе Адама уже не было никаких чувств, потому что и этот образ он легко выпустил из мыслей.
Его провожал ручей. Он клокотал слева от него и ни о чем больше не напоминал; быть может, Адаму и невдомек, что это — тот самый, который течет за их амбаром, где лежат его шесть камней.
Проселок выходит на шоссе. Под ногами не стало круглых булыжников, исчез и ручей, убранный в железную трубу под шоссе. За шоссе он впадает в реку, — бурлит между глыбами камней и падает…
Теперь Адама провожает река. Она не клокочет, течет спокойно, и Адам идет с ней бок о бок той дорогой, что утром ехали отец с Адамовым братом и сестрой. Эта дорога ведет в город. Сестре купили ткани на платья. А он никогда еще не был в городе, да и не мечтает об этом… И вообще уже больше ни о чем не мечтает.
Он идет, придерживаясь перил. Перила железные, их поставили здесь потому, что берег крутой, а Кисуца глубока. Вот и перила кончились.
От шоссе отходит проселок, по которому ездят возчики, если им надобно на тот берег, — внизу, немного ниже, есть брод, там Кисуца разливается широко, и там она мелкая, ребенку до колена.
Адам спустился вниз на этот проселок, но тут же свернул вправо.
Он идет лугом по мягкой траве, наклонив вперед голову; напрягает слух, читает по звукам, которые приносит ему ночь. Места эти ему мало известны, потому шаги его неуверенны и коротки, и палка описывает круги все шире и шире.
Палка наткнулась на что-то.
Адам вытянул руку.
Верба!
Ствол старой вербы. Адам провел рукой по коре. Верба растет не в вышину, а стелется по земле, словно когда-то, давным-давно, ее чем-то придавило.
— Верба, — произнес Адам спокойно. Это место он и искал.
Адам встал на колени.
Зазвенела цепь.
Он лег наземь и подполз к самому краю берега. Опустил руку вниз, еще ниже, — и пальцы его коснулись тихой речной глади.
Затем он встал.
Из уст его вырвалось не то слово какое, не то плач, и когда отклик его смолк и снова повторился тот же звук, сомнений уже не было — из уст его вырывался плач, — и он прыгнул.
Вода над ним сомкнулась.
На траве осталась лежать палка.
Палка с железным концом.
Перевод И. Ивановой.
ПОРА МЕДНЫХ ОТСВЕТОВ
Вечерний звон…
Разносится вечерний звон и ненадолго освобождает руки от тяжелой работы. Креститься ведь легче, чем ворочать навоз. Это известно и Одкоркулихе. С благодарным чувством бросила она железные вилы в желоб и вышла из хлева во двор. Поглядела в ту сторону, откуда доносился благовест, и осенила себя широким крестом.
— «Ангел господен…»
И принялась неторопливо молиться.
Благое дело молитва. Жизнь подождет, — сейчас она требует лишь одного — сложи руки да шевели губами. Голова, глаза свободны. Взгляд блуждает — смотри, куда хочешь! Одкоркулиха знает все молитвы на память, и эту тоже могла бы сказать, не запнувшись, хоть спросонья, и потому она не думает о молитве, а слова между тем слетают с ее губ легко и в том порядке, в каком они напечатаны в молитвенных книжках.
Благое дело молитва.
Еще светло. Хорошо видно кровлю, каждую дранку, — вон как они расщепились, растрескались, а те, что уже гниют, покрыты толстым слоем сизоватого и изумрудно-зеленого мха. Вечерами от кровли тянет сыростью.
Кровля покоробилась, стропила прогнулись, подались, не в силах удержать непомерную тяжесть. Крыша — что человек: ее тоже горбят годы, отнимая силу. От этой мысли Одкоркулиха сникла, вобрала голову в плечи.
Взгляд ее скользнул во двор. Но здесь она не отметила ничего, достойного сожаления. Под изгородью лежит куча навоза. За кучей стоит телега, задрав оглобли на крышу; против телеги, на краю сада растет липа, она кругом обложена хвоей. Тут взгляд Одкоркулихи задерживается. Неужто это вся хвоя с семьдесят шестой делянки общинного леса? Быть того не может. Поди, обделили мужа, не иначе, уж больно мало хвои-то! Муж у нее человек добрый, но простоват. Все добрые — простоваты. Рассерженная, она быстро добормотала последнюю молитву богородице и, недовольно ширкая носом, наспех перекрестилась. Уже давно отзвонили.
— Экая тишь… — замечает она про себя и озирается, шарит взглядом по двору, будто ищет пропажу.
— Ой! — вдруг она закусила палец и, шурша юбками, побежала в хлев. Склонилась над закутом, но ничего не увидела. От страха у нее сперло дыхание. Отворила дверцу, пригнулась, чтобы войти поглядеть, — господи боже! — что стряслось с поросенком? Зарывшийся в солому боровок с визгом проснулся.
— Ах, ты, злодей, негодник паршивый! — Она вышла из закута под визг и сердитое хрюканье голодного поросенка. Этого-то ей и недоставало, этого она и искала. Она любила слушать поросячью песенку. А то уж было перепугалась, не протянул ли боровок ноги, — сказывали, что на верхних хуторах объявилась краснуха.
Она прошла в сад. Потрясла яблоню и, собрав в подол паданцы, снесла их поросенку. Потом села на порог и стала глядеть, как длиннорылый боров хрупает кислицу, чавкая и похрюкивая. Ее так и распирало от радости, и она, сама того не замечая, в душе похрюкивала и повизгивала вместе с ним. Он еще поросенок, размышляла Одкоркулиха, на дворе ведь пока июнь, а вот придет октябрь, или даже уже в конце сентября это будет дюжий кабан. К рождеству можно бы и заколоть. Вот только бы нечистый краснуху не принес с верхних хуторов…
После таких размышлений работа у нее спорилась, будто у молодой. Она убрала в хлеву и спустилась в погреб, вынесла оттуда четыре обливных горшка со сметаной. Все, как один, розовые и в проволочной оплетке.
Одкоркулиха положила в плиту хворосту, сверху — поленьев и, когда вспыхнул огонь, осенила его крестом, затем принялась чистить картошку. Шелуха шлепалась в подставленный ушат, а она всякий раз жмурила глаза и снова их открывала, словно нехотя и с трудом, и покачивала головой. В эти мгновения у нее прибавлялось морщин — лицо старчески собиралось в складки, и было в нем что-то невыразимо страдальческое. Картошка, еще прошлогодняя, почернела, и, поворачивая ее в пальцах, Одкоркулиха находила самые черные места то ли по памяти, то ли на ощупь. Как бы там ни было, она вырезала их, не глядя, и, бог весть, на что она смотрела сквозь узкие щелочки глаз. Она сидела возле печи на маленькой скамеечке, и, казалось, сидит она здесь не каких-нибудь пять минут, а спокон веку и словно бы уже наполовину окаменела.
Плюх!
Картофелина бултыхнулась в большую цветастую миску с водой, а Одкоркулиха взяла из черной корзины следующую. Углы в избе тоже черные, одного цвета с корзиной и платьем Одкоркулихи.
Плюх!
Постепенно смеркалось, и лишь миска светлым пятном белела у ее ног. У Одкоркулихи уже словно бы и лица не стало, слилось с густеющей тьмой, а очистки все падали и падали в подставленный ушат.
Плюх!
Плюх!
Сквозь отверстия в дверце плиты, размером не больше шариков для игры в лунки, пробивались отблески пламени. Отблески скачут по плечу Одкоркулихи, по ее увядшей груди и рады бы проникнуть дальше, да не могут. Впрочем, иному и не бывать, — огню суждено освещать лишь плечо и грудь, а ей — сидеть на этом месте, чистить картошку и покачивать головой. И есть что-то безотрадное в том, что все тут повторяется до отупения.
Плюх!
И опять — плюх!
Чу — топот!
Топот проникает сквозь бревенчатые стены, наполняя избу гулом, — точно гром гремит за горами. Стекла в окнах дребезжат и позванивают.
Дзинь — дзинь.
И опять — плюх!
Она поднимает голову, словно человек, которому помешали дремать.
Тяжелые шаги и звон колокольцев. Корова с телкой возвращаются с пастбища. Поздно возвращаются.
— Ах, господи, наконец-то!.. — произносит Одкоркулиха и, если б кто ее слыхал, ничего бы не понял. Но она-то понимала. И потому поднялась и вышла во двор.
— Ты что, до ночи вздумала пасти коров?!
Ей никто не отвечает. Корова сама идет в раскрытый хлев. Телка остановилась возле липы и трется шеей о шершавый ствол.
Одкоркулиха рассердилась.
— Верона!
— А ну пошла! А ну пошла, кому говорят! — Пастушка стегает кнутом телку по задним ногам, не откликаясь на материны слова.
Телка рванулась, будто над ней закружил овод, жестяной колоколец глухо застучал, и телка стреканула в хлев.
Пастушка последовала за ней, но спокойно, шагом, с надменным достоинством, будто не замечая материнского гнева.
— Ты что, до ночи вздумала пасти коров?! Отвечай, коли тебя спрашивают!
— Я была…
— Была, была… Ах ты… — сорвалось было у нее с языка, но она спохватилась, устыдившись. — Скотина может покалечиться, ноги себе переломать. Немаленькая ведь, понимать должна.
— На Кисуце я была. Поила…
— На Кисуце! Поила! Знаю я, где тебя носит! Поила… На Кисуце! — Мать прошла в дом и все ворчала, полная недоверия. Ворча, выкрутила фитиль керосиновой лампы, пальцами сняла с него нагар, чтоб не коптил, зажгла горящей лучинкой и надела стекло.
— Нынче четверг, завтра пятница… — Огонек, словно бы поняв тайный смысл этих слов, взметнулся, весело заполыхал, краешком лизнул стеклянную стенку и, оставив на ней темное пятно, полез кверху, будто по трубе. Одкоркулиха привернула фитиль, а лампу повесила.
И снова села на скамеечку возле печи.
Плюх!
Мать не заметила даже, когда вошла Верона.
— Ужин еще не готов?
— Нет. — Она заметила на лице дочери усмешку, которая ее испугала. Усмешка была вызывающей и властной. Так посмеивалась Кисуца в те ночи, когда выходила из берегов и наводила на людей страх своими взбаламученными водами. А давно ли Верона была ребенком? Так-то оно… Нынче четверг, завтра пятница… Плюх!
— Пойду подою!
— Ступай! — Мать на нее даже не взглянула. Боялась снова увидеть эту улыбку на губах у Вероны.
И только — плюх да плюх, потому что картошки нужно много — на ужин и на утро. А мелкую сварить поросенку. Ишь кричит. Проголодался. Здоровому поросенку и положено кричать. Только бы краснуху не принесло с верхних хуторов…
Керосиновая лампа висит на матице возле зеркала. Потолок над ней закопчен. Черна и печь, и земляной пол под ногами, убитый, неровный, и даже герань на окнах словно бы почернела. Все будто окутано мглой. Чернеют стены, вдоль стен — постели. Одна, высоко устланная полосатыми перинами, стоит у двери, другая — напротив в углу; лежащий на ней легко дотянется и до тяжелой дубовой скамьи и до окна. В красном углу — стол, на стенах висят семейные фотографии, а над ними — шесть больших святых образов, однако разглядеть можно одну деву Марию Зебжидовскую. Остальные побурели, точно облитые кофием.
— Глядите, мама! — Верона вернулась с молоком.
— Ладно, ладно… — примирительно сказала мать. Радость дочки ей по душе, и она глядит на Верону без подозрения. Нет, та усмешка уже сошла, это снова была ее Верона, ее дитятко.
— Без малого два подойника. — Верона поставила их на лавку у печи.
— Ладно, Веронка, ладно… Теперь слей сметану из горшков, а я поставлю картошку. — И она поднялась со скамеечки, с трудом разгибаясь и, потирая рукой поясницу, запричитала:
— Ох-хо-хо, ни сесть, ни встать… Поясницу ломит. Старость — не радость… Сметану-то из горшков…
— Солью, солью… — Верона низко склонилась над горшком и дунула на забресклую пленку.
— Поворачивайся, Веронка, ты ведь совсем уже девка, — радостно говорила умиротворенная Одкоркулиха, не скрывая материнской гордости при взгляде на дочь.
— Хи! — Верона рассмеялась счастливым, беззаботным смехом, даже порозовев от распалявшего ее изнутри жара. В этот миг она не сумела бы выразить свои чувства, но ей казалось, что надо поблагодарить мать, встать перед ней на колени и поблагодарить за все: за доброту, за любовь, за уют и тепло отчего дома, за все, что выпало ей в эти семнадцать лет под этой крышей, зарастающей сизоватым, изумрудно-зеленым мхом. И, конечно же, за ее последние слова. Они ей пришлись так по сердцу! «Поворачивайся, Веронка, ты ведь совсем уже девка…»
Она уже не ребенок, не девчонка. Она — девка, и это правда, так сказала мать. Мать не сердится на нее, она добрая. Все ей простила. И то, что поздно пригоняет скотину домой, и что по ночам ее охватывает какое-то смутное волнение, и она не спит, мечется на постели, не в силах призвать сон. Мать понимает ее лучше, чем она саму себя. Мать наверняка знает, что с ней творится. А она не знает. Но что бы она ни сделала — шагнула, села, поглядела б на что или зажмурила глаза, где бы то ни было, она всегда и всюду чувствует, что с ней неладно что-то, что она не такая, какой была совсем недавно. Видно, потому мать и назвала ее девкой. Впервые она услыхала от нее такое, впервые ее так назвали.
Верона все еще смеется — от счастья и от того, что перед нею отворяется дверь в неведомое, и за этой дверью ее что-то ждет, что-то такое, чего не нужно бояться. Отворяет эту дверь мать, ее добрая-добрая мать. Как же не сделать все для матери? Что она ей велела? Слить сметану из горшков. Их четыре. Да будь их хоть тысяча и ей пришлось бы сливать до самого утра, — она и тогда бы все быстро сделала. Ради матери.
Порх! Она пролетела по горнице, схватила масленик и, держа его вровень с головой, перенесла на середину, под лампу. Сняла крышку.
— Чистый, мам? — Таким звонким голосом щебечут птицы в брачную пору.
— Чистый, чистый, Веронка. Я его щеткой оттерла и теплой водой ополоснула. — Мать радостно прядет нить беседы с дочерью. И эта нить тянется, словно исходя из ее собственного сердца. И она все говорит, изнемогая от радости. — Сливай, Веронка, сливай! Сперва из того, меньшого, так… вот и ладно… а я покамест картошку поставлю. Слышишь, как верещит поросенок-то? Сюда слыхать. Пусть его, пусть визжит, здоровехонек, стало быть. Здоровому поросенку и положено верещать, помни, Веронка. — Золотые нити Одкоркулихи кончились, и она умолкла. Помыла очищенную картошку, поставила ее в чугунке на плиту и ушла в себя, погрузилась в свои думы — благо еще не ночь… До полуночи далеко. Только-только смерклось. Не так уж и поздно воротилась скотина с пастбища. А хоть бы и поздно, — все одно не заблудилась бы, скотина умеет находить дорогу в темноте лучше человека. И не бежит, сломя голову, не торопится, времени у ней хватает, ноги скотина ставит твердо и обходит опасные рытвины, не покалечится.
Одкоркулиха успокаивает себя, изгоняет из своего сердца тревогу, как и всякая мать, когда замечает, что ее дочка, которая вчера еще была голенастым несмышленышем, с похожими на сухие ветки деревьев руками, день ото дня, час от часу резко меняется. У ней словно бы открываются глаза, и в них рядом с покорностью юных лет проглядывают неведомые прежде желанья, своеволие, любопытство и страх, страх перед тем, что придет завтра, придет неотвратимо. Понапрасну что-либо отгораживать от этих глаз каменной стеной, стократ напрасно. Ребячья грудь с торчащими ключицами! Она словно крест с поднятыми кверху плечами. И вдруг этот крест начинает исчезать, грудь набухает и округляется, вздувается и болит, а над нею плывут красные и черные облака… И руки — уже не сухие веточки деревьев, куда-то делись паучьи ноги, и приходят томительные таинственные ночи без сна и покоя.
В горнице сгущается знойная тягостная духота. Сморило и мух. Они не летают, не жужжат. Расселись по серым стенам черными крапинками. Верно, спят уже, и это Одкоркулихе чудно и непонятно. Муха спит, мухи спят… Экая блажь! Впрочем, о мухах она, пожалуй, и не думает, просто глядит на серую стену, усеянную черными крапинками.
В трубе хорошая тяга.
Плита под чугунком накалена.
Мать стоит у печи спиной к Вероне, которая сбивает сметану. В масленике бухает, бултыхается, а то — будто чьи-то руки сыплют по потолку мелкий песок пли пересыпают мак из бумажного фунтика в жестяную миску.
Девичьи руки держат мутовку крепко, то погружая ее на дно масленика, то поднимая; мутовка отделяет пахтанье и первые комочки масла. Масло белое, пахтанье тоже белое, в свете керосиновой лампы белеет и Веронин лоб. На нем выступил пот — маленькие жемчужины, целая диадема из соленых росинок.
— Отворите окно, мама! Дышать нечем.
— Отворю, отворю. Мигом отворю.
За окном — ночь. Ночь можно видеть. Однако ночь — не только потемневшее небо с мерцающими звездами, не только серебристый блеск реки и черные кроны верб по ее берегам. Верона уже знает это. Ночь можно и чувствовать, осязать, ее таинственное дыхание может наполнить сердце, опоить душу до беспамятства. Оттого так притягивает Верону распахнутое окно. Мать ласкова, заботлива. Горшки с геранью сняла на лавку, да там и оставила, точно знала, что на окне они будут Вероне мешать.
Вероне уже безразлично, сбивается ли масло в комки, она уже не слышит чавкающих звуков. Она целиком поглощена распахнутым окном. Оконце маленькое, крохотное, но все равно можно вести немую беседу с таинственной феей, — там, за окном. Фея — черная, как земля, на которой она стоит.
Ростом Верона чуть пониже матери. У нее каштановые волосы, и сверху — светлая прядь, точно цвет ее выпило солнце. Темный и светлый цвета слипаются в тяжелой косе, немного не доходящей до пояса, в косе пылает широкая ярко-красная лента.
— Давай, теперь я побью! — И мать берется за мутовку.
— Ах! — Верона закинула руки за голову и выгнулась, потянулась, томно покачиваясь всем телом. В ее движениях уже нет ничего детского. Это призыв. Призыв ночи, таинственной черной феи.
Призыв.
Призыв ночи.
И еще в этом смутная гордыня. Желанье показать сонным мухам, матери, и прежде всего — распахнутому окну свое стройное тело, крепкие груди, вонзившиеся в ткань свободно ниспадающей кофты. Будто два шипа, греховно проросшие из груди.
Словно из дальней дали посмотрела мать на Верону и, не выдержав, тут же опустила глаза. Она уткнула мутовку в днище и оперлась на нее. Теперь в масленике не бухает, не бултыхается, и никто не сыплет мелкий песок по потолку.
На темном деревянном кружке лежит комочек масла. Размером с горошину.
Белый.
А мухи черные.
Они спят, и понимать тут нечего.
Похоже, что и мать спит. Глаза у нее все еще закрыты.
Не бухает в масленике, нигде не бухает.
…ради распахнутого окна!
Окна, окна!
Откуда она здесь взялась и как сюда проникла, — никто не знает. Мухи не заметили, мать не видала. Верно, скользнула в раскрытое окошко, метнулась по горнице, точно молния по небу, и впилась в Веронины губы. Искривила их. И когда мать подняла глаза, эта усмешка все еще медлила, не сходя с Верониных губ, властная и вызывающая.
Матери стало боязно, и она зашептала:
— Свят, свят… скоро полночь. Пятница на носу… — Она приподняла мутовку и почувствовала, как ослабли у нее руки.
И уже снова бухает, бухает.
У Вероны побледнело лицо. Она облизала губы, и они заблестели.
Верона села на свою постель у окна.
— Ой, мама, какая я голодная, если б вы знали.
Мать не откликнулась.
Верона, должно быть, рассердилась, потому что вскочила, встала коленками на лавку и протиснула плечи в распахнутое окошко. При этом кофта вздернулась и обнажила тонкую талию. Книзу от поясницы тело ее округлялось колоколом.
«Легко будет рожать», — подумала мать и вздохнула. В этом была примиренность. Словно убедилась, что время не остановишь, что до полуночи всего каких-нибудь два-три часа, а затем наступит пятница. И в пятницу все свершится. От этого не уйдешь, жизнь всегда берет свое, и никто не в силах ей воспротивиться. Было такое и с ней самой, когда была она в Верониных летах. И случилось тогда все тоже в пятницу, она хорошо помнит, хорошо. Только дело было зимой — вьюга наметала высокие сугробы, и люди утопали в снегу, точно в глубокой воде.
Одкоркулиха даже покраснела, устыдившись сама перед собой. Господи, почитай старуха уже, а вспоминает ту первую пятницу! Шестерых она родила на свет. Трое померли и уже в царствии небесном, ведь померли они безгрешными. А вот один помер некрещеным. При родах. Повитуха взяла его, а он и помри у нее на руках. Но, может, перед богом это и не зачтется — такая короткая жизнь. Вроде он и не жил вовсе, будто и не было его. Кто знает, может, и он попал в царство небесное… Попал…
Двое сыновей у нее в армии, старший вот по осени уже вернется. А пока осталась она с Вероной одна. С Вероной да с мужем. Старуха! Негоже ей возвращаться в прошлое, к той поре, когда она ходила в девках и тоже поздно пригоняла домой скотину. Негоже! А вот знать бы… Каково было ее собственной матери в эти годы? Никогда она ее о том и не спросила. Да и как могла она о том спросить, коли ей ничего такого и в голову не приходило? Верона знает, что ли, что мучит ее мать? Вылезла в окошко и глядит в темноту… Что она знает? Да ничего! И что там видно в раскрытом окне? Черноту. А бывало, и она глядела и видела. Нынче же ничего не видит. Ну, там, когда небо чистое, — видно звезды да месяц. Да мертвые горы. И все. Верно, так оно и получается — стареет человек, стареют и его глаза. Мысли стареют, все стареет, даже кровля. Сизый да зеленый мох на кровле — это старость. Цвета старости сизый да зеленый. И человек сивеет, что голубь. Волосы выцветут, а лицо пожелкнет, как страницы в старом молитвеннике. Кровля на доме проваливается, горбатится, но ведь и человек горбатится, делается маленьким. Старые уже, кровля и человек, старые. Человека потом зароют на кладбище, а старая дранка и гнилые стропилины, скинутые плотниками с крыши, будут валяться возле дома. И хозяйка найдет их там, соберет и некоторое время будет растапливать ими печь. Умирает дранка, дерево умирает.
Одкоркулиха диву дается. Сколько сходного между человеком и всем, что его окружает! И до чего же чудно устроена жизнь! Чтоб наварить мясного супа, нужно забить корову. Мясной суп вкусный, в нынешнем году они уже ели раз.
О, господи! Не случилось ли с ней чего, — экая дурь в голову лезет… Она подняла было руку ко лбу… да чуть не рассмеялась. Только сейчас увидела, что в руках у нее мутовка, что она сбивает масло, а Верона все торчит в раскрытом окне.
В масленике всплывают наверх большие комки белого масла.
А Верона знай смотрит в ночь. Короткая юбка приоткрыла белые ноги. Туда уж солнышко не заглядывает. Зато ниже колен ноги у нее загорелые, цвета высохшей картофельной ботвы.
— Что ты там все высматриваешь? — окликает Одкоркулиха дочь и, налегая на мутовку, наклоняет масленик набок. Теперь в нем лишь побулькивает, и комки масла слипаются, пока не слепятся в один — величиной с капустный кочан.
— Ничего. Просто гляжу. Красиво… — И она еще дальше высовывается в окно, словно хочет выпрыгнуть. И матери опять чудится, что Верона того и гляди обернется птицей, взмахнет крыльями и улетит. Но свой страх она облекает в будничную форму:
— Еще вывалишься…
— Хи! — Верона засмеялась. — Мне и не пролезть, глядите! — И она пробует протиснуться в окошко, но оно слишком узкое.
«Легко будет рожать», — снова подумала Одкоркулиха, но сказала совсем другое:
— Смотри, юбку не порви!
Масленик погромыхивает, лаская слух. Так замирает за горами гром. Одкоркулиха легонько погружает мутовку, и та наталкивается на масляный комок.
Слышится всплеск.
— Иди выбирай масло. У тебя глаза зорче, — говорит мать. Похоже, что она уморилась.
— Вы б и сами могли… — Нехотя принимается Верона за работу. Она берет в руки дуршлаг, и рот у нее кривится, будто она схватила что-то гадкое. Не иначе, как из-за того, что прервали какие-то ее красивые грезы.
Когда картошка была уже в миске и женщины сели за стол, под окнами остановилась извозная телега.
— Тпру, тпру! Ишь как уплетают! Мне-то хоть чего оставьте! — В окне показался Одкорек, Веронин отец, шляпа его вся запорошена мукой.
— Идите, татко! Да поскорее, а то я ужас какая голодная, все съем! — Верона перебрасывала в ладонях горячую картофелину, потом куснула ее и запыхтела, раскрыв рот, — такая картошка горячая, — и поскорей запила пахтаньем.
— Сперва лошадь поставлю… — донеслось из раскрытого окна, и телега тронулась во двор.
Далее ужин проходил в молчании.
Вернулся из конюшни хозяин. Перед порогом потопал, отряхая с ног муку, снял куртку, хорошенько выколотил ее о стену, затем то же самое проделал с запыленной шляпой и вошел в избу.
— Слава Иисусу…
— Во веки! — отозвались обе женщины.
Он повесил куртку на гвоздь у двери, сверху накинул шляпу и расстегнул верхнюю пуговицу рубахи без ворота.
— Муку возил? — спросила жена, когда он подсел к столу.
— Муку да отруби. И на завтра сговорился. Завтра уже вроде пятница? — Он взял из миски картофелину.
— Пятница, пятница… — задумчиво подтвердила Одкоркулиха и сердито, даже как-то свысока посмотрела на мужа.
— Летит время… — Отец Вероны говорил неторопливо, такими же неторопливыми были и его движения. Он даже не ел, а вроде бы закусывал, будучи уже сытым. Картошку долго жевал и запивал так, точно старался распробовать вкус пахтанья. И как всегда — обронит слово-другое и не ждет, чтоб его слушали.
— Картошка-то черная…
— Пахтанье ничего, хорошее…
Когда же умолкал, то оглядывался вокруг. Его с утра не было дома, и теперь ему отрадно найти все таким же, каким он оставил, отправляясь на извоз. На масленике взгляд его задержался.
— В точности такой продавали нынче на ярмарке.
Задержался его взгляд и на герани. Цветам положено стоять на окне, а кто-то переставил их на лавку. Но он промолчал, подумав, что у переставившего их наверняка были для этого свои причины.
Пахтанье пришлось ему по вкусу, и он протянул жене кружку, чтоб налила еще. Пока жена зачерпывала сыворотку уполовником прямо из масленика, Одкорек присматривался к дочери. Она сидела к нему боком, отодвинувшись, по своему обыкновению, далеко от стола; поэтому всякий раз, доставая из миски картофелину, она привставала и вытягивала руку. При этом кофта плотно облегала ее тело, грудь, и тут Одкорек тревожно опускал глаза.
Вот и сейчас — она привстала, протянула руку… и он уставился, будто не веря своим глазам. Но они его не обманывают. Кофта уже в обтяжку…
И он еще медленнее жует картошку, еще медленнее пьет. И совсем умолкает, оставляет свои думы при себе. А думы его устремляются в луга, и он бродит по полям, перепрыгивает через межи. И, обойдя все, взлетает высоко, чтоб увидать всю округу и четырнадцать своих полосок. Которую же? Нет, эта никудышная, подмокает от грунтовых вод. Какую же? Какую, ежели четыре надо отвести под картошку, пятую — под капусту, а та — лошадь кормит зимой. На восьмой — турнепс для свиньи, а там — клевера, ну и ячменя малость, да жита…
Одкорек возвращается с полей в некотором испуге.
Вот! Верона привстает и протягивает руку за картофелиной. Груди у нее налитые, а он бежит с полей, потому что не сумел найти ни клочка земли, который мог бы выделить ей в приданое. Когда у тебя четырнадцать полосок, и то тяжко. Что ж будет, ежели их станет еще меньше?..
— Чего тянешься? А ну сядь ближе! — прикрикнула на нее мать, так как ей тоже чудится, что в движениях дочери много греховного. В движениях или в этих грудях? Она сама не знала. А взглянув на дочь еще раз, поняла, что греховно все Веронино тело, и волосы, и даже пылающая в косе широкая лента.
К столу словно бы подсел четвертый — искуситель. Воцарилась тишина, искупаемая горестными думами.
Бряк!
Это Одкорек поставил на стол жестяную кружку.
Хлюп!
Мать отхлебнула.
Они боялись. Боялись один другого. Боялись взглянуть друг другу в глаза и строго следили за тем, чтоб не встретились ни их руки, ни пальцы, когда брали картофелину из миски.
У всех отлегло, когда мать первая встала из-за стола и вскоре задула огонек в керосиновой лампе.
В плите давно прогорело, лишь тлели угли.
Одкорек еще остался за столом. Объяснять было нечего. Женщины видели, как он набивал люльку, потом разжег ее. В люльке захрипело, как у больного в горле, дымом закрыло голову и теснившиеся в ней мысли. Снова бродил он по окрестностям и искал — неутомимо, упорно, как упрямый пес, что идет на знакомый запах, а запах этот улетучивается, смешивается с другими. У Вероны наливаются груди, а осенью вернется из армии старший сын. А через год и второй, и что тогда? Четырнадцать полосок…
Облако вокруг его головы густеет.
В избе духота.
Верона высунула из-под перины пылающие огнем ноги. Ей было здесь тесно, стены будто валились на нее, а перина такая тяжелая, что можно задохнуться. Ее точно приковали, и она не в силах шевельнуть ни рукой, ни ногой. Она поднимает руку, лежащую на скамье. Рука подымается легко. А Вероне все же кажется, будто она совсем обессилела. Но она знает, что от этих странных ощущений ее может избавить только распахнутое окно.
Отец поднялся от стола.
Ах, ну почему он так медленно раздевается?! Скорее бы уж наступало утро, чтоб можно было уйти с коровами на пастбище. Долгой будет эта ночь…
Вот он уснет, вот он уснет… — легонько кружит у нее в голове, так легонько…
— Ах! — не сдержала она возгласа. Окно раскрыто, залито солнцем. Утро, ясное утро! Оно хлынуло в окошко и вымело все углы в избе своим сиянием.
Два горшка с геранью на лавке.
Печь.
Родительская постель у дверей. Мать уже раскрыла глаза и глядит на Верону недоуменно и грустно.
Верона одевается, берет гребень и выбегает во двор. Оттуда — на реку.
— Вставай, вставай! Слышишь? — толкает Одкоркулиха в спину мужа, отвернувшегося к стене.
— Угу, — бурчит он спросонья.
— Утро уже! Будет тебе дрыхнуть!
— Знаю… — Он подымает с подушки всклокоченную голову и глядит на окна.
— Нынче пятница, будет валяться-то! Пятница! — со злостью тормошит она его за плечо, а он только тянет лениво:
— Знаю, знаю…
— Ах, господи, пятница…
Одкорек не поймет, в чем дело, но ни о чем не спрашивает. К чему? Пятница и есть пятница, коли вчера был четверг. Через день не перескочишь. Хоть ты его выдери из календаря, открестись от него, заговори, — все равно день будет! И это хорошо, потому как должен быть порядок. И чего только жена заставляет его с раннего утра ломать голову невесть над чем? У бабы ум короток. Что с нее возьмешь? На то они и бабы. Лучше б она ему присоветовала, как быть с наделами. Сын вернется, вскорости — другой, опять же Верона… Могла бы небось приметить, что девка выросла, не девчонка уже. Где там — бабы дальше носа не видят. Ну да как-нибудь обойдется, как-то жили, даст бог, обернутся… И с землей, и с детьми. Пора одеваться, кормить лошадь — да в город. Завтра он никуда не едет. Поэтому сегодня же, как вернется, отобьет косу и в субботу — на клевера.
— Слазь с постели! Сколько раз тебе говорить?! Поди, до вечера провалялся бы! — Жена с грохотом выгребает из печи золу и ссыпает ее в старую миску.
— А я что делаю?.. — тянет он как ни в чем не бывало и неторопливо спускает ноги на черный убитый пол. Одну… другую… надо еще растереть колени, размять их пальцами. А то что-то побаливают. Небось была бы альпа[64] — все как рукой сняло бы. И что эти бабы так охочи до разговоров с утра пораньше? Ему не до этого. И что ей далась пятница? Пятница как пятница… Но он ни о чем не спрашивает. Зачем намогаться?.. Больно надо!
Он одевается. Подходит к окну, высовывает голову и громко зевает. Потом затворяет окошко и водружает горшки с цветами на место.
Порядок должен быть, — думает он и обходит стол, чтобы взять из-за образа густой костяной гребешок. Гребешка нет на месте. Он пожимает плечами, приглаживая волосы рукой, и отправляется на конюшню.
— Пентюх! — бросает ему вдогонку жена. Она вымела золу и из углов поддувала и теперь спешит вон — высыпать ее в навоз.
— Подои и ступай с коровами! — накинулась она на Верону в каком-то ожесточении. Что ее ожесточало? Красивое лицо дочери, гладко зачесанные волосы? Или ее походка, в которой сквозила девичья жизнерадостность, внушенная солнечным сиянием и прозрачной водой, куда Верона только что глядела. Она шла, покачивая бедрами, неторопливо. И муж, выведя лошадь из конюшни, запрягал ее с такой неохотой, точно спал на ходу. И лошадь была сонная. Нынче большой день, и Одкоркулихе не терпелось поскорее остаться одной. Но окружающие, сами того не подозревая, делали все наперекор и этим выводили ее из себя.
Наконец она дождалась.
Муж уехал на извоз, а Верона погнала коров. Мать долго смотрела им вслед, желая увериться, что те не вернутся через минуту, что они и вправду ушли надолго, и она может сделать то, на что решилась втайне от всех. С мужем она не советовалась, все одно он ничего не смыслит в таких делах. Ходит, точно слепой и немой, и невесть что у него на уме. При дележе общинной хвои и то опростоволосился. Что толку с таким советоваться! Мог хотя бы приметить, что Верона уже не девчонка. Добрый-то он добрый, да простоват. Все добрые — простоваты.
С благоговением достала она из-под подушки заржавелый ключ, который прятала там целых три недели. За это время прошли две пятницы, а она все никак не могла решиться. Однажды уже держала его б руках. Вертела. Ключ был большой, о трех зубцах. Но она положила его обратно со словами:
— Нет, не сейчас. Погожу еще…
Вот и снова она его держит, вертит. Выходит с ним в сени, в темный закуток с деревянной лесенкой на поветь. Напротив двери в горницу — дверь в чулан. Одкоркулиха вставила ключ в замок и повернула. Дверь чулана отворялась редко, и петли, покрытые пылью и ржавчиной, заскрипели.
Чулан темный, в одно оконце. На вбитых в стенки гвоздях висит одежда, сбруя и хомут, потому что прежде Одкорковы держали пару лошадей. На полу — лари, а на них — джутовые мешки да мучные кули, сложенные друг на друга. У окна — кровать, заваленная чем попало, — не разбери-бери! В углу колченогий гнутый стул.
Первым делом она отворила оконце, чтоб выветрился затхлый дух. Затем, напевая, рьяно принялась за уборку.
К десяти Верона пригнала коров, но дверь в чулан была уже заперта, а оконце затворено. Она ничего не заметила, даже того, что мать на нее не кричит и то и дело улыбается. Тихо-мирно миновал полдень и последующие часы.
Не пробило еще и четырех, а Верона уже гнала скотину по обрамку полей, задами.
— Я тебе, а ну пошла! — стегнула она буренку, которая потянулась к зеленому овсу.
Еще рано, пастухов не видать. Лишь по проселку, пролегавшему вдоль опушки казенного леса, едут с бревнами возчики на железную дорогу. Ободранные длинные стволы елей издали похожи на спички.
Зеленые картофельники еще не зацветали. На одинокую треногую рассоху посреди небольшого загона розовато цветущего клевера села сорока. Она покачала длинным хвостом, головой и, раскланявшись так на все стороны, полетела к лесу. Ее, верно, привлекли белые еловые стволы.
Проселок взбирается вверх по косогору. Возле двух старых берез он круто спускается в узкую долину.
Сплошь леса, леса…
Казенный — по правую руку, общинный — с другой стороны. Горы не крутые, нет. И подножия их оголены, но там, повыше, — раздолье можжевельнику. Ели растут еще выше, уже над ним. Сплошь ели, ели… Они как темные тучи перед грозой — столько их. Подуют ветры — и они шумят и глядят в долину своими черными глазами. Дико глядят, и веет от них холодом.
Верона пришла в лощину первой. Она была рада, потому что и хотела прийти первой. Девушка подстегнула коров, свернувших было с проселка на густую траву, и погнала их наверх, в можжевельник, в общинный лес, чтобы оттуда видеть внизу всю ложбину, чтоб видеть все: и клонящееся к закату солнце, и пастухов, и коров, которые вот-вот появятся, и она будет уже не одна.
Верона высмотрела себе местечко, — огромную, будто распухшую, каменную глыбу. Ее обращенный к ручью бок был закопчен пастушьими кострами. Возле скалы темнело большое огнище. Пепел уже развеяло ветром. Валяются лишь черные угли, обгорелые сучья да плоские камни, натасканные пастухами.
Верона легла на скалу, подперла подбородок ладонями и стала смотреть вниз, в ту сторону, откуда и сама пришла, будто кого-то поджидала.
Корова с телкой бродили поодаль. Звяканье их колокольцев порою тонуло в шуме близкого леса.
— Рано я пришла… — проронила она и положила голову на теплый от солнца камень.
От огнища пахнет дымом.
Вон летят шесть ворон. Нет, это не вороны, они не каркают, да и маленькие какие-то. Это — галки. Какая между ними разница? Наверно, никакой. Когда галка состарится, она превращается в ворону. Голос у нее делается хриплым и более громким. Так оно и есть, не иначе…
Лощина пуста. Лишь ручей журчит да телка издали гремит жестяным колокольцем. Верона лежит на разогретой скале. В душе у Вероны — ни страха, ни горечи. Одиночество не наводит на нее ужаса, не рождает в ней чувств, какие она испытывает дома, в избе. Лес на нее не валится, к скале ее никто не приковал, и можно дышать легко и беззаботно.
Фьюи, фьюи!
Два пронзительных свиста и такое же пронзительное эхо. Оно замирает, замирает…
Верона вскакивает и приподымается на цыпочки. Вскинула правую руку и несколько раз нерешительно помахала. Туда — сюда, туда — сюда, мол, она слышала, хорошо слышала, но пока что не видит. В глазах ее — ожиданье. Полные губы блестят.
Фьюи, фьюи!
Черная корова, черная с белыми пятнами.
Верона наперед знает, что сейчас покажется вторая, а с ней и теленок. Потом появится Михал, тоже в черном и белом.
Фьюи, фьюи!
Это он. Стоит там в белой рубахе и черных штанах. Он, потому что никто не умеет так свистеть, и ни у кого нет таких коров, как у пастуха Михала. Ах, Михал, что за парень, что за удалец! Он любит оповестить о своем появлении, далеко окрест дает людям знать о себе. Вот и сейчас он широко расставил ноги и так хлестнул бичом, что гул прокатился по лощине. Теленок струхнул, задрал хвост и стремглав кинулся наутек — подальше от шума, от грохота.
— Ого-го! — откликается Верона со скалы, нагретой солнцем. Чтобы Михал знал, что она здесь, что она пришла первая, как обещала утром.
Михал знает это и без ее клича. Скалу видно с проселка и Верону на ней — тоже. Но парень не торопится. У него этого и в мыслях нет, такое не пристало его молодечеству. Вразвалку, с ноги на ногу, направляется он совсем в другую сторону, не туда, где высится каменная глыба, подкопченная пастушьими кострами. Он то и дело останавливается, щелкает бичом — просто так, для собственного удовольствия, — и слушает, как всякий раз в еловом лесу будто что-то всплескивает и вскипает.
— О-го-го, о-го-го!.. — Скала манит, скала зовет, и путь Михала описывает дугу. О стаде он не тревожится. Оставляет его у ручья, а сам идет дальше.
Ну вот! Он стоит перед скалой, точно перед памятником. Верона опустилась на колени и улыбается. Вызывающе и властно. Это та самая улыбка, которая пугает мать. Должно быть, Михал тоже ее боится, потому что лицо у него застывает. Он рад бы улыбнуться, рад бы, но перед Вероной не смеет. Кнутовище плотно прижато к телу. Точно ружье у солдата. Кажется, он способен простоять так годы. По крайней мере, вид у него такой.
Вихры приглажены кое-как. Посередке еще куда ни шло. Заметны даже следы гребня, зато сбоку торчат, что иглы у ежа. Торчат и красные уши. Лицо широкое, с широким ртом.
Холщовая рубаха не застегнута. Да и не на что ее застегнуть. Пуговиц нет. Весь он какой-то запущенный, расхристанный. Сквозь черную штанину просвечивает колено, — не сегодня-завтра там будет прореха величиной с монету. А левая штанина разодрана снизу чуть не до самой лодыжки. И стянута проволокой, зачинена кой-как.
Лихой молодец! Он стоит под скалой, а Верона глядит на него сверху, — орел, да и только, истинное дитя гор, кисуцких лесов, кисуцкого неба!
Он не смущается, не робеет и глядит неподвижно в одну точку лишь потому, что не знает, что сказать. Та, на камне, лишила его слов. Кажется, будто у ее лица, глаз и чудной улыбки есть руки, и они выхватывают слова у него из горла. Если б он хоть мог отвести от нее глаза! Нет, он не смущается, не робеет, просто он боится, а чего — сам не знает. Смелость покинула Михала, его молодечество обвито чем-то мягким и теплым, похожим на Веронины руки. Смелость нужно призвать, приманить. Нужно вскинуть бич и лихо щелкнуть позади себя, чтобы всплеснуло, вскипело эхо меж черных елей.
И он щелкнул.
Над лощиной словно прокатилось эхо далекой грозы.
— Разведем огонь! — кричит Михал. Босой ногой он сгребает черные угли и обгорелые сучья на огнище.
Верона смеется.
— Я принесу хворосту. — И он бежит вверх по склону.
В ложбину не спеша входят чужие коровы. Пастухи покрикивают, щелкают бичами, но никто не умеет делать этого так, как черный Михал.
Михал остановился у вывороченной с корнем ели. Тут хворосту нет, давно весь высбирали на костры. Надо идти выше. Но Михал не двигается с места. Он рад, что убежал от скалы и от той, что стояла там на коленках. Он наслаждается свободой, которую ему даруют тени елей и побуревшая, отдающая кислым хвоя, осыпавшаяся на землю.
Он садится.
По невидимой тропке шествуют рыжие муравьи. Навстречу им — другие, они уклоняются, избегая столкновения. Собственно, это даже не шествие, а бег, муравьиный бег. Видимо, что-то их гонит… Одних — туда, других — сюда, и ни один не передумает, не вернется с полпути, а упорно движется в одном направлении. Они огибают камень, могли бы миновать и сучок, довольно-таки громоздкий, если бы взяли на четыре пальца правее. Но нет! Они ползут через него рьяно и победоносно и вроде бы даже не замечают, что сучок преградил им путь. Сучок напоминает Михалу о том, что нужно набрать хвороста. Он и лапника наберет, потому что костер должен быть высоким. Высоким! И гореть долго, до самой темноты. Зачем? Этого он не знает. Так полагается, так заведено, как заведено у рыжих муравьев скитаться по невидимым тропинкам.
Поднимаясь в гору, он собирает все, что попадается под руку. Ему не лень нагнуться даже за самой крохотной веточкой, с которой не осыпалась еще сухая хвоя. Они хорошо горят, потрескивая и разбрасывая искры, с ними весело сидеть у костра.
У него уже целая охапка. Сложив хворост кучкой, Михал идет выше. Все собирает и собирает. Он уже не идет, а летит, скачет, перемахивая через молодые елочки, точно олень, и что-то гонит и гонит его еще дальше.
Еще, еще! Чем больше — тем лучше. Чтоб костер был высокий, чтоб горел до самых сумерек. Пастуший костер в сумерках красив. Он освещает скалу, а над лощиной тем временем опускается тьма. Он освещает лицо Вероны. Костер красив, но Веронино лицо еще красивее.
Еще, еще! Чем больше — тем лучше.
Михал запыхался, дышит раскрытым ртом. Дышит часто-часто, и горный воздух омывает ему легкие, придавая еще больше сил и свежести.
Еще, еще!
На вырубке, уже зараставшей молодыми елками, нарезал свежего лапника. Пастушеский костер взметнется столбом дыма. Вся лощина увидит, что костер под скалой развел Михал. Михал с Вероной. Увидят и пастухи, и возчики, что едут с бревнами из казенного леса. Все увидят его костер, и эта мысль согревает Михала. Он улыбается своим широким ртом и наконец пускается в обратный путь. Бегом, вприпрыжку, что шалый козленок. Вниз, вниз, чтоб поскорей быть возле камня. Там — она. Без нее ему тоскливо. С охапкой хвороста и толстых веток он теперь бежит, не останавливаясь, минуя кучки собранного сушняка, который не уместился в его широких объятьях.
Верона, все еще стоя на коленках, глядит со скалы на ложбину, которая пестрит коровами и телятами и оглашается звяканьем колокольцев.
— Гляди, сколько хворосту я собрал! Полвоза. — Он швырнул хворост на землю, повернулся и тут же понесся назад. — Побегу, не то растащат, — крикнул он через плечо и исчез в темном ельнике.
Верона спрыгнула с камня, сгребла на огнище угли и положила на них наломанные веточки потоньше. Теперь она ждала, думая лишь о клонящемся к закату солнце, — часа через три оно коснется гребня леса справа и спрячется за него. На время наступит ясное предвечерье, потом подкрадется сумрак, сперва растянется меж елей, а после надвинется на лощину и подползет к скале. Ненадолго его отгонит отсюда костер, но ненадолго. Затем опустится ночь, становясь все гуще и темнее, и прогонит из лощины всех пастухов и стада, Михала и ее. А все потому, что хорошего в жизни всегда бывает понемногу.
Верона ждет и ни о чем не думает, кроме как о солнце, которое опускается все ниже и ниже.
«Ты что, до ночи вздумала пасти коров?!» — накинется на нее мать. Накричит и слушать не станет. Но знает ли мать, как это — сидеть с Михалом у костра? Откуда ей знать!
Верона печальна.
Такой застал ее Михал. И он молча и робко подбрасывает хворост в костер, насыщая огонь, уже набирающий силу, и поглядывает на ту, что сидит напротив. Сидит с печальным лицом, подогнув ноги.
Он положил еловую лапу.
Костер затрещал, задымил. Положил еще одну и еще, все, что нарезал, пока не закидал весь костер. Дым все выше и гуще валил, будто из недр земли, устремляясь кверху, и, несмотря на безветрие, дым кружило и разметало. Он стал до того густой, что Михал уже не видел Вероны, сидевшей напротив. И тогда он сказал:
— Дым… Все видят.
«Мать не видит, мать не видит, Михал», — хотела возразить Верона, но не проронила ни слова, так как печаль уже покидала ее. И покинула вовсе. Не иначе, как ушла с дымом. Чудодейственный дым — дело рук Михала.
И Верона улыбнулась.
Дым откинуло вбок, и Михал увидел эту улыбку. Кровь в нем вскипела, и заговорило молодечество.
— Коли захочу, сделаю такой дым, что он выше горы подымется. Очень даже просто…
— Хи! Выше горы…
— Выше горы!
Сквозь темно-зеленый лапник пробиваются языки пламени, — острыми ножами врезаются в дым. Дым редеет. Правда, нет-нет да и повалит густой, образуя завесу, воздвигая стену между Михалом и Вероной, а то — закроет и нагретую солнцем скалу, но прежней силы в нем уже нет, он уже ослабел.
Пламя пожирает его. Костер шипит, стреляет, будто в каждой хвоинке спрятана щепотка пороха.
Михал подложил хворосту.
Верона смотрит на обгорелые сучья. Протягивает к ним руки, и при этом груди ее напрягаются под свободно ниспадающей кофтой, точно застоявшиеся кони. Но у пастушьего костра и в лощине, обрамленной хмурыми елями, ничто не может быть греховным. Тут нет ни греховного тела, ни строгого отцовского взгляда, ни наставительного материнского голоса. Зато здесь есть скала, словно раздувающаяся среди пахучего можжевельника, и чистое небо над головой. И еще — ручей внизу, и травы, привольно раскинувшиеся вокруг, по всей ложбине. И есть тут Михал с широким ртом, и его глаза впиваются в Веронино лицо и не смотрят больше никуда.
Он ничего не говорит, только смотрит.
На Веронином лице нет улыбки, которая так пугает Одкоркулиху. Потому что Верона, сидящая по другую сторону костра, чувствует на себе взгляд пастуха и уклоняется от него. Почему-то уклоняется. Она не смущена и не робеет, ибо дочери кисуцких гор подобного стеснения не знают, по крайней мере, — перед своими. Она лишь уклоняется от его взгляда. Потому что это так приятно, когда тебя согревает костер и огонь милых глаз. Верона боится, как бы один из этих огней не потух, если она встретится с ним взглядом. Пастуший костер или огонь Михаловых глаз.
Два огня.
Пастуший костер.
Огонь Михаловых глаз.
Горите! Светите!
Поэтому она старательно подгребает головешки, остатки прежних костров, и не спеша кладет их в огонь. По одной, аккуратно, на то единственно подходящее место, лучше которого не найдешь. И тянется за следующими, порывисто наклоняется к земле, потому что в лощине не может быть ничего грешного. Юбка ее задирается выше колен, и кожа там белая-белая, потому что солнце туда не заглядывает.
И все это — лицо, лицо Вероны. Лицо — это и лицо, и груди, и ноги выше колен — тоже лицо, и вот он, Михал, и глаза его впиваются в Веронино лицо и не смотрят больше никуда.
И вот она скала.
Можжевельник.
Скала почернела от лизавших ее костров. И сейчас огонь облизывает ее.
Ложбина пестрит коровами, оглашается звяканьем колокольцев и голосами пастухов. Пастухи щелкают бичами, но в лесу от этого не всплескивает, ничего не вскипает и над лощиной не прокатывается эхо далекого грома, потому что никто не умеет щелкать, как Михал.
А Михал не щелкает. Его бич валяется за камнем, он ему не нужен. Палка да ремешок с бахромкой на конце. Все это огонь может поглотить так быстро, что не успеешь и слова молвить.
Пламя взметается высоко.
Верона смотрит на Михала сквозь пламя. Их взгляды встречаются. Теперь она может, может смотреть. Волшебство длится, только в ином обличье и потому не гаснет ни один из огней — ни костер, ни взгляд Михала.
Она посмотрела и улыбнулась, но не властно и не вызывающе, а мягко и ласково и едва заметно. А потом опустила голову, точно кланяясь огню и тому, кто сидел по другую сторону костра.
На склоненную голову, на волосы полыхнуло заревом пламени. С другой стороны волосы позолочены солнцем. Волосы и ярко-красная лента. Но недолго оно будет их золотить. Недолго. Оно уже коснулось елей, окаймляющих самый гребень горы.
За ними оно и скроется.
Наступает ясное предвечерье.
В ложбине горят костры. Рассыпанные вокруг, они сияют, точно глаза, и, кажется, что этими глазами смотрит земля. На людей и на высокое разверстое небо.
Земля смотрит.
Вскоре и небо тоже глянет мириадами сверкающих глаз, и будут они, земля и небо, глядеть друг на дружку, как Михал и Верона, и будут при этом молчать так же, как молчат они.
Небо смотрит. Замигало робко одним глазом.
Земля смотрит.
Вероной овладевает тревога.
«Ты что, до ночи будешь пасти коров?!» — слышится ей. И Вероне невдомек, что лицо у нее отливает медно-оранжевым отблеском. Лунным отблеском. Лунным отблеском подернулась и скала. Это опускается ночь, густо осыпая медной пылью и Михала.
Последние язычки огня взметаются над раскаленными угольями. Еще один, синеватый, — и вот уже пахнет опаленной землей.
Гаснут костры, гаснут глаза. Земля укладывается на покой. Шипят угли. Пастухи заливают их водой из ручья. Они носят ее в шляпах, картузах, только Михал не может принести воды, — не в чем. Нет у него ни картуза, ни шляпы. А была ведь. Это так же верно, как и то, что там горит звезда. Вон там, над деревней. Была, да потерялась. Это ведь никакой не грех, зато можно посидеть здесь с Вероной и подождать, пока угли превратятся в золу.
Вот только бы ночь…
…ночь не спешила бы прийти!
Экая досада!.. Нужно сбегать к ручью, найти коров, выхватить у какого-нибудь сопливого пастушонка шляпу и притащить в ней воды…
Экая досада…
Михал так и сделал. Его холщовая рубаха замелькала в темноте. Он уже у ручья, и там взмывает рой панических возгласов и вслед за этим плаксивый крик:
— А-а, разбойник!
Михал принес в шляпе воды. Залил угли. Они зашипели и пыхнули белым дымом.
Земля утомлена, она укладывается на покой. В ложбине потух ее последний глаз. Пастухи тоже утомлены, и коровы, и телята, поэтому все отправляются по домам. Лишь у того, кто стоит над ручьем без шляпы, еще достаточно сил, и он противно вопит на одной ноте:
— А-а, разбойник! А-а, разбойник!
— До свиданья, скала, утром увидимся!
Там пусто. Пусто возле скалы и Михалова огнища.
А внизу, по проселочной дороге, что подымается к двум старым березам, словно бы движется живая картина. Картина, исполненная умиротворения и грусти. Сумрачная картина, и в ее сумрачности есть что-то вечное. Рамы у картины нет, разве что — леса да небо.
Бредут коровы, возвращаются с пастбища в свои хлева. Бока у них разгладились, — нету ямин! — и грузно свисает набрякшее вымя. В нем они несут молоко, густое и сладкое молоко, которым пахнет за версту.
Пастухи бредут, понурив головы. И плечи у них будто увяли. Молодые плечи, а уже клонятся к земле. Все ниже и ниже.
Не щелкают бичи.
Говора и то не слышно. Ничего не слышно, даже топот коровьих копыт приглушен…
Коровы оставляют за собой запах молока, а ночь развеивает его.
Еще хорошо, что коровы не умеют ходить быстро, да никогда и не научатся. Медленно бредут следом за ними и дети, даже те, что постарше, даже взрослые парни, потому что есть среди них и такие; поступь их тяжела, будто они вытаскивают ноги из густеющего теста.
Поесть бы…
В ложбине никто голода не ощущал. Там пылали костры, там пахло смолой, коровы паслись вдали… Молоком от них еще не пахло. Там щелкали бичи и звучали песни. А здесь — тяжелая поступь, покачиванье поникших плеч, бледные, изможденные лица. Поесть бы…
Неплохо было бы остановить корову, лечь под ее брюхо и тянуть из сосков молоко. Или сделать это еще раньше — на ложбине, в зарослях можжевельника. Неплохо бы. Но ложбина этого не позволяет, не позволяет и проселок.
Это — грех.
Потому что молоко, которое несут коровы в вымени, будут пить те, кто еще не умеет ни говорить, ни пасти коров. Остаток сливают в розовые горшки с проволочной оплеткой, а масло продадут перекупщикам, которые повезут его в город.
Дома остается пахтанье. Пить его не запрещено ни ложбиной, ни проселком. Вот были бы коровы, носящие в вымени пахтанье!.. Да где взять таких коров? Веселыми стали бы тогда пастушеские стежки-дорожки. Все пастушеские стежки-дорожки стали бы веселыми.
Почему от коров пахнет молоком?
Почему не пахнет от коров пахтаньем?
Кто скажет?
Все усиленно думают, но никто не отвечает. Ни одни увядшие плечи не ответили.
Ни Михал.
Ни Верона.
Они идут позади, далеко отстав от остальных. Он — впереди, она — за ним. И тоже — медленно, но легко, словно бы ноги — это вовсе не ноги, и тело — не тело, все вместе — пушинка, которую легонько подхватывает веющий ветерок.
И до них доносится запах молока, но Верона с Михалом ему не внимают. Они оставляют его полям и проселку, и двум березам, мимо которых только что прошли.
Михал и Верона.
Одни…
…вдвоем.
А там уже только звезды над их головами.
И больше ничего.
Да тьма.
Боже, так далеко весь мир и все остальное!
Как это хорошо.
Это лучше всего.
Да…
Так они могли бы сказать друг другу, но они молчат. А может, и сказали, потому что в воздухе чувствуется запах этих слов. Как и запах молока.
— Завтра у камня.
— Ладно. Доброй ночи!
— Доброй ночи! — И вот уже знакомый двор с липой у ограды и дом со знакомой кровлей, что зарастает зеленым и сизым мхом.
Верону никто не ждал. Из избы доносится металлический стук, точно косу отбивают.
— А, это отец. Пойдет завтра клевер косить, — заключила Верона.
Она загнала коров в хлев и привязала.
«Скажу, что гоняла на водопой к Кисуце», — говорит она про себя и мысленно видит сердитое лицо матери. В задумчивости отворяет дверь:
— Добрый вечер!
Ей не ответили. Отец сидел возле печи и отбивал косу, мать — под образами на лавке. Сцепив пальцы рук, она упиралась локтями в стол. Перед ней лежал раскрытый молитвенник. Верона схватила два подойника и побежала доить. Никто на нее не кричал, никто даже не взглянул. Душу ее пронизала боль.
Верона расплакалась.
Когда она вернулась, миска с картофелем уже стояла посреди стола, а подле нее — три жестяные кружки, до краев наполненные пахтаньем.
Все сели, каждый на свое место, и у всех был какой-то отсутствующий вид. Особенно — у Одкорка, который долго-долго жевал картошку и потом долго-долго запивал ее. Верона то и дело привставала, доставая из миски картошину, но никто на нее не прикрикнул. Мать о чем-то сосредоточенно и напряженно думала.
И вдруг, — это было неожиданно! — мать произнесла:
— Верона!
Та вздрогнула. Глянула на мать и, увидав ее строгое лицо, потупила голову.
— Ты уже большая…
Одкорек поднял палец и закивал им вверх-вниз в знак согласия.
— Надо тебя как-то устраивать… — И Одкоркулиха принялась за еду.
Одкорек медленно жевал, в такт еде кивал головой, как бы давая этим понять, что жена уже сказала все, и сказала ясно, так что ему нет надобности добавлять ни слова. У него даже лицо просветлело, будто он покончил с тяжелым и докучным делом.
Верона ничего не понимала. Только что здесь упали какие-то слова, упали, как сломленные ветром ели, но смысла их она не постигала. Эти слова не корили, не карали, ни в чем не обвиняли, но звук их все еще стоит у нее в ушах, и никак от него не избавиться.
— Ты уже большая. Это верно. — Все-таки отец сказал свое и, уже вовсе довольный собой, стал есть живее обычного.
— Встань, Верона! — сказала мать после ужина, и в голосе ее звучала какая-то неведомая сила. Верона чувствовала, что мать имеет власть над ее волей и над ее душой, что она держит в подчинении всю ее и может делать с ней что угодно.
Мать сняла лампу с крюка.
— Идем, я покажу тебе, где ты будешь спать!
— Так, так… — Нет, Одкорек не вмешивается. И эти два ничего не значащих слова сорвались у него с языка просто от изумления. Старуха им вертит, как хочет, ему она тоже приказывает, и он послушно встает, хотя все это его не касается.
Мать отворяет дверь, и свет керосиновой лампы выплескивается в сени. Пламя вздрогнуло на сквозняке.
Верону охватывает радостное предчувствие, оттого так бешено и колотится у нее сердце, и она прижимает его рукой.
Она охвачена радостным предчувствием.
Вон ключ! Большой ржавый ключ от двери, ведущей в чулан. Он лежит на ладони у матери. Откуда она его взяла, когда и как он очутился у нее?
Чудеса!
Верона охвачена радостным предчувствием.
Какое все чудесное, какое все прекрасное! И лестница на поветь, и темные сени, и, главное, этот ключ от двери в чулан. Ах, сердце, не терзай! Довольно уже! Хватит!
Дверь отворяется.
Дверь чулана.
— Вот твоя постель, здесь будешь спать. — Мать поднимает керосиновую лампу, освещая постель.
— Вот так… — Эти слова Одкорка ни к чему.
— Мама! Мамочка дорогая! — доносится из чулана, а также какая-то возня.
«На шею повесилась», — думает Одкорек и отворачивается. Бабская болтовня никогда его не интересовала, да и что он тут, собственно говоря, забыл?!
Он возвращается в избу и отбивает косу. Темно. Он открывает дверцу плиты. Коса уже отбита, но он не выпускает ее из рук, поворачивая так и сяк, лишь бы отвлечься, прогнать назойливые мысли о Вероне. Ишь ты! Девка стала, спать будет особо, сама себе хозяйка по ночам. Эх, ночи, ночи! А что она такое ночь, ежели так подумать?
Звяк-звяк!
— Эко тебе приспичило сегодня косу отбивать! Такой день! — Одкоркулиха вошла с лампой, сердито отдуваясь, повесила ее на прежнее место, села за стол, под образа.
Звяк-звяк!
— Девке хоть бы слово сказал. Такой день! Отец ты или бревно бесчувственное?! — Она раскрыла молитвенник.
«Ну чего раскаркалась, раба божья? Минуты не даст посидеть спокойно. Что ж я, ничего ей не сказал? Все сказал, и ясно сказал», — мысленно толкует Одкорек сам с собой и с женою.
Звяк-звяк!
— Да будет тебе брякать! Не то, ей-богу, выгоню вместе с твоей косой! Слушать уже невмоготу…
— Гм… — хмыкнул Одкорек и отложил косу в сторону.
— Ах, боже, боже… — вздохнула Одкоркулиха и погрузилась в молитву.
Он набил люльку, и поначалу ему казалось, что в ее дыму он о Вероне забудет. Не тут-то было! Дым увел его на поля, но там он уже бродил, и сейчас он опять ничего не придумал. Потом он словно бы на крыльях перенесся в чулан. Верона сидит на кровати. Что она еще может делать, как не сидеть на кровати в раздумье? Да еще вздыхать. Бабы на это горазды. Или же отворила окно и глядит в ночь. Гм, дела… Или, может, уже кого поджидает. Эк… Но да ведь она девка уже. Нет, никого она не поджидает, нынче пятница, а по будням стоящие парни к девкам не шастают. Разве что сопляки какие. Пятница! Вон оно что было на уме у жены, когда утром она подымала его! Она уже наперед знала, что сделает, все у нее уже было обдумано, а ему не сказала ни слова. Ни слова! И наверняка еще кое-что на уме держит про Верону!
«Надо это из нее вытянуть», — решил он и вслух произнес:
— Слышь-ка, с кем это Верона таскается? Ты непременно знаешь, коли все это затеяла. — И словно бы из отвращения к подобному многословию он сплюнул и растер плевок башмаком.
— Ни с кем она не таскается, чего ей таскаться. А вот костры на выгоне с Михалом жгут.
— С Михалом? Это который же, тот, что у распятья живет, губан?
— Тот. — Она смущена и рассержена его расспросами. Отцу давно пора бы это знать.
— Гм, гм… А давно они… того… посиживают у костра? — допытывается, выведывает Одкорек; он хмурится, по его лицу проходят тени.
— С месяц.
Ага, — думает он про себя. — С месяц… А жена чуть все вверх дном в доме не перевернула! Что такое месяц? Воды в Кисуце за месяц утечет много, а как оно повернется с этим губаном Михалом, — поди знай! Нынче он сидит у костра с Вероной, завтра будет сидеть с другой… Ему ли не знать, как оно бывает. Небось тоже был молодой. С кем это он, дай бог память, сидел у первого своего пастушьего костра? С кем? Упомнишь разве! Только не с женой. Э, нет! А она ему об этом губане Михале толкует.
Он с такой злостью потянул люльку, что в ней засипело. Михал! Михал! Отец Михала — тоже Михал. И дед его, который помер уже, тоже Михалом звался. И с чего бы это целая семья облюбовала одно имя?! Отчего? Есть в этом какой-то свой порядок, а порядок — это всегда хорошо. И держат они черных коров. Они их спокон веку держали. Верно, в этом тоже что-то есть. Эх, кабы наделов у них было поболе! Но у Михалов только детей вдоволь, а наделов столько же, сколько у него самого. Ну, там, может, на две полоски больше, и только! Что даст старый Михал молодому Михалу? Полоску-другую? Не нарежет. И корову не даст. А коли даст? Нет, не даст, не может дать. Сам-то как будет перебиваться? Да и на что она, черная корова?! Все черные коровы — будто недоростки и на чертей смахивают. Черные! Хорошей, доброй корове негоже быть черной. Эхе-хе… Нет у Михалова отца доброй коровы, и надела лишнего тоже нет, мда-а… Так какого лешего весь этот сыр-бор в дому?! И чего ради его девчонка с этим губаном у костра… того… чего ради она сидит с ним? Гм! Видать, уже досиделись. Досиделись! А его и не спросили. Теперь девка одна в чулане сидит. И опять же его не спрашивают. Да что это, черт подери, за порядки такие?! Порядки без порядка. Эко! И ведь сидит. Сидит Верона в чулане!.. Ну да ничего не поделаешь… Пускай себе сидит! Не драться ж ему, в самом деле, с бабами?! Еще не хватало — с бабами драться! Ну да как-нибудь обернутся… Как-то жили… Даст бог, обернутся…
В чулане темно.
Верона сидит на кровати и плачет. Слезы льются неслышно, как лунный свет, когда он проливается на землю и разбивается, дробится в траве. А когда попадет в глаза, глазам мерещится, будто это не свет, а что-то быстролетное, что это — сон.
Первая ночь, первая вольная ночь! Как выглядишь ты, черная фея, вблизи? До сих пор я видела тебя лишь из окошка нашей горницы или из лощины, когда поздно вечером гнала коров с пастбища. Что делаешь в этой тьме ты, скала, и что делает огнище под тобою? Можжевельник, тебе не страшно? Оберегают ли тебя высоченные ели от злых духов, являющихся по ночам? Хорошо ли они тебя оберегают, дождешься ли ты утра, чтоб завтра на рассвете я могла с тобой поздороваться и всем поделиться?! Мне о стольком, о стольком нужно сказать! Тебе и Михалу. — Так летит время в темном чулане, так говорят Веронины слезы.
В чулане темно.
В окно протискивается месяц. А все она, черная фея, она так зовет и манит, что устоять перед ее зовом невозможно.
Первая ночь!
Верона безбоязненно отворяет дверь и не крадется, а проходит через сени и выходит во двор. У нее есть на это право, священное право. Его дала ей долина. Кисуца дала, и потому никто не смеет на него посягнуть. Отец слышит, как ты выходишь во двор навстречу ночи, и мать тоже слышит, но они не могут тебе этого запретить и даже спросить не могут: «Ты куда это направилась, беспутная? Для того мы тебя растили, чтоб ты шлялась по ночам?»
Не могут.
Они лишь прислушиваются к отзвукам твоих шагов. Мать молится, а отцу хочется набить люльку и окутаться дымом, — до того он взбудоражен первой твоей вольной ночью. Однако вставать ему неохота, поэтому он лежит и прислушивается. Впрочем, прислушиваться уже не к чему, так как твои шаги, Верона, затихли. Поэтому отца гложет и мучает, что у него всего лишь четырнадцать полосок, что не ему принадлежит четверть общинной земли и он не может великодушно оделить всех: двух сыновей, что скоро вернутся из армии, и тебя, Верона, — да так, чтоб еще и самому осталось. А случись такое, — неизвестно, была бы ты счастлива, Верона. Пожалуй, отец — да, и мать — тоже, но ты сегодня не бродила бы ночью одна, и не было бы у тебя своей каморки, и не спала бы ты особо. Тебя держали бы в клетке, как пойманную птицу, и однажды выдали бы замуж, даже не спросив, по душе ли тебе жених. Да, Верона, да. Долина не жалует богачек, оттого она и сурова к ним.
Ступай же, ступай! Будет тебе глядеть на отчий дом! Что тебя там смущает?
Это — страх. Верона боится, тихая ночь ее пугает, и, глядя на избу, Верона раздумывает, не вернуться ли.
Но не смеет.
Не может.
Ибо в ее страхе есть нечто такое, чего она никогда еще не испытывала. У нее мурашки бегают по коже, а в то же время сердце обдает чем-то теплым. И ей хорошо, как у пастушьего костра.
Изба Одкорков стоит на отшибе, вдалеке от большака. Под еловым подлеском, под горкой, на которой растут высокие ели. И Верона спешит туда, в эту черноту, чтобы спрятаться, схорониться, потому что ей страшно стоять одной в ночи.
Все спит, не видно ни огонька.
Верона бежит. Бежит кратчайшим путем, напрямик через мочажину, лужок, который никогда не просыхает. Ноги по щиколотку увязают в грязи, в гнилой траве, и когда она их вытаскивает, то каждый раз слышится: Чвак-чвак!
Вероне жутко, болотное чавканье преследует ее. Точно злой дух подает голос из мочажины: Чвак-чвак!
Еще шаг…
И ели приняли ее под свой кров, и среди них она уже не боится ничего, потому что здесь все так же, как в лесу, обрамляющем пажити в лощине.
Верона знает, что путь ей предстоит неблизкий. Поэтому она мысленно кланяется матери за то, что та выбрала для нее именно эту ночь, такую лунную, безгрозовую. Скверно было бы брести кромешной ночью одной, под дождем, когда над головою грохочет гром, когда невидимая тропа озаряется вспышками молний. Правда, она и тогда пошла бы, никакая гроза не отвратила бы ее от задуманного. Она бы только всю дорогу уговаривала себя, что никакого грома не слышно, что долина вовсе не озаряется таинственным светом и не меркнет снова.
Она еще раз поблагодарила мать за такую ночь.
И потом, весело подпрыгивая, словно котенок, пустилась ельником вверх по склону, даже не чуя под босыми ногами осыпавшейся хвои.
Наверху, где расстилался небольшой луг, она вышла на тропу. Тропа белела, как тесьма, и не вилась, не петляла, рассекая луг напрямик.
По этой тропинке!
И она двинулась по ней не спеша и без страха, ни разу не оглянувшись назад. Перед ней ясная цель, иначе и быть не может, ведь это ее первая вольная ночь. Сознание этого так возбуждало Верону, что мысли путались, и среди пастушьих костров ей чудился родной двор, на нем стадо пеструх, шумливые ручейки, и над этими ручьями всплескивало и вскипало эхо. Кто-то щелкал бичом, и это был Михал, но она никак не могла его увидеть.
Она пристально смотрела на залитую лунным светом землю, поля, но ничего не видела.
Тропа тянулась вдоль межи.
И вдруг Верона заметила, что зелень ячменя и овсов в лунном свете совсем белая, как тропа, по которой она шла. Зато клеверища и картофельные поля темны, и самые дальние из них были как черные провалы. Рассохи в клеверах, протянувшие к светящемуся небу культи своих рогулин, напомнили ей, что сейчас ночь и что она в ночи одна-одинешенька.
Далеко окрест не было видно ни огонька.
Бояться тут нечего. Это рассохи, всего-навсего рассохи, — внушала она себе, шагая вдоль клеверища. Но смотреть по сторонам не решалась.
Бояться тут нечего.
В поле впереди нее зачернелось что-то высокое.
…что-то широкое.
То был хутор, а черная стена — купы вековых лип. Верона знала, что там же стоят две избы и что в одной из них живет Михал.
«Мой Михал», — лишь подумала она, хотя могла бы сказать это вслух, ей некого было бояться. Ведь пастухи в лощине видели, что они вместе разводят костер и что Михал никого не подпускает к их костру. К тому, что горит под скалой. А коли их видели пастухи, — стало быть, о них известно уже всему миру.
«Мой Михал!» — Верона не произнесла этого вслух, то ли она чего-то боялась, то ли еще что-то стояло между нею и черной стеной вековых лип.
Между нею и Михалом.
Распятие!
Поодаль стояло распятие, оно показалось ей выше, чем днем. И более черным, страшным. Но ночь вела ее дальше, первая ее вольная ночь, и белеющая тропа ее вела. Затаив дыхание, Верона неслышно прошла мимо. Распятие ее не заметило. Оно недвижно стояло на своем месте.
Тогда Верона побежала.
Побежала, обрадованная тем, что страшное место осталось позади, что темный вал лип уже близок.
Вон в том сарае спит Михал. Спит на сене. Ах, если б он не спал, если б вышел ей навстречу! Но этого не случится, потому что сегодня пятница.
Только завтра. Завтра…
Она подошла к воротам и взялась за ручку калитки. Нажала, ручка подалась, и Верона распахнула калитку. Так она распахнется и завтра, но уже под нажимом Михаловой ладони.
Верона закрыла калитку.
И пустилась в обратный путь по белеющей тропе, каждый свой шаг сопровождая заговором, заклинаньем:
— Будешь ходить этой дорогой, этой тропой, Михал! И не будешь знать никакой другой дороги, никакой другой тропы!
Этого ей не наказывала ни долина, ни мать. Сердце Вероны само захотело привязать к себе сердце Михала. Потому что пастушьи костры, далее тот, под скалой, горят вечно, а ночи такие долгие! Но завтрашняя ночь будет коротка и продлится не дольше, чем молчание у костра в ложбине.
— Будешь ходить этой дорогой, этой тропой, Михал! И не будешь знать никакой другой дороги… — Лицо Вероны было оранжево, его словно обдало медной пылью. Какой-то внутренний огонь распалял его, — совсем как если бы она сидела у костра, а вокруг расплывалась черная ночь.
Завтра…
Она скажет ему это сразу же поутру, как только пригонит свое стадо в можжевельник.
Сразу же.
Белеет тропа.
Верона улыбается, и ее лицо озарено медным отсветом. Такая уж это пора — пора медных отсветов.
Перевод И. Иванова.
СЕРАЯ ВОРОНА
Летит. Летит большая серая ворона, возвращаясь к ели. Облетает ее, садится. И сразу же взмывает, грозно, пронзительно каркает, начинает кружить вокруг дерева. Ее пронзительный крик звучит отчаянно.
Воронята не отвечают ей. Ондрей держит их за клювы, прижимает ладонями головы, он боится старой вороны.
Он здесь один.
Полет вороны замедляется, ее круги становятся все меньше и меньше.
Ворона кружит над Ондреем, а он весь сжался и рад бы убежать отсюда. Крик вороны его пугает. Пронзительный крик и распахнутые огромные крылья, вдруг замирающие без движения. И клюв пугает, и когти, загнутые и острые.
Грудка у нее серая, а шея черная.
Солнца не видно. Только тяжелое небо да черная кружащая тень.
Ондрей схватил корзинку, с которой пришел по грибы, и кинулся прочь. Бежит, ни на что не смотрит, только дорогу выбирает, несется вниз через межи, картофельное поле, клевер и зеленый овес.
Ворона не отстает и следит за мальчиком злым глазом.
Вот и изба.
За ней в пологом склоне отец Ондрея когда-то выкопал яму, выложил четыре стенки кирпичом, покрыл крышу дранкой и сказал, наверное: «Ну, вот и погреб справил, да такой, что и меня переживет». Так и случилось. Отца уже нет, а погреб целехонек.
Ондрей вбежал в него и захлопнул дверцу.
Ворона, злобно каркая, села на забор.
Осмелев, Ондрей вышел, закричал на нее:
— Кыш! — и бросил камень. Но попал в забор.
Ворона даже не шевельнулась.
— Кыш! — Ондрей бросил камень побольше. Ворона взмыла вверх, даже не махнув крыльями. Мгновение она парила в воздухе, и только потом ее словно швырнуло в сторону, и она полетела к лесу, к большой ели.
— Попробуй прилети еще! — пригрозил Ондрей птице.
Потом он вынул воронят из корзинки и положил на траву. Они разевали большие клювы, обрамленные желтой полоской, взмахивали слабенькими крылышками.
— Есть просят!
На глаза ему попалась колода, с незапамятных времен стоявшая на дворе. Он перевернул ее. Под колодой оказалось несколько толстых червей и улитка. Ондрей собрал их. Воронята смешно прыгали в траве и жалобно каркали, хватали воздух открытыми клювами.
Он бросил червяка одному вороненку в раскрытый клюв, затем второму и удивился, как быстро исчезают черви.
— Ну и ну!
В просветах облаков блеснуло солнце, но тут же скрылось за свинцовую тучу, заморосил мелкий дождь.
Ондрей отпер избу, расстелил на столе материнский шерстяной платок, усадил на него воронят и, ожидая чего-то необычного, сел сам и стал смотреть на воронят. Спешить ему некуда, и никто его не подгоняет. Даже старая ворона. Она улетела к высокой ели, где осталось пустое гнездо. Ну и ладно! К воронам у Ондрея нет жалости. И мать-ворону не жалко. Ворона — птица некрасивая, и развелось их столько, что осенью и зимой, когда воронья стая поднимается в воздух, неба почти не видать. Они кружат в воздухе или длинной вереницей перелетают с холма на холм, и на душе у Ондрея тошно становится.
— Сколько их!
В Кисуцах все разоряют вороньи гнезда. Ондрей тоже. Раз он нашел в гнезде еще не оперившихся птенцов. И сам не знает, — придавил их, что ли, когда с дерева слезал, только вынул из-за пазухи мертвых. А эти воронята большие, оперившиеся, крылышками махают.
Вот и есть не просят. Знакомятся с Ондреевой избой. Роются у себя в перышках, поклевывают платок. Но только Ондрей протянет руку к их головкам, сразу замирают, разевают клювы и каркают, сердито наскакивая.
— Не боятся, глупые еще!
Ондрей заглянул в горшки, расставленные на печи, нашел немного картошки и дал им. Они тут же проглотили ее. Последнюю картошку он посыпал солью и съел сам.
Воронята задремали. Прижались друг к другу, склонив головы. Но Ондрей рассадил их и стал сравнивать, который из птенцов побольше и покрепче. Они походили друг на друга, как две капли воды. Только на миг ему показалось, что правый птенец все же покрепче, да и клюв у него больше.
— Этот вроде хорош! Его и оставлю, — сказал он гордо и взял вороненка поменьше. Закрыл избу, положил ключ в условленное место и побежал на хутор — к пяти домам, где жили его сверстники.
— Ворона, ворона! — закричал он изо всех сил, подбегая к первому забору и держа птицу перед собой. — У меня ворона, я поймал ворону! — кричал Ондрей, пробегая между двух старых-престарых, пропахших дымом домишек.
— Ворона! — отозвалось с какого-то двора. Ондрей не знал, кто это, и стоял, подняв ворону над головой — пусть все ее видят. Потом взмахнул, словно хотел забросить ее на сливу, и при этом грозно закричал:
— Кыш! Кыш!
— Кра! Кра! — прокаркал в ответ птенец.
Из-за забора робко выглянула кудрявая головка. За ней вторая, и вот уже таращатся две пары удивленных глаз, потом глаза и голова исчезли, послышался визг:
— Ворона, ворона!
— Ондрей поймал ворону!
— Он хочет отпустить ее! Бежим!
И кто-то даже заревел.
Ребята прибежали, окружили Ондрея, и такая тишина вдруг наступила, что птица перестала каркать, спрятав голову в ладонях Ондрея. И в этой тишине все уставились на руки Ондрея. Смотрели с благоговением, словно старики на образа. А один малыш протянул руку и захныкал:
— Ондлей, дай мне волону, дай волону.
— Пошел ты!
— А-аа! — заревел малыш.
— Где ты ее поймал, Ондрей?
— Такая большая!
— А-аа!
Но Ондрей не отвечал. Прижав птенца к груди, он зашагал прочь. Надул щеки, вытаращил глаза и запыхтел, чтобы выглядеть пострашнее. И вдруг встал на плоский камень и, округлив глаза, сказал:
— Что было! Сидела она на ужас какой высокой елке. Две их сидели…
— Две?
— А-аа!
— Ну, а дальше?
— Погодите! — дернул Ондрей плечом. — Так вот, сидели там две вороны на высокой-превысокой ели. А я иду себе по грибы, шел я… — Но тут кто-то положил ему руку на плечо и сказал:
— Ну и что ворона?
— Это ты? — испугался Ондрей.
Пятнадцатилетнего Пайера на всем хуторе Ондрей боялся одного.
— Где ты ее поймал? — спросил Пайер, покачиваясь и держа руки в карманах.
— В лесу.
— В лесу? В каком лесу?
— В Ельнике.
— Где? В Ельнике? Ворону я забираю. Ну-ка! — Он еще покачался и протянул руку.
— Но…
— Ты чего? Ворона моя. Я ее пометил. Гнездо в Ельнике мое, точно! И ворону я забираю! И еще вот что… — И он громко рассмеялся, видимо, придумав что-то. — Ты мне принесешь ее туда, куда я захочу. Вон к тому забору! И быстро! Считаю до трех. Раз… — И он поднял большой палец и направился к забору.
Ондрей никогда не спорил с пятнадцатилетним Пайером. Вот и теперь он, пораженный, смотрел на уверенные движения Пайера, которые выдавали недюжинную силу. И как это он забыл о Пайере! Не надо было тут показываться с вороной, а незаметно пробежать хутором или вообще обойти его…
— Два! — Пайер поднял второй палец. Он сидел у забора, снисходительно улыбаясь. Да и почему ему не улыбаться? Ворона достанется ему дешево. Он немного злился на Ондрея, но вида не подавал. Самому ему никогда еще не удавалось заполучить такого большого птенца.
«Ничего, Ондрейко, дурья башка. Ничего. Мы с тобой попозже сочтемся», — думал он и уже представил, как сварит ворону и съест.
— Три! — поднял Пайер третий палец.
— Отдай же!
— Отнеси ему! — зашептали вокруг Ондрея.
А тот в плач. Слезы горошинами покатились из глаз, он разревелся вовсю и уже сделал первый шаг к забору. И, не усмехнись Пайер, отдал бы он ему ворону. Но от пайеровской усмешки сердце его вдруг ожесточилось, откуда и смелость взялась! Ондрей круто повернул и помчался вниз по полевой тропке. Он несся с такой скоростью, что только рубашку ветром надувало. И вопил:
— Мама! Мама!
Пайер не мог опомниться. Но встал, поддернул штаны, отбросил со лба мягкие волосы, заорал:
— Ах, так? Ну, подожди! — и кинулся за Ондреем.
Дети стояли, не двигаясь.
— Схватит он сейчас его!
— А-аа, — снова заревел малыш.
Но страх придал Ондрею крылья — он несся, сжимая ворону за горло. Лужа! Прямо через нее! Брызги во все стороны.
Пайер хотел перепрыгнуть лужу, да не смог. Поскользнулся и упал.
— Мама! Мама!
— Кра! Кра!
Пайер уже не бежит за ним. Только грозит кулаком и кричит:
— Подожди, еще вернешься! Шею тебе сверну. — Он сел на траву и принялся выжимать штаны, полный мрачных мыслей о мести. Он бы не отстал от Ондрея, да… рядом школа, а там Ондрейкова мать. Пайер ее побаивался, рука у нее, как у мужика.
В школьном дворе Ондрей был уже хозяином. Он еще всхлипывал, сопел, но глаза вытер.
За забором виднелась высокая железная дверь, ведущая в погреб с трубой. Ондрей не раз залезал в погреб, а однажды, когда пани учительница отправилась в соседнюю деревню, забрался и на трубу. А залезать туда было никак нельзя, пани учительница запретила строго-настрого. И потому трава на погребе росла густая, ярко-зеленая, хотя школьный двор рядом был сплошной пустырь, где всю траву с корнем вытоптали ребячьи ноги. На переменах там играли, гонялись друг за другом, и чего только ни вытворяли, и мечтали о том, как было бы здорово — посидеть на трубе, посмотреть оттуда на белый свет — как телеги грохочут по шоссе, течет Кисуца и на клене скачет с ветки на ветку скворец, смешно подрыгивая хвостиком.
— Ох! — вздохнул Ондрей, подумав: «И почему только пани учительница не разрешает лазать на трубу?» Он загляделся так, что и про ворону забыл.
— Кра! Кра! — раздалось вдруг.
Из школы вышла с ведрами Ондреева мать, статная, плотная женщина лет тридцати, и, оставив за собой двери открытыми, громко сказала:
— Ладно, пани учительница! — Голос у нее был резкий.
Ондрей дождался, пока мать перешла дорогу, и, едва она скрылась под крутым склоном, прошмыгнул в школу. Длинный узкий коридор, справа двери в класс. Век бы не видеть Ондрею этих дверей. Вот и теперь он показал им язык. Зато с большой охотой он входил в другие двери, напротив — за ними находилась учительская кухня, оттуда неслись незнакомые дразнящие запахи. Двери были полуоткрыты. За ними позвякивали посудой.
Ондрей не знал, как дать знать о себе. Он переминался с ноги на ногу, надеясь, что пани учительница сама выглянет. Постучать? Да нет! Хотя мать не раз наказывала ему стучаться, он никак не решался. Смешным казалось ему стучать в дверь, не понимал он этого.
Ондрей крепче сжал ворону.
— Кра, кра!
Снова звяканье посуды. Потом стало тихо. Послышались шаги.
— Ондрей! Ах, у тебя ворона! Самая настоящая! Покажи! — Пани учительница была небольшого роста, с маленькой головкой и почти детским лицом. Старость уже принялась за него. Время вырыло морщинки на лбу и вокруг рта, не тронув лишь щеки, и потому они умели по-детски радоваться.
— Это я поймал. — Ондрей уже забыл о страхе, в его голосе звучала гордость.
Вот пани учительница заговорила, улыбнулась, и Ондрей уже не боялся и не стыдился.
— Смотри, какой ты ловкий!
— Это я в лесу. — Ондрей подошел ближе.
Пани учительница потрогала птенца и сказала:
— Серая ворона!
— Что вы! Она еще молодая и не серая, — смело возразил Ондрей, показывая на клюв. — Тут у нее желтое. У старых ворон такого не бывает.
— Кра, кра! — Птица жадно открыла клюв, ожидая подачки.
— Настоящая ворона. — И что-то вроде удивления и детской радости пробежало по лицу пани учительницы. Она даже вся зарумянилась и с важным видом отнесла ворону в кухню. Там она положила птицу на гладкий белый стол и заглянула ей в клюв. Сначала серьезно, с восхищением, а потом, когда у вороны на гладком столе стали разъезжаться лапки и она замахала крылышками, стараясь дотянуться до носа учительницы, пани учительница засмеялась так, как Ондрей еще не слышал. Она смеялась, словно девчонки в классе или на школьном дворе, когда они играют в прятки и пятнашки.
— Отдашь ее мне?
— Ага!
— Ты ловкий мальчик. — И пани учительница ушла в комнату.
Ондрей знал, что последует. Когда он приносил землянику, ежевику или грибы, она уходила в комнату и возвращалась с деньгами, и всегда, уходя в комнату, говорила:
— Ты ловкий мальчик!
«Кроны, пожалуй, маловато, — подумал Ондрей испуганно, но тут же прогнал эту мысль. — Пани учительница сама это знает». И для большей уверенности громко крикнул:
— Такую большую ворону еще никто не ловил. — Но слышала это пани учительница или нет, неизвестно, из комнаты не отозвались, там что-то открывали и в чем-то рылись. В чем роются, он не знал, в комнате он никогда не был. Через полураскрытые двери он видел кусок пола, а на стене портрет какого-то усатого дядьки.
«Дядька-то какой некрасивый!» — подумалось ему.
— Вот, возьми.
Ондрей даже забыл поблагодарить, когда увидел в маленькой ладони крону и еще какие-то монеты. За спиной Ондрея звякнули ведра:
— Ты что тут делаешь? Поздоровался хоть? — Мать дернула его за ухо.
— Да вот, ворону…
— Господи, ворона! — воскликнула мать, увидев на белом столе птенца.
Ондрей выбежал из кухни. Поскорее удрать от матери в безлюдное место, сосчитать деньги. И он побежал к реке, к вербам.
— Три кроны! Две у меня уже отложены, да еще три, будет целых пять. А если бы у меня были те восемь, что отобрала мамка… — У него не хватило духу задумывать дальше. Сунул деньги в карман, побренчал ими и сказал: — Пани учительница знает цену вещам, — и вдоль школьного забора помчался домой. Ну и дорога это была! Да, здорово все получилось. Вот и хутор виден. Где-то там ждет Пайер, подстерегает его, но Ондрею сейчас все нипочем. Пару подзатыльников он как-нибудь стерпит. И забудет о них.
«Вот бы мне пятнадцать!» — Об одном мечтает Ондрей. Больше ничего ему в мире не нужно. Тогда бы он показал Пайеру! Но пока — что поделаешь, надо ждать целых пять лет. Правда, и Пайер станет больше. Ему тогда стукнет двадцать. Вот что плохо…
Пайер сидит посреди дороги, сердито сверкает глазами и жует смолу.
Ондрей смело приближается к нему.
— Куда ты ее дел? — Пайер прикрыл руками дыры на коленях.
— Я поймал ее для пани учительницы. — Ондрей смотрит на Пайера, — может, обойдется без подзатыльников. Только надо говорить не останавливаясь: — Пани учительница приказала принести ей ворону. Если бы не пани учительница, думаешь, я бы тебе не отдал? Запросто! И зачем мне эта ворона? — И он надул щеки, махнул рукой, как взрослый. Другую руку он держал в кармане, сжимая деньги. Только бы не забренчать ими. У Пайера хороший слух…
— Но это я ее пометил! Ворона моя.
— Врешь.
— Я вру? Ах ты, сопляк! Вот тебе… — И он наподдал Ондрею. У того слетела шапка. Ондрей бросился на дорогу, зарылся в пыль и щебень руками и так заорал, что Пайер испугался. Отбежав к забору, он оттуда начал выговаривать Ондрею:
— Отдал бы ее мне, я б тебя не трогал. Ворона была моя, я ее пометил. Я только ждал, пока она подрастет. И как раз сегодня собирался ее достать…
— Ах ты, дылда, кого опять отлупил? Где ты там? — раздался злой голос Пайеровой матери.
А дылда уже крался вдоль забора и, перебежав через дорогу, спрятался в соседнем дворе.
— Ну-ка, ступай в избу. — Матери Пайера еще не видно. — А ты что воешь? — выглянула она из-за забора.
— Ваш Яно побил меня. — И Ондрей ревет еще громче и лежит на дороге, не встает, смотреть противно.
— А ну, подымайся, не то я еще добавлю.
— Ваш Яно хотел у меня отобрать ворону.
— Ничего я не хотел, не слушайте его. Выдумал тоже, — раздается голос с соседнего двора.
— Подождите вы у меня, оба заработаете! А ты давай в избу, не то худо будет! И живо за работу! С сопливыми ребятишками связываешься. Где это видано!
— Ладно, иду. — Пайер вышел из соседнего двора, но прямо не пошел. Попасть в руки матери, как бы не так! Он заходил к избе с другой стороны.
— Иди, иди. — Мать хорошо знала своего сына.
— Да, знаете, как он меня поколотил… — Ондрей всхлипывает, потягивая носом, и отправляется домой. Пайерка, если разойдется — отлупит по чему попало.
— Не хнычь, не то добавлю, — повторяет она.
— Он побил меня, — канючит Ондрей, но уже тихо, для собственного успокоения.
А у Пайеров шум и крики.
— Да я ему ничего не сделал, он сам упал, поскользнулся и вывалялся сам.
— Ах ты, дылда… С сопляками связываться! На это тебя хватает…
— Да я…
Ондрей усмехается.
А потом уже целый день у него одна забота — ворона. Он перекопал всю землю за избой и слазил в овраг, но, видно, большие червяки все, словно нарочно, глубоко зарылись. Накопал он их самую малость.
— Ну, ничего. — Он в раздумье оперся на лопату: что же это — каждый день так будет? А что такая ворона еще ест? — И тут лицо у него прояснилось. — Ну, конечно, рыбу!
— Вода, правда, мутновата. Но ворона должна съесть рыбу, — разговаривал он сам с собой, жалея, что не с кем посоветоваться.
Пайер?
Нет, нет. Его лучше не спрашивать. А пани учительница! Пани учительница наверняка знают; и, оставив все, он кинулся к школе.
Пани учительница стояла на дороге и разговаривала с каким-то незнакомым мужиком. Матери не было видно. Ондрей прислонился к белой придорожной тумбе, сделал вид, что смотрит на реку. Вода текла мутная, берега были пустынны. В ненастную погоду река никого не манила.
Мужик простился, и учительница направилась к школе.
— Пани учительница, пани учительница! — подбежал к ней запыхавшийся Ондрей. — А что ест такая ворона? Червяков, картофель, а еще что?
— Да все! Она прожорлива…
— Значит, и рыбу?
— Рыбу, лягушек, всякую живность.
— И лягушек? — Ондрей поражен.
— Да ты не суетись. У меня есть чем ее кормить. Я сейчас дала ей немного хлеба. — И учительница, чем-то озабоченная, уходит.
— Ладно, ладно, — тихо сказал Ондрей и с отрешенным видом вышел со школьного двора, и по откосу спустился к обширным болотистым лугам, откуда доносилось кваканье лягушек. Сначала идти было легко, но дальше земля становилась более вязкой, трава выше, колючей, чаще попадались растения с широкими листьями, которые на других лугах не росли. Да и цветов таких, — желтоватых и синих он раньше не встречал. Ноги его все чаще увязали по щиколотку в болотистой гнили, и ему казалось, что вот-вот он наступит на что-нибудь гадкое. Даже взрослые избегали этих лугов. Только в самое знойное лето, когда вокруг все пересыхало и земля местами трескалась от солнца, эти луга косили, но мать Ондрея говорила, что даже сено с них никуда не годится. И добавляла еще, что оно кислое… Этого он не понимал и всегда представлял себе, как однажды отправится на болота и попробует сена. Но ему и в голову не приходило, что он отправится сюда за лягушками.
— Змей там ужас сколько! Вот таких! — Люди разводили руками. — Двухметровых! — рассказывали на хуторе взрослые.
Ондрей все это припомнил сейчас, и ему стало не по себе. А тут еще серое небо, затканное черными тучами, из которых вот-вот прольется дождь, не давало ему покоя. Ведь как раз в дождь, как утверждали старшие, змеи и вылезают из земли, чтобы выкупаться.
Но он шел и шел, забыв о лягушках, потому что все вокруг казалось ему удивительным. Вон там школа видна, там хутор, изба, и все рядом, рукой подать. Закричи он, наверняка на хуторе услышат. Но он не закричит, ведь там Пайер.
Почва под ногами становилась все более вязкой. Трава редела, и вроде уже не трава была, а словно зеленый лук. Росла она кочками вместе с мохом, и цветов больше не попадалось. А вот и маленькие озерца появились — с травянистым дном и такой чистой водой, какая бывает только в роднике у старого Ельника, где он разорил воронье гнездо.
Он остановился возле одного такого озерца, которое не мог обойти, и, словно оно было у него дома, посредине избы, наклонился и заглянул в него без страха и с таким же интересом, с каким пани учительница смотрела в вороний клюв.
Потрогал воду рукой: холодная.
По воде пробежало что-то похожее на паука, только без брюшка и тоненькое. Он не мог его поймать, таким оно было юрким. Побежало, остановилось и снова заметалось по воде. Зайти в середину озерца Ондрей не отважился. А по его дну, словно по сухой земле, ползали, похожие на клопов, жучки. Они как будто даже не замечали, что находятся в воде.
— Такой не утонет, — сказал Ондрей с завистью и вспомнил, как он учился плавать и тонул два года назад, примерно в это время.
Еще что-то черное носилось в воде с места на место, словно птица в воздухе, время от времени подпрыгивая.
Травянистое дно было зеленоватым, и, всмотревшись получше, он увидел там лягушку.
— Лягушка! — Она была большая, с зеленой спинкой. Страх у Ондрея совсем пропал. Озерцо и нежное, тихое кваканье где-то впереди зачаровали его. Он только жалел, что ничего не прихватил с собой и пришел в этот лягушатник с голыми руками. Хотя бы жердину от забора. Точно! Жердину, а к ней прикрепить рогатку.
— Я бы тогда лягушку наколол. — В нем пробудилась страсть ловить, хватать, бродить по воде. Но чем ловить, неизвестно. Тогда он сорвал стебель осоки.
Тык! Тык в лягушку, а ей хоть бы хны. Поерзала — и ни с места.
— А ну! — Он ткнул в нее сильнее. Лягушка зарылась в траву, а на том месте всплыл на поверхность небольшой лягушонок. Голова с выпученными глазами над водой, лапки растопырены. Ондрей вглядывался в его лапки с перепонками: — Будто гусенок какой!
Лягушонок понравился ему. Вот бы такого вороне принести! Но войти в озерцо он не рискнул. А начал обходить его, пристально глядя под ноги и позабыв про змей. Он сейчас чувствовал себя как на Кисуце. Он не слышал больше чавканья болота под ногами, и одиночество не пугало его.
— Ссс! — присвистнул он от удивления и испуга, ухватившись руками за колени. Лягушка! Они уставились друг на друга. Кто знает, о чем лягушка думает? Сидит и раздувается. Ее влажная шея то надуется, то снова опадет.
Порой она словно приоткрывает рот. Ондрею страшно. А что, если она откроет его пошире? Но что-то подсказывает ему, что не откроет.
— Ссс, — свистит Ондрей уже смелее. А лягушка сидит себе и таращит свои глазищи. Они у нее торчат на голове.
Ондрей снимает шапку.
Лягушка сидит. Только шею перестала раздувать.
И — хлоп шапкой.
Лягушка отпрыгнула.
Ондрею уже все нипочем. Он охвачен охотничьей страстью и месит болотную грязь, чавкающую гниль, ничего не видя вокруг, хоть бы и по колено провались. Поймать лягушку во что бы то ни стало!
И вот он накрыл ее шапкой. Схватил шапку вместе с грязью, со всем, что туда попало и сломя голову кинулся из лягушатника той же дорогой, что пришел. И снова в голову ему полезли мысли о всяких там двухметровых змеях, громадных, с человеческую голову, жабах.
Под ногами твердая земля. Лягушки квакают позади.
Три дня он кормил ворону лягушками, на четвертый день птенец уже стоял на ногах. И даже сделал несколько шагов. Видно, вороне самой это было удивительно, потому что при каждом шаге она поворачивала голову и одним глазом смотрела на Ондрея, словно говоря: «Видал? Что скажешь?» — и, взмахнув крыльями, делала следующий шаг.
— Кра, кра!
Ондрея она не боялась, а мальчик уже и не думал ее продавать, хотя пани учительница дала бы ему за нее кроны три, а если не ей, то он мог бы отнести ворону пану учителю, живущему в деревне за Кисуцей. Сейчас у него пять крон, а тогда бы стало восемь.
— Вот был бы праздник! Купил бы три маковые булки и еще сосиски с горчицей. Горяченькие, прямо из кипятка. Да еще у него бы осталось пять крон. И, наевшись вволю, он пошел бы покататься на карусели, один разок за пятьдесят геллеров…
— Это нам не по карману! — всякий раз кричит мать. Ну и пусть себе кричит, сколько влезет. Что она понимает, сама-то ни разу на карусели не каталась…
А накатавшись, пошел бы в тир…
— Эх, вот бы праздник был! — Ондрей снова посмотрел на ворону, а та на него. И глаза у нее были такие невинные, такие умные, что Ондрею стало стыдно за свои мысли и он поклялся себе больше никогда ни о чем таком не думать. Вороне, наверное, жалко с ним расстаться, она и заплакать может, вороны ведь тоже умеют плакать.
Он протянул руку и погладил ее по спине. Ворона не шевельнулась, не закаркала, только немного вобрала голову. А потом потянулась вверх за рукой, словно приблудшая кошка, которую гладит добрый человек.
Они хорошо понимали друг друга. И когда Ондрей вышел из избы, ворона сердито каркнула.
— Глупенькая, да я иду тебе мясца принести. Рыбы наловлю, вода в Кисуце уже спа́ла, — сказал ей Ондрей.
Ворона замахала крыльями, словно хотела идти вместе с ним.
Закрывая двери избы, он снова услышал ее жалобное: «Кра, кра!»
— Ишь заплакала, — сказал он и побежал на хутор.
Из-за забора раздался свист. Там сидел Пайер, уткнув в колени лохматую голову. Сидит сердитый и подбородком прикрывает дыры на коленях.
— На Кисуцу, — крикнул Ондрей не останавливаясь.
Пятнадцатилетний Пайер лениво поднялся.
— Постой, — приказал он, перелезая через забор.
— Чего тебе? — Ондрей настороженно присматривался к Пайеру, стараясь разгадать его замыслы. Но Пайер не ударил его. Они пошли рядом, и вдруг Пайер спросил:
— Ты зачем ходишь на лягушатник?
Ондрей рассмеялся.
Приотстав на шаг, Пайер наподдал Ондрею ногой. Вытащить руки из кармана ему было лень.
— Что ты делаешь каждый день в лягушатнике?
— Лягушек ловлю.
— Лягушек? — Пайер вытаращил глаза.
— Ну да. А что здесь такого? Хочешь, и тебе наловлю полную шапку? — Дальше они снова шли молча. Они подходили к лягушатнику. Пайер смотрел на заболоченные луга, плохое настроение у него не проходило.
— А змей ты там не видел?
— Нет!
Пайер еще раз взглянул на болото. Оттуда доносилось сонное кваканье лягушек, и он задумал тоже разок выбраться туда. Но в одиночку, как-нибудь под утро, чтобы никто его не увидел.
— Значит, змей ты там не встретил?
— Нет! А если бы и встретил, так что!
Ондрей гордо вышагивал, надувая щеки и странно ухмыляясь, словно отгоняя от себя злых духов. Пайер вел себя с ним как с равным — не давал подзатыльников, не задирался, они шли рядом, словно ровесники и большие друзья. Ондрей тоже сжал кулаки и сунул их в карманы, да и шаг его стал шире, и, чтобы во всем походить на Пайера, он опустил голову и так же мрачно посматривал на камни.
— Рыбаки, рыбаки! — Навстречу им выбежали ребятишки, размахивая руками.
Выйдя на шоссе, они увидели сразу за школьным двором мужиков с сетями, которые шли, загородив дорогу во всю ширину. Другие несли длинные шесты, шли они по двое, и на шестах у них позвякивали ведра. Ничего не нес только один, он шел впереди всех, держа в правой руке палку и выбрасывал ее перед собой, шел, наваливаясь на нее всем телом, припадая на хромую ногу, обутую в страшный ботинок. При каждом шаге что-то в нем дергалось и толкало вперед, и он без усилий оказывался впереди всех.
Они шли, как солдаты. Все босиком, только тот, первый, в ботинках, и один ботинок был огромным, с телячью голову.
А за ними толпой валили ребятишки со всех деревенских хуторов, лежащих у дороги, и за этой толпой чуть поодаль — кучка цыганят и цыган. В этой толпе краснели юбки и платки.
Теперь и Ондрей помрачнел, охваченный гневом. Мужиков с сетями в здешних местах не любят, в особенности того, впереди, с ногой, как телячья голова. Он всегда идет первым и всегда смеется, когда подходит к школе. В этих местах Кисуца течет медленней, вода в ней здесь черная, как ночь, и дна не видно. Здесь самые глубокие места, омуты, и тому, со страшной ногой, это хорошо известно.
Вот он усмехнулся и показал палкой на реку. Осторожно спустился по крутому берегу и заковылял по лугу к старой вербе, склонившейся над омутом. В прошлом году здесь утонул слепой Адам. Но люди забывчивы. Забыл и этот со страшной ногой, оперся о вербу, словно ничего тут и не случилось.
— Перекурим, — сказал хромой. Мужики бросили сети, шесты с ведрами и по одному подходили к хромому. А он набрал полную ладонь табаку, свернул кисет, сунул его за пазуху, вытащил папиросную бумагу, дунул и, когда одна бумажка отделилась, вложил ее в чью-то подставленную руку.
— Бери, закуривай. Вода сегодня чистая, наловим — будь здоров. Подходи! — Папиросную бумагу он зажал в зубах, и все повторилось вновь, пока над подставленной ладонью не раздалось:
— Добавь немного! Что тебе, и дешевого табаку жалко?
— А что ж он у меня — дармовой… — Голосу хромого был, как и нога, странный и пугающий. Он оставался в памяти, забыть его было трудно.
Мужики курили, поглядывая на солнце, о чем-то думали. Может, о том, что хорошо бы лечь, прикрыть лицо шляпой и заснуть, а может, и о том, как это они за сорок минут отмахали три километра. С хромым! Да он еще шел впереди всех. И откуда в нем такая силища? С такой-то лошадиной ногой! Но одно точно — хромой почуял рыбу. Река спа́ла, посветлела. Здесь они и начнут ловить, потом по течению поднимутся выше и будут ловить и ловить, наловят полные ведра… вообще неизвестно, о чем думали мужики, потому что они молчали и вида не показывали. Худые, заросшие лица казались такими же старыми, как потрескавшаяся кора вербы.
— Ну, кончай! — Хромой докурил и кинул окурок в спокойную речную гладь. Плеснули две рыбешки, тоненькие, зеленоватые, как росистая трава, клюнули табак и исчезли в глубине.
— Кончай! — крикнул хромой еще раз, и мужики поднялись. Они зашагали вниз по течению, по каменистому дну, все молча, не обмолвясь друг с другом ни словом. В своей работе они знали толк.
Хромой остался сидеть у Адамовой вербы, не спуская с них глаз.
Мужик с вершами вошел в воду, остальные двинулись за ним. Кисуца была здесь мелкой, по колено. Мужики с шестами зашли в реку подальше, в самое течение, река тут разливалась широко, и ее можно было перейти, не замочив ноги, по камням, торчавшим из воды.
И вдруг сразу, словно по знаку кого-то невидимого или, может, того хромого, они начали бить шестами по воде. Они били по камням, по воде и торжествующе ревели:
— Ааа! Ааа!
Спокойная водная гладь забурлила. Рыба, гревшаяся в тихой реке, в смятении ринулась против течения к омуту под Адамовой вербой. Прямо в расставленные сети! Дно тут зеленоватое, и на нем лежат квадратики белых петель, белых петель из пеньки. Перед белой сетью черными молниями замелькали тени. Рыба, испугавшись белых квадратиков сетей, поворачивает назад по течению, но там что-то бурлит, что-то длинное и белое. И там кричат и воют. Мужики знают свое дело. Хромой умеет подбирать народ. Этот хромой такой дока, что ого-го, приходится только удивляться — как это он допустил, чтоб правая ступня выросла у него с телячью голову.
Мужики возбужденно суетятся, дергают сети — вот над сетью мелькнула тень и исчезла. Рыба ушла. Но передвигать верши из-за одной рыбины ни к чему.
— Одну поймаешь, а сотня уйдет, — так говорят обычно перед рыбной ловлей и после. Но теперь все молчат. Иначе и нельзя.
«Пусть себе уходит рыбка», — думают они и даже рады, что какая-то рыбина ушла на дно. Да еще думают они о куреве. Вот бы сунуть сейчас в рот «зорку» и затянуться, от едкого дымка заслезятся глаза… но хромой скуп. Потчует махрой, в которой полно трухи.
Хромой сидит себе у Адамовой вербы и покуривает.
Ондрей с Пайером стоят поодаль, не в силах отвести глаз от ноги хромого. Если он снимет страшный ботинок, что там окажется? Хоть бы разок увидеть его босиком! Что там у него? Костяная нога? Но хромой не разувается, верно, не смеет. Кто-то запретил ему. И кто мог ему запретить?
Сети вынуты. Через ячейки выливается вода. В сети мечутся серебристые рыбины. Мужик протягивает руку, хватает рыбину за голову и прячет в мешок, висящий на груди. Потом верши опускают на прежнее место, на зеленоватое дно, и снова и снова тянут, потому что вспугнутая рыба стайками несется прямо в сети и гибнет, гибнет, исчезая в мешках, мечется там, бьет хвостами, извивается, но напрасно. Это понятно каждому. Но рыба-то этого не знает, и никто ей не скажет.
— Глупые эти подлещики, — сказал Пайер, потрясенный тем, что делал хромой с их рыбой.
Ондрей даже не поддакнул ему. Не слышал. Все смотрел ненавистным взглядом на мужиков, тянущих верши, а потом перевел взгляд на хромого. Тот сидел на вербе, и Ондрею от этого и река стала противна, и скалистые, покрытые травой берега. Даже то место, на котором сидел хромой. Он не мог понять, — и откуда в нем такая ненависть, откуда она берется? Может, виной тому страшный ботинок хромого или еще что-нибудь такое же противное. Ну и нахватал же этот хромой рыбы!
Хромой встал — настало его время. Проковылял по траве к ведру. В каждом было немного воды. На самом дне. Все правильно. Его мужики знают толк в работе. Вот только бы не были такими тупыми свиньями. Такая свинья прет к корыту и ничего ей больше не надо. А дорвется — не отгонишь. Так и они.
— Отчего же не сговориться — каждое четвертое ведро наше, — заявили они, когда он их нанимал.
— Столько дать не могу. Не те времена. Вы что — не слышали о кризисе? Ведь идет год тысяча девятьсот тридцать первый.
— Потому так и говорим! Каждое четвертое ведро. Иначе не пойдем. Ищите себе других.
— Ну и народ! — И согласился. Пришлось согласиться, ведь лучше их рыбаков не было, а бездельников, у которых половина рыбы сбежит, хромой не нанимал.
«Разбойники!» — подумал он со злостью, да и теперь так думает, стоя над ведрами. Нужно смотреть к оба, чтобы рыбаки не прятали рыбу за пазуху. Но верши то и дело поднимаются над водой, и хромой при взгляде на горы серебристой рыбы, не удержавшись, восклицает:
— Хорошо идет! Целый вагон наловим.
— Идет, идет, — отзывается кто-то.
Потом мужики высыпают рыбу в ведра и снова перекрывают реку сетью. А другие шестами гонят рыбу с другого берега — от омута. Но напрасно они колотили шестами по черной воде, напрасно ухали, речная глубь не отдала рыбу, а та рыба, что ушла со дна, забилась под берег.
Хромой поднял дубинку.
— А ну, ребята, валяйте на другой берег и покидайте камнями! — Толпа ребятишек перешла вброд реку, и в омут посыпался каменный дождь.
Ондрей тоже было кинулся, но Пайер одернул его.
— Хромому рыбу гнать! Сопляк!
«Пайер умный. Вот стукнет мне пятнадцать, и я поумнею», — подумалось Ондрею, и он с благодарностью глянул на Пайера. Даже собрался рассказать ему о вороне, которую он держал дома, но раздумал.
Снова поднимались верши, снова билась серебристая рыба в пеньковой сети, но Ондрей уже не так переживал. Да и рыбы поуменьшилось по сравнению с первым выловом.
Наконец рыбаки ушли. Хромой только сказал, уходя:
— Поднимемся выше по реке, — и показал палкой. И перед уходом дал мужикам еще раз закурить.
Над омутом стихло, ребята отправились вслед за рыбаками, и у Адамовой вербы остались лишь Пайер с Ондреем. Они еще не опомнились от всего. Пайер все еще мечтал о вершах. Шест он бы раздобыл, да и сеть сплести можно, и вообще все было бы хорошо, если бы лесник поскорее помер. Он уже старый дед, бородатый. Такую бороду Пайер видел только на картинке в материнском молитвеннике. А дело было так… У лесника есть шляпа. Он и теперь ее носит. В тот раз он пил с возчиками перед корчмой. Пайер увидел его шляпу и взял… ну, и вытащил из шляпы такие жестяные цветочки. Они были вколоты сбоку, красивые, серебристые. А лесник про все дознался. С той поры Пайеру нет от него покоя. В прошлом году он поймал Пайера, когда тот с берега глушил камнями рыбу. Составил протокол и донес. Пришлось Пайеру с матерью отправиться пешком в город в суд, и мать заплатила тогда десять крон. Пайер помнит все это, как в тумане. Были там какие-то господа, и он все время трясся от страха. Да еще дома ему всыпали. Пайер бросил мечтать о вершах, и ему стало, как всегда, не по себе, едва он вспомнил лесника… Вот и теперь не по себе, — чего только не творил хромой с рыбой! Хотя нет худа без добра. Перепугали рыбу, вот она и прибилась к берегу. Только бери ее. Но Пайер боится.
— Бомбиляй! Бомбиляй идет! — закричал тут Ондрей.
— Бомбиляй?
— Много наловили? — Бомбиляй потянул себя за ус. Его мягкие усы свисали, словно кудель, ниже подбородка. А он все крутил и крутил их в пальцах, пока не свил веревочкой, так что Ондрею с Пайером смешно стало.
— Ужас сколько, — ответил Пайер.
— Разбойники! — И он снова раскрутил свои усы, и вот они уже не веревочка, а что-то вроде травы, торчащей по краю берегов, меж корней, только сивые.
— Разбойники! — сказал он и добавил что-то по-цыгански, громко, певуче и быстро. А цыганки, окружавшие его, столпились, залопотали, перекрикивая одна другую. Одна из цыганок, в красно-зеленом платье, отошла, и присела возле Адамовой вербы, и начала бить по ней кулаками и кричать:
— Боятся, боятся. А что, съедят их, что ли? — Она повторила это несколько раз, и, успокоясь, спустилась к реке, и заглянула страшными глазами в омут. И вдруг, вытянув руку, показала на воду:
— Рыба! Рыба! — Она смеялась и покачивалась. Ей никто не ответил. Она засунула руку в юбку и вытащила сигарету и коробок спичек. Закурив, она словно забыла об окружающем мире.
Цыгане притихли и расселись на траве. Только Бомбиляй продолжал стоять. Он снял рубашку, потом штаны и остался в сатиновых трусах. Тело у него было мускулистым и крепким. Грудь густо заросла серебристым волосом.
Все смотрели на него с уважением, и это чувство захватило и Ондрея с Пайером. Бомбиляй постучал себя в грудь. Там словно загудело. Потом плюнул в воду и опять что-то сказал по-цыгански.
Курящая цыганка взвизгнула и замахала рукой. Остальные засмеялись, а Бомбиляй стал бить кулаком по траве, что-то крича. Потом больше никто не смеялся.
Старый Бомбиляй кружил вокруг омута. Сделает два-три шага — остановится, вернется назад, и так все быстрее и быстрее, как курица, которая бежит на зов хозяйки, ищет в заборе дыру и потом протискивается между двумя жердями как раз там, где щель уже всего.
И Бомбиляй с самого высокого места бросился в омут и, верно, страшно ему было, потому что он завыл, а с ним заголосили все цыгане.
Цыганка с сигаретой замерла, разинув рот, и на лице ее появилось тупое выражение, как у слабоумных. Когда Бомбиляй вынырнул, она улыбнулась и сказала:
— Бомбиляй.
Подплыв к берегу, он ухватился за черные корни Адамовой вербы и, шумно глотая воздух, снова нырнул. В черной воде мелькнули его ступни, на поверхности забулькали пузырьки, и он опять исчез под корягами.
Цыганка замерла, уставясь на воду. Какой-то всхлип вырвался у нее. Затем она умолкла.
Бомбиляй вынырнул, зафыркал, как конь, и бросил на берег большую серебристую рыбину.
— Рыба! — закричала цыганка, колотя по траве кулаком и смеясь.
— Неплохой подлещик, — проговорил Ондрей, прикинув, что одной такой рыбины хватило бы вороне на целый день.
— Бомбиляй в этом знает толк. — Но у Пайера не выходит из головы лесник. Вдруг он появится на дороге! Хорошо бы Кисуца текла подальше от дороги!
Бомбиляй вынырнул, держа в каждой руке по рыбине. Одну он выбросил на берег, а вторая бессильно билась у него в руке — жабры ходили у нее ходуном, и — конец ей. Бомбиляю силы не занимать.
Ондрей не отрываясь глядел на мокрое лицо Бомбиляя. Цыган для него был самый замечательный человек на свете, и Ондрей представил себе, что когда-нибудь и он, Ондрей, вынырнет сразу с двумя рыбинами. И тут же решил про себя, что, когда вырастет и станет взрослым, всем на свете расскажет о цыгане с седыми усами.
Но скоро Ондрею надоело смотреть на эту ловлю. Рыба, пролетавшая над его головой, на которую яростно накидывались цыгане и со страшным криком вырывали друг у друга, была не его, и он не мог накормить ею ворону.
Они отошли с Пайером в сторону и уселись под дуплистую вербу. Пятнадцатилетний остался стеречь Ондрееву одежду, а десятилетний потихоньку спустился к реке. Зубы у него застучали. Вода была холодная. Он двигался вдоль берега, хватаясь рукой за корни и приближаясь к Адамовой вербе.
И вот он исчез под водой.
Там стоял полумрак, синеватый и блеклый, как сильно разведенные чернила. Ледяная вода обжигает кожу. И тишина, какой нигде не услышишь. Плотная, начиненная чем-то оцепенело-неподвижным, И вода плотная. А дальше только тьма и сплетение корней, еле видных и тянущихся во все стороны.
Кисуца давно подмывает берег у Адамовой вербы. Но не век же она будет подмывать его. Наступит день — хлынет вода и унесет берег неведомо куда. Но никто не знает, когда это случится. Одно точно — это случится непременно, и тогда исчезнет последняя память о слепом Адаме, который здесь покончил с собой. А может, Кисуца принесет на эти места камней и песка, сделает себе другое русло и потечет под Кландуховым полем, где сейчас стоит мельница. Может, служится и такое. А место, где утопился Адам, зарастет вербняком, и если кто скажет, что вот здесь-то все и случилось, ему не поверят, еще и посмеются над ним.
Ондрей протиснулся меж корней, отвел их в сторону и двинулся дальше. Но и там была только вода и корни. Он нырнул еще ближе к берегу, но когда его пальцы и на этот раз не достали дна, Ондрея охватил ужасный страх, ему почудилось, что там страшный омут, который затянет его и больше не отпустит.
— Быстрее назад!
Он выплыл, сделал выдох, глотнул свежего воздуха.
На берегу ждал Пайер.
— Омут! Страшный омут! — крикнул Ондрей, держась за берег.
— Дурья башка! Ищи рыбу! Бомбиляй…
Больше Ондрей не слушал. Нырнул поближе к берегу, но не глубоко, эти места он не знал. Лег на левый бок и правой рукой щупал вверх над собой — пока не коснулся толстого корня. Еще выше! И тут его пальцы наткнулись на что-то скользкое, и это скользкое не двигалось.
— Рыба!
Рыба забилась под самый берег. Ее загнали сюда рыбаки, которых нанял хромой. Рыба отдыхала, укрывшись от всего мира под плотным слоем земли, и было ее здесь — не сосчитать. Вплотную, рыбина к рыбине, словно в огромной бочке.
Рыба даже не заметила прикосновения пальцев, ее час еще не пробил. Глубоко, в самом нутре у нее еще держался посеянный страх и звучало гиканье рыбаков, вспоминалось что-то белое и длинное, что било по воде, по камням, а еще — пеньковая сеть и маленькие белые квадратики, лежащие на каменистом дне, — и тогда рыба почувствовала, что это смерть. А когда потом в озеро посыпался каменный дождь, и вода расступалась и смыкалась, и все вокруг гудело, и камни бухали о дно реки с глухим стуком, то рыба прибилась к берегу, забралась в самые темные места, где еще сохранилась тишина и шум доносился лишь издалека. Потом и он утих. Но придет время — и рыба выберется из-под прибрежных коряг и снова помчится стайками по зеленоватому дну, направляясь к протоку, где струится журчащая и теплая вода.
И этого длинного, белого там не будет…
Никто не будет гикать и бить по воде и камням.
Рыбы не замечали Ондреевых пальцев. Но слишком долго он играл со скользящими телами, слишком долго выбирал. И когда он уже сказал себе: «Вот эту!» — и схватил рыбину за голову, чтобы запустить пальцы под жабры, сжать изо всех сил и ловко, мигом выбросить ее на берег, времени уже не осталось, потому что в голове у него загудело, изо рта пошли пузыри, и он наглотался воды. Легкие сдавило, в горле запершило от воды.
Он отдернул руку, вынырнул из-под коряг и, уже выплывая на поверхность, увидел мелькнувшую рыбу, казавшуюся в воде большим серебристым листком вербы.
Появившись над водой, он закашлялся, выплюнул воду и подплыл к берегу передохнуть.
Пайер ни о чем его не спрашивал, видя, что Ондрей сам хочет ему что-то сказать. Но Ондрея бил кашель, и Пайер не выдержал.
— Как рыба?
— Ну… как навоза…
— Ииих! — Что-то жалкое прозвучало в этом возгласе Пайера. Он глянул на дорогу, и его взгляд больше не был испуганным.
— Слушай, — крикнул он Ондрею, но того и след простыл. На мгновение мелькнули в омуте его ноги, и все. Дно было пустынным, вода — безжизненной.
А за Адамовой вербой на берег все так и сыпалась рыба. Она билась и падала на траву. На нее бросались цыгане. Только цыганка с сигаретой не шевелилась. Она лишь кричала: «Рыба!» — и когда Бомбиляй бросал по две, повторяла: «Рыба, и еще рыба!» — била и смеялась, била кулаком по траве.
Пайер разделся и положил свою одежду вместе с Ондреевой. И снова глянул на дорогу.
— Пайер!
Его окликнули с реки, и детская рука выбросила сверкнувшую серебром рыбину. Пайер бросился к ней и стукнул ею о вербу. Рыбина распласталась на траве, охваченная мелкой дрожью, жабры оттопырились, и вот она замирает.
— Ее там знаешь сколько… — Губы у Ондрея посинели.
Пайер еще раз оглянулся на дорогу, но уже уверенный, что лесника там не увидит. Так оно и было. И, не раздумывая больше, бросился вслед за Ондреем, в воду.
— Теперь я. А ты смотри за цыганами.
— Но… — Ондрей был уверен, что в воде-то уж Пайер не должен ему приказывать.
— Да я сейчас. Говоришь, ее там полно?
— Ну! Вот тут, в этом месте, — показал Ондрей ногой, — где толстый корень, под ним.
— Ладно. — Пайер надул щеки и нырнул.
Через два часа они возвращались с реки. Им не очень-то повезло. Всего четыре рыбешки, да и то Пайер отдал Ондрею двух поменьше. Можно было бы наловить и больше, да рыба разбежалась. Может, пора пришла, а может, виной всему оказался Пайер, — он стал копаться в рыбе, словно она была уложена в кадке, чтобы выбрать какую покрупнее. А может, рыба ушла глубже, куда никто из них не отважился бы нырнуть. Прежде хуторские ребята были похрабрее, но с той поры, как у вербы утопился слепой Адам, с той поры…
Уже подходя к избе, Ондрей услышал карканье. Ворона звала его. Да кого ей еще звать? Мать свою она не помнит и лес тоже.
Карканье было отчаянным. Ондрей торопливо отпер избу.
Ворона сидела на скамье у печки и, увидев его, замахала крыльями и перестала каркать.
Он обошел ее вокруг. Птица поворачивалась за ним.
— Что с тобой?
Но тут Ондрей перестал ее занимать. Она уставилась на пол, вытянула шею, распахнув крылья. Опустила голову еще ниже, и казалось — сейчас соскочит, но высота ее пугала. Ворона вернулась на середину скамейки и снова закаркала.
— И как ты сюда попала? Летаешь уже, что ли? — Ондрей спустил ее на пол.
Ворона сделала несколько шагов, взмахнула крыльями и взлетела вверх. Но неловко, упала, ноги не удержали ее. Все это ее так занимало, что она не замечала запаха рыбы и не видела, как Ондрей резал рыбу и вместе с чешуей и внутренностями клал на край стола.
Наконец она заметила Ондрееву работу. Она застыла у стола, посматривая с любопытством. На стол светило солнце, и в его лучах сверкал нож. Ондрей переложил его, ворона не двигалась, но, не увидев больше ничего блестящего, сердито закаркала. Вероятно, блеск ножа ошеломил ворону, потому что она снова замерла и не обращала внимания на то, что Ондрей протягивал ей кусок рыбы. Она смотрела только на стол.
Солнечный луч наискосок разрезал сумрак избы, в светящемся воздухе плавали золотые пылинки. Даже мухи в этом освещении не казались такими противными, и в их полете было что-то радостное и успокаивающее. Одни золотые пылинки бесследно исчезали в полумраке, и их сменяли все новые и новые облачка пылинок, это движение казалось бесконечным и ни на что не похожим.
Ондрей не знал, что происходит с вороной. Может, она больна? Он слышал, что птица в неволе гибнет. Пани учительница однажды говорила об этом. Но и она взяла себе ворону. Как же так? Ведь все, что она говорит, правда. А может, она не хотела так сказать? Или они гибнут только тогда, когда люди морят их голодом? Но он свою ворону накормит, скорей сам не поест, а вороне даст. Вот бы рыбу, которую он наловил, испечь на костре и съесть! Когда ее жаришь, такой запах идет, какой бывает только на учительской кухне. Пайер, тот рыбу изжарит. Ну и пусть! Ондрей не мучит, не бьет свою ворону. Вот взрослые бьют лошадь, если она не тянет, а порой, когда и тянет, все равно бьют. И пастухи хлещут прутьями коров, когда те заберутся в овес или клевер. А раз он видел, как Пайерка била гусака. Пайерка вообще чуть что — дает волю кулакам. Но тому гусаку поделом, он щиплет ребят и гоняется за ними по хутору. Однажды и за Ондреем гонялся. Но теперь Ондрей его не боится. Он как-то подбил ему камнем крыло, гусак всю неделю ходил с повисшим крылом. Потом, правда, он как-то подобрался. С тех пор гусак удирает от Ондрея и только издали на него гогочет. Гусаку бы он не простил, но ворону он не бьет. А она не хочет есть. Что с ней приключилось?
— На, на. Рыбу я тебе принес. Жри!
Она глянула на него одним глазом, и ему показалось, что ворона усмехнулась. Потом она сердито закаркала, клюнула рыбу большим клювом и проглотила.
— Нет, птицы в неволе не гибнут. Нужно сказать об этом пани учительнице, — решил он, увидев, что рыба исчезла и на столе осталось лишь несколько окровавленных чешуек.
— Все, на сегодня хватит. — И он погладил ее.
Ворона прохаживалась. Подошла к печке, поглядела оттуда на скамью, да, видно, она ей опротивела. Села и собралась спать, гнездясь на месте, словно курица.
Шли дни, Ондрей вел им счет в зависимости от того, что делала ворона. Сегодня она уже взлетела на скамейку у окна, оттуда — на стол. Оба окна он заставил горшками, чтобы Пайер не увидел ворону.
Было это тогда, когда ворона перелетела через всю избу и перемахнула со стола на высокую спинку кровати. Ондрей улегся в постель, а ворона посматривала на него сверху. Ей, видно, это нравилось, она вертела головой, впервые смотря вниз с такой высоты.
— Иди ко мне, иди! — позвал ее Ондрей, и она прилетела. Уселась ему на голую грудь и больно вонзила когти в кожу, поклевывая темные пятна сосков. Сначала легонько постукивала клювом, а потом приготовилась клюнуть побольнее, и он испуганно стал ее прогонять. Но ворона сопротивлялась, била крыльями, летала над ним и во что бы то ни стало хотела сесть ему на грудь. Ондрей, смеясь, защищался.
Заходило солнце, Ондрей встал посреди избы и только положил руку на плечо и позвал:
— Иди ко мне, иди! — как ворона взлетела и уселась к нему на плечо. Он сказал: — Кыш! — и она улетела. Игра повторялась, не утомляя их.
— Иди сюда, иди! — Черная тень снова опустилась на плечо, и Ондрей был счастлив. И когда он чувствовал себя на вершине счастья, в избу вошла мать. Ничего не понимая, она какое-то время смотрела на Ондрееву игру и потом так же молча исчезла во дворе.
В ее появлении было что-то необычное. Ондрей это сразу почувствовал, как только за ней закрылись двери. В это время она никогда не приходила домой и не была такой молчаливой. Но обидно, что к его игре с вороной она осталась равнодушной. Вот ему уже десять лет, а он еще не слышал, чтобы ворона кому-нибудь садилась на плечо и слушала человека с одного слова. Он перестал играть с вороной и подошел к окну.
Ворона сидит на столе, и ничего вокруг не напоминает об их игре. Так посидят они еще немного, и все потонет во тьме.
Ондрей чувствует, что сегодняшний день не похож на вчерашний и ни на какой другой. Что-то случилось, и он не знает, как избавиться от этого чувства. Он понес ворону на полку, где было ее место. Ворона не двигалась, и он ощущал ее в ладонях, словно теплую тряпку. Он еще не лег, когда вошла мать.
— Ты чего не спишь? Помолись и спать! — приказала она с какой-то печалью и словно через силу. Он слабо различал ее в темноте, только платок белел на голове. Развязав его, она положила платок на кровать.
Ондрей встал на колени и старательно перекрестился. Но молиться мешала мысль о вороне. Он снова слышал, как зовет ее: «Иди, иди!» И шум ее крыльев опять раздавался в избе, и на плече он опять почувствовал мурашки. Он глянул на полку с посудой. Но полка терялась в темноте, и ворона спала.
Наконец он улегся, легла мать, кровать под ней заскрипела, словно она с разбега бросилась на нее.
Что-то тихо завыло, словно ветер сквозь оконные щели. Но звуки шли из угла, где лежала мать.
Мать зарылась в подушку, чтобы не слышал сын. Ведь ничего не случилось, совсем ничего. Еще полчаса назад она убирала погреб в школьном дворе, тот, с трубой. На этой неделе должны привезти вагон с углем. И так и не кончила уборку. Еловой метлой подметала лестницу и, когда добралась до последней ступеньки… последней ступеньки. Как это было? Что же, собственно, случилось? Она вдруг выпрямилась, и метла выпала у нее из рук.
— Сегодня девятнадцатое июля!
Она все еще не верила.
— Через неделю будет святая Анна. У пани учительницы именины. Она уже сегодня утром говорила: через неделю святая Анна, придут гости, ты смотри, чтобы все было в порядке. И подвалом займись, скоро привезут уголь. — Так сказала пани учительница сегодня утром. Девятнадцатое июля, в этот день, ровно восемь лет назад она провожала мужа на станцию. Он ехал в Америку. Восемь лет назад… И вот теперь она все бросила и сама не своя выбежала из подвала. Даже не закрыла его, и пани учительнице не сказала «Доброй ночи!», а кинулась со школьного двора, а потом вниз по склону, пока не увидела железной дороги.
Ее трясло, как в лихорадке, и что-то давно забытое навалилось на нее, готовое сжечь. За холмом грохотал поезд. Потом отозвались вздохами рельсы. Это он проходил по мосту над рекой. И вот показался паровоз с высокой тонкой трубой. На этом поезде он уезжал и говорил, что еще к ночи будет в Остраве. Это тот самый поезд. Тот же паровоз, и вагоны те же, да и грохот.
Она зажала уши, чтобы не слышать этого грохота, поезд как раз проносился мимо, всего в двух-трех метрах. Какая-то женщина в красной косынке глядела в окно. И чей-то мальчик смотрел, точно как ее Ондрей, а тогда Ондрею был год и один месяц. А теперь уже десятый пошел. Боже, как летит время! Целый год она не получала от мужа никаких писем. И знакомым писала в Америку, и других расспрашивала о муже, но никто ничего не мог сказать о нем.
Поезд остановился, постоял и снова тронулся, покидая маленькую станцию.
А однажды, это было в полдень, она полола сорняк в учительском огороде рядом с дорогой. Шли мужики из корчмы и говорили о ее муже. Один из них возьми и скажи:
— Небось где-то там его пристукнули. Мир не без злых людей.
Она закричала и потеряла сознание.
Там они и нашли ее.
И больше она уже не ждала письма, и оно так и не пришло. С той поры дни следовали своей чередой, а она себе придумала историю, что его зарубили топором, — это после того, как она попала на бойню с Пайеркой, помогала ей пригнать скотину… И опять все ее муки навалились на нее, и ей пришлось пережить все заново. За одну-единственную минуту пережить все с самого начала до конца. Ее бросило в дрожь, от ужаса поднялись волосы.
Тогда стучали колеса и скрипели вагоны.
Колеса уже не стучат.
Вагоны не скрипят, и поезд, едва отойдя от станции, повернул за ельник и бесследно исчез.
Она очнулась на земле. Трава, луга цветут. Пора их косить. Такой была ее первая мысль.
Боль возвращалась, но медленно и не сразу, словно ею теперь управляла милосердная рука. Во всяком случае, она уже могла идти. А придя домой и увидев Ондрея с вороной, быстро вышла из избы, боясь, что вновь все нахлынет на нее и она не выдержит. Ведь тогда Ондрею было всего тринадцать месяцев, и отца он не помнит.
Ей было жутко…
Она лежала на постели, думая о том, почему старые раны вдруг открываются вновь. Почему все возвращается и человек опять переживает всю свою боль с самого начала, причем как что-то новое и неведомое. Где найти средство, которое заживит эти раны и на долгое время породит обманчивое представление, что их уже нет, что они навсегда преданы забвению? Может, это песок? Глина? Или камни? А может, вся боль и страдания западают глубоко, как зерна, которые потом вдруг прорастут, выгонят листочки и расцветет цветок, исполненный горечи, и все это происходит быстро, мгновенно.
Эти мысли не давали ей спать. Вряд ли она вообще уснет этой ночью. Ее охватило какое-то лихорадочное возбуждение, и словно волны шумели в голове. Это кровь стучала в висках.
Ондрею послышались стоны и даже тихий плач. Но звуки эти, хотя и были необычны, не трогали его. Он словно их не слышал. Он снова видел перед собой завистливые глаза Пайера, видел самого себя, как он кладет руку на плечо и говорит: «Иди сюда, иди!» — и ворона усаживается ему на плечо. Остальные ребята смотрят с восхищением, и только Пайер — с завистью, весь зеленый от злости. Ондрей еще никогда не видел зеленого человека, а вот пани учительница как-то говорила, что человек может позеленеть от злости. Завтра бы надо попробовать. Ну, не завтра, так послезавтра. Вороне надо окрепнуть и еще полетать, потому что на Пайера нельзя положиться, он может ее и камнем жахнуть… Нет, нет, только послезавтра. Скорее бы это время проходило! Ведь еще ночь, целый день, вторая ночь… тянется еле-еле. Завтра нужно наловить вороне рыбы, а потом уже он увидит завистливые глаза Пайера и самого его, зеленого с головы до ног. А смоется ли это потом?.. И еще он видит что-то, но словно в тумане, что-то, похожее на глубокий омут.
Тут он засыпает.
И больше ничего не видит, даже полки с вороной. Отца он не знал. И это его не трогает и не будет трогать.
Но если б он и не спал, все равно б из-за подобных вещей не переживал и ни за что бы на свете ни с кем не поменялся бы своей жизнью.
В его жизни лишь одно несправедливо: Пайеру пятнадцать лет, а ему десять, и им никогда не сравняться, потому что, когда ему будет пятнадцать, Пайеру стукнет двадцать, и Пайер все равно останется сильнее.
Единственная несправедливость в его жизни.
А мать, увидев, что он спит, наконец дала себе волю и заплакала, и плакала до тех пор, пока ее не одолел сон. На другой день она почти не вспоминала о случившемся, воспоминания развеялись и больше не возвращались, словно их засыпали чем-то, только неизвестно чем — песком, глиной или камнями.
— Что-то ты бледная, — только и сказала ей пани учительница.
— Да ничего, ночью мне было плохо.
А пани учительница подтвердила:
— Да, над нами кара божья. Над нами, женщинами, кара божья.
Ондреева мать не стала ее разубеждать и поспешила с ведрами к реке, чтобы не быть у нее на глазах.
Прошел день, и у Ондрея не случилось ничего достойного внимания. Ничего такого, о чем он мечтал. Шел дождь, и погода не улучшилась до самого вечера. Ворона сердито каркала, летала по избе и билась в окно с такой силой, что чуть стекла в окнах не повыбивала. А из трех гераней, стоящих на окнах, ни одна не уцелела. Ворона, не переставая, каркала, и голос у нее стал похожим на голос ее матери, что свила гнездо на высокой ели. Перья у нее блестели, отливая на свету синевой и не уступая по красоте перьям сойки. Ондрей никогда еще не видел сойку вблизи, но у Пайера было несколько ее перышек, и когда он бывал в настроении, то приносил их ему показать. Но руками трогать не позволял никогда.
Так они провели этот день. Оба были сердиты — ворона на тесноту избы, а Ондрей — на плохую погоду. Напрасно он выглядывал в окно, тучи тянулись над долиной, становясь все темнее. И тут Ондрею пришло в голову, что солнце и завтра может не появиться, дождь будет лить, и ему придется сидеть с вороной в тесной избе и голодать, как и сегодня. И ту еду, которую принесет мать из школы, ему придется отдать вороне. О том, чтобы поделить еду и себе и вороне или, может быть, оставить себе кусок получше, он даже и не думал. Пайер, тот бы не дал ей ничего, а сварил бы ее саму и съел. И мысль, что он лучше Пайера, было единственное, что его утешало, он даже меньше злился на дождь.
Утром его разбудило воронье карканье. Ворона сидела на окне. Закаркав, она перелетела на Ондрееву постель и стала ругаться с ним: слышишь, что я тебе говорю, соня! На улице так хорошо, а ты тут меня держишь взаперти. Отпусти меня, отпусти, не то я буду каркать, пока не оглохнешь!
На дворе светило солнце. Материнская постель была пуста. Мать ушла еще затемно. Ночной поезд доставит вагон с углем, и ей нужно было приехать на железнодорожную станцию вместе с возчиком, а потом проводить каждую телегу на школьный двор, помочь ее разгрузить, сделать все по-хозяйски, как свое. Она не роптала на свою судьбу и все выполняла спокойно и деловито, потому что делала это для пани учительницы. Не будь этой тихой маленькой женщины, старой девы, несварливой и независтливой, кто знает, как сложилась бы судьба Ондреевой матери. Она осталась одна с годовалым малышом и, кроме крыши над головой, ничего не имела. Все три полоски поля они продали — чтоб оплатить поездку мужу в Америку.
— Иди сюда, иди! — Ворона села Ондрею на плечо и радостно замахала крыльями. Теперь Ондрею было ясно, что ворона птица умная и почти все понимает.
Оба торжественно появились на улице.
Ворона зажмурилась от солнца, оно ее слепило, и она уткнула голову в рубаху Ондрея и крепче впилась когтями в кожу. Он боялся пошевельнуться. Так они и стояли, удивленные и не уверенные в себе, когда от забора отделился Пайер и, не веря своим глазам, медленно приближался, глядя из-под руки. Ничего не говоря, он остановился в трех шагах и уставился на них, переводя удивленный взгляд с вороны на лицо Ондрея.
Ондрей испытывал наслаждение, которое доставила ему эта минута, он все так себе и представлял, и наяву все это даже намного лучше. Вот если бы еще Пайер позеленел… сначала пятки, потом ноги, потом…
Было тихо, и в этой тишине глуповато улыбался пятнадцатилетний Пайер.
Стояла такая тишина, что ворона осмелела, высунула голову, но, увидев незнакомца, заерзала на Ондреевом плече, закаркала и поднялась в воздух.
Но тут же она опустилась на забор. Видно, там ей понравилось, и она принялась чистить перышки на шее. Пайер повернулся, и направился было к забору, и уже сделал два шага, но ворона присела на хвост, растопырила крылья, выставила клюв, словно мальчишка руку, готовая защищаться, и так застыла в ожидании. А в горле у нее, как у злого пса, что-то сердито клокотало. Нет, Пайер ей не нравился, она ему не доверяла.
Это рассмешило Ондрея.
— Откуда ты ее взял?
— Сама прилетела. — Он явно смеялся над Пайером.
— А это не моя? — Пайер старался быть строгим, но он еще не опомнился от первого удивления. Он стоял и кусал нижнюю губу и, казалось, сейчас взорвется. Ондрей не отвечал. Потом похлопал себя по плечу и позвал:
— Иди сюда, иди! — Ворона пролетела над Пайером.
Пайер не стал зеленым, только понял, что ничего подобного он еще не видывал.
— Смотри-ка! Вот это да! — Восхищение его было искренним.
— Я ее приручил. — Ондрей взял ворону в руки, подбросил, она взлетела и уселась на крышу. Потом прошлась по ней. Оглянулась и с карканьем пролетела большое расстояние, отделяющее крышу от другой, избы.
— Смотри-ка! Вот это да!
— Ага. Я ее приручил. Ворона — птица умная. С ней надо обращаться умеючи, и кормить ее надо хорошо. Жрут они всё: рыб, лягушек, что хочешь. Может, и змей едят, — но последние слова он произнес уже неуверенно, заметив, что ворона залетела далековато.
Они побежали по дороге.
— Иди сюда, иди! — И ворона снова спустилась Ондрею на плечо. Сначала покружила, а потом села.
— Смотри-ка. Вот это да! Послушай! — Пайер уже начал понимать, что перед ним всего лишь Ондрей. — Послушай, Ондрей, а ты не продашь ее мне?
— Продать! Еще чего!
— Ничего, ничего такого. Продай мне ее, и все. Дам тебе за нее ножик. Хороший. Из Сараева, да ты его знаешь. — Но только это он сказал, как ножика стало ему жалко. Он уже представил, как ножика больше нет, что он и взаправду отдал его Ондрею, и тот ходит от избы к избе, всюду его показывает и говорит: «Посмотрите на ножик! Ножик «рыбка». Я выменял его у Пайера на ворону. Хороший обмен, правда?» Правда, хороший. Другого такого ножика во всем хуторе не найдешь. А что ворона? Да ворон у нас словно камней в Кисуце, — и Пайер представил себе, как все над ним смеются.
Ондрей поглаживал рукой ворону и ничего не говорил.
— Если не хочешь ножик, так я тебе отдам… — быстро проговорил Пайер и тут же замолк. Нечего ему дать Ондрею, кроме ножика, и тут он пришел в себя и вспомнил о собственной гордости. Глянул вокруг сердито и завистливо и прикусил нижнюю губу. А на что ему ворона? Ворона — птица неплохая, и суп из нее можно сварить. Но эта ведь ручная, слушается, словно собака. Такую нельзя убивать. Но почему эта ворона слушается только Ондрея?
Из-за пайеровской избы высыпали ребятишки. Там был луг с сеном, но они все бросили, услышав воронье карканье. И так и остались стоять, застыв у забора. И когда ворона перелетала с Ондреева плеча на крышу и потом возвращалась по его зову, ребята поворачивали голову за птицей, и никто из них не отваживался проронить хотя бы слово.
— Так ты не продашь ее мне? — спросил Пайер сердито.
— А пять крон дашь?
— Ишь ты!
— Она же ручная!
Но Пайер словно не слышал. Только одна мысль бьется у него в голове. У Ондрея ворона, а у него нет. Это одно дело. Ондрей просит за нее пять крон. А это уже совсем другое. Да еще смеется над ним, но ладно, посмотрим, Ондрейко, дурья твоя башка. Ты и так передо мной провинился немало. И он смотрит на Ондрея с такой злостью, что тот легко бы это заметил, не думай он только о вороне и не стой тут ребята со всего хутора. Все Ондрею казалось праздничным, торжественным, и ворона, наверное, чему-то радуется, потому что летает, перелетает с места на место, распахнув крылья, как ястреб, не каркает, описывает в воздухе круг за кругом и уже без всякого зова садится на плечо Ондрея.
Вот она уселась на грушу на пайеровском дворе.
— Гадина, ты что там делаешь? — разозлился Пайер. Взял камень, бросил и попал в ветку, на которой она сидела. Ворона взлетела вверх — удивленная и напуганная. Ей была еще незнакома людская злоба, и она, облетев дерево, хотела снова сесть. Но камни один за другим со свистом сыпались на ворону. Пайер бросал их, как сумасшедший, да и другие, сами не зная почему, с криком не отставали от него.
— Что там делаешь, гадина? Другого места для тебя нет?
— Эх ты, ворона, что там делаешь? — повторяли за Пайером ребята поменьше и совсем малыши. И этот крик был слышен далеко за хутором.
Ондрей стоял, не в силах что-либо сказать.
Ни один камень не попал в ворону. Она взлетела высоко над грушей, потом, видно, решила сесть на трубу пайеровской избы. Но из трубы шел дым, и она, подумав, наверное, что это место для нее непригодно, с жалобным карканьем метнулась в сторону, словно подхваченная ветром, и полетела дальше — к болоту.
Ворона летела низко над землей. Казалось — вот-вот она сядет, но она снова взмывала вверх, и ее полет походил на движение больших волн. Она каркала при этом так жалобно, что у Ондрея выступили на глазах слезы.
Все кинулись бежать за вороной. И Ондрей впереди всех.
Только пятнадцатилетний Пайер немного отстал, насмешливо крича:
— Лови ее, лови!
— Насыпь ей соли на хвост!
Еще все видели, как она уселась на забор школьного двора. Еще Ондрей увидел, как она перелетела Кисуцу и опустилась в густые заросли вербняка. Он перешел Кисуцу вброд и до самого вечера звал: «Иди сюда! Иди!» — но напрасно.
И после, стоило какой-нибудь вороне пролететь у него над головой, он всегда останавливался и долго-долго смотрел, пока она не исчезала черной точкой, и всегда думал, что это летит его ворона, та, которую прогнал завистливый Пайер.
Пайеру еще долгое время было стыдно, и он избегал Ондрея.
А осенью или весной, когда на небе появлялись целые тучи ворон, Ондрей по-прежнему искал ту, свою, и хотя ни одна не садилась ему на плечо, он верил, что она среди них.
И больше ему не было тоскливо от этих вороньих туч.
Перевод Л. Касюги.
ЛУНА НА ВОДЕ
Филипа Кландуха мучил кошмар. Он вскрикивал во сне, стонал, лицо его кривилось болезненной гримасой.
Уже проснувшись, он услышал свой стон, и с минуту лежал тихо, прислушиваясь к отклику. Ему самому было странно — как это он стонал таким тонким голосом? Это был не его голос.
А снилось Кландуху, что он стоит в реке, на самой середине Кисуцы, и поит лошадей. Вдруг лошади пропали вместе с возом, вода вздулась и забурлила так, что у него из-под ног вырвало камни. Он стал тонуть…
В доме темно, на улице ночь.
Когда Кландуху снилась мутная вода, он обычно думал: «Мутная вода не к добру», — но сегодня он ничего не подумал. Он лежал на дубовой лавке под окнами, и лежать было тесно, словно в гробу. Но ему было безразлично. Он потому и ложился на эту лавку, что она была узкая и жесткая; и всегда, если он приносил вечером из чулана тулуп и попону, жена знала, что она будет спать одна, что ночью муж встанет и будет изводиться, мучить себя мыслями. И табак весь выкурит, целую пачку.
Кландух поднялся. Похлопал ладонью по столу, не находя табак. Ночь была темная, но жена видела это. И знала, какой у него сейчас вид, — упрямая голова взлохмачена, глаза сердито выпучены, рот открыт. Открыт широко, словно он собирался проглотить картофелину.
Но вот зашуршала бумага.
«Нашел-таки», — подумала она, но не могла смолчать.
— По ночам-то хоть не чадил бы! — проговорила она, потому что не могла не сказать, хотя наперед знала, что толку от этого не будет.
— Не затевай свару, не то… — Его низкий голос звучал угрожающе, дрожа и прерываясь от гнева. Голос был резкий и даже страшный, лишь этот низкий, глубокий тон скрашивал его.
Он поднялся и прошелся по избе.
Ничего так не боялась жена Кландуха, как этого хождения. Походит-походит, а потом выйдет из дома и останется на дворе до самого утра. Теперь это случается часто. А первый раз так было, когда лошадь сломала ногу, и он в ту ночь надумал заложить землю, взять ссуду в банке и купить на эти деньги пару лошадей. Что-то он надумает теперь? Да что тут придумаешь? Ей стало жаль его. Не жаль было ни себя, ни детей, только его — большого и здорового мужика, что вот так в бессилье и отчаянии ходит по избе. Силы у него хватит на двоих, он телегу одной рукой приподымет, из грязи вытащит, если увязнет. Ведь когда у них была одна лошадь, он, случалось, и впрягался вместо второй лошади, тянул воз через выбоины и самые тяжелые места…
Она заплакала.
— Собачья жизнь! — загудел Кландух, потому что терпеть не мог женских слез. Взял со стола курево, спички и вышел.
Ночь была теплая.
Роса холодила босые ступни, но ему не до того — он не чувствовал росы и не замечал, что вышел босой. Повыше дороги у Кландуха сложены бревна, и он поспешил туда, посидеть, подумать.
«Ну, и как обстоят дела твои, Кландух? — спрашивает он и сам же отвечает: — Плохо! А началось все с того, что лошадь сломала ногу. Потом уж пошло одно за другим. Заложил землю, взял ссуду, но довершила все ярмарка в Чадце. Лошадей-то я купил дешево, две тысячи даже остались. А если б я покупал их сегодня, спустя год и два месяца? Осталось бы целых три тысячи, а то и все четыре. Только в хозяйстве без лошадей так долго не обойтись. Выходит, промашка не в этом. В чем же причина, что все идет прахом? Взять хотя бы лошадей. В чем дело? Скоро лошади, глядишь, совсем цену потеряют. Но не лошади тут виной, это уж точно…» Аккуратно укладывает он слово к слову, любуясь их смыслом и порядком, в котором они уложены. До чего хорошо они все объясняют и рассказывают ему. Это начало Кландух знает чуть не наизусть — ведь последние недели ничем другим и не занимается.
— А как же дальше?
— Надо бы хуже, да некуда. Лошадей я купил, дешево и хорошо купил, да, видно, не надо было их покупать…
Тут Кландух замолкает — охота ему удержать мысль и слова, чтобы хоть минутку сохранить в себе такую же тишину, какая стоит кругом в эту ночную пору. И он начинает крошить табак. Стебельки покрупнее отбирает и кладет обратно в пачку, лежащую на колене. Когда цигарка уже горит, слова сами вырываются одно за другим, а он прислушивается — будто оцепенев, сам не свой.
— Заработки пропали нынче, и торговцам возчики не нужны, а те, у кого парная упряжка — и подавно. Дешевле взять с одной лошадью. Да теперь и не возят столько товара из города, сколько прежде возили, два года назад. Если и дальше так пойдет, совсем возить перестанут. Кому нужен товар? Кто его купит? На какие деньги? И лес не возят. Лежит он, готовый, на вырубках, а который и на корню стоит, вон и у меня сколько сложено перед домом, а какой толк? Добрых полгода уже не видать возчиков с лесом, — мимо моего дома ни один не проезжал, да и на шоссе не видно было. А камень? И до него никому дела нет, не нужен он людям, камень-то. Что же им нужно? Похоже, что ничего, вовсе ничего. Вся долина словно задремала и околевать собралась. Люди подохнут, лошади, все… Вот птицы, те… те, пожалуй, переживут это наваждение. Они мухами кормятся, мухами и жуками. Но когда перемрут люди, то, пожалуй, не станет ни мух, ни птиц. Точно! Ведь мухи держатся только там, где есть люди и скотина…
Кландуху стало зябко.
Озябли ноги, и кажется, будто со всех сторон подступает холод.
А ночь — теплая.
— Заработков нет, а лошади стоят в стойлах. Задавай им корм, носи каждый день, пользы же от них никакой. Эх, не надо было покупать их… — Тут он решительно замолкает и крошит табак с таким ожесточением, словно решил растереть его в пыль. — Лошади не виноваты. Они не виноваты, — вслух убеждает он себя, отгоняя слова, которые просятся на язык. Слова эти греховны, и он боится их. Лошадей проклинать Кландух не будет. Ночь не услышит от него проклятий. Лошади — это святое дело, без них нельзя жить. Это внушил ему отец, старый Кландух — царство ему небесное! — это знал и он сам — его сын. Однако теперь… что же теперь?
— Лошади не виноваты! — Он упрям, как ребенок, и не хочет сдаться. Он не впадет в этот грех, нет, пускай хоть весь свет погрязнет в грехе… в Кландухе вдруг заговорила такая гордость, что спина выпрямилась сама собой, а в глазах засветилась решимость. Какая-то извечная сила, дремлющая в каждом человеке, пробудилась в нем и забурлила, заклокотала. Она взялась неведомо откуда и заклокотала так, что ничто на свете уже не казалось Кландуху страшным. Весь мир лежал перед ним, и Кландух смотрел на него сверху, как ястреб, высматривая добычу из-под облаков. А далеко внизу — какие-то фигурки. Это люди божьи, они мечутся, топчутся как-то неловко и бестолково. Словно цыплята, которые только что вылупились и начинают клевать. И было их — не счесть.
Кландух сжал губы.
Теперь это был человек, который знает, чего хочет.
Он вошел в хлев. На него пахнуло теплым и кисловатым воздухом. Кландух зажег керосиновую лампу с жестяным отражателем, — чтобы давала больше света.
Хлев — просторный, какой и должен быть у хорошего хозяина. Каменные стены блестят от испарений. Белая плесень крупной чешуей покрывает дубовые балки. Этой гнили на них столько, что они кажутся покрытыми березовой корой.
Трем коровам, телке и лошадям тут тесновато. Да еще в углу у двери закут, сбитый из досок, тоже прогнивших, заплесневевших.
Коровы лежат. Они повернули головы и безучастно уставились на огонь. Хозяина им не видно, его заслоняет тень отражателя. Им видна лишь рука, которая держит лампу. А глаза говорят:
— Ты пришел? Оставайся, а можешь и уйти. Как угодно.
Лошади поглядывают на ночного гостя искоса, недоверчиво. Их гладкая, красноватая шерсть блестит.
Кландух повесил лампу на балку и присел на скамеечку, на которой сидит жена, когда доит. Он глядел на лошадей и не мог наглядеться. Он был тут один, он мог досыта насладиться, любуясь их блестящей кожей, короткими сильными шеями и крепкими ногами. А едва зажмурил глаза, сразу увидел себя с ними в лесу, на Лазищах — они запряжены и тянут воз. Искры летят у них из-под копыт. Подъем здесь крутой, дорога плохая, размытая, но они идут так быстро, что дробный перестук копыт разносится далеко вокруг, телега скрипит и трещит под тяжестью старых елей, а он, Кландух, лишь подергивает вожжи и щелкает кнутом над их головами.
— Нно! Нно! Ну, ну, шевелитесь, еще немного, ну!
И они перебирают своими сильными ногами, головы наклонены почти до земли, с морд хлопьями падает пена.
Лошади мокры от пота.
— Нно! Нно! Вот-вот наверху будем, залетные! Нно! — радостно покрикивает он, тяжело дыша, потому что бежит рядом с ними, и пот льет с него ручьем.
— Тпру! — кричит он, хотя это и ни к чему, потому что лошади остановились сами. Они встряхивают головами, блестящая кожа подрагивает.
Его тоже бьет дрожь.
…Кландух возвращается к действительности. Его уже не знобит, но лоб у него мокрый. Он вытирает его.
— Кландух! Слышь, Кландух! Когда ты поедешь на Лазища? — спрашивает его кто-то, и он не может угадать, кто это. Словно сидит в нем второй Кландух, и тот, другой, боится, что уже не видеть ему Лазищ. Потому что этот голос насмехается над ним. Боится, по и насмехается.
— Хороши у тебя лошади, Кландух, и впрямь хороши. Ну и что? — В нем словно что-то захихикало. Неприятным, скрипучим, старческим смехом. Он заткнул уши, но хихиканье стало еще явственнее и страшнее. В его всплесках тонула гордость Кландуха, и та извечная сила, которая дремлет в каждом человеке, не клокотала больше в его жилах. Он сидел, словно больной, — уронив голову, тяжелую, как камень, раскрыв рот.
— Лошади ни в чем не виноваты, лошади ни в чем не виноваты. — Слова падали из раскрытого рта, но в этом монотонном бормотании они были неразборчивы; однако само звучание каждого из них как бы предвещало беду.
Что-то нависло в душном и кисловатом воздухе хлева, давило на плечи и лицо Кландуха, Лошади тоже словно что-то почуяли. Они беспокойно, зло бьют копытами в настил. И стук этот глухой, словно выходит из-под земли.
Корова, лежавшая ближе к двери, облизывает мокрый камень. Язык у нее шершавый, шуршит по камню. Она повернула голову к хозяину: «Ты еще здесь? Нравится тебе здесь? Ну, что ж, сиди».
Коровы глупы.
На улице ночь, за оконцем темно.
Но вот начинает светать. Белесые пятнышки на окошке — это утро. А в хлеву горит лампа.
Кландух чистит коня, сам не знает зачем. Но надо что-то делать, чтобы убить ночь.
— Ничего я не придумал, — говорит он вслух без горечи. Он сдался, поняв, что ничего не придумает. Ни сейчас, ни через час. И, осознав это, отшвырнул скребницу, даже не взглянув, куда она упала. А, пускай… Подождем, — и добавляет с какой-то насмешкой и презрением к себе и ко всему свету: — От судьбы еще никто не ушел. И ты не уйдешь, Кландух, — засмеялся он и хитро погрозил кому-то, зная, что грозит самому себе.
Он вышел из хлева, не закрыв дверь:
— А, пускай!
Пламенеет небо над горами. Занимается заря.
Дом Кландуха стоит один, высоко на холме. Мимо по склону бежит полевая дорога, ровная, прямая, а потом исчезает, обрываясь в бездну, которая не видна и которую человек ощущает подсознательно, как зверь издалека чует воду. Потом дорога появляется из расселины между скалами. Скалы стерегут ее, как преданные псы. За скалами — темная даль, черная и мертвая. Это еловый лес, он подымается к самому небу.
Выходит солнце. Меж далеких елей вспыхивают искры. Словно кузнец ударил молотом по раскаленной груде золота.
Потом рождается первая тень.
Так же тихо, как родился солнечный свет.
Кландух ощущает совершенство и красоту окружающей природы. Она причиняет ему боль, мучит его, но он не может высказать словами эту боль. С изумлением смотрит он на мир, словно восставший из мертвых. В эту минуту он забыл обо всем — о лошадях, о неотвратимо надвигающейся беде, о себе самом. Утро так ошеломило его, что он невольно вздохнул:
— Эх, жить бы да жить… — Мысли вернулись в привычное русло. И он уже не замечал солнца, не замечал игры теней.
— Эх, как жили бы люди, будь у них чуточку счастья… Хоть чуточку…
— Счастье!
— Где его найти? — рассуждает он сам с собой, но слова не приносят ему радости. Они кружат вокруг, а затем исчезают, и ничего после них не остается. Ни следа, ни запаха. Будто их и не было. Наверно, потому, что счастья не найти нигде — ведь его просто нет на свете.
Кландуха это не удручает, он уже не задумывается, отчего это так. Не думает он и о том, что все должно быть иначе. Теперь он — как и его коровы — не удивляется, как не удивились они его ночному посещению. Лежали себе, а одна лизала мокрый камень. Кландуха тревожат мысли лишь сами по себе, лишь слова, облекаясь в которые текут мысли. Он любуется их порядком, смыслом и поражается, как много они говорят ему, какие движения души отображают.
— И одну только правду, — высказывает он свое восхищение.
Его никто не слышит. А он и рад, что он тут один, что никто ему не помешает.
И улыбается.
Не услышала его и жена, вышедшая из избы. Совсем заспанная, она еще не привела себя в порядок, волосы растрепаны. Она высокая, одного роста с мужем, но худа, как щепка, с лица не сходит выражение испуга.
— Уже что-то придумал, наверняка что-то придумал, ишь улыбается. — Сердце у нее забилось, и щеки, бледные после беспокойной ночи, тронул румянец.
— Обулся бы, еще простынешь, — мягко бросила она, проходя мимо с подойниками в руках.
— Чего там! Тепло, тепло и хорошо. — Он посторонился, пропуская ее в хлев.
— Ну, ну… — только и сказала жена. А потом из хлева донеслось: — Всю ночь небось свет горел. Что ты делал? Керосина даром никто не дает, а ты его переводишь зря…
— Ну, завела! — пробурчал он и ушел со двора. Сунув руку в карман, нащупал пачку табака. — Надо ж, забыл совсем. — Кландуху вдруг так захотелось курить, что даже пальцы дрожали, пока он сыпал табак на бумажку, а потом облизнул ее край. — Хорошая вещь табак. Прочистит в голове, и сразу знаешь, что надо делать, — сказал он после первой затяжки и быстро зашагал по дороге вниз, в ту сторону, где дорога вдруг исчезает, падая в бездну.
Жена выглянула из хлева, гадая, — куда он направился. Перекрестившись, вздохнула:
— Господи, помоги нам в этот тяжкий час, и ты, матерь божья! — Ей было страшно.
Перед Кландухом распахивается бездна. Дорога круто низвергается вниз, потом бежит в сторону, возвращается и, будто пьяная, петляет вниз по крутому склону. Конца ее не видно. Он прячется в тумане. Не видно и дна долины, его закрывает белое облако. От облака веет холодом.
Кландух садится под елью.
Вокруг — диковинный мир. Мир без дна. Леса и горы поднимаются прямо из тумана. Словно не из земли они вырастают, а свободно парят, и под ними нет ничего.
Долина глубока и широка. Под белым облаком укрываются дома с людьми, река. Не знай он этого, никогда бы не сказал, что там есть жизнь. Так мертво все там.
— Ох, ох, — вздыхает он и что-то бормочет про себя.
За всю свою жизнь — а ему без малого сорок — он еще ни разу вот так не сидел, не размышлял. Некогда было сидеть. Работа подгоняла его, как вода гонит мельничное колесо. Гонит, гонит — и колесо крутится, даже ночью. Вода журчит, падает на деревянные лопасти, и колесо крутится и крутится. Как и он. Ему и по ночам снилась работа.
А теперь он сидит.
Остановились и мельничные колеса на Кисуце. Не крутятся. Полгода или уже год?
— Не крутятся. — Он пристально вглядывается туда, где за белым облаком укрыта мельница. Вглядывается и слушает. — Стои́т, а то бы я услышал, — говорит он уверенно, потому что иначе и быть не могло. Мельник отвел воду от мельницы. Колесо — сухое, и солнце целый день вгрызается в него. Лопасти рассыхаются, трескаются.
Кландух сидит. Ничего не делает, сидит. Только смотрит и думает, но ведь это не работа, этим не проживешь. Сегодня он совсем не будет работать — первый раз в жизни. А сегодня не праздник и не воскресенье…
— Ох, ох…
Туман редеет. Дунуло солнце, и белое облако зашевелилось, заколыхалось, по нему, ширясь, поползли тени.
Тени-дыры.
— А чтоб тебе! — Кландух хлопнул рукой по колену. Это относилось к ели, которая вынырнула из облака. Она показала лишь свою верхушку. Остальная часть погружена в белую пену.
Какая-то сила оторвала туман от подножья горы и погнала в середину долины, к реке. И там, над Кисуцей, он остановился — еще гуще и белее прежнего.
Показалась мельница, колесо.
— Не крутится. — Кландух рассмеялся. — Если б крутилось, я б услыхал.
Дорога, извиваясь, сбегает вниз по склону и тянется к мельнице, прямо к дверям мельникова дома. И находился же по ней Кландух! Вверх и вниз. Дальше она идет к мостику, повисшему над рекой. Мостика не видно.
Долина оживает, туман редеет, отступает перед солнцем, стелется по земле, по глади реки и куда-то девается.
— Ясный будет день. Туман садится, — замечает Кландух. Весь этот огромный мир, который он видит перед собой, притягивает, волнует его, и он не может вволю наглядеться на него. Вон погнали коров на пастбище. Стада длинной чередой спускаются к молодому ельнику. Его старшему сыну тоже пора бы выгнать скотину. Пора…
— А, вот и он. — Кландух прислушивается к звону колокольцев позади себя и испытывает удовлетворение.
— Хорошие у меня дети. Послушные.
Две женщины несут к Кисуце полное корыто белья. Полоскать, значит. Ну да, полоскать, потому что… у одной под мышкой скамеечка.
— Ну да, скамеечка. Будут полоскать. Опустили корыто, а та, что со скамеечкой, поставила ее на траву и села на нее.
— Глаза у меня еще хорошие, — радуется он тому, что хорошо видит и что женщина смогла сесть.
— Корыто небось тяжелое, — добавляет он сочувственно.
Туман разорвало и над полосой реки. Скрутил его воздушный вихрь и отшвырнул с глаз долой. Река заблестела, засветилось в ней солнце.
Кландух поначалу и не заметил этого, но потом… его охватило беспокойство. Туман открыл и шоссе, и оно притягивало его взгляд.
Пустое, мертвое.
Он помнит, как, бывало, в эту пору по шоссе тянулись вереницы телег, как возчики, весело перекрикиваясь, обгоняли друг друга, и телеги неслись в одном направлении — к городу. Не погоняли лошадей лишь те, что везли на лесопилку белые, окоренные ели. Они только взмахивали кнутом, приветствуя возчиков, спешивших в город, а сами спокойно посиживали на бревнах и оглядывались назад, следили, чтобы ребятишки не висли на тонких концах стволов, которые вздрагивали, подпрыгивая на неровной дороге. Кландух хорошо это помнит.
Пусто на шоссе.
Да нет, гляди-ка! Вон тащится какая-то телега. И едет в сторону города, словно за товаром. Кландуху жаль возчика, потому что до города далеко, а тому не с кем будет даже словом перемолвиться: один едет; да, один, и конь у него один. Таких иногда еще нанимают.
Кландух завидует ему.
Телега едет далеко внизу под ним, и, если бы хозяин не сидел, Кландух узнал бы его. Да ведь все сидящие люди похожи друг на друга, как братья. И тут словно кто-то подсказал Кландуху, что возчик едет не за товаром, что он вот-вот свернет в поле. Если б телега была поближе, Кландух увидал бы, не лежат ли в ней вилы, грабли. Все бы увидел…
Однако телега знай себе катит по шоссе и не думает сворачивать в поле.
Вот она исчезла за домами. Но Кландух еще увидит ее. Не пройдет и трех минут, как увидит, потому что дальше шоссе открыто с обеих стоорн и видно будет, как на ладони.
Меж тем женщины на реке стирают и полощут белье. Скручивают каждую вещь змейкой и потом вальком отбивают на скамье. Их слышно даже здесь, наверху, и становится как-то весело. Долина вроде и не собиралась умирать.
Ну, конечно! Не умрет! Вон и телега тащится по шоссе. Хоть одна.
Телеге пора бы уже появиться. Шоссе там открытое, доступное взору Кландуха.
— Не повезешь ты никакого товара! — злорадно кричит Кландух неизвестному возчику и добавляет про себя: клевер поехал свозить, не иначе. Клевер или сено. Свернул с шоссе, в поле…
Теперь Кландуха уже ничто не занимает. Ни долина, ни коровы, которые пасутся в ельнике, издали похожие на красных мух. Да и веселый стук вальков с реки уже не тешит его слух. В его сознание закралось беспокойство. Беспокойство и безотчетное предчувствие беды. И он уже не просто сидит, он ждет. Вновь в воздухе нависло что-то гнетущее, как тогда в хлеву. Мысли, одна мрачнее другой, одолевают его, взгляд тяжелеет, темнеют зрачки и становятся черными, как ночь или как паровоз, который взбирается вверх по долине, выплевывая клубы дыма из высокой трубы.
Кландух вздохнул.
Он ждал этого поезда. Все остальное — мельница, туман и женщины, стиравшие на реке, — была игра, которая уже не повторится. Он лишь обманывал себя — как человек на смертном одре, почувствовавший себя лучше и вообразивший, что ему удастся перехитрить смерть. Но смерть придет так же неотвратимо, как пришел этот поезд. Смерть белая, а поезд черный, но разницы между ними нет. У нее оскалены зубы, она бесплотна, а у паровоза — труба и круглые окошечки вместо глаз, но разницы между ними нет никакой.
Он не ошибся. Телега не привезет товара — вон она подымается проселком, остановилась у зеленеющего поля. На нем три черных островка.
— Клевер, — произнес Кландух, выжал из себя еще капельку заинтересованности: прозвучало слово, однако так вяло и безучастно, словно и не говорил он вовсе.
— Уже идут.
Не стало ничего — ни гор, ни неба, ни реки. Во всем мире были лишь четыре фигурки, человеческие фигурки, которые двигались от станции и вот уже появились на шоссе.
Их привез поезд.
Один из приехавших — в зеленом.
— Жандарм! — Еще минуту назад он бы удивился, но сейчас это было уже не важно.
Фигурки росли и быстро приближались к мостику. Одна — пузатая, круглая, как шар, и три тощие. Так оно и должно быть. Круглый шел по самому краю дороги, вдоль канавы, широко размахивая желтой соломенной шляпой.
Фигурка в зеленом шагала по другой стороне, у железных перил ограждения, укрепленных на прочных, покрашенных белой краской столбиках — берег там был крутой и отвесно падал к реке. Жандарм трогал каждый столбик ладонью и поворачивал ее, словно втирая что-то.
Кландух следил за каждым их шагом и ничего, кроме них, не видел. Впрочем, в долине больше ничего и не было.
Ничего.
Они сошли с шоссе — на тропинку к мостику. Потом пройдут под теми высокими елями, у которых только верхушки торчали из тумана. Пройдут! Это уж точно — как то, что он сидит тут.
Мостик прогибается, вздымается, падает, будто еловые стволы, когда их везешь по ухабистой дороге. Кландух обостренно замечает это. Он слышит топот ботинок и жандармских сапог, и ему приходят на ум лошади. И в его хлеву по ночам такой топот.
Вот они у мельницы.
Мельник вышел из дверей. Снял шляпу и поздоровался. Все ответили ему.
Круглый остановился, руки в боки — поглядел вверх на склон, словно в небо. Кландух хорошо видел его, читал на его лице страх и ухмылялся:
— Да не бойся ты, шут гороховый, моя гора не кусается. Захотелось тебе прийти — иди. Я тебя не звал. — Он засмеялся мелким смешком, отрывисто и жестко, но глаза его оставались холодными. Как у рыбы. Лишь кулаки сжались крепко, и из пальцев отлила вся кровь. Они стали желтые, как у покойника.
Эти, внизу, что-то кричали друг другу, то ли подгоняли круглого, чтобы он подымался по крутой тропке, то ли смеялись над ним. Кландух не знал. Он ничего не слышал. Только видел, как они открывают и закрывают рты и ворочают красными языками.
— Красные языки! — закричал он со злобой. Ему надо было кричать, надо было услышать свой голос. В голове у него гудело, шумело, словно бурлящий поток. И плескалось, шлепало мельничное колесо.
Четыре фигурки подняли головы. Поглядел вверх и мельник, а, увидев Кландуха, отвернулся и убрался в полуоткрытую дверь.
— Красные языки!
— Гляди как следует, Кландух! Эти внизу — словно жучки какие. Можешь плюнуть на них или камень столкнуть, он упадет кому-нибудь из них на голову. Ты боишься их, что ли? Что связало тебе руки, Кландух? Ты же телегу из грязи можешь вытащить, одной рукой подымешь… Кландух, Кландух, — отчетливо говорит в нем голос. У Кландуха после каждого слова — мурашки по спине. Где-то глубоко внутри просыпается что-то отвратительное, мерзкое, готовое разорвать кожу и вырваться наружу. Вздуваются, напрягаясь до боли, мускулы, шум бурного ручья в голове не утихает, а усиливается, становится все пронзительней и переходит в протяжный писк, впивается в душу огромной терновой колючкой.
Голова — будто уже и не его. Голова на его плечах — не его. Это чужая голова! Она тяжелее, чем была его собственная. Ее не удержать. Упала между колен. Он пробует приподнять ее.
— Ух!
Шея болит — она вся в поту. Но не от солнца, не от зноя, хотя уже вон и марево дрожит над камнями за мельницей. Там целый луг из камня — каменный луг, а трава на нем не растет. И цветов не видать. На том лугу растут одни камни и песок. Да еще обглоданные водой пни старых верб и елей. Хорошо видно, как они вырастают из земли. Они без коры, без ветвей, и нигде ни единого листочка.
Обглоданные.
Такие, какими их принесли мутные воды и вбили в землю.
И все же они растут. Ясно видно, как они вырастают. Какая земля может сравниться с его землей? Есть ли еще край, где увидишь сразу столько чудес?
— Покажите мне такой край, и я посмотрю на него!
— Я, Кландух…
Это еще что. Вон там — вывороченный пень ели. Может показаться, что он протягивает свои корни людям, показывает их. Но он не протягивает их, он так растет. Запустил корни в воздух, подставил их солнцу. Под землей ель расправила свою темную крону, там пахнет хвоей. У ели есть своя, подземная белка, и она кормит эту белку семенами, которые падают из ее шишек. Не будь там этой белки, семена падали бы вниз, в самое пекло, и там их съедал бы дьявол.
Дьяволу тоскливо, потому что белка поедает все, что упадет с ели. Тоскливо и голодно. А может, его уже и нет, может, он уже окочурился…
— Покажите мне другой такой край, я хочу посмотреть на него!
— Ух!
Шея болит — она вся в поту, но это не от жары.
Он поднял голову повыше. Теперь он видел каменный луг и сверкающую реку. А потом увидел и другой ее берег — поросший травой; там кое-где стоят высокие ели. Он видел и мертвое шоссе, ведущее в город.
А то, отвратительное, мерзкое, уже замолкло в нем. Мускулы не вздуваются, обмякли. Все потому, что мертвое шоссе сказало ему:
— Слаб ты, Кландух, слаб — где тебе убить их. И вся долина вымрет. Иль ты не видишь? А на прачек у реки ты не обращай внимания. Оттуда слышен веселый перестук, но это игра перед смертью…
В голове не гудит, не свистит.
Голова снова — своя.
В ней отзывается шорох осыпающихся камешков. Четверо поднимаются по дороге, которую вырубил в горе прадед Кландуха. Или кто-нибудь еще раньше.
Кландух видит их. Он их не убьет. Ту темную, страшную силу в его теле уже никто не разбудит.
Он видит их, а одного и узнал. Староста. Впереди идет. Он тоже с гор, как и Кландух, привык ходить по крутым склонам. Он меряет дорогу длинными шагами, глядит прямо перед собой. А вот круглый нет-нет да остановится, оглянется, сравнивая глубину пройденного пути и высоту, которую предстоит еще одолеть, и видно, что и то и другое кажется ему непостижимым. Лишь соломенная шляпа безнадежно трепещет в воздухе, словно усталая птица, которая не знает, куда сесть. И все же круглый идет, тащится. Видно, есть что-то сильнее его самого и сильнее Кландуха.
— Что же это? — спрашивает себя Кландух, но спрашивать уже поздно, потому что в нескольких шагах от него остановился раскрасневшийся староста и расстегнул пиджак.
— Доброе утро! — поздоровался староста. — Бог мой, а я от самого моста гляжу и говорю: это может быть только Кландух. Сидит себе и не шелохнется…
Встреча горька, никого не радует, Кландух молчит.
— Видите, пан вахмистр? Я еще на мостике сказал: наверху сидит наш хозяин и ждет. Это и есть пан Кландух.
— Значит, вы — пан Кландух? — Вахмистр подошел и приложил палец к козырьку зеленой фуражки. Молоденький жандарм с неуверенными движениями и речью, он все время улыбается, поправляет ремни на форме. Стоит ему пошевелиться, как они скрипят. Так туго затянуты. Молчание Кландуха приводит его в смущение, он отворачивается и смотрит в долину.
— Чудесная долина, пан староста.
Староста не отвечает.
— Правду вы сказали. Чудесная! — соглашается Кландух, но звучит это угрожающе.
Уже не может быть сомнений — все эти люди думают об одном, эти четверо пришли к Кландуху, а он ждал их. Больше некого было ждать, никого, кроме них, поезд не привез.
Дотащился круглый и опустился возле ели. Он тер лицо носовым платком, стирал пот и при этом пыхтел и надувал щеки.
— Это, это… ффф! — У него отняло речь. Он прерывисто дышал, задыхался, вот-вот раскашляется. Но он не закашлялся, только в горле у него что-то свистело и клокотало.
Четвертый, молодой и тонкий, молча стоял перед круглым, ухмылялся, как будто считал эти свистящие вздохи.
— Я тут умру, эти горы сведут меня в могилу, — раздались из-под ели причитания.
— Не так уж это страшно, пан судебный исполнитель. А кости поразмять никому не вредно.
— Вы называете это «поразмять кости»? — кивнул тот вниз. — Ведь я ж ничего не видел. У меня было темно в глазах. Совсем темно! — обмахивался он мокрым носовым платком.
— А я люблю горы, — донимал его четвертый; ему это доставляло какое-то удовольствие.
— Вы, вы!.. — Молодой человек действовал ему на нервы! Пора оглядеться и посмотреть, где, собственно, тот, ради которого он пришел. Вон сидит мужик. Значит, это он, гм…
Но четвертый не отступается:
— В нашей семье все любят горы. И я ни о чем другом и не мечтаю, как о домике далеко в горах, далеко от людей. Вы можете себе это представить?
— Вот уж нет, пан адвокат. Я знаю только, что до вечера далеко. А представлений у меня нет никаких. Это в мое ремесло не входит. Представления, фантазии — это для девиц, да и вообще для молодых. Кстати, чего ради вы пристаете ко мне с разными глупостями? Да еще в этакую жарищу! Не оставите человека в покое…
Адвокат обиделся. На краснолицего старосту он смотрел свысока, на вахмистра тоже, поэтому он отошел в сторону, чтобы присесть подальше от всех.
Этот разговор в какой-то мере помогал вахмистру обрести душевное равновесие. Он прислушивался к разговору и мысленно принимал в нем участие. Но теперь, в наступившей тишине, стоя рядом с Кландухом, он почувствовал, что должен чем-то заполнить возникшую пустоту.
— Как называется вон та гора, пан староста?
— Раковка!
— А эта?
— Велький Полом.
— Бескиды, Яворник… — бормотал вахмистр про себя.
Староста увидел глаза Кландуха. Темные, глубокие и холодные, как у рыбы.
— За Вельким Поломом — Силезия и Польша…
Точно, надо уйти подальше от этих глаз. Чего Кландух так уставился на него? Ведь он тут ни при чем. Он тут пятая спица в колеснице. Но в законе все написано про его обязанности, и староста подчиняется закону. «Мало радости было ждать панов на станции, Кландух, а теперь — убить с ними целый день», — думал он, отходя подальше от Кландуха, но вслух ничего не сказал.
Вахмистр остался один. И делал то, что умел делать лучше всего — разглядывать долину, поправлять ремни на форме. Этот привольный край был красив, но сердце к нему не лежало. Сердце было полно горечи. Это чувство возникло еще в поезде, а сейчас все росло, ширилось. До чего ж люди могут быть неблагодарными! Конечно, ему начальник приказал отправиться прогуляться в горы, — мол, у какого-то Кландуха будут реквизировать землю, — и если понадобится — быть с комиссией весь день. Времена настали плохие, а кисуцкая долина вовсе не такая мертвая, как кажется. Коммунисты зашевелились, и в этих черных лачугах что-то назревает. И он поехал, потому что ему, как новичку, следовало ознакомиться с участком. Вот сидит Кландух, хозяин, один его вид наводит страх. Судебный исполнитель и адвокат должны спасибо сказать, что его сюда послали, вахмистра, а они этого не ценят. Он пришел их охранять, а они платят ему тем, что не обращают на него внимания, разговаривают с ним сквозь зубы, на каждом шагу подчеркивая, что он для них нуль, ничто, что он ниже их…
А Кландух сидит и молчит. Со старостой он уже разделался. Посмотрел на него, как бы говоря: «И ты туда же, сукин сын? И ты против меня? Пришел поглазеть, как паны будут изгиляться над Кландухом? Ну, что ж, запомни этот день, я-то хорошо его запомню».
Староста понял.
«И жандарма привели с собой… а чего ждут? Пузатый, видать, самый главный. Ждут, пока он отдышится. Тогда и начнут… Чудные они какие-то. Вон тому дом подавай. Поди его разбери! Мол, чтоб подальше от людей. Господи боже! Скотина, и та тянется к человеку, а этот… А жандарм вытаращился на горы… Тоже мне! На что ему горы? Я тут живу сорок лет, не знал, что вон эта гора Раковкой называется. Кикуля она! Кикуля и есть. Спокон веку ее так называют. Откуда же староста знает про Раковку? Ну, конечно, от панов нахватался, сукин сын! Мы с тобой еще потолкуем, погоди!» И Кландух начал оглядывать всех с таким живым интересом, словно это купленные вчера кони. Ему надоело сидеть. Он поднял руку.
— Ну, хватит, господа, посидели! Пойдемте работать!
— Молодец Кландух, молодец! Сразу видно, закон ты уважаешь. Я всю дорогу твердил: Кландух порядочный человек, — разговорился вдруг староста и так зачастил, словно боялся, что не успеет договорить.
— А тебя кто спрашивал? Ну, скажи, кто тебя спрашивал? — Низкий голос Кландуха прокатился по склону. Он все заглушил, и все замолкло. — На этой земле пока еще я хозяин, и я разговариваю, с кем мне захочется. — Кландух глубоко вздохнул, грудь его поднялась, и он широким жестом предложил: — Идемте, господа! Чего тянуть?
Этими словами он всех поднял с земли. Они смотрели на него с уважением и некоторой опаской. Он казался необыкновенным, необычайно сильным, чья воля подчиняет себе все, что встанет на ее пути.
— Пан жандарм! Не ходите по самому краю. Закружится у вас голова, свалитесь вниз, а потом еще скажут, что… что это я вас. На меня скажут… — засмеялся он во весь огромный рот, и смех его разнесся далеко вокруг.
Жандарм поспешил на другую сторону дороги. Из-за этого смеха. Не из-за крутизны склона, а из-за смеха Кландуха.
— Минутку, господа! — Судебный исполнитель остановился, подняв руки. — Пан оценщик еще не пришел! Где пан оценщик?
— Это дело серьезное. — Адвокат сложил руки на груди.
— Мы не можем сделать ни шага без пана оценщика, — оправдывался судебный исполнитель перед Кландухом, который глядел на него исподлобья.
— Я могу это сделать и сам. Идемте! — Кландуху хотелось скорее покончить со всем, чтобы все уже было позади, и это мучительное, терзающее душу стремление делало его великодушным, заставляло забыть свою беду.
— Я протестую! Я категорически протестую против таких действий. — Адвокат подбежал к Кландуху, не побоявшись и даже не побрезговав ткнуть крестьянина пальцем в грудь. — Я представляю тут интересы банка, вы взяли у нас ссуду, и я протестую. Не согласится и пан судебный исполнитель, и пан вахмистр…
— Вы думаете, я не знаю, для чего вы его привезли с собой? Чтобы я вас не убил, вот зачем. Да я и теперь мог бы вас, мог бы, если бы захотел. Вас, да и его. — Кландух неотрывно глядел на палец адвоката.
Адвокат побледнел, попятился.
— Пан Кландух! — предостерегающе сказал жандарм.
Кландух грубо выругался и побрел домой.
— Мы не имеем права без пана оценщика, — кричал ему вслед исполнитель, но, увидев, что слова его не оказывают на крестьянина никакого действия, вздохнул: — Ох, господа мои, не так-то это легко. Все не легко. А жить — это труднее всего. — И он посмотрел куда-то вниз, в долину.
— Где же может быть пан оценщик? Ему давно пора быть здесь.
Адвокату никто не ответил.
Дорога поднимается прямо, огибает дом Кландуха, а потом устремляется в горы. Протискивается между двумя скалами, которые стерегут ее, как верные псы. Кландух не идет туда, он плетется домой, сам не зная зачем. Его гонит какая-то сила, как утром гнала его на склон, — сидеть там и ждать, а ночью подняла с лавки под окнами, — и он пошел на непроданные бревна, а потом в хлев. Какая-то сила все время гонит его, преследует. Ему кажется, что это — жизнь, она выскочила из него, гонится за ним по пятам, и ему приходится убегать, как оленю от голодного волка.
И Кландух идет быстро, он уже почти бежит, хотя и не знает зачем.
Кто-то преградил ему путь. Кландух видит широко расставленные ноги. Они стоят, не думая уступать. Их надо обойти. Его не занимает, чьи это ноги. Но ему показалось, что они вышли из его двора.
— Ну, в чем дело? Куда это ты разбежался?
Железный Голос остановил Кландуха, и он поневоле поднял глаза.
— Ты? — Кландух вздрогнул, словно увидел смерть.
— Я! — Это было сказано надменно и снова тем же железным голосом.
Оба они высокие, сильные, косая сажень в плечах. Холодно смерили друг друга взглядом, и Кландух почувствовал, что попался, что ему уже не убежать.
— Я искал тебя дома.
— Искал? Сегодня все ищут Кландуха. Даже жандармы. Все вы пришли нажраться мертвечины. Нате, жрите, рвите на куски! А ты — самый первый! На, жри! — Он раскинул руки в стороны, словно распятый на кресте.
Железный Голос не обращал внимания на Кландуха. Он неторопливо закурил цигарку и, сделав две затяжки, деловито заметил:
— Поля у тебя хороши. Особенно на косогоре.
— Хороши?
— Ей-ей, хороши.
Кландух вдруг расхохотался как безумный. Во весь голос, с каким-то отчаянием. Он прижал кулаки к телу и прижимал их так сильно, что этот безумный смех замер где-то в горле и оборвался. Он забормотал, как в бреду, торопливо и со страхом:
— Я уже понял, я все понял. Ты и есть оценщик. Понимаю, понимаю, даже и спрашивать тебя не буду. Они сидят под елью в ожидании тебя. Можешь идти и сказать им, что я буду ждать их здесь, на этом месте. — Кландух посторонился, уступая дорогу.
Оценщик направился к ели, туда, где дорога круто обрывается в бездну, но человек не видит этой бездны, а лишь чует ее издали, словно дикий зверь — воду.
Там послышались возгласы, но Кландух внимал им, словно в полусне. Да и приближавшиеся люди представлялись ему расплывчатой картиной, неясной, как старое воспоминание.
«Жрите, рвите на куски!» — хочется кричать Кландуху.
— Ну, вот, мы как будто в сборе, господа, — отчетливо услышал он, и ему показалось, что это тот — круглый.
— Да, — поддакивает ему кто-то. Без страха, потому что они уже не боятся Кландуха. Он уже не кажется им страшным. Да и его твердая воля куда-то девалась, спряталась в его сгорбленной спине. И они не боятся его и проходят мимо без страха.
— Где жандарм? — недобро спросил Кландух.
— Пан вахмистр? А что ему тут делать? — спросил круглый.
— Что ему тут делать? Смешно, — пискливо отозвался адвокат.
Кландух невольно усмехнулся. Он понял, что это Железный Голос отослал жандарма. Но усмешка тут же пропала, — он вспомнил про табак. Давно он не курил. И они с нетерпением ждали, пока он свернет цигарку и закурит.
— Вот моя изба. Она господ не интересует?
— Нет, пан Кландух. Землю мы осмотрим, землю, — с готовностью отзывается судебный исполнитель. Он отдохнул и теперь семенит возле крестьянина с таким довольным видом, что на него любо поглядеть.
— Ваша правда. Кому нужна старая развалюха? Но по мне она хороша.
— В деревянном доме хорошо жить. Зимой тепло, а летом в нем сохраняется прохлада. Так и должно быть, — весело щебечет толстяк, держась около Кландуха. И благожелательно поглядывает на него. Исполнитель маленького роста, не достает Кландуху даже до плеча и всякий раз, обращаясь к нему, вынужден задирать голову.
— Да. — Кландух посерьезнел и поставил ногу на штабель бревен, где он сидел и размышлял ночью. — Вот и этот лес я бы тоже с радостью… Не угодно?
— А на что он?
— Вы не поверите, пан Кландух, но лес действительно не находит сбыта. Не найти покупателя. Страшные времена! — Казалось, что исполнитель даже расстроился.
— Ну, и… что же, значит, сгнить ему тут?
— Что мы время тянем, черт возьми. Пошли На косогор!
Железный Голос потерял терпение и зло топнул подкованным башмаком.
— Отчего же На косогор? У меня ведь и другие поля есть, — неуверенно возразил Кландух.
— Идемте, господа!
— Ничего не поделаешь, пан Кландух. Ровным счетом ничего. Пан оценщик настоит на своем, — приглушенным голосом доверительно сказал исполнитель, когда остальные уже поднимались по узкой тропке, ведущей к пашне на косогоре.
— Я его знаю…
— Это очень влиятельный человек.
— Я хорошо его знаю. — Кландух пережевывал эти слова и выплевывал их, как что-то противное, несъедобное. Уже в тот момент, когда Кландух увидел ноги оценщика на своем пути, в нем словно застыла кровь, и ему стало ясно, что он человек пропащий. Железный Голос подряжал людей на сезонные работы и за долгие годы накопил уйму денег, а сейчас вкладывает их в землю. Кландух не знал, каким образом он заделался оценщиком, достаточно того, что он был им и уже несколько месяцев подряд появлялся в составе комиссий — оценивал и скупал, что было ему по вкусу.
«Поле На косогоре он хочет для себя», — пугал Кландуха внутренний голос, но ему не хотелось верить.
«Быть того не может, — подбадривал он себя. — Коли он боится бога, он должен понять, что пустит меня по миру. На косогоре? Нет! Я могу обойтись без лошадей, коров буду запрягать, пахать на них буду, возить, да и сам впрягусь, но… Быть того не может!» Но Кландух видел, как тот энергично вышагивает, не глядя ни вправо, ни влево, и внутренний голос не переставал пугать его: «Будь начеку, Кландух!»
Они шли по всхолмленной полонине, минуя овсы, высокую цветущую рожь, такую густую, что она казалась волнующейся невиданно зеленой стеной. Лишь в тени диких груш рожь была редкая, низкорослая и чахлая.
— Пан оценщик! Мы могли бы идти помедленнее, — с укоризной заметил представитель банка.
— И в самом деле. Это вам не тротуар в городе. Но мы, кто живет здесь, в горах, мы привычные ходить. Хотите — верьте, хотите — нет, а я на Велький Полом поднимаюсь за три часа.
— Невероятно.
Восхищение адвоката польстило ему, он засмеялся и умерил шаг. Спешить нечего, поле На косогоре не убежит. А у него будет время спокойнее подумать. Можно было бы поглядеть и те поля, мимо которых они проходят, но он не будет отвлекаться. Зачем? Пока здесь все чужое и потому ничто его не интересует. Ему достаточно смотреть на то, что уже принадлежит ему, или на то, что он собирается приобрести. Времена нынче какие-то шальные, и он не может поступать иначе. Времена такие, что нет веры в бумагу. Железный Голос потерял веру в бумагу. А что такое деньги, как не бумага? И уведомление из банка тоже бумага, шуршит. Брось в огонь бумажку в тысячу крон — сгорит. Была и нет ее. Сгорит и бумажка в пять тысяч крон, от нее тоже останется лишь горстка пепла. И как он раньше не додумался до этого?
«Но теперь-то я, благодаренье богу, додумался! Додумался, и сейчас еще не поздно, — стучит у него в мозгу в такт шагам. — Да уж, действительно, — век живи, век учись», — говорит он, гордясь собой. Он верил банку, откуда регулярно приходили выписки из его счета. Он даже купил маленькую стальную кассу и держал их там, а вечерами перебирал, наблюдая, как растет его счет. И всякий раз он начинал с первого вклада.
«Шестьсот чехословацких крон!» И еще какие-то цифры были там приписаны сбоку. Такие кривые. Ему уже тогда следовало бы догадаться, что тут что-то не так. Потому что кривое не может быть хорошим. Если дом скособочился, из него надо уходить, не то он похоронит под собой его обитателей. А он верил кривым цифрам!
«Дурень я! — сказал он себе. — Земля не сгорит, это не бумажка. Хоть костер на ней разводи, она не сгорит». Люди — те, что в долине, и те, что в горах, поначалу удивлялись ему. Но с тех пор, как он стал оценщиком и все чаще и чаще появлялся с комиссиями, с тех пор его стали бояться. И Кландух испугался его. Сперва он увидел только его ноги, — ног-то он не боялся, — но он не знал, что это ноги Железного Голоса. А мог бы и догадаться. Они были так надменно и уверенно расставлены!
Так мог стоять только Железный Голос.
Железный Голос перестал предаваться воспоминаниям. Он смотрел во все глаза. Пашня На косогоре уже видна. Он ощупывал взором волнистую поверхность, оглядывал границы поля, окружал его, будто черный лес. Когда-то здесь не было поля. Был лес. Дед Кландуха выкорчевал его. Железный Голос знает это из рассказов, его тогда еще не было на свете.
Поле имеет форму довольно правильного четырехугольника. В этом году Кландух засеял его клевером и овсом.
— Вот мы и пришли, — сказал Железный Голос адвокату.
— Да. — Представитель банка изучающе разглядывал лицо оценщика, недоумевая, как человека может волновать какой-то никчемный клочок земли. Ни воды нет поблизости, ни луга, где можно было бы построить дачу. И куда ни глянешь — унылый, однообразный пейзаж.
«Мужик! — пренебрежительно подумал он. — Грубое лицо, руки — лопаты, неуклюжие движения; поистине глупо было даже думать о нем». Он взглянул на часы, прикидывая, как долго продлится эта комедия. Хорошо было бы вернуться дневным поездом. А вечером он расскажет об этом друзьям в кафе. Вот будет смеху!
Кландуху последние шаги дались с трудом. Исполнитель, державшийся около него, беспрестанно тараторил о таких отвлеченных вещах, что слова не доходили до Кландуха. Он видел, как Железный Голос нагнулся, взял ком земли и раскрошил его на ладони. Сам он крошил таким образом табак, но сейчас Кландух про табак даже не вспомнил, потому что этот комок был с его поля, а у него не было силы даже на то, чтобы прикрикнуть и вырвать землю из рук Железного Голоса. По всему телу разлился жар, оно отяжелело, онемело и не слушалось. Кландух обошел стоявших и опустился на груду камней неподалеку. Локтями он уперся в колени, положив подбородок на ладони.
Исполнитель понял. Он отступился от Кландуха. Он понимал, что творится в его душе. Слава богу, порядком он находился с этими комиссиями! И завтра снова пойдет. И всю следующую неделю будет ходить. Каждый день он видит, как гибнут люди. Он уже не в силах смотреть на это, он сам всего боится и задает вопрос: «Что же это за времена?» — и глядит на Кландуха, спрятавшего подбородок в ладонях.
Гладь пашни волнистая. Зеленая гладь. Стоящие поодаль размахивают руками и, видимо, что-то говорят — раскрывают рты. Кландух оглох, он ничего не слышит, он видит лишь густую зелень пашни, но и ее не воспринимает. Это, наверно, даже не зелень и не краска, это что-то такое, что мучает, причиняет боль. Сердце у него часто стучит, все чаще и чаще, словно железные колеса на стыках рельсов, где они прикручены к шпалам большими, как палец, болтами. Нет, это даже не стук. Сердце говорит, оно явственно вскрикивает: «Кландух, Кландух, Кландух!» — чтобы он обернулся, посмотрел, кто его зовет.
Те уже не стоят, а идут к нему.
— Давай посчитаем, Кландух! — Это Железный Голос.
— Только бы все обошлось тихо, мирно. Только бы тихо, мирно, — озабоченно повторял староста, но его опасения напрасны, потому что Кландух не понял оценщика.
— Господа договорились, и я… как представитель банка тоже даю свое согласие. — Голос адвоката ожил. Он даже усмехнулся. Ему не придется ждать поезда до половины третьего, он сможет уехать тем, что идет до полудня.
— Слушай меня! — Голос оценщика звучал мягче обычного. Он даже не был железным. — Ты должен банку восемь тысяч, а с судебными издержками и процентами получится этак тысяч десять. Если не больше…
— Пожалуй, даже больше, пожалуй, больше, — с важным видом подтвердил представитель банка и после недолгого раздумья добавил: — Наверняка больше, пан оценщик.
— Вот видишь, — поддакнул староста.
— Я куплю поле. Дам тебе за него десять тысяч. Ну, по рукам! — Оценщик протянул руку.
Кландух посмотрел отсутствующим взглядом. Чего они хотят, что они тявкают на него, о чем уговаривают? Если бы они не стояли около него, ему было бы легче.
— На аукционе ты погоришь. Не получишь и восьми. — Это Железный Голос.
— Кто нынче купит землю?
— Да и на что, пан оценщик, на какие деньги? На какие деньги? Я позволил бы себе спросить это у пана Кландуха. — Адвокат вновь взглянул на часы.
— Ну, что, Кландух? — Железный Голос нахмурился, сузил глаза, чтобы Кландух не увидел в них страха. Ибо у Железного Голоса не идут с ума два «американца», которые недавно вернулись домой, привезли деньжат и, как он слыхал, собираются покупать землю.
— У тебя-то хватит денег. Я знаю! — хрипло сказал Кландух.
— А у кого еще они есть? — Глаза у оценщика сузились еще больше.
— Да найдутся небось такие…
— Не найдутся, и ты погоришь на аукционе. Не получишь и восьми тысяч. Да что я говорю? И семи не получишь. Не будь дураком, не делай себе во вред! — Два «американца» угрожающе выросли перед его взором. Железный Голос решился на последний шаг:
— Говори! Последний раз спрашиваю тебя. — Голос звенел.
Его уверенность оглушала и давила своей тяжестью на Кландуха.
Кландух уставился в землю. На стебли сухой травы, которые весной пробились из-под камней.
— Ну, господа мои, мы кончили. До свидания, Кландух. До встречи на аукционе! — Железный Голос повернулся на каблуках, но тотчас же оглянулся, жестко рассмеялся и прокричал:
— Погоришь, погоришь! — И пошел прочь крупными шагами, смеясь тем же жестким смехом.
— На, жри, подавись! Я и душу тебе отдам, ты, ты… — закричал Кландух.
— Душу? А на кой мне твоя душа? Это все одно, что бумажка. Тлен! Идемте, господа, нечего нам тут делать.
— Стойте!
Железный Голос словно застыл. Тело его напряглось. «Поддался, не выдержал», — мелькнула у него мысль. Но он не утратил самообладания, он сознавал, что не смеет испортить дело, что должен следить за своим лицом и за тем, что говорит. Он скривил лицо, презрительно надул губы и произнес ледяным тоном:
— Нам не о чем говорить!
— Стой, если я тебе говорю! — поднялся Кландух.
И Железный Голос не спеша повернул обратно с равнодушным выражением лица и злой ухмылкой на губах. Но внутри у него все кипело, кровь горела так, что кончики пальцев были горячими. А сердце словно замерзло. В сердце кололо, боль была такая, словно из него вытаскивали иголку.
— Что ты хочешь?
— Ты пустил меня по миру. Только это я и хотел сказать. Больше ничего.
— Не болтай!
— Это испокон веку была кландуховская земля. Искони, всегда была. — Он ступил ногой на клеверище и потерянно огляделся: — Подавись ты своими деньгами! И катись отсюда, чтобы глаза мои тебя больше не видели!
— Хватит речи говорить! Некому тебя слушать. Да и господа спешат. Завтра придешь в суд и там…
— Приду, приду! Только убирайся с моих глаз долой. Серьезно говорю. — Кландух шагнул, потому что в нем вновь просыпалось что-то темное, жуткое.
Они угрожающе меряли друг друга взглядом.
— Встретимся завтра в районном суде. Там ты доскажешь мне остальное. Я готов тебя буду слушать хоть целый день. До встречи! — Железный Голос уходил, но куда девалась его гордость! Лицо было искажено злобой. Кландух унизил его перед господами из города. Эх, показал бы он этому Кландуху, если б не пугали его, как призраки, эти два «американца». Показал бы ему на аукционе…
Кландух сел на груду камней. Подумал было пойти домой. Но дома он показаться не может. Стыдно перед женой.
«Боже, боже! — вздохнул он и закрыл глаза. Тысяча вопросов обрушилась на него лавиной, словно град. — Что теперь делать? Как жить? — В голове Кландуха настоящая буря, все перепуталось, переплелось, и из этого жуткого круговорота вырвался один вопрос, острый, как жало змеи, ядовитый и к тому же раскаленный добела: — Зачем жить?»
От этого вопроса сжало в груди, словно пронзенной длинным тонким стержнем из каленой стали. Он звенел и гудел, как телефонные провода, если стоишь не прямо под ними, а чуть сбоку.
Кландух прислушивался, пораженный, он раскрыл рот и боялся даже моргнуть. Боялся дышать, чтобы не спугнуть видение — так красиво гудело в груди, а боли он уже не ощущал.
«Зачем жить?»
Вопрос заполнил собой все вокруг. Конец его Кландух видел там, где клевер граничил с овсом. Раскаленный до предела, он пылал ярче солнца. И клевер ник, умирал под ним. Овса это сияние не коснулось.
Так он просидел до обеда. И даже не заметил, как встал; опомнился лишь на тропинке, ведущей к дому.
Навстречу ему шла жена с выражением вечного испуга на лице.
— Был тут…
— Знаю! — рявкнул он, будто всему виной была жена. Яростью пылали его слова, и весь он был страшен и неприступен. Глаза устремлены в землю, рот раскрыт, спина чуть наклонена — вот-вот бросится на кого-нибудь и разорвет в клочки.
Она больше не стала ничего говорить ему и лишь покорно наблюдала со стороны, роняя монотонно шелестящие слова:
— Боже, помоги нам в этот тяжкий час. Помоги и ты, матерь божия…
Она не пошла за ним в дом, ушла в хлев, чтобы выплакаться в темноте. Она поняла, что произошло что-то страшное.
Из-под соломенного матраца Кландух вытащил мешочек с деньгами — нетронутых две тысячи крон, что остались у него от ссуды. За год и два месяца он хотел подкопить еще шесть и сотню-другую на проценты, но не скопил ни кроны.
— Ровно две тысячи, — сказал он, пересчитав деньги. Сотню он спрятал в карман, а мешочек с деньгами положил на прежнее место, под матрац.
Потом обулся.
Постоял на дворе. Поискал взглядом жену, чтобы сказать ей что-нибудь. Что-нибудь в том духе, что он уходит, что скоро вернется, но не увидел ее нигде, и у него отлегло от сердца. Он вышел со двора. «Ни к чему ей все знать».
Он спустился вниз по склону, по извилистой дороге. Мельник сидел на лавочке перед домом и покуривал. Едва Кландух увидел его, как в нем взыграла желчь:
«Сидит тут вечно, подстерегает человека. Или нет у него другой работы? — Взгляд Кландуха упал на трубку, и ему тоже захотелось курить. И он сразу примирился с мельником. — Сидит, бедолага. Работы нет. Колесо не крутится, вода не плещется».
— Слава Иисусу! — поздоровался он.
— Во веки веков. — Мельник приподнял шляпу и подвинулся на лавочке, освобождая место.
Кландух сел рядом с ним и вытащил пачку табака. Отсыпал немного на ладонь.
— Стеблей в нем много.
— На всем нас обирают, — кивнул мельник в знак согласия. У него было желтое лицо, желтое, с коричневатым отливом, как ржаное зерно. А волосы светлые, будто солома. Он старше Кландуха. Ему лет пятьдесят, если не больше. А может, он кажется старше из-за того, что лицо у него безжизненное, усталое; на нем застыло выражение горечи. Бывают такие лица, смотришь на них — и не можешь себе представить, что они могут улыбнуться.
— К тебе приходили… — Это прозвучало не как вопрос.
— Ко мне.
— И его я видел, он… — То ли мельнику трудно было закончить фразу, то ли что, но последние слова он оставил для себя. А может, они поняли друг друга и без этих слов.
Кландух уставился на дорогу. Это тоже был многозначительный разговор. Мельник понял, поэтому не замедлил ответить:
— Это… плохо это.
— Мы были На косогоре.
Мельник разинул рот, широко раскрыл глаза, но ничего не сказал. Глубоко вздохнул и затих. Покачал головой, потягивая из трубки. Лишь на всякий случай уточнил:
— На косогоре?
— Да.
— Ох, насытится ли он когда? Ведь он…
Они курили и смотрели на дым. Мельник еще раз набил трубку, а Кландух свернул себе еще цигарку. Вторую. Молчание сближало их… Им не хотелось терять друг друга из виду и расставаться. Потому что тогда что-то нарушилось бы, порвалось бы, какая-то связь, а жаль.
— А ты как? — спросил Кландух.
Мельник пожал плечами. И сильнее прежнего задымил трубкой. В трубке зашипело и в мундштуке тоже.
— Гм, гм… — Это Кландух.
Какая-то мысль не давала мельнику покоя, по лицу его было видно, что он подыскивает слова.
— На свете никогда не будет хорошо. Одного я не пойму, и что люди так держатся за эту жизнь?
— Держатся?
— Еще как! С самого рождения. Если человек голодный — он ищет хлеб. Хочется пить — пьет воду. Захочет спать — ложится и спит. Жизнь ничего не стоит, но человеку на это наплевать. Ему это не важно. Он и к доктору идет, когда заболеет, и со смертью борется. Зачем? Есть в этом смысл? Если бы все легли и поклялись: «Не встанем больше!» Если бы… — Он замолчал. Ему надо было подумать о сказанном.
«Зачем жить?» — перед мысленным взором Кландуха вновь встал все заслоняющий собой мучительный вопрос, возникший, когда он сидел на камнях там, наверху. Кландух подивился тому, что они с мельником думают об одном.
— Только никто не поклянется, — начал мельник. — Если бы, к примеру, я должен был. Но… — Он жалко улыбнулся.
— Значит? — Кландуха живо заинтересовал ответ мельника.
Мельник долго молчал.
— Дьявол его знает. В жизни мне осталось только сидеть вот так. Когда есть табак, курю. А нету — гляжу на твой склон. И все. И дьявол знает, мог бы я поклясться или нет. Что поделаешь, коли этой смерти…
Кландух был неудовлетворен. Он покачал головой и заявил:
— Я смерти не боюсь!
— Сказать-то легко. «У меня есть миллион крон». Ну, вот я сказал «миллион», а у самого нет ни геллера.
— Бывают слова и слова, мой милый. Слова словам рознь. Коли я тебе говорю, что не боюсь, так это правда. Мне уже ничего другого не остается. — Кландух сплел пальцы, но не смог хрустнуть ими. Ни один не хрустнул. Когда он был еще неженатый, они хрустели, и сколько их хрустнуло, столько у парня будет девушек — такое было присловье, да и сейчас так говорят. С чего это пришло ему в голову? Он криво усмехнулся.
— Ты смеешься, не верю я тебе.
— Знал бы ты, чему я смеюсь, — глупости, ерунде. Иногда надо о чем-нибудь и таком подумать. Не то свихнешься. Это уж точно, — похлопал он мельника по плечу и встал.
— А… куда ты? — осторожно поинтересовался мельник.
— Куда? — Кландух сощурился. — Там видно будет.
Это прозвучало неопределенно и не понравилось мельнику. На всякий случай он сказал:
— Не знаю, не знаю, стоит ли это. Все же…
— И я не знаю, а иду! С богом!
— Ну что ж… — Мельник забыл ответить на прощание. Он лишь следил за Кландухом, смотрел на его широкую спину. Кландух шел не тропинкой, а напрямик, выбирая кратчайший путь, чтобы как можно скорей попасть к мостику. Вот уже он прошел луг, идет через отмель, усыпанную камнями, с торчащим кое-где ивняком. Перешагнул толстый трос, на котором подвешен мостик. Трос накинут на толстую ель, так что паводком мост лишь подымало и относило в ивняк, но не уносило совсем.
— Ах, ах, — заахал мельник, думая о Кландухе. Гора перед ним круто вздымалась в небо, на склоне белела извилистая дорога, но мельник ничего не замечал, он лишь качал головой и ахал.
На мостике Кландух остановился. Нехотя вспомнил слова мельника: «Не знаю, стоит ли». Угадал, куда Кландух идет. Еще можно вернуться. Но тогда нужно будет посмотреть жене в глаза, и она наверняка спросит, чем кончилось дело с комиссией.
«Что я отвечу ей? Нет! Сегодня я ей этого сказать не могу», — и он посмотрел в воду. Река была прозрачная, неглубокая. У самого берега между камней грелись рыбки.
— Конец! — И он пошел по мостику. И что-то нашептывало ему, что он уже не может вернуться с другого берега, нет.
Это успокоило его, и он зашагал решительней. Дойдя до высоких елей, Кландух обернулся. Он не мог избавиться от неясного, горького чувства своей вины в том, что перешел на другой берег. Сначала он оглядел гребень горы, — не стоит ли там жена, не наблюдает ли за ним. Потом опустил взгляд вниз, к мельнице, но не увидел никого и воспрянул духом.
Затем он вышел на шоссе. Шагал, как едут телеги — серединой дороги. Потом свернул на тропинку, прошел немного и остановился перед домом.
Это была корчма Кмохули.
Постройка была такая же, как все. Низкая и черная. Будто кто-то насыпал кучу глины. Лишь передняя стена, с двумя маленькими окошками, обращенная к шоссе, была покрыта большими белыми кружками. Это было настолько необычно и удивительно, что если мимо проходил кто нездешний, непременно спрашивал:
— Кто там живет?
— Не знаете? Да Кмохуля, что корчму держит.
Чужак шел дальше, однако странный вид корчмы не давал ему покоя. Кружки были сделаны известью, но не по всей стене, а лишь в местах соединения бревен, из которых была поставлена лачуга.
Двери были такие низкие, что Кландух поневоле нагнулся. Едва он отворил их, как над его головой звякнул колокольчик. Это хитроумное устройство возвестило Кмохуле о приходе гостя. Она высунулась из задней комнатушки и скрипуче окликнула его:
— Чего тебе?
Кландух не ответил. Он затворил дверь, сел на лавку к окну. Тут было сумрачно. К тому же единственное окно он наполовину загородил своей широкой спиной.
Кмохуля вышла к нему. Это была высохшая старуха, переломившаяся в пояснице, наклоненная вперед, словно под тяжестью ноши. Глаза у нее были выпучены, нос тонкий, узкий и острый, как птичий клюв. Подбородок провалился назад, под губы, слившись с шеей — морщинистой, грубой, и мог сойти за шею огромного индюка.
Она оперлась локтями о стойку. Вытаращила глаза на гостя и тяжело дышала. Лицо у нее было такое старое, что уже не способно было выражать какие-либо чувства. И лишь в позе, в наклоне тела, было что-то подобное ожиданию.
Кландух огляделся. Темные углы, стены, с которых осыпалась штукатурка, так что торчала проволока, скрепляющая дранку.
— Сто грамм!
Она налила. Придвинула себе стул и села — поняв, что Кландух так сразу не уйдет. И затем уже не обращала на него внимания — выпьет он или нет. Его водка на стойке, если захочет, пусть берет. Опять у нее начинает болеть голова, а ведь пробило всего шесть часов. Далеко до ночи, ох, насидишься тут, не дождешься.
Кландух отпил и, ставя стопку на окно, заметил:
— Хорошая у тебя водка.
Кмохуля не изменила своей позы. Да Кландуху это было и не важно. Здесь, в тишине, в полумраке ему как-то полегчало. Рядом в комнатушке тикали часы. Они не мешали ему. Стопка на окне блестела, и его радовало, что она не совсем допита. Но вот ход его мыслей прервался, он стал оглядывать углы, посмотрел на корчмаркино лицо, в котором было что-то кротовье и птичье одновременно, и загрустил. «Не ходил бы ты сюда, Кландух. Не переходил бы на другой берег Кисуцы».
Оба молчали. Молчали упорно, опутанные каждый своими мыслями, как веревками. Даже не пошевелились.
Раздался шорох.
Скрипнула скамья.
Это Кландух освободил руку и взял стопку.
— Еще одну! — поставил он ее перед старухой сбоку.
Кмохуля открыла бутылку. Остро запахло водкой. Это спирт, разведенный водой. Половина наполовину, как предписывает закон возчиков. Добрых три года соблюдает старуха этот закон и добрых три года болит у нее голова. Старухе тошно жить, старуха не знает, на что ей жизнь. И рада бы умереть, да не знает как. Лишь говорит себе: «Не настал еще мой час». И успокаивает себя тем, что дни проходят, и с каждым днем она стареет. Дни идут медленно, но все же идут, благодаренье господу и за это… Остро разит водкой. Она невольно замечает это и, пока наливает, думает лишь об этом.
— Ей-богу, хороша у тебя водка. — Он вытер губы.
С чего это Кландух пришел? Случалось, за год он ни разу не показывался. Что его привело? Да еще средь бела дня. В эту пору в корчму не ходят. Прежде ходили, а теперь нет. Не годится, коли уж наступили такие времена.
— Ты не обманываешь, Кмохуля. Весь свет обманывает, а ты — нет. Почему? Я не понимаю, — разговорился он.
— Что мне осталось… — тихо сказала старуха.
Он наклонил голову и размышлял над ее словами, но смысл их постичь не мог. Уловил лишь то, что за ними скрывается какая-то боль. Он посочувствовал ей:
— Твоя правда. Жизнь наша собачья.
Старуха подивилась его мудрым словам, и душа ее смягчилась.
— А тебя что ко мне привело?
— Беда!
— Ты ведь хозяин! У тебя земля, кони…
— Был хозяином. Часов так до десяти еще был хозяином. А лошадей ты мне не вспоминай! Чтоб им провалиться! — Он испугался собственных слов и умолк. И только прислушивался, как его пугает его совесть: «Не смей лошадей проклинать! Не к добру такое!»
— Так, так… — Старуха покачалась на стуле, и в тот миг, когда голова ее приближалась к мужику, а потом отдалялась от него, испуганный Кландух взглянул на корчмарку и напугался еще больше. Почудилось, будто перед ним курица. Клюв… да и шея длинная.
— Так, так, Кландух! А есть у тебя чем заплатить?
— Есть, есть! — выкрикнул он, вскочил и вытащил бумажку.
— Оставь, я только хотела знать. Садись.
Он послушно сел. Он был в таком смятении, что у него не осталось ни капли воли. Корчмарка снова стала старухой. Сходство с курицей исчезло.
— Никто ко мне не ходит. День-деньской одна я. Люди словно стыдятся…
— И впрямь грех это… в нынешние времена, когда все в долине ждут конца, — громко говорит Кландух, признавая свою вину. Глянуть на корчмарку он боится.
— Грех! — скрипит Кмохуля. И мужика словно хлестнуло по лицу мокрым прутом. — Вечерами еще приходят, когда темно. Да и то клянчат, канючат. «Налей, Кмохуля, хоть полстопки! Сжалься! Ведь не век же будет так. Переменится свет, тогда я тебе заплачу». Иной кричит, другой, глядишь, и заплачет, и на колени упадет… — Костлявой рукой она показала на черный пол, — Что мне с ними делать? Ох!..
— Вот как… — И Кландух уставился на этот пол, будто увидел там стоящего на коленях мужика.
— Налить? — Кмохуле захотелось вдохнуть острый, пронизывающий запах водки. Ох, эта голова! Когда только она перестанет болеть?
Кландух без слов протянул ей стопку. Он как раз подумывал, не попросить ли еще. Кмохуля решила за него. Совесть у него была чиста. В мыслях у него прояснилось, а мир на другом берегу словно затянуло туманом. Он не напоминал о себе с прежней силой, его удары становились слабее и слабее.
Кмохуля устремила жадный взгляд на пальцы Кландуха, схватившие стопку. Она не может, не смеет. Лишь потом, когда он уйдет, ночью, когда она уже будет уверена, что никто не придет, не звякнет надтреснуто колокольчик над дверью. Только потом… она затворит дверь, запрет на два замка, да еще задвинет щеколду. Погасит в корчме лампу, а в каморке закроет ставни. Принесет бутылку и сядет на постель… тогда у нее перестанет болеть голова…
— Эх! Эти! А все-таки, Кмохуля, почему ты не обманываешь? Говори! Ведь это… — Он постукивает ногтем по стопке и ухмыляется. Глаза у него блестят, как стеклышки на солнце.
Но Кмохуля продолжает сидеть в той же позе.
— Это, — грозит он пальцем, — это неспроста, — и громко смеется своим мыслям. Хотел рассказать что-то, да тут же позабыл. Таращит от натуги глаза, будто сова, чтобы разглядеть свои мысли, не ухватив их, недовольно повторяет: — Это неспроста.
Тут он резко нагнулся, и в голову бросилась кровь. Он несколько раз шумно выдохнул. В голове вихрем роились мысли, но были они какие-то стертые, изувеченные до неузнаваемости. Одна вышагивала без головы, другая без ног, лишь дергала туловищем, и все они быстро исчезли. Не осталось ничего, и наступила тьма. В этой темноте вдруг сверкнуло:
— А! Я уже знаю. Все знаю. Ты нашла счастье. Потому не обманываешь. Ты нашла счастье. — Он повторял эти слова, указывая пальцем на корчмарку.
Кмохуля сидела неподвижно, но Кландуха это не смущало.
— От меня не надо таиться. Кландух не завистливый, — бил он себя в грудь.
— Ты уже лишку хватил. Болтаешь много.
— И еще выпью. За твое счастье! Эх! — Он облизал губы. — Кмохуля! Человеку, чтобы жить, нужно хоть чуточку счастья. Я это знаю, я это знаю… — Он ощутил голод, но даже не осознал, что день на исходе, а он не ел еще, и тут же забыл про голод. Ведь перед ним был человек, который нашел счастье, и в этот миг не было ничего более важного. — Ты его нашла? Ну, бог с тобой. Я не завидую. Кландух еще никому не завидовал.
— Что ты понимаешь! Ты пьян!
— Я? — Он ударил себя в грудь.
— Не ори! — Она наклонилась на стуле, и Кландух испугался, что она снова обернется курицей. — Знаю я это. Все вы одинаковы.
— Я? Пьяный? — Он схватился за голову.
— Не кричи! — погрозила она, а Кландух следил за ее мелькающим в воздухе пальцем. — Да видал ли ты когда счастье, что болтаешь о нем?
— Я? — Он не понимал. Он думал, что она обвиняет его в чем-то. Но при виде широко разинутого беззубого рта Кмохули его осенило.
— А счастье и видеть можно?
— Можно, можно. Хорошенько слушай старую бабу, Кландух! В лунную ночь оно выходит из берегов, трепещется над водой и светится.
Кландух притаил дух и заморгал, потому что очертания старухи, склоненной над стойкой, что-то раскачало, а потом затрясло.
Кмохуля певуче продолжала:
— И бог установил так, что, кто схватит это счастье, тот сделается счастливым на всю жизнь.
— Ты его того… Ты его схватила? — Он вскочил, но старуха, даже не взглянув на него, продолжала:
— …и его детки будут счастливы, и вся близкая родня. А здесь грешные люди называют его свети-цветом, бог их прости! — перекрестилась она. — Но это смертный грех. Это — свет, но его можно называть и счастьем.
— Счастье! — Кландух был бледен от ужаса.
— Его надо схватить и держать. Потом оно само из рук выскользнет и спрячется в берегах. Так установил это… — Она указала пальцем на черный потолок.
— Бог! — В глазах у Кландуха был страх.
В комнатушке тикали часы, и больше ничего не было слышно.
Наступил вечер.
Кмохуля зажгла лампу.
В корчму никто не заходил. Кмохуля замирала при мысли, что вот-вот мелькнет тень за стеклянными дверями, что задребезжит колокольчик и кто-нибудь войдет. И тогда ей придется наливать, выслушивать…
«Не приходите, люди! Не видите, что ли, измучилась я, устала? Не нужны мне ни ваши деньги, ни ваши слезы. Голова у меня раскалывается. И тебе, Кландух, пора отправляться. Дорога перед тобой длинная, крутая, в гору. Ночь уже. Теперь приходит и мой час». Она повернулась к нему и смотрела на него умоляюще.
Но он лишь бормотал про себя, размахивая рукой, и бог весть чем занят был его затуманенный мозг.
— Шел бы ты домой. Жена тебя ждет.
— Жена? Так ты говоришь, что… — Он махнул рукой и вытащил деньги. Даже не взглянул, сколько она дала сдачи. Сгреб деньги, сунул в карман, а когда открыл дверь, задребезжал колокольчик.
— Ты говоришь, значит, что… — Он махнул рукой и вышел навстречу ночи.
Кмохуля захлопнула входную дверь, закрыла на два замка и задвинула щеколду. Погасив лампу, она схватила со стойки бутылку и в темноте, но при открытых ставнях, приложила ее ко рту. Отпила. Послышалось бульканье.
— Господи, прости! — И она вновь наклонила бутылку.
Если бы кто заглянул в ее каморку, то увидел бы, что она сидит на постели и улыбается.
Кландух заглянуть не мог, хотя и был очень близко. Он еще побродил некоторое время около корчмы, а потом направился прямо к шоссе и уже не сворачивал с него. Время от времени он останавливался и выкрикивал:
— Ах ты, бабища, счастье поймала!.. Видал ее… Надо же!
Но никто ему явственно не ответил. Слышалось какое-то бормотанье, говор, но ответа он не разобрал.
— Дурачье! Что с вами разговаривать-то…
Дорогу он видел хорошо. Что-то освещало ее. Он искал — что же это, вертел головой во все стороны, но ничего не находил.
— Что за черт? — Что-то освещало ему дорогу, и он шел по ней. Наконец ему показалось, что он идет долго, что пора бы отдохнуть.
Он сел. Голова у него то и дело падала на грудь. Он ворчал и поднимал ее, постоянно отгоняя кого-то от себя. Вдруг… его будто позвали домой. Он уперся локтями в колени и закричал:
— Иду! Слышите — иду! — попробовал подняться, и ему стало весело. Он хотел хрустнуть пальцами, но они не слушались. Так он и сидел, сжимая пальцы и размахивая рукой над головой. Потом посмотрел прямо перед собой, а там, господи, господи!.. — Счастье, — прошептал он.
Светит, сверкает и трепещется. Что-то встряхивает его. Оно круглое, ровное, но вдруг сжимается.
— Счастье! — заорал Кландух. Он поднялся и побежал по лугу. Упал. Прошел на четвереньках несколько шагов и страшно закричал. С другой стороны к счастью приближалась Кмохуля, превратившаяся в Курицу.
Он шагнул вперед, и нога его провалилась в пустоту.
И все тело.
Крик заглушила вода.
Глубокая.
Луна вздрагивала и трепетала на больших волнах. Ее покачивало.
Волны заплескались о другой берег, обмывая камни.
Круги разошлись над омутом.
Но вот уже и не слышно плеска на другом берегу. Вода течет себе и течет, а кажется, будто она неподвижна. Гладь воды отливает свинцом.
И луна светит на воде.
Она не качается.
Она круглая и ровная.
Перевод Л. Васильевой.
ТРОЕ НА ЯРМАРКЕ
На мостике через ручей стоит мужик и смотрит на воду. Он невысок, перила моста тоже невысоки, ручей же довольно широкий, а на дне его видны камни: белые и черные, зеленые и в пятнах, а один так совсем красный.
Мужика зовут Матуш.
Так вот, этот самый Матуш разглядывает в воде именно этот красный камень. А так как подобных камней он еще не видал, то сообразил, что это кирпич, который потерял свою форму и стал круглым.
«Как он сюда попал? Кто его бросил?» — размышляет Матуш. Правда, Матуш допускает, что разлившийся ручей мог и сам его принести. Но когда? На это он не сумел бы ответить. Может быть, этой весной, а может — и прошлой. Матуш не знает; так сосредоточенно он никогда еще не вглядывался в ручей, и никогда не обращал внимания, какие там на дне камни. «А все же, — терзается сомнениями Матуш, — не век же этот кирпич лежит в ручье. Жив ли человек, бросивший его в воду? А если жив, то что он поделывает?»
Матуш отвернулся от ручья. Он не удивился своим мыслям, а лишь посмеялся над ними и сам себе сказал, что, мол, еще остается человеку, если нет у него работы и приходится слоняться без дела?
Теперь Матуш смотрит на лес.
На дом.
И снова на ручей, на красный камень.
— Обыкновенный кирпич! — И он сплюнул в сердцах.
Матуш ходит по мостику, осторожно ступая поршнями, но тесаные, свободно уложенные, незакрепленные бревна громыхают и Матуш от этого весело улыбается.
У Матуша большая голова. И поскольку люди ничего не прощают друг другу и готовы порицать человека даже за то, в чем он совсем не виноват, они подсмеиваются над Матушем. Дескать, голова у него, как бадья, и называют его «голованом» или «головастым». Голова-то у Матуша не такая уж большая, голова еще ничего, а вот нижняя челюсть действительно выдвинута вперед, выпячена так, что походит на широкий торчащий кулак. Сам же Матуш невысокого роста, скорее худой, чем толстый, а попросту говоря — тощий, да к тому же с желтым лицом. Это недоедание оставило на нем свой след.
Там, на мостике, он простоял до вечера.
Было уже довольно темно, когда он запряг лошадь в телегу, а жена укрепила плетеный короб. При слабом свете фонаря казалось, что у нее тоже выпячена нижняя челюсть, что она невысокая и с таким же желтым лицом, как и ее Матуш. Как знать? Фонарь — это всего лишь фонарь, к тому ж стекло на нем закопчено.
— Будь осторожнее! — сказала ему жена, и голос у нее оказался красивый — звонкий и чистый.
— Само собой!
Голоса их тоже схожи, но утверждать это наверняка нельзя, потому что в момент, когда он заговорил, лошадь дернула телегу.
— Смотри же, будь осторожнее!
Он ничего не ответил, так как телега въехала на мостик и свободно уложенные бревна сердито и яростно загрохотали. Пожалуй, он и не слышал, что сказала жена.
«Этой ночью луны не будет, взойдет лишь молодой месяц», — вот о чем с большим сожалением подумал он, оставив позади ручей. Потом его обступил лес, тесно прижался к нему с двух сторон. Он даже вздрогнул и посмотрел на небо. Оно было темное, усыпанное звездами — и темное.
Слабовато светит молодой месяц.
«Если уж на то пошло, так он не больно-то и нужен. Так даже лучше, впотьмах», — утешал себя Матуш, причем как раз тогда, когда густые ветки елей закрыли небо, сделав его еще темней, и лошадь шла лишь по памяти, а дорога была совсем незаметна. Лошадь, однако, шла уверенно, даже сам Матуш, который знал здесь каждый уголок, потому что родился в этих местах, не мог бы идти уверенней.
Лес спал. Молчал. И тем громче сетовал воз Матуша. Железные обручи особенно резко лязгали на камнях, дробный перестук колес раздавался так звонко, что его наверняка было слышно по всей округе.
— Да что я, боюсь, что ли? — И Матуш начал громко насвистывать. Но тут же проговорил: — Ведь это грех! — И умолк. — А все же я побаиваюсь. Ха-ха! — И он громко рассмеялся. Но снова в мыслях одернул себя: «Грех!» — и перестал смеяться.
Ему оставалось лишь ехать и терпеливо ждать, пока кончится лес. Лошадь подгонять он не мог — тьма была страшная. Он подул себе на руку, подняв ее к лицу, но не увидел ее.
Трудно сказать, боялся Матуш или нет. Многое еще оставалось запутанным, неясным. Когда он опустил руку и снова взялся ею за вожжи, то сказал себе, что будет ехать потихоньку, ни о чем не думая, и тогда все кончится хорошо.
А лес никак не кончался…
Прошедший день был для Матуша никчемным. Начиная с полудня, он все ждал, пока стемнеет. Зная, что этой ночью ему не придется сомкнуть глаз, он прилег в саду поспать часика два. Не заснул. Он все ждал и не мог дождаться вечера. Солнце стояло еще высоко, когда он вернулся в дом посмотреть, который час. Четыре! Он обругал себя дурнем. Четыре часа, июль, а он ждет, что стемнеет, когда темнеет в восемь или без четверти. Все же он ждал.
И дождался.
В десять ему надо быть в городе, а сейчас от силы четверть девятого, ну, половина. До города восемь километров. Он мог бы выбраться в шесть, в семь и не спеша был бы уже на месте. Но ведь… тогда было светло, еще был день, а Матуш зарекся ехать днем.
— Нет! Я дождусь ночи.
Он ведь знал, что сделал бы сосед, увидев, как он запрягает. Он прибежал бы:
— Матуш! Слышь-ка, Матуш! — Сосед глуховат, поэтому он кричит и все повторяет, желая быть уверенным, что люди его понимают. — Да ты, никак, запрягаешь. Я видел, что ты запрягаешь. Получил работу? Едешь на извоз?
И Матуш не знал бы, что ему отвечать. Глаза соседа смотрели бы на него с упреком. Вот это Матуш знает.
— Тебе повезло! Повезло тебе, — сказал бы сосед и, вдоволь наглядевшись на него, принялся бы рассматривать лошадь, телегу, но больше всего его занимал бы короб.
— Да, чертовски повезло, — раздраженно ответил бы Матуш глуховатому соседу, потому что тот кого хочешь может разозлить своими разговорами.
— Может быть, и чертовски. Этого никто не знает. Короб у тебя большой, я только теперь разглядел. Может, я раньше плохо смотрел или два их у тебя?.. Да, большой короб, большой, здесь ни у кого таких нет. Сколько я знаю, ни у кого.
— С богом!
— С богом, с богом. Ведь повезло же… — Так провожал бы его сосед и дошел бы с ним до самого ручья. Там он остановился бы и долго смотрел ему вслед. Матуш хорошо знает своего соседа.
А когда он, миновав ручей, поехал бы по дороге к лесу, его увидели бы с верхних хуторов и сказали бы:
— Гляньте-ка! Матуш едет с телегой. Небось подрядился.
— К кому же он мог подрядиться?
— Уж не повезет ли он товар на ярмарку? Завтра ведь день святой Анны.
— Святой Анны. Вот оно что!
И тут бы они так забеспокоились, что кто-нибудь приложил бы ладони ко рту и закричал:
— Мату-уш! Э-ге-гей, Мату-уш!
Пришлось бы ему обернуться и крикнуть:
— Что-о-о? — Не мог же он притвориться, будто не слышит. Ведь те, с верхних хуторов, это отлично понимают.
— На ярмарку-у-у едешь?
И что бы он им ответил?
— Еду-у-у! — закричал бы он, и соседи разговорились бы тогда между собой:
— Ты смотри, как повезло дурачине! На ярмарку едет.
— Да он не иначе как в сорочке родился.
— Ничего не скажешь, Матуш есть Матуш. Голова, как бадья, но счастье ему, головану, само в руки прет.
Но Матуш мог бы им ответить и по-другому:
— Нет, не еду-у!
— Не едет. А куда же его несет нелегкая?
— Врет он! Наверняка едет на ярмарку, только не признается.
— Что ты с такого возьмешь. У него голова, как бадья, а ты захотел, чтоб он тебе правду сказал. Такой человек отречется и от собственной матери…
— Но счастье ему, головану, само в руки прет…
Да, Матуш хорошо знает своих соседей. Пока он едет по ночному лесу, они возникают в его воображении, каждый говорит, что и положено ему сказать, и потом исчезает, его место занимает другой, и таким образом все по очереди представляются ему. После всех появляется жена:
— Смотри же, будь осторожнее!
С женой-то Матуш не особенно считался. Конечно, и она относится к числу тех, кто имеет право появляться в его мыслях, только чем она этого добилась, Матуш не знает. Точно так же, как он не знает, кто бросил кирпич в ручей и когда это случилось. Кирпич и жена, гм, ну и ну…
Дальше дорога — сплошная крутизна. Матуш прерывает свои размышления и берет вожжи в обе руки. Место здесь скверное. А зимой — так не приведи бог. Еще надо в гору, потом вниз, а уж затем будет немного полегче для лошади. Матушу пожалеть бы лошадь, да он ее не видит даже. А чего жалеть? На то она и лошадь, чтоб тянула.
— Если б знать, который теперь час. Половина девятого или без четверти? А если уже девять? Опоздаю…
— Смотри же, будь осторожнее!
— Молчи, баба!
«Опоздаю…» Его мысль догорает, как свеча. Фитиль падает в растопившийся воск и угасает. Вокруг пахнет горелым воском. Это растаяла надежда Матуша на то, что он поспеет в город до десяти часов, то есть точно к тому времени, как просил хозяин.
— Ну и пусть опоздаю. Пусть!
А тут еще сдается ему, что лошадь тянет в гору слишком быстро, чего доброго, жилы надорвет. Вот дурная! Матуш натягивает вожжи, но лошадь мотает головой, хомут скрипит, и копыта еще громче стучат на камнях. Он ослабляет вожжи. Лошади, видимо, как и возчику, не по себе в глухом лесу, и она торопится поскорее одолеть эту часть пути. Дороги не видно — кто знает, как лошадь находит и как выбирает верное направление? А может быть, она все же видит? Сам Матуш не видит ничего, и зажги сейчас кто-нибудь лампу, он увидел бы, как Матуш удивленно покачивает своей большой головой.
— Тьфу! — сплюнул он, и это означало, что они перевалили гребень горы и теперь будут спускаться — круто, с задранными к небу оглоблями, и здесь уж не поможет ни бог, ни дьявол, здесь нужно все время крепко держать вожжи, тянуть их на себя, и не отпускать, что бы ни случилось, да полагаться на удивительные глаза лошади, которая видит и тогда, когда сам он не видит ничего, даже пальца перед своим носом.
Он часто ездил этим лесом в город и обратно. Обратно по большей части возвращался ночами. Но сегодня можно было и не ехать в темноте. Он мог отправиться и в шесть и в семь, и тогда это пекло было бы уже позади. Он проехал бы лес засветло, средь бела дня. Об этом Матуш начал рассуждать, когда почувствовал, что от натянутых вожжей немеют руки. Но потом он забыл о них, как забыл обо всем земном, потому что не мог сдержать лошадь, несущуюся вниз по круче так, что Матуш замирал от страха и, ничего не видя, таращил в темноту глаза, в любое мгновенье ожидая страшного толчка или удара, когда все перевернется и он вместе с телегой и лошадью полетит вниз по каменистой круче. Но ничего такого не случилось.
— Тьфу!
Наконец-то выбрались из этого пекла. Здесь уже начиналась дорога, обычная укатанная дорога, и вроде бы она даже белеет в темноте.
В самом деле белеет.
Лошадь идет шагом и вдруг, ни с того ни с сего, когда Матуш и не думает ее понукать, переходит на мелкую рысь. Это такой веселый бег, лошадь наклонит голову, повернет ее, будто прислушиваясь, и бежит в свое удовольствие. Ведь и лошади иногда жизнь доставляет радость, и случается это тоже неожиданно.
— Умная лошадка.
Лес расступался, открывая перед Матушем широкий просвет. Слева виднелись луг и ручей, справа — горные пастбища, поросшие можжевельником. Здесь уже дышится легко, здесь уже можно глядеть и видеть. И вид лугов особенно мил потому, что телега катится по дороге легко, стук колес и топот копыт растворяются в ночи, во всем том, что окружает Матуша, в нем самом. Поэтому он снова вспоминает про лошадь и повторяет:
— Умная лошадка.
Но при этом не осталось, уже не осталось ничего, что минуту назад так радовало Матуша, потому что в душе у него всколыхнулось возмущение: «Такая умная лошадь, а могла ведь покалечиться из-за проклятых соседей! Бежать от них, будто я разбойник какой! Ночью! Сами они разбойники! Все они, и сосед… Вот лошадь!..» В этот момент он думал не о ком-либо из своих соседей, а только о своей лошади, которая продолжала бежать веселой рысцой, видно, радуясь, что вырвалась из объятий глухого леса, где ей было так же неприютно, как и ее хозяину, которому только теперь пришла в голову мысль о том, как несправедлив мир: «А я, дурья башка, мог ведь собраться раньше. Пускай бы себе смотрели. Меня никто не пожалеет, да и мою дуреху никто не пожалеет. Почему же я должен жалеть других?» Дуреха — это жена Матуша; хорошо еще, что он о ней все же вспомнил. Матуш был невидный из себя, но вообще-то мужик добрый. «И пускай бы себе смотрели. Мне-то что! — Воображение его разыгралось. Он уже представлял себя героем, которым восхищаются, о котором говорят и которому завидуют, насколько позволяет человеческая натура. — Пожалуй, им было бы обидно. Они дома сидят, а я поехал на извоз. Конечно, обидно, и я верно сделал, что улизнул в темноте. — Эти мысли томили его, но он отмел их и воскликнул: — Глупости! Все это глупости!»
Лошадь продолжала свой веселый бег, не сбавляя хода. Все было так же, как минуту назад. Вокруг стояла ласковая, приветливая тишина. Но то был обман, потому что все уже было другим. Матуш подумал про себя, что ночи доверять нельзя. Она представлялась ему в виде коварного хищника. Говорят, что лисы бывают такими. Ночь укрыла его от соседей, но не ради помощи, а чтоб подольститься к нему. Потом она поджидала его в глухом лесу, готовая вцепиться ему в глотку. Он чудом спасся, да и то благодаря своей умной лошади. «Бежит себе, я ее даже не подгоняю, она сама знает, что хозяину в десять часов надо быть в городе. А еще говорят, будто лошадь — неразумная тварь».
— Тишина-то какая и красота кругом, — промолвил он, но тут же осекся: нет, меня, мол, не проведешь. Потом он прищурил глаза, оставив узенькие-узенькие щелочки, чтоб получше разглядеть ловушки, которые расставила ночь на его пути. Но быстро понял, что так он сделался слепым и беспомощным. Шире глаза и выше голову! В полумраке проступали очертания предметов, и чтобы отчетливей их видеть, надо было смотреть поверх них, ощупывать глазами все вокруг, чтобы разглядеть подстроенную ловушку; ведь ночь коварна, словно хищный зверь.
Матуш ничего не увидел, но знал, что надо быть терпеливым, бесконечно терпеливым.
Вот прямо на него несется темное колесо. Это крона дерева. Дерево приближалось к нему, как будто подходил человек с огромной головой, закутанной к тому же черным шерстяным платком. Проезжая под этим деревом, он ждал — вот сейчас что-то наклонится над ним и зарычит:
— Это ты, Матуш?
Может, оно и зарычало, может, только собиралось — он уловил лишь шелестящее дыхание, похожее на шорох листвы под затихающим или зарождающимся ветром.
Поворот, а затем гулким грохотом отозвался мостик, в точности такой же, как у Матуша перед домом — со свободно уложенными бревнами. Грохот что-то всколыхнул в его памяти, какая-то мысль мелькнула в голове, но пропала, и Матуш рассердился, так как он знал, что это важно, очень важно в такую коварную ночь. Он даже немного погоревал из-за этого. Ему стало грустно, а потом тоскливо, совсем тоскливо, — ведь вспомни он об этом, глядишь — стало бы легче.
Если бы он шел пешком, если бы шел, как ходят миллионы людей этой ночью и каждую ночь, он остановился бы. Ужаснулся бы и остановился. Но Матуш не шел, не шагал, он ехал и не мог остановиться. Не остановилась и умная лошадь, она бежала, продолжая радоваться жизни, повернув набок голову, словно выжидала, когда же молчаливый хозяин окликнет ее.
Стало быть, Матуш только ужаснулся.
Из сумрака вынырнули кресты.
Три креста. Они стремительно приближались к нему, и Матуш похолодел от страха. Закрыл глаза, — крестов не стало, но вернулась эта мысль… вспомнил! Ну, конечно! Три креста. Когда под ним загромыхал мостик, он еще не мог вспомнить о них, не знал, что поедет к ним. Но только… какое мне дело до этих крестов? Какое? Говорят, здесь убили невесту, жениха и одного дружку, когда они возвращались со свадьбы. Разбойники! Они ограбили их и убили. Другие говорят, будто все это враки, что кресты стоят тут просто так, потому что и крестам надо где-то стоять.
— Но какое же мне дело до них? До этих крестов…
Летит над Матушем небо, по сторонам проносится ночной пейзаж. Матуш уже не задает себе никаких вопросов. Его беспокоит только одно — какое мне дело до этих крестов? Только это, больше ничего. Остальное он уже знает. Что об этом говорить, теперь и так все ясно, что ночь коварна, как хищник, как лиса. Ночь есть ночь, и даже если б она задумала обернуться чем-либо иным, ничего у ней не выйдет, все равно она останется ночью. Темной или лунной, грозовой или снежной. Или же тихой, это все равно. Ночь есть ночь, и все тут. А то было дерево, а вовсе не колесо. И не голова, просто обыкновенное дерево, а деревья не рычат: «Это ты, Матуш?» Чепуха!
— Но лошадка у меня умна! А вот жена — дуреха! — И вдруг уяснил себе еще что-то. — Соседи мне завидуют, а глухой больше всех. — Однако эти истины Матуша не радуют.
— Господи, но при чем все-таки кресты…
— Ох-хо-хо, — Истины не радуют его, и чем глубже он в них проникает, тем огорчительнее становятся они для него. Конечно, ночь тут ни при чем! Теперь Матуш уже знает, что о ночи он и не думал, что с самого начала он размышлял о жизни, а ночь вплелась в его мысли, как вплелось в них и все остальное, что он не очень-то хорошо понимал. Теперь он понял, но какой в этом прок?
— Ах! — На телеге снова что-то происходит. Это в Матуше ожило беспокойство. Из-за тех трех крестов. Ведь надо было на них перекреститься. Сроду он на них не крестился, но сегодня собрался, и — на́ тебе…
— Тьфу! — Это он хотел дать лошади знать, что вспомнил про кресты, но стоило ему сплюнуть, как все исчезло — соседи, и тот глухой, и дуреха жена, и лес, и умная лошадь, да и три креста, которым он не поклонился. Так все кончилось.
В город он поспеет до десяти. Это он проверит по часам на башне. Была бы только она освещена. Матуш попытался передвинуть ногу, чтобы усесться поудобнее, но затекшая нога соскользнула, и, стало быть, не все еще кончилось: у него снова было такое ощущение, что он летит куда-то в пустоту. После этого вылетел из головы и город, и хозяин, который будет ждать его в десять часов. А может ли он радоваться? Нанял его один богатый перекупщик, поговаривают, правда, что он уже не богатый, да кто знает, так ли это? Завтра день святой Анны, и нынче ночью он повезет товар в город на ярмарку. Дуреха радуется, соседи ему завидуют, — еще пока не завидуют, но будут. Они ничего не знают, но уже как будто бы завидуют. А вот он себе не завидует и вовсе не радуется. Он радовался целый день, потому что перекупщик сообщил ему на этот раз поздно, только вчера. Он радовался и перед наступлением вечера, когда стоял на мостике и смотрел в ручей на тот старый кирпич. Ведь и тогда, когда он выбрался с телегой со двора, еще все было хорошо. Но стоило ему въехать на мост, — загромыхали бревна, и тогда… А все эти бревна. Вся штука в этих бревнах, — ведь, когда он проезжал по второму мостику, тоже загромыхало, и он позабыл про кресты и про то, что хотел на них перекреститься. Вся штука в этих бревнах. Сбить их надо, вот только — где найдешь такие гвоздищи? Или неплохо бы прихватить их снизу скобами. А где их взять? Две еще нашлись бы, ну, пожалуй, три, а нужно бы… ну-ка, прикинем. Считал он недолго, и вдруг:
— Тьфу! — Это Матуш понял, сколько их надо — скоб и гвоздей. Получилось огромное число. Тридцать восемь скоб. Но, сплюнув, он и лошади дал понять, что ему все едино, из-за чего он так мучается и не может радоваться — из-за несбитых бревен или из-за чего другого.
Стало быть, лошадь везет Матуша, а Матуш везет в себе истины, которые не радуют его, и среди них самую суровую — что жизнь коварна, как хищник, и даже если она подкинет немного радости, то делает это только для того, чтобы истерзать Матуша. Все эти истины он везет в себе, ему плохо из-за того, что он все это знает. А вот лошади, должно быть, хорошо, она ведь ничего не знает, хоть и умна. Скотина есть скотина, пускай и умная. Она может найти дорогу в темноте, видит — и все тут. Лошадь — безгласная тварь, и прав всякий, кто так говорит. Стань сейчас Матуш лошадью, ему было бы хорошо, и он бы очень это ценил. Но он должен ехать как Матуш, Матушем он и останется и никогда больше не осмелится даже подумать, что хорошо бы стать лошадью, потому как это грех и святотатство. Об этом даже никому нельзя рассказать, особливо жене, уж она бы разнесла это по всем соседям. Это же… ах, да что тут говорить.
А вокруг темнота, а вокруг ни звука, и уж одно это заставляет человека затаиться в себе и только изредка, да и то с опаской, выглядывать из своего мирка, дескать, ага, что это там опять происходит? Так и Матуш.
Нет, не след было браться за это. Не надо было ехать в город и наниматься к богатому перекупщику, чтобы отвезти товар в горы к часовне, где каждый год бывает богомолье и ярмарка. Часовню эту построили потому, что там какой-то бабке явилась дева Мария. Другие поговаривают, что это вранье, что бабка эта тронулась умом, а про деву Марию она наплела с пьяных глаз. Ведь живы еще многие из тех, кто знал эту бабку, и все твердят одно — что она пила и была не в своем уме. Нет, не надо было ехать, он же не подряжался ездить каждый год, а возчиков на Кисуцах и без него хоть отбавляй. Храпел бы сейчас, и, глядишь, приснился бы ему красивый сон, потому что всякий раз, когда он ложится спать голодным, ему снятся красивые сны. Ведь как же так получается, что я еду, а глуховатый сосед и те, с верхних хуторов, остаются, и их лошади днем и ночью стоят в конюшне и видят перед собой лишь темную стену? Сегодня он ушел у соседей из-под носа, ловко улизнул, а вот когда переезжал мостик, бревна загромыхали. Может быть, соседи слыхали, а может, и нет. Если не слыхали, то завтра станут выспрашивать друг у друга:
— Где Матуш?
— Не знаете, где Матуш? Что-то я его сегодня не видал.
Потом они придут к ним домой и обо всем узнают от жены. Мужик завсегда вытянет от бабы все, что ему нужно.
А послезавтра?
Послезавтра они придут уже к нему самому. Когда заявится первый сосед с верхних хуторов, глуховатый будет уже у него. Будет сидеть и слушать. Ничего не будет делать, только сидеть и прислушиваться к разговору. Тот, первый, спросит:
— Ездил?
— Ездил.
— Заплатил он?
— Заплатил кое-что.
— Что? — не поймет глуховатый.
— Я говорю — кое-что. Немного муки и крупы.
— Ну, значит, заплатил. Я кашу люблю, — глуховатый начнет размышлять о каше.
— И стопку поднес?
— Поднес.
— Гм, а народу много было?
— Хватало. Но меньше, чем в прошлом и позапрошлом году.
— Меньше, значит.
— Меньше.
— Год от года все меньше и меньше. А священников сколько было?
— Трое.
— Трое? Каждый год бывает их трое. Я был там позапрошлым летом, и тогда их тоже было трое. С чего бы это? Не знаешь?
— Не знаю. Думаю… наверное, есть такое предписание, чтоб всегда было трое!
— Ну, так… — он оглядит всю комнату медленно и основательно, как бы стремясь все запомнить, — ну, я пойду. С богом! — И он уходит, неторопливо и неохотно. Не хочется ему уходить, он бы еще о чем-нибудь порасспросил, да не знает, о чем.
— Что он сказал?
— С богом.
— Ну, ну. — Глуховатый останется, и будет сидеть рядом с Матушем и ждать, пока не придет второй сосед, тогда он снова будет прислушиваться. Так он высидит до конца, до прихода последнего. Это будет длиться чуть не целый день, потому что соседей девять, с глуховатым — десять, впрочем, он не в счет. Он, конечно, сосед, но и не только сосед, он вроде как брат или наподобие этого, словно бы из их семьи. Потому что послезавтра он ему поможет. Сам того не зная, он послезавтра поможет Матушу. Ничего не говоря, будет сидеть рядом с ним, и когда соседи станут по одному приходить, все будет выглядеть так, как будто они с глуховатым на ярмарке были вместе. Все будут знать, что Матуш был там один и что глуховатый сидит рядом просто так, ведь других дел у него нет, и все же хоть немного это будет выглядеть так, словно оба они были на ярмарке. Матушу легче будет отвечать на вопросы, и он сможет смелее глядеть в глаза приходящим. Без глуховатого ему пришлось бы туго, он, чего доброго, не выдержал бы и послезавтра сбежал бы куда-нибудь, чтобы не видеть, как соседи один за другим спускаются к нему по голому каменистому склону, а потом стоят перед ним и спрашивают о том, что уже наперед знают, знают и то, что он им ответит. Вообще, похоже, что приходят они не за тем, чтобы послушать его, а за чем-то другим.
— За чем же?..
А вокруг темнота, а вокруг ни звука, и можно было бы подумать, что темноту эту, и тишину, и звездное небо, и расплывшийся пейзаж Матуш воспринимает так, как они есть, что все это он вбирает в себя, и все откладывается в нем, а что между видимым им и тем, что в нем откладывается, нет разницы. В таком случае должен был бы отложиться в нем прежде всего лошадиный круп, круп его умной лошади, и занять там самое большое место, потому что его Матуш видит все время и отчетливей всего. А также — белеющая дорога. И чернеющие склоны, и темные колеса, которые несутся на него и оказываются деревьями, посаженными вдоль дороги. И свечи-ели. И еще звезды, в том же порядке, что и на небосклоне. А также серп месяца. Но Матуш не вобрал в себя ничего подобного.
— За чем же они приходят?
— Может, они хотят видеть меня? Мол, пойдем к Матушу и поглядим на человека, которому привалило счастье. Порасспросим его обо всем и послушаем, какой же у счастливого человека голос и отличается ли этот голос от других. Так говорят соседи. Поэтому приходили они к нему в прошлом году, когда он вернулся с ярмарки, придут и послезавтра. А может, они хотят упрекнуть его, мол, зачем он так делает. Раз нам приходится кормиться без святой Анны, значит, и ты должен был прокормиться. Не мучай нас! Или же все будет по-другому, и у него плохие соседи, куда хуже, чем он думает.
— Так-так, — доносится со всех сторон, и вот уже вокруг Матуша и над ним не остается ничего, что не подтверждало бы этой новейшей истины.
— Пошли к Матушу. Помучаем его. Только давайте не все сразу. По одному. Чтобы это подольше тянулось. Ведь чем дольше это продлится, тем лучше. Ты, пожалуй, ступай первым, а я был бы очень рад, если бы меня вы пустили напоследок. Я с удовольствием погляжу, как он, приниженный, сидит на лавке. Так-то оно лучше всего будет. А когда через год снова наступит день святой Анны, он так нас будет бояться, что скажет перекупщику: «Не повезу я ваш товар. Зовите всех, тогда повезу. Со мной вместе нас десятеро. Есть еще один, глуховатый, так чтоб вы и его позвали. Всех нас, значит, одиннадцать. Мы все вам перевезем. А прикажете и заплатите — так мы хоть весь город разнесем и по кусочку развезем. Мы такие. Мы так договорились. Никто, правда, этого не говорил, но все мы чувствуем, что так должно быть. Один за всех и все за одного! Вместе жить, а не будет другого выхода — так вместе и подыхать», — вот как скажет Матуш перекупщику, когда через год наступит день святой Анны. Но чтоб Матуш так сказал, надо его заставить. Помучаем его как следует, и тогда он скажет. Но вполне возможно, что он ему этого не скажет, ему просто не придется говорить, потому как за год все мы передо́хнем и святой Анны не дождется даже Матуш, хоть он и был таким счастливчиком. И, пожалуй, это будет лучше всего. Что скажете на это, мужики?
— Лучше всего!
— Что?
— Я говорю, будет лучше всего, если все мы передо́хнем за год.
В мыслях Матуша глуховатый на это ничего не ответил, не отозвался. Матуш напрягал слух, Матуш хотел знать, что же он скажет, но так и не дождался.
Потом все исчезло. Соседи больше не надоедали Матушу. Они свое сказали и разошлись, и в голове у него стало пусто. И вот он едет один, пристыженно глядя на круп своей умной лошади. Она уже тоже устала от своего веселого бега. Жизнь больше не радовала ее.
— А что, если вернуться? — Матуш оживился: кончится его одиночество, соседи снова появятся в его мыслях, и он с ними еще поговорит.
«Соседи мои милые, я вернулся. Я был уже возле города, но вернулся. Что вы на это скажете? — Они не отвечают. Не выплывают из ночного мрака и не радуются. Не видно их улыбающихся лиц, и не слышно их слов. А ведь они должны были бы появиться и сказать ему спасибо за то, что он решил вернуться. Но Матуш понимает, в чем ошибка: он позвал их слишком тихо, и они его не услышали. И вот он представляет себе, как прикладывает ладони ко рту и кричит. — Соседи мои ми-лые! Я верну-у-лся! Я не поеду на ярмарку-у!» — На миг перед ним мелькнули хуторские дома, но соседей он не разглядел.
На возу ничто не шелохнется, тихо. Ночная природа тоже безмолвна, в ней тоже не заметно никакого движения. Как будто бы Матуш обладал властью над небом и землей и все умертвил, чтобы все окружающее выглядело так, как он представлял себе в мыслях. Однако это сходство — дело случая и ничего более. Просто он едет медленно, умная лошадь плетется еле-еле, темные колеса не мчатся ему навстречу, а долго-долго стоят неподвижно и, словно выждав, неохотно приближаются к нему. Медленно и тоже неохотно приближается и город.
Мостовая! Камень к камню. На мостовой Матуш очнулся и понял, где находится. Лошадь и в темноте нашла город, лошадь умница. И вот Матуш въехал в город, но он ему показался неприятным. Город был такой же темный и пустой, как он сам, и Матуш ничего не мог поделать с этим сходством. Город ничего не знал об этом, знал это только Матуш. И не чувствовал себя от этого счастливее, поскольку это была не та истина, которая могла бы его радовать.
Вот и знакомые ворота.
Во дворе светились три зарешеченных окна. А еще здесь была дверь. Из этой двери вышел человек, и его тень протянулась через весь двор и даже вскарабкалась на стену стоящего напротив дома.
— Это ты, Матуш?
Слова эти Матуш уже слышал, когда ехал в город.
— Это ты, Матуш? — Человек вышел из дверей и слился с темнотой.
— Я.
— Где ты пропадаешь? Я уже четверть часа жду тебя.
— Дорога плохая.
— Дорога плохая, дорога плохая. — Голос становился мягче и глуше, пока не перешел в какую-то хрюкающую воркотню.
Матуш проехал в глубь двора, там развернулся и остановил телегу перед освещенной дверью. От резкого, ничем не смягченного света в сенях у Матуша на глазах выступили слезы, и он прищурился.
— Ты ел?
— Гм… малость. — Матуш снял шляпу и, поклонившись, сказал: — Добрый вечер.
— Здравствуй. Садись и ешь. — По другую сторону стола сидел старик, он поздоровался с Матушем, не взглянув на него. — Я жду тебя, давно жду, уж боялся, что не приедешь. И подумал, — что я тогда буду делать-то? — говорил и говорил он глубоким низким голосом, думая при этом совсем о другом. Словно бы он что-то отгонял словами. При этом он не отрывал взгляда от раскрытой двери, хотя никого не ждал.
Матуш еще не входил в ту дверь и не был в той комнате, да его и не тянет побывать там.
— И тогда вдруг ни с того ни с сего я этому обрадовался. Матуш не приедет, вот и хорошо. Бог внушил ему эту мысль, и он послушался. Он не приедет. Где я теперь найду возчика? Среди ночи! А утром будет уже поздно. Да и на что мне возчик? Не поеду я на ярмарку. Часовня без меня не развалится, а город поживится сплетней. Слыхали, мол, люди, старый Федор не поехал на ярмарку! Столько лет ездил, а теперь сидит дома и чай попивает. Надоело мне все, Матуш, стар я стал, ничего мне не хочется.
Матуш заглатывал кусочки нарезанного сала и с трудом проталкивал в горло наполовину прожеванный хлеб. Слюны ему не хватало, и глаза вылезали из орбит. При последних словах он стал слушать внимательнее, взглянул на лицо торговца, на его правую половину в ожидании, когда тот снова откроет рот. Вот рот открылся, блеснули зубы, высунулся толстый и мокрый язык и застыл на нижней губе. Матуш увидел, что Федор сильно постарел. Стал похож на жабу. Язык вдруг снова спрятался во рту, и Федор опять стал похож на самого себя.
— Ну, сказал я себе, четверть часа еще подожду. Ничего не случится, если подожду. Матуш все равно не приедет, зато совесть моя будет чиста. Потом запру ворота и пойду спать, а в городе станет одной сплетней больше. Так я сидел, ждал и думал, кто же съест это сало? Я-то его не ем, жена тоже. Правда, из него можно приготовить шкварки. Это еще куда ни шло, шкварки есть можно. А потом слышу — во двор въезжает телега, и сразу догадался, что это ты.
— Дорога плохая. Да и темно.
— Ладно, ешь, ешь знай, я тебя ни о чем не спрашиваю.
Матуш ел и не смотрел на Федора. Только когда тот поднялся и вышел в ту дверь, куда Матуш никогда еще не ходил, он взглянул краем глаза на его сгорбленную спину и подумал, что перекупщик постарел, и, пожалуй, правы те, кто говорит, что он уже не такой богач, каким был прежде, — а был он ужасно богат, — и Матушу стало его жаль.
— Вот что я нашел. — Федор вернулся с небольшой бутылкой из-под содовой воды и с рюмкой. — Вчера нашел я ее и тут же сказал себе, что это для Матуша. На! Выпей! — Он налил ему, сел на свое место опять лицом к той двери и застыл с серьезным видом.
— Ваше здоровье, пан Федор!
— Пей на здоровье, пусть тебе пойдет на пользу. Да ты наливай и пей, нам ведь она все равно ни к чему. Я уже не могу, врачи запретили. — Монотонный строй его речи был слегка нарушен, когда он вытянул перед собой руки. Затем руки опустились на колени, и Федор продолжал: — Видишь, какие дела. Что человеку хочется, того нельзя, а остальное не по вкусу. Что, Матуш, — повернулся он к нему лицом, немножко наклонился и доверительно спросил: — Хороша водка?
— Хороша. Ужас какая крепкая, очень хороша.
— Что ж, так и должно быть. Я знал, что крепкая. Это можно угадать по запаху. А ты подливай да пей, нам она все равно ни к чему. — Матуш выпил вторую рюмку и понял, что Федор, видать, совсем плох, раз не может с ним выпить, потому что год назад точно в эту же пору сидели они здесь и пили вместе. Тогда бутылка была такая же — из-под содовой воды, но полная, и Федор обо всем его расспрашивал, а Матуш должен был отвечать. Теперь же его ничто не интересует, говорит он сам с собой и не желает, чтобы кто-нибудь встревал в его рассуждения. Постарел Федор, плохи его дела, но, несмотря на все это, Матуш чувствовал, как по его телу разлилось сладостное удовлетворение, и ему захотелось посидеть так подольше.
— Я думаю, что съездим удачно и…
— Не бойтесь, пан Федор. Доедем.
Но старый Федор недовольно повернулся к нему:
— Ты знай пей да подливай. Я думаю, что съездим удачно и дождя не будет. Но это зависит от бога, все в его власти. Он может послать и дождь, тогда старый Федор промокнет, вымокнет и его товар, — Матуш хотел сказать, что дождя можно не бояться, так как они возьмут с собой брезент, и он все как следует закроет, но ничего не сказал, боясь, что перекупщик прикрикнет на него. — Когда-то для меня это вовсе не имело значения, но теперь я всего опасаюсь. Это приходит как-то само собой. Человек живет себе, ни на что не обращает внимания и вдруг… Тогда ему даже дождь страшен, и непонятно, как это он прежде ничего не боялся. — Старику хочется перенестись мыслями в то светлое прошлое, он прищуривает глаза и морщит лоб. А в полуоткрытом рту опять блестит язык, и если бы Федор не поводил плечом, можно было бы подумать, что перекупщик мертв.
Когда он молчит, то похож на мертвеца, — этим открытием Матушу хотелось бы тотчас поделиться с кем-нибудь, но, к сожалению, перед ним лишь один собеседник, а ему-то и нельзя этого сказать. Эта самая ясная мысль в голове Матуша пугает его, она заставляет пристально приглядываться к старику. Старик почувствовал его взгляд.
— Ты пей знай! Не гляди на меня!
Эти слова задели Матуша. Он допил и больше не глядел на Федора. Старик его обкрадывал, не давал слова сказать, а ему так хотелось рассказать о том, как сегодня вечером он тайком выбрался на телеге в город и никто его не заметил. Старика он не слушал, ему было безразлично, что он там бормочет. Все же по звукам, которые в него просачивались и от которых он не мог защититься, Матуш чувствовал, что старика мучит какой-то смутный страх. Он не жалел его. Его даже радовало, что старик, когда молчит, похож на мертвеца, и что он чего-то боится. А тут еще бутылка опустела, из нее нельзя было выцедить ни капельки. Конечно, Федор не обязан был ее приносить, никто его об этом не просил, но если уж принес, надо было принести полную. Скряга. Дойдя в мыслях до этого места, Матуш поднял глаза, чтобы насладиться видом мертвого старика, но встретил его взгляд и так напугался, что вздрогнул и похолодел. Покорно склонив голову, он подумал, какие у Федора молодые глаза.
— Ну что, допил? Вот и ладно, а то пора уже. — В прошлом году это звучало так: «Ну что, допили? Вот и ладно, а то пора уже», — и Матуш знал, что после этих слов надо вставать. Ему бы не знать! Ведь это уже их восьмая поездка к часовне, и за эти восемь лет Федору ни разу не пришло в голову нанять вместо Матуша другого. Раньше он нанимал и менял возчиков каждый год, потому что они его обкрадывали. Многие из них вовсе и не обкрадывали, но Федор боялся, что они могут обокрасть его или того хуже — ночью зарезать и закопать в чащобе. Он страшно боялся чащоб, в каждой из них он видел свою могилу и чувствовал себя так, словно его уже закопали. А Матуш подвернулся ему неведомо как и избавил от мучительных сомнений, которые он испытывал перед праздником святой Анны.
Как-то он сказал своей жене:
— В глазах у Матуша что-то такое есть, отчего я ему доверяю.
С Матушем он позабыл, что когда-то боялся чащоб, и теперь, с наступлением лета, в один из вечеров брал календарь, листал его и говорил жене:
— Через месяц будет день святой Анны. Поедем на ярмарку.
— С Матушем?
— А то с кем же! Ты еще спрашиваешь.
— Я не спрашиваю, я лишь говорю то, что ты думаешь.
Все это он не принимал всерьез, на жену не сердился и радовался приближающейся ярмарке. А в этом году он взялся листать календарь позже обычного и перевернул только один листок. Он долго молчал, долго смотрел на календарь и потом сказал:
— Через неделю день святой Анны, надо бы нам поехать на ярмарку.
— Да?
Федор ничего не ответил жене и, погруженный в раздумье, еще долго держал в руках календарь.
Они встали из-за стола. Сперва Федор, за ним Матуш. Потом они уже не разговаривали: были заняты работой. За восемь лет они так свыклись, что не делали ни одного лишнего движения, и каждый знал, куда и что надо положить, когда и что принести. Минуту назад еще все зависело от воли Федора, он не обязан был приносить водку, а вместо сала на тарелке мог быть кусок желтого маргарина с черствым хлебом, правда, и тогда бы на тарелке ничего не осталось.
Теперь вдруг сразу все переменилось, и Федор отдал себя в руки Матуша, как благочестивый отдается божьей воле. Матуш поднялся на телегу, выстлал дно и бока досками, чтобы на плохой дороге не потерять ни лоскуточка. Поверх досок положил брезент, потом жердочки и колья, топор и гвозди и тюки, много тюков. Он заполнил ими телегу доверху, далее немного выше грядок.
— Хорошо, хорошо. — Федор ходил вокруг телеги, щупал тюки, нагибался, оглядывал телегу с боков, стал даже на колени, чтобы проверить — как следует ли заложено днище. Жена ходила за ним с фонарем и светила, потому что яркого света из сеней было недостаточно. А он лишь приговаривал:
— Хорошо, хорошо.
Но вот он встал в освещенных дверях, и жена, безмолвная, как дух, оказалась рядом с ним. Для Матуша это было знаком, что уже можно набросить на поклажу брезент и привязать его всеми ремнями к грядкам.
— Хорошо, хорошо. — Федор перекрестил воз и вернулся погасить свет.
— Поехали, с божьей помощью. — Это он перекрестил двор, когда все уже было заперто, и лишь тогда Матуш мог хлестнуть кнутом и крикнуть:
— Но-о!
Выехали за ворота, и Матуш остановился и довольно долго ждал в бездействии и слушал. Закрывали ворота. Они трещали, как раскалываемое полено. Потом Федор запер их огромным ключом. Ключ он носил на поясе, и если бы Матуш не видел ключа своими глазами, никогда не поверил бы, что бывают такие огромные ключи. Закончив все, Федор подошел к Матушу и положил руку ему на плечо:
— Стало быть, пошли. — И Матуш знал, что перед этим Федор перекрестил ворота и еще раз дом.
Стало быть, они пошли. Впереди Матуш, за ним с фонарем в руках жена перекупщика и последним сам Федор. Что-то здесь нарушилось, ведь обычно следом за ним шел с фонарем Федор. Но все это показалось Матушу сложным для понимания, тем более что на сытый желудок мозги его стали ленивыми, клонило в сон, а Матуш любил так вот вздремнуть. На свете нет ничего лучше, чем сытое брюхо; голова ни о чем не болит; о том, что есть у тебя завистники соседи, ты и думать забыл.
Через город прошли спокойно.
Потом Матуш остановился, и все уже знали, что это означает. Жена Федора подала Матушу фонарь, сама же, поставив ногу на оглоблю, взобралась на брезент. Она, как и Матуш, была невысокого роста.
— Хорошо, хорошо. — Федор осторожно ступил на оглоблю. — Темно, посвети-ка. — Матуш поднял фонарь и увидел, что Федор не может решиться. — Свети лучше, тебе говорят. — Федор никогда не говорил таким резким тоном, но Матуш понял его и догадался, что нужно сделать. Он поставил фонарь на землю и подсадил его на воз. Федор чувствовал себя неловко — перед Матушем и перед женой. Еще в прошлом году он легко взбирался на верх воза, будто молодой, и потом донимал обоих: «Видели? Хотите, я еще раз вам покажу? Не хотите?» Теперь он помалкивал и, опомнившись, пояснил: — Тьма страшенная, сроду такой не видал. Расшибешься еще, — и замолк, поняв, что говорит лишнее, к тому же знал, что ему не поверят, что бы он ни говорил.
Они ехали по шоссе. Фонарь, подвешенный сзади к телеге, светил слабо и раскачивался. Умная лошадь тянула воз, а Матуш шагал рядом с ней. Он громко причмокивал, погоняя лошадь, и время от времени дико вскрикивал:
— Н-но! Пошла!
Это было ни к чему, лошадь и так тянула хорошо.
Федор с женой устроились, как могли. Жена свернулась в клубок, положила под голову обе руки и погрузилась в дремоту, которую нарушали дикие вскрики Матуша:
— Н-но! Пошла!
Федор скинул со спины мешок, положил его себе под голову и лег, глядя в небо. Но что-то его томило. Он сел, однако долго не выдержал и снова лег на спину. Затем повернулся на правый бок:
— Матуш!
— Ну!
— Не тяжело ли лошади?
— Да где там!
— Чего ж ты орешь?..
— Да парно что-то, и в сон клонит.
— А-а… — Федор зевнул и сонливо пробормотал: — Если лошади будет тяжело, скажи.
— Скажу.
И потом уже только колеса постукивали по шоссе, да позади телеги мигал свет фонаря. Федора все же томило что-то.
— Матуш!
— Ну!
— Отчего лошади едят овес?
— Овес? Ха-ха! А зачем им есть другое, если и овес хорош?
— Не выкручивайся, коли не знаешь.
— Н-но! Пошла!
— А странное животное лошадь. Ты этого не замечаешь, ведь ты с ней каждый день. Но подумай-ка — она спит стоя.
— Ну и что из этого, так спят все лошади.
— Но почему? Вот что ты мне скажи!
Матуш молчал, не зная, что ответить. На первый взгляд вопросы Федора показались ему смешными, но, поразмыслив, он увидел, что они не так уж просты. В самом деле — почему именно овес и почему лошадь может простоять целую ночь? Федор, должно быть, много думает обо всем. Сам-то он больше всего думает, когда голоден. Как сегодня, когда ехал в город.
— Не знаешь, Матуш. Ничего ты не знаешь о лошадях, — печально заключил Федор и через минуту добавил: — Если лошади будет тяжело, скажи.
— Скажу.
Больше Федор уже ни о чем его не спрашивал. Видно, заснул. А может быть, не спит, и что-то томит его. И про этих лошадей он выдумал только затем, чтобы как-то начать разговор. Не о лошадях речь. У этого Федора постоянно что-то вертится на языке, и причем такое, чего он сам боится. Но про это он не скажет — боязно ему. Волков бояться — в лес не ходить. Хе-хе! Все же лучше всего, когда у тебя брюхо набито. Тогда все нипочем. Хе-хе! Ну и духота, наверное, дождь будет. Немного бы не мешало, для картошки немного бы не мешало. Ох, да я совсем засыпаю — а-а-а!
— Н-но! Пошла!
Но прошло еще немного — и Матуш перестал прогонять сон. Он больше не покрикивал, потому что телега съехала с шоссе на узкую лесную дорогу и здесь можно было подремать на ходу: дорога, не сворачивая, вела прямо к часовне.
Те двое на возу спали.
Доехали благополучно, еще затемно. Матуш подтянул воз поближе к перекрестку, к тому месту, где утром он поставит палатку. Федор всегда говорил, что это место — самое выгодное, потому что всякий пришедший на богомолье и ярмарку должен пройти мимо его палатки. И сколько Матуш помнит, всегда так оно и было. Он распряг лошадь, снял с нее хомут, и хотя он возился возле телеги, те двое не проснулись. Скоро и Матуш улегся под телегой, положив хомут под голову и накрывшись попоной. Недалеко паслась лошадь, и Матуш слышал, как она щиплет траву. Он заснул.
Под эти звуки он и проснулся. Возле уха похрустывало, пофыркивало. Это лошадь паслась рядом с телегой.
Солнце уже взошло над горами, посвежело. Среди елей белела часовня. На большом лугу еще было пусто. Они приехали первыми и ночевали тут одни, такого в другие года не бывало.
— Вставайте, вставайте! — будил он Федора, внимательно вглядываясь в лицо измученного человека. Федор проснулся, поежился от холода, протер глаза, мельком взглянул на Матуша и, осмотревшись, сказал:
— Одни мы ночевали. Никого больше не вижу.
— Одни. Ни души нет.
— Приедут, все еще приедут, — с надеждой произнес Федор, улыбнулся Матушу и разбудил жену: — Вставай!
Они умылись у близкого ручья. Федор умывался долго. Он стоял на камне и все время смотрел в ту сторону, откуда они приехали. Матуш между тем при молчаливой помощи жены перекупщика разгрузил телегу. Потом начал сооружать палатку. Когда он сколачивал вторые деревянные козлы, вернулся Федор:
— Знаешь, Матуш, о чем я думаю?
— НУ?
— Сегодня ли день святой Анны? Не вчера ли это было или же…
— Еще чего! Не сомневайтесь, конечно, сегодня. — Матуш, увлеченный своей работой, не разделял тревоги Федора. Ему нравилось заколачивать гвозди, он любил строгать и тесать, а дома это приходилось делать редко.
— Матуш, а Матуш. — Федор говорил удрученным голосом, и именно это заставило оторваться Матуша от работы. Он выпрямился:
— Хе-хе! Говорите, что вчера… — Он вовремя заметил, что Федору не до шуток. — Мы здесь одни, тут уж ничего не скажешь, но не бойтесь, пан Федор, все при едут. Торговцы приедут, да и народ соберется. Ведь сегодня день святой Анны, три священника будут, как и всегда! Вот раньше, ах… — махнул он рукой и начал обстругивать колья.
Жена Федора переводила взгляд с одного на другого. Сложив руки, как для молитвы, она сидела и не вмешивалась в их разговор. Как Матуш за годы поездок с Федором научился нагружать телегу тюками, ставить палатку и разному другому, так и она за несравненно более длительное время научилась быть женой Федора и выполняла свою роль хорошо. Прежде всего нужно было молчать, молчать во что бы то ни стало и говорить только тогда, когда тебя прямо спрашивают. Обреченная молчать, она научилась смотреть на людей со стороны и замечать даже то, что перед ней не открывали. Все вокруг нее говорили, одни больше, другие меньше, а она в своем безмолвии постигла, что слова — это не только слова, что они не только выражают чувства и страсти, но часто служат одеждой и всем прочим, за чем скрывается человек. И с каждым высказанным словом человек отбрасывает часть одеяния и в конце концов остается перед ней нагим. Это было неприятно и не окупалось той капелькой возбуждения, которое она при этом испытывала. Но это давало ей возможность довольно хорошо исполнять роль жены Федора и чувствовать себя менее несчастной. Поэтому и Федор в узком кругу приятелей, когда речь заходила о женах, мог похвастаться и убежденно заявить, что у него хорошая жена, что она его слушает, что за всю супружескую жизнь он не знал ссор и дрязг. После такого самоуверенного заявления уже дома, поздно ночью, его нередко мучал вопрос — что она собой представляет? И он с беспокойством обнаруживал, что, собственно говоря, не знает ее. Иногда он не видел ее целыми днями, а если она приходила, то как будто бы на его зов, как будто бы она угадывала, что сейчас, именно сейчас тот момент, когда они обязательно должны быть вместе.
Она сидела на тюках, маленькая и замкнутая в себе, сложив руки, как для молитвы. Но она не молилась. Она наблюдала за мужем, стоящим у ручья. Он мог даже не говорить. Он просто стоял и смотрел, но и этого было вполне достаточно. Ей было тягостно и стыдно, что внутренняя жизнь мужа так однообразна, что все его помыслы связаны с деньгами. С деньгами и торговлей. Впрочем, это одно и то же. Тягостно! Тягостно и стыдно! Поэтому она не могла его даже пожалеть. Она знала его слишком хорошо! Она не настолько еще отошла от него, чтобы злорадствовать из-за его неудач в последние месяцы и грядущего банкротства, а также из-за этой глупой затеи — ехать в этом году на ярмарку. Ведь и ей не безразлично, что ждет их завтра, каково им придется в дальнейшем. Она еще не настолько отошла от него. Но она уже была на этом пути и даже не в самом его начале. И если б даже то, что должно случиться завтра, имело осязаемую форму и она видела бы этот призрак грядущего и знала, что этот призрак собирается проглотить его и потом ее или же ее, а потом его, она сидела бы так же неподвижно, сложив руки, как для молитвы, не проронила бы ни слова и покорно ждала.
Но здесь был Матуш. К счастью, здесь был Матуш, он обстругивал колья для деревянных козел. Присмотревшись, она увидела, что он не просто обстругивает, а играет, забавляется, и это ее до того поразило, что она забыла про мужа. Топор в его руках был топориком, или даже чем-то более легким и невесомым — послушной игрушкой, которая рубила, раскалывала, как сама того хотела и как хотел тот, кто легонько держал ее в руках. При этом желания их совпадали, и это было трогательно, это было приятно для глаз и души грустной женщины, к тому же — женщины одинокой. Ей было столько же лет, сколько и Матушу, но еще лет на пятнадцать побольше. И сидела она, как старуха, со сложенными, как у старухи, руками и с лицом пятидесятилетней. Но все это не имело значения, она даже не сознавала этого и вместе с Матушем обстругивала колья, ударяла топориком, а что-то вроде щепок падало к ее маленьким ногам. А еще она забивала гвозди, послюнив сначала каждый из них. При этом три гвоздя она сначала зажимала в губах и потом брала их по одному. Теперь ей хотелось, чтобы работа Матуша длилась долго и чтобы муж еще долго стоял у ручья и не мешал им. А хотела она этого потому, что было это неосуществимо, так как муж уже стронулся с места и шаг за шагом приближался.
— Знаешь, Матуш, о чем я думаю?
— О деньгах, пан Федор, или о том, что с ними связано. Ты ограниченный человек, потому ни о чем другом думать не можешь. А сейчас, насколько я тебя знаю, ты сомневаешься, стоило ли ехать на ярмарку.
— Ну.
— У Матуша нет времени для твоих пустяков. Погляди-ка, какие козлы он смастерил.
— Сегодня ли день святой Анны? Не вчера ли это было или же…
— Ну и ну! С каких это пор ты уже и над собой подсмеиваешься? Научился? До сих пор я думала, что ты принимаешь жизнь только всерьез и ужасно ограниченно.
— Еще чего! Можете не сомневаться, конечно, сегодня.
— Некогда Матушу с тобой болтать. Оставь его в покое, иди-ка лучше к ручью, не приставай к нему.
— Эх, Матуш, Матуш.
— Зачем этот удрученный тон? По-твоему, Матуш глуп? Повторяю тебе, нет времени у него, и я была бы рада, если бы он тебе это доказал. Боже мой, ты никогда ничего не понимаешь.
— Хе-хе! Вчера, говорите, был праздник… Мы здесь одни, это точно, но не бойтесь, пан Федор, приедут, все приедут. Торговцы приедут, народ соберется. Ведь сегодня день святой Анны, три священника будут, как и всегда! Это раньше, ах…
— Ну, что я говорила? Вот тебе лекарство от страха. А теперь оставь Матуша в покое, не приставай к нему. Чего тебе еще надо? Ты всегда был ненасытным, всего тебе казалось мало.
— А если не приедут?..
— Господи…
— Матуш, — тихим голосом проговорил Федор, — стало быть, придут богомольцы, я так думаю. Они должны прийти, да… Но ты скажи мне, принесут ли они с собой деньги? На ярмарку-то ходят с деньгами! Ведь так? — Последние слова он готов был прокричать, но посмотрел на жену, на ее спокойное, безучастное лицо, и не посмел.
— Что ж… пан Федор, сказать вам правду, — нету у народа денег. Не знаю, как в других местах, а в наших точно нету.
Казалось — Федор не слушает Матуша. Он и в самом деле не слушал, ему неважно было, что говорил Матуш, достаточно было слышать его голос.
— Они придут, это и я знаю. Но придут без денег. А это все равно, как если бы они не пришли. Пожалуй, не стоило нам и приезжать, кто его знает. Я хотел сказать тебе это еще вчера, когда мы сидели на складе, и потом, когда ехали. Но не сказал — побоялся. Надеялся, что дела еще не так уж плохи и я своими глупыми словами накличу беду, так я думал. А сегодня я вижу… Не стоит, Матуш, сколачивать вторые козлы. Что ты на это скажешь? Что ты скажешь, если я сейчас встану, подойду к тебе и выложу безо всяких: дорогой мой Матуш, брось ты все, отложи топор. Собери, что можно, на телегу, подбери и щепки, — пригодятся на растопку, — и поехали обратно в город. — Федор так напряженно смотрел на стоявшего на коленях Матуша, что у него заболели глаза. Вдруг Матуш подымется, перестанет забивать гвозди? Это будет дурной знак, но он подчинится ему безропотно. Прикажет сложить все на телегу и вернется в город. Бог послал ему Матуша и свое предзнаменование в лице Матуша, испытывая его, Федора… Проявилась обычная уловка Федора и его необычный страх, и сам он знал, что все это именно так, а не иначе, но не понимал еще, что это начало отчаяния.
Матуш не встал, не распрямился. Он вынул изо рта последний гвоздь и вбил его в кол. Вторые деревянные козлы были готовы. Матуш поставил их, тяжело поднялся с земли и сел на козлы, испытывая их прочность. Его взгляд встретился с глазами жены Федора. Она улыбнулась, как будто сказала: «Хороши козлы». Это его обрадовало. Эта женщина была загадкой для Матуша. Она все время была здесь, но ее будто и не было. Она как дух. И Матуш сторонился ее. В необходимости этого он убеждался каждый год. «Странная она баба, у нее какие-то чудные глаза. И чем-то она похожа на дух», — так думал о ней Матуш, но за улыбку ее был ей благодарен. Он и сам знал, что сделал хорошие козлы, но его радовало, что она отметила это. Она не то, что старый Федор. Тот знай бормочет свое, — хорошо, хорошо, — но это ничего не значит, он говорит свое «хорошо» ни к селу ни к городу.
Федор должен, по-видимому, быть доволен. Дурной знак обернулся добрым, и он начал в него верить. А может, и вправду бог послал ему Матуша и шепнул: «Смотри, Матуш, когда будешь сколачивать вторые козлы, подойдет к тебе Федор, будет тебе говорить то да се, а ты себе сколачивай, потом поставь их и проверь, да не слушай, что тебе при этом будет нашептывать Федор. Это приведет к добру, и Федор это поймет. Тебе-то это понимать не обязательно, а он поймет», — поэтому Федор улыбнулся Матушу и снисходительно проронил:
— Это я просто так. Я ничего не говорю, делай свое дело, ставь палатку.
— Да ведь… я знал, что просто так. Ведь я понимаю шутки, не сомневайтесь.
— Хорошо, хорошо.
«Отвяжись от меня, старый дурень», — подумал Матуш и стал вбивать козлы в землю.
— Матуш!
— Что?
Жена Федора встала и отвернулась, чтобы скрыть от них свою улыбку.
— Если бы мы теперь вернулись в город, разве это не был бы грех, а? Ведь уже народ съезжается. Ты видишь?
— И то правда!
— Это был бы большой грех, Матуш, большущий грех.
— А мне что, так и быть, поехали обратно, черт побери!
— Нельзя! Нельзя, Матуш.
— Да я к тому, что вы все вокруг да около. То так, то эдак, где уж тут вас понять! А вы все «Матуш» да «Матуш»! И спрашиваете невесть о чем. Что я, пророк, что ли? Потом еще скажете, что я вас уговорил вернуться домой! Но если хотите, то, ей-богу, сейчас же запрягу, и помчались. Мне все едино.
— Не о том речь. Ты делай свое дело, делай.
— Ну вот! А я разве не делаю? Меня не надо понукать.
— Хорошо, хорошо.
Горы здесь были невысокие, темные, они со всех сторон тесным кольцом окружали поляну. Поляну пересекала лесная дорога, которая неподалеку от палатки Федора разветвлялась на три проселочные дороги, проложенные для своего удобства кисуцкими возчиками. Одна из них сворачивала к часовне, но вела еще дальше, к границе. Две другие некоторое время бежали рядом, но потом, наскучив друг другу, расходились в разные стороны. Потом обе они пропадали из виду, закрытые лесом. Здесь не было никакого жилья, а белевшая среди елей на северном склоне постройка была часовней. Кисуцкие избы не бывают такими белыми.
По той ровной дороге катила телега, рядом с ней шагали двое мужчин. Федор их не узнал. Но, увидев, что один из них с палкой, он закричал:
— Пятак! Пятак едет!
Матуш выругался, потому что мужик с палкой был вовсе не Пятак, это Федор его так прозвал. В другое время он не обратил бы на это никакого внимания, но сейчас он ничего не мог простить Федору. Жена Федора услышала, как Матуш выругался, и, словно все поняв, снова усмехнулась.
Только теперь начиналась для Федора ярмарка. Ведь ничего не значило, что он приехал к часовне, что Матуш сооружал палатку, все это еще ничего не значило. Подъезжал Пятак! Мог подъезжать и не он, это мог быть кто угодно, и не обязательно торговец. Это могла быть и группа празднично одетых женщин в белых платках — этого было бы ему достаточно. Бог пожелал послать ему на глаза первым Пятака с палкой. В таком случае он его охотно поприветствует, хотя они и не слишком любят друг друга. Но бог простит его за это, ведь он лучше всех знает, что между торговцами иначе и быть не может.
Федор вдруг обо всем забыл — о тюках с тканями, о безмолвной жене и хлопочущем Матуше, забыл и о приближающемся Пятаке — и энергичным шагом направился в ельник, где белела часовня. Это был уже другой Федор, Федор более молодой, а не тот с вывалившимся из полуоткрытого рта языком. Ярмарка началась, и это была его стихия, в которой он мог по-настоящему развернуться. В этой стихии он проявлял себя, как его жена — в сидении со сложенными для молитвы руками.
Все же ему следовало бы идти помедленнее, потому что гора была довольно крутая и наверху у него закружилась голова. Но он уже стоял перед часовней и глядел на нее. Он опустился на колени и тут заметил старушку, тоже на коленях и с четками в руках, которая приветливо смотрела на него. Она понимающе и одобрительно кивнула головой, мол, так и подобает — стать перед богом на колени, это правильно, и она делает это во славу господа бога и ради спасения своей грешной души.
Тогда кивнул головой и застигнутый врасплох Федор. Но, еще соблюдая необходимое спокойствие, он перекрестился, искоса и враждебно взглянул на бабку и начал молиться:
— «Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя твое, да приидет царствие твое…» Что-то я этой старой бабы не знаю… а видишь и ты, пресвятая дева Мария, какие плохие люди бывают, они поцарапали камнями твою часовенку, вон там на стене — след от ножика, и никто не стер его… в прошлом году этого не было, а вон то было и в прошлом году, ведь я приезжаю сюда каждый год и вижу все, и теперь я здесь, и ты меня должна видеть, а я уже видел Пятака с палкой, это тот, который продает сласти и ужасно обворовывает людей, но больше всего детей, так вот, он уже едет, к тому же с полным возом и снова собирается обворовывать и грешить, вот увидишь, пресвятая дева Мария, а еще увидишь, что он поставит палатку перед моей и будет делать это на моих глазах, потому что он уже не может отличить смертный грех от обычного и хочет, чтобы я разозлился и говорил непотребные слова, когда увижу, что люди идут к его палатке, а не к моей, но я непотребных слов, какие говорит он, не скажу, а люди все равно будут ходить к его палатке, потому что не знают, что он обворовывает, но знают, что он продает за пятак сласти, а я ни ситец, ни материю на платки за пятак продавать не могу, да и на перины никому не могу продавать за пятак, а он может так продавать конфеты, а ведь он вор, и людям никакой пользы нет от этих конфет, люди их пососут, погрызут, зубы себе попортят, и ничего от конфеты не останется, и через минуту они забудут, что во рту было что-то, они ведь этим не насытятся и не оденутся, а деньги оставят у него, а ты ведь уже знаешь, какой это подлый вор, и что я продаю только полезные вещи и ты, может быть, еще не видела такого товара, какой я привез на телеге Матуша, — это тот, глуповатый с широким подбородком, — на его телеге я привез невероятно дешевый товар, но я боюсь, что не продам его, потому что в последние годы у людей что-то перевелись деньги, а тебе я даже могу и не говорить, что у меня их тоже нет, такое время пришло, в газетах это называют кризисом, из-за этого кризиса и у меня нет денег, остался только товар, а никто его не хочет покупать, хотя я и отдаю за полцены и почти ничего не зарабатываю на метре, это меня скоро разорит вконец, и если дела не поправятся, то я уж не знаю, что и делать, потому что больше не выдержу, и каждый вечер молюсь, чтобы эта ярмарка спасла меня, и я смог бы продать немного товара, только ты должна бы мне в этом помочь, ведь у тебя доброе сердце, а я тебя потом за все отблагодарю… — Он таращил глаза и какое-то мгновение не понимал, где находится, и только поглядев на старушку с четками, он опомнился. Федор снова перекрестился и медленно и внимательно, чтобы его ничто не сбило, начал отчетливо произносить слово за словом: — «Отче наш, иже еси на небеси, да святится…» — А когда прочитал и молитву «Богородица, дева, радуйся», перекрестился, низко поклонился и оставил у часовни старушку с четками.
Между тем ярмарка началась хорошо, и это мог видеть каждый. Пятак был уже у перекрестка, но не в нем дело. Подъезжали другие возы, и радостное пение раздавалось в лесу, который еще скрывал едущих. Туман рассеялся, и показалось солнце.
Воз Пятака остановился перед палаткой Федора, на противоположной стороне проселочной дороги, и там начали выгружать товар.
— Прямо передо мной… — проворчал Федор, сделав вид, что его интересует только собственная палатка. Она уже была готова. Матуш натягивал на нее брезент, а жена Федора раскладывала на широком деревянном прилавке ситец, бумазею, холсты, материю на рубашки и разное другое, без чего люди не могут обойтись. Увидев свой товар, Федор почувствовал себя уверенней и, подойдя к палатке с одного боку, сказал:
— Хорошо, хорошо, — а подойдя с другого боку, повторил то же самое, и каждый раз слово это звучало торжественно. Теперь пришло время и для Пятака.
— А-а… привет!
— А-а… и тебе привет!
— Я тебя и не заметил.
— И я тебя.
И оба знали, что врут.
— Я ходил к часовне, помолиться. О боге я не забываю.
— Я тоже пойду.
Оба понимали, что больше говорить не о чем. Они могли бы сказать друг другу еще очень многое, но знали, что независимо от сказанного, это прозвучит как оскорбление собеседника. Все же Пятак не удержался, торопясь использовать те несколько минут, что они могли быть еще в одиночестве:
— Палатка у тебя уже готова, это хорошо. Видно, ты приехал рано, или же… или же ты ночевал здесь?
Стоило подумать, как ответить этому бессовестному жулику на его насмешку. Хорошо еще, что Федор упомянул его и оговорил перед девой Марией. Действительно, переночевали они в одиночестве, и это тоже злило. Когда-то всем приходилось ночевать и драться за хорошее место для палатки, — утром торговцы уже не приезжали. А в этом году? Не будь здесь Матуша, он бы не сознался, что ночевал. Но Пятак наверняка уже разговаривал с Матушем, а если не разговаривал, то за день еще сто раз сможет поговорить. Ну и негодяй этот Пятак! И как это его бог терпит, как его земля носит! Да еще с палкой!
— На свете только тогда будет хорошо, когда каждый будет смотреть в… ну, в это. — Он забыл, куда же надо смотреть, а ведь так хорошо придумал!
Пятак расхохотался и больше не приставал.
Разозленный Федор повернулся к своей палатке и заорал на жену:
— А это еще что?
— Хомут! — разъяснил вместо нее Матуш. — Куда же мне его повесить? Не то украдут еще.
— Я хомуты не продаю! И конфеты да сосульки от кашля и прочую грошовую ерунду тоже не продаю!
— Ха-ха! — Пятак снова расхохотался.
— И детей не обираю! От этих конфет никакого проку нет, только зубы портятся. И я не вор, как некоторые другие.
— Ха-ха, люди божьи, помогите! Ну и ну, Федор говорит, что не ворует. Ну и ну, я сейчас лопну! — кричал Пятак, утирая лицо. — Herrgott[65], аллилуйя, вот так песенка! Дескать, Федор не ворует! Ну и песенка, ха-ха…
Их разъединили возы и проходящие люди — торговцы и богомольцы. И через некоторое время все выглядело так, как будто целый свет захотел собраться в этой сжатой горами долине, где не было человеческого жилья. Федору оставалось только глядеть и радоваться, что народу так много, что все поневоле должны проходить перед его палаткой, а уж если они проходят, то захотят остановиться, пощупать материал, каждый кусок отдельно, и только потом пойдут, куда им нужно. Нет, так не годится, нельзя господа гневить. Еще ведь не кончилась обедня, возможно, еще и не началась, потому что пения из ельника не слышно, оттуда доносится лишь приглушенный гул, какой издает рой рассерженных пчел.
В ельнике начали петь.
Обедни здесь длились долго, они сопровождались пением, и Федор еще вдоволь насмотрится на своего противника, который позволяет себе не повиноваться божьим законам. Как будто он не такой, как другие, и это тоже несправедливо. Дети есть дети, вырвутся от матери, где бы она ни была, и бегут прямо к Пятаку или к такому, как Пятак, и протягивают монетку:
— Дайте мне на все, — и, получив конфеты, убегают искать в толпе мать. И, таким образом, у Пятака или такого, как он, прибавляется медных пятаков и во время обедни. В жестяной банке, куда он их складывает, редко блеснет монета покрупней. Но торговля идет, хотя и плохо, идет, а так как Федор знает, что из геллеров складываются кроны, а из них тысячи, то он завидует, но ничего не может поделать.
Между палатками слоняются мужики, но Федор их знает — нет нужды их подкарауливать. Они, если и подойдут, то сонливо смотрят на товар, будто по чьему-то приказанию, и, наглядевшись, уходят довольные, что смотреть больше не на что. А самые нетерпеливые выглядят наиболее сонными и посматривают на палатку с водкой, где все уже приготовлено и, значит, можно было бы распрекрасно начать, да только нельзя, и это большое свинство.
Обедни здесь длятся долго.
Раз уж смотреть тут больше не на что, кроме как на ту палатку с водкой, а туда все равно пока нельзя, то самые сонные заходят в ельник и подтягивают поющим женщинам.
Жене Федора тоже нечего делать, и она испытывает большое искушение уйти, оставив товар без присмотра. И она сдается, в уверенности, что вырвала для себя свободный часок. Сначала она подумала, что будет молиться. Но мысль ее, холодно трезвая, почти болезненно опустошенная, отвлекалась, замечая все происходящее вокруг, отбирая, додумывая, и отбрасывала вещи малозначительные, но уже ничто не радовало ее. Пожалуй, лучше уединиться, забраться поглубже в лес и там немного поваляться на земле, тем более, что после такой ночи она вся словно побитая. Так она и сделала. Растянулась на обсохшей уже траве и стала глядеть, как гоняются одна за другой две бабочки, думая при этом, что интересно было бы нарисовать линию полета бабочки. Потом бабочки исчезли, и не на что было смотреть. Время ее было отмерено, поэтому она прислушивалась к доносящемуся со стороны часовни пению, чтоб по нему определить, сколько ей еще осталось. Пение было слышно хорошо, оно звучало красиво, торжественно, доносилось до нее мерными волнами и так ее захватило, что она сама начала подпевать.
Мелодия была уже неуловимой. Нежные голоса обрамляли песню, но внутри она кипела и клокотала по-своему, звучала гневно, в ней чувствовалось бунтарство и нетерпение, звуки ее должны были преследовать бога и наступать ему на пятки. У бога, наверное, есть пятки, раз он ходит, только сейчас он не ходит, ему приходится убегать, а песня все равно настигает его, и они гоняются под синим небом, как те две бабочки минуту назад.
Она села и прислушалась.
Песня показалась ей оскорбительной, а потому и устрашающей, она уже не могла ее слушать, — бог еще подумал бы, что и она его в чем-то упрекает, а это уже смертный грех.
Она бросилась бежать.
Обежала часовню, но деваться ей было некуда, и она спустилась вниз, к палаткам, и остановилась возле мужа.
— Ты где так долго пропадаешь?
— Слышишь, как поют?
— У, баба! — замахнулся он на нее, но не ударил, потому что это было на виду у Пятака, потом судачили бы по всей округе. Жена ушла, забралась на телегу Матуша и просидела там до конца обедни, дрожа от непонятного ей страха.
Наконец из ельника повалил народ, и громкий говор разнесся по долине.
— Эй, Феро! Черт возьми, ты ли это? Как живется?
— Скверно. Как последней собаке!
— Ничего не слышно.
— Не спрашивай. А ну расступись, народ, не то изругаю!
— Агнеша!
— Паулина! Паулина! Смотри, девка, не потеряйся!
— Дайте старухе пройти, безбожники!
— А я уж домой пойду. Что мне тут…
— Ступай!
Федор, приготовившись, ждал. От возбуждения лицо его помолодело. Свободного пространства перед его палаткой становилось меньше, женщины подходили все смелее.
— Не бойтесь, я не кусаюсь.
— Хи-хи, — засмеялась девка.
— Да, уж ты укусишь! Так же, как я. — Ее мать подошла к прилавку и с недоверием положила руку на кусок ситца.
— Сколько просишь за метр? — Все женщины посмотрели на нее, а когда она задала вопрос, все перевели взгляд на Федора.
— Шесть!
— Вы слыхали! Шесть? Меня не обманешь, я тебя знаю. Ты приезжаешь каждый год. Сколько просишь?
Федор хорошо знает этот тип женщин. Он развернул материал, расстелил его перед собой и начал его слегка подергивать:
— Мамаша! Вы только послушайте хорошенько! Этот ситец поет!
— Хи-хи!
И не успела она опомниться, как Федор уже сунул ей материал в руки, обхватил ее ладони, и они вместе начали натягивать ситец, и Федор каждый раз приговаривал:
— Видала, мамаша? Поет. — И они снова дергали, потом мамаша дергала одна, и ей это понравилось.
Дочь хихикала:
— Хи-хи!
— Мамаша! Такого ситца вы нигде не достанете. За это я вам ручаюсь. Его руки и пальцы засновали по сверткам и отрезам, как муравьи: — А вот этот посмотрите! На крону дешевле и тоже поет. Он, конечно, потоньше, ведь пять крон — это не шесть. Ну, а ты чего боишься? Такая молодая, а боишься. Я в твои годы ничего не боялся, только господа бога, — говорил он другой женщине, подсовывая ей целый кусок. Та сначала стеснялась, но потом взяла и стала щупать материал. Остальные женщины наклонялись к ней и тоже щупали. А над склонившимися женскими головами рокотал уверенный, низкий голос:
— За свой товар мне не перед кем стыдиться. Если бы все на свете было таким хорошим, как мой товар, народу жилось бы лучше. К сожалению, это не так, и в этом все дело.
— Это верно.
— Пожалуй, подойдет, — сказала баба, державшая в руках ситец.
— Вам было бы хорошо, и мне неплохо, и жили бы мы в любви и согласии.
— Не лебези, старый! Сколько просишь? — смело прервала его баба с «поющим» ситцем.
— А сколько возьмете?
— Три метра.
Долго еще бабы будут об этом вспоминать. Федор выхватил откуда-то деревянный метр, и потом уже ничего нельзя было разглядеть. Мелькал ситец, мелькали руки, как тонкий змеиный хвост мелькал метр, и над всем этим торжествовала улыбка на помолодевшем лице Федора.
— Ты ж обманул меня, жулик! Смеряй еще раз! Думаешь, я не знаю твои штучки? — запищала тетка.
— А как же, не обманешь — не продашь.
— Еще и признается, дьявол, — прошипел кто-то.
— Вот вам метр, вот ситец, меряйте сами. Вы просили три метра, а тут три и еще двадцать сантиметров лишку, — выпрямился Федор.
— Подержи. — Мать дала дочери ситец и начала мерять.
— Три и двадцать. А ведь правду говорит.
— Ах!
— Если бы вас каждый так обманывал, мамаша, то вы бы за год разбогатели, как Ротшильд.
— Хи-хи!
Она вытащила узелок, отсчитала восемнадцать монет и положила на прилавок.
— Спасибо. С богом, мамаша!
— Благослови тебя господь. — И они стали пробираться сквозь толпу, о чем-то при этом шушукаясь.
— Выбирайте, выбирайте, бабоньки, я свой товар не прячу, его каждый может посмотреть. Вот этот стоит шесть крон, этот пять, а здесь у меня бумазея. Есть материал и на мужские рубашки, и на подштанники. Что? Что вы сказали? Да, конечно, ежели мужик послушный, значит, заслужил, чтоб жена ему купила на рубашку. Хорошая жена купит… — Федор говорит, а пальцы к руки его так и снуют по всему прилавку, как муравьи. Вся палатка заполнена им, и его жена, прижавшись к стене, предлагает покупателям тик и говорит громче обычного, но при этом больше всего боится, что мешает мужу, что ему здесь мало места.
Над ее головой висит хомут и упряжь.
Перед палаткой с водкой стоят пятеро мужиков. Матуш их не знает. Да если бы и знал, что с того толку? В день святой Анны деньги не одалживают. Федор накормил его утром салом, но выпить не дал. Прошлый год была и выпивка. Когда он поставил палатку, Федор посмотрел с одной стороны, сказал:
— Хорошо, хорошо. — Потом посмотрел с другой, сказал то же самое и добавил: — Выпьем ради праздничка. И они выпили, и хорошо потом было Матушу бродить между палаток. А так, без выпивки, плохо, и вообще не хочется ходить, ничто тебя не радует. Те пятеро уже ушли, и корчмарь сидит один. После обедни работы у него хватало. Матуш видел. Мужики набежали к нему и свое выпили. Стопку, от силы — две. Ему тоже не больше надо. Должно и им хватить — добавить-то все равно не по карману, но им, видать, маловато. Они отступили немного от палатки, молчат и посматривают оттуда злыми глазами.
— Тут что-то будет. — Матуш отошел в сторону и, как обычно, отправился потолкаться. Палаток было меньше, чем в прошлом году, а с позапрошлым годом и сравнивать нечего. А торговцы раскраснелись и охрипли больше обычного, — Выходит, в этом году солнце сильней печет, а не должно бы. Зря только жажду нагоняет. — Матуш слонялся с таким же сонным видом, как и прочие мужики, и — не беспокойся он за лошадь — охотнее всего завалился бы на телегу и заснул.
— Предсказываю судьбу! Морская свинка вытянет вам жребий, и вы узнаете свою судьбу. — Кто-то подергал его за рукав, когда он стоял, бессмысленно задрав голову к небу. Старуха держала на коленях рыжеватую морскую свинку и дернула Матуша за рукав. Матуш отпрянул от старухи…
— Предсказываю судьбу, — раздавалось за ним, но он не обернулся. У него сильно колотилось сердце. И не оставляло неприятное ощущение, а он даже не понимал, от чего. Тогда он разозлился.
— …добавляю к этому ореховый, смотрите, и все это за крону. За одну крону, господа… — У этого торговца не было даже палатки; он стоял на телеге — расхристанный, рубаха навыпуск, рукава незакатаны, — как будто только что вскочил с постели. Он поднимал над головой стеклянную миску и поворачивался во все стороны, а люди смотрели вверх, на красиво сверкающую миску. — Кому продам, тому продам, всего за крону лучший шоколад «Орион», какого не найдете даже в Праге. Покупайте шоколад «Орион», всего за одну крону. — Торговец был красный, охрипший и осовелый, как и стоявшие внизу. Он поставил миску с шоколадом к ногам, вытащил платок, вытер себе лицо, шею и грудь. Задрав подол пропотевшей рубахи, он начал ею обмахиваться.
— Ишь ты, охлаждается, — пробормотал один, а остальные стояли и смотрели.
Тут случилась занятная вещь. Торговец улыбнулся.
— Ну и жарища, правда? — сказал он обыкновенным голосом, и все удивились, так как думали, что он может только кричать и только об «Орионе».
— Он такой же человек, как и мы.
Стеклянная миска снова засверкала. Он поднял ее над головой, но уже пустую.
— Вы видите пустую миску, господа, совсем пустую, но я наполню ее самым лучшим в мире шоколадом, шоколадом «Орион», и все это будет стоить только одну крону. — Он поклонился. — Миндальный «Орион», миндальный шоколад, изготовлен из орешков, которые растут в странах, где есть море и где живут совершенно черные люди, такие черные, что если бы вы встретили их ночью, то не разглядели бы ни одного. — Он поклонился. — Кофейный «Орион», кофейный шоколад… — Мужики тупо смотрели прямо перед собой и не обращали внимания на миску. Хриплый голос ударял им в уши, а сверху мир освещало солнце. Оно не обжигало траву, которая оставалась зеленой. Не зажгло лес, он остался таким же темным. Сверкала стеклянная миска, искрилась, но не загоралась пламенем. А тот, на телеге, все подкладывал в сверкающую миску «Орион», на «Орион» — еще «Орион», «Орион», «Орион». Подкладывал он непрерывно и без устали, и потому, должно быть, устал. И, должно быть, он боялся того же, что и старый Федор, потому что, высыпав все в коробку, лежавшую возле ног, снова поднял над головой пустую миску.
— Вы видите пустую миску, господа, совсем пустую, но я наполню ее самым лучшим в мире шоколадом… — А мужики смотрели прямо перед собой так же тупо, как Матуш, и не знали, чего они ждут. А тот, на телеге, не знал, зачем он кричит.
Миска поворачивается. Миска сверкает, потому что она из стекла, а на мир с высоты светит солнце. А светит потому, что сегодня день святой Анны.
Светит на «Орион».
Солнце высоко, и это чувствуют все.
И поэтому миска уже не взлетает так высоко, как взлетала утром.
Уже одиннадцать, и в палатке духота.
Вот и миска так высоко уже не взлетает.
Это знают только стоящие возле телеги, а среди них найдется и такой, который увидит, что она вообще не поднимается и уже не сверкает, и тогда это будет выглядеть так, как будто бы она не из стекла, а из чего-то другого, чему, быть может, сверкать не положено и что сверкать не может. Кто знает? Кто знает, что будет с этой миской? Даже она не знает этого.
— Ох-хо-хо, ну и праздник… — вздохнул Матуш и отошел.
Матуш разглядывает долину. Зачем? Какое ему до нее дело? Что он с этого будет иметь? Расходятся с богомолья женщины. Они во всем черном, а на головах у них белые платки. Они уходят, дороги запружены ими. Плохо было бы сейчас ехать на телеге, плохо. Неужели это все? Это все. Лошадь! Есть еще лошадь.
Лошадь стоит возле телеги. Умная лошадь. Потому что привязана? Ну и что? Она могла отвязаться, перегрызть веревку большими желтыми зубами и ускакать. Но она стоит возле телеги. Умная лошадь. А что, если она и не умна вовсе, а просто ты себе это внушил, Матуш? Куда бы она убежала? В лес? Лошадь в лес не побежит. Что ей там делать? И домой бы не убежала. А ну ж побежала б? Прибеги она домой, моя дуреха ошалела бы от страха. Ошалела бы? Лошадь дома, а хозяин у черта в пекле. Хе-хе! Дуреха подумала бы о трех крестах у дороги и еще подумала бы о четвертом, который придется поставить. Мужа, мол, убили разбойники, а лошадь ускакала. Бедняга! Хоть ты ко мне вернулась, бедняжка! Моя ты дорогая, моя вороная… Черт побери эту бабу! Вот они какие, лошадь для них важнее. Смотри, получишь у меня!
— Предсказываю судьбу!
Он вздрогнул от испуга.
— Чертова баба! Получишь…
Кричавшая женщина была такая старая и печальная… Нет, это не его жена. Она держала на коленях рыжеватую морскую свинку, а у жены нет морских свинок. В прошлом году был у них белый кот, да и того кто-то убил.
— О-хо-хо, ну и праздник!
— Мятных конфеток мне захотелось, мужики, прохладненьких! Пойдем, купим, — завопил вдруг высокий горец, а мужики смеялись и подзадоривали его:
— Иди, иди!
И он разгребал перед собой людей, как воду, и, бесцеремонно пробивая дорогу, выкрикивал:
— Таких твердых, прохладненьких! Пойду куплю. — Он толкнул и Матуша, которого занесло в это время к палатке Пятака. — Есть мятные? Такие твердые. А ну, показывай! — кричал он Пятаку, а сам пошатывался, словно пьяный.
Пятак показал на коробку.
— Это? — Парень не верил и о чем-то раздумывал. — Тихо! Почем они?
— Тридцать штук на крону.
— Гм, тридцать на крону. Крона одна, конфет тридцать, не так уж много. Конфет не больно много. Он сгреб всю коробку, повернулся спиной к Пятаку, взял одну конфетку и разгрыз, — Они самые, ей-богу, они! Холодят, твердые. — Он взял вторую, разгрыз, задумался и сделал вид, что смотрит на небо. Конфету выплюнул, поднял коробку над головой и закричал: — Эй, бабоньки! Вот вам, получайте, лопайте! Усладите себе жизнь, и так… ей цена… — Он разбросал конфеты и обернулся к торговцу: — Что ты мне сделаешь, ну? Что мне сделаешь? Ну, сделай мне что-нибудь.
— Ой-ой-ой, — испуганно ойкали бабы и подбирали конфеты.
— Го-го-го! — смеялись мужики со злыми глазами, но ни один из них не наклонился за конфетой.
— Хе-хе! — Матушу это понравилось.
Сверху светило на людей солнце, а миска из стекла уже не сверкала. Она лежала возле ног сидевшего на телеге торговца, который совсем уже осовел, чем-то стал похож на старуху с рыжей морской свинкой. Он выглядел старым и печальным.
— Ты Федор! Ведь это ты, Федор?! — Пространство перед палаткой Федора опустело. Там остался только тот, кто спрашивал. Он стоял, широко расставив ноги, и указывал на перекупщика пальцем.
Взвизгнула какая-то баба, и наступила тишина.
— Я-я? — Федор приложил руку к сердцу и попытался улыбнуться. А глазами высматривал, искал Матуша, но наверняка не нашел его, потому что задержал взгляд на жене, с трудом от нее оторвался и повернулся к стоящему перед ним горцу.
Жена Федора оцепенела. Голова ее сохраняла ясность, а тело охватывал тот самый безотчетный страх, который она пережила, сидя на телеге Матуша, и когда пели во время обедни. Ее мысль сохранила поразительную остроту, и неповторимая мелодия религиозной песни оживала в ней в такой степени, что она могла ее уже явственно слышать.
— Что ты на это скажешь, если я тебе влеплю оплеуху? Что ты скажешь?
— Я? Почему?
— Что ты на это скажешь?
Жена Федора положила руки на «поющий» ситец. Федор ее муж, а вот этот собирается его ударить. Здесь что-то не так! Мужик хочет избить не Федора, а кого-то другого. Бога! Но бог высоко, выше солнца. Хорошо он устроился, — подальше от разгневанных людей. Это естественно. Федора ударить легче, чем бога, а парень не нашел никого другого, кроме ее мужа. Может быть, он сам поймет, что дело тут не в ее муже, и тогда он не ударит его. Ведь этот горец не пьян, он просто несчастен и оттого в таком отчаянии.
— Так что ты мне на это скажешь? — Он подошел к прилавку и положил на него две большие ладони.
— Ничего, — прошептал Федор и побелел, и язык застыл между приоткрытыми губами. Мокрый и темно-красный язык, и все могли увидеть, что Федор старый, уставший и осовелый, как и они.
— О-ох! — Парень взвыл и бросил кулаки в пустоту, словно хотел от них избавиться. Что-то у него не получилось. Что-то он понял, но еще больше осталось для него неразгаданным. Он протолкался через толпу мужиков и потом один, совсем один направился к перекрестку и вышел на проселочную дорогу, сворачивающую к лесу.
Проход между палатками как вымело, а Федор все еще не опомнился.
— Ломает палатку. — Это возвратился к нему Матуш.
— Что?
— Пятак ломает палатку. — Матушу пришлось даже рукой показать ему: — Там.
Когда Федор увидел, как Пятак бегает и срывает навес, он пробормотал:
— Хорошо, хорошо. — И это, как обычно, ничего не значило, потому что темно-красный язык его виднелся между приоткрытыми губами. Он спрятал язык. — Поехали домой! Запрягай. Подожди! Сначала сними брезент и погрузи свертки. Колья и доски оставим здесь. Быстро, быстро. Чего стоишь?
— Козлы хотя б забрать… Пан Федор… — жалобно протянул Матуш, когда все уже было уложено и воз готов.
— Нет, ничего не надо! Пятак гонит, как бешеный. Не видишь разве? Давай за ним!
Тогда Матуш распрощался с деревянным каркасом палатки и тронул лошадь, но Федор не унимался:
— Быстрей! Пятака уже не видно. Небось он знает, чего спешит.
— Так ведь…
— Матуш! — Федор побелел.
— Нно! Пошла!
Трое возвращаются с ярмарки. Палатки остались далеко позади, далеко и святая Анна. Год пути до них, а каким будет этот путь, Федор не знает и боится об этом думать. Это была твоя последняя ярмарка, Федор. Да? Да, последняя. Ну и пусть! Пусть? Что? Последняя? Он резко обернулся, чтобы еще раз взглянуть на палатки в зажатой горами долине. Но не увидел. Матуш нахлестывал вовсю, они были уже далеко за поворотом, и Федор увидел лишь темный косогор, заросший старым лесом.
Жена Федора ни во что не вмешивалась. Ей хотелось побыть одной.
— Нно! Пошла! — Матуш упрямо подгонял лошадь, но телеги Пятака все не было видно.
Они выехали из ущелья, выбрались на шоссе и долго молчали.
— Матуш!
— Ну?
— Останови. — Они проезжали мимо корчмы. Это было уже в деревне, недалеко от города.
— Думаете, надо?
— Мату-уш!
— Ну, если надо, тогда… тпру! Мне все равно. Матуш, останови, Матуш, гони, мне все равно. Что велите, то и сделаю. Про меня вы не скажете, что я вас не слушаюсь. Уж этого нет! Но Пятака мы так и не догнали. Видать, он летел как молния. — Матуш не ожидал остановки и от благодарности разговорился.
— Ну его, этого разбойника, и не стони. Слезаем!
— Слезаем так слезаем! Как хотите. А при чем тут «не стони»? С какой стати мне стонать, я говорю одну чистую правду. Я еще ни разу вас не обманул… а тут на тебе — «не стони»!
— Хорошо, хорошо.
— Ну, стой, уродина! Это потому, что она здесь раньше не останавливалась. Лошадь всегда помнит, где она уже останавливалась, а где еще нет. — Но Федор был уже в дверях корчмы и не слушал его объяснений. Когда же Матуш взглянул на жену Федора, она ему кивнула, мол, да, такая лошадь много кой-чего знает, а ты иди себе в корчму, я за ней присмотрю. «Чудная баба, ужасно чудная, почти как дух. И глаза у нее удивительные», — подумал про себя Матуш.
Двери корчмы были открыты, Федор уже сидел в углу. Рядом с ним стоял корчмарь, больше никого не было. Матуш присел к столу. Первым он не заговорит, он подождет. Корчмарь принес две рюмки и полную бутылку вина.
— Выпьем по случаю праздника, Матуш. — Федор налил.
— Стало быть, выпьем… раз вы говорите. Ваше здоровье, пан Федор.
— Дай бог здоровья.
Выпили.
— Хорошее, Матуш, очень хорошее.
— Крепкое. Как полагается. Как же мне хотелось выпить, вы даже не знаете.
— Врачи запретили мне пить, да черт с ними. Все равно обманывают. Слышь-ка, Матуш! Наши колья и все прочее не нужно было там оставлять. Как думаешь? По-моему, не нужно было.
— Ведь я вам говорил, давайте заберем хотя бы козлы, а вы — «ничего не надо». Только — «давай за Пятаком»…
— Ах, этот разбойник!
— …все равно мы его не догнали. Сколько добра оставили, совсем новенькие гвозди! Одному мне это известно. Я ведь все сколачивал.
— Выпьем.
— Это можно.
— Главное дело, Матуш, что мы оттуда выбрались. Я боялся.
— Да и в самом деле. Чего хотел от вас этот мужик? Вы что-нибудь ему сделали?
— Ничего. — Федор усмехнулся, но тут же стал серьезным. — Люди бесятся, сам видишь, что делается. Если и дальше так пойдет, все передохнем. Я так думаю. Он проходил мимо палатки, а палатка была большая…
— Палатка у вас в самом деле… что правда, то правда…
— И он ее увидел, эту палатку, увидел и свертки. Их тоже было довольно много.
— Да, свертков было порядочно.
— …он себе подумал: постой, этот Федор — страшный богач, он виноват во всем, это он принес к нам кризис и голод в деревни. Надо ему морду набить…
— Но все же не набил, это главное. Выпьем. За здоровье…
— Дай бог здоровья. — Они выпили, Федор вытер рот.
— А я все-таки думаю, Матуш, что те колья и прочее добро надо было взять. Как ты думаешь?
— Надо было…
— Вот видишь, а уж скоро в бутылке будет пусто.
— Да, скоро будет пусто. Пан Федор, а ведь вы мне еще не сказали, наторговали вы что-нибудь или нет.
— Двести пять крон. Ровно двести пять.
— Ага! — И потом их поглотила тишина. Они допили в тишине и сидели, устремив взгляд прямо перед собой. После долгого, очень долгого молчания Матуш вымолвил: — Да, стало быть мало. Ужасно мало.
— Матуш!
— Ну!
— Мне придется с тебя за все вычесть. И за вчерашнее сало с хлебом, и за сегодняшнее, потом за водку… ничего не поделаешь. Как ты думаешь?
— Ну что же… — Матуш колебался. Он чувствовал себя так, словно сам был виноват в том, что Федор мало выручил.
— Я дам тебе десять крон. Как ты смотришь?
— Вы давали двадцать пять. Да еще крупы, немного муки. Неужто не помните?
— Давал когда-то…
Матуш вдруг решился:
— Давайте! Но чтоб все сразу! На руки! — И вытянул вперед ладонь.
— Хорошо, хорошо. — Федор даже напугался и положил на стол десять крон.
— Корчмарь, иди сюда, корчмарь! Принеси водки. На все!
— На все?
— На все, и баста.
— Врачи мне запретили, Матуш.
— Ах, пан Федор, не все ли равно, когда вас кондрашка хватит, сегодня или завтра? — рассердился он на Федора и был доволен, что торговец съежился от его слов. И пока корчмарь спешил с водкой к столу, Матуш все понял и обрадовался, что не привезет домой ни крупы, ни протухшей муки, а вернется с пустыми руками и без единого гроша. С чем уехал, с тем и приехал, — эту истину Матуш нес в себе и радовался, что она касается именно его и никого иного.
— Выпьем, пан Федор. Что вы хмуритесь?
— Мне в самом деле доктора запретили.
— Черт с ними! — засмеялся Матуш, а сам подумал о своих соседях с верхних хуторов и самом ближнем глуховатом. Завтра он сможет прямо глядеть им в глаза, как теперь глядит в глаза Федору… здорово постарел, однако же, Федор, — а ему самому так хорошо, да и соседям нечего будет завидовать ему.
— Ты прав, Матуш. Черт с ними, с докторами, все равно они обманывают. За здоровье, Матуш!
Матуш лишь кивнул.
Допили. Но, еще даже не допив, они сообразили, что зря они остановились перед корчмой, а уж если дьявол ввел их в такое искушение, надо было заказать пива или содовой воды. Им стало из-за этого грустно, и они запели.
Солнце светило на жену Федора и умную лошадь, которая, пощипывая траву в канаве, тащила телегу за собой. Когда из корчмы вышел Матуш, а за ним старый Федор, держась за его спину, чтобы не упасть, возчик не застал телеги на месте. Матуш очень рассердился и закричал:
— Стой, уродина! — А Федору, который за него держался, дружески объяснил: — Знаешь, Федор, она еще здесь не останавливалась, вот в чем дело. Лошадь всегда помнит, где она уже останавливалась, а где еще нет.
Перевод Л. Смирнова.
Примечания
1
Эти романы и рассказы выходили по-русски: «Поле невспаханное» — Гослитиздат, 1955; рассказы — в сб. «Словацкие повести и рассказы», Гослитиздат, 1953, а также в книге: П. Илемницкий. Избранное, «Прогресс», 1972, где помещен и роман «Победоносное падение».
(обратно)2
Приветствие гардистов, членов военизированной организации (гарды) клерикально-фашистской «людовой» партии.
(обратно)3
Аризация — в период существования так называемого «самостоятельного Словацкого государства» — конфискация имущества евреев и передача его поборникам этого режима и их ставленникам.
(обратно)4
Кристек — уменьшительное от Кристус — Христос (словац.).
(обратно)5
Генерал Лаудон (1717—1790) — австрийский полководец. Его подвиги воспевались в солдатских песнях.
(обратно)6
Стой! (нем.)
(обратно)7
Ладно (нем.).
(обратно)8
Эфэсовцы (от нем. FS, Freischütz) — вооруженные отряды из немецкого населения, проживавшего на территории Словакии.
(обратно)9
В 1938 году, во времена Чехословацкой буржуазной республики.
(обратно)10
немецкой партии (нем.).
(обратно)11
Илава — город в Словакии, где находился один из концлагерей.
(обратно)12
Ihr Sohn — ваш сын (нем.).
(обратно)13
Нотар — административное лицо, представитель власти на местах.
(обратно)14
Венгры? (нем.)
(обратно)15
Словаки (нем.).
(обратно)16
О, а я-то подумал… (нем.)
(обратно)17
Хорошо, хорошо (нем.).
(обратно)18
плохо, я болен (нем.).
(обратно)19
Шнапсу, да? (нем.)
(обратно)20
Пей! (нем.)
(обратно)21
Спасибо (нем.).
(обратно)22
Боже мой, да ведь это настоящий ром! Спасибо, господин офицер! (нем.)
(обратно)23
Фронт? (нем.)
(обратно)24
Так точно, господин офицер. Иван палит: бум-бум! (нем.)
(обратно)25
Krieg ist Scheiße, nicht war? — Война — это дерьмо, верно? (нем.)
(обратно)26
До свидания! (нем.)
(обратно)27
Nein, nein, schmutzig! — Нет, нет, грязный! (нем.)
(обратно)28
Боже мой! (нем.)
(обратно)29
Hier Slowaken — здесь словаки (нем.).
(обратно)30
Slowaken. Beobachten! — Словаки. На НП! (нем.)
(обратно)31
Ах, да! (нем.)
(обратно)32
Господин лейтенант… (нем.)
(обратно)33
только по-немецки (нем.).
(обратно)34
Да, да, господин лейтенант. На родине… (нем.)
(обратно)35
Рыцарский крест (нем.) — название немецкого военного ордена.
(обратно)36
Вы говорите по-немецки? (нем.)
(обратно)37
Рас — абиссинский князь, «рас» по-словацки также живодер.
(обратно)38
именно (нем.).
(обратно)39
Родина (нем.).
(обратно)40
Господин майор фон Маллов (нем.).
(обратно)41
Гляди, словаки! (нем.)
(обратно)42
патриот своего края (нем.) — имеет также насмешливый оттенок: квасной патриот.
(обратно)43
нацистской женской организации (нем.).
(обратно)44
зимней помощью (нем.) — имеется в виду посылка теплых вещей в действующую армию.
(обратно)45
Ваш сын Франц Киршнер… (нем.)
(обратно)46
Двойной крест — знак, входивший в герб Словацкого государства.
(обратно)47
область, край (нем.).
(обратно)48
Декан — приходский священник.
(обратно)49
Morgen — утро (нем.), здесь — доброе утро.
(обратно)50
Остолоп! (чеш.)
(обратно)51
господа (нем.).
(обратно)52
Schießen — стрелять (нем.).
(обратно)53
колокол (нем.).
(обратно)54
о, небо (нем.).
(обратно)55
Guten Tag — добрый день (нем.).
(обратно)56
непременно (нем.).
(обратно)57
Баку — Индия (нем.).
(обратно)58
Урал — Сибирь (нем.).
(обратно)59
…на родину, под Высокие Татры, самые прекрасные и высокие горы Словакии (нем.).
(обратно)60
Тревога! Тревога! (нем.)
(обратно)61
Русские танки! (нем.)
(обратно)62
Unsere Kanonen, verstehst, nicht deutsche, slowakische Kanonen, verstehst? — Наши пушки, понимаешь, не немецкие, а словацкие пушки, понимаешь? (нем.)
(обратно)63
Не стрелять! (нем.)
(обратно)64
Альпа — растирание.
(обратно)65
Боже мой (нем.).
(обратно)



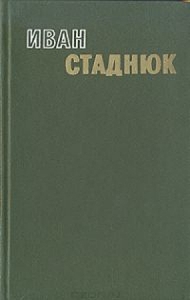







Комментарии к книге «Избранное», Рудольф Яшик
Всего 0 комментариев