Богдан Сушинский До последнего солдата
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
1
Это было обычное поле войны.
Еще вчера его выжигали и вспахивали снарядами, пулями и страхом тысячи ожесточившихся людей, а засевала и вершила на нем свое библейское жнивье – смерть. Сегодня же, в эти предрассветные часы, оно уже покрывалось леденящей мертвизной забытья, пытаясь покаянно упрятать под тонким слоем осеннего кроваво-пепельного снега непогребенных «пахарей», искореженную и брошенную технику, неоплаканные руины и пепелища.
Сейчас, глядя на вымершее поле боя, трудно было с уверенностью сказать, кто откуда наступал и где чьи окопы; кто на нем победил, а кто оказался побежденным. Уже в нескольких местах капитан Беркут натыкался на груды истерзанных тел. В одних из них, при свете фонарика, вообще сложно было определить, чьи солдаты там покоятся. В других вермахтовцы и красноармейцы – проткнутые штыками, с размозженными головами, с руками, сжатыми у горла противника, – лежали вперемешку.
И становилось ясно, что гибли здесь в отчаянной – напропалую – рукопашной. Когда не принимались в расчет уже ни плотность огня шмайсеров и трехлинеек, ни число врагов, а все решали только ярость дерущихся, их неудержимое стремление смять противника, уничтожить, прорваться; а если и пасть, то вымостив своими телами путь другим.
И над всем этим побоищем царили непривычная тишина, полуночный мрак и какая-то пространственная неопределенность, при которой вряд ли можно было выяснить, что это за местность, в чьих она теперь руках и чьи именно позиции могут находиться где-то поблизости.
И все же Андрей Беркут очень явственно осознал сейчас, что истерзанная земля эта – его земля, его… многострадально родная… земля.
– Капитан, слева!
Беркут так и не понял, как ефрейтор Арзамасцев, с которым они вроде бы разошлись в разные стороны, оказался буквально в трех шагах позади него. Поэтому сначала резко оглянулся на незнакомо прозвучавший голос и только потом посмотрел в ту сторону, куда показывал Кирилл, и невольно вздрогнул: прямо на него двигалось какое-то косматое существо, в котором, даже при большом желании и буйной фантазии, трудно было признать человека.
«Господи Иисусе, это еще что такое?! – пронеслось в сознании капитана. – Из могилы, из мертвых восстал, что ли?!».
– Ты… кто такой? – спросил Беркут вслух, но голос его непростительно сорвался. Да так, что Андрей и сам не в состоянии был расслышать его.
Опытный, видевший виды боец, капитан вдруг почувствовал себя мальчишкой, представшим перед кладбищенским привидением.
– Снять его?! – почему-то вначале спросил, а уж затем вскинул автомат Арзамасцев. А ведь в тылу врага они приучали себя в подобных случаях сначала стрелять, а уж потом разбираться, кто там перед тобой возникал.
– От-ста-вить! – грозно прорычал Беркут как раз в то мгновение, когда указательный палец ефрейтора замер на спусковом крючке.
А существо все приближалось. Очень медленно, как в кошмарном сне, полусогнувшись, раскачиваясь из стороны в сторону… Шинель его была надета только на одно плечо, и рваный шлейф ее волочился по земле. А на голове этого странного, уже почти не реагирующего на направленный ему в лицо луч фонарика создания, чернело нечто невообразимое, состоящее из остатков обгоревшего шлема, волос и почерневших бинтов.
Непроизвольно сжав в руке автомат, Беркут шагнул ему навстречу, ощутив при этом едкий запах пороховой гари, горелой одежды, мазута и еще чего-то замогильносмрадного, приторно-сладковатого.
Обгоревший остановился в двух шагах от него, и, пошатываясь, заговорил, сначала бессвязно и только потом, когда капитан громко спросил его по-немецки: «Эй, кто ты?!», более или менее членораздельно.
– Мы дрались… до последнего солдата, господин полковник. Мы не ушли отсюда. Первый батальон Пятого танково-гренадерского полка СС «Туле»[1] и пехотный батальон вермахта. Мы держались… Как приказано.
Произнеся это, немец пошатнулся и чуть было не уперся обгоревшей головой в грудь Беркута, но в последнее мгновение колени его подкосились и, развернувшись на каблуках, танкист упал навзничь.
– Что это он бормочет? – снова услышал капитан дыхание Арзамасцева у своего плеча.
Беркут наклонился над упавшим, при свете фонарика разглядел на плече шинели полуистлевший офицерский погон, и, поняв, что стал свидетелем последних слов этого солдата, тихо проговорил:
– Бредил. Впрочем, нет. Поднялся, чтобы доложить, что приказ выполнен. Нашел в себе силы, поднялся, доложил… и только тогда умер.
– За-яд-лая сволочь!
Андрей вновь молча оглянулся на Арзамасцева, обвел лучом тело погибшего, словно очерчивал отведенный ему отныне клочок земли, и, погасив фонарик, мрачно произнес:
– Почему «сволочь»? Обычный фронтовой офицер. И сражался до конца, как велели ему приказ и долг. Другое дело, что сражался-то он против нас. Но тут уж ничего не поделаешь. Кстати, не заметил, откуда он появился?
– По-моему, вон из-под того танка. Словно из могилы выполз. А ведь мог и пальнуть.
– Мог, конечно, – признал Беркут. – На какое-то мгновение мы забыли, что находимся на поле боя.
– Думаешь, опять приземлились в тылу врага?
– Не исключено.
– Судя по всему, бой состоялся вечером.
– Это понятно. Не ясно другое. Все участвовавшие в нем погибнуть не могли. Кто-то отступил, кто-то занял его позиции. Но кто отступил и кто занял, и где эти позиции?
– Снижались мы над рекой. Когда ракета осветила, ты помнишь, сам крикнул: «Река!».
«Значит, и позиции у реки, – подумал капитан. – Если только мы не угодили на большой омертвевший плацдарм, на котором, посреди побоища не решились закрепляться ни немцы, ни наши».
Он оглянулся назад, туда, где остался самолет, сначала чудом вырвавший их из окруженного карателями партизанского леса, а затем сумевший взлететь с какого-то плато, на которое совершил вынужденную посадку, будучи подбитым. Как им удалось сдержать натиск немцев и полицаев, которые пытались захватить их, прижимая к обрыву, и как пилотам удалось «сбросить» в него свою наспех подремонтированную машину, этого уже никто объяснить не в состоянии.
Но и это еще было не все. Через несколько минут лета машина вновь попала под такой массированный обстрел прожекторов, зениток и всего прочего оружия, что казалось, будто все орудия и зенитные пулеметы враждующих сторон только для того и собраны были на этом участке фронта, чтобы растерзать их несчастный самолетик.
– Ох, не отпускает же нас с тобой война, капитан, ох, не отпускает! – последнее, что успел прокричать капитану Арзамасцев, перед тем, как машину подбили во второй раз. – Как же смертельно он привязывает нас к той, зафронтовой, жизни!
– «Зафронтовой» – еще не загробной! – попытался мрачно отшутиться Беркут, но это уже была очередная попытка пошутить со смертью, которая шуток, по всей видимости, не терпит.
Даже отсюда, с высотки, Андрей различал на фоне заснеженного поля смутные очертания самолетика. Пилот сумел укротить подбитую машину в каких-нибудь двадцати сантиметрах от искореженного ствола немецкой самоходки, чуть не врезавшись в него пропеллером. Сейчас, всматриваясь в едва уловимый силуэт, Беркут почти с нежностью подумал о беспомощной, как перелетный аист с перебитыми крыльями, машине, о его мужественном экипаже, о тех четверых людях в салоне ее, которые разделили с ним этой ночью и радость солдат, возвращающихся на Большую землю, и страх издерганных, расстреливаемых вражескими зенитками и распинаемых прожекторами пассажиров.
С величайшим трудом посадив самолет, пилоты тут же огласили приговор: поднять машину в воздух уже не удастся. Обрадовавшись объятиям земли-спасительницы, Беркут сначала не придал их словам никакого значения: «Главное – сели! Теперь бы лет сто не подниматься в это днем и ночью расстреливаемое небо!».
Но очень скоро понял, что ситуация намного сложнее: утром немцы постараются уничтожить самолет уже на земле. Не важно: артиллерией или с воздуха. Это в том случае, если окажется, что сели они все же за своей линией обороны. Если же окажется, что за немецкой, тогда вообще будет «весело». После этого, второго, «изгнания из небес» Беркут уже не сомневался, что это из-за него, войной этой проклятого, так адски не везет и машине, и тем, кто ей доверился. Не сомневался настолько, что готов был встать перед летевшими вместе с ним на колени и покаянно повиниться. Если бы только это помогло.
…И все же в глубине души капитан все еще надеялся, что территория эта красноармейцами уже освобождена. И даже подумал, что еще до рассвета следовало бы связаться со штабом любой красноармейской части, отбуксировать машину подальше в тыл и, где-нибудь замаскировав ее, вызвать авиаремонтную бригаду. А заодно – сообщить в Украинский партизанский штаб, что командир армейско-партизанской, как ее называли в «Центре», диверсионной группы капитан Громов, он же «капитан Беркут», прибыл из-за линии фронта и ждет дальнейших указаний.
Но для того, чтобы все это стало возможным, следовало встретить еще хотя бы одну живую душу в красноармейской шинели. Хотя бы одну. Но обязательно живую.
2
Горизонт в той стороне, куда они направлялись, чуть-чуть посветлел. Однако трудно было понять: то ли эта светлая полоса предвещала рассвет, то ли она была всего лишь отблеском далекого зарева. Но пока казалось, что ночное сияние источает сама земля, словно бы одаряет всех воюющих и страждущих на ней лучами вселенского озарения.
– Хоть бы пулемет какой-нибудь затявкал, если уж ракеты жалко, – проворчал Арзамасцев, находясь где-то справа от Беркута. – Фронтовики, мать их так! Передний край, называется, держат!
– Просто ни те, ни те не догадываются, какой генералиссимус их инспектирует! – с той же угрюмостью ответил ему Беркут, уже распластавшись на земле.
И только теперь, выбарахтываясь из грязи и снега, понял, что холмик, на который он, споткнувшись, упал и с которого открылся ему «нимб озарения», на самом деле был спиной солдата, зависшего на двух снарядных ящиках. Уже поднимаясь, он увидел запрокинутую голову, чудом удерживавшуюся на разорванной, обмерзшей – заледенелая кровь с грязным снегом – шее.
– Где ты, капитан? – встревоженно спросил Арзамасцев, оказавшись по ту сторону перекосившегося орудия, подбитого на самом бруствере окопа. По партизанской привычке ефрейтор все еще обращался к нему на «ты», упуская официальное «товарищ».
– Самому хотелось бы знать… где я! – прорычал Беркут, медленно поднимаясь посреди груды разбитых ящиков, сплющенных гильз и растерзанных тел. – Сотворил бы кто-нибудь надо мной молитву, возможно, этот кошмар и развеялся бы! Должны же и мы с тобой когда-нибудь проснуться.
Словно внемля его просьбе, где-то далеко позади, в той стороне, где они оставили самолет, вспыхнула ракета, и потом короткими очередями, захлебываясь, но все же долго и заунывно пел свои псалмы пулемет – будто человек, нажимавший на его гашетку, хотел иссечь и растерзать медленно вырисовывающийся, бледный полудиск месяца.
«А ведь он где-то за рекой, – подумал Андрей. – Которая, очевидно и разделяет теперь враждующие стороны. Но в таком случае вопрос: “Где же, на какой такой “ничейной”, оказались мы, подбитые-недолетевшие? ”».
Вспомнив, что в ту сторону, где отозвался пулемет, отправился легкораненый партизан, Беркут вдруг понял, что, очевидно, его-то не ко времени проснувшийся пулеметчик и заметил. И кто знает, не скосил ли. А майор, пилот некогда подбитого над вражеской территорией самолета, которого партизаны переправляли теперь за линию фронта, а также боец из его группы Звездослав Корбач, остались вместе с летчиками у машины, чтобы, в случае нападения, не дать захватить ее.
Оказавшись на земле, все они почему-то сразу же озаботились тем, чтобы не дать немцам ни захватить, ни окончательно уничтожить этот самолет. Словно он, а не их прокуренные пороховой гарью жизни, был теперь главной, хранимой богом ценностью.
«Да, это действительно за рекой, а значит, линия фронта наверняка проходит по тому берегу, – прислушивался Беркут к фронтовой оратории, в которой зловеще угадывались уже и разрывы снарядов, и грохотание орудий, и тенорная морзянка автоматных перепалок. – Через нее нам, видно, и придется переправляться».
– Капитан, машина! Фары! Сюда что-то движется!
– Ну и божественно! – ответил Беркут, но тут же мысленно сам себе возразил: «Никакая машина двигаться сюда не может! Пройти по этой смертоубийственной колыбели может разве что танк. Если, конечно, водитель его потерял всякое представление о милосердии к мертвым и обычном человеческом страхе».
Но все же, определив направление, по которому где-то стороной должны пройти эти два пучка света, Андрей изо всех ног бросился им наперерез. Похоже, что машина действительно приближалась и что дорога недалеко. Но до нее еще нужно было пробиться через опрокинутую вверх колесами, обрамленную частями лошадиных тел повозку; через искореженную прямым попаданием пушченку и подернутый изморозью овраг, по кромке которого изгибался шрам окопа… Именно из него, из этого окопа, откуда-то слева вдруг донесся стон раненого. Однако выяснять, кто там и в каком он состоянии, уже было некогда.
Поняв, что дорога проходит за грядой мелких холмов, но все еще опасаясь, что водитель не заметит его или откажется притормозить, капитан выпустил вверх длинную автоматную очередь и, выхватив фонарик, на ходу начал описывать им какие-то замысловатые фигуры, в то время как бежавший чуть правее Арзамасцев продолжал подкреплять их короткими автоматными очередями.
Преградить путь грузовику они так и не успели. Но все же, протянув еще метров пятьдесят, водитель его милостиво затормозил.
– Я – капитан Беркут, – еле выдохнул Андрей, подбегая к открытой дверце.
За годы скитаний по вражеским тылам он не только основательно отвык от своей настоящей фамилии, но и смирился с этим, решив, что, судя по всему, так и придется погибнуть Беркутом. А еще он привык к тому, что в своих партизанских краях ему достаточно было назваться «Беркутом», чтобы любому сразу же становилось ясно, кто перед ним.
– Да хоть бы и генерал. Главное, шо свой, руль-баранка тебе в руки.
– Подбери, боец, подвези. Вырви нас отсюда.
– Как же вы здесь оказались, товарищ капитан?
– Война забросила.
– Самый правильный, солдатский ответ, – со– гласился шофер. – А потому садись в кабину, капитан, да побыстрей; на передовой хлопцы ждут меня, как божью благодать, – басил водитель, с сержантскими лычками на погонах, настороженно осматривая при этом невесть откуда появившегося здесь офицера.
– Я не один, со мной боец.
– И бойца сади, только быстрее, – нервно подогнал его сержант. – Двоих вас мой «ишачок» как-нибудь дотянет. Только быстрее, пока фрицовские артиллеристы по нему не пристрелялись!
– Впрочем, стоп, – вдруг опомнился Беркут, – оставить посадку. Ефрейтор, бегом к самолету!
– Так у вас здесь еще и самолет?! – изумился водитель «ишачка». – Э, нет, самолет тянуть не буду, сам еле барахтаюсь! С колеи сойду, тут нам и погибель, руль-баранка тебе в руки.
– Никого тянуть не придется, оттуда ты самолет не вытянешь, – попытался угомонил его Беркут. – Но подождать немного придется. А ты, ефрейтор, бегом! Скажи, что они на своей земле и что скоро прибуду с подмогой.
– Ты что?! Назад меня гонишь?! По этому пеклу?! Да сам я и дороги туда не найду! – возмутился Арзамасцев, хватаясь руками за борт и взбираясь на колесо.
– Выполняйте приказ, ефрейтор! – взъярился капитан. И будь перед ним не Кирилл Арзамасцев, с которым он когда-то бежал из плена и с которым прошел вражескими тылами чуть ли не всю Польшу, он бы, конечно, заставил его это приказ выполнить. Но тут случай особый… Да и ефрейтор успел перемахнуть через борт и усесться, буквально забиться в закуток между ящиками и углом кузова.
– Раз мы уже на своей земле, то куда они денутся?! – кричал он, поражаясь бессердечности капитана, которого давно считал своим другом. И не понимая, как тот может гнать его обратно в эту страшную ночь, через десятки трупов своих и врагов. – Все равно им ждать! Что тебя одного, что нас обоих!
– Но когда ты вернешься, они будут знать, что я отправился за помощью и что свои совсем рядом! – попытался Беркут как можно спокойнее объяснить ситуацию Арзамасцеву, рассчитывая, что тот поймет важность своей миссии. – К тому же ты усилишь охрану самолета.
– Да нахрена ее теперь усилять, капитан?! Немцы то драпанули, они теперь черт знает где!
Беркут все же хотел согнать ефрейтора с кузова и заставить выполнить приказ, однако спор их неожиданно решил приумолкнувший было водитель.
– Разбирайтесь тут, руль-баранку вам в руки, без меня! – буквально прорычал он. – А меня хлопцы на передовой ждут. – И, решительно хлопнув дверцей, нажал на стартер.
«Уедет! – испугался Беркут. Эта бог знает откуда взявшаяся и какими ангелами-спасителями посланная ему машина была теперь единственным звеном, связывающим его со своими, с той Большой землей, к которой он так стремился в последние дни и к которой так молитвенно хотел добраться, во что бы то ни стало добраться. – Возьмет и уедет!».
– Черт с тобой, сиди! – крикнул он Арзамасцеву, но уже оказавшись у передка машины, чтобы не позволить водителю тронуться с места. – Однако я найду способ напомнить тебе, что приказ следует выполнять, понял?! Любой приказ – беспрекословно выполнять!
– Да ладно тебе, капитан, «беспрекословно»! – огрызнулся Арзамасцев, не пощадив при этом офицера на глазах у незнакомого сержанта, и этим еще больше огорчил и озадачил Беркута. Настолько, что он готов был вернуться к кузову и погнать наглеца в поле под дулом пистолета. – Приказы потом будем выполнять, если только выживем! И все как один – «беспрекословно»!
Сержант вновь решительно приоткрыл дверцу, но так ничего и не сказал. Понял, очевидно, что нервы у капитана и так напряжены до предела.
– Что ж ты один, такой ночью, да еще и под носом у фашистов? – удивленно спросил его Беркут, оббежав кабину и усевшись рядом с водителем. Об Арзамасцева на время было забыто.
– Ага, один – и посреди фронта, – иронично добавил водитель. Ему уже было под пятьдесят, во всяком случае, усы его показались Андрею седоватыми. А говорил он с характерным украинским акцентом. Собственно, говорил он по-украински, только большинство слов произносил на русский манер, очевидно, считая, что этого вполне достаточно, чтобы любой русский понял его.
– И все же, почему без сопровождающего, без охраны?
– Это ж не меня спрашивать надо, – благодушно заметил водитель, – а командиров моих. Но коль уж меня спрашиваете, то скажу так: главное, что сам себе хозяин.
– Как же ты решился остановиться, святая твоя душа?
– Были бы вы немцами – уже шарахнули бы по кабинке и руль-баранка мне, крещенному. А не остановлюсь – свои же шарахнуть могут. От избытка, так сказать, чувств, как говорит наш взводный, но по скатам. А со скатами теперь… Дешевле собственную голову под пули подставить. Вам бы в тыл, наверно, нужно, товарищи «самолетчики».
– Да теперь уже – куда угодно.
– Я что-то про самолет слышал – значит, в тыл.
– А вы куда?
– Сказано ж было, товарищ капитан, что к фронту. Мои хлопцы, считай, уже даже за передовой, на том берегу, в тылу у немцев, руль-баранка им в руки. Как ворвались на плацдарм – хуторок там небольшой возле каменоломен, на каменистой косе, длинной и кривой, что тебе турецкий ятаган, – так и остались.
– Вклинились, значит, в оборону противника?
– Вклиниться-то они вклинились, а что дальше? Надо бы туда еще войска подбросить, но уже откуда-то из второго эшелона, из резервов, потому что нашим, считай, идти уже некому. Какими-то силами надо и на этом берегу оборону держать, а больше половины хлопцев полегло. Кто на берегу упал, тому еще повезло: хоть похоронили. А половина батальона, считай, в реке осталась. Правда, за плацдармом этим тоже наши, из второго эшелона перебросили, но силенок, видно, маловато, потому и наших пока ни вперед не гонят, ни назад не отводят, второй линией держат.
– Но связь-то, связь с этим берегом, со штабом полка, дивизии… у плацдармников ваших есть?
– Связь должна быть. Полковые пауки-связисты к самому берегу провод тянули, по долине маскировали, в землю вкапывали, а по дну – на грузилах. Плацдарм там: каждому второму героя давай – и то скажут, что пожадничал.
– Мрачную картинку рисуешь, сержант.
– Что уж я сейчас вам рисую, это одно. А вот что там, на плацдарме, происходит – это видеть надо. Правда, тут тоже только утром начнут разбираться, да линию фронта хоть какую-никакую выстраивать. Двое суток непрерывные бои шли, палили из всего, что способно стрелять. А немец сюда еще и авиации нагнал, словно под Сталинград.
– И под Сталинградом бывать тоже приходилось? – уважительно поинтересовался Андрей.
– Приходилось, но уже когда Паулюса, фельдмаршала ихнего, окружали. Так что вроде и был, а вроде и не был. Хотя после войны, за махрой да самогонкой, конечно же буду врать, что в самом пекле сталинградском был. Сталиградцы теперь даже среди фронтовиков в особом почете.
– Приврать, это уж как водится…
– Слушайте, капитан, – обращался водитель к Андрею то на «ты», то на «вы», – может, мне лучше остановить своего ишачка, и вы назад пойдете? По колее, неподалеку от леска, да аккурат к нашим? А не поспеете, на обратном пути подберу.
Беркут уже понял, что самое разумное было бы сойти и отправиться в обратный путь, колеи свежей держась. Но что-то продолжало удерживать его в этой теплой и такой немыслимо уютной кабинке.
– Ладно уж, коль сели, будем ехать, – рассудил он. – И вам спокойней, и нам надежно, что теперь уже не потеряемся.
– Ну, смотрите, капитан. На вашем месте, я бы все добровольно в это пекло не лез.
– Что вы знаете о пекле, сержант, за своим рулем-баранкой сидя? – вздохнул Беркут.
– Оно верно, в атаки нам ходить не приходится, а с другой стороны, сколько вон по обочинам дорог таких рулятников, как я, покоится. Тут уж кому где выпало пасть. Эй, ефрейтор, – тут же крикнул он, приоткрывая дверцу. – Душу себе и все прочее не отморозил?!
– Нет пока.
– Снежок вон какой ранний в этих краях предкарпатских. Там, под кабинкой, под брезентом, шинелька запасная, «ремонтная», как мы говорим. Так ты укройся, как у тещи под периной будешь.
– Порядок! Ты, главное, из колеи не вылезай.
– И брезентом укройся, руль-баранка, тогда уж точно теплым довезу! А ведь не ушел, – довольно ухмыльнулся водитель, закрывая дверцу. – Сидит. Поближе к командиру.
– Просто побоялся возвращаться один этим страшным полем.
– Да, намолотило здесь вчера. И наших, и фрицев. Будет работы похоронщикам. Вот твой и побоялся. Хотя…
– Из плена мы с ним… Из эшелона бежали, – Беркут почему-то решил, что только это обстоятельно способно объяснить водителю открытое неповиновение Арзамасцева. Объяснить и оправдать. – Почти всю Польшу прошли. Затем в партизанском отряде повоевали. Сроднились, уже и приказывать как-то неудобно.
– То-то я гляжу: со шмайсером! Заметил у кабины – душа похолодела. Шпрехает по-нашему, форма тоже вроде… а на груди шмайсер. Как у эсэсовца. Ну, думаю: «Немцы диверсантов сбросили!»
– Для диверсантов у них нашлись бы наши ППШ, – успокоил его Беркут, и теперь уже сам открыл дверцу, чтобы отсюда, с холма, присмотреться к сероватой полоске, открывшейся ему в низине между двумя холмами.
– Правду гутаришь: для диверсантов у них наши «гавкалки» нашлись бы. Не скумекал, руль-баранка. – А после небольшой паузы тем же простуженным и монотонным голосом объявил: – Вот это она и ecть, речушка-кровавушка! Нахлебались из нее наши хлопцы, ох, нахлебались! Вспомнишь – так…
Договорить водитель не успел. Взрыв снаряда оказался таким сильным, что Беркуту почудилось, будто машину швырнуло в сторону вместе с вершиной возвышенности, на которую она натужно выползала.
Несколько минут в кабинке царило напряженное молчание. Водитель налег грудью на баранку, словно боялся, что машина перестанет слушаться ее, а Беркут тем временем всматривался в рассветную серость долины, словно бы пытался разглядеть там немецких пушкарей, решивших поупражняться в стрельбе по движущейся мишени.
– Мазильный был! Прорвались, – подбодрил себя и попутчика водитель, в очередной раз с трудом возвращая машину в наезженную, но основательно разбитую колею. – Видать, спросонья пальнули!
3
Однако не успели они спуститься с возвышенности, как по всему переднему краю загрохотала артиллерия. И по тому, как вал за валом, подступая все ближе к берегу, накатывались разрывы, Беркут сразу определил, что это уже не пальба на испуг, а мощная артподготовка, при которой в работу пущены все стволы, какие только имелись. И вели немцы свой огневой вал так, чтобы после него пехота пошла по передовой, как по ничейной земле.
– Там что, мост? – спросил Беркут, чуть наклонившись к водителю.
– Брод. До острова – брод. Дно каменистое. А дальше понтонами загатили. Мелковато тут. Река широкая, но мелковато. Вроде как пороги. А ниже по течению пошла глубина.
– Божественно.
– Вон встречный. Встречный, говорю, едет, руль-баранка ему в руки! Это те, что со второго эшелона. На передовую своим снаряды-патроны подбрасывали. Словом, повезло вам, товарищ капитан! Пересаживайтесь, и в тыл. В тылу связи – хоть с Москвой, хоть с Америкой.
– Да нет уж, едем дальше.
– Зачем вам туда?! – удивленно воскликнул сержант. – Вам-то зачем? Машина вон наша, везуха-то какая, руль-баранка вам в руки!
Беркут не ответил. «Оставить сейчас этого водителя одного – все равно, что предать!», – вот что остановило его.
– Побойся жены, рулятник, газуй назад! – высунулся из кабины водитель встречной. – Через час немец будет на переправе!
– Так это ж через час! А у меня там хлопцы[2] патронов ждут.
И сразу же впереди показалось еще несколько машин. Из каждой из них кто-нибудь считал своим долгом предупредить их, но водитель больше не отвечал, только яростнее впивался в руль и сосредоточеннее всматривался в колею.
Когда проезжала последняя машина, сержант до предела сбавил скорость и, высунувшись из кабинки, посмотрел ей вслед. В эти минуты капитану вдруг показалось, что он готов пристроиться к этой колонне и уйти в тыл вместе с остальными. Но только присутствие в кабине офицера останавливает его.
– А тебе назад не хочется? – как можно спокойнее и доверительнее спросил он.
– Видел же, капитан, что чуть было не повернул. Еще как хочется! И перед командованием, думаю, смог бы оправдаться, что запоздал я со своей поездкой; шоферюги меня поддержали бы. Но только перед командованием. А перед теми солдатиками, что на плацдарме окопались, – нет, никогда не оправдался бы! Потому и не повернул за остальными, как перепуганный, отбившийся от стаи журавль.
По мосту они проскочили под аккомпанемент взрывов. Проскочили, как оказалось, последними. Они уже подъезжали к тому, правому, берегу, когда снаряд угодил в крайний, стоявший у самого островка, понтон.
«Все, – пронзила сознание Беркута жутковатая мысль. – Назад пути нет. Но, похоже, впереди его тоже не было. На широком, пологом склоне речной долины догорали какие-то руины, а в перерывах между взрывами до капитана долетали крики: «Танки обходят!», «Танки справа, у берега!», «Немцы, немцы прорвались!», с которыми к переправе стекались первые группы откатывающейся пехоты.
– Прекратить панику! – попытался остановить этот поток Беркут, стоя на подножке. – Где командиры?! Приказа отступать не было! Окапываться на берегу!
Кто резко, по-окопному, отвечал ему, кто молча пробегал мимо, и лишь некоторые из бойцов останавливались, удивленно взирая на этого странного офицера, который не желает понимать, что здесь на самом деле происходит. Тем временем машина медленно проползала мимо, и пехотинцы снова бросались вдогонку своим.
Наконец водитель вывел машину по искореженной брусчатке на склон речной долины, свернул с дороги и дальше осторожно повел ее вдоль реки, по присыпанной снежком волнистой целине.
– Далеко еще до твоих окопников? – спросил его Беркут, поняв, что с подножки машины пехоту ему не остановить. Тем более что бойцы уже стекались к переправе со всех сторон, и было ясно, что дело тут не в панике – все значительно серьезнее.
Капитан уже уяснил для себя, что немцы прорвали оборону, и теперь пытаются сбить войска с обширного плацдарма на этом берегу, понимая, что утром русские обязательно подбросят на него подкрепление и начнут контратаковать.
– Дак, километра три отсюда, – все еще довольно спокойно объяснил водитель. – Дорога влево увиливает. Но там вот-вот будут немцы. А мы – потихоньку, по бережку. Я вчера присмотрел. Подводами хуторяне всегда пробивались вдоль речки. Там покаменистей.
– Мужественный вы человек, сержант. А по армейским понятиям почти святой. Другой бы давно повернул назад. Кто там стал бы разбираться потом, смогли бы вы пробиться к своим или нет? Разбомбили переправу, – и все тут.
– И вы бы меня не выдали?
– Не стал бы вмешиваться в эту ситуацию. К тому же существовала опасность, что машина со всем вашим грузом могла оказаться у немцев, а это недопустимо.
Водитель помолчал, покряхтел.
– По всему видно, человек ты фронтовой и понимающий. Но тут такое дело, товарищ капитан… Меня там окопники наши ждут. Свои хлопцы. Причем очень ждут.
«Свои хлопцы-окопники ждут», – мысленно согласился Беркут. – Если бы об этом помнили все, от обозного до генерала, война проходила бы по-иному. Так что и впрямь: святой ты человек, сержант».
– Где переправа, казаки? – возник прямо перед радиатором рослый, плечистый детина в изорванной плащ-палатке.
Следом за ним по склону сбегало еще четверо таких же рослых, словно подобранных для дворцовой гвардии, бойцов.
– Туда дальше, – ответил шофер.
– Так какого ж ты?! Назад, к переправе! На машину, казаки!
– Не прыться, служба. Тут со мной капитан. А хлопцы ждут патронов.
– Жаль, что капитан, а не господь бог! – огрызнулся какой-то приземистый паренек. – Но у нас тут свой офицер. Вон, у леска, немцы! Танкетками переутюжат!
Офицером оказался тот рослый, в изорванной плащ-палатке, «казак», который прибился к машине первым. Оббежав передок машины, он рванул на себя дверцу, за которой сидел Беркут, но, натолкнувшись на холодное спокойствие сидящего там человека, осекся. Андрей – еще выше его ростом, широкоплечий, уверенный в себе, вышел из кабины, вежливо отвернул рукой часть изорванной плащ-палатки, чтобы взглянуть на погон, и небрежно отбив кистью ствол нацеленного на него автомата, совершенно невозмутимо приказал:
– В кузов, лейтенант. Вместе со своими казаками. Вздумаешь паниковать – пристрелю здесь же, на обочине, – добавил уже почти шепотом, и нежно, по-отцовски поправил ворот его шинели. – Понял меня?..
– Понял, товарищ капитан, – встревоженно подтянулся лейтенант.
– Божественно. Зовут тебя как? – еще спокойнее поинтересовался Беркут, стараясь выбить из лейтенанта остатки его панического настроения.
– Лейтенант Глодов.
– Божественно, лейтенант. Перед вами – капитан Беркут. Командуйте своими бойцами, командуйте, лейтенант Глодов.
– Вот так, не спеша, и воюем, – мрачно заметил водитель, когда группа по главе с лейтенантом погрузилась в машину и он, увидев мчавшуюся со стороны леса то ли танкетку, то ли самоходку, причем непонятно чью, на всякий случай свернул со склона на дорогу у речки, которую припас именно для этого рассвета. – Сначала они нас гоняли, потом мы их, теперь снова они нас. Так всю войну и бегаем туда-сюда, землю топчем, руль-баранка им в руки.
4
…Когда после лжерасстрела Крамарчука проводили мимо Штубера, тот подал знак, и полицай приказал сержанту остановиться.
– Сам Беркут что, уже за линией фронта? – спокойно, словно у старого друга-однополчанина, поинтересовался гауптштурмфюрер.
– Еще три дня назад переброшен туда, эсэс, – проговорил Крамарчук с закрытыми глазами, слегка покачиваясь при этом на носках. Лицо избитое; пышная, черная, без единой седины – что поразило Штубера – шевелюра источала густую кровь, остывающую в глубоких лобных морщинах. – При встрече велел кланяться.
– Одно время я считал, что его новое появление в этих краях – легенда. Думал, что это ты выдаешь себя за капитана Беркута. Но со временем… Кстати, почему ты назвал себя его кличкой?
– Так ведь это ваши полицаи признали во мне Беркута. Я всего лишь подтвердил. Чтобы не разочаровывать. Пусть потешатся. Снова распишут на всех столбах, что Беркут расстрелян.
– Вот такой вот замысел? – удивленно повел подбородком Штубер. – Оригинально. Это действительно правда, что Беркут получил чин капитана? Слух такой пошел.
– Почему слух? Сама святая правда. Десантники из Москвы приказ привезли. Звание, вместе с орденом Красной Звезды. Считаете, что не заслуживает?
– Если бы Москве потребовались мои рекомендации, Беркут получил бы их, – без тени иронии произнес барон.
– Так при случае и передам капитану Беркуту, что рекомендовали бы. Или, может, прикажете передать еще что-либо?
– Его действительно перебросили на советскую сторону?
– Какой мне резон врать? Переправили, конечно.
– Неужели самолет прислали специально для того, чтобы вывезти капитана Беркута?
– Теперь это уже никакая ни тайна. За ним действительно прислали самолет. Охраняя этот самолет во время его вынужденной посадки, – потому что его подбили зенитчики, – я и попал в руки вашим костоправам.
– Теперь это уже действительно никакая не тайна, – охотно поддержал его Штубер.
– Тем более что Беркута вы уже давным-давно «расстреляли», – насмешливо напомнил ему сержант Крамарчук.
– Ну что вы хотите? Полицаи, – презрительно объяснил фон Штубер. – Чего только не накрутят! Особенно если местное гестапо не проконтролирует.
Допрос все еще происходил в огражденном высокой кирпичной стеной дворе полицейского управления, куда Крамарчука вывели якобы для расстрела, и он все еще стоял без сапог, в мокрых, полуразмотавшихся портянках. Впрочем, это даже трудно было назвать допросом, настолько спокойно и ненавязчиво задавал свои вопросы Штубер, и настолько они казались теперь сержанту отвлеченными, ни к чему его не обязывающими.
– Вот аккурат принес, как вы приказали, – появился с сапогами в руках полицейский.
– Это не мне, а сержанту Крамарчуку, – с ухмылкой напомнил ему барон.
Полицейский – рослый, рано поседевший увалень с широкими, и тоже полуседыми, бровями удивленно как-то взглянул на Крамарчука, на его разутые ноги, и швырнул сапоги к его расползающимся портянкам.
– Подними, – вдруг жестко приказал ему Штубер.
– Это аккурат его сапоги, пусть обувается, – не понял его полицай.
– Я сказал: подними, – рванул гауптштурмфюрер кобуру. А когда полицай трусливо подхватил истоптанные сапоги сержанта, потребовал: – Дай ему в руки и извинись за то, что разул.
– Но разувал не я, – испуганно покачал головой полицай. – Аккурат не я, а Федорчук. Взводный наш может подтвердить, что Федорчук. Да и кто мог знать, что такая промашка выйдет?! Его ведь аккурат должны были расстрелять, так зачем ему, расстрелянному, сапоги?
– Мне наплевать на то, кто именно его разувал. Верни и извинись. Иначе сейчас же расстреляют тебя. Прямо здесь, и аккурат в сапогах.
Крамарчук, понимал, что Штубер разыгрывает один из своих спектаклей, о которых он был наслышан от Беркута и других партизан, поэтому не стал ждать извинений полицая, а вырвал сапоги из его рук и, прислонившись спиной к кузову стоявшего посреди двора грузовика, начал неспешно обуваться, предварительно выкручивая окончательно разбухшие от влаги портянки и растирая окоченевшие ноги.
– Может, тебе аккурат помочь, сержант? – неожиданно предложил полицай, совершенно растерявшись от того, как быстро «расстрельный партизан» вдруг превратился то ли в агента гестапо, то ли еще кого-то, за кого заступается сейчас даже какой-то высокий эсэсовский чин.
– Уйди, живодер, а то сейчас прикажу, чтобы свои сапоги снял, – процедил сквозь стучащие от холода зубы Крамарчук.
– Извини, аккурат, – пробормотал седовласый, отступаясь от него, и в этом извинении сержант и в самом деле уловил что-то от огрызков человечности.
– Так мне все же хотелось бы уточнить, – разминал пальцы рук гауптштурмфюрер Вилли фон Штубер, даже сквозь перчатки ощущая, что они озябли, – действительно ли самолет прислали специально для того, чтобы вырвать Беркута из нашего тыла?
– Специально. А ты что, не веришь, что за таким человеком, как капитан Беркут, могут прислать самолет? Значит, ты еще плохо знаешь гаупт… как тебя там.
– Гауптштурмфюрер, – вежливо уточнил Штубер. – По-вашему капитан. Можешь так и обращаться ко мне.
– Не исключено, что сам Сталин захочет поговорить с Беркутом. Самолет-то за ним прислали из Москвы. Вместе с орденом, новым мундиром и новым званием, – с нескрываемой гордостью проговорил Крамарчук, испытывая на надежность свои сапоги. – Раз десять по рации о нем запрашивали. Специально для этого десант выбросили вместе с радистом, – явно повело сержанта.
– Но зачем Беркут понадобился в Москве, этого ты, конечно, не знаешь?
Крамарчук оглянулся по сторонам, словно хотел довериться барону с великой тайной, и проговорил:
– Точно не знаю, но сказано было в радиограмме, что для дальнейшей подготовки в диверсионной школе и выполнения особо важного задания. Не иначе, как Гитлера убрать прикажут, аккурат, как любит выражаться подвластный вам полицай.
– Не думаю. В Москве побоятся, что в ответ мы уберем Сталина. Но обсуждать эту тему пока что не имеет смысла. Зато интересует другое: понятно, что самолет прислали за Беркутом, но почему в нем оказался ты, сержант? Неужели тебя Москва тоже затребовала, вместе с капитаном?
– Меня не затребовала, темнить по этому поводу не стану. И даже когда Беркут попросил, чтобы мне разрешили сесть в самолет, кто-то там в Москве запретил, мол, кто он такой, этот сержант Крамарчук? И вот тогда Беркут показал, что он не кто-нибудь, а действительно…Беркут. Он послал их всех к черту и приказал: «Садись в самолет, сержант. В Москве я сам разберусь, что к чему». И настоял на том, чтобы действительно сел, хотя я не хотел подводить его.
Слушая, его Штубер одобрительно и в то же время задумчиво кивал головой.
– Не зря Беркут немного напоминает мне Отто Скорцени, нашего первого диверсанта рейха, – молвил он, когда Крамарчук завершил свой рассказ. – Впрочем, вряд ли вы слышали о таком.
– О том, который похитил Муссолини? Почему же, слышал. Беркут рассказывал, потому что сам интересуется этим диверсантом.
– Неужели интересуется?
– Очевидно, хочет знать, как работают германские коллеги.
– Вот видите, как много у нас тем для разговора, – остался доволен такой информированностью Штубер. – Кстати, где вы базировались? – с явной усталостью в голосе поинтересовался он.
– На Лазорковой пустоши. Можешь пойти убедиться.
– Значит, остальных партизан там уже нет? – задумчиво проговорил Штубер, поняв, почему партизан так охотно назвал место базирования. – Интересно, как Беркуту удалось спастись? Ну, говори-говори…
– Зачем тебе такие подробности?
– Только затем, что по-человечески интересно. Своему командиру этим рассказом ты уже все равно не навредишь.
– Задушевный ты весь какой-то, эсэс, – болезненно улыбнулся Крамарчук. Он говорил, с трудом шевеля распухшими губами.
– Слушай, сержант, ты храбрый парень, которого я запомнил еще по доту. Я не требую от тебя никаких тайн. Да и какие у тебя могут быть тайны? Но то, что знаешь о спасении Беркута, ты мне все же выложишь. Иначе тебя будут пытать так, как не пытали до тебя никого и никогда. Даже во времена инквизиции. – Штубер произнес это спокойно, почти сочувственно.
Да Крамарчук и сам понимал, что барону только для того и понадобилось оттягивать казнь, что появилась необходимость с пытками выведать у него подробности побега Беркута.
– Как ты проверишь, всю правду я сказал или нет?
– Душу выверну. Так что не надо торговаться со мной, сержант, – отчаянно повел подбородком барон. – И отмалчиваться тоже не советую.
Вместо ответа Крамарчук лишь устало посмотрел на него сквозь припухшие веки, приказал полицаю-конвоиру: «Заводи уже, аккурат!» и, не ожидая распоряжения, направился к зданию полиции.
5
Всем, кто сидел в кузове машины (на ящиках с патронами, гранатами и американской тушенкой, между несколькими мешками сухарей, на которых покоились два ручных пулемета-«дегтяря»), – этот рейс уже начинал казаться какой-то невероятной гонкой за смертью, прогулкой во фронтовой ад. И лишь «божественный капитан» (все, даже Арзамасцев, называли его теперь так, как прозвал лейтенант Глодов) вел себя совершенно невозмутимо. Но… дверца открыта, «шмайссер» на коленях, кобура пистолета расстегнута, три лимонки, переданные ему сверху ефрейтором, – надежно отяжеляли карманы шинели…
Тем временем наверху, за кромкой речной долины, разгоралась яростная перестрелка. На склонах то и дело появлялись отступающие красноармейцы, которые или не обращали на машину никакого внимания, или же пытались образумить ее водителя и пассажиров. А то вдруг возникали немцы, но каждый раз бойцам лейтенанта, вместе с отходящими красноармейцами, удавалось сбивать их с гребня.
Однако все это уже были мелкие эпизоды. Не выдержав натиска противника, красноармейские подразделения, еще вчера так храбро захватывавшие и расширявшие плацдармы на левом берегу реки, сегодня снова откатывались на исходные позиции. И делали это спешно, неорганизованно, оставляя на поле боя убитых, а иногда и раненых…
Только машина Божественного Капитана прорывалась все дальше и дальше. И все это время сам Божественный Капитан молча смотрел на дорогу впереди себя – невозмутимый и таинственный, хранимый то ли своей удивительной силой воли, то ли каким-то немыслимым солдатским счастьем-везением.
Постепенно те четверо пехотинцев во главе с лейтенантом, и трое бойцов-артиллеристов под командой худощавого, жилистого старшины Кобзача, что в отчаянии ухватились за борта случайной машины, чудом вырвавшей их буквально из-под автоматных очередей наседавших немцев, действительно начали верить, что доставшийся им в командиры «божественный капитан» то ли заворожен, то ли храним какой-то странной силой духа. Да к тому же обладает не только железными нервами, но и, должно быть, железным фронтовым опытом. И уже не роптали, не проклинали его, не пытались искать спасения вне его грузовика.
Впереди, за поворотом долины, в сером предутреннем тумане начали вырисовываться шпили каменистых уступов и скал, решительно оттесняющих реку на низинный склон правого берега. Еще до того, как водитель успел заметить их и что-либо сказать, Беркут понял: это и есть та коса, на которой держит оборону рота старшего лейтенанта Коруна.
И сам удивился: «Неужели сумели-таки прорваться к ней?» А еще подумал: «Господи, да есть ли там в живых хотя бы один боец?! Остатки этой роты уже наверняка “штурмуют” переправу. Если только вся она не погибла на косе».
– Вон там они… – заговорил наконец Ищук – так представился водитель-сержант Беркуту. С той минуты, когда они спустились на «пойменную», как он назвал ее, дорогу, водитель упрямо молчал, словно этим своим молчанием заговаривал собственную судьбу. А может, и молился про себя. Не часто, видать, приходилось ему совершать такие безумные рейды. – Точнее, были там, товарищ капитан.
– Божественно. Значит, мы вовремя. Но дорога… снова поднимается на равнину.
– То-то и оно! Самое страшное место. Развилка там. Одна колея сюда ведет, другая, почти неприметная сейчас, под снегом, – на косу, к хутору и каменоломням.
Он сбавил скорость и вопросительно посмотрел на Беркута. На гребне склона схватки вроде бы не было. Стрельба упорно перемещалась к переправе. Однако отчетливо слышно было, как по шоссе движется колонна машин, лязгают гусеницами легкие танки, очевидно, идущие по обочине; раздаются команды немецких пехотных командиров.
– Всем кроме ефрейтора Арзамасцева сойти! – негромко скомандовал капитан, уже стоя на подножке. – Лейтенант, захватить один «дегтярь». Запастись гранатами. Арзамасцев, с другим «дегтярем», прикрываешь с борта. Надо дать возможность водителю проскочить вон на ту каменистую косу. А ты жми! – бросил Ищуку, уже соскочив на землю. – Будем отходить, прикрывая.
Склон в этой части долины был как бы двухъярусным. Прежде чем подняться на первый ярус дорога совершала крутой изгиб, и Беркут оказался на нем чуть раньше, чем натужно ревущая, пробуксовывающая на подтаявшем склоне машина. К счастью, второй ярус дорога не захватывала, а ложбина, в которой колея уже почти не угадывалась, уводила круто вправо, протискиваясь между увенчанным двумя шпилями утесом и скалистым обрывом.
Поднявшись на гребень, капитан увидел, что колонна машин – немецкая колонна, это он определил без особого труда, – двигалась как бы из глубины предгорья, по направлению к косе. Однако метрах в трехстах от их «пойменной» развилки сворачивала и дальше шла параллельно берегу.
Куда-то туда, влево, в глубину перелесков уводила и отгораживавшая косу от долины невысокая, каменистая гряда. И там же, в конце ее, тоже то вспыхивала, то утихала перестрелка, на которую двигавшиеся к переправе немецкие части уже не обращали внимания.
«Очевидно, где-то там проходит основная дорога, связывающая трассу с каменоломнями. И это отстреливаются пехотинцы Коруна», – прикинул Беркут, мысленно представляя себе, как может выглядеть на карте силуэт гряды и венчающей ее косы.
– Эй, кто такие?! – мотоцикл остановился как раз у съезда к развилке. Но Андрей не сразу заметил его. Да и сейчас он пока еще едва-едва различал силуэты машин и людей. – Из какой части?
– Рота связи! – по-немецки ответил Беркут первое, что пришло ему в голову.
– Какая еще рота связи. Откуда она здесь взялась?
«Наряд полевой жандармерии, – понял Беркут. – Только полевые жандармы извещены о том, куда и какие части перебрасываются».
– Моя рота, – резко ответил Беркут, – обер-лейтенанта Гуттенберга! Остальное знают в штабе полка.
Он проследил, как машина Ищука ушла с серпантина нижнего яруса и медленно, слишком медленно, поползла ко внешнему щиту гряды. Вслед за ней суетливо отбегали и бойцы. Только лейтенант и один из его солдат, пригнувшись, остановились чуть позади Беркута, почти у гребня, чтобы, если понадобится, вместе вступить в бой.
«Молодец, лейтенант, – мысленно похвалил его Беркут. – Храбрее, чем можно было предположить. Хотя там, у переправы, явно запаниковал. Но, с кем не бывает?!»
– Так что делает здесь ваша рота связи, Гуттенберг? – все никак не мог успокоиться жандарм, сидевший в коляске.
– Что тут непонятного?! Приказано развернуть на этой гряде пункт связи, чтобы потом поддерживать ее с теми, кто закрепится на противоположном берегу.
– А что, русских за скалами нет?
– Они чуть дальше! Там, где идет перестрелка! – спокойно объяснил Беркут. – А если вдруг появятся, будем отмывать их в реке!
– Давно пора! – Старший мотоциклетного патруля крикнул еще что-то, но Андрей не стал испытывать дальше судьбу и, махнув рукой своему лейтенанту, тоже побежал вслед за машиной.
– Где немецкий изучали, товарищ капитан? – на ходу поинтересовался лейтенант.
– Как фамилия твоя, напомни?
– Лейтенант Глодов.
– Так вот, лейтенант Глодов, с сорок первого только тем и занимаюсь, что изучаю его. И главное, практика богатая, потому как все по тылам да по тылам врага.
– Вот оно что! Тогда многое проясняется, – многозначительно протянул Глодов. И Беркуту стало понятно, что проясняется для лейтенанта не только то, почему он свободно владеет немецким языком, но и почему так хладнокровно ведет себя в сложной фронтовой ситуации.
– А теперь останови своих людей и завали камнями этот проход. Но делайте это основательно. Потом усейте большими камнями часть дороги у завала.
– В любом случае, они запрут нас на косе, как в чулане, и выковыряют минами.
– И будут дураками, если не сделают этого. Будучи германским офицером, я поступил бы точно так же. Наука воевать – есть наука воевать.
На какое-то мгновение Глодов остановился, изумленно посмотрел на Беркута, на его немецкий автомат, пожал плечами и побежал догонять своих. Этот странный «божественный капитан» не переставал удивлять его.
– Рядовой, – остановил Андрей бойца, который бросился вслед за лейтенантом.
– Рядовой Звонарь, товарищ капитан.
– Звонарь?! Странно. Знал одного Звонаря. Но то была кличка. Видишь седловину? – показал он рукой левее прохода. – Отличная позиция. Если немцы попрут сюда, попридержи их минут на десять, пока подойдет подкрепление.
– Один?
– Да, один, – резко подтвердил Беркут, хотя внутренне согласился, что боец прав.
– Один, значит… – обреченно как-то повторил Звонарь. – Хотя бы еще одного кого-то…
– Я ведь уже объяснил вам, Звонарь: ваша задача – придержать врага. Услышав звуки боя, я пойму, что немцы подошли, и подброшу подкрепление. Но сначала нужно разобраться, что на этом плацдарме происходит, и где остатки роты, которая здесь вроде бы должна была окопаться.
Рядовому было лет тридцать. Маленького росточка, щупленький, в длинной, почти до пят, «кавалерийской» шинели, он на любом плацу мог бы служить прекрасным образцом того, как не должен выглядеть солдат ни одной уважающей себя армии мира. Очевидно, поэтому сразу же показалось, что он струсил.
– Повтори приказ.
– Занять позицию в седловине и задержать на десять минут.
– Божественно. Запасной диск к автомату есть?
– Только тот, что в автомате.
– У меня к твоему ППШ тоже нет. Подпустишь поближе и вооружишься оружием противника. Вот тебе еще две гранаты. Все, чем могу…
Беркут уже собрался уходить, но, вновь услышав обреченно произнесенное бойцом: «Значит, вы меня здесь одного…», задержался и похлопал парня по плечу.
– Да подбодрись ты, Звонарь! Ты ведь солдат, настоящий солдат. А впереди враги, и все они… твои. Попридержи их, застав залечь, покуражься. На фронте даже умирать надо, куражась, иначе, что это уже не война, а бойня, да и что это за солдат такой, без лихости, без куража?!
Он хотел молвить еще что-то, но, наткнувшись на затравленный, удивленный взгляд Звонаря, безнадежно умолк, поняв, что рядовой попросту не воспринимает сейчас его слова.
«Тебя бы к нам, в “дот смертников”, тогда, в конце лета сорок первого! Чтобы ты видел, как эти парни мужественно сражались и как они мужественно умирали.[3] Впрочем, – тут же одернул он себя, – сражались и умирали там тоже по-разному».
6
Проводя взглядом Крамарчука, Штубер обратил внимание, что у входа в полицейское управление появился какой-то офицер в кожаном пальто с меховым воротником.
Когда барон двинулся вслед за пленным, офицер все еще стоял, сцепив руки на нижней части живота, в позе «а ля фюрер», и из-под низко надвинутого козырька фуражки пристально наблюдал за Крамарчуком. Не обращая при этом никакого внимания на приближавшихся Штубера и лейтенанта из гестапо.
– Господин гауптштурмфюрер, – запоздало метнулся к Штуберу появившийся на крыльце обер-лейтенант из военной разведки. – Извините, вас ждет оберштурмфюрер фон Вартенбург, – вполголоса доложил он, очевидно, подчеркивая этим, что доклад его преследует одну-единственную цель: избавить Штубера от необходимости выяснять личность гостя. Тем более что командир батальона «рыцарей рейха» терпеть не мог подобных визитеров.
– И кто же он такой? – громко и беспардонно поинтересовался Штубер, не обращая внимания на самого Вартенбурга.
– Оберштурмфюрер прибыл из Берлина.
– Из такой глуши, да в наши края?! – воинственно осклабился барон.
– С особым заданием. Так сообщили из гестапо.
Лишь упоминание об «особом задании» спасло обер-лейтенанта от еще более неловкого положения, в которое Штубер неминуемо поставил бы его самого по поводу запоздалого доклада.
– Рад видеть вас, господин Штубер, – довольно небрежно отдал честь фон Вартенбург.
– Мне сказали, что вы из Берлина, господин Вартенбург. – Штубер решил забыть о его «фон», точно так же, как никогда, ни при каких обстоятельствах, не напоминал о своем собственном дворянском происхождении, при котором полагалась такая же приставка. – И, если мне не послышалось, с какой-то специальной миссией. Правда, понятия не имею, какой.
Говоря это, Штубер не сводил глаз с Крамарчука, которого, подчиняясь едва уловимому жесту его руки, конвоир-полицай, тот самый, что принес сержанту сапоги, остановил у крыльца и развернул лицом к нему.
– О миссии позвольте доложить чуть позже. Кто этот русский?
– Перед вами труп сержанта Красной армии и бывшего партизанского разведчика Крамарчука, – холодно процедил Штубер.
– Насколько я понял, на моих глазах уже происходит вынос тела?
– Мы чтим ритуалы.
– А несколько минут назад здесь происходила гражданская панихида, – охотно воспринял его мрачный юмор Вартенбург.
– Предание земле намечено на рассвете.
– Надеюсь, это мы прощаемся не с лейтенантом Беркутом?
– Вам известно даже о существовании Беркута? – искренне удивился гауптштурмфюрер.
– Как и его двойника. Вы действительно уверены, что этот пленный – не Беркут?
– Абсолютно уверен. Вы из ведомства Скорцени, я правильно понял? – оживился Штубер. Напоминание о Беркуте, а тем более, о его двойнике, прозвучало для него, как своеобразный пароль.
– Если вы помните, в свое время штурмбаннфюрер СС Отто Скорцени приезжал в ваш родовой замок фон Штуберов.
– Это был незабываемый для рода баронов фон Штуберов визит, – с легкой иронией подтвердил гауптштурмфюрер. – Он навечно останется в наших родовых сагах.
– Я так и решил, что вряд ли в этих сагах найдется место для неизвестного оберштурмфюрера, прибывшего в поместье баронов Штуберов в одной машине со Скорцени, но в роли шофера и телохранителя.
– Так, значит, тот сопровождавший Скорцени офицер – это были вы?!
– После этого мы еще виделись с вами в замке Фриденталь, куда Скорцени прибыл с инспекционной проверкой.
– Это в корне меняет дело, – только теперь Штубер пристально всмотрелся в лицо гостя.
Нет, он так и не признал в нем офицера, прибывшего тогда со Скорцени. Да Вилли как-то и не обращал на него внимания. А зря. Это будет ему уроком: случайных людей рядом со Скорцени не бывает. Даже если какое-то время они выступают в роли привратников.
– Не думал, что нам придется встретиться в Украине.
– Фронтовые встречи предвидеть невозможно. В камеру его, лейтенант, в камеру, – кивнул он в сторону Крамарчука. – До особого распоряжения.
– И я говорю, что аккурат в камеру, – пробормотал полицай-конвоир.
– Без моего приказа ни в чьи руки не передавать, – добавил тем временем Штубер.
– И на том спасибо, эсэс, – негромко произнес Крамарчук, и барону хотелось верить, что произнес он это искренне.
– Да, это меняет дело, оберштурмфюрер, – подтвердил Штубер, приглашая Вартенбурга в свою машину. – Сожалею, что и в замке Фриденталь нам не представилась возможность познакомиться более основательно.
Штубер был уверен, что после приезда в замок Фриденталь, где размещалась возглавляемая Отто Скорцени особая разведывательно-диверсионная школа (известная под ничего не говорящим названием «Специальные курсы особого назначения Ораниенбург» и слушатели которой ходили в основном в штатском), – оберштурмфюрера он больше не встречал.
Впрочем, тогда он и не проявлял к нему особого интереса, считая его обычным телохранителем «героя нации»; по этой же причине не поинтересовался и его фамилией. Тем более что интересоваться чьими бы то ни было фамилиями и кличками в замке Фриденталь как-то не принято.
– Кстати, сразу же после нашей прогулки в имение генерала Штубера у меня появилось одно небольшое заданьице, связанное с участием Скорцени в известной вам операции «Дуб»…
– «Известной»! – хмыкнул Штубер. – И не только мне. Еще бы: похищение Муссолини! Теперь это уже диверсионная классика, – с еще большим интересом взглянул Штубер на берлинца. – Однако в самой операции, насколько мне помнится…
– Увы, в самой операции участия принимать не пришлось, о чем сожалеть буду до конца дней своих.
– Вам действительно очень не повезло, – сочувственно молвил Штубер, приказав водителю двигаться к крепости, где проходила сейчас тренировка солдат его группы «рыцарей рейха».
– Зато знаю, что, разрабатывая эту операцию, гауптштурмфюрер СС Скорцени своевременно вспомнил о вас.
– Завидуете…
– Благодарите его адъютанта Родля. Это он вовремя напомнил Скорцени о прозябающем где-то на Восточном фронте бароне фон Штубере. Хотя с Восточного фронта людей старались не отзывать. Даже для таких важных операций.
– Отсюда вообще стараются не отзывать, – мрачновато ухмыльнулся Штубер. – Никуда. Разве что на небеса.
Вартенбург был спортивного вида, плечистым, уверенным в себе крепышом. Однако мертвенно-бледное лицо, с синими мешочками под глазами свидетельствовало, что человек этот уже давно ведет далеко не спортивный образ жизни. К тому же появился какой-то «червь», который постепенно, неумолимо подтачивал его тело.
– Это точно: группа состояла в основном из слушателей «особых курсов».
– Да еще из парашютистов корпуса генерала Штудента, – предавался приятным воспоминаниям гауптштурмфюрер.
– Странно, что после штурма горы Абруццо вас вновь вернули в Украину. Люди, прошедшие испытание итальянским «дубом», стали получать одно задание безумнее другого.
– Характер моих заданий соответствует характеру того периода войны, в который мы вступили, – популярно объяснил приезжему наглецу Штубер. – Вот почему кое-кому приходится сражаться здесь, чтобы чуть ли не каждый день участвовать в операциях, которые не сулят ни славы, ни чинов.
Вартенбург понял, что это прошлись по нему, но благоразумно промолчал.
– Так даже интереснее, – проговорил он через несколько мгновений. – Победы расхолаживают. А та ситуация, в которой оказалась сейчас наша армия, требует от народа собранности, воли, проявления истинно арийского духа.
Штубер поморщился. В последнее время берлинское радио он слушал только в часы, когда передавали последние новости. Красноречие Геббельса и его подопечных гауптштурмфюрера уже не интересовало, оно вызывало разве что чувство неловкости. Гауптштурмфюрер понимал, что Вартенбург далек от пропагандистского питомника Геббельса. Просто он мыслил, как все «истинные арийцы». Тем не менее Штубер желал бы поговорить с оберштурмфюрером о чем-нибудь предметном.
– Я не терплю разглагольствований, – продолжал тем временем сподвижник Скорцени, – о том, что все потеряно, что мы на грани краха. Германия не может потерпеть крах.
– Да что вы говорите?! – не удержался Штубер.
– Даже если мы проиграем войну, каждый, кто останется в живых, должен продолжать борьбу всеми имеющимися в его распоряжении средствами.
– После того как войну Германия все же проиграет? Звучит, как наставление для «Фольксштурма».
– Вы не поняли меня, господин гауптштурмфюрер, – жестко заметил Вартенбург. – Столь пространно я заговорил на эту тему только для того, чтобы вы знали: я – из тех, кто будет сражаться за фюрера и Германию до конца.
– Такая возможность – «до конца» – здесь представляется каждый день. Однако в Украину вас прислали, очевидно, не за этим. Впрочем… – Штубер выразительно посмотрел в сторону сидевшего за рулем штурмманна[4].
– Это мой водитель, – вполголоса обронил Вартенбург, давая понять, что всецело доверяет этому человеку. – Кстати, из курсантов Фриденталя.
– Тогда, очевидно, у него другой чин. И водитель – не основная его должность, – развил эту информацию Штубер. Они восседали на заднем сиденье, и в данном случае могли вообще не обращать внимания на этого человека.
– Так оно и есть.
Штубер снисходительно улыбнулся, прощая Вартенбургу подобное подражание Скорцени.
– Надеюсь, он не старше вас по чину?
– Равный.
– Кто бы мог предположить такое?!
Водитель несомненно слышал их разговор, однако продолжал вести машину с совершенно непроницаемым лицом, оправдывая исконную нордичность своего характера.
– И что же привело вас в Подольск?
– Желание ознакомиться с деятельностью вашей группы.
– Так это что, инспекция?! – изумленно уставился на него Штубер.
– Скорцени и сам приходит в ярость, когда в его присутствии произносят слово «инспекция». Но мне приказано срочно сформировать еще одну такую ж группу. В основном из славян, чтобы затем наиболее талантливых из них, после основательной проверки в деле, можно было бы командировать на «особые курсы». Из остальных – подготовить диверсионную группу, способную действовать в ближних тылах русских, где всегда остается немало людей, которым не хотелось бы иметь дела ни с русской контрразведкой, ни с русской службой безопасности. Со временем такая группа могла бы стать костяком национального сопротивления.
– Владеете русским?
– С легким сербским акцентом, – продемонстрировал на удивление чистые, белые зубы Вартенбург. Он сказал это на русском, но сербского акцента Штубер не уловил. – Или польским, – добавил оберштурмфюрер.
– Что в условиях Западной Украины предпочтительнее.
– Естественнее. Хотя поляков здесь не очень-то любят. Но дело не в этом. Важно, что партизаны, действующие у нас в тылу, дарят нам бесценный опыт. Грешно не использовать его для ослабления русских тылов.
– Именно для этого вам хотелось бы заполучить Беркута?
– О нет, я не собирался переманивать его. Если, конечно, он сам не изъявит желания прогуляться к линии фронта в составе моей группы.
– Не питайте иллюзий: не изъявит.
– В любом случае, мне приказано взглянуть на него.
– Исходя из опыта «особых фридентальских курсов», – кивнул Штубер. – Личная просьба Скорцени?
– Разрешено вступать с ним в переговоры, как с командиром украинских диверсантов. Но кажется, мне повезло: в гестапо мне сказали, что он схвачен, – не стал Вартенбург ни подтверждать, ни отрицать того, что личная просьба Скорцени относительно Беркута все же последовала. – Вот почему я сразу же помчался в полицейское управление.
– Огорчайтесь, оберштурмфюрер: за Беркута приняли человека, которого вы только что видели.
– Это и в самом деле огорчает.
* * *
Машина медленно взбиралась на возвышенную часть городка, и Штубер поневоле оглянулся, как оглядывался на этом отрезке дороги всегда. Далеко внизу открывалась часть речного изгиба, за которым виднелась верблюжья высотка острова. Чуть правее окраины этого островка находился поросший камышами затон, благодаря которому ему удалось в 41‑ом уйти с этого, еще занятого русскими берега.
Вырвавшись из кратковременного плена, он еще и умудрился провести удачную разведку части Могилевско-Ямпольского укрепрайона. Где-то там, над излучиной, должен был бредить своими легендами и замурованный дот «Беркут». Однако вспоминать о нем Штуберу не хотелось.
– Взятый ими в плен сержант Крамарчук, которого вы, оберштурмфюрер, только что видели, служил в доте лейтенанта Беркута. Уж не знаю, как там у них со схожестью характеров, но внешностью они довольно-таки похожи. Почти как близнецы.
– Считаете, что так было задумано русскими? – спросил Вартенбург. – Ведь их специально оставляли в нашем тылу.
– Чистая случайность, – возразил Штубер. – В стенах дота их свела сатанинская игра рока.
– Что-то трудно верится в подобные случайности.
– Их действительно оставляли в тылу, но не как диверсантов, а как обычных окопных смертников.
– Сомневаюсь-сомневаюсь. Смертниками были все остальные солдаты. Эти же двое знали о существовании тайного хода, но получили приказ воспользоваться им лишь после того, как будут исчерпаны все средства сопротивления частям вермахта. Причем остальные бойцы гарнизона не имели права знать о ходе, иначе они не сражались бы с таким упорством обреченных.
Штубер с удивлением взглянул на Роттенберга и, загадочно улыбаясь, покачал головой.
– Не стали бы, это точно. Но знаете, что меня умиляет, Вартенбург, что вы беретесь рассуждать о доте и Беркуте с такой непосредственностью, словно это вы, а не я, штурмовали дот лейтенанта Беркута.
– Но, согласитесь, обладаю той же информацией, какой обладаете вы.
– Исходящей из досье Скорцени, – дополнил его ответ Штубер. – Судя по всему, личность Беркута основательно заинтересовала обер-диверсанта рейха. Настолько, что в его ведомстве уже начали слагать о Беркуте легенды.
Вряд ли Вартенбург догадывается, добавил барон уже про себя, что легенды эти начали возникать после того, когда я лично охарактеризовал Беркута в беседе с «первым диверсантом рейха». Причем «герой нации» решил не только полагаться на мое чутье, но и собрать целое досье.
– Что же касается медсестры, то в «группе Берута» она возникла случайно. Как случайно появилась она и в самом доте, – неожиданно ворвался в его раздумья оберштурмфюрер, считая, что упреждает вопрос Штубера, который неминуемо возникает сам собой.
– Притом, что она была недурна собой.
– Настолько, что комендант дота сразу же влюбился в нее? Хотя, согласимся, что выбор там, в обреченном «доте смертников», у него был небольшой.
– И Крамарчук тоже влюбился. Относительно выбора – это вы правильно подметили, но девушка действительно поражала необычностью своего облика; засвидетельствовано многими. Отсюда и страдания моих нерасстреляных героев.
– Неистребимая мужская похоть! – снисходительно заметил Вартенбург. – Кстати, где она сейчас, эта ваша дотная фея? Небось тоже в партизанах?
– Недавно погибла. Начальник полиции майор Рашковский отличился.
– Однополчанин Беркута… – Услышав это уточнение, Штубер удивленно помотал головой. Он понял, что к поездке своей Вартенбург и в самом деле готовился основательно.
– А вот сведениями о Рашковском вы меня и в самом деле покорили. Похвально-похвально…
– Странно, что вы не направили его во Фриденталь.
– Ничего странного. В полиции этот трусливый Рашковский еще как-то смотрится, а вот в диверсионной школе… В этой шкуре представить его трудно.
– Однако он тоже умудрился влюбиться во все ту же Марию, за что и поплатился.
– Западню он, конечно, готовил для Беркута. Но сам же в ней чуть было не погиб. От руки все той же неукротимой медсестры из неукротимого дота.
– Из-за все той же жеребиной похоти. Вы так и не сообщили, где находится сейчас этот ваш капитан Беркут, – напомнил оберштурмфюрер, когда машина остановилась у подъезда к воротам крепости.
– По моим данным, командует диверсионно-партизанской группой.
– Противостоящей вашим «рыцарям рейха».
– Да, оберштурмфюрер, противостоящей. Меня это не унижает, поскольку Беркут достойный противник. Исходя из только что полученных сведений, его повысили в чине, наградили орденом Красной Звезды и переправили в Москву, где он, очевидно, пройдет ускоренную диверсионную подготовку.
– Хотя сам уже достоин того, чтобы преподавать в лучшей из разведывательно-диверсионных школ России.
– И не только России. Во Фридентальском замке он тоже смотрелся бы неплохо.
7
У входа в пролом, у которого, словно Гераклы у Геркулесовых столбов, уже трудились бойцы лейтенанта, Беркут увидел, как, растерянно оглядываясь, Звонарь пробирается между камнями к седловине.
«Ничего, – сказал себе капитан, вскакивая на подножку ожидавшей его машины. – В любом случае пять минут он нам подарит. На войне это тоже немало».
– Свои! – на всякий случай предупреждал водитель, высунувшись из кабины. – Не стрелять – свои! «Второй фронт» едет!
Но ему никто не отвечал. Местность вокруг представляла собой хаотическое нагромождение каменных наростов, небольших скал и внушительного вида глыб, которыми, казалось, небеса веками бомбардировали этот клочок земли, словно библейским грешноизбиенным градом.
Прокладывать себе дорогу между этими «градинами» было очень сложно. Водитель еле-еле проталкивал свой неповоротливый грузовик между скалами и глыбами-наростами, представавшими перед Беркутом холодными, пропитанными предутренним туманом и сурово молчаливыми. Да и руины дома, что показались впереди, тоже не отозвались ни одним живым голосом.
«Они что, с ума здесь все посходили?! Отошли от входа в этот забытый мир, не оставив никакого заслона или хотя бы дозора?! – возмущался Андрей, оглядываясь. – Ну, если мы до сих пор так воюем, тогда понятно, почему немцы нас назад поперли! Разве что в глубине косы уже вермахтовцы, и там засада?».
Но, вместо того, чтобы остановить машину, приказал:
– Ищук, спокойно вперед.
– Может, лучше здесь остановиться, да сначала разведать, что там за камнями этими, – впервые проявил нерешительность шофер.
– Какой смысл разведывать? Только время терять. Немцы сюда еще не дошли. У них приказ четкий: выйти к реке, захватить переправу, прорваться на тот берег. А если какая-то группа и забрела сюда, то будем считать наш рейд разведку боем.
– Знать бы, какой там у них в действительности этот приказ, руль-баранку им в руки, – обеспокоенно проворчал сержант. – А разведка боем… Вся жизнь моя шоферская, фронтовая и есть сплошная «разведка боем».
– Узнаем, какой у них был приказ, – заверил его Беркут. – Возьмем «языка» и вежливо поинтересуемся. Не первый день на передовой.
Только когда, виртуозно объехав пустующий, с выбитыми окнами и полуразрушенной крышей, дом, водитель вырулил на небольшую, более-менее чистую площадку, перед машиной наконец появилось двое бойцов в телогрейках, с автоматами в руках и засунутыми за ремни немецкими штыками.
– Ищук, геройская твоя голова, как же ты пробился сюда?! – вспрыгнул на подножку смуглолицый, скуластый младший сержант, не обращая внимания на сидящего рядом с водителем капитана. – Мы уж думали все: так, без тушенки, и отвоюем свое.
– Дурное тебе снилось, Мальчевский. Со «вторым фронтом» – и к своим не пробиться? Да после этого сам в пекло попросился бы.
– Братцы, навались! – сразу же вцепился в борт другой боец. – Все равно врагу достанется.
– Отставить! – вмешался Беркут, хлопнув водителя по плечу, чтобы остановился. – Сколько вас здесь? Где рота?
Бойцы удивленно посмотрели на рослого, еще достаточно молодого крепыша-капитана, на лице которого все – и по-ястребиному изогнутый нос, и пронизывающий взгляд, и выбивающаяся из-под фуражки смолистая, едва-едва подернутая сединой прядь волос, и завершающий резкие скулы прямой упрямый подбородок, – выдавали человека решительного, привыкшего к тому, что все вокруг понимают его с полуслова. И так же, с полуслова, подчиняются.
– Здесь – только четверо, и все, – сразу же соскочил с подножки младший сержант. – А что за целую дивизию воюем – так это, уж извините, ради немцев стараемся. Только ради них. Чтобы не грустили.
– Представьтесь, боец.
– Да что уж тут представляться? Младший сержант Мальчевский, командир несуществующего отделения погибшей роты. Со мной еще трое бойцов. Нам бы, понятное дело, давно следовало драпануть отсюда вместе со всеми отступающими. Но героический старший лейтенант Корун приказал младсержу Мальческому оставаться здесь, чтобы держать заслон, – не доложил, а скорее вежливо объяснил пехотинец.
– С твоими гренадерами все ясно. А где сейчас остальные бойцы?
– Остальные где-то там, у болота, с немцем перестреливаются. Еще четверо – в конце косы, за руинами рыбацкой хаткой, на «маяке», как мы говорим, сбивают плот. Да только черта два на нем пробьешься. На том берегу тоже фрицы.
– Плот сбивают? Божественно! Коса-то хоть большая?
– Шагов пятьдесят в длину, и шагов двадцать в ширину, к тому же изогнутая. А венчают ее руины какой-то башни, которые, собственно, и предстают в виде разрушенного «маяка».
– Бери своих гренадеров, младсерж, и завалите камнями этот проезд у дома. Дорогу до и после него тоже усыпьте камнями. Здесь будет наш первый и основной пост, на котором фрицы должны пропуска свои, кровью окрашенные, пропускать.
– Какой пост, какой, козе под хвост, пост?! – вмешался рядовой, подбежавший к машине вместе с Мальчевским. – Ты же все видел, младсерж Мальчевский! Уходить надо! Плоты сбивать и уходить, пока еще можно уйти!
– Считаете, что немцы заняли этот берег до конца тысячелетнего рейха? Или паниковать вздумали? Младший сержант, выполняйте приказ. Как только все здесь завалите, отзовите красноармейца Звонаря.
– Звонаря? – переспросил младсерж. – Кто такой, почему о таковом лично мне доложено не было?!
– Он остался у въезда в эту каменную пустыню.
– Один, что ли, остался, легионер короля Мафусаила?
– Предпочитает, знаете ли, одиночество.
– Тогда это наш хлопец.
– Командира! Любого командира! – донесся до них крик солдата, появившегося у второго дома, со снесенной крышей. – На связи командир дивизии.
– Все еще действует связь? – удивленно спросил Беркут подбегающего к машине лейтенанта. И лишь когда тот развел руками, вспомнил, что Глодов прибыл сюда вместе с ним. – Арзамасцев, Ищук! Груз – в каменоломню. Машину тоже укройте, – отдавал приказания, уже подбегая к дому, на обгоревшем, разрушенном крыльце которого стоял высокий, по-старчески сутулый телефонист.
8
Часть крыши дома упала так, что подступиться к входной двери можно было лишь пригнувшись и пройдя под свисающими бревнами. Но в самом доме, особенно в просторной кухне, с окнами, забитыми подушками и завешанными шинелями, было довольно тепло и даже по-своему, по-фронтовому, уютно. Чувствовалось, что еще недавно здесь топили печь. Причем огонь в ней разводили, несмотря на то, что верхняя часть дымохода была снесена.
– Командир дивизии – в звании генерала? – спросил Беркут связиста, отыскивая при свете керосинки лежавший в углу, на каком-то ящике, полевой телефон.
– Генерал-майор Мезенцев, – полушепотом ответил связист, очевидно, побаиваясь, как бы на том конце провода генерал не услышал свое имя, всуе произнесенное безымянным ефрейтором.
– Здесь капитан Громов.
– Капитан… кто? – переспросили охрипшим, совсем некомандирским голосом на том конце провода.
– Громов, товарищ генерал! – решил Андрей назвать свою настоящую фамилию, понимая, что генерал начнет выяснять, кто он таков и откуда взялся.
– Слушай, капитан, что там у тебя происходит?!
– Воюем, товарищ генерал.
– Понятно, что воюете, но ты давай открытым текстом, черт с ними, если прослушивают. Что происходит? Вы все еще держитесь?
– Держимся, конечно.
– Какими силами? Вы – единственные, кто еще цепляется за тот берег. Сколько у тебя людей?
– Думаю, человек сорок насчитаем. – Андрей вопросительно взглянул на связиста, но тот растерянно пожал согбенными плечиками.
– Может, и наберется, – проговорил вполголоса.
– Противник пока еще только прощупывает нас. Он все еще в азарте наступления, а потому ринулся к броду, к переправе…
– Он не к переправе. Он уже за этот берег зацепился и теснит нас, – прохрипел-пророкотал в трубку генерал. – Так сколько вас, говоришь?
– Я только что прибыл, товарищ генерал. Мне нужно еще минут двадцать, чтобы выяснить…
– Постой-постой! Откуда это ты прибыл? Из какого полка? Что-то я тебя, Громов, не припомню.
– Я не из вашей дивизии, – Беркут оглянулся на вошедшего лейтенанта и жестом попросил его присесть – он мог понадобиться.
– Так все-таки откуда? – теперь голос генерала звучал настороженнее и требовательнее. – Из соседней дивизии, что ли?
– Дело в том, что на косу я попал случайно. Мы прорвались на грузовике, который подвозил сюда боеприпасы и продукты. Сам я из-за линии фронта. Командовал диверсионно-партизанской группой. В Украинском штабе партизанского движения меня знают, как «лейтенанта Беркута». Внеочередное звание, «капитан», присвоили всего лишь несколько дней назад. Это я на тот случай, если вдруг начнете выяснять!
– Ни черта не пойму, – откровенно проворчал генерал, однако теперь голос его стал мягче.
– Я – тоже не многое понимаю, – успокоил его Беркут, считая, что вникать в подробности комдиву не обязательно. Главное, чтобы сгоряча не принял его за диверсанта.
– Но все-таки чуть подробнее.
– Наш самолет, то есть тот самолет, на котором меня как командира разведывательно-диверсионной группы должны были доставить из-за линии фронта в штаб армии, был подбит и сел на вашем берегу, в трех-четырех километрах от реки, справа от дороги, ведущей к переправе. Там осталось несколько бойцов, однако немцы могут захватить самолет, – поспешно чеканил Андрей, опустившись на краешек стула, на котором еще стояла миска с солдатской похлебкой.
Он опасался, что объяснение может затянуться, потому что объяснить генералу, кто он такой, откуда прибыл и как оказался здесь, значит, по существу, пересказать половину своей фронтовой биографии.
– Самолет, говоришь? Это же где-то в расположении вашего полка… – вполголоса проговорил генерал, явно обращаясь к кому-то из стоящих рядом с ним. – Тогда почему не доложили? Не знали? Быстро разведчиков… Обеспечить охрану самолета.
– Его нужно отбуксировать в безопасное место, – вклинился в их разговор Беркут. – Экипаж остался у машины. Вместе с ним – прибывший со мной майор-летчик, сбитый немцами над партизанскими лесами, и один из моих бойцов.
– Понял, капитан, понял, – занервничал теперь уже генерал. Он тоже почувствовал, что время уходит. Драгоценное время.
– И еще просьба, – властно перебил его Андрей. – Найдите, пожалуйста, способ связаться с Москвой, с Украинским штабом партизанского движения, и сообщить, что капитан Громов, он же капитан Беркут, – «капитан Громов, он же Беркут» сразу же диктовал телефонисту генерал, – из-за линии фронта прибыл. Но задерживается по теперь уже известным вам обстоятельствам.
– …Только что прибыл, – лихорадочно диктовал генерал, на которого магически подействовало сообщения о том, что капитана Беркута доставляют из-за линии фронта. – Самолет подбит и совершил вынужденную посадку….В Украинский штаб партизанского движения. Майор, позаботьтесь. Все у тебя, капитан?
– Так точно, товарищ генерал.
Несколько секунд трубка молчала. Беркут даже потряс ее, поднялся и еще раз вопросительно взглянул на стоявшего рядом и, почему-то навытяжку, ефрейтора, заподозрив, что связь прервана.
– Слушай, капитан, – вдруг снова зарокотала трубка. Но только теперь в голосе генерала послышалось нечто такое, что заставляет подчиненного напрячь внимание, сосредоточиться и преисполниться желанием выполнить. Во что бы то ни стало выполнить. – Слушай меня внимательно, дорогой ты мой, – это «дорогой ты мой» совершенно не вписывалось в тон и суть их разговора, но что поделаешь? – Кто бы ты ни был и откуда бы ни появился. Но коль уж ты оказался на плацдарме… Моим именем и приказом… Как представитель штаба дивизии… Собери всех, кто оказался на этом плато. Независимо от того, из каких они частей.
– Есть, собрать всех, кто способен держать оружие.
– Правильно, по-солдатски понимаешь, – одобрил генерал. – Где-то там, судя по карте и донесениям, есть старая каменоломня, хутор, болото. Местность каменистая. Словом, если ты из-за линии фронта, да командовал такими людьми… Собери и продержись. Во что бы то ни стало – продержись.
– Понял, товарищ генерал. Исходя из вашего приказа, буду действовать как комендант гарнизона этого плацдарма.
– Как комендант – это да. Однако ничего ты не понял. Ты еще ничего не понял, капитан, – гремел в трубке голос генерала. – Понять может лишь тот, кто знает, какой кровью доставался нам этот плацдарм, эта самая каменоломня и хуторок Каменоречье – при форсировании. Поэтому собери бойцов и держись. До вечера не обещаю. Дай бог здесь выстоять. Но скоро штаб армии подкинет резервы и тогда… До вечера – нет, а завтра на рассвете обязательно попытаемся пробиться к тебе. И нужен будет плацдарм. Ты же знаешь: порой двадцать, пусть даже всего-навсего десять, метров «своего» берега, но своего, не стреляющего, не ощетинившегося стволами, – и то уже солдатское счастье.
– Да все ясно, – вдруг неожиданно даже для самого себя рассмеялся Беркут. Услышав его смех, генерал не поверил себе. И ошеломленно умолк.
– Что это ты так? – почти оскорбленно поинтересовался Мезенцев.
– Извините, товарищ генерал. Приказ ясен. Я ведь с июля сорок первого, с Днестра, по эту сторону фронта не появлялся. А на Днестре командовал дотом. Тридцать бойцов – и ни шагу назад. Поэтому лишних вопросов у меня, как правило, не возникает.
– Значит, капитан? Фамилия твоя Громов… Запиши, – скомандовал он кому-то. – Запиши, штабная твоя душа, еще раз. «Капитан Громов». И представить, понял? Вплоть до Героя. Ты все слышал, капитан?! Уже представляю к награде. Только продержись. Хотя бы сутки.
– Есть, продержаться сутки!
– Но… слышишь, капитан, – вдруг перешел он почти на шепот. – Ты уж… до последней возможности. Через невозможно… До последнего, так сказать, солдата. Зубами за тот берег цепляясь. Извини, что говорю так, но именно: до последнего. Объяви это моим приказом.
Беркуту вдруг вспомнился обгоревший немецкий офицер-танкист, докладывавший ему ночью посреди заснеженной, усеянной трупами равнины. «Мы сражались до последнего солдата…». Не хотел бы он дожить до этой его страшной фразы и до его состояния.
– Отходить нам все равно некуда.
– Так ведь река… Можно плот…
– Плот есть. Но будет уничтожен. Если появится возможность, пусть летчики сбросят нам боеприпасы и продукты. На тот случай, когда через сутки ваши войска не выйдут к берегу.
– Это будет, капитан. Это подбросим. И считай, что ты уже в списках офицеров штаба дивизии. С партизанским штабом твоим я разберусь. Поэтому держись, умоляю и приказываю: держись!
* * *
Положив трубку, Беркут присел на краешек стола и какое-то время смотрел на потрескавшуюся стену перед собой.
«Держаться до последнего солдата!» – такой приказ он слышал впервые. Впрочем, суть его стара и вечна, как войны и армии.
Андрей снова вспомнил обгоревшего немецкого офицера, который в бреду принял его, очевидно, за командира своего полка. «Мы держались до последней возможности. Как приказано…».
Кажется, только теперь он по-настоящему понял, что таилось за словами этого офицера, чего они стоили ему. И проникся уважением. Да, уважением к врагу, в мужеству врага.
И генерала Мезенцева он тоже понимал: при создавшейся ситуации приказ его должен был звучать только так. Другое дело, что его по-иному можно было сформулировать. Впрочем, «до последнего патрона» тут не скажешь.
До последнего солдата, последней капли крови…
– Что, пригвоздили нас, капитан? – вывел его из оцепенения лейтенант Глодов. – «Стоять насмерть – а Родина вас не забудет!». «Умереть, но ни шагу назад!»
– «Насмерть» и «умереть» как раз не приказывали. Понадобимся живыми, – спокойно ответил Беркут. – Мертвые плацдарм не удержат.
– То есть на тот берег нам уже не позволено? Так нужно понимать?
– Ни в коем случае. Командованию мы нужны здесь, а не на том берегу.
– Значит, эти камни снова стали плацдармом? – нервно прошелся Глодов из угла в угол. – Ну, ты как хочешь, капитан, а меня здесь не было. Я этого приказа не получал. У твоей машины я и мои люди оказались случайно. Мы сбиваем плот и уходим. А нет – так вплавь. Тут реки – на два ручейка…
– Божественная мысль, лейтенант. «Мы не слышали, нас здесь не было мы уходим». Не прощаясь!
Лейтенанту еще не знакома была эта властная, холодно-презрительная улыбка Беркута, которая многих охлаждала и там, в обреченном доте на берегу Днестра, и потом, в партизанском отряде, и в плену. Поэтому, когда капитан поднялся и подошел к нему вплотную, лейтенант сначала не понял и решил, что Андрей согласен. Он даже сказал: «Ну и ладненько, капитан», но тут же осекся.
– Только запомните, лейтенант Глодов, что после приказа отданного мне генералом Мезенцевым, ни один человек из этого плацдарма не уйдет. Это вы, лейтенант, надеюсь, слышали? Или, может быть, повторить?
– Да плевать я хотел!.. Мне нужно в часть. Явиться пред ясные очи командования, пополнить взвод людьми…
Беркут внимательно выслушал Глодова, глядя ему прямо в глаза, холодно кивнул и абсолютно спокойно приказал:
– Соберите бойцов. Прихватите боезапас. Выступаем на помощь роте. Телефонист, мастеровых, которые у плота, немедленно сюда. Если не подчинятся, расстреляю перед строем.
– Так и передать? – ужаснулся телефонист.
– Можете пару теплых слов добавить от себя лично. Разрешаю. В каменоломне бывать приходилось?
– А как же.
– Когда вернетесь, присмотрите хорошую выработку, перенесите туда аппарат и оборудуйте нечто похожее на КП. Линию замаскировать. Вы все еще здесь, лейтенант? – обратился уже к Глодову, который почему-то не торопился оставлять дом. – Вам не ясен был приказ?
– Да приказ-то ясен, однако…
– Так выполняйте же его, черт возьми! – как можно внушительнее произнес Беркут. – Рота истекает кровью.
– Но я не из дивизии этого вашего генерала Мезенцева.
– Так, может быть, вы уже уволили себя из рядов Красной армии, а, лейтенант? – расстегнул кобуру Беркут, поигрывая при этом желваками. – Не слышу ответа.
– Есть, выступить на помощь истекающей кровью роте, – отдал честь Глодов, хотя и сверкнул при этом недобрым взглядом, которому Божественный Капитан попросту не придал значения.
9
Они прошлись по крепостному двору, осмотрели две полуразрушенные и одну наспех отреставрированную башню, проникаясь при этом фортификационным мастерством предков и сравнивая эти стены и башни с крепостными цитаделями Германии.
– Говорят, вы много времени проводите в этой башне, – остановился Вартенбург возле той из них, вершина которой совсем недавно была наспех наращена кладкой из дикого камня. – Скрашивает тоску по родине и навевает воспоминания о родовом замке Штуберов?
– Во всяком случае, наталкивает на размышления, – суховато просветил его гауптштурмфюрер. Ему не нравилось, что берлинский гость начинает выяснять такие нюансы его бытия, вторгаться в которые ему не следовало бы.
– Да-да, мне известно о ваших психологических изысканиях, – все еще по инерции молвил Вартенбург, но, уловив настроение барона, тут же сменил тему: – Не сказал бы, что эта крепость впечатляет, – очертил он пространство перед собой широким движением руки. – В сравнении с тем, что нам с вами приходилось видеть в Саксонии и Пруссии… Явно не впечатляет.
– Зато моим «рыцарям рейха» эти стены в самом деле напоминают о временах рыцарства и о том, что они все же не просто солдаты, а рыцари, элита, надежда рейха.
– Считаете, что нечто подобное в душах ваших бойцов действительно возникает?
– Причем вместе с ощущением защищенности. Ни один партизанский отряд не способен проникнуть на базу моих рыцарей. Ни одно нападение…
Штубер хотел продолжить свою мысль, однако, встретившись с удивленно-насмешливым взглядом Вартенбурга, запнулся и умолк.
– Странно, у меня есть сведения, что партизаны все же тайно проникали на территорию крепости. К примеру, этим двором разгуливал в форме германского офицера все тот же лейтенант Беркут.
Услышав это, Штубер явно смутился. Поднявшись по каменным ступеням на крепостную стену, он заставил подняться туда же и Вартенбурга. Какое-то время они молча осматривали подступающий к самой твердыне луг, с узкой ленточкой речушки, ожерелье рощиц и сплошную стену леса, по ту сторону шоссе, за грядой невысоких холмов. Вилли мог любоваться этим пейзажем часами, он привораживал, вдохновлял, а главное, вырывал из потока реального бытия, сотворяя некий полумиражный мир воспоминаний, желаний и ни к чему не обязывающих грез.
– Если вернуться к событиям, связанным с посещением крепости лейтенантом Беркутом, – заговорил барон уже тогда, когда Вартенбург смирился с его нежеланием касаться этого странного события. – Там все происходило немного по-иному.
– Хотите сказать, что меня неверно информировали? В таком случае внесите ясность. Я вообще не касался бы этого эпизода, если бы речь шла не о Беркуте.
– Беркут и в самом деле побывал здесь в форме германского офицера, – я сам докладывал об этом начальнику местного отдела СД. Однако его появление здесь следует воспринимать как своеобразный визит вежливости, а не как нападение или проникновение в крепость с целью покушения.
– Согласен, это тоже следует принимать во внимание, – сдался Вартенбург. – Тем не менее… Как часто он наносил вам подобные визиты, господин фон Штубер?
– Второй раз испытывать судьбу лейтенант не решился.
– Но если вы знали, что перед вами Беркут, то почему не убили или не задержали.
– Вам бы следовало знать, что Беркут – диверсант экстра-класса. А следовательно, проник он не один, с надежными документами и со столь же надежной поддержкой и подстраховкой. Чтобы понимать, с кем мы имеем дело, нужно знать, с кем имеют дело наши враги, когда в операции против них участвует Отто Скорцени.
Они спустились со стены и, пройдя вдоль нее, остановились в проеме лишь недавно восстановленных по приказу Штубера ворот, ведущих с общего крепостного двора в мощную цитадель. «Перепоясанные» толстыми металлическими пластинами, они все еще пахли древесной смолой и кузнечным горном и казались очень крепкими, даже с учетом того, что разбивать их могут автоматными очередями и гранатами.
И на общем дворе, и на территории цитадели инструктора обучали небольшие группы новичков рукопашному бою. Эти «птенчики» лишь недавно были навербованы людьми Штубера в полиции, в лагерях военнопленных и в расположившемся на противоположной окраине Подольска батальоне власовцев. Но хотя отбор, как уверяли барона, был очень жестким и сугубо профессиональным, парни эти особого восторга у него не вызывали. Личности среди них не было, вот в чем беда. Ни одной настоящей личности. Во всяком случае, Штубер не мог выявить их.
В последнее время гауптштурмфюрер делал все возможное, чтобы наконец сформировать благословленный Скорцени батальон «рыцарей рейха». Две роты его могли бы состоять из где угодно навербованного сброда, который можно бросать на любые антипартизанские акции. Третья же, отборная, должна была состоять в основном из германцев и представляла собой ту группу профессиональных диверсантов, которую они со Скорцени когда-то, собственно, и задумывали.
Эту роту должен был возглавить прибывший из Фриденталя инструктор, оберштурмфюрер Альфред Бернадис, а отдельным взводом в нее должны были войти остатки «старой гвардии», то есть остатки группы фельдфебеля Зебольда, подчинявшиеся только лично ему, Штуберу.
Понятно, что использовать эту роту командир батальона Вилли Штубер намеревался в щадящем режиме. Прибегая к услугам ее «рыцарей» лишь в исключительных случаях, при проведении самых деликатных операций, в ходе которых его старая гвардия получала бы хорошую военно-диверсионную практику, а не складывала головы под березовыми крестами.
– …Нет, Рашковский никогда не был романтиком войны, – неожиданно даже для самого себя вдруг вернулся Штубер к воспоминаниям о майоре. Слова его не предназначались для Вартенбурга, скорее это были всего лишь размышления вслух. – Если бы меня спросили, кто он такой? Обычный тыловой мясник, зверствовавший к тому же в своих родных краях. Не спорю, такие люди нам тоже нужны. Но это не тот материал, из которого потом появляются настоящие «коршуны Фриденталя». Иное дело Беркут…
– Но его у вас нет. И вы до сих пор не установили с ним контакт, – резко отреагировал Вартенбург. – Зато есть сержант Крамарчук, которого почему-то торопитесь отправлять на тот свет.
– Вам хотелось бы предъявить его Скорцени, – осклабился Штубер. – Понимаю: экзотический трофей с Восточного фронта. Но даже если бы Крамарчук и согласился на сотрудничество, это явно не Беркут. Не романтик войны. Не спорю, парень он храбрый, но…
– Вы что, действительно убеждены, что во Фриденталь попадают исключительно романтики войны?
– Что вы, оберштурмфюрер, туда тоже попадает немало сброда! Однако задумывалась эта особая диверсионная школа, курсанты которой должны были «практиковать» во всех уголках мира, именно как школа истинных «романтиков войны». Прекрасно вышколенных, преданных идее арийского господства и готовых действовать в любое время, в любой точке земного шара, с искренней верой в новый мир и новый порядок, даже через много лет после поражения Германии в этой благословенной Богом и фюрером войне.
– О Фридентальских курсах Скорцени придерживается того же мнения.
– Их выпускники должны действовать уже не во имя господства одной лишь арийской расы, но во имя господства арийского духа, независимо от того, в чью европейскую, и вообще белую душу он вселяется. Потому что и создание ее было задумано и осуществлено истинным романтиком войны. Коим, кстати, был в свое время известный вам корсиканец.
– И вы уверены, что Беркут принадлежит к плеяде таких «романтиков войны»?
– По крайней мере способен и достоин принадлежать к ним. Притом, что я не собираюсь наделять Беркута никакими особыми характеристиками, – жестко отчеканил Штубер. Он не любил, когда его провоцировали на исповеди, подобные той, которую он только что произнес. И тем более – не собирался убеждать заезжего оберштурмфюрера, что Беркут соответствует его представлениям о том, кто такие «романтики войны», и о том, кто имеет моральное право именовать себя «коршуном Фриденталя». – Этого человека нужно видеть в деле. Или хотя бы внимательно ознакомиться в местном гестапо со всеми материалами, касающимися его боевых действий.
– Что я и сделаю. Сегодня же. Но хочу, чтобы вы знали: я – солдат, и до тех пор, пока идет война, не приемлю никакой романтики, кроме романтики холодного солдатского расчета, мощного удара и жесточайшей беспощадности по отношению к каждому, кто восстает на нашем пути с оружием или словом.
– В таком случае вам крайне трудно будет понять многое из того, что здесь сейчас происходит. А еще труднее будет подбирать именно тех людей, которые нужны сейчас отделу диверсий Главного управления имперской безопасности.
Вартенбург не ответил. Однако от Штубера не ускользнуло, что, поднимаясь вслед за ним полуразрушенной лестницей на крепостную стену, оберштурмфюрер иронично улыбался. Теперь он понимал, почему Штубер избрал местом для своей базы именно эту старинную цитадель. Точно так же, как становилось понятным то, что трудно поддавалось объяснению в кабинетах Отдела диверсий управления зарубежной разведки СД, которым руководил сам Отто Скорцени.
«Романтики войны! – недоуменно возмущался про себя Вартенбург. – Сотни тысяч германских солдат гибнут на фронтах и замерзают в снегах. Германия буквально задыхается в тисках врагов, в стане которых оказались почти все ведущие страны мира. А в это время отборные офицеры-диверсанты собирают под свои знамена неких «романтиков войны», возятся с партизанами-диверсантами типа Беркута, а главное, имея неплохо обученных солдат, отсиживаются за стенами средневековой крепости, в глухом уголке Украины, в глубоком тылу!.. Непостижимо!»
– Однако вернемся к вашему «романтику» Беркуту. Последнему «романтику войны» на этой, никогда не знавшей воинской славы, земле… Что утверждает ваша агентура? Каковы его дальнейшие намерения?
– Для начала – относительно воинской славы. Коль уж вы затронули этот вопрос, то должны знать, что Украина дала миру так называемое «сечевое казачество», сотворив на своей земле один из самых могущественных и воинственных рыцарских орденов – Запорожскую Сечь. Во все века и во всех армиях – польской, русской, австрийской, германской – украинцы отличались особой воинственностью и дисциплиной. Так что в этом смысле украинский солдат ближе всего оказывается к германскому.
– Не удивлюсь, гауптштурмфюрер, узнав через какое-то время, что вы возглавили отряды украинских повстанцев, сражающихся за независимость от России.
– Вы даже не догадываетесь, какую прекрасную идею подсказываете мне, – задумчиво проговорил Штубер, опираясь руками о края замшелой бойницы. – Очевидно, я слишком много времени провел в стенах этой крепости, да в окрестных лесах, где все пропитано кровью и духом украинцев. А что касается их возможного предводителя Беркута… Стоп! – вдруг воскликнул фон Штубер. – Вы, Вартенбург, даже не догадываетесь, какую гениальную идею только что подали.
– Считаете, что его следует готовить к роли лидера украинских националистов?
– Именно к этой мысли вы меня сейчас подтолкнули. Хотя родился Беркут-Громов на Дальнем Востоке, однако происходит из древнего украинского казачьего рода, один из основателей которого оказался на Амуре вместе с казачьим полком, направленным туда царским правительством для охраны границы. К слову, настоящая фамилия его предка была Грим, то есть, в переводе с украинского, Гром.
– Что ж, при должной идеологической подготовке, ваше предложение может показаться такому человеку заманчивым.
– Для начала попытаемся определить расположение его новой партизанской базы и установить с ним хоть какой-то контакт.
– Насколько мне известно, это не первая ваша попытка. У вас с Беркутом давнишний рыцарский роман.
– Мои убийственно-рыцарские отношения с Беркутом – особая легенда этой войны, – сурово отреагировал Штубер. – Но я просил бы вас не касаться деталей. Истинную суть этих отношений вы уловите сразу же, как только отправитесь в лес, для участия в операции против группы Беркута. Там вы многое поймете. Если только удастся уцелеть.
10
Бой шел в каменистой ложбине, и последние метры Беркут с двенадцатью бойцами подкрадывался к ней, петляя между огромными валунами и пытаясь при этом выяснить, где тут свои, где чужие. И хотя в принципе капитан готов был к любым неожиданностям, но все же страшно удивился, услышав немецкую речь, доносящуюся прямо из-за гребня, на скате которого он залег.
По представлениям Андрея, здесь, со стороны хутора, позиции должна была удерживать рота Коруна. Однако на гребне он со своим «дегтярем» в руках появился в тот момент, когда взвод немцев прорвался по ложбине во фланг обороняющимся и начал обходить их, отрезая путь к косе, каменоломням, оттесняя все дальше, к правой оконечности полуострова, за крайней грядой которого довольно четко вырисовывались в утренней дымке густо поросшие ивами плавни.
Капитана и его бойцов немцы заметили слишком поздно, уже взбираясь по крутому склону, и группа Беркута, залегшая густой цепью, буквально смела их оттуда автоматно-пулеметным огнем. А потом, вместе с воспрянувшими духом бойцами роты Коруна, которые так и не смогли понять, откуда взялось это неожиданное подкрепление, упорно выбивали их из расщелин и из-за камней.
После пятнадцатиминутного боя немцы были вытеснены сначала из низины, затем из той части гряды, которую успели захватить, и снова отброшены на исходные позиции – в поросшую кустарником болотистую долину, посреди которой лишь кое-где, словно ростки гор, высились каменные островки-глыбы.
– Ну, чего опять землю нюхаете?! Чего нюхаете?! – нервничал старший лейтенант Корун, лежа в естественной чашеподобной воронке, на подстеленной кем-то из бойцов шинели.
– Не нюхаем, а закрепляемся, – огрызнулся кто-то из бойцов.
– «Дозакреплялись» уже, что немцы чуть было командира вашего в плен не взяли! – недовольно пробубнил старший лейтенант. – Вояки хреновы!
– Не хули нас, командир, скажи спасибо, что и так еще держимся. Другие, вон, давно побежали. Даже с того берега – побежали.
Еще час Глодов был ранен в бедро, и это после его ранения немцы прорвались в ущелье и зажали остатки роты на небольшом, почти ровном плато, обороняться на котором очень трудно. Ситуация действительно была сложной, и если бы не подоспел Беркут со своими бойцами, старлею пришлось бы то ли стреляться, то ли сдаваться в плен. Если только немцы захотели бы возиться с ним, раненым.
– Нужно было сразу же контратаковать! Как только они ворвались на склоны, – контратаковать, – все накалял себя Корун. – А сейчас преследовать. Преследовать, старшина Бодров!
– Ага, так просто: «контратаковать-преследовать…», – мрачно возражал ему старшина, по существу, принявший на себя, как старший по званию, командование ротой. – Так контратаковали, что из роты, из ста двадцати бойцов, пятьдесят два человека осталось! Да нет, уже пятьдесят один. Из них семеро раненых, вместе с вами! Вы же видели, сколько людей гибнет во время контратак да рукопашных. Их теперь потихоньку нужно. Из-за камней, маневрируя…
– Не трави: «потихоньку»! – брезгливо как-то парировал Корун, болезненно морщась и пытаясь подняться повыше, на склон впадины, чтобы сесть. В правой руке у него все еще был пистолет и, говоря это, он все время размахивал им, словно действительно поднимал бойцов в контратаку. – Эй, кто такие?! – воинственно поинтересовался он, увидев на скате этого известнякового кратера капитана Беркута, лейтенанта Глодова и двух рядовых.
– Так это ж они нас и спасли, – успел подсказать Бодров.
– Меня никто не спасал, старшина! Можно подумать, что рота уже погибла!
– Капитан Беркут, – спокойно назвал себя Андрей, спускаясь по склону чуть ниже, чтобы не маячить на простреливаемой равнине. – Представитель штаба дивизии. Получил приказ генерала Мезенцева возглавить все оказавшиеся здесь, на плато, группы и удерживать плацдарм до наступления основных сил дивизии.
– Интересно, какие такие группы ты можешь возглавить здесь, капитан?
– Понимаю, что вы ранены, товарищ старший лейтенант. Тем не менее просил бы сменить тон.
– Что?! – осекся Корун, удивленно взглянув на Бодрова. Но старшина молча передернул борцовскими плечами и посмотрел куда-то ввысь, на низкое, насупившееся небо, не предвещавшее в эти ранние часы ни солнца, ни тепла, ни тихой погоды. – О чем это он?
– Не горячитесь, старший лейтенант, – попробовал успокоить его Глодов, однако ротный уже закусил удела:
– Кажется, здесь еще один Багратион объявился, – все еще продолжал Корун обращаться к своему старшине. – Когда надо было захватывать этот плацдарм, что-то его здесь не видно было, а теперь вдруг решил погеройствовать.
– Итак, в роте у вас пятьдесят один боец? – словно бы и не расслышал его слов капитан.
– Там, у болота, залегло семеро чужаков-пехотинцев, – вставил старшина, все еще не отводя глаз от серой ширмы небес. – Хорошие хлопцы, только чуток перепуганы. И ефрейтор, что командует ими, вроде как контужен. Хомутовым его кличут. Нервный какой-то.
– Божественно, значит вас пятьдесят восемь, – оживился Беркут. – Это уже гарнизон. Лейтенант, – обратился к Глодову, – тех семерых возьмете под свое командование. Таким образом, сформируем отдельный взвод. Вы своих людей, старший лейтенант, тоже разделите пока на два равных по численности взвода. Чтобы удобнее было командовать.
– Это можно, – уже более миролюбиво согласился Корун, поняв, что отнимать у него роту капитан не собирается. – Старшина, подели людей. Один взвод примешь сам, другой пусть примет старший сержант Абовян. Кстати, он в строю?
– Полчаса назад постреливал.
– И еще, – остановил Беркут старшину. – Прикажите бойцам собрать все имеющееся на поле боя и вообще на этом плато оружие, боеприпасы, перевязочные материалы, словом, все, что может пригодиться при длительном пребывании здесь, в окружении врага.
– Так мы что, через реку переправляться не будем? – удивился старшина.
– Поздно переправляться, немцы перестреляют нас, как перепелов. Подкрепления тоже пока что не ожидается. Раненых – в каменоломни, создайте там лазарет. Вам, старший лейтенант, тоже настоятельно советую отлежаться. Лейтенант, приготовиться к отходу на новые позиции.
– Что значит, «к отходу»? – попытался подняться Корун. – Если мы уйдем отсюда, немцы двинутся вслед за нами.
– На этом рубеже нам их тоже не удержать. Сейчас семь утра, – взглянул Андрей на часы. – До сих пор немцы были заняты переправами. Здесь, как я понял, у них не более роты, которую они бросили против вас так, с марша, в горячке боя. Но скоро окончательно рассветет, потеплеет, их командование разберется, что к чему, и подтянет минометы…
– Но они будут обстреливать и каменоломни, косу. А маневрировать там уже негде.
– Перейдем к партизанским методам войны. Мне это знакомо. Кроме того, вы забыли, что на левом фланге у вас все осталось открытым.
– Что значит: «открытым»? Я выставил заслон. Немцы нажали отсюда.
– Заслон мы обнаружили уже возле хутора. Еле выловили его между камнями.
– Да это тоже не нашенские, – вставил Бодров.
– Я так и понял. Однако учтите, что с этой минуты все они уже «нашенские».
– Раз вы у нас теперь за коменданта, к тому же по приказу самого генерала, то понятно…
– Все, старшина, выполняйте приказ.
– Товарищ капитан, – вдруг появился у чаши кратера старшина Кобзач. – Там мы офицера ихнего. Живого.
– Где он? – оживился Андрей. Сейчас ему позарез нужен был «язык». А еще – немецкая офицерская форма.
– В ложбинке, к нашим раненым завели, – объяснил старшина уже на ходу.
– Неужели сам сдался?
– Если бы. Но только что-то я не помню, чтобы офицеры ихние в плен сдавались, тем более – окруженцам.
– Тоже ничего подобного не припоминаю.
– Взяли мы его даже, считайте, что не раненого. Патроны все выстрелял из своего пистолетика и лежит, между камнями забившись. Чего лежит, хрен его… Да вот он, собственной персоной, хендехох ему в душу!
11
Время потекло вспять! Проклятая судьба: два года так страшно перемалывать в своих жерновах, чтобы снова вернуть к этому распроклятому дереву, на котором его могли распять еще осенью сорок первого! А ведь с тех пор здесь почти ничего и не изменилось. Те же серые, обрамленные сосняком скалы. Тот же почерневший, развороченный мощным взрывом дот комбата Шелуденко, которого защитники дота «Беркут» считали штабным и тыловым, и на огневую поддержку которого возлагали особые надежды. Так и не сбывшиеся. И даже крест на дереве – вот он. Сохранился…
Да, это и есть то, что называется судьбой. Не зря же о распятии Крамарчук вспоминал, как о ее страшном знамении, никогда не забывая, что солдатик-окруженец, которого живьем вознесли на этот крест, на страшную Голгофу войны, был распят, по существу, вместо него. Просто он подвернулся тогда фашистам под руку. Появился невесть откуда со своим единственным патрончиком, вызвал на себя огонь и ненависть фашистов, – и погиб, приняв все мыслимые в этом земном аду мучения. Неужели после войны никто так и не сможет установить его имени?
«А твое имя, сержант Крамарчук, кто-нибудь попытается установить? – спросил он себя. – Вряд ли. Был какой-то там сержант, которому удалось вырваться из замурованного дота вместе с лейтенантом Беркутом. И вроде бы потом еще долго сражался вместе с лейтенантом в местных лесах, Царство ему Небесное…».
Тем не менее сейчас, благодаря Всевышнего за спасение, Крамарчук упрямо возрождал в своем воображении окровавленное, исполосованное ножами тело этого бессмысленно отчаянного паренька.
– Ты прав: того парня мы распяли именно на этом кресте-дереве. С табличкой: «Здесь казнен убийца солдат фюрера», – незло, буднично произнес Штубер, видя, что Крамарчук замер в проеме двери «фюрер-пропаганд-машинен», отрешенно осматривая местность.
– Эти мои мысли прочитать было несложно, – процедил Крамарчук.
– Кстати, жители окрестных деревень до сих пор уверены, что казнен солдат, который сумел вырваться из дота «Беркут» вместе с его комендантом, а потом храбро держал оборону вот в этом доте. Честно говоря, именно на такую молву устрашения мы тогда и рассчитывали. Но ты, Крамарчук, уверен, что к гарнизону дота этот солдатик не принадлежал, так ведь?
– Может, и принадлежал, поди знай, – ответил сержант.
– Ты говоришь так, поскольку знаешь: многие считают, что этим солдатом был ты. Потому что только ты один из бойцов вырвался тогда вместе с лейтенантом Беркутом из задыхающегося дота.
– Мне вообще порой кажется, что все самые храбрые солдаты, полегшие в этих местах в сорок первом, были бойцами нашего дота, – парировал Крамарчук. – Даже если никогда не побывали поблизости от него.
– А по-моему, это уже красная пропаганда? – побагровел Зебольд и вопросительно взглянул на Штубера. Теперь он был похож на хорошо надрессированного бойцовского пса, нетерпеливо ожидавшего сигнала хозяина.
– Так ведь есть что пропагандировать, – заметил Крамарчук. – Трусов в гарнизоне не было, в этом я могу поклясться.
Сильный удар стволом автомата в спину буквально выбил Крамарчука из автобуса. Он еле удержался, чтобы не распластаться у ног гауптштурмфюрера. Но Штубер жестом остановил оказавшегося за спиной у Николая фельдфебеля, и тот на какое-то время угомонился: второго удара не последовало.
– Не нужно издевательств, мой фельдфебель. Будем справедливы: перед нами настоящий солдат.
– Если вы так считаете, гауптштурмфюрер, значит, так оно и должно быть.
– Конечно же мы казним его. О помиловании не может быть и речи. В течение почти двух лет этот человек жестоко истреблял немецких воинов и их союзников. Так что все справедливо. А в отношении солдата, который, согласно легенде, все эти два года пребывает в ипостаси распятого мученика, – справедливо вдвойне.
Немцев до десятка. Вроде бы и не выстроились в две шеренги, стоят как бы вразброс, но так, что путь ему открывался только один – к дереву, на иссеченном пулями стволе которого поперечина – кусок толстой, неочищенной ветви – образующая вместе со стволом крест.
Крамарчуку вспомнилась виселица посреди села и распятый на ней Отшельник… На следующий день после казни он не поверил рассказам крестьян, сам среди бела дня пробрался в Сауличи, чтобы увидеть все собственными глазами.
«Если Отшельник выдержал такое и не сломался, – мысленно сказал себе сержант, – значит, должен выдержать и ты. Иначе грош тебе цена!».
– Пожалуй, мы его просто расстреляем, а, мой фельдфебель? Хотя он и партизанил, но как-никак солдат.
До дерева, до «крестного суда», пять-шесть шагов. Возле него, широко расставив ноги, стоит Лансберг. Руки на ремне, кобура расстегнута. Голова чуть склонена набок. И напряженный, внимательный взгляд человека, испытывающего истинный интерес к своей жертве.
– Шарфюрер, то есть унтер-фельдфебель, если по-общеармейски, Лансберг, – представил Штубер этого человека, когда во дворе полиции Крамарчука подвели к автобусу.
– И зачем ты меня знакомишь с ним? – воинственно поинтересовался Николай.
– Решил, что вам стоит познакомиться поближе. Подружиться, понятное дело, не успеете, но все же… Редкостного, должен я тебе, сержант, доложить, дара этот специалист.
Только теперь Крамарчук понял, зачем Штуберу понадобилось это знакомство. Лансберг и есть их «специалист по распятиям». Казнь Отшельника, очевидно, была его работой. «Попался бы он мне дня три назад!»
– Может, лучше предложить сержанту Крамарчуку перейти к нам, а, господин гауптштурмфюрер? – неожиданно произнес фельдфебель, очень удивив этим самого обреченного. Уж от кого-кого, а от Зебольда, этого волкодава, подобной снисходительности он не ожидал.
– Не узнаю вас сегодня, наш Вечный Фельдфебель, – пожал плечами Штубер. – Такое великодушие, такая снисходительность. Что произошло, мой фельдфебель?
– В нашей команде уже немало прекрасных русских солдат. Им понадобится опытный командир. Взводный.
Крамарчук заметил, что Лансберг внимательно смотрит туда, где стоит Штубер. Шарфюрер даже чуть-чуть приподнялся на носках, чтобы видеть лицо своего командира через плечо обреченного. И хотя Николай не оглянулся, он понял, что остальные тоже выжидающе смотрят сейчас на гауптштурмфюрера. Осознавая это, он механически проделал еще два шага, сорвался с места, головой сбил с ног, словно протаранил, Лансберга и, метнувшись за ствол дерева, изо всех сил побежал к ближайшему кустарнику.
Сначала несколько секунд ему подарил этот неожиданный вопрос фельдфебеля. Потом первые пули принял на себя старый развесистый клен. Уже обгоняя его, автоматные очереди вгрызались в бетон дота. Но Крамарчук не решился вскакивать в полузасыпанный окоп, который вел к нему, понимая, что сейчас эта обгоревшая бетонная коробка станет западней-могилой.
12
Немецкий капитан сидел на корточках, чуть в сторонке от ложбины, в которой лежали раненые. Увидев Беркута, он поднялся и дрожащей рукой отдал честь. Среднего роста, щупленький, в испачканной шинели, он напоминал переодевшегося в военную форму подростка. Одно стекло в его очках казалось разбитым, и он так и носил их, с торчащим осколком в дужке.
– Уберите стекло, гауптман, – по-немецки посоветовал ему Беркут. – Останетесь без глаза.
– Что? – немец сначала удивленно вытянул шею, и только потом, столь же удивленно, пробормотал: – Простите?..
– Осколок стекла уберите. У нас нет окулиста, чтобы потом спасать ваш глаз.
– О, да, извините, господин… кажется, капитан, – человечность, какая-то житейская обыденность замечания русского офицера поразила и шокировала его. – Вы так свободно владеете германским? Из фольксдойч?
– Из диверсантов. С начала войны сражаюсь в вашем тылу, – сурово улыбнулся Беркут. Он умышленно сказал это, понимая, какое впечатление должно произвести его признание на «храбреца»-капитана.
– Из диверсантов? Понимаю-понимаю. Люди особой храбрости, ценю.
– Это ваша рота противостоит моим людям?
– Да, ротой командовал я.
– Вы лично повели солдат по ложбине на прорыв, но затем не смогли уйти?
– Так оно все и было.
– Рискованная операция. Наверное, вас интересует судьба остатков вашей роты?
– Если это возможно, господин капитан. – Немец уже в который раз безуспешно пытался вынуть дрожащими руками осколок стекла, но оно ему не поддавалось. Однако по тому, как дрожали его руки, Беркут понял: это не от страха. Это нервы. Обычная метка войны.
– В строю осталось около взвода, – объяснил ему Беркут. – Все откатились в долину. Я не атаковал их только потому, что не хочу терять своих солдат. Но если они вздумают сунуться…
– Понятно. Спасибо, господин капитан.
Старшине надоело наблюдать, как гауптман возится со своей стекляшкой. Бесцеремонно вырвав из рук немца очки, он одним движением вынул осколок, прочистил дужку полой своей шинели и вернул их офицеру.
– Что будет со мной, господин капитан? – спросил немец, несколько раз поблагодарив Кобзача. – Меня расстреляют?
– Естественно. Как вы понимаете, лагеря для военнопленных здесь не предусмотрели.
– Ах, да, вы – диверсант. Пленные для вас не существуют, – отрешенно проговорил гауптман, невидящим взглядом рассматривая оставшееся стекло на своих очках, которые все еще держал в руке.
– Вот именно. Выведу вас на ничейную полосу и там расстреляю. На виду у ваших солдат. Как считаете, это будет выглядеть достаточно почетно?
Гауптман угрюмо посмотрел на Беркута, на старшину, почему-то взглянул туда, где за изгибом ложбины лежали русские раненые… Двое из них были ранены легко. Они даже приподнялись и с интересом наблюдали за допросом. Но третий тяжело стонал и что-то выкрикивал в бреду.
«Почему Бодров медлит?! Нужно отправлять их в тыл», – перехватил Андрей взгляд немца.
Гауптман еще раз взглянул на Беркута и, низко опустив голову, умоляюще пробормотал:
– Не нужно перед солдатами. Это не честь, это позор. Я ведь не ранен. Я попал в плен нераненым, а это всегда позор.
– И я того же мнения. В плену вы оказались явно не лучшим образом.
– Скажите, ваш старшина владеет германским?
– Ни слова. В этом одно из его достоинств.
– Прекрасно. Тогда вот что… Мы оба – командиры рот. Ни моего, ни вашего командования здесь нет. Мы могли бы как-то договориться с вами. Я бы очень просил вас…
– Говорите проще, гауптман. Умоляете подарить вам жизнь?
– Нет, вы не так поняли меня. Не умоляю… как видите…
– Именно к этому я все и веду, – жал на психику немца Беркут. – Понимаю, что вы мудрый человек и конечно же попытаетесь спасти свою шкуру. Поэтому слушайте меня внимательно: вам вернут оружие, и через несколько минут вы, незамеченным, – об этом я позабочусь, – выползете из этого ущелья в долину и под нашими неметкими выстрелами доползете до своих. То есть героически вырветесь из окружения.
– Но, господин капитан…
– Успокойтесь, я не пытаюсь вас вербовать, не требую предавать Великую Германию. «Чудом спасшись», вы дадите своим солдатам два часа отдыха.
– Два часа, которые очень нужны вашим солдатам, чтобы укрепить позиции.
– Видите, как прекрасно мы понимаем друг друга. И еще… посты расставите так, чтобы охватить ту, левую, сторону плато. Видя ваших орлов, другие подразделения сюда не сунутся. Да и постовые получат приказ не пропускать. Кстати, ваш полк находится уже по ту сторону реки?
– Очевидно. Нас бросили в бой в то время, когда полк был на марше. Во втором эшелоне. Шел к переправе.
– Тем лучше. Через два, нет, лучше через два с половиной часа вы поведете своих солдат в атаку.
– Чтобы вы перебили их?! – возмутился гауптман так, словно он все еще мог диктовать свои условия.
– Зачем? Наоборот, во время этой атаки не падет ни один ваш боец. Вы очистите плато от троих моих убегающих бойцов, после чего сможете спокойно увести остатки роты к переправе, доложив, что, хотя и с большими потерями, но все же приказ выполнен: плато и коса очищены. Вполне возможно, что вас представят к награде.
– Но коса действительно будет очищена?..
– Пройдете еще метров сто от того места, где стоите сейчас. Ваши солдаты увидят реку и каменистую косу, на которой никто не стреляет и нет ни одного русского, поскольку они попросту исчезли. После этого вы уведете отсюда своих солдат с чувством исполненного долга.
Гауптман ошарашено смотрел на Беркута и молчал. То, что предлагал ему сейчас капитан, казалось совершенно невероятным.
– Должен признать, что вы предлагаете удивительный по коварству своего замысла план. По коварству… – зачем-то подчеркнул он.
– О нашей операции будем знать только я и вы.
– И все?
– Что «все»?
– Ну… Это все? – дрожащим голосом спросил гауптман, и Беркут понял, что тот не очень-то верит своему счастью. Заподозрил, что русский капитан попросту хочет пристрелить его, имитируя побег. Чтобы не отправлять в тыл.
– Вас не устраивает, что об этой операции будем знать только мы, два безвестных капитана? Хочется во что бы то ни стало впутать в банальную окопную историю еще и двух наших генералов? Нет, оба Генштаба?
– Но, видите ли…
– Война, господин гауптман, всегда творится капитанами.
– Кто бы мог предположить?! – даже у пленного начало прорезаться чувство юмора. – Рад слышать это признание.
– Генералы выступают в ней лишь в роли азартных игроков, маршалы – в роли крупье, а лейтенанты – в роли жетонов. Вот и получается, что рулетку войны крутим мы, ротные. И в этом вся ее прелесть.
Гауптман слушал Беркута, как обреченный – проповедника, невесть откуда появившегося и невесть что проповедующего.
– Интересная интерпретация войны, – признал он сдавленным голосом.
– Философствуем, понемногу. В перерывах между боями, конечно.
– Но я всего лишь хотел спросить, не выдвигаете ли вы каких-либо дополнительных условий.
– Каких еще дополнительных? Зачем?
– То есть вы уверены, что я сдержу свое слово?
– Хотите, чтобы я начал шантажировать вас? Уверять, что, в случае, если не сдержите своего слова, сообщу о вашем пленении, а затем о сговоре с русским офицером во время пребывания в плену?
– А почему я должен исключать такую возможность?
– Но я не стану прибегать ни к шантажу, ни к запугиванию. Мы – два офицера, двух уважающих себя армий. И мы так решили… Разве этого не достаточно?
– Вы не похожи на обычного советского офицера, – едва слышно проговорил гауптман. – Есть у вас нечто такое… бонапартистское.
– Только что мой лейтенант назвал меня Багратионом. Но и ему я тоже простил.
– А ведь, если разобраться, таким образом мы оба можем спасти в глазах и солдат, и командования свою честь, – пустился в рассуждения теперь уже гауптман, – я – свою, вы – свою. Причем сделать это самым благородным образом.
– Так, может, хватит обмениваться комплиментами? Солдаты нервничают. И мои, и ваши.
Германец оглянулся на гребень, за которым должны быть позиции его роты, но, так никого и не увидев, вновь обратил взор на Беркута. Андрею показалось, что он попросту боится испытывать свою удачу. Ему все еще кажется, что русский капитан разыгрывает какой-то фарс, и стоит ему двинуться в сторону гряды, как последует взрыв хохота.
Гауптману не раз приходилось видеть, как таким вот образом потешались над пленными красноармейцами, партизанами и местным населением солдаты зондеркоманд.
☺– У вас появились еще какие-то вопросы? – и впрямь ухмыльнулся Беркут.
Улыбка его была жесткой и властной. Гауптман даже позавидовал ему. Если то, что этот капитан с сорок первого сражается у них в тылу, верно, – а в это можно было поверить, поскольку говорит он с почти правильным берлинским произношением, – то стоит лишь удивляться, как это ему удалось сохранить такую выдержку и такую силу воли.
– Капитан, – растерянно развел гауптман руками. Очки с одним стеклом, которые он наконец надел, придавали рано сморщинившемуся лицу пленного довольно странное выражение, делая его похожим на нелепую новогоднюю маску. – Не нахожу слов, господин капитан… Вы слышали когда-нибудь об Отто Скорцени? О том, похитившем Бенито Муссолини? Ведь вы действовали в нашем тылу, а со Скорцени вы коллеги.
– Наслышан, гауптман, наслышан.
– Так вот вскоре вы сравняетесь в славе с этим моим великим земляком, австрийцем. Помяните мое слово, господин капитан.
– Мне не очень хотелось бы сравниваться с ним, поскольку и своей славы достаточно. Но это уже вопрос полемический. Старшина, личное оружие – гауптману.
– «Личное»! Какое еще «личное»? Было личным – стало колхозным, – неохотно извлек старшина пистолет немца из кармана брюк. – Такую вещь отдавать! Я бы к нему патрончики подобрал…
Андрей взял у старшины пистолет, проверил, не заряжен ли, передал немцу и спросил, все ли ему понятно. Вместо ответа, гауптман молитвенно сложил ладони, между которыми оказался пистолет, выражая свою искреннюю признательность.
– Надеюсь, слово, данное вами, – это слово офицера?
– Можете не сомневаться, господин капитан. Вы уже сделали для меня значительно больше того, что я еще только собираюсь сделать для вас.
– Вот именно.
Беркут коротко, не вдаваясь в подробности их переговоров с немцем, объяснил старшине, что ему следует сделать, чтобы гауптман попал к своим, повернулся и, не сказав больше немцу ни слова, направился туда, где его ожидал Корун.
13
Лес кончился. Петляя по кустарнику, Крамарчук чувствовал, что преследователи приближаются. Однако стрелять стали реже. Наверно, потому, что большинство из них просто-напросто потеряло его из вида и боялось перестрелять своих. А те, что бежали первыми, слишком увлеклись погоней.
По топоту сапог, по треску сучьев слева и справа от себя, сержант определил: немцы рассыпались веером, пытаясь обойти его, взять в клещи, не допустить, чтобы он снова оказался у кромки леса. Они гнали его на равнину, к долине Днестра, не понимая, что именно туда он и стремится. Потому что он уже не убегал, знал, что не убежит, и единственной целью его теперь было – добраться до своего дота.
Вот и линия старых, с лета сорок первого, окопов. Крамарчук проскочил ее, и только теперь его настиг сильный, ошеломляющий удар в плечо. Он падает, несколько метров проходит как-то по-крабьи, на четвереньках, но у следующей линии окопов, тех самых, в которых сумел спастись после ночного прорыва из окруженного дота, снова поднимается, и, все еще пригибаясь, преодолевает и ее.
Уже на гребне склона вторая пуля зацепила бедро сержанта, но он все же сумел проскочить еще несколько метров вниз, до первого яруса, скатиться с него, словно с крыши, на каменистую нижнюю террасу и, мгновенно сориентировавшись, начал уходить по склону вправо – скатываясь, пробираясь через кустарник, переползая и ссовываясь. Все ближе и ближе к тому месту, где виднелся заваленный камнями, замурованный бетонный выступ артиллерийской точки дота. Его, 120‑го дота «Беркут».
На последнем выступе автоматная очередь прошила голенище его сапог и только тогда, поняв, что партизан уже не в состоянии будет подняться, немцы прекратили огонь, и не спеша, тяжело отдуваясь, утирая рукавами шинелей вспотевшие лица, начали окружать его.
Одни сбежали чуть левее дота, чтобы перекрыть беглецу путь к реке, другие спускались прямо к доту. И проделывали они все это молча, без команд, без ругани, словно вдруг разочаровались в том, что развязка наступила слишком быстро. Это было разочарование охотников, которые сумели добыть дичь слишком быстро, случайно и без каких-либо приключений.
– Я вернулся, ребята… Здесь я, – тихо проговорил Крамарчук, тяжело сползая с последнего уступа, под которым когда-то держали оборону бойцы прикрытия.
– Не стрелять, брать живьем! – прокричал Штубер по-русски, очевидно, для того, чтобы сержант мог понять его.
– Отзовитесь хоть кто-нибудь, – шептал Крамарчук, все медленнее и медленнее подползая к замурованным амбразурам. И два кровавых следа, которые он оставлял после себя на каменистой крыше дота, отмеряли последние метры его жизни.
– Но вот теперь-то мы уж точно разопнем его на кресте! – победно порычал фельдфебель Зебольд. – И никто не сумеет вырвать его из моих рук!
– …Это неправда, я не оставил вас. Не предал, – шептал Крамарчук, ощущая, что силы оставляют его вместе с кровью и сознанием. – Конечно, я должен был погибнуть еще тогда, вместе с вами, так было бы справедливее… Но не мы назначаем время смерти, а смерть – нам.
У плотно забитой камнями вентиляционной трубы под ладонь ему попал патрон от трехлинейки. Словно вспомнив, что он еще жив и что рядом враги, сержант приподнялся на локтях и ощупал все вокруг жадным ищущим взглядом. Хоть бы какое-нибудь ружьишко! Хотя бы ржавое, с разбитым прикладом!
– Слышите, вы, Газарян, Иванюк, Петрунь, старшина… я здесь. Много их, врагов, слишком много. И они уже рядом. Я понимаю: вам меня уже не прикрыть… Спасибо, кто-то из ребят оставил патрон. Последний.
Обнимая раненой рукой кончик поржавевшей трубы, Крамарчук приподнялся на локте и, сжав в ладони этот единственный патрон, стал ждать, когда сможет швырнуть его в первого приблизившегося немца.
Их приближалось сразу трое: свирепое выражение лиц, нервное подергивание стволами автоматов, ощущение своего полного превосходства.
– Ничего, ребята, – прошептал сержант, стараясь не замечать врагов и обращаясь только к тем, что навечно остались в доте, – ничего, – еле шевелил он потрескавшимися, окровавленными губами. – Вы держитесь. Я прикрою. Такое уже бывало. Главное, что вы рядом. Вместе мы как-нибудь продержимся. Вместе мы как-нибудь… Во спасение души: это же не первый бой!..
* * *
Старший лейтенант все еще полулежал на том же месте, где Андрей оставил его. Только теперь лицо командира роты еще больше посерело и осунулось.
Его уже давно надо было отнести на хутор, в дом, и там, в тепле, дать немного отлежаться. Судя по тому, как четко проступали на его штанине пятна крови, ранение хотя и не было тяжелым, но все же остановить кровь пока не удавалось. Очевидно, потому, что Корун уже много раз пытался встать и все время тревожил рану.
На всякий случай Беркут сообщил ему о договоренности с гауптманом, считая, что делает это просто так, из вежливости.
– А ведь всякие переговоры с немецкими офицерами на поле боя запрещены, – язвительно заметил старший лейтенант, закуривая самокрутку.
– Кем запрещены?
– Кем-кем?! Теми, что высоко над нами. Решение о любых переговорах с противником может приниматься только в больших штабах. Существует соответствующий приказ.
– Очень предусмотрительный приказ, – холодно признал Беркут. – Нужно будет обстоятельно изучить его… На досуге, конечно.
– Вы не могли не знать о нем, капитан.
– Туда, за линию фронта, где я воевал с сорок первого, курьеры с приказами из Ставки Главнокомандующего, как правило, запаздывали.
– Но даже если вы не ознакомлены были с приказом… Зачем вступали в переговоры с фашистским офицером?
– Потому что этого требовала конкретная обстановка, возникшая на поле боя, – невозмутимо объяснил Беркут, однако Корун, казалось, не слышал его.
– Как вы, советский офицер, вообще могли решиться на такое?
– Не думал, что воспримете это мое сообщение столь воинственно.
– Там, «где надо», воспримут это сообщение еще воинственнее, – уже не скрывал прямой угрозы старший лейтенант.
Капитан мягко улыбнулся и выдержал небольшую паузу. Только осознание того, что перед ним раненый, а потому озлобленный и беспомощный человек, удерживало его от жесткости в голосе.
– Занимайтесь делами роты, коль уж не желаете, чтобы вас отстранили от командования, – и на сей раз как можно мягче произнес он. – Но при этом помните, что благодаря нашим с гауптманом переговорам появится двухчасовая передышка. Это позволит занять новые позиции, оборудовать лазарет и вообще освоиться в каменоломнях, отогреть и накормить людей. А лично вам это еще и подарит несколько минут спокойствия.
Беркут уже хотел отойти от него, но Корун подался вперед, словно стремился перехватить его.
– Вы что, действительно верите, что фашист станет придерживаться данного вам слова?! – саркастически изумился он, стараясь любой ценой задержать Андрея. – Вы кем возомнили себя, капитан?!
И только теперь Беркут по-настоящему понял, как болезненно воспринимает Корун появление на своем плацдарме старшего по званию, да к тому же представителя штаба дивизии. Куда болезненнее собственного ранения.
– Во-первых, я не уверен, что по убеждениям своим гауптман действительно является фашистом. Зато уверен, что данное мне «слово офицера» этот человек не нарушит. И вообще на войне не все так безрадостно, как вам кажется, старший лейтенант.
– Еще безрадостнее, нежели вам представляется, – озлобленно как-то возразил Корун.
– Сейчас же распоряжусь, чтобы отнесли вас в дом, в котором находился связист. Там тепло, вас перевяжут, и постарайтесь уснуть. Прежде всего, уснуть.
– Но я буду продолжать командовать ротой, слышите?! Пусть вы хоть из Генерального штаба. От командования меня может отстранить лишь командир полка…
– Божественно. Только и забот у меня, что отстранять вас от командования ротой, – сдержанно улыбнулся Беркут своей загадочной, почти непостижимой даже для людей, которые знали его много лет, улыбкой. – Отлежитесь пару часов, и можете приступать к строевому смотру своих войск.
– Иронизируете, капитан? Напрасно… иронизируете. Еще не известно, что ждет на этом чертовом плацдарме лично вас.
– Все, товарищ старший лейтенант! – вдруг резко завершил Беркут. – Больше к этой теме не возвращаемся. И впредь вы будете выполнять все, что вам приказано. Эй, – вышел он из «чаши», – четверо бойцов с плащ-палатками или носилками – сюда! Быстро, быстро! – поторопил залегших метрах в пятидесяти от них пехотинцев. – Командира роты отнести в тыл, на пункт связи.
14
Казалось, что этот день уже так никогда и не наступит. После непродолжительного рассвета небо вновь начало темнеть, соединяясь на очень близком горизонте с землей в сплошной серовато-свинцовый занавес, за которым не могло существовать ни солнца, ни неба, ни самой жизни, – настолько все, что ограждало сейчас Каменоречье, представлялось холодным и безжизненным.
Теперь, стоя на плато, даже трудно было предположить, что где-то позади тебя протекает река, впереди – лежит долина, за каменистыми полями которой притаились три почти слившиеся вместе деревни (по крайней мере так было указано на карте, которую передал Беркуту командир роты Корун), а справа, прямо к отрогам возвышенности, подступают плавнево-лесные болота.
И то, что там, за рекой, еще громыхало наступление, а с севера, по невидимому отсюда шоссе, все подходила и подходила тяжелая техника врага, лишь усиливало иллюзию замкнутости их каменореченского мирка, оторванности от всего сущего вокруг.
Только одно все еще оставалось реальностью – остатки немецкой роты, прозябающей в заиндевевших зарослях, на ближних подступах к плато.
После возвращения своего командира немцы два-три раза потревожили гарнизон короткими очередями, но потом совершенно притихли. Однако, притаившись за скалой, Беркут смог видеть в бинокль, как они ходили теперь уже в полный рост, во всяком случае, за кустарником, и как пятеро или шестеро из них отправились патрулировать окраины плато, возле въезда на него.
– Нет, лейтенант, ты не прав: гауптман свое слово держит, – заметил Андрей, опуская бинокль.
– Не помню, чтобы я в этом сомневался, – мягко заметил Глодов.
– Не высказывал, но про себя ворчал, а значит, все равно не прав.
Глодов понял, что в этом мрачном замечании уже просматривается попытка Божественного Капитана шутить, и сдержанно улыбнулся. Ситуация действительно складывалась как-то необычно. В первые минуты знакомства с Беркутом ему показалось, что капитан принадлежит к тем твердолобым солдафонам, которые не признают никаких компромиссов, никакой человеческой слабости и в решениях своих уподобляются тяжелому танку: в лоб, напролом и «во что бы то ни стало»… Свято веря при этом, что приказ, обстановка и безжалостные законы войны оправдают их при любом исходе боя, при любых принесенных жертвах.
И вдруг совершенно неожиданный подход к ситуации… Так тонко, хладнокровно, и в то же время напористо, использовать положение, в которое попал пленный командир немецкой роты!.. Пойти на этот странный, почти невероятный, но в то же время утонченный и смелый «обмен любезностями»…
Похоже, размышлял он, что Божественный Капитан – натура намного сложнее, нежели можно себе представить. К удивительному хладнокровию Беркута и яростной какой-то решительности, теперь, в представлении лейтенанта Глодова, прибавлялось еще и умение точно оценивать обстановку, улавливая при этом характеры и своих бойцов, и врагов.
– В любом случае полчаса мы уже получили, – снова заговорил капитан, все еще внимательно осматривая, но уже без бинокля, позиции противника.
– Что уже совершенно очевидно.
– Рота Коруна отошла?
– Отошла, – подтвердил Глодов. – Осталось семь человек, вместе со мной. Да, вон еще старшина Бодров за скалой притаился. Похоже, с тыла прикрывает.
– Божественно. Полчаса передышки – это факт. Независимо от того, как наш общий знакомый гауптман поведет себя дальше. А пока, гренадеры-кавалергарды, отходим.
– Заслон оставляем?
– Зачем зря людей морозить? Только возле хуторка выставьте усиленный пост.
– А вдруг немцы решат?..
– Гауптман дал слово офицера. Было бы бестактно не положиться на него.
Глодов изумленно посмотрел на командира: о чем это он?!
– Мне трудно понять, когда вы шутите, а когда… Однако заслон я бы все же выставил.
– Шутить я начинаю только тогда, когда вынужден дважды повторять подчиненным свое решение или приказ, – очень мягко, тактично объяснил Андрей. – Вы поняли меня, лейтенант?
– Так точно.
– Вот и божественно. Чем скорее доберемся до хуторка, тем больше времени будет у вас на то, чтобы подремать и подкрепиться. Растянулись цепью! – приказал он бойцам. – Отходя, подбирайте все оружие и все до единого патроны. Старшина, возьмите с собой двоих. Еще раз осмотрите убитых немцев. Гранаты, патроны, ножи, галеты, шнапс… Отныне, и до прихода наших, мы будем богаты только на то, что сами добудем. И не забудьте о перевязочных пакетах. Погибшим они уже ни к чему.
– Но галеты и шнапс… – поморщился лейтенант. – В убитых.
– Вам приходилось хотя бы один день провести в полном окружении или в тылу врага?
– До сих пор – нет.
– А сейчас придется. И тогда вам станет многое понятно из того, что в поведении офицера, воевавшего в таких условиях с июля сорок первого, пока что кажется странноватым.
– Неужели с самого начала войны?! Невозможно же столько продержаться в тылу врага.
– А сколько возможно?
– Ну, месяц-два…
– Иногда на ней невозможно продержаться даже в течение пяти минут, поскольку люди гибнут от случайных пуль, от первых залетных снарядов и под первыми не по цели попавшими бомбами. Так что в своих представлениях о войне вы, лейтенант Глодов, непорочны, как новообращенная монашка.
– Может быть, может быть, – мрачновато согласился Глодов после некоторого колебания.
– Вся сложность в том, что мы не имеем права уйти отсюда. Если бы не приказ генерала, мы бы попытались прорваться на тот берег и пробиться к своим или же отошли бы поглубже в тыл врага, где меньше концентрация вражеских частей, и до подхода наших войск сражались бы по-партизански.
– Какой еще «тыл врага»? – почти с ужасом окрысился лейтенант. – Вы хоть понимаете, что говорите?
– Но там – села, люди, обозы на дорогах… А здесь только камень и пять брошенных полуразрушенных домов. Есть еще подземелье, в котором немцы очень скоро заблокируют нас. Если, конечно, в течение двух суток не подоспеют наши.
– Только не в тыл врага, – яростно повертел головой Глодов. – Еще не хватало, чтобы на всю жизнь в моих документах было записано, что какое-то время провел на оккупированной врагом территории.
– А что, это так страшно? – Беркут умышленно держался поближе к краю плато. Даже при такой отвратительной видимости ему открывалась обширная низина, почерневшие островки камыша, заиндевевшие верхушки ив.
– Почти то же самое, что побывать в плену.
– Что же тогда делать офицеру, который всю войну только то и делает, что околачивается в немецком тылу: из окружения – в плен, из плена – снова в окружение?
– Не рассчитывайте, что вам станут завидовать. Вас столько раз будут проверять и допрашивать, что дай-то бог, чтобы обошлось без «десяти лет без права переписки», или, в лучшем случае, без штрафбата. И в «личном деле» вашем сведения о пребывании в плену и на оккупированной территории будут чернеть клеймом Сатаны.
– Откровенный у нас с вами разговор получился, лейтенант.
– Откровенным он у вас получится, когда вами займутся особисты из Смерша. Поэтому, если можете, скройте факт пребывания в плену и никогда не упоминайте о нем. То, что вы действовали в тылу врага как диверсант, это нормально. А что какое-то время побывали в плену, вряд ли это когда-либо всплывет. Но и я конечно же ничего подобного вам не советовал.
– Это уж, как водится.
Они помолчали, в последний раз взглянули в ту сторону, где оставалась рота немцев, и пошли дальше. Беркут понял, что возвращается он на Большую землю в слишком радужном настроении, не догадываясь, что особисты действительно будут долго копаться в его биографии. И дал себе слово никогда больше о плене не заикаться.
– Кто-то из вас успел побывать в этих зарослях? – поинтересовался у бойцов, давая понять лейтенанту, что тема закрыта.
– Я заглядывал туда, младший сержант Сябрух, – сразу же представился боец, шедший третьим от него. И перебежал поближе к капитану.
Среднего роста, узкоплечий, он казался бы очень изможденным, если бы не эта искренняя желтозубая улыбка.
– Белорус?
– По гаворке моей слышна? – щедро улыбался Сябрух, еще ближе подступая к капитану. – Белорус, понятное дело. Приходилось бывать в наших краях?
– Служил там. Еще до войны. На Буге.
– В укрепрайоне? В дотах?
– Именно там. Странно, что так быстро догадались.
– На фронте уже человек десять встречал из этих, побугских, «укрепрайонных».
– Так вы тоже из них?
– Не-а, жил неподалеку.
Казалось, вся телесная сущность бойца излучала в эти минуты доброту и беззаботность. Сябрух был рад, что его заметили, что к нему обратились, что ему позволено вот так, запросто пообщаться с суровым и загадочным капитаном.
– Но к воспоминаниям мы еще вернемся. В плавнях сплошное болото, или попадаются островки?
– Два островка – точно. Даже хижина есть. Охотничий домик такой.
– А главный вход в каменоломни отсюда просматривается, с этого края?
– С этого. Только чуть дальше туда, в конце. Слева от косы.
– И плавни доходят почти до каменоломень?
– Чуть-чуть по равнине проскочить нужно будет. Промежду камнями. Метров двадцать всего.
«Метров двадцать, – прикинул Беркут. – При прорыве, когда плато оседлают немцы, проскочить их – с десяток бойцов потерять. Но все же это хоть какой-то вариант. На крайний случай».
– Эй, что за войско?! – услышал он властный голос Глодова, который шел метрах в десяти правее его. – Почему здесь? Встать! Приказ об отходе вас что?..
Лейтенант вдруг умолк. Беркут остановился, ожидая, чем кончится разговор с затаившимися в ложбине бойцами, но Глодов как-то странно молчал. Стоял к нему спиной, на краю ложбины, и молчал.
– Что там происходит? – встревожился комендант.
– Ой, не встанут они, браточки-командиры! – первым оценил ситуацию Сябрух. – Ой, не встанут! – И, спотыкаясь, падая на камни, поспешил к Глодову.
15
Картина, которая предстала перед Беркутом, была впечатляюще жуткой. На противоположном, почти идеально ровном склоне ложбины, в странных позах, но, словно в строю, плечо в плечо, полусидели-полулежали, опираясь на камни, красноармейцы – с рассеченными головами, с окровавленными, прошитыми пулеметными и автоматными очередями грудями, изуродованными лицами, растерзанными животами.
– Сколько их здесь, сержант? – тихо спросил Андрей, немного придя в себя.
– Вроде, двадцать три… Должно быть. Сам ведь и стаскивал их сюда.
– И все погибли сегодня?
– На рассвете. Старший лейтенант наш, видно, не понял, что произошло, не разобрался. Думал, немцы просто так, прорвались… И как только они сунулись сюда, он – «рота, в контратаку!». Мол, отбросить врага подальше. А куда его отбросишь, когда, вон, целые полки наши отходят? Зазря многие полегли, братки-командиры, зазря… Умнее надо бы воевать. Люди все-таки…
«А ведь с сорок первого учимся, – с горечью подумалось капитану. – В контратаку! В штыки! Во весь рост. И в лоб, обязательно в лоб. Тактика Гражданской. Учили-то нас на ее опыте. А тут армии и вооружение совершенно иные, тактики иные, война совершенно не та».
– Посмотри на них, и запомни, что говорит этот сержант, – обратился он к Глодову. – Нам с тобой это еще пригодится.
– Думаете, действительно пригодится?
– Как один из самых страшных уроков этой войны, – уверенно проговорил капитан. – Их нужно похоронить, сержант. Где хоронили тех, что в свое время штурмовали этот плацдарм?
– Дак туда дальше, в низинке, где сейчас немцы. Тут везде камень такой, что не вгрызешься. Но… здесь камень, а в плавнях болото, и топить их в болоте тоже вроде не по-людски получается.
– И все же, когда немцы отойдут, надо будет попытаться похоронить. Пока окончательно не рассвело, равнину можно проскочить.
Беркут еще раз окинул взглядом этот скорбный «строй» погибших, одел фуражку и уже не стал подходить к кромке плато, а направился к видневшемуся невдалеке сараю. Тому, первому, возле которого приказал забаррикадировать дорогу. Однако у ближайшей гряды, немного напоминавшей бревенчатое ограждение, наподобие тех, которыми древние русичи опоясывали свои городища, он вдруг обратил внимание на ущелье, в конце которого чернел вход.
Капитан сразу же спустился туда, вошел в небольшой грот и уже там обнаружил вход поменьше, который несомненно вел в штольню.
– Сюда один наш паренек опускался, братки-командиры, – снова возник рядом Сябрух. – Дак метров сто прошел, спичками себе присвечиваючи, а дальше страшновато стало, вернулся.
– Ход ведет в сторону косы?
– Да вроде бы туда, куда ж ему еще вести?
– А ты, сержант, рискнул бы пройти?
– Я? – замялся Сябрух. – Ну, если еще с кем-нибудь. Чтоб, значится, вдвоем… да по свечке в руки.
– Вот мой фонарик… И любого желающего – с собой. Спуститесь в каменоломню, и попытайтесь тщательно обследовать ее. Судя по всему, штольни здесь короткие. Но их нужно знать.
– А там, на краю, как сворачивать к плавням, еще одна дыра, – вмешался кто-то из солдат. – Аккурат к плавням и можно выйти.
– Вот вы, вдвоем с сержантом Сябрухом, и пройдете все подземелье. Только осторожно, не заблудитесь.
Беркут взглянул на часы. Немцы молчат уже сорок минут. Видно, капитан пока еще приходит в себя от счастья.
Перестрелки на том берегу то умолкали, то разгорались с новой силой, но теперь они уже явственно смещались влево, все дальше и дальше от косы.
«Значит, теснят наших, – понял он, – очищают берег. При фланговом ударе удерживать берег всегда труднее. Постоянная угроза того, что отрежут, прижмут к воде. Психология боя».
– Лейтенант, возьмете пятерых бойцов и через полчаса выдвинетесь к лощине, в которой лежат наши погибшие. Как только появятся немцы, имитируйте слабое сопротивление и, не растрачивая зазря боезапас, перебежками отходите к этой гряде. Отсюда уходите уже без стрельбы. Тем, что засели в сарае, тоже прикажите уйти. Вдруг кто-то из немцев заглянет туда. Их поход придется пересидеть в штольнях. Уверен, что, пройдя плато и не встретив сопротивления, немцы не сунутся на косу, повернут обратно.
– Вы слишком полагаетесь на этого фрица, на его «слово офицера».
– Как и он – на мое. Преследовать немцев не нужно. Если будут хоронить убитых – не мешать. И вообще не выдавать себя. Обойдите все строения и предупредите людей. Быть готовыми к бою, но не стрелять. На выстрелы немцев не отвечать. Это приказ.
– Странноватый, – проворчал Глодов, но…
– Если эта немецкая рота уйдет, мы выиграем массу времени, которое нужно не столько нам, сколько штабу дивизии, чтобы подготовиться к новому прорыву.
– Приказ, конечно, более чем странный. Как и вся эта сделка, которая не нравится мне в самом принципе. Кстати, где вы будете находиться в это время? По-моему, вон там, у входа в каменоломни, есть какая-то хибара.
– Дык старик же там живет, – подсказал всезнающий Сябрух. – Каменотес. Брылой его зовут. У него там каменный дом – что крепость. Плохо только, что в половину высоты в землю вмурован. Вроде как землянка. Хотя сам Брыла всю жизнь в каменоломнях отбутузил, мог бы такую домину себе отгрохать.
– Он что, и сейчас в доме? – заинтригованно спросил Беркут. – Обнаружен еще кто-либо из хуторян?
– Больше никого. Брыла тоже только вчера вернулся на хутор. Из села. С ним еще парнишка. До этого немцы выгнали их всех отсюда.
– Да он уже и задымил, – добавил Глодов. – Вон, печку топит.
– В таком случае я буду находиться у старика, лейтенант. – При упоминании о печке и тепле Беркут вдруг почувствовал, что сил его хватит лишь на то, чтобы добрести до пристанища каменотеса.
Он не спал уже третьи сутки. Еще и за час до вылета из отряда ему пришлось отбивать натиск карателей, которым очень хотелось ликвидировать партизанский аэродром вместе с самолетом. Задержись там летчики еще хотя бы на два-три часа, немцы наверняка бросили бы на них авиацию. Вот только с авиацией у них сейчас и на фронте скудновато.
– Мне нужно хотя бы полчаса подремать, – объяснил Глодову. – Всего полчаса.
– Если немцы не ударят по нас артиллерией, думаю, это удастся.
– Не ударят они сейчас, поскольку не знают, где наши позиции, а где позиции их войск. Поэтому не рискнут. Вы же, как только придете в себя после перестрелки, тоже отдохните. Потом нам с вами отдыхать уже вряд ли придется. Причем бог знает, сколько дней и ночей.
16
…И во сне Андрею тоже открылось вдруг огромное каменистое плато, омытое с трех сторон водами лимана, которое он осматривал как бы с высоты птичьего полета: нагромождение черных скал, неожиданно представших перед его взором; мрачный каньон, или пропасть; косматые тени среди таинственных, причудливой формы, столбов-идолов.
Где и когда он мог видеть все это? Из какой яви зарождался этот галактический пейзаж?
Беркут не заметил, как провидение сбросило его с поднебесья, и он оказался в окружении химерных каменных идолов, от каждого из которых веяло могильным холодом.
Пугаясь их, явственно ощущая страх, Андрей долго, выбиваясь из последних сил, брел и брел куда-то по этой бескрайней каменистой пустыне, гонимый леденящим ветром и жаждой во что бы то ни стало пройти и выжить. Выжить и пройти! Во сне, как и наяву, так же шел снег, а вдали, словно невесты в свадебных нарядах, виднелись ивы, которые, как только он приближался к ним, тотчас же превращались в заснеженные гранитные скалы.
Этот путь через вечную, холодную пустыню одиночества был таким долгим и трудным, что, когда Андрей услышал, как кто-то позвал его: «Капитан! Товарищ капитан! Командир!..» – то еще долго оглядывался вокруг, не в состоянии понять, где зарождается этот голос, долетавший до него словно бы из подземелья.
И лишь когда уже какой-то другой, сердитый голос пробубнил: «Да не трожь ты командира, дятел жучкоедный! Видишь же: человек в крайнем изнеможении», – начал медленно, как из трясины, выбираться из своего кошмарного сна-видения.
– Что?! Что случилось? – резко спросил капитан, открыв глаза. – Где немцы?
– Да немцы везде. Немцев хватает, – извиняющимся тоном причитал над ним несуразный в своей одномерной фигуре связист. – Там телефон вдруг ожил. Вас просят.
– Что, снова есть связь? – только сейчас по-настоящему проснулся Беркут. – Так что ж ты?! Аппарат телефонный где, в каменоломне?
– Вот же он, в руках. Я его сюда притащил. Боялся, что, пока добегу, чтобы позвать, он снова замолчит.
– Божественно.
Андрей отбросил старое, пропахшее соломой одеяло, которым старик-хозяин укрыл его, когда он уже засыпал, и сел, упершись спиной в стену.
– Здесь капитан Беркут.
– Начальник разведки дивизии майор Урченин, – зачастил на том конце провода тихий, почти по-девичьи мелодичный голос. Очевидно, майор тоже не очень полагался на надежность ожившей связи, а потому спешил. Никаких условных наименований-обозначений Андрей по-прежнему не знал, поэтому майор «отпевал» открытым текстом. – Я по поручению комдива. Что там у вас происходит, капитан?
Сонно жмурясь, Беркут взглянул на часы.
– Немцы хоронят своих. Работы у них нынче многовато. Однако дело святое, пусть прощаются. Может, и нас на поминки пригласят…
– Ты что… бредишь? – встревоженно перебил его Урченин. – Болен, ранен?
– Ни то ни другое, отвечаю на вопрос.
– Тогда отвечай по-человечески. Я ведь серьезно спрашиваю: что там? Где немцы? Где сейчас находитесь лично вы? – перешел майор на официальный тон.
– Все каменореченское плато пока в наших руках. Посты выставлены. Основные силы – в районе хуторка. Немцы действительно подбирают своих.
– Много их там? Имею в виду, живых.
– Живых – до полуроты. Похоронят и пойдут догонять свой полк. Основные события развернутся, очевидно, к вечеру. Когда фрицы обнаружат, что на полуостровке нет ихнего гарнизона.
– Что значит: «похоронят и пойдут»? Черный юмор у тебя, капитан.
– Мы тут прихватили в плен ротного, гауптмана. Ну, потолковали на баварском диалекте. Мы ему – жизнь, он нам – несколько часов передышки.
– Слушай, капитан, что ты там Ваньку валяешь?! С немцем… На баварском диалекте… Кто это с ним так поговорил – «на баварском диалекте»?
– Я и поговорил, капитан Беркут, – решил Андрей, что лучше уж самому доложить начальству, все равно ведь донесут. – Подробности моего появления здесь – у генерала Мезенцева.
– Да в курсе, в курсе!.. Дело не в диалекте, а в переговорах с фашистским офицером, – раздраженно уточнил майор. И, немного помолчав, тихо произнес: – Будем считать, что об этих переговорах я не знаю. Ты не докладывал, я – не слышал. Понял, капитан?
– Так точно.
– И впредь, чтобы… Кстати, о тебе уже по рации справлялись. От имени Украинского штаба партизанского движения. При этом немного рассказали о твоих похождениях. Честно говоря, я не всему поверил. Но теперь вижу, что…
– Почему не было связи с вами, товарищ майор? – перебил его Беркут, не желая выслушивать мнение начальника разведки о своих похождениях. – Передислоцировались, что ли?
– Отогнали нас на два километра. Но сейчас противник остановлен. Кабель, как сам понимаешь, он пока не обнаружил, связисты постарались.
– Просьба есть: не завтра – так послезавтра река покроется льдом. Нужно будет время от времени вздалбывать его в районе Каменоречья. Артиллерией или авиацией. Это обеспечит нам тылы. Базироваться будем в каменоломнях плато, и на самой косе. Там тоже небольшая штольня. Все остальное пространство плато можете обрабатывать с земли и воздуха.
– Понятно, капитан, понятно. Сколько у тебя людей?
– В строю семьдесят три. Несколько человек прорвалось к нам из окружения… К вечеру попытаемся устроить «проверку документов» на шоссе.
– Открытым текстом говоришь? Впрочем… Проверка – это необязательно. Ваша задача…
– Задачу я знаю.
– Но если все же пойдешь, – а в этом деле, как сообщили из Центра, ты большой спец, – любые документы, карты – все в трофеи. И немедленно сообщать. Связь постараемся удерживать.
– Для поднятия духа бойцов это очень важно.
– Да, из Москвы просили вырвать тебя из этого котла и переправить в распоряжение Украинского штаба партизанского штаба. Я, конечно, объяснил ситуацию. Но у них там свои представления о том, что здесь происходит. «Любой ценой вырвать!». Поэтому обязан предложить: оставляй гарнизон плато на любого офицера, какой окажется у тебя под рукой, и можешь переходить линию фронта. Не тебя учить, как это делается. Есть там у тебя офицер?
– Есть. Лейтенант Глодов.
– Глодов? Понятия не имею, кто таков. Но это неважно. Передавай командование и…
– Исключено.
– Что значит «исключено»?
– Останусь здесь, пока не выполню приказ комдива.
– Комдив будет в курсе. Можешь считать, что это и есть его новый приказ.
Беркут недовольно покряхтел и вопросительно взглянул на вновь вытянувшегося в струнку ефрейтора-связиста.
– Не могу я оставить здесь этих людей. Они нащипаны из разных частей, и незнакомого лейтенанта вряд ли признают. Да и не продержатся они тут без меня и суток. Обычные окопники. Ни у кого нет опыта партизанской войны, боев в окружении. Словом, остаюсь я.
– Ну… смотри, – замялся теперь уже майор. – Мое дело передать требование штаба. На твоем месте, я бы тоже вряд ли оставил там солдат, – произнес Урченин таким тоном, словно хотел оправдаться за свою настойчивость. – Да и нам повезло, что ты там оказался. Просьбы есть?
– Есть. Не засиживайтесь на теперешних позициях до весны. Прорывайтесь к реке.
– Понято, поня…
В это мгновение трубка вновь замерла. Беркут вопросительно посмотрел на телефониста. Несколько минут тот усердно крутил ручкой, хотя по тому, как она шла, сразу же можно было определить, что на линии обрыв.
– Уже сполняю. Но обрыв на том берегу. Нет, я, конечно, пройду до реки. Но в реке у нас тоже надежно, вся линия на грузилах. Обрыв на том берегу, – засуетился телефонист, – это я вам точно говорю.
– Все равно проверить. Кабель тщательно замаскировать. Аппарат – в каменоломню. Сколько у тебя аппаратов?
– Три взводных. Да артиллеристы один подарили.
– Соедини наш подземный КП с той штольней, что на краю косы. Последние часы, наверное, будем держаться именно там. Два других аппарата – на связь между КП и постами на дальних выходах из каменоломень. Сержант Сябрух проведет.
– Уже сполняю.
17
Кроме той комнатушки, которую облюбовал капитан, в доме было еще две – занимаемых хозяином и светловолосым парнишкой, на вид лет шестнадцати. И старика, и парнишку Андрей видел только мельком. Дед встретил его на пороге и с первого взгляда установил, что «командиру-офицеру надо отоспаться, потому что, как с креста снятый» (при этом старик говорил о нем в третьем лице, словно самого «командира-офицера» рядом с ним не было), и толкнул первую в тесном коридоре дверь.
– Вот здесь. Тепло и заупокойно.
– Главное, что «заупокойно», – согласился Беркут, очень уж кстати пришлось это словцо, смысл которого старик истолковывал, очевидно, по-своему.
– Однако остальное войско пусть пока побудет в других хатах и сараях. У меня должен квартировать только командир-офицер.
– Вот он и квартирует, – сонно уведомил его капитан.
Кровати в комнате не было. Ее заменял низкий, застеленный серым одеялом лежак.
Андрей механически стащил сапоги, расстегнул портупею и, засунув пистолет под подушку, тотчас же, не дождавшись ухода старика, уснул. Последнее, что он запомнил – от выглядывавшего из-под одеяла кончика подушки повеяло знакомым ему немецким солдатским одеколоном и почему-то женскими волосами.
Впрочем, Андрей решил, что запах женских волос – это ему уже во сне. На том первое знакомство с хозяевами мрачного, сложенного из мощного камня-дикаря (а не из песчаника, как остальные дома на хуторе) пристанища и закончилось. Однако выдалось оно не последним.
Сейчас, одевшись и выйдя в коридор, Андрей на минутку задержался, прислушался к покашливанию старика, очевидно, тоже «заупокоившегося» возле печки, и подумал, что надо бы с ним поговорить, расспросить о каменоломнях и ближайших селах. Но решил, что это еще успеется, и стучаться в дверь не стал.
Вышел во двор. Определить, какая сейчас пора дня – полдень, вечер или утро, – почти невозможно. Густой медлительный снегопад ограничивал мир человека тремя шагами видимости. Но сегодня он был как нельзя кстати. Не исключено, что снегопад тоже сдерживал активность противника, упрятывая полуостров от глаз тех, что проходили колоннами по шоссе.
Щедро усыпанная крупным щебнем дорожка привела Андрея к выступу, за которым начиналась основная выработка. Оттуда уже доносились многоголосый говор, смех, запах дыма и чего-то съестного.
– Товарищ капитан, – побрел навстречу ему с котелком в руке старшина Бодров, – докладываю: личный состав роты принимает пищу.
Беркут улыбнулся и молча прошел мимо старшины.
– Что, может, не так доложил? – потянулся вслед за ним Бодров. – Извините, что с котелком.
– Дело не в котелке. Я не слышал такого доклада с июля сорок первого, с того дня, когда в последний раз вот так же доложил об этом старшина моего дота. Непривычно. И приятно. Бойцов, не входящих в личный состав вашей роты, накормить не забыли?
– Господь с вами, сейчас тутычки все наши, – искренне обиделся старшина. – И котел заготовили, считайте, на полную роту. С добавкой. Кашица, правда, негустая, экономная, но дело-то фронтовое.
– Всем сидеть. Продолжайте прием пищи, – мягко скомандовал капитан, видя, что кое-кто из бойцов начал подниматься с разбросанных под большим каменным карнизом камней. – Чтобы в будущем не приходилось прибегать к подобным уточнениям, отныне все мы, оказавшиеся здесь бойцы из разных частей, будет именоваться «гарнизоном плацдарма». Меня же будете называть «комендантом гарнизона».
– Так оно правдивее будет, товарищ комендант гарнизона, – признал старшина. – Только вы бы немного о себе рассказали, бойцы интересуются.
Походная кухня дымила под тем же карнизом, под которым располагались бойцы, только стояла она у входа в одну из боковых штолен. Как потом объяснил старшина, загнали ее туда еще позавчера, когда рота временно оказалась во втором эшелоне, на отдыхе, вместе со всем батальоном ждала пополнения, и даже вынашивала мысль об отводе в более глубокий тыл на переформирование.
– Правильно, что интересуются; всегда важно знать, кто с тобой рядом в окопе, с кем ты завтра пойдешь в атаку. Я – капитан Беркут. Представитель штаба дивизии. Поскольку я впервые вижу вас вот так, всех вместе, и собираться нам выпадет не часто, хотел бы кратко объяснить задачу, поставленную перед нами командиром дивизии генерал-майором Мезенцевым.
– Во, самим генералом?! – удивленно переспросил кто-то из бойцов.
– Наш гарнизон, в который вошли рота старшего лейтенанта Коруна и группы прорвавшихся сюда во время отступления бойцов из разных частей, получил приказ удерживать этот скалистый район, каменоломни и косу до момента форсирования реки нашими войсками. Задача гарнизона, которым мне приказано командовать, – боевыми вылазками дезорганизовывать переброску по шоссе подкрепления, сковать действия нескольких подразделений противника, заставив их топтаться у каменоломень, и постоянно держать в напряжении ближайшие тылы врага.
– Не знаю, как мы немцев, а уж они нас так «держать» станут, – проворчал все тот же неугомонный боец.
– Но конечная наша цель, – не отреагировал на его слова Беркут, – любой ценой удерживать этот участок как будущий плацдарм, который очень поможет нашим войскам при форсировании реки.
– Ну а какое-нибудь подкрепление нам подбросят?! – перебил его давно небритый боец в изорванной шинели, стоявший в черном проеме штольни.
– Обманывать вас не стану, это не в моих правилах. Уверен, что никакого подкрепления мы не получим.
На каменистом пятачке воцарилось унылое молчание. Бойцов поразило даже не само известие о том, что подкрепления не будет, они и сами в этом не сомневались, а то, как раз комендант уведомил их.
– Неужели генерал так и сказал, что не получим? – недоверчиво поинтересовался боец в изорванной шинели.
– Генерал говорил не о подкреплении, он говорил о скором наступлении наших войск. Что же касается подкрепления… Даже если бы нам его клятвенно пообещали, то фронтовая ситуация сложилась так, что мы оказались в окружении. И на этом, и на том берегу теперь враг, поэтому рассчитывать можем и должны только на самих себя.
18
Какое-то время над каменоломней царило угрюмое молчание.
– Спасибо, что не соврал, капитан, – нарушил его все тот же осипший, басистый голос. – Другой бы начал темнить. С этим, братва, можно воевать.
– Пока что нам противостоит лишь неполная, обескровленная вами в бою рота противника, – продолжал капитан, не реагируя на эту сугубо окопную похвалу. – Подкрепления она тоже не получила и, вполне возможно, уйдет вдогонку за своим полком. Однако немецкое командование очень скоро разберется в ситуации, и тогда нам придется драться за этот хутор и косу днем и ночью. Поэтому сразу после приема пищи нужно взяться всем вместе и завалить камнями проходы между скалами по линии вон того, крайнего дома. Это должна быть невысокая, но мощная баррикада, благодаря которой, используя естественные укрытия, мы смогли бы сдержать хотя бы первый натиск врага.
– Уже почти забросали, товарищ капитан, – вставил Бодров. – Осталось немножко. Нажмем, хлопцы, по-фронтовому, а?
– Нажмем! – не сразу и недружно согласились бойцы.
– Вторая стена должна проходить в пятидесяти метрах от каменоломни. Чтобы перекрыть врагу путь к косе и сюда, к штольням. И третий небольшой завал – на самой косе, чуть впереди подбитого немецкого танка. Сам танк, скалы и небольшая каменоломня, что на косе, будут тем последним рубежом, отступать за который мы уже не имеем права. С особой тщательностью забрасывать камнями дорогу. Чтобы ни танк, ни мотоцикл пройти не смогли. Пусть разбирают завалы под нашими пулями. Увидим, как у них это будет получаться. Сябрух!..
– Здесь я, – появился откуда-то из темноты штольни младший сержант. – Оба мы здесь: я и рядовой Стурминьш.
– Вы прошли штольню?
– Прошли, словно в подземном мире побывали.
– Это эмоции. А что конкретного можете сообщить нам?
– Конкретно получается так, что штольня, которая начинается с того входа, возле которого мы с вами были, соединяется с другой, которая ведет к плавням. А недалеко от плавней эта плавневая штольня разделяется и заканчивается каким-то обрывом, оврагом или как его лучше назвать. Другие штольни тоже осмотрели. Они небольшие, и некоторые из них тупиковые.
– Божественно. Отныне вы, младший сержант Сябрух, назначаетесь комендантом каменоломень. В вашем подчинении – рядовой Стурминьш, водитель грузовика сержант Ищук, телефонист, повар и легкораненые. Выходы замаскировать. Особенно тщательно – тот, что ведет к плавням. Оборудовать в них места для постоянных постов. Дать телефонную связь с ними и с каменоломней, что на косе.
– У одного выхода аппарат уже стоит, – отозвался телефонист.
– Старшина Бодров, ваша задача – срочно подыскать шахтную выработку для арсенала и склада продовольствия. Кухню тоже затянуть в катакомбы. Оборудовать лазарет. Лейтенант Глодов с людьми вернулся?
– Пока нет, – ответил Бодров. – Постреляли там маленько, это было. Но пока что не вернулся.
– Кобзач, подготовьте патруль из трех бойцов. Пусть разойдутся и по одному скрытно патрулируют. Лейтенанта с его людьми – когда вернутся – накормить и дать им возможность отдохнуть. И последнее. Слушайте меня внимательно. Нужны пять добровольцев, которые пойдут со мной на шоссе. Посмотрим, что там у них творится. Выступаем через два часа. Автоматы, шинели и каски – по возможности, немецкие.
– Уже нашли три хорошие шинели и пять касок, – сообщил Кобзач.
– Что значит: «нашли»? – проворчал кто-то из бойцов. – С мертвых сняли. Кто их теперь будет одевать?
– Да что ж я их из берлинских пакгаузов тебе выпишу?! – возмутился старшина.
– Нужны будут еще каски, шинели и немецкие автоматы, – спокойно заметил Андрей. – Это война. Она диктует свои условия. Позаботьтесь об офицерской шинели для меня.
– Автоматов хватит, а вот офицерской шинели не попадалось.
– Офицерскую тоже добудем. А пока – любую, какая есть. Добровольцы, назоветесь старшине. Ефрейтор Арзамасцев!
– В хате он, возле раненых. Командира роты сейчас перевязывает, – объяснил Бодров. – Санинструктора у нас нет. Погиб. Санитаров тоже. А у него, у ефрейтора вашего, к этому делу вроде как тяга какая-то появилась. Может, со временем на врача или фельдшера выучится.
– Предупредите его, что тоже пойдет со мной на шоссе.
– А не надо бы. Не приведи господь, останемся без такого старательного «лекаря».
– Ничего, мы с ним не первый раз ходим. Остальные же на такое задание наверняка пойдут впервые. Значит, опыта никакого. – Правда ваша: хоть один надежный, проверенный боец под рукой должен быть.
– Но и лекарь тоже нужен. Тут ты, старшина, прав, – вроде бы сам же себе и возразил Беркут.
И оба задумчиво, с фронтовой тоской помолчали.
– Ваш котелок, товарищ капитан, – поспешил к Беркуту повар. – Ваша ложка.
В дом капитан заходить не стал. Отошел чуть в сторонку, сел на камень, лежащий уже не под карнизом, а под открытым небом, провернул ложку в жиденьком месиве (нечто среднее между кашей и супом, зато как пахло говяжьей тушенкой!), но прежде, чем поднести ложку ко рту, прочел на черенке: «Ряд. Грищ. 1 взв.». А чуть приподняв котелок, едва разобрал: «Ефр. Абдурахма. 2 взв.».
«Шинели, говоришь, с мертвых сняты? – с укоризной ответил он про себя рыжеватому бойцу, который несколько минут назад так брезгливо изобличал старшину. – Что ты тогда видел на этой войне?!» И, зачерпнув заснеженной ложкой остывающий суп-кашу, начал медленно есть. Хотя перед глазами все еще стояло это, коряво нацарапанное гвоздем: «Ряд. Грищ. 1 взв.».
19
Германцы пока что вели себя смирно. Осматривая в бинокль ложбину, Беркут угадывал их присутствие почти на всем видимом пространстве, однако ни на одном участке никакой активности они не проявляли.
– Странно, Кобзач. Исходя из нашей договоренности, гауптман уже должен был бы сымитировать прочесывание плато и увести своих солдат на тот берег.
– Совсем распустился, – иронично поддержал его старшина. – Приказы дважды повторять приходится.
Капитан удивленно взглянул на Кобзача и столь же иронично повел подбородком: у старшины юмор прорезался. Если бы Мальчевский съязвил – это еще было бы понятно, но Кобзач!..
– Что-то не то. Гауптман наверняка должен был пройтись к реке, – задумчиво обронил Беркут, продолжая свое размышление вслух. – Разве что получил подкрепление и решил, что стоит еще раз навалиться на нас атакующей лавой?
– Или просто решил отсидеться. Три часа на передовой без стрельбы – считай три часа райской жизни: без пуль и страха. На войне они ценятся уже хотя бы потому, что в эти часы война как бы проходит мимо тебя, а то и вовсе без тебя. Гансы – они хоть и немцы, а размышляют, считай, по-нашенски.
– Ну и божественно! Передышка германцев – это и нам передышка. Но как только здесь появится новое подразделение, придется повоевать. Так что молись, старшина, чтобы этот самый гауптман…
– Ганке, – подсказал Кобзач, – Вильгельм Ганке.
– Ты-то откуда знаешь? Неужто фамилию запомнил?
– Что ж тут знать-запоминать? Документы-то его у меня остались. Офицерская книжка. Еще какие-то бумаги, вроде как на питание, и все прочее… – извлек старшина из внутреннего кармана шинели портмоне бывшего пленного, – вот оно все.
Поначалу Беркут удивленно уставился на Кобзача, а принимая документы, расхохотался. Ситуация и в самом деле получалась комическая. Уходя из плена, гауптман то ли не решился заикнуться о документах, чтобы не усложнять ситуацию, то ли, пораженный любезностью красноармейского офицера, попросту забыл о них. В то время как ему, Беркуту, и в голову не пришло оставить офицерскую книжку Ганке в качестве залога, и таким образом добиваться, чтобы тот в точности выполнял их договоренности.
Получается, что самым прозорливым оказался старшина. Припрятав документы, он, глядя вслед немецкому офицеру, хитровато ухмылялся в усы. Впрочем, ухмыляться он мог и поглядывая на Беркута. Если смершовцы[5] докопаются до того факта, что капитан отпустил немецкого офицера, то есть оказался пособником врага, он, Кобзач – единственный из роты, кто сумеет доказать, что не одобрял этого прегрешения капитана.
– Что ж ты молчал, старшина? Почему не вернул документы Ганке?
– А мы сначала посмотрим, как он нам служить будет. А потом еще подумаем: отдавать, или пусть у фюрера своего новые выпрашивает. Ему бы спасибо сказать, что волчью шкуру с него не содрали.
– Да уж, странные складываются у нас отношения с этим гауптманом.
– За которые гестапо – если только там узнают о его пленении и переговорах, – с удовольствием спровадят его в концлагерь. Или просто пристрелят перед строем, для острастки. Как думаете, капитан, немцы перед строем офицеров своих расстреливают?
– Видеть подобного не приходилось, – проворчал капитан, отлично понимая, что то же самое Кобзач мог бы предположить и по поводу его, Беркута, отношений с НКВД. – В данном случае до этого, очевидно, тоже дело не дойдет. – Кстати…
Беркут хотел молвить еще что-то, но в это время Кобзач резко оттолкнул его за каменистый уступ и сам рванулся вслед за ним, прижавшись между капитаном и каменисто-глинистым наростом.
– Что случилось? – спросил капитан после нескольких секунд настороженного ожидания.
– Что-то блеснуло. То ли бинокль, то ли прицел снайпера.
– Будем надеяться, что бинокль. Иначе вслед за блеском прицела последовала бы вспышка выстрела.
– Да оно как когда…
– Но это могла быть и уцелевшая, спасенная тобой, старшина, линза очков гауптмана.
Выждав еще несколько секунд, они, пригнувшись, прошли десяток метров под прикрытием каменного вала и осторожно выглянули.
Сомнений не было: там, в створе между двумя глыбами, стоял, осматривая в бинокль их позиции, какой-то офицер.
Наведя на него свой бинокль, Андрей без особого труда рассмотрел вермахтовца, похожего, как ему показалось, на того гауптмана, которого они с миром отпустили. Немец тоже заметил его и с минуту оба пристально присматривались друг к другу.
– По-моему, он желает поговорить с вами, – объявил Кобзач. – Вот только не знает, как подступиться.
– Мне и самому хотелось бы задать ему несколько несложных вопросов.
– Но он захочет, чтобы это было в обмен на документы.
– А что, оказывается, нам есть чем поторговаться.
– Так, может, свистнуть?
– Пусть свистит он, ему это нужнее.
Кобзач довольно хмыкнул и покачал головой:
– Странная все же это штука – война.
– Дело даже не в войне, а в человеческих отношениях, которые можно налаживать даже в таких вот, смертоубийственных условиях вражды.
– Вот это и странно, что люди способны договариваться обо всем, даже о том, как именно убивать друг друга.
– Эй, на посту! – обратился капитан к двум солдатам, сидевшим в засаде шагах в трех впереди и справа от них. – Видите, вон там стоит офицер?
– Видим, – ответил один из постовых, – но из автомата по нему не дотянуться.
– И не надо дотягиваться. По этому офицеру вообще не стрелять. Ни в коем случае. И внимательно наблюдайте: не исключено, что он попытается передать записку.
– С завернутым в нее снарядом, – предположил один из бойцов, решив, что комендант гарнизона шутит.
– Отставить болтовню. Выполнять приказ! Внимательно следите за действиями этого офицера, от него сейчас зависит наше с вами существование.
Беркут не ошибся. Через полчаса один из бойцов, тот самый шутник, доставил ему на КП записку, заброшенную Ганке на ничейную землю в пустой консервной банке. Первые четыре слова были написаны в ней по-русски: «Господину капитану. Передать срочно». И видно было, что писал их кто-то из оказавшихся у гауптмана под рукой русских, скорее всего, полицай. Остальной же текст – на немецком, поскольку доверяться со своей тайной полицаю Ганке не решился.
«Господин капитан. Ваши условия выполнены. Я передал командованию, что понадобится еще два дня, чтобы окончательно выбить ваших солдат из подземелий. Возражений не последовало, но и подкрепления у командования нет. Собственно, я на нем и не настаивал.
Таким образом, я подарил вам не два часа, а двое суток. Срок заканчивается завтра ночью. Послезавтра утром уходим. Просьба вернуть документы тем же способом, каким получили записку. Сделайте это сегодня же. Прочесывание осуществим завтра, в 17.00. К этому времени ваши передовые посты должны быть сняты.
Операция будет проходить так: дойдем до вторых завалов и, никого не обнаружив, в связи с наступающей темнотой, повернем назад. Но учтите, что справа и слева от меня подразделения, за действия которых не отвечаю. Правда, пока что они не вмешиваются. Записку уничтожить».
Подписи не последовало, но особой необходимости в ней и не было.
– Как считаешь, старшина, стоят твои бумаженции того, чтобы дать бойцам еще почти двое суток передышки?
Кобзач мрачно скручивал самокрутку, и поначалу Беркуту казалось, что он вообще не расслышал вопроса. Лишь когда прикурил от трофейной зажигалки, так же мрачно произнес:
– За фронтом вам с немцами было привычнее, оно чувствуется. Но у нас здесь, по эту сторону окопов, всякие разговоры-переговоры с фашистом расстрельно запрещены, – нажал он на слове «расстрельно». – Так что будьте поосторожнее с этим, товарищ капитан.
– Прямо-таки «расстрельно»? – неуверенно ухмыльнулся Беркут.
– Не сомневайтесь, капитан, – украдкой оглянулся Кобзач, нет ли поблизости лишних ушей. – У нас тут и по генералам постреливают. Видели бы вы, что в сорок первом по ближним тылам творилось.
– Зря опасаетесь, старшина: никто никогда не узнает, что вы хранили у себя офицерскую книжку этого гауптмана.
– Для того и хранил, чтобы передать в особый отдел или в разведку. Как полагается, – невозмутимо парировал Кобзач, давая понять, что объяснение этим своим действиям он давно продумал. – Но это я так, на всякий случай, никому ничего докладывать не стану.
Однако страхи старшины Беркута не смутили. Передав документы дозорному-гонцу, он приказал переправить их своему германскому коллеге тем же способом, каким тот переправил записку. В свою очередь, на каком-то клочке газеты Беркут написал ему: «Условия приняты. Рассчитываем на ваше слово чести, гауптман, на слово офицера».
– Вот уж гауптман обрадуется, что документы уже в кармане. Так обрадуется, что через час попрет на нас всей своей ротой, – сопроводил старшина сие «пожертвование трофеями» собственным мрачным предсказанием.
– Обрадуется, ясное дело, но не попрет.
– Но это же фашист! Плевать он хотел на какое-то слово, данное русскому офицеру. Пока офицерская книжка была у нас, он еще кое-как сдерживался. Но теперь-то ему один хрен. Ему теперь грехи замаливать надо, на тот случай, когда вся эта история в штабе или в гестапо всплывет.
– Уверен, что он точно выполнит все оговоренные условия.
– Странный вы человек, капитан, – сокрушенно как-то покачал головой старшина. – И отношение к немецким офицерам тоже странноватое, – добавил он, выходя вслед за капитаном из подземного КП и глядя вслед удаляющемуся гонцу.
– К противнику я привык относиться, как подобает офицеру: с должным уважением. Особенно, если передо мной достойный противник – не потерявший мужества, знающий цену не только жизни и смерти, но и солдатского мастерства.
Прошло несколько минут, гауптман все не появлялся и не появлялся, но Беркут терпеливо ждал. Наконец немец появился, и в бинокль Беркут видел, как тот размахивает, чем-то, что находится у него в руке. Скорее всего, это была банка, в которой он передал гауптману документы.
– Вот теперь увидим, чего ты стоишь, как офицер, – вслух проговорил Беркут демонстративно отворачиваясь и уходя в сторону своих позиций.
20
– Глодов, что за стрельбы?! – выскочил Андрей из полуразрушенного крайнего дома. Бойцы спешно превращали его в опорный пункт, заваливая подоконники массивными камнями и выстраивая напротив двери и фасада небольшие баррикады. Благо, камня здесь хватало.
– Понятия не имею. Кто-то ведет бой. Сначала оттуда, от дороги, доносилась трескотня мотоциклов, а теперь вот… Очевидно, немецкая моторазведка напоролась на кого-то из наших.
– На дозор, что ли?
– Да нет, дозор вон, в ста метрах, – за последней котловиной. А там, где идет бой, никого из наших быть вроде бы не должно.
– Что-то я не понимаю тебя, лейтенант. Кто-то же там сражается. Не с привидениями же немцы воюют.
– Значит, нарвались на кого-то из отступающих. Видно, прорываются к нам. Час назад, когда еще светло было, там тоже стреляли. Я послал двух бойцов. Немцев они видели, даже вступили с ними в перестрелку. А наших, вроде, никого.
– Если кто-то прорывается к нам, то что ему мешает? Между ними и нами немцев нет. Похоже, наоборот, они сдерживают немецкий патруль. Мальчевский! Младший сержант Мальчевский!
– Младсерж Мальчевский перед вами, отцы-настоятели! – появился тот из-за возвышающейся между двумя домами скалы. За ней бойцы развели небольшой костер, который Мальчевский теперь охотно поддерживал, всячески увиливая при этом от прочей трудовой повинности.
– Разведайте, кто палит из всех стволов. Только побыстрее. В случае необходимости, поддержите огнем и приведите отступающих сюда.
– Это я мигом. Зотов, – позвал он своего напарника по костру, – за младсержем Мальчевским, рысью!
Волны сумрачного тумана зарождались где-то по ту сторону реки, надвигались, охватывая вершины утесов, на плато, и медленно опускались по их ребристым склонам все ниже и ниже, чтобы в конце концов слиться с заиндевевшей поверхностью возвышенности.
Река уже покрылась свинцовым покрывалом, но оно было не настолько плотным и толстым, чтобы заглушить исходящую из ее течения ревматическую влажность, немилосердно пропитывающую шинели, сапоги, да и сами, без того увлажненные потом, солдатские тела.
Поеживаясь, Беркут проследил, как в одной из гонимых низовыми ветрами волн тумана скрылись двое его бойцов, и вновь прислушался к тому, что происходило на дальней заставе, у ворот Каменоречья. Тишина, которая на несколько минут воцарилась там, неожиданно снова взорвалась пулеметной россыпью, переплавилась на приглушенную, едва уловимую здесь, шмайссеровскую трель и, наконец, заключительным аккордом этой фронтовой симфонии прогрохотал взрыв гранаты.
– За работу, окопники, за работу! – вывел он из оцепенения десяток бойцов, тоже прислушивающихся к отзвукам боя. Одни из них основательно заваливали ближний проход и громоздили каменные гнезда по его сторонам, другие хлопотали возле развалин дома, словно напористая семья, решившая укорениться на чужом пепелище.
– Может, нам всем пойти туда и подсобить? – спросил Глодов, хотя особого рвения заниматься фортификацией плацдарма до сих пор не проявлял.
– Не будем тратить время, а главное, не будем привлекать к себе внимание германского командования. По всей видимости, в нашу сторону отходит какая-то запоздалая группа. Ну, так Мальчевский сейчас все выяснит. Вы же помните, что основной наш рубеж будет пролегать здесь. И поскольку окопы здесь рыть невозможно, отгораживайтесь от противника камнями.
– Но, может, все-таки рванем, поможем? – несмело предложил теперь уже кто-то из бойцов. – Пропадут ведь.
– Не должны. И потом, не исключено, что немцы просто-напросто провоцируют нас, выманивая на равнину.
– Не очень-то немцы и мастаки на такие хитрости, – заметил лейтенант. – У них все по тактике ведения боя: танки, пехота, смешанными силами…
– На передовой – да, – согласился Беркут, они с лейтенантом переговаривались вполголоса. – Но по тылам, в спецслужбах, у них достаточно опытные инструктора. В этом мне не раз приходилось убеждаться.
Разведчики вернулись почти через час, когда на первой заставе все давно затихло и капитан уже начал волноваться за их судьбу – как бы не достались немцам в качестве языков. Он и Глодов сидели у догорающего костра. Остальные бойцы второй заставы расположились в большой комнате с неплохо сохранившимся потолком. Они наносили туда из полуподвального сарайчика позапрошлогоднего сена, затащили пару изорванных матрацев, набросали шинелей и, устроив себе фронтовой курорт, громко и бесшабашно живописали собственные любовные похождения.
– Мальчевский, ты, что ли? – с трудом распознавал в темноте его фигуру капитан.
– Кто же еще?! Младсерж Мальчевский после приема парад конницы маршала Нея.
– Почему в одиночестве?
– Все в порядке, отцы-настоятели! – Мальчевский решительно не признавал никакой субординации и, похоже, приучить к ней младшего сержанта в условиях этого гарнизона было бы пустой тратой времени. Да Беркут не очень-то и стремился к этому. – Зотов уже в хате, трофейные раскуривает.
Мальчевский присел к костру, подгоревшей веткой расшевелил угольки, и, демонстративно добыв из кармана портсигар, тоже трофейный, протянул его капитану.
– Младший сержант Мальчевский, встать! – остановил его Беркут. – Я приказываю: встать! – А когда тот нехотя поднялся и даже изобразил нечто похожее на стойку «смирно», продолжил: – Доложить о результатах разведки.
– Так ведь я уже, как Суворов – императору, почти стихами…
– Как полагается, доложить. По всей форме.
– До предела разболтались, – одобрительно проворчал Глодов, тоже потянувшийся было к портсигару.
– Если по всей форме, товарищ капитан, – басисто отчеканил младший сержант, – то никакого хр… извиняюсь, мы там не обнаружили. Кроме немчуры. Немцев – человек двадцать. На мотоциклах. Какой-то мотоциклетный взвод сбился с дороги и сдуру попер сюда, решив, что где-то здесь переправа. Тут их кто-то из наших окруженцев и остановил. Может, на каких-нибудь пятнадцать – двадцать минут, но остановил. А сам погиб. У немцев, видать, тоже потери… Сам слышал, как кто-то из них кричал: «Господин фельдфебель, здесь еще один убитый. Это рядовой Крюнге».
– Вы что, владеете немецким? – строго, недоверчиво уточнил капитан.
– Два десятка слов. Из фронтового, так сказать, словаря, – объяснил вместо него Глодов.
– Значит, так и не ясно, с кем они там воевали?
– Да хрен их, отцы-настоятели, пардон… Словом, поползали мы, камни понюхали. Вроде нашими портянками не пахнет. Сплошной вермахтовский эрзац-одеколон. И чтобы говорили о русских – тоже не слышно. Словно их там и не было.
– Это все?
– Почему все? Мы, от расстройства желудков, тоже пальнули по ним несколько раз. Одного точно свалили, другого вроде ранили. Они по нас – из мотоциклетных пулеметов. И «шмайссерами». Мы, конечно, извинились за шутку – и назад. Они тоже на мотоциклы…
– И что, там уже вообще не осталось больше немцев? – спросил Беркут.
– Да нет, те, что стерегут нас, ну, те бродяги из команды гауптмана, вроде еще отлеживаются. Мотоциклистов они, видно, сначала проморгали. Потом бросились на помощь. А когда те драпанули, тоже не спеша отошли подальше, в долину, к кострам.
– В общем, ни черта вы не разведали, младший сержант, вот что я вам скажу, – грубовато подытожил Глодов. – Только зря время убили.
– Ну, почему же, – не согласился капитан, подбрасывая в костер последние ветки. – Кое-что прояснилось. Очевидно, мотоциклисты наткнулись на каких-то окруженцев, которые просочились через немецкий заслон вдоль шоссе, но не знали, что рядом целый гарнизон своих. Решили где-то там, между камнями, дождаться рассвета, чтобы потом определиться, куда они попали.
Объясняя все это, Беркут не верил сам себе. Что-то у него не сходилось, каких-то сведений не хватало. И все же продолжал развивать свою версию. Должно же существовать хоть какое-то объяснение этой стычке.
– Если надо, могу еще раз пройтись, – обиженно заметил тем временем Мальчевский. – Хоть вместе с вами, лейтенант.
– «Товарищ лейтенант», – резко поправил его Глодов. – Армия есть армия.
– Так мне уже можно идти к хлопцам, или еще стоять навытяжку, товарищ капитан? – пропустил все это мимо ушей Мальчевский.
– Вольно. Свободны.
– Хотел угостить вас обоих трофейными папиросками. Так ведь не дали. Теперь пойду хлопцев обдымливать. Безо всякого доклада и не навытяжку, – язвительно объяснил младший сержант и, сверкнув серебристым портсигаром, важно прошествовал мимо офицеров к хате.
Глядя ему вслед, Беркут рассмеялся. Он, конечно, был противником подобного солдатского разгильдяйства и старался пресекать его. Но сейчас этот парень очень напоминал ему сержанта Крамарчука, бойца из его 120‑го дота. Да, чем-то он все же напоминал Крамарчука. И это совершенно меняло отношение к нему.
– Что скажешь, лейтенант? Я имею в виду эту мотоциклетную баталию.
– Думаю, она вылезет нам боком. Утром немцы подбросят сюда еще полбатальона и загонят нас в реку.
– Или закупорят в подземелье, – согласился Беркут. – Такое тоже не исключено.
– Странно, что немецкое командование вообще до сих пор терпит нас, ограничиваясь всего лишь блокадной ротой.
– Это они в спешке. Последние их резервы брошены за реку. Второй эшелон не подошел. Подкреплений нет. Предполагаю, они и сами не ожидали, что русских удастся отбросить так далеко. Рассчитывали потеснить за водную преграду, поделить берега. Потом уже, развивая временный успех…
Поднявшись, Беркут увидел, что по ту сторону реки разгорается рассвет, но, взглянув на часы, с удивлением открыл для себя, что никакого рассвета быть не должно: одиннадцатый час вечера. Где-то там, на юге, зарождалось и постепенно расползалось по небосклону зарево огромного пожара.
Зато еще недавно грохотавшая в той стороне артиллерийская дуэль теперь окончательно утихла, и над рекой, над прибрежными холмами, над каменистым степным плато воцарилось хрупкое ночное перемирие, при котором война давала передышку смерти, а смерть – войне, как бы отступая при этом на несколько часов от передовой, от промерзших окопов, от обескровленных батальонов.
Приказав группе заграждения усилить бдительность, капитан направился к дому Брылы, но, уже подходя к нему, вдруг услышал, что у ворот Каменоречья снова завязался бой.
– Это черт знает что! – крикнул он лейтенанту, который облюбовал себе крайний от реки, уже плохо сохранившийся, видно, давно покинутый жильцами дом. – Я, конечно, не верю в привидения. Но кто-то же там воюет!
– Это его дело!
– Нет, теперь это и наше дело, лейтенант.
– Ну, чего суетиться, туда-сюда бегать? Утром выясним, – попытался успокоить коменданта Глодов, ускоряя шаг.
Он и в самом деле побаивался, как бы капитан не приказал ему лично заняться разгадкой этого воинственного «привидения».
21
Старика и парнишку Беркут тревожить не стал. Пытаясь не шуметь, осторожно открыл незапертую дверь, вошел в коридор и на ощупь нашел ручку двери одной из трех комнаток, в которой заквартировал. При первой же встрече он предложил Брыле уйти вместе с парнишкой в плавни, а оттуда – к какому-нибудь селу, где сейчас было бы значительно безопаснее, но тот отказался.
– На этих камнях я вырос, всю жизнь отдал камням. Здесь, на этих камнях, и останусь, – кивнул старик в сторону окна, за которым высились валуны, – одной из таких вот «брыл», как у нас говорят.
В комнате было довольно тепло, очевидно, потому, что стенка ее обогревалась печкой, находящейся в комнате, которую занимали старик и молчаливый замкнутый парнишка, с которым Беркут едва сумел перекинуться несколькими словами. Да и видел-то его всего дважды.
«А ведь ему уже под семнадцать, – подумал капитан, вспомнив о нем. – В таких условиях, в каких оказался гарнизон каменоломни, ему тоже не мешало бы взяться за оружие. Все-таки еще один ствол».
Андрей снял сапоги и, улегшись на застеленную солдатским одеялом койку, уперся влажными портянками в еще тепловатую стенку. «Ты все еще жив. А война все еще продолжается. Так что обижаться тебе не на что: все по-солдатски…»
Еще там, в доте, ложась отдохнуть после отчаянной ночной атаки, во время которой они попытались вырваться из окружения, он сказал себе эту странно слепленную фразу: «Ты все еще жив. А война все еще продолжается. Так что обижаться тебе не на что: все по-солдатски». И с тех пор повторял ее каждый раз, когда осознавал, что и на сей раз смерть миновала его, подарив несколько часов жизни, отдыха, словом, предоставив еще одну отсрочку. Повторял, как заклинание, как единственно приемлемую формулировку сути своего солдатского бытия.
Ефрейтор Арзамасцев, его давний, вечно ворчащий спутник и не самый храбрый на этой войне солдат, конечно, по существу, прав: они встряли в эту заварушку по собственной глупости. Да и сам этот гарнизон возник только потому, что здесь оказался он, Беркут. Остановил бы тогда машину сразу же за мостом, или сошел бы с нее еще на том берегу – судьбы бойцов, которые заперты сейчас здесь, да и их собственные, могли бы сложиться совершенно по-иному. В конце концов самолет сел на своей территории. Каких-нибудь полчаса ходьбы по дороге в ту сторону, откуда пробивался грузовик Ищука, и они оказались бы в штабе его части. А значит, то, о чем он, Андрей Беркут, мечтал годами, наконец сбылось бы. Это ж какое нужно иметь «везение», чтобы после стольких мытарств попасть на эту, совершенно чужую для них «свадьбу»!
Но, с другой стороны, не окажись он волею случая на этом плато, вряд ли кому-нибудь другому удалось бы сформировать в Каменоречье такой вот гарнизон. Окруженцы попросту начали бы уходить на тот берег. И многие еще успели бы преодолеть реку до того, как немцы достигли косы. Да и потом, на следующую ночь, еще можно было пробиваться, уходя плавнями, или на плотах, вниз по течению. Но тогда командование не получило бы этого великолепного плацдарма. И некому было бы сковывать здесь сотню-другую немцев.
А раз так, значит, он, капитан Беркут, оказался здесь не зря. Ему, солдату, не много нужно от судьбы. Но, как любому другому солдату, все же хочется верить, что его храбрость, его раны, даже гибель – все это не зря. Что он тоже помог своей армии, что почти такая же невероятная, как второе пришествие Христа, победа, которая в конце концов когда-нибудь наступит, будет освящена и его потом-кровью.
«Нет, Громов-Беркут, – сказал он себе уже более уверенно, – ты действительно все еще жив, а война все еще продолжается. Так что обижаться тебе на судьбу и командиров нечего. Жаль только отца не смог повидать. А надо бы… Как-никак в роду Громовых мы последние. И никого у старика, кроме меня, нет. Невозможно даже представить себе, как он переживал, как мучился догадками относительно того, что же произошло с его лейтенантом-наследником, где он оказался: в окружении, в плену, или, как говорил дед, “в вечном натомсветном фронтовом резерве”»…
Уже засыпая, Андрей услышал, как шумно отворилась дверь комнаты, в которой жили старик и парнишка, потом уловил едва слышимые шаги прокрадывавшегося к его двери человека, легкий скрип петель…
– Спит он уже. Лучше утром напоим. Устал.
Однако голос принадлежал не мальчишке. Обычный женский… Даже как-то по-особому приятно звучащий женский голос.
«Бред какой-то, – мысленно нашептал он себе. – Привык к прокуренной солдатской хрипоте, вот и мерещится…».
И все же снилась ему в эту ночь… женщина. Русоволосая, с распущенными косами, широкоскуло улыбающаяся. В точно таком же сарафане из китайского шелка, в каких ходили молодые приамурские казачки. Стояла она на берегу реки, на косогоре, и улыбалась: незнакомая, неласканная, непонятно как и почему возникшая в его сонном сознании.
– Спите, товарищ капитан? – вдруг ворвался в этот сон чей-то нахрапистый голос.
– Уже не сплю. Что произошло?
– Привидение привел вам, капитан. Персональную тень генерала Манштейна.
– Не понял, – подхватился Беркут, сонно уставившись на неясно вырисовывающиеся тени, представшие перед ним в серовато-синем сумраке рассвета. – Ты, Мальчевский?
– Немецким разведчикам на «язык» достанетесь, если и дальше спать будете вот так, не закрываясь и без личной охраны младсержа Мальчевского…
– Партизанская привычка. В землянках замков не существовало. Так что произошло?
– Привидение, говорю, то самое… – подтолкнул он поближе к командиру несуразную в своей шинельной бесформности тень, – что на первой заставе, у «ворот», воевало. Всю ночь подстерегали. С одной стороны немцы, с другой – мы с Зотовым.
– Так это вы? – обратился капитан к «привидению», на ощупь стаскивая свои сапоги. – Вы палили там двое суток подряд?
– Получается, что я, – неожиданно густым басом ответило «привидение».
– Кто такой? Из какой части?
– Да часть моя теперь далеко, – продолжало оно натужно басить архиерейским каким-то басом. – И остался я там не по приказу командира моей части, а по вашему, личному.
– Моему?! – застыл Беркут с сапогом в руке. – То есть как это – по моему?
– Да вашему же.
– Слушайте, давайте поконкретнее.
– Звонарь я. Рядовой Звонарь. Вы когда, товарищ капитан, прибыли сюда, сразу же оставили меня на прикрытие. Ну, словом, немцев приказали попридержать.
Услышав это, Беркут яростно помотал головой, пытаясь окончательно развеять остатки сна. Он попросту отказывался что-либо понимать.
– Постойте, но ведь я же приказал задержать врага минут на десять. В том случае, если фрицы сунутся сразу же, то есть раньше, чем успеем перекрыть дорогу и наладить оборону.
– Ну, они и сунулись… Двое. На мотоцикле. То ли связные, то ли просто продукты куда-то везли. Я им дорогу на тот свет показал. А в коляске – пулемет, гранаты-автоматы, все, как у немцев положено. Но главное – десять банок консервов, немного галет и бутылка шнапса.
– Во кардинал эфиопский! – возмутился Мальчевский. – Он же там не воевал, товарищ капитан, а нагло жрал-пил, от товарищей своих голодных, непивших, таясь! Знал бы – сразу в расход пустил бы!
– Но пока я все это конфисковывал да за камни относил, пихтура ихняя подвалила, – не обращал на него внимания Звонарь. – Десятка два – не меньше.
– Почему же вы не отошли?
– А куда отходить? Немцев за собой вести?
– Ты лучше про шнапс, от товарищей «зажатый», – пытался вернуть его в «нужное» русло разговора младсерж Мальчевский, однако капитан прикрикнул, и тот умолк.
– Да и не привык я… отходить без приказа. Отучили, – объяснил Звонарь. – Я там пещеру отыскал. В рост не встать, но ползать можно… Три выхода.
– Так-так, это интересно…
– Один прямо на немчуру, приметный. Два других – «змеиные», из-под камней. Ну, немцы меня возле того, приметного, подстерегают, а я выползу с фланга, одного-двух уложу или раню – и под каменья, как пес под лавку. Пробовали сунуться вслед за мной, так я опять же одного успокоил так, что еле его свои за ноги оттащили.
– И так двое суток?
– Немчуры там на все десять хватило бы. Только вот сержант на рассвете прибился, и все гуляния мои с фрицами испортил, говорит: «Очень уж мой капитан видеть тебя хочет».
– Нет, полтора десятка немцев он там отпанихидствовал – это точно. И мотоцикл в расход пущен. Стоит, обгоревший, – охотно подтвердил Мальчевский. – Тут все под орден. Но самому шнапс выдудлить! За такое расстрелять-повесить-утопить – и то мало!
– У немцев этого добра – сколько хочешь, – огрызнулся Звонарь. – Не способен сам в бою «оприходовать», так выменяй за свои сержантские лычки. Что за армия такая? Плюнуть некуда – везде по сержанту.
Обувшись, Беркут наконец поднялся. С высоты его роста Звонарь казался щуплым подростком, на которого кто-то в шутку набросил изношенную, пропахшую всем букетом окопных благовоний шинель.
– Вы хороший солдат, рядовой Звонарь. Настоящий солдат, – сдержанно проговорил он, не зная, как следует по-настоящему благодарить этого бойца. Не выстраивать же ему сейчас гарнизон, собирая его по заставам и подземельям. – То, что вы сделали, это по-гвардейски. Как только соединимся со своими, представлю к медали «За отвагу». За исключительную храбрость и находчивость.
– Это уже дело ваше, командирское. Только вряд ли у них там найдется для меня хоть какая-то медалька, – тихо, взволнованно ответил Звонарь. – Награждать у нас есть кого. Это в окопах пихтуры не хватает, а под наградные всегда находятся. Особенно сержанты, – добавил уже исключительно для Мальчевского.
– Мало того, что шнапс сам выдудлил, так он еще и от медали отнекивается! – изумился младший сержант. – Хотя, конечно, зачем ему медаль?! Ему лишь бы втихомолку обжираться.
– Так что дозвольте отбыть на заставу, – в упор не слышал его Звонарь. – Я их, егерей нестреляных, еще немного понервирую.
– Вы опять хотите вернуться туда?! – удивленно уставился на него Беркут. – Не скрою, штык-другой в той пещерке нам бы не помешал. Но сегодня немцы наверняка подбросят подкрепление. И начнут загонять нас в подземелье.
– Ничего, один ход, тот, что поближе к вам выводит, оставлю про запас. Немцам открою только два. Воевать есть чем. Там остались пулемет, шмайссеры. Жратвы бы чуть-чуть выдали мне сухим пайком, и…
– Ему еще бы жратвы, тля музейная! – изобразил возмущение Мальчевский. – Провиант двух немецких батальонов сожрал втихомолку и все ему мало!..
– Ничего-ничего, старшина Бодров накормит, выдаст паек, – скороговоркой разрешил эту проблему капитан, считая, что не она сейчас важна. – Но вы уверены, что сможете еще продержаться? Твердо решили пойти на такой риск?
– Чего ж… Если прикажете.
– «Если прикажете…»! Приказать нетрудно. Поймите, для нас очень важно, чтобы кто-то остался там, у самых «ворот». Кто бы первым встречал немцев, отвлекая их на себя, сбивая с толку, и в то же время предупреждая нас. Тем более что местечко вы себе подыскали славное, из которого немцам вас не выковырять. Подыскать вам еще одного добровольца?
– Только не меня! – сразу же, отвел свою кандидатуру Мальчевский. – Чтобы я, да с таким жмотом…
Звонарь помолчал, переступил с ноги на ногу, громко вздохнул, словно ему приходилось решать какую-то очень трудную житейскую задачу.
– Не надо никаких добровольцев. Я один привык. Тесновато там вдвоем, – мрачно проворчал он. – Лучше уж одному.
– Воля ваша, рядовой Звонарь. Если вы так решили…Один – значит один. Мальчевский, к старшине его. Выдать пару банок консервов, сухарей, словом, что сможете…
– Остальное немцы шнапсом отпайкуют, – проворчал Мальчевский, все еще не в состоянии простить Звонарю его «алчности».
– Что, Звонарь? – спросил капитан, видя, что на пороге солдат замялся. – Есть еще какие-то просьбы? Или, может быть, передумали?
– Есть. В случае чего… узнайте в штабе адрес. Напишите моим… Об этом, ну… что, мол, хотели к медали представить. Или просто: воевал, как полагается. Храбро, значится. Но лучше сообщите, что чуть было не представили…
– Отыщу. Сообщу. И обязательно представлю. Желательно – живого.
– Да нет, ни к чему меня, в натуре, представлять не нужно. Только нервы себе портить. Таких, как я, вшу лагерную, к наградам не представляют.
– Вы что, были под судом?
– Боже упаси, – нервно улыбнулся Звонарь. – Это у меня поговорка такая. Дружок подарил. Ну, я пошел… «Отпайковываться шнапсом», – добавил он исключительно для Мальчевского, с которым явно не собирался сходиться характерами.
22
– Мальчевский, кто это там плавни расстреливает?! – спросил капитан, выбежав из штольни, где он только что закончил осматривать наспех оборудованный в довольно просторной, и в то же время как бы разделенной на три отсека выработке подземный лазарет.
– Сезон королевской охоты, – с убийственным спокойствием ответил младший сержант, устроившись на подстилке из сена, возле остывающей полевой кухни. – Немец вальдшнепы на поминки заготавливает.
– Что за балагурство? Берите двух бойцов – и быстро проверить, что там происходит. Наших в плавнях не должно быть. Значит, кто-то прорывается.
– Был бы приказ, отцы-настоятели, – неохотно расставался со своим лежбищем младший сержант. – Повелят – исполним. Вы двое, рысаки неаполитанские… – по очереди указал пальцем на артиллеристов из группы старшины Кобзача, которые, вернувшись с дальнего поста, доедали то, что повару удалось наскрести.
– Чего тебе? – проворчал один из них.
– Хватит овес переводить. Быстро за мной!
– Так ведь поесть же нужно.
– На ходу, как сам главврач армии рекомендует. Лучше усваивается. Да ты не за котелок, ты за автомат хватайся, нахлебник монастырский!
– Ох, и поганый же ты на язык, сержант, – сокрушенно покачал головой морщинистый, в летах солдат, на усах которого каши оставалось значительно больше, чем попадало в рот.
Видя, сколь неуклюже и неохотно тащится этот боец за Мальчевским, Беркут, недолго размышляя, сам бросился к склону плато, уже на окраине плавней обогнал обоих солдат, и, поравнявшись с младшим сержантом, сказал:
– По-моему, это палят у охотничьего домика.
– Похоже.
– Тогда давайте так: мы с этим парнем…
– Дзохов, – подсказал Мальчевский. – Великий воин Абхазии.
– Так вот, мы с ним возьмем левее домика, со стороны степи. А вы со своим «нахлебником» заходите со стороны реки. Только не очень петляйте.
– Как слоны, напролом пойдем.
– Судя по перестрелке, дело движется к развязке. Когда будем приближаться, побольше крика: «Вперед! В атаку!» и все такое прочее. Пусть думают, что нас много.
– Что-что, а кричать мы умеем, – согласился Мальчевский. – Полвермахта криком распугали.
Перебегая от одного островка камыша к другому, пробиваясь через заросли ивняка и еще какой-то болотной поросли, Беркут и Дзохов добрались до охваченной предвечерними сумерками рощицы и, уже прячась в ней, заметили несколько немцев, спускавшихся по поросшему карликовым лесом и усеянному камнями склону.
«Значит, те, кого они преследуют, – в домике, или возле него, – быстро уяснил для себя ситуацию капитан. – И отходили туда, отстреливаясь».
Беркут отстучал густой заливистой очередью по ближним к нему серо-зеленым фигурам, метнул гранату и, крикнув: «В атаку! За мной! Огонь!», снова прошелся очередью по жиденькой цепи. Его команды тотчас же подхватил Дзохов. Откуда-то из-за домика, вслед за своей порцией свинца, прокричали что-то воинственно-нечленораздельное Мальчевский и его спутник. И сразу же до капитана донесся крик кого-то из вражеских командиров:
– Назад! Засада! Отходить! Всем отходить!
Пока под градом пуль Беркут чуть ли не на четвереньках продвигался к домику, Дзохов, поддерживаемый огнем группы Мальчевского, отчаянно бросился наперерез отступающим. Андрей успел заметить, как, то ли ранив одного из них, то ли просто настигнув, Дзохов схватился с ним в рукопашную, сбил с ног и оба исчезли в кустарнике.
Уже из-под окна домика капитан, как мог, прикрывал его огнем своего шмайссера, и был удивлен, услышав, что прямо у него над головой стреляет еще кто-то, из пистолета.
– Эй, парень, гранаты у тебя не найдется? – спросил он, вставляя в автомат последний рожок.
– Откуда ж она у меня? – проговорил в ответ испуганный девичий голосок. – Есть автомат. Но я не умею как следует…
Немец отметился очередью прямо под подоконником, на несколько сантиметров выше головы Беркута и на столько же – ниже руки стрелявшей. Она взвизгнула, и капитан почувствовал, что что-то обжигающе-металлическое оказалось у него за воротом шинели.
– …Объясните, как следует стрелять из него? – почти прошептал все тот же испуганный голос.
– «Как следует» – я тоже не умею.
– Ой, мой пистолет!..
«Уже за моим воротником», – понял капитан, однако доставать его было некогда. Переметнувшись к углу дома, он крикнул своим, чтобы отходили. Потом еще раз успел скомандовать: «Ложись» и, упав за углом, только чудом спасся от целого роя осколков не долетевшей до окна гранаты.
– Живая?! – ворвался он в дом еще через несколько секунд.
– Кажется, да! Автомат вон там, возле майора. Откуда вы только взялись? Я уж думала: все!
– Интереснее узнать, откуда взялись вы, вместе со своим майором? – последнюю очередь Беркут выпустил уже наугад, по гребню довольно крутого склона.
Немцы отступили, однако он понимал, что это ненадолго. Через несколько минут они хлынут сюда снова, но уже попытаются отрезать их от косы.
– Извините, но это скорее ваш майор, а не мой, – голос девушки значительно окреп, и Беркут открыл для себя, что он довольно приятный. Хотя в нем уже улавливались нотки возмущения. – Его занесли ко мне в дом, когда немцы вот-вот должны были войти в село. Обещали вернуться за ним, как только найдут машину. Но потом им уже, видно, было не до машины. Или же просто сбежали, не желая возвращаться за своим командиром.
– Ну, в это трудно поверить, чтобы красноармейцы вот так вот, взяли и бросили командира… – попытался оправдать неизвестных ему бойцов Беркут. – Что-то произошло, как-то не так сложились обстоятельства.
Майор горемычно простонал, однако это был стон в бреду. Когда Беркут окликнул его, раненый не отозвался.
– Так вы не медсестра?
– Можете в этом не сомневаться.
– И не намерены больше ухаживать за этим офицером?
– Представьте себе, не намерена, – с вызовом ответила девушка. – Никакого желания, тем более что и получается это у меня кое-как. Надеюсь, у вас в отряде есть какой-нибудь медслужащий?
– К сожалению, нет.
– Значит, совсем худо. Когда майора занесли в мой дом, он был ранен только в ногу. Это еще куда ни шло. Солдаты обещали вернуться, но пока я перевязывала, на улице уже появились немцы. А я ведь учительница. У меня и сарая подходящего возле дома нет, то есть спрятать его негде было.
– И где же вы его все-таки спрятали?
– Стыдно признаться, но пришлось под койку, как в старых водевилях прятали любовников. Узнал бы кто-нибудь в селе…
– Стыдно, говорите? А вы хоть понимали, что если бы немцы обнаружили у вас раненого офицера, дом бы сожгли, а вас повесили?
– Вы так думаете? – испуганно спросила учительница. – Не взирая на то, что я учительница и делала это из гуманных побуждений?
В ответ Беркут лишь грустновато рассмеялся. Вряд ли он мог признаться, что, направляясь сюда, в тайне рассчитывал, что к болоту пробился кто-нибудь с правого берега. Вчера ночью телефонист доложил ему, что связь с правобережьем на какое-то время ожила и что из штаба сообщили: «Попробуем помочь вам с воздуха».
Что под этим подразумевалось, капитан не знал, однако сама эта весточка порождала надежду. Ту надежду, которая только что развеялась вместе с голосом обычной тыловой женщины.
– Здесь вы, капитан? – послышался голос Дзохова. И, не дожидаясь ответа, каким-то цирковым кувырком боец переметнулся через окно. – Слава богу, живы!
– Живы пока. Так куда его во второй раз ранило? – вновь обратился Беркут к учительнице.
– Даже не знаю. Куда-то в спину. Мы уже на склоне были. Но два немца… Патруль. Майор еще отстреливался. Одного, по-моему, убил.
– Ясно. Дзохов, возьмите его на спину.
– То есть как «на спину»? Вы что?! – испуганно вскрикнула учительница. – Вместе возьмем. На шинель.
– Точно, вместе, – появился в двери Мальчевский. – Кого несем? Кому опять крупно повезло?
– Майора тут одного ранило, – объяснял Андрей, снимая свою шинель.
– А что, на войне бывает такое, что ранят даже майоров?
– Попридержал бы ты язык, Мальчевский, – попытался урезонить его кто-то из бойцов.
– Поскольку все уже в сборе, – вновь взял инициативу в свои руки комендант, – положили раненого и быстро понесли. Где этот ваш «нахлебник монастырский», как вы изволили выразиться, сержант? – спросил он, уже когда, ухватившись вчетвером за шинель, они вышли из довольно просторного каменного дома, который трудновато было считать «охотничьим домиком», как называл его старик Брыла.
– Не удалось остановить. Погнал немцев к шоссе. Увидев его, полбатальона фрицев в ужасе разбежалось. А, нет, вру: вот он, в кустах. Эй, ты чего там… меченосец бургундский?!
– Как «чего»? В засаде.
Все, даже заплаканная, насмерть перепуганная учительница, рассмеялись:
– Дурак, спрятался бы понадежней. Я тут капитану про тебя на Звезду Героя наговорил.
– Боец, как вас там, быстро смените женщину! Всем внимательно смотреть по сторонам и быть готовыми к нападению.
– Кротов – фамилия моя. Рядовой Кротов. Отдайте, пожалуйста, – несмело топтался он возле учительницы, но та вцепилась в полу шинели обеими руками и, казалось, никакая сила не способна была оторвать ее.
Чуть в стороне, правее их, появилось несколько фигур.
Свободной рукой Беркут сорвал с плеча автомат, но в то же мгновение услышал голос лейтенанта Глодова:
– Капитан, это вы?!
– Все сюда. Сколько вас там?
– Шестеро. Будем прикрывать. Вон, немцы уже на гребне. Сейчас мы уведем их в сторону.
– Не стрелять! – успел остановить его капитан. – Отходим, пока не заметили. В бой не ввязываться.
– Так мы ж никогда и не ввязываемся, – популярно объяснил ему Мальчевский. – Фрицы сами напрашиваются.
23
Четверо бойцов из группы лейтенанта подбежали и молча сменили их всех. Только учительница все еще шла рядом. Держалась-то всего лишь за болтающийся рукав шинели, но все-таки от раненого не отходила. И эта преданность удивляла Беркута, ведь всего несколько минут назад учительница заявляла, что не намерена ухаживать за раненым.
– Как же вы дотащили его одна? – удивился лейтенант, услышав короткий пересказ майорской одиссеи от балагура Мальчевского, который уже черно позавидовал раненому в том смысле, что учительница ухаживала не за ним.
– Да второй раз его ранило уже недалеко от домика. А что было бы с нами дальше – не знаю. Немцев вон сколько шло. Хорошо, что майор еще там, у меня в доме, показал, как из пистолета стрелять. Мол, на всякий случай.
– Правда, манера стрелять из пистолета у вас своеобразная, – напомнил ей Беркут, вспомнив, как ее оружие оказалось у него за воротником.
– Не ехидничайте, капитан. Я ведь еще только училась держать его в руках.
– Надо было так немцам и объяснить. – Кто-то из солдат прыснул от смеха, но остальные не поддержали его: то ли щадили самолюбие учительницы, то ли не хотели вмешиваться в диалог коменданта с учительницей. – Мальчевский с остальными, чуть поотстаньте, – негромко скомандовал капитан. – Будете прикрывать наш отход, уводя немцев к реке.
– А еще лучше – к тому свету, – проворчал младший сержант, – архиереи магдебургские.
Они прошли еще метров сто и, углубившись в небольшую ивовую рощицу, сделали привал, прислушались. Теперь немцы уже были далеко и, судя по всему, преследовать их не собирались.
– Ночью переправим вас по плавням в степь, – объяснил Андрей учительнице, понимая всю неопределенность ее судьбы. – Попытайтесь вернуться в село.
– Насколько я поняла, у вас даже санитарок нет. И вообще вы окруженцы.
– Санитарок нет.
– Так на кого прикажете майора оставить? На вас, что ли?
– Вы ведь отказывались… – попытался было напомнить ей Беркут, однако учительница прервала его:
– Потому что думала, что майора поместят в санчасть и им займется хирург. Но поскольку этого не предвидится, придется по-прежнему заниматься судьбой этого человека.
– Боевая женщина, – вполголоса молвил кто-то из солдат.
И Беркут пожалел, что это сказал не он: действительно боевая. Или, может, святая?
– Как же вы тутычки, на болоте, оказались? – спросил тот же боец. – Зачем подались сюда?
– Майор настоял. Говорил: «Помогите дойти до реки. Сооружу какой-нибудь плотик, попытаюсь доплыть. Или дождусь, пока подмерзнет и переползу».
– Долговато ждать пришлось бы.
– Несколько соседок знало, что у меня скрывается офицер, – объяснила учительница, когда группа вновь тронулась в путь. – Одна из них предупредила: могут выдать. А тут, как назло, немцы снова бросились выискивать окруженцев. Ко мне тоже заглянули. Но… я ведь учительница немецкого.
– Даже так? – удивился комендант. – Это уже божественно. – Однако о своем знании языка умолчал.
– … Поэтому я поговорила с офицером. Вроде бы поверил, расшаркался. Решил, что я немка. – Она вдруг споткнулась о кочку, упала, и так, лежа на заледенелой луже, потянулась вслед за рукавом, боясь хоть на мгновение оторваться от него.
Беркут успел подбежать, подхватил, поставил на ноги. И еще раз убедился, какая она хрупко-невесомая. Даже в своем коротком полушубке.
– Они считали, что я «своя», то есть немка. Но сама я так ненавидела их, что готова была перестрелять. Всех. У меня, когда я с ними говорила, пистолет был в кармане. Верите, всех постреляла бы, если бы не майор.
– Из пистолета – да, конечно, перестреляли бы, – поддержал ее Беркут, явно иронизируя. – Мне просто жаль их всех.
– Издеваетесь, – полушутя обиделась учительница, скопировав обиженный голосок какой-то из своих учениц.
– Наоборот, восхищаюсь.
* * *
Они уже поднимались на плато, когда немцы вдруг обнаружили группу Мальчевского, и там, в плавнях, вновь завязалась перестрелка. Кто-то из бойцов, сидящих в засаде на плато, попытался помочь своим, выбросив в темноту несколько пулеметных порций, но его тотчас же остудил Беркут:
– Отставить! Беречь патроны! Разве что попрут сюда, на штольни!
Как только они занесли майора в дом Брылы, Клавдия, так звали учительницу, сразу же почувствовала себя хозяйкой положения:
– Лишним немедленно выйти. Кто обитает в этой берлоге? Быстро вскипятите воды. Капитан, организуйте бинты, вату.
Она сняла полушубок. Беркут приятно удивился: перед ним предстала довольно красивая женщина с прекрасной, почти идеально сложенной фигурой, которую выразительно подчеркивал строгий черный костюм, наподобие тех, в коих обычно появлялись перед классом учителя еще той, старой учительской гвардии.
«Господи, она собиралась в плавни так, словно шла на выпускной бал! – изумился Беркут, не в силах оторвать взгляда от завораживающей фигуры Клавдии.
Глодов почувствовал это, и, как только капитан спросил: «Где Арзамасцев? Он у нас единственный хоть кое-что смыслит в медицине», – тотчас же ускользнул из комнаты. А старик Брыла молча принялся подкладывать в печь, чтобы поскорее подогреть стоявший на ней котелок с кипяченой водой.
Тем временем Клавдия и Андрей начали оголять спину раненого. Близость женщины, степной аромат ее волос привораживали и пьянили Беркута.
«Оч-чень подходящее время ты выбрал, – пытался охладить свою прыть капитан, – для чувств и всяких там нежностей. Лучше даже нафантазировать себе невозможно!».
На какое-то время майор пришел в себя и даже, едва выговаривая слова, попытался расспросить, что с ним, где находится, но, так и не дождавшись объяснений, вновь потерял сознание.
– Арзамасцев, за которым вы послали, он действительно что-то смыслит в медицине? – вполголоса поинтересовалась учительница, когда, оголив спину майора, они увидели два пулевых отверстия, и стало ясно, что при таких ранениях и такой потере крови без хирурга ему вряд ли выжить.
– Санитар-самоучка. Просто охотнее других берется перевязывать раненых.
– Странно, вы говорили о нем так, словно имели в виду профессора медицины.
– Извините, мадемуазель, другим «светилом медицины» не обзавелись.
– Значит, придется пойти по окрестным селам, – задумчиво проговорила Клавдия. Раненый лежал на широкой лавке, а они стояли над ним, склонив головы, почти касаясь лбами друг друга. – Где-то же должна быть хотя бы медсестра.
– Мы блокированы вражескими постами, поэтому поход по селам, мадемуазель, отменяется.
– Не дерзите, – произнесла она голосом суровой учительницы, пытающейся образумить расшалившегося ученика. – Когда вы уходите на ту сторону реки?
– Нескоро.
– Что значит «нескоро»? Как это понимать?
– Это следует понимать так, что на тот берег реки мы пойдем не скоро, – задело Андрея.
– А еще яснее вы не могли бы?..
– Мы не будем переправляться. Держимся здесь до подхода наших. Таков приказ.
Клавдия удивленно посмотрела на капитана. У нее было смуглое лицо, со строгими, почти римскими чертами, темные глаза и черные, смолистые, с едва заметными завитушками – на лбу и висках – волосы.
– Вы это – серьезно?
– Я ведь уже объяснил вам, что выполняю приказ особый командования.
– То есть вас оставили здесь на гибель? Вы обречены точно так же, как этот офицер?
– Мы всего лишь солдаты.
Закрыв глаза, Клавдия кивала головой, размышляя о чем-то своем.
– Что там с водой, отец? – вдруг испуганно спросила она, почувствовав, что Беркут слишком неосторожно приблизился лицом к ее лицу. Сама она в это время обеими руками зажимала раны майора его же окровавленной рубашкой.
Беркут тоже спохватился, достал из карманов два немецких перевязочных пакета…
– А куда девалась женщина, которая была здесь, когда мы вошли? С нею мы бы справились с майором значительно быстрее.
– Женщина? Здесь не было женщины. Это парнишка.
– Да? – недоверчиво переспросила Клавдия. – Странно. Значит, я слишком устала. Там, в доме, не смерти боялась… Просто представила себе, как бы вели себя солдаты, схватив меня. С офицерами еще можно о чем-то говорить, но солдафоны…
– Об этом лучше не думать.
Появился Арзамасцев, набрал в котелок воды, не задавая никаких вопросов, оттеснил капитана и, не обращая внимания на учительницу, принялся за дело.
– Эта, левая, навылет, – деловито констатировал он, приподнимая майора с помощью Беркута и старика, и пропуская бинт у него под животом. А с этой хуже: задела позвоночник. Достать ее сможет только хирург.
– А без хирурга – никак? – с надеждой спросила Клавдия.
– Службу свою я начинал санитаром в госпитале. Так случилось. Да и то служил я там недолго, в строевую перевели. Вот и вся моя «медицина». Правда, и за это время успел насмотреться да наслушаться. А что касается раненого, то боюсь, что даже после очень удачной операции майору уже не ходить.
– Помолчите вы, ради бога! – взмолилась Клавдия. – Зачем же так сразу обрекать?!
– Это его немец обрек, – грубовато заметил Арзамасцев. – Говорю, что есть и как сам понимаю. Сюда бы какого-нибудь знающего врача, только где его взять?
– Как только пробьемся к своим, попрошу командование направить тебя в медицинский институт, – вклинился в эту стычку Беркут. – Суть не в опыте, а в том, что ты любишь, или хотя бы терпишь, это лекарское дело.
– Вас от ран тоже не мутит, – заметил ефрейтор. – И вам легче было бы поступить.
– Э, нет, убивать я еще кое-как научился, а вот возиться с ранеными – для меня мука.
– Где же ваши остальные раненые? – поинтересовалась Клавдия, когда перевязка была закончена.
– В каменоломнях.
– Значит, майора тоже перенесите в подземелье. Я сама буду ухаживать за ним.
Вошли двое солдат, уложили майора на носилки и унесли. Учительницу Беркут попросил на какое-то время задержаться. Нужно было выяснить, что происходит в селе, много ли немцев и не обнаруживались ли окруженцы в лесу по ту сторону села. Но как только все ушли, оставив его вместе с Клавдией и хозяином, капитан почти непроизвольно спросил:
– Мне кажется, что этот человек, майор, уже очень дорог вам.
Клавдия изумленно уставилась на капитана: он спросил это по-немецки. И именно то, что он спросил по-немецки, сразу повысило интерес к нему.
– Вы… владеете их языком? – спросила она по-русски.
– Вы не ответили на мой вопрос.
– Дорог. Естественно. Как любой умирающий, – тоже перешла на немецкий учительница. – Правда, будучи легкораненым, еще там, в доме, он действительно успел объясниться мне в любви – если вас интересует именно это.
– Не из ревности, скорее из любопытства.
– И даже попытался обнять. Но я отнеслась к этому, как, ну, к слабостям больного.
– Вы, конечно, не фольксдойч. Но языку, судя по всему, обучались у русских немцев.
– Да? – зарделась Клавдия. – Вы сумели определить даже это? Чувствуется по произношению?
– И по тому, как употребляете некоторые конструкции. Но, может, только это вас и спасает. Немцы принимают вас за истинную фольксдойч.
– Но вы-то… вы вообще… настолько уверенно владеете языком. Даже не чувствуется, что подбираете слова. Удивительно. Тоже из русских немцев?
– Будем считать, что из немецких русских, – сдержанно улыбнулся Андрей. – Так ближе к правде. Однако стоит ли превращать этот вечер – в вечер исповеди? Общаться предлагаю исключительно на немецком. Чтобы не терять языковую практику.
– Думаете, вам это еще пригодится?
– Весь мой фронтовой опыт убеждает меня в этом.
– Впрочем, конечно же пригодится: после войны вы можете стать преподавателем немецкого.
– Вряд ли это прельстит меня. Перед вами – профессиональный и потомственный военный.
24
Вскипел чай. Клавдия взялась помогать старику наливать в кружки, но в это время в комнату ворвался Мальчевский.
– Капитан, самолет появился! Над рекой, чуть ниже косы.
– Немецкий, что ли? – прислушался капитан.
– Наш, «кукурузничек», фанеру ему под хвост. Только что телефонисту передали: «Принимайте груз».
– Костер разожгли? – спросил Беркут уже на ходу, выбегая вслед за младшим сержантом. Он был несказанно рад, что ни штабисты, ни предчувствие его не обманули.
– Два. Да пилот нас и так видит. Вечер ясный. Коса приметная.
– Следите за грузом! – крикнул капитан бойцам. – Как только приземлится, немедленно достать его и доставить сюда.
Первый парашют раскрылся над плавнями, и группа во главе с Мальчевским ринулась туда. Второй упал у самой косы, но старшина Бодров быстро извлек его из заиленного промерзшего мелководья. Третий же приземлился в небольшое ущелье на краю косы уже тогда, когда самолет был обнаружен зенитчиками, окопавшимися где-то у переправы, возле разбомбленного моста.
Тем не менее летчик сумел развернуться под их огнем и сбросить еще два тюка, один из которых чуть не утонул: у самой косы немецкие пулеметчики прострелили его парашют. К счастью, он упал на мелководье, и несколько бойцов, круша тонкий лед, сумели довольно быстро пробиться к нему.
В знак благодарности Беркут выпустил по курсу самолета красную ракету. Пилот слегка помахал крыльями «кукурузничка» и, снизившись, спасаясь от зениток, пошел над самой рекой, чтобы где-то там, в низовье, где его не ждут, свернуть к правому берегу, к линии фронта.
– Что ж они все гранаты да гранаты?! – возмущался Мальчевский, распотрашивая надежно упакованный в мягкую упаковку груз первой партизанской посылки (Беркут не раз видел такие в соседних отрядах, в районе Подольска.) – Ага, нате вам еще пулемет и автоматы. Будто нам их у фрицев занять трудно? Нет, чтобы по бутылке на брата. Хоть по две наркомовские на каждую промерзшую душу, циклопы иерихонские!
– Что ты молишься там, сержант? – подошел к нему Андрей.
– Не молюсь, но блаженствую! Послушайте, а нет такого парашюта, чтобы отослать им все это назад? Какой же лапоть ферапонтовский все это укладывал, отставные ключники царя Ирода?! Мы что, оружие в бою добыть не способны? Лучше бы канистру спирта сбросили.
– Следующим заходом, сержант. Пока же благодари за то, что бог послал.
Мальчевский с тоской взглянул на капитана, как бы не понимая, почему такие грубые, не способные понять солдатскую душу офицеры все еще держатся на этой войне, и, грустно почесав затылок, изрек:
– А не кажется ли вам, капитан, что этот самый бог, глядя на всю эту шмайссер-трехлинеечную богадельню, всех нас давным-давно послал к чертям собачьим?.. Причем по обе стороны фронта сущих. И молиться нам теперь до конца жизни воинскому уставу да старшинской портупее.
– Списать бы тебя, сержант, с фронта за богохульство и непочитание начальства…
– Точно. Списать. И… на фронт отправить.
Рассмеявшись, она оглянулась на приближавшегося связиста – мрачного и злого на всю уцелевшую в войне часть мира.
– Все, товарищи командиры, отговорили мы свое по телефону.
Беркут и Мальчевский переглянулись.
– Что ты там каркаешь, Иуда о тридцати трудоднях? – осклабился младший сержант. – Я тебя сейчас так «отговорю», что в братскую могилу без справки не примут.
– Без связи мы теперь, – демонстративно не обращал на него внимания телефонист. – То ли рвануло где-то на том берегу, то ли немец линию нащупал.
– Может, не в ту степь крутил, барышня петербургская? – усомнился Мальчевский.
– Сам иди покрути.
Все трое с тоской посмотрели на сереющий сразу за белой полосой правый берег. Каждый из них понимал: пока связь действовала, гарнизон каменоломен оставался частью действующей армии. Что-то можно было узнать, на что-то рассчитывать. А главное, в штабе дивизии могли знать, что они все еще в строю. А потеряв связь, в штабе дивизии уже завтра в этом усомнятся.
– Вот что, связист: о том, что связь с тем берегом опять потеряна – никому ни слова. До поры.
– Понял, товарищ капитан.
– Зато связь между штольнями должна действовать безотказно. Иначе противник расчленит нас по каменоломням.
– Тоже понял.
– А может запустить его по кабельку через реку? – предложил Мальчевский. – До штаба доползет – еще понятливее станет, грыжа Лжедмитрия второго.
* * *
Когда Беркут прибыл в свою штабную комнатку, там его уже ждал рядовой Зотов. Это был приземистый крепыш, с головой, посаженной прямо на широкие, слегка обвисающие плечи, и со сломанным, слегка вздернутым носом.
– Я на заставе дежурил, товарищ капитан, как раз в том месте, где вы офицера германского отпустили, и вот, – высунул он из рукава шинели кулак, в котором была зажата бумажка, – подбросили. Окликнули и перебросили в консервной банке, через скальный гребень.
– Проверенный способ. Давно перебросили?
– Полчаса назад. Мальчевский предупредил меня, что германец может передать записку и чтобы я о ней никому…
– Не такая уж это тайна, – как можно безразличнее молвил капитан, вспомнив однако предостережение и Коруна, и майора Урченина, – хотя, как ты понимаешь, распространяться о записке не стоит.
– Мальчевский потому и назначил меня в заставу, как раз на том месте, что уверен был: за мной – могила.
«Увожу своих солдат утром, – прочел капитан. – Ваши силы командованию известны. Роту сменит свежее подразделение и взвод русской полиции. Таким образом, перемирие завершено. Я свое слово сдержал. До встречи в послевоенной Германии».
Беркута удивила пространность записки. Гауптман вполне мог ограничиться сообщением об уходе его роты. Но именно то, что германец не ограничился таким лаконичным уведомлением, свидетельствовало о его благородстве. За этой запиской стоял человек, которому не безразлично было, что о нем подумают, как оценят его умение держать слово, даже если оценивать это придется врагу.
Андрей представления не имел о том, кем был этот Вильгельм Ганке до войны, был ли он кадровым военным, или же вынужден надеть мундир, оставив то ли свое родовое имение, то ли университетскую кафедру. Как вообще произошло, что он оказался в окопах? Но что человек этот умеет ценить благородство, и даже посреди этой кровавой и неправедной бойни оставался аристократом духа, – в этом капитан уже убедился.
Беркуту и в самом деле захотелось еще когда-нибудь встретиться с этим офицером. Ведь случилось же так, что его линии судьбы не раз пересекались с линиями гауптштурмфюрера СС Штубера. Так почему бы не предположить, что точно так же они пересекутся с гауптманом Ганке?
– Оказывается, ты надежный парень, Зотов. – И красноармеец не догадывался, что в этой похвале есть часть похвалы, адресованной гауптману.
– Просто, я умею знать только то, что мне положено знать, – сурово произнес Зотов.
– Неоценимое качество. Если бы предложил пойти со мной за линию фронта, в составе диверсионной группы, пошел бы?
– Так вы диверсант?
– Можно сказать и так.
– С вами пошел бы. Судя по всему, вы человек храбрый, и будто специально для войны сотворенный.
– Значит, пошел бы?
– Если бы еще немного подготовиться…
– Буду иметь это в виду. А пока что отнеси эти записку гауптману. Доставишь немцам тем же способом.
«Умение держать слово офицера, – написал Беркут на клочке бумажки, – ценилось во все времена и во всех армиях. Вы его сдержали, гауптман».
– Если по каким-то причинам передать немцам не получиться, уничтожишь, – предупредил он Зотова.
– Это уж как водится, – многозначительно заверил тот коменданта.
25
Поужинав, Беркут захватил два котелка каши и понес их в дом. Об обитателях, старике и парнишке, ни старшина, ни повар даже не заикнулись. Двое местных, гражданских, на довольствии у них не стоят – это они усвоили четко. Значит, позаботиться о хозяевах должен он. Тем более что для Андрея это был хороший повод наконец-то поговорить со стариком по душам.
– А кашу, офицер-командир, зачем? – проворчал старик, когда, встретив на крыльце, Андрей подал ему два котелка. – Солдат-горемык объедать? Видано ли на Руси такое? – приподнял он котелки своими некогда могучими руками с потрескавшимися заскорузлыми пальцами. – Всегда наоборот было. Они наши дворы объедали.
– Не обращайте внимания, отец. Обычное угощение. Солдатское, правда. Зайдем в дом. Нужно поговорить.
– Ну, если поговорить – тогда можно. У котелка – оно сытнее.
Старик вошел в коридор, однако в комнату свою не пригласил. Сказал: «Зайди к себе, офицер-командир. Я сейчас». Оставил один котелок в комнате, и только тогда вошел в клетушку, отведенную капитану.
– Тимофеем Карповичем меня кличут, – сразу же напомнил он.
– Помню-помню.
– О подземелье расспрашивать будешь, о штольнях? Согласен, они вам как раз впору.
– Сначала о парнишке, который у тебя живет и которого ты слишком скупо пред очи людские выставляешь.
– Под ружье подставить хочешь? – устало усмехнулся старик, присаживаясь на лавку у окна. – Ненадежный штык у тебя появится.
– Просто ночью мне показалось, что я слышал женский голос. Так я действительно слышал его, или показалось?
Какое-то время они молча смотрели друг другу в глаза. И старик понял, что дальше темнить нет смысла.
– Женский, в этом ошибиться трудно. Хотя девка моя и старалась всячески подделывать голос под мальчишеский.
– Вот теперь все становится на свои места, – вздохнул капитан, – а то мне уже начало казаться, что это у меня галлюцинации какие-то.
– Я ведь потому так охотно и пригласил тебя, офицер-командир, к себе, чтобы хоть какую-нибудь защиту иметь. А то ведь пока немцы тут хозяйничали, она большей частью в каменоломнях пряталась. Если на хуторе тихо, сидит в хате, прохаживается, даже рыбу удит, одевшись под хлопца. А как только немцы нагрянут, под камень уходит.
– Божественная тактика.
– Я там и пещерку для нее козьими шкурами вымостил, да шинелями-одеялами утеплил. Даже буржуйку поставил, но так, чтобы в штольню чадила. А что сделаешь? Не мы эту войну затевали-кровавили, поэтому нам ее без крови пережить надобно.
– Кто она тебе: дочь, внучка?
– Племянница. Калиной зовут. Из села она. Мать в сорок первом умерла, как раз за месяц до войны. Без отца росла. Лицо у нее не шибко бабье: что хлопец, что девка – не сразу раскумекаешь. Я это приметил, ну и…
– Божественно. Вопрос, однако. Ну, хорошо, от немцев прятал. Чего ж от своих прячешь?
– А что свои? Свои – они те же мужики-кобеля. И дело свое мужское ушло знают.
– Тоже трудно не согласиться.
– Хорошо хоть ты тут какой-никакой офицер, и даже капитан, появился. Думаешь, лейтенанта этого твоего послушались бы? А то еще старшина всеми командовать начал, потому как ротный их не шибко в дела солдатские вникал.
– Когда появляется хоть какой-нибудь капитан, – это всегда неплохо. Но ты все же покажи мне его… Не Калину, а подземелье «твоего парня». Оно нам может пригодиться.
– Под лазарет?
– Может, и под лазарет. Для начала перенесем туда майора. Не возражаешь?
– Только майор там и поместится, – пожал плечами Брыла. – Я и сам хотел сказать, чтобы его там отогревали, коль уж учительница побоялась оставаться с ним в доме. Вот только заносить туда трудновато будет. Разве что придется снова со штольни ход проламывать.
– Нужно будет – проломаем. Пошли, покажешь.
– Тяжело мне туда, с моими ногами. Калина, – позвал он, выйдя в коридор. – Слышь, девка? Проведи офицера в свою подкаменную келью.
Девушка не ответила, и старик заглянул в ее комнатку.
– Насыщается, – объяснил ее молчание. – Котелочной кашей. Сердится: выдал, что девка. А разве, – скабрезно рассмеялся Брыла, – такое добро долго упрячешь?
Он зажег фонарь, прошел в конец коридора, отодвинул полупустую кадку и потянул на себя заваленную всяким старьем полку. Она открылась, как обычная дверь. Войдя в проем, старик толкнул еще одну дверь, представлявшую собой, как понял Андрей, железный каркас с полочками, которые были заставлены старательно подогнанными друг к другу каменными плитами с ребристой, необработанной лицевой стороной. Она поддалась с легким ревматическим скрипом, открывая узкий мрачный ход, ступив в который, капитан оказался в небольшом каменном мешке.
– Где это мы? В этой стороне дома вроде бы должен находиться сарай.
– Сарай дальше. Стена, что слева – камнетесня моя, мастерская. Между ней и скалой – под краем ее, под карнизом, – проход образовался. Так мы с отцом, Царство ему, только слегка обтесали его. А вон там, справа, внизу, – вот-вот, нагнись, она у тебя под рукой будет, – еще одна плита, тоже на стальном вертеле. Отец мой и в кузнечном деле мастак был. Открой ее, и увидишь ступени.
– Открыл. Вижу. Спустимся?
– Э, нет, туды я уже не ходок. Тяжело мне с моими ногами туда-сюда шастать. Да и тесновато для телес моих. Калина! Калина, христова девка! – позвал он.
– Здесь я, – неприветливо отозвалась девушка, протискиваясь между стеной и стариком. Потом, точно так же, обдав Беркута немецким солдатским одеколоном (вот почему его подушка так пахла женскими волосами и этим одеколоном!), протиснулась мимо него и, бесцеремонно отобрав фонарь, уже через секунду оказалась на ступенях, с которых на капитана повеяло могильным холодом подземелья.
– И с каким же умыслом вы все это мудрили здесь? – успел он спросить старика, прежде чем ступить в каменную теснину вслед за девушкой. – Какие такие драгоценности прятали?
– Жизнь свою прятали – вот что я тебе скажу. И в империалистическую, и в революцию, и в Гражданскую. Да от банд, от грабителей – смертоубийц в страшные голода.
– Но если бы чекисты тайник ваш обнаружили…
– Если бы… Рисковал, понятное дело. Какая бы власть в этих краях ни была, она все равно где-то там, по селам да городкам. А здесь, на этом завалье, меж каменоломен, всегда своя власть, особая: власть силы и страха. Милиции сюда не докличешься. Соседи тоже не прибегут, побоятся. Одно спасение – в каменья. Тут, почитай, из каждого дома такие ходы, у каждой семьи такие тайники.
26
Старик вернулся в коридор, а капитан осторожно спустился, на ощупь дошел до открытой массивной дверцы, прошел, на свет, еще один маленький коридорчик и, отвернув завешанное одеяло, оказался в небольшой комнатушке, где, даже сидя, могло расположиться не более пяти-шести человек. Зато стены здесь были обшиты досками и завешаны шкурами. Пол тоже дощатый. А еще – стояли узкие двухъярусные нары и небольшой лежак, да в закутке, завешанном старым ковром, чернели бочка для воды и ящик для съестных припасов.
– И подолгу вы здесь просиживали?
Калина ничего не ответила, прошла в конец закутка, выводившего, как оказалось, в довольно широкую выработку, в которой, при необходимости, могло расположиться еще несколько человек, и, нагнувшись, молча отодвинула такую же замаскированную каменными плитами дверцу, наподобие той, какую Андрей уже видел в коридоре.
Протиснувшись в нее, капитан разглядел впереди себя что-то вроде тупикового завала. Но под «потолком» чернел пустотой лаз, по которому можно было попасть в штольню.
Какое-то время Беркут стоял у этого завала, внимательно оглядывая его. Он прикидывал, как бы получше использовать все то, что он здесь видел, в самые трудные минуты обороны, когда немцы окончательно загонят их в катакомбы.
Потом, чуть поднявшись по каменным выступам наверх, перегнулся через барьер и прислушался. Голоса бойцов звучали совсем рядом. Откуда-то слева, из-за простенка, доносился стон.
«Значит, там госпиталь, – понял капитан. – Однако перетаскивать раненых по этому перевалу будет очень трудно. Да и дышать им станет трудновато. Если же оставить дверцу открытой – выдадут себя стонами».
Мимо него по штольне проходил и Мальчевский – капитан узнал его по излюбленной припевочке: «Шепотульки, шепотульки, шепотуленьки мои…». И еще кто-то из бойцов. Беркуту хотелось окликнуть младшего сержанта, но он вовремя сдержался: пусть этот ход пока останется тайной для всех.
– Не страшно вам здесь? – спросил он Калину, закрыв дверцу и вернувшись в освещенную фонарем «келью».
– Теперь уже не страшно.
– И подолгу приходилось просиживать здесь?
– Иногда казалось, что меня заживо замуровали. Срывалась ночью, уползала в штольню и по ней выходила к реке. Тайком, чтобы дед не знал. У немцев пост какой-то над рекой был. Одно время у нас в доме даже квартировал их офицер. Тогда старик вообще запрещал мне подниматься наверх.
– О, да у вас здесь арсенал! – только теперь Андрей заметил, что на низенькой полке, между нарами и лежанкой, хранятся браунинг, две лимонки, немецкая граната с деревянной ручкой и шмайссер. Рядом, на полу, но зацепленная ремнем за гвоздь, стояла трехлинейка.
– Арсенал еще только нужно будет создать.
– Хотите сказать, что все это оружие когда-нибудь стреляло? Я имею в виду, из ваших рук?
– Это – нет. Стрелять пришлось из этого, – она расстегнула ватник и выдернула из-за мужского брючного ремня небольшой пистолетик.
А пока Андрей, взяв за ствол, осматривал его, Калина выдвинула из-под нар небольшой картонный ящик, в каких немцы обычно хранили консервы, и продемонстрировала еще один «шмайссер-18» и добрый десяток рожков с патронами.
– Бедный ребенок, столько всего насобирать! Зачем тебе столько огнеубийства? – проговорил капитан, переходя на «ты» и присаживаясь у ящика. – Кто заставил тебя стаскивать сюда все это, и как ты собиралась распоряжаться им?
– Не смейте разговаривать со мной таким ехидным тоном! – вдруг вскипела Калина. – И имейте в виду: двоих таких, как вы, я уже отправила на тот свет.
– Сразу двоих? Врешь ведь, – сказал он без каких-либо эмоций и поднялся.
– Двоих. Причем точно таких же!
– Как я?
– Не наших, конечно, – ожесточенно, сквозь зубы, уточнила Калина. – Один был немцем. Я его прямо здесь, у реки. Камнем по голове, и в реку. Автомат его – вот он. Правда, этот попался мне случайно. Унтер-офицер ихний. Понял, что я не парень, однако ничего своим не сказал, сам выследил вечером, возле плавней.
– И ты его… исключительно из чувства горячей любви…
– Именно из чувства…
– С этим разобрались, а кто другой несчастный?
– Другой нашим был, только служил не нашим. – Калина вздохнула, рванула из рук Беркута автомат, однако он сумел удержать его.
– Я так понимаю, что полицая своего ты действительно ухитрилась полюбить… – откровенно провоцировал ее капитан.
– Кто же мог предположить, что он не то что в полицаи, а в охранный батальон ихний подастся? Говорят, его даже хотели послать в офицерское училище. И, наверное, послали бы, потому что парень и в самом деле толковый был. Не пойму только, почему такой лютой ненавистью ненавидел коммунистов.
– Теперь он уже не сможет объяснить нам этого. Его… – тоже в плавнях?
– Нет, этого прямо здесь. Потом пришлось выволакивать. Ночью. Вот отсюда, – Беркуту показалось, что сейчас уже Калина вспоминает об этом без особого душевного содрогания. Хотя, возможно, и раскаивается.
С минуту они молча смотрели друг на друга. Единственное, что Андрей до сих пор сумел открыть для себя в этой женщине, – что в ней не осталось ни капельки женственности. Теперь же, подчиняясь какому-то трудно объяснимому влечению, он снял с головы Калины шапку и забросил на нары, потом, отложив автомат, расстегнул пуговицы ватника и старого, заеложенного пиджака… Под тонким свитерком четко обозначились острые бугорки груди.
Не удержавшись, Беркут медленно провел пальцами по ее щеке, по шее, как бы невзначай коснулся одного из этих бугорков и задержал руку уже где-то на скрытой под мешковатыми брюками и ремнем талии.
Похоже, что сначала Калина попросту не поняла, почему капитан вдруг так повел себя. Решила, что единственной целью его было действительно убедиться, что перед ним девушка, а не парень. Только поэтому так безропотно позволила расстегивать и осматривать себя. Но потом… потом у нее уже не хватило силы воли одернуть верзилу-офицера.
Так и стояла, запрокинув голову, словно карлик перед огромной статуей, и, завороженно всматриваясь в его лицо, безучастно ожидала, чем кончится этот его сугубо мужской порыв.
– …Неужели прямо здесь?.. – проговорил Беркут совершенно не то, что нужно было сказать сейчас. И нервно облизал губы, чувствуя, что во рту у него все покрылось соляной коркой жажды.
– А… где? – едва слышно проговорила она. – В доме? Там нельзя. Лучшего места нам не найти.
Андрей растерянно улыбнулся. Он имел в виду совершенно не это. Всего лишь пытался уточнить, действительно ли Калина убила того красавца из охранного батальона именно здесь; и еще его поразило, как спокойно, по-деловому она восприняла его «нечаянное предложение».
– Чего ухмыляешься? – вдруг резко спросила девушка. – Смеешься-то чего?!
– Извини. Это у меня от усталости.
– От усталости по бедрам не шарят.
– Ты права. Но я рад, что ты все-таки женщина.
– В чем бы еще надо было бы убедиться, – скабрезно хихикнула Калина.
– Вот, пытаюсь…
– И в этом вся твоя попытка? – вновь опасно иронизировала девушка.
– Даже странно как-то, когда притрагиваешься.
– Это – да. Без баб вы быстро дичаете.
– Старик не знал, что он, охранник твой, сюда приходил? – сняв руку с бедер, Андрей вновь коснулся груди девушки. – Ты его сама приводила? Тайно?
– С-са-ма, – закивала головой Калина. – Дважды. Старик даже не догадывался об этом. Но этот не любил меня, – она так ни разу и не назвала его по имени. – Он лишь… Да ты и сам такой, что тебе объяснять? Однако убила не поэтому, нет-нет, – вдруг всполошилась девушка. – Боже меня упаси. Уходя, он заметил автомат. И еще в ящике лежали документы того унтер-офицера. Я готовилась передать их партизанам, которые иногда наведывались к нам на хутор.
– Неужели выдал бы?
– Этот – да. Коммунистов он ненавидел страшнее, чем сами немцы. А коль я за них… Словом, мы бы так и попрощались с ним. Не любя, навсегда. Но он взял эту солдатскую книжку, полистал ее и говорит: «Так это что… твоя работа? Так ты, гадина, что, тоже на энкаведистов работаешь? Да тебя завтра же повесят! Одно слово скажу – и на первой же ветке».
– Не нужно, хватит об этом, – резко прервал ее капитан. – И не смотри на меня так. Я достаточно наслушался подобных исповедей. – Он прошелся по подземелью, опять взял автомат, проверил его. Быстро рассовал по карманам шинели лимонки, засунул за ремень ручку немецкой гранаты, порастыкивал по опустевшим подсумкам автоматные рожки.
– Вместо того чтобы раздеваться, ты вооружаешься? Такого в моей практике еще не случалось.
– Часть этого арсенала я конфисковываю. Хватит с тебя того, что осталось.
– Да не в железках этих дело, еще насобираю. К тому же у меня два таких тайника.
– Ого, старательно готовилась! Уж не партизанский ли отряд решила создавать?
– А я не уверена, что и при своих не придется по подземельям прятаться. Говорят, к тем, кто на оккупированной территории был, «верные сталинцы» относятся, как к врагам народа.
– Брось, не может такого быть. Впрочем…
– Зря я тебе об этом, да?.. – с грустью спросила Калина, пытаясь заглянуть ему в глаза. Пальцы ее застряли на пуговице пиджака, который она все еще не решалась застегнуть.
– О «врагах народа»?
– Да нет, о полицае, с которым… Из-за этого вся охота к любви у тебя враз пропала.
Беркут и сам не мог понять, что происходит, почему он так ведет себя. Но он действительно перестал воспринимать ее как женщину. «Или, может, сам себя перестал воспринимать как мужчину, – ехидно заметил Андрей. – Так и признайся, если не Калине, то хотя бы самому себе».
– Точно, не нужно было рассказывать о полицае, – продолжала искать объяснение того, почему мужчина вдруг так резко охладел к ней. Однако поняв, что уже ничего не исправить, вновь напропалую ударилась в воспоминания. – Но так оно и было на самом деле. Пока вытаскивала его через этот лаз, через штольню… Пока хоронила в плавнях… сама чуть не рехнулась.
– Вот только потом этого «охранника» долго искали… – напомнил ей Беркут.
– Так и было. Целый отряд полицаев нагрянул. Их мать этого самого Корзова – фамилия его была Корзов – привела. Предчувствовала, что именно здесь он смерть свою… Правильно, по-матерински предчувствовала. Все обыскали, весь хутор. К нам, правда, только заглянули. Они ведь не знали, что я здесь прячусь. И мать его не знала. А все равно почему-то возле нашей хаты бродила. И причитала. Прямо перед крыльцом. Пока полицаи, дружки Корзова, не увели ее отсюда. На партизан смерть его списали и успокоились. Они-то успокоились, а мне каково?.
– Я же сказал: хватит исповедей! – резко прервал ее Беркут. – Убить – это я еще понимаю, потому как война. Но исповедываться в этом перед каждым встречным – выше моего понимания.
– Почему перед «каждым»? – осеклась Калина, вцепившись в рукава его шинели. – Ну, почему сразу перед «каждым»? Почему ты так… жестоко со мной?
– Все, от-ставить! – рявкнул Андрей, словно стоял перед строем. – Думаю, нам самое время выйти отсюда. Не то через несколько дней будешь рассказывать, как пристрелила третьего, – теперь уже пристававшего к тебе капитана. И тоже в порыве страсти нежной…
– Ты просто струсил, – разочарованно пробормотала девушка, объясняя себе его поведение. – А зря. Тебя бы я убивать не стала…
– И на том спасибо, Юдифь благочестивая. Все, выходим.
Начался артобстрел. Значит, скоро снова попрут.
– После артобстрела – да, – согласилась девушка, окончательно смирившись со своим поражением.
27
Калина поправила пистолет, застегнула пиджак и, взяв фонарь, вновь пошла впереди капитана. Уже поднявшись в застенок возле мастерской, она остановилась, и, пряча фонарь за спиной, чтобы не очень освещать себя и Беркута, спросила:
– Ты еще наведаешься сюда?
– Даже если бы не хотел, немцы загонят. Если, конечно, продержусь до того времени среди живых.
– Нравишься ты мне, – твердо, но без женской чувственности произнесла она. – Нравлюсь ли тебе, не спрашиваю, знаю, что не из красавиц.
– Да нормальная ты женщина, вполне нормальная. Дело не в этом. Видно, я и в самом деле смертельно устал.
– Но все же сам, не под натиском немцев, усталость свою слегка развеяв, придешь?
– Вряд ли решусь, после всего услышанного.
– Потому и говорю себе: не нужно былo каяться перед тобой, не ко времени это.
– Грешить со мной всегда легче, нежели каяться, – согласился Беркут.
– Ты сегодня приди.
– Доисповедаться хочешь?
– Слова не скажу. Я ведь не из тех баб-ревунь, что чуть что – в истерику. Война меня жестоко измяла. Да и характером бог не обделил.
– О да, о характере мне уже кое-что известно.
– Ей-богу, лучше бы уж ты пришел. Именно ты. Не продержусь я в монахинях среди стольких мужиков – честно говорю… Бешеная я чего-то на них стала. По ночам ребенок под грудью чуется. Замуж пора. Давно пора. Так что лучше уж ты. Ты хоть приглянулся, а все остальные… Не потому, что капитан… Просто так случилось, душа, считай, избрала.
«Такие страсти?! Здесь, в этом подземелье?! – почему-то не поверилось Андрею. – Хотя… Уже ведь был дот. Наверное, так уж тебе суждено: пройти все подземелья, какие только имеются в Украине. В этом твой рок. Но там была Мария… И там была та, истинная любовь. Здесь такое не повторится. Даже если приду сюда… Всего лишь обычное фронтовое свидание».
– А что, может, и наведаюсь. Жизнь коротка, но полна приключений, – молвил только для того, чтобы как-то успокоить Калину. И прикосновение пальцев к щеке – тоже, как подаяние.
Калина уловила это, но все равно задержала пальцы мужчины и потерлась о них.
– А то женился бы потом, а? Я хорошей женой была бы, справной. Лучше, чем многие другие. У тебя рука твердая. Такой удержал бы.
– Божественная идея! Боюсь только, что всю жизнь мне пришлось бы спать с пистолетом под подушкой, – грубовато отшутился Андрей. – Вдруг чем-то не угожу. Ладно-ладно, это я уже по глупости, хотя, кто знает. Ты вот что… С сегодняшнего дня выходи из подполья. Будешь гарнизонной сестрой милосердия. Когда наши подойдут, постараюсь пристроить тебя в медсанбат. Для начала – санитаркой. А там, глядишь, и медиком станешь. Специальность у тебя какая-нибудь есть?
Калина молча смерила его обиженным взглядом и направилась к двери.
– Так есть у тебя специальность? – задержал ее Беркут за плечи. – Чего ты отмалчиваешься? Где ты до войны работала, училась? Чем вообще занималась?
Не оборачиваясь, девушка подалась к нему спиной, и капитан явственно ощутил тепловатую округлость ее бедер. А еще почувствовал, как девушка медленно повела ими – возбуждая и заманивая.
– Я обязательно должна рассказать тебе об этом? – запрокинула она голову, упираясь затылком ему в грудь.
– Тоже что-то страшное?
– Тогда лучше рассказать, – решилась Калина.
– Если такое же страшное, как все предыдущие…
– Еще пострашнее, – резко молвила Калина. – И коль я уже решилась, то перескажу.
– Смотри, чтобы потом не пожалела.
– Может, нас и впрямь судьба надолго сводит, поэтому лучше будет, если ты сразу же узнаешь обо всем, что все равно долго скрывать не удастся.
– Тогда слушаю, – согласился Беркут после некоторого колебания.
Калина покряхтела, прокашлялась, однако решилась не сразу, еще какое-то время молчала, но теперь уже стояла, отстранившись от капитана.
– Тебе приходилось слышать капитан, что километрах в двенадцати отсюда, вниз по реке, в болотах, находился лагерь. Женский. Что-то вроде пересыльного. Потом оттуда многих в Сибирь отправляли. В основном жен «врагов народа» и членов куркульских семей… В общем, ты все понял. А рядом такой же мужской был.
– Так ты сидела в лагере? Тебя что, тоже судили?..
– Да уж лучше было бы, как я теперь понимаю, самой отсидеть.
– Раз уж взялась объяснять, то объясняй по-человечески.
– Надзирательницей я там была. В женском, конечно.
– Ты?! Надзирательницей?! – глотнул Андрей настоянный на подземельной плесени воздух. – Ты говоришь об этом всерьез?
– Пистолет, который у меня под пиджаком, – мое табельное оружие. Не успела сдать. И не таращись на меня так. Не я одна приставленной к ним была. Существовали лагеря, значит, нужны были и надзиратели. Ты-то в тридцать восьмом небось офицерский или курсантский паек жрал. А я этим, надзирательским, пайком, и себя, и мать с двумя сестрами содержала. Потому что здесь, на болотах да камнях, и в тридцать восьмом не шибко сытно жилось.
Снаряд лег совсем близко, у мастерской. Качнулась каменная твердь, выгнулся и дал трещину простенок, которым подземелье было отгорожено от мастерской, и на головы им опал метеоритный дождь крупного каменистого крошева.
Пригнувшись, Беркут инстинктивно захватил голову Калины, налег на плечи, прикрыл ее, опасаясь, что вместе с этим крошевом рухнет и весь карниз. Тот, правда, устоял. Однако, чуть сместив прицел, артиллеристы, которые впервые обстреливали их с того берега, положили второй снаряд недалеко от крыльца. И вновь только карниз спас их от погребения под грудой развалин, в которую, как он понял, превратился если не весь дом, то по крайней мере вся пристройка.
Выпавшая из руки Калины лампа разбилась и погасла.
Часть простенка обвалилась, и в кромешной темноте они на ощупь пробирались через груду камня и щебенки.
– Какое счастье, что у этого склепа есть запасной выход, – проговорил Андрей, когда Калина зажгла лампу, висевшую на стене. – Иначе нам пришлось бы пробиваться через завалы.
– А может, и не стоило бы пробиваться? Все равно все погибнем. Кого не убьют снарядами – выловят по штольням. Этой обороны немчура нам не простит.
– Ну, это мы еще увидим. Жаль, что свой фонарик я забыл в комнате, от которой уже, наверно, ничего не осталось. Да черт с ним. Гаси фонарь. Пусть он остается здесь. Дальше пойдем на ощупь.
Калина приподняла стекло «летучей мыши», однако гасить не спешила.
– Что случилось?
– Слушай меня. Я действительно выйду с тобой. Но никто не должен знать, откуда мы появились. И хода сюда тоже никто знать не должен.
– Но мы уже говорили об этой обители. Превратим ее в лазарет.
– Никаких лазаретов! Никаких! Решишься настоять на своем – убью!
– Ничего не понимаю. Что с тобой происходит?
– Пока ничего, но может происходить. Когда нас окончательно прижмут, мы с тобой, понимаешь, только мы с тобой, только вдвоем, забьемся сюда. И дождемся своих. А хочешь – вообще не выходи, пока не придут наши. Кто там станет потом разбираться? Попал под завал – и все тут. Не бойся, я, лагерная стерва, тебя не выдам.
– Божественный вариант: остаться, отсидеться. Только это исключено, – вздохнул Беркут. – Я – солдат. И «лагерной»… – не решился он выговорить «стервой», – больше себя не называй.
– Говорю как есть, – отрубила девушка. – А здесь… Ты видишь, что происходит? Осколочный ад. Нас просто-напросто убивают. На кой черт тебе погибать в этих каменоломнях? Ради чего? Я слышала, ты вообще случайно оказался на нашем хуторе. Солдаты в штольне говорили. «Если бы не этот антихрист-капитан, мы бы давно ушли к своим».
– Не нужно передавать все, что слышала обо мне.
– Не нравится?
– Мне этими людьми командовать и вместе с ними встречать смерть.
– Нервишки подводят? Понятно. Словом так: приберегаем эту каморку на крайний случай. Двое-трое суток мы сможем просидеть, даже если немцы перекроют и этот выход. Вон там, в закутке, вентиляционная щель. Я ее замаскировала. Через нее, чуть расширив отверстие, и наверх пробиться можно. Лом я припасла. Только пока никому ни слова.
– Ладно, договорились, – неохотно согласился Беркут.
– И чтобы «завязано» было. А то ведь кто-то из бойцов обязательно попадется немцам и выдаст. Все, иди. Я присвечу. К выходу, к выходу, и не жди, я чуть попозже.
* * *
Когда через несколько минут капитан увидел Калину на выходе из узкой скалистой горловины, в руках у нее уже был кавалерийский карабин.
– Ты когда успела вооружиться? – удивился он.
– У меня тут в разных местах по ружьишку припасено, – доверительно объяснила девушка. – Так, на всякий случай. Когда то ли те, то ли эти, брать придут. Еще бы несколько гранат порастыкивать. Несколько по тайникам своим уже пристроила, но маловато.
– «То ли те, то ли эти», говоришь?
– Что слышал, то и сказано. Никогда не переспрашивай и не уточняй, особенно когда в руках у меня оружие. Пристрелю. И вообще…
Она хотела сказать еще что-то, но в это время со стороны въезда в Каменоречье, как раз оттуда, где стояла замаскированная машина Ищука, донеслись звуки стрельбы.
Скомандовав всем, кто мог слышать его: «Тревога! В ружье!», комендант бросился на пологий склон, завершавшийся невысоким, похожим на крепостную стену гребнем. Как оказалось, он прибыл туда вовремя: у скальных ворот Каменоречья десяток бойцов гарнизона действительно сдерживали до взвода немцев, которые пытались прорваться в глубь каменоломен. Но пока там шел бой, еще с полтора десятка вермахтовцев разбрелось между валунами и скалами, пытаясь подняться на гребень и таким образом зайти оборонявшимся в тыл.
Едва Беркут разобрался в ситуации, как увидел, что справа от него залег Мальчевский.
– Кто ж так в гости ходит, архаровцы некастрированные?! – возмутился младший сержант. – Не против, если мы сейчас причешем их, комендант?
– Да, видно, придется. Только не горячась, патронов маловато прихватил.
– Вот и поберегите их, – молвила Калина, укладываясь слева от коменданта.
Они дали по короткой автоматной очереди, однако немцы без потерь залегли и, сначала затаились, а затем принялись подползать.
– Да не палите вы! – прикрикнула на бойцов Калина. – Поберегите патроны на тот случай, когда поднимутся в атаку. А пока что спрячьтесь, затаитесь, пусть немного осмелеют. У меня тут с ними «кровавое танго» намечается.
Первым, кого она сняла, был то ли офицер, то ли фельдфебель. Выглянув из-за валуна, он крикнул: «Поднялись! Пошли!», и тут же упал под пулей «танцовщицы». Второго она достала, когда тот едва приподнял левое плечо, очевидно, в попытке достать из-за голенища запасной магазин к автомату. Он был ранен и орал, посылая русским проклятия. Третьего же Калина скосила, когда тот метнулся от одного валуна к другому. Причем этот выстрел поразил Беркута: у девушки было всего несколько секунд, чтобы среагировать, сориентироваться и прицелиться, тем более что снимать пришлось движущуюся «мишень».
– Нет, ты смотри, комендант, что эта Сибилла инквизиторская вытворяет! – изумился Мальчевский, наблюдая за тем, как, быстро сменив позицию, Войтич сумела подстрелить четвертого немца, уже когда все оставшиеся в живых вермахтовцы с криками «Там русский снайпер! Снимите кто-нибудь этого снайпера!», начали оставлять склон каменореченского плато.
– Не каркай под руку, сволота лагерная! – попыталась осадить его Войтич.
– Но ведь эта Жанна д'Арк безлошадная весь наш гарнизон дисквалифицирует и без работы оставит! – не унимался Мальчевский, хотя Беркут тоже прикрикнул на него.
И наконец, еще одного Калина сумела то ли убить, то ли ранить уже за дальними валунами, когда в вечерних сумерках силуэты вражеских солдат едва улавливались. Весть о не знающем промаха снайпере, очевидно, остудила пыл и тех солдат, которые пытались прорваться через заваленные камнями ворота. И были эти пехотинцы явно не из роты гауптмана Вильгельма Ганке; тот бы попросту не позволил себе так глупо терять солдат. Да и располагалось его подразделение туда, поближе к болоту.
– Что ж ты, нераскаявшаяся блудница войны, до сих пор не признавалась, что так метко стреляешь?! – возмутился Мальчевский, когда все трое возвращались к дому Брылы. – И вообще откуда ты здесь взялась?
– Еще один глупый вопрос задашь, – пристрелю, – деловито молвила Калина, передергивая затвор. – Или «под руку» во время боя нявкнешь, – тоже пристрелю. При мне лучше молчать.
– И можешь не сомневаться, эта пристрелит, – развеял остатки его сомнений Беркут.
28
– Капитан, разведчики! – возник на пороге в клубах пара лейтенант Глодов.
– Немецкие? – спокойно уточнил Беркут, отрываясь от книги.
Эту потрепанную книжицу Арзамасцев обнаружил за кроватью, в комнате, где лежал старший лейтенант Корун. Очевидно, отходя из хутора, кто-то из германских офицеров забросил ее туда или случайно обронил. Называлась она «Призванные войной» и была написана в виде дневника немецкого лейтенанта, прошедшего с боями Польшу и воевавшего в сорок первом в Белоруссии, на Брестчине.
Книжка показалась Андрею довольно правдивой, не похожей на все то, что приходилось читать в «трофейных» немецких газетах. А главное, видно было, что писал самый настоящий окопник. Там были детали, которых журналисты и люди, наслышанные о войне, обычно не улавливают.
– Почему «немецкие»?! Наши разведчики! – с радостью уточнил Глодов. – Трое их, и порядком подморозились. Говорят, несколько часов ползли.
– Где они?! – подхватился Андрей, быстро одевая шинель и хватая «шмайсер». Тот самый, с которым прилетел из-за линии фронта и с которым сейчас почти не расставался.
– На косе. Старшина Кобзач со своими артиллеристами чуть не перестрелял их на льду. Хорошо, что один из них, тот, что полз первым, выматерился по-русски. Убедительно так, знаете…
– Власовцы, белогвардецы и полицаи матерятся не хуже, – напомнил ему Беркут. – Так что это еще не доказательство.
– Да нет, эти – действительно наши, – поморщился Глодов, удивляясь подозрительности Божественного Капитана.
– Очевидно, им нужен «язык»? Сюда они, наверно, попали случайно?
– Подробностей не знаю. Старшина позвонил, – объяснял лейтенант уже на ходу. – Успел только сказать, что чуть не перестреляли. И что их трое. Один легко ранен и основательно подморожен.
Молодая луна зарождалась между двумя полумесяцами синевато-дымчатых туч, и казалось, что там, на небе, постепенно раскрывается огромный галактический бутон.
Лунное сияние величественно струилось из его глубины, словно гигантский изумруд, излучающий свою красоту из наполненного леденящей родниковой водой колодца. Вот почему, вместе с сиянием, из этого космического родника источался странный, всепоглощающий холод, от которого невозможно было укрыться. И от которого просто не было и не могло быть спасения.
– Опять ночь лунная, – будь она проклята, – зло проворчал Глодов, поднимаясь из зияющего между белесых глыб заснеженного оврага. Словно в том, что он почти перекувыркнулся через камень, повинно именно лунное сияние. – Немцы могут попереть с того берега. Прямо по лунной дорожке.
– И правильно сделают. Зря терять такую ночь. Самый раз выбивать полусонного уставшего противника.
– Ох и трудно же вас порой понять, товарищ капитан… Говорите о намерениях противника, как о само собой разумеющемся. Вместо того чтобы материть фрицев и молить Бога.
– «Материть и молить» – это непрофессионально. А мы – профессиональные военные. И рассуждать должны, как профессионалы.
– Странно слышать: «профессиональные», «профессионалы». В Красной армии говорят все-таки «кадровый». Профессиональный это уже что-то от «военспецов», от беляков.
– Или от старой русской армии, подвигами которой мы должны гордиться. Впрочем, вы правы: «профессиональный» – из немецкого лексикона. Но суть отражает точно.
Очевидно, с того берега их заметили, потому что вдруг психопатически занервничал пулемет. Пули врезались в скалы чуть правее и позади них и с воем уходили в поднебесье. Но после четырех очередей, ублажив свое раздражение, пулемет умолк так же неожиданно, как и заговорил.
«Бои на каменистой местности… – вернулся капитан к тем размышлениям, которые уже не раз посещали его во время немецких обстрелов и артналетов. – Богом выписанные траектории рикошетящих пуль… Сотни непредвиденных, уже не металлических, а каменных осколков при взрыве любого снаряда или гранаты. Только от них мы потеряли убитыми и ранеными более десяти человек. А если бы не спасительные каменоломни, куда мы прячемся во время каждого налета?»
– Эй, кто ходит?! – своеобразно окликнул их часовой, прятавшийся в небольшом распадке между входом в штольню и берегом.
– Не ходит, а ползает, – почти прорычал в ответ Глодов. – Следи за подступами к косе. Сумели подползти наши разведчики, сумеют и немцы.
– Братцы, да там у них эта… рация! – вынырнул из штольни еще один боец. Беркут узнал его: ездовой, подвозчик снарядов ефрейтор Хомутов, батарейное прозвище которого – «Хомут-Главартиллерия» – прижилось в гарнизоне с первого дня. – На Москву, на большие чины выходить можем. Что скомандуем, то в столице и будут делать.
– Ага, женке своей скомандуешь, она сделает, – остудил его часовой.
– Оставайся здесь. Усилить наблюдение, – добавил от себя капитан. И в то же мгновение все четверо присели, голова к голове.
Пулеметная очередь сначала жестко причесала козырек над входом, потом рубанула чуть ниже, по перемычке между штольнями…
– Еще немного, и они основательно зажмут вас здесь, как в западне, – напророчествовал Беркут вынырнувшему из-за одеяльной занавеси с фонариком в руке Кобзачу. – Вокруг полно камней. На рассвете набросайте cтeнку, прикройте вход со стороны реки.
– А что, мысль, – прогудел хриплым голосом старшина. – Обязательно набросаем. Сюда проходите, тут мои батарейцы как раз «желанных гостей» шнапсом отпаивают… Так вы уж с пониманием, товарищ комбат.
Свою группу из восьми человек старшина называл батареей, а Беркута – комбатом, и после каждой вылазки капитана к шоссе или к селу укоризненно тянул: «Да что вы все “шмайссеры” да карабинчики приносите, товарищ комбат? Нет чтобы пушчонку притащить… Пусть даже фрицовскую, нетудыствольную». Однако сам ни в одну вылазку идти не вызвался.
«Нельзя его брать на вылазку, – определил однажды Мальчевский, и тем спас старшину от ехидной подковырки Глодова типа: “А вы сходите и добудьте!” – Если возьмем с собой, фрицы подумают, что двое спаренных бегемотов ползут. Из бердичевского зоопарка сбежавшие».
«Райский закуток» батарейцы создали в двух соединенных между собой небольших выработках. Пол здесь был устлан сеном; в углу, возле щели, чадил неуклюже сложенный камин, стены обвешаны плащ-палатками и шинелями.
– Лейтенант Кремнев, – представился старший разведгруппы.
Белый маскхалат его уже висел на веревке над печкой, на самом жарком, «старшинском», месте; из-под расстегнутой гимнастерки виднелись вязаный джемпер с прорезью на груди и тельняшка.
Кремневу было уже за тридцать. Коренастый, с обветренным грубоватым лицом, исполосованным несуразными морщинами, он почему-то напомнил Беркуту рыбака из какого-то фильма. Не хватало разве что рыбацкой робы и брезентовой шляпы.
– Рад видеть живым, лейтенант.
– Радист Коржевой, – сразу же представил Кремнев неохотно поднявшегося у печки широкоплечего паренька-коротышку. – И сержант Исмаилов, – кивнул на лежащего в нише. Сапоги с Исмаилова уже сняли, ноги и руки оттерли и укутали одеялами. – Прошли к вам через линию фронта. По приказу штаба армии.
– Вы действительно разведчики? Я имею в виду: обучены и служите в разведроте? – первое, что спросил Андрей, садясь на подставленный кем-то занесенный сюда с хутора табурет.
– Это уж как по святому, товарищ капитан. Дивизионная разведка. Кроме радиста, конечно, – устало объяснил Кремнев. – Он у нас эрмитажная ценность.
– Как же вы дошли до нас? Непросто было, я так понимаю, – молвил Беркут только для того, что бы спровоцировать лейтенанта на рассказ.
– Погибельно шли. Выступило семеро, прибыли трое.
– И в самом деле, погибельно, – разочарованно молвил комендант, сразу же разочаровываясь в способностях и самого лейтенанта-разведчика, и его группы. Хотя и понимал: на фронте всякое случается, тем более – на линии фронта.
– Мне нужно еще хотя бы двое бойцов, хорошо умеющих ползать, – несмело как-то попросил Кремнев, словно опасался, что людей капитан не даст. – Своих достать хочу. Одного мы потеряли еще при переходе фронта, и к нему не доберешься. Но трое остались уже здесь, на льду реки. Мы вышли к ней значительно ниже по течению, чем предполагалось. Пришлось долго ползти.
– То-то думаю: с чего вдруг вся эта пулеметная симфония? Лейтенант Глодов – вот он, знакомьтесь – даже предположил, что началось наступление.
– Наступления пока не предвидится, – заметил Кремнев.
– Вас просили передать мне это? – насторожился комендант.
– Нет, это всего лишь мое предположение.
– А что же в таком случае велено передать? – ужесточил тон Беркут. – Вы ведь понимаете, что интересуют нас не предположения.
– Да все я прекрасно понимаю, – горестно улыбнулся Крменев. – Однако передать просили то же самое, что уже передавали вам по рации: «Держаться до последней возможности».
Беркут и Глодов с грустью в глазах переглянулись. Они были явно разочарованы, однако понимали, что высказывать это разочарование Кремневу бессмысленно.
– Почему у вас такие потери? – все так же жестко спросил его капитан, удивив этим лейтенанта, считавшего что с потерями уже все выяснено. – Напоролись на засаду? Вас засекли и преследовали?
– Уже хотя бы потому, что навьючили нас по-святому, как ишаков. В рюкзаках, под завязку – патроны и гранаты. Тряпками обмотаны, чтобы не гремели. А все равно – полная демаскировка. К тому же оба берега – вражеские. А главное, в сто потов, товарищ капитан, в сто потов… Прошу хотя бы двух бойцов. Хочу пройти по следу, подобрать мешки и оружие. На рассвете их подгребут немцы.
– Надеюсь, раненых там, на льду нет?..
– Раненых мы бы не оставили – это по-святому. Последний погиб метрах в ста отсюда. Приказ был четкий: доставить вам радиста и рацию. Во что бы то ни стало: радиста и рацию. Вот радист, вон рация. Так что по-святому, что-что, а приказ мы выполнили.
– И когда назад?
– Не положено «назад». Велено оставаться здесь, для усиления разведки и диверсионных действий.
«“Велено оставаться”! – мысленно повторил Беркут, поднимаясь. – Представляешь ли ты себе, лейтенант, что здесь будет, возможно, уже завтра утром? И что значит “оставаться здесь”?»
Он попытался, насколько это возможно было при свете керосинки и отблесках пламени, всмотреться в лицо Кремнева. Единственное, что бросилось в глаза – перед ним спокойное и немножко грустноватое лицо смертельно уставшего человека. Сдержанного, мужественного, но и в самом деле смертельно уставшего…
– Людей я вам сейчас дам. И все же вопрос: лично вы… профессиональный военный разведчик?
Кремнев осмотрел солдат. Очевидно, то, что он должен был сказать, предназначалось не для всех.
– Можно сказать, что да. Начинал в морской пехоте. Потом специальные курсы армейских разведчиков. Снова морская пехота. Под Ленинградом. Госпиталь… После лечения оказался в танковой дивизии. Особый отдел. Не сработался. Чуть сам не попал под трибунал. В звании понизили. В конце концов снова вернулся в разведку.
– Богатая биография!
– Только просьба, капитан, подробностями ее больше не интересоваться.
Андрей еще раз всмотрелся в лицо Кремнева. Да, сдержанное и мужественное. То, что человек является профессионалом (не важно, в каком деле, сама профессия для Андрея не имела значения, главное – убедиться, что тот или иной человек действительно профессионал) – ценилось Беркутом особо. Как редкий дар и величайшая заслуга. А если человек к тому же сдержан и мужественен…
– Старшина, – кивнул на телефонный аппарат, – Мальчевского и Арзамасцева сюда. Немедленно. Поведешь нас троих, – объяснил он лейтенанту.
– Вам-то зачем? – удивился разведчик. – Любых троих бойцов.
– Решено. Займите кто-нибудь ватник. Шинель в таких делах только сковывает.
– На все четыре вылазки на шоссе капитан сам водил, – уважительно объяснил разведчикам Кобзач, отдавая Беркуту свой просушенный ватник.
– Прямо к немцам?
– И назад.
Лейтенант отказывался всерьез воспринимать сказанное. Поход в тыл врага все еще оставался для него неким таинством, в которое могли быть посвящены и на которое решались только избранные.
– Это, конечно, странно. Но пусть и так, – стоял на своем Кремнев. – Только вопрос: зачем самому командиру лишний раз рисковать?
– Чтобы вкус к подобным рейдам не терять. Лейтенант Глодов, возьмите с собой одного бойца. Того, первого убитого разведчика, что лежит у косы, оставляем вам. Сами пойдем за двумя дальними.
– Вещмешок доставить, тело оставить на льду?
– Ты что, лейтенант?! Тело тоже сюда.
– Так ведь хоронить все равно негде. Разве что склепы вымуровывать.
– И вымуруем. Со временем.
Арзамасцев прибыл сразу же. Все уже были готовы выступить, задерживался лишь Мальчевский. Наконец и его разыскали где-то на посту возле штольни, уводящей в плавни. Появившись в укороченной франтовской шинели, в шапке набекрень, он с первого взгляда понял, зачем понадобился здесь, и привычным жестом поправил рукоятки двух торчавших из сапог немецких штыков:
– Только так, зашнуруем: без пальбы, без шороха, – произнес он то, что обычно говорил перед каждой вылазкой. – Подошли, и в ножи.
Все, кто был в райском закутке – кроме ничего не понявших разведчиков – рассмеялись.
– А если ранят, не квакать! – добавил за него Арзамасцев то, что неминуемо должен был добавить в подобной ситуации сам Мальчевский.
– Тебя, ефрейтор, это особенно касается, – поправил шапку у него на голове младший сержант.
29
Луна, как и раньше, все так же неистовствовала в своем холодном мерцающем сиянии, только небосклон стал прозрачнее, словно где-то там, за дальней далью этого ночного галактического лепестка, оно уже переплавлялось в ранние, пока что несмелые лучи солнца.
Мороз усиливался, и еще недавно такой мягкий, влажный снег теперь поскрипывал под ногами сухой жесткой крупой. Также предательски он будет поскрипывать и под их телами, когда придется ползти.
Пригибаясь, перебегая от валуна к валуну, вся группа вслед за Беркутом спустилась на лед по левому берегу косы, со стороны плавней, и начала все дальше уходить вниз по реке.
– Там что, немцев нет? – показал Кремнев рукой на темневшие заросли камыша.
– На болоте им не сидится. Немецкие посты могут быть чуть ниже, вон за той кручей, – тихо ответил капитан, не оглядываясь и не останавливаясь. Лейтенант шел за ним след в след, как по минному полю.
– Черт возьми, знали бы мы… А так держались средины реки и заползли уже с той стороны косы. Хорошо еще, что коса высокая, сразу заметно.
– Дистанцию! Лед потрескивает, – предупредил Беркут. – Лейтенант, дальше веди ты.
– Группа, бегом, – была передана по цепочке команда, как только Кремнев взял на себя роль проводника.
Это был отчаянный бросок. Кто-то там, в середине цепочки, громыхал сапогами так, что, казалось, должны были подняться по тревоге все прибрежные гарнизоны в радиусе пяти километров. Но все же эту, более затемненную, «приплавневую» часть реки они прошли на удивление быстро и спокойно.
А залегли они, когда до первого погибшего оставалось метров двадцать и тело его уже четко выделялось серым холмиком чуть в стороне от лунной дорожки.
«Усилился мороз, немецкие посты попрятались и попросту прозевали нас, – попытался объяснить это фронтовое чудо Андрей. – Иначе при таком “протопе” они бы нас перестреляли».
– Рюкзак мы оттащили. Метров на двадцать левее. Снегом притрусили, – вполголоса объяснил Кремнев, когда Беркут замер рядом с телом разведчика. – Чтобы немцы не сразу обнаружили. А пулемет бил с правого берега.
Он уже не отползал, а короткими перекатами начал забирать влево. Еще кто-то из бойцов отделился от цепочки и пополз ему наперехват.
– Так мы что, за телами?! – подполз к Беркуту Мальчевский.
– И за телами тоже.
– Тогда меня какого черта позвали?! – он спросил это так, словно настроен был тут же махнуть на них всех рукой и вернуться на косу.
– Не понял?
– Нашли могильщика! Я-то думал, что ворвемся германцу в казарму, и в ножи его.
– До ножей дело тоже дойдет, – заверил его Беркут. – Но чуть попозже, а пока делай, что приказано.
– Да здесь и без меня справятся, товарищ капитан. На берегу, вон, полно немчуры. Поэтому вы покопайтесь тут, а я в гости к ним схожу…
Беркут улыбнулся. Этот парень все больше и больше нравился ему, и капитан мог лишь сожалеть, что не встретил Мальчевского где-нибудь в лесу под Подольском. В «группе Беркута» он пришелся бы очень кстати. А еще мелькнула мысль: «Если уцелеем, нужно будет вырвать его из стрелковой роты и взять с собой за линию фронта».
– Подожди, может быть, сходим вместе, – сказал он Мальчевскому.
– Чтобы, значится, в два ножа, попугайчиков этих нидерландских с веток снимать? Приемлю, комендант, по-архиерейски приемлю.
В это время подполз солдат, которого прихватил лейтенант Глодов.
– Что, этого тащить? – деловито поинтересовался он, показывая на убитого.
– Нет, кардинал эфиопский, вон того! – прошипел Мальчевский. – Тащи, кого дают. – И вдруг совершенно иным, встревоженным голосом добавил: – Только ты его так, аккуратненько. Голову смотри не порань.
– Да мертвый он.
– Хоть и мертвый, а все ж таки своя живая душа. Зато потом, если придется, я тебя тоже… нежненько тащить буду, – по-вороньи ворковал младший сержант, помогая приумолкшему бойцу протянуть несколько первых метров.
Уже уползая, Беркут все время прислушивался, прикидывая: вот Глодов и солдат уже у края косы, вот заползают в залив между косой и плавнями… Теперь, кажется, все уже на косе!..
– Шепотульки, шепотульки, шепотулечки мои… – тяжело сопел-напевал Мальчевский, все время нагоняя капитана и бодая его головой в сапог. – Крохотульки, крохотульки, крохотулечки мои…
– Эй ты, – не выдержал Кремнев, переворачиваясь на бок. – Ты еще поднимись и строевую затяни.
– Сохранять молчание! – вполголоса, но властно прикрикнул Беркут, уже как бы на обоих.
Во всех четырех вылазках, в которые Мальчевский ходил вместе с ним, он напевал только эту свою дурацкую песенку. И сначала капитана это тоже слегка раздражало. Но он щадил младшего сержанта: может, страх забивает, а может, своеобразный заговор от пули. Поди знай!
Лейтенант неожиданно приостановил движение и чуть приподнял руку. Беркут и Мальчевский почти одновременно ринулись к нему, только Арзамасцев остался чуть-чуть позади. В последнее время ефрейтор и на вылазки ходил неохотно, и в бою старался быть поближе к каменоломням, или же стремился поскорее заползти под ближайший каменный козырек. Что-то происходило с ним – Андрей это заметил.
– Не понял, – еле слышно произнес капитан, оказавшись плечом к плечу с разведчиком. – Что случилось?
Впереди, прямо по курсу, чернела вмерзшая в лед колода, а рядом с ней – еще какая-то коряга. Но Кремнева остановило не это.
– Так ведь и я тоже ничего не пойму. Откуда тут второй взялся? Их, вон, двое лежит, – ошарашенно как-то нашептывал лейтенант.
– А должно быть? – деловито поинтересовался Мальчевский, успевший подползти к разведчику справа.
– Один. Тот, что первым пал, остался метрах в пятидесяти от него.
– Ну, остался. Потом подполз… – деловито объяснил Мальчевский.
– Убитым остался, – раздраженно уточнил Кремнев.
– Все равно подполз. Вдвоем и убитому веселее. Покурить можно.
– А, капитан, что скажешь? – повернулся разведчик лицом к Беркуту. Балагурство Мальчевского явно раздражало его.
– То же самое: что их там двое лежит.
– Но ведь не должно. И на засаду не похоже.
Луна померкла. Над рекой сгущался фиолетово-синий ночной туман. Тем не менее на оголенном, продуваемом ветром просвете довольно широкой в этой месте реки четко очерчивались два темных силуэта. Приподнявшись на локтях, Беркут убедился в этом.
– Может, действительно один оказался раненым и подполз?
– Говорю же: исключено, – резко ответил Кремнев. Он знал, что Беркуту хорошо известен святой закон разведчиков: ни в коем случае не оставлять на территории врага ни живых, ни мертвых. Ну, мертвых в их ситуации еще объяснимо: рация, радист, особое задание. Но чтобы раненого!.. – Не то пущу себе пулю в лоб.
– Лучше в рот. Белогвардейцы все так стрелялись, – с той же невозмутимой убедительностью посоветовал Мальчевский. – Интеллигентно получалось и красиво, как в кино.
И, не дожидаясь «благодарности» лейтенанта за своевременный совет, начал уползать вправо, как бы обходя лежащих.
– Может, прямо сейчас и продемонстрируешь, младший сержант? – вслед ему прошипел Глодов.
– Там что, село? – спросил Беркут, не обращая внимания на этот своеобразный обмен вежливостями. Невдалеке, прямо напротив них, чернело какое-то строение. Чуть ниже по течению угадывалась крыша еще одного.
– Вроде хутора. Здесь они нас и прихватили. Пока прошли – двоих потеряли. Весь этот берег переполошили.
– А тот? – кивнул влево.
– Тот, слава богу, молчал.
Еще какое-то время они внимательно всматривались в два холмика, лежащие метрах в двадцати от них. Луна постепенно угасала, и силуэты расплывались, угрожая вот-вот раствориться. Тем временем Мальчевский все забирал и забирал вправо, держась поближе к торосам и снежным барханам.
Но теперь он двигался совершенно неслышно.
– Оставайся, прикроешь, – прошептал Кремнев, уползая влево; они с капитаном как-то незаметно перешли на «ты». – Я по-святому.
– Немцы? – только сейчас услышал Беркут чуть позади сопение Арзамасцева.
– Будь готов прикрыть, – ответил он, доставая пистолет из сдвинутой за спину кобуры.
И тоже начал подползать к убитым, забирая чуть влево.
– Братки… – сначала Андрей решил, что это ему послышалось. Но тот, что лежал слева, неожиданно чуть шевельнулся и снова, уже громче роздалось: – Братки, вы? Братки! Стой, стреляю…
– Свои, – довольно громко отозвался капитан, понимая, что первая очередь достанется ему. – Потерпи.
В ту же минуту Кремнев и Мальчевский почти одновременно поднялись и бросились к раненому. Обрадованный и удивленный, Беркут тоже начал подбираться уже на четвереньках, чтобы побыстрее, но при этом все время посматривал на берег: как бы он тоже «не ожил».
– Мишка! Коннов, браток! Куда тебя?! – встревоженно и в то же время с нежностью хлопотал возле бойца Кремнев, ощупывая его и оттаскивая подальше от убитого. – Как же так? Мы ведь решили… Возьми мою шапку.
– Нельзя. В затылок меня… Ранен я, так получается…
– В голову? – прилег рядом с Конновым Беркут. – В голову тебя? Больно?
Эти, прошедшие через два года кровавой войны, потерявшие десятки друзей и сотни однополчан, офицеры вдруг начали вести себя, подобно насмерть перепуганным подросткам, впервые увидевшим человека, оказавшегося на грани жизни и смерти.
– Чесанула. По черепу прошла, – шептал Коннов. – Вы меня снова на живот. На живот переверните, – подсказывал он. – Крови что-то… многовато…
– Что ж ты вещмешок-то не бросил, чудак? – обрадованно шептал Кремнев, послушно переворачивая бойца на живот и утаскивая за собой, поближе к левому берегу. – Сейчас перевяжу, сейчас. Под берег, в тень…
– Я слышал, как немцы переговаривались, – с трудом объяснял Коннов. – Хотели к нам… Но, может, решили, что утром.
– Значит, мы в любом случае вовремя, – заметил Беркут. – Сейчас там тоже какое-то движение. Поднялись, лейтенант, перебежками…
Они подхватили Коннова под руки, а капитан схватил еще и рюкзак, и короткими перебежками начали отходить назад, к косе, но в то же время все ближе подбираясь к левому берегу. Вслед за ними, с телом и рюкзаком убитого, отходили Мальчевский и Арзамасцев. И спасло группу, наверное, только то, что лейтенант вовремя вспомнил о тени под берегом. Немцы, привыкшие к громким командам и подбадриванию солдат выкриками, теперь появились на берегу скрытно, без единого звука. Черные силуэты скользнули по склону, на какое-то время исчезли в тени деревьев и вновь появились уже на залитом лунным сиянием льду.
– Не стрелять, – предупредил своих капитан.
Оказавшись в тени берега, бойцы замерли. Немцев было человек десять. Они шли цепью, но именно в том направлении, где еще недавно лежали разведчики.
– На корягу клюнули, – прошептал Кремнев.
Капитан присмотрелся. Да, такую корягу легко принять за лежащего человека.
Арзамасцев и Мальчевский снова зашевелились, подползая поближе к офицерам. Но их-то возня и насторожила немцев. Они остановились, поприседали, чтобы не залегать на льду. Но кто-то из тех вермахтовцев, что остались на косогоре, вдруг крикнул:
– Они почти у берега! Это партизаны!
– Оставайтесь здесь. Я отвлеку их, – вполголоса обронил Беркут и, поднявшись, побежал по пологому склону берега назад, чтобы оказаться напротив цепи немцев. А когда вспыхнули сразу три фонарика, и лучи их поползли к коряге, Андрей ударил по немцам длинной очередью, выскочил на гребень берега, присел и опять выдал себя стрельбой.
Он отходил к ближайшей рощице, и немцы, поняв, что то, что лежит на льду, всего лишь бревно, бросились ему наперерез, очевидно, удивляясь, почему партизан не убирается с кромки берега.
Воспользовавшись этим, остальные бойцы начали отступать по оврагу в сторону косы, все удаляясь и удаляясь от преследователей. Однако видеть этого капитан уже не мог. Чтобы основательно приковать немцев к себе, после одной из очередей, он громко, как тяжелораненый, закричал и свалился прямо на гребень склона. Упал он лицом вниз, чтобы можно было видеть врагов, и тотчас же достал гранату, выложил запасной магазин автомата…
Пули все вспарывали и вспарывали склон почти рядом с Андреем, но больше он не шевелился. Немцы поднялись со льда и начали медленно, осторожно приближаться к нему, чтобы убедиться, что партизан мертв. Но когда они уже почти подошли к берегу, капитан приподнялся и, опершись на левую реку, изо всей силы метнул гранату, а потом сразу же взялся за автомат.
Только двоим гитлеровцам удалось выбраться из ледяного месива на твердый лед, и Беркут видел, как они уползали, стараясь спастись от ледяных щупалец все расширяющейся полыньи. Однако эти двое его уже не интересовали.
С последними выстрелами луна угасла, словно тоже потеряла всякий интерес к тому, что происходило между заснеженными берегами реки. Лишь голоса убегающих немцев оглашали всю округу, словно волчье вытье. Прислушиваясь к нему, Беркут очень сожалел, что не может заставить точно так же орать: «Тревога! Русская разведка!» всех тех, кто оскалился сейчас «шмайссерами» по обе стороны этой реки.
Ветры очистили склон от снега, поэтому, хотя возвышенность и уводила в сторону от берега, капитан еще какое-то время бежал по ней, чтобы сбить с толку всех тех, кто на рассвете мог пойти по его следу.
Вот и низина. Лишь проскочив небольшую лощину, Андрей оглянулся и понял, что это и есть завершение того оврага, по которому уходили Кремнев и остальные бойцы. Вернувшись на несколько шагов к берегу, он внимательно присмотрелся и заметил на заледенелом скате следы сапог, а чуть в сторонке – полоски разметенного снега. Словно здесь прошли санки с очень широкими полозьями.
Уже не скрываясь, он метнулся по этому следу и через несколько минут услышал, как кто-то окликнул его:
– Мы здесь, капитан!
– Многовато же вы успели пройти!
– Драпали по всем канонам военного искусства, – объяснил Мальчевский, во всю орудуя штыком на дне глубокой воронки.
– Этому тоже нужно учиться. Ты что, окапываешься?
– Убивать, оказывается, легче, чем хоронить. Остальные – за руинами, Коннова перевязывают. Очевидно, там какая-то рыбацкая хижинка была.
– Жалко, что была, она бы нам сейчас пригодилась.
Беркут спустился в воронку, достал из-за голенища свой нож и тоже принялся раздалбливать ее. Он помнил, что никто в группе так и не догадался захватить с собой саперную лопатку. Разведчики, как он понял, тоже пришли без них.
– Вспушивайте землю вокруг воронки, – скомандовал Мальчевский, как только из-за прикрытых кустами руин появились Кремнев и Арзамасцев. – Вон ее сколько насыпало. Притрусить бы – и то…
– Да не притрусить, а похоронить надо по-че-ловечески.
– Может, ему еще и пирамиду возвести, как фараону Тутахтамону, или как его там?! – огрызнулся младший сержант. – Тут бы раненого до своих донести.
30
Как они ни старались, как ни спешили, прошло минут пятнадцать, прежде чем удалось настолько расширить дно воронки и надолбать столько земли, чтобы хватило хоть как-то прикрыть тело погибшего. Но едва они положили разведчика в яму, как сгустившуюся за это время темноту ночи между руинами и воронкой прорезали слившиеся воедино лучи фар.
Нет, гул моторов они услышали значительно раньше, но решили, что машины пройдут долиной, по невидимой им дороге. Поэтому их приближение оказалось полной неожиданностью. Оставшиеся наверху Кремнев и Арзамасцев мигом упали наземь и тоже скатились в воронку.
Не доезжая до руин, первая машина свернула к реке и остановилась почти напротив воронки-могилы, в которой живые, замерев, лежали вместе с мертвым. Бойцы слышали, как последовали команды германского офицера сойти с машины, растянуться цепью и прочесать берег. В это же время вторая машина остановилась почти рядом с руинами, и повторилось то же самое. Солдаты из этой машины прозвенели подковами по мерзлому грунту буквально в нескольких метрах от их замогильного укрытия.
Не будь такой спешки и будь гитлеровцы повнимательнее, они конечно же заметили бы что-то чернеющее посреди белесой равнины. Впрочем, опасность еще не миновала. В той стороне, куда они направились, находился тот самый овраг, со следами на склонах.
– По одному, за мной, – полушепотом скомандовал Беркут и, приняв то единственное решение, которое, по его мнению, могло спасти их сейчас, рывком перебросил тело за глиняную насыпь, чтобы поползти к руинам.
Бесшумно обойдя кустарник, он подкрался к углу разрушенного домика и настороженно проследил, как в нескольких метрах от руин протрусил чуть отставший от своих то ли офицер, то ли фельдфебель. Тем временем задний борт машины с еще непогашенными сигнальными огнями оставался почти рядом. Руины немцы не осматривали, очевидно, лишь потому, что водитель осветил их светом фар. А возможно, решили, что сюда заглядывали те, с первой машины. Только это спасло и лежавшего за ними, со стороны воронки, Коннова и всех остальных.
Конечно, сначала нужно было выяснить, где водитель, а если он в кабине, то находится ли рядом с ним еще кто-либо. Однако времени на выяснение уже не оставалось.
– Попытаемся проскочить? – услышал Беркут рядом чей-то голос, и не сразу понял, чей именно, слишком уж напряжены были его нервы.
– Не проскакивать нужно, а захватывать.
– Машину? – уточнил Мальчевский.
– Как только сдам назад, раненого сразу же ложите в кузов.
Беркут поднялся, но вместо того, чтобы пробежать эти несколько метров, совершенно спокойно направился к машине.
– Долго будем стоять? – спросил по-немецки, рванув дверцу, и, не ожидая ответа, уселся рядом с водителем.
В кабине было темно, склонившийся было на руль водитель поднял голову, что-то удивленно произнес, но капитан уже рывком обхватил рукой его шею, зажал рот и ответил хорошо выверенным ударом ножа в горло, чуть выше ворота шинели.
– Извини, война, – проговорил он, открывая дверцу и корпусом выталкивая еще живого, захлебывающегося собственной кровью водителя на снег.
– Выключи мотор, болван! Погаси фары, – издали прикрикнул на водителя тот, приотставший немец.
– Яволь! Гашу! – ответил Андрей, выглянув из-за открытой дверцы и на ощупь осваиваясь с рычагами и педалями.
Все оказалось на положенном, знакомом месте. Там, в глубоком тылу, у него было достаточно времени, чтобы освоиться с немецкими машинами. Выключив фары, Беркут «на ощупь» сдал назад, подогнав машину почти вплотную к полусгоревшему косяку двери.
Погрузка раненого и троих бойцов группы показалась ему целой вечностью. Еще медленнее давался разворот на небольшом пятачке, за которым чернела какая-то низина. Был момент, когда он чуть не загнал в нее машину, с ужасом понимая, что выбраться оттуда они уже вряд ли смогли бы. И буквально взмолился, когда опасное место удалось проскочить.
«А ведь раньше в подобных ситуациях ты вел себя хладнокровнее», – Андрей так и не понял: сказал он это, переключая рычаг скоростей, вслух, или только подумал.
– Но сначала попробуем поджечь ту, другую машину, – бросил усевшемуся рядом с ним с автоматом на изготовку Кремневу. – Чтобы не устраивать потом гонок.
– Время потеряем.
– Поджечь! – приказал капитан, не теряя времени на объяснения. – Только без пальбы.
Кремнев не сомневался, что приказ о поджоге машины был отдан ему, но почему выполнять его принялся сам Беркут, этого он понять не мог. Услышав его «Подстраховывай!», он ответил:
– Подстрахую, терять нам теперь уже действительно нечего.
Тем временем Беркут резко затормозил у второй немецкой машины. Кабина к кабине. Дверца уже предусмотрительно открыта. Водитель-немец тоже открыл свою, пытаясь выяснить, что понадобилось. Спрыгнув с подножки, капитан обогнул передок, захватил его грудь, рванул на себя, и пытавшийся было закричать водитель ощутил между зубами лезвие кинжала. Это было последнее, что он смог ощутить.
– Чего стоишь? – незло упрекнул замершего рядом с упавшим, хрипящим немцем Кремнева. – Капот. Зажигалка.
И, не дожидаясь, пока лейтенант опомнится, сам рванулся к капоту, выхватил из кармана брюк зажигалку, поводил ее пламенем по мотору. Но огоньки то вспыхивали, то угасали. Мотор был исправлен, ухожен, к тому же мороз…
– Божественно, – рванул из-под руки автомат. – Ты тоже очередь по мотору – и догоняй, – и первым прошелся свинцом по приборной панели.
– На кой черт далась тебе эта машина?! Мы потеряли время! – крикнул лейтенант, уже на ходу вскакивая на подножку и с трудом просовывая свое грузное тело в кабину.
– Но потеряли бы еще больше, если бы они рванулись за нами в погоню, – неожиданно спокойно, словно ничего не произошло, ответил Беркут.
– Но теперь они изрешетят нас.
– Прикрой дверцу. Не выношу сквозняков.
– И что дальше? – не мог успокоиться Кремнев, который сейчас очень напоминал ему ефрейтора Арзамасцева: тот тоже возмущался после каждого его слишком рискованного нападения на немцев. – Куда уводит эта дорога, на которой, очевидно, полно немчуры?
– Дальше будем действовать, исходя из обстоятельств, – невозмутимо молвил капитан.
Кремнев удивленно посмотрел на него, откинулся на спинку, поправил лежащий на коленях автомат и виновато проговорил:
– Извини, капитан, кажется, я веду себя, как необстрелянный салага-мокроносик.
– Не надо самоистязаний. Я тоже смертельно устал.
– Зато теперь я понимаю, почему ты с таким пристрастием выспрашивал, профессиональный ли я разведчик.
– Из чистого любопытства.
– Но о том, что сам – профессионал от разведки, почему-то скромно умолчал.
– Скорее «от диверсий», – мрачновато ответил Беркут. – Чистая разведка – это не по мне. А профессионализм определяется в деле, во время рейда по тылам. Причем каждый раз заново. Правда, не всякий раз получается убедительно, тем не менее…
31
К Каменноречью они подъехали по шоссе. Двое немцев, гревшихся у костра, разведенного между крайними, лежащими уже на склоне долины каменными глыбами, приподнялись со своих мест, однако останавливать машину не стали, решив, что прибыло подкрепление. Они слышали стрельбу, разгоревшуюся недавно чуть ниже по течению реки, поэтому не удивились бы, если бы командование захотело усилить посты.
– Нужно было оставить машину, – тихо проговорил лейтенант, приоткрывая дверцу. – И пробиваться через плавни.
– Не отвлекайся на разговоры, – сквозь полусжатые зубы проговорил капитан. – Лучше приготовся к рукопашной.
Беркут знал, что на ночь немцы отводят основные силы к деревне. Держать такую массу людей на морозе посреди камней и скал не было смысла. Оставались только посты. Но и они отходили вечером к краю плато, к долине, где легче блокировать этот речной полуостров. К тому же немецкое командование поняло, что русские вовсе не собираются прорываться ни в левобережные леса, ни на правый берег. И до поры это облегчало ему жизнь.
– Часовой, ко мне! – крикнул капитан по-немецки, как только машина приблизилась к проезду. Теперь он был освобожден от каменного заграждения, очевидно, немцы готовились применить танки.
Темная фигурка возникла рядом со скалой, как бы созданной природой специально для въездной арки, которую, однако, никто не удосужился достроить.
– Я сказал: «Ко мне»! – резко повторил Беркут.
Решив, что это приехал с инспекцией кто-то из старших офицеров, солдат, спотыкаясь о камни и путаясь в полах шинели, заторопился к машине. Но как только он оказался возле кабины, Андрей рванул его за висевший на шее автомат, притянул к себе и, приставив ко рту пистолет, приказал:
– Спокойно. Отвечать только на мои вопросы. Ты здесь один?
– Да, – затряс головой солдат, косясь на подскочившего из-за машины Кремнева.
– Остальные двое – у костра?
– У костра, – руки солдата дрожали, но Беркут понимал его состояние.
– У второго ограждения солдаты есть?
– Нет. Там бродят только русские.
– Мальчевский! – негромко окликнул капитан прижавшегося к скату сержанта, готового прикрыть его, если сюда вздумают подойти постовые. – Ко второму проходу.
– Сначала этих надо бы: по-тихому и в ножи.
– Предупреди наших. Выполнять. Арзамасцев!
– Здесь, – возник из-за кабины ефрейтор.
– За руль. Ко второму кордону. Туда, ближе к плавням, тоже посты? – только сейчас сорвал Беркут автомат с груди немца.
– До самого болота. Человек шесть.
– Эй, Фридрих, что там?!
– Проверка постов, – по-немецки ответил вместо него Беркут, чтобы выиграть время. – Это старший поста?
– Старший.
«Значит, нам здорово повезло», – подумал капитан.
– Позови его.
– Господин обер-ефрейтор, вас просят подойти сюда! – Голос солдата дрожал. Но обер-ефрейтор был довольно далеко. Судя по всему, слуха его эта дрожь не достигала.
Краем глаза капитан проследил, как лейтенант метнулся к ближайшему изгибу плато и затаился там.
– Лицом к скале, – развернул своего пленного Беркут. – И ни слова.
Но что-то там у Кремнева не получилось. Что-то не получилось в этот раз у разведчика: немец закричал, завязалась схватка. Почти в ту же минуту звонко отщелкала по камням автоматная очередь, прерванная лютым рычанием Мальчевского:
– Прекратить, сволочи нераскуркуленные! Своих перестреляете!
У Беркута было твердое намерение привести этого немца в каменоломни. Он помнил о просьбе штаба: нужны языки, нужны сведения о частях. Однако возиться с ним теперь уже было бессмысленно. Выстрелив в солдата, он сунул пистолет в карман и, поудобнее перехватив автомат убитого, бросился к пулеметной точке.
Прежде чем взяться за пулемет, он перебросил через бруствер три колодки с лентами и только тогда прошелся несколькими очередями по немцу, засевшему метрах в пятидесяти – Андрей засек его по вспышкам выстрелов.
– Лейтенант, – остановил он Кремнева уже по ту сторону вала, за воротами. – Сюда! Бери патроны.
Тем временем перестрелка разгорелась по всей ширине плато. Воспользовавшись тем, что бойцы отвлекли огонь других постов на себя, капитан перекатился вместе с пулеметом за каменный бруствер.
– Одну колодку – мне. Троих-четверых бойцов сюда, – негромко объяснял свой замысел лейтенанту. – Остаюсь у ворот. Пусть не вздумают палить.
Прошло несколько минут. Перестрелка все еще продолжалась, но уже не с той яростью, что вначале. Очевидно, немцы с дальних постов так и не поняли, что тут произошло. Но тот, третий, солдат, оставшийся у костра, оказался на редкость храбрым парнем. Постреливая с колена, перебегая от выступа к выступу и поливая камни и дорогу впереди себя свинцом, он все приближался и приближался к «воротам». А тем временем Беркут, затаившись, ждал.
Решив, что русские ушли, немец прекратил огонь и подбежал к своему, убитому Андреем, товарищу. Капитан еще дал ему возможность приподнять голову погибшего, убедиться, что тот мертв, и, сказав про себя: «А вот этого тебе, солдат, делать не нужно было», скосил его короткой очередью из пулемета. Приказывать ему поднять руки вверх он не решился: был уверен, что вместо этого немец бросился бы на землю и вновь открыл огонь. Уже не раз Беркуту приходилось сталкиваться с подобными храбрецами, и всякий раз говорил себе: «Это и есть настоящий солдат», жалея, что тот никогда не сможет оказаться в одном окопе с ним.
Единственная ошибка, которую совершил сейчас вермахтовец, – подбежал к убитому, не убедившись, что у «ворот» нет засады. Да и вообще пробираться к «воротам» ему нужно было по плато, между камнями. Увы, за такие ошибки на фронте обычно «платят» жизнями.
– Мы здесь, капитан! – присел у пулемета Мальчевский. – Вон, еще трое дармоедов привел.
– Броском вон к тому проходу.
– К проходу? Это мы сейчас! Кстати, Коннова снова убили.
– Кого? – не понял комендант. – И что значит «снова»?
– Ну, того, что на льду ожил. Свой же дармоед пальнул. Только мы его из машины высадили, а тут… Даже не поняли, кто именно. Сейчас там лейтенант с ними разбирается.
– Нашел время.
– Но этот хлопец может еще раз ожить. Я его знаю, он такой…
– Броском к проходу, – напомнил Андрей. – Там убитый. Забрать у него оружие и патроны.
– Общупаем его, красавца. Только тем и занимаемся, что мертвецов, как молодок грудастых, облапываем, – проворчал Мальчевский и, пригнувшись, метнулся к ближайшему выступу.
– Арзамасцев, ты? – спросил Беркут одного из троих солдат, не спеша перебегавших к нему. – Почему без машины?
– А зачем она?
– Машину сюда! И еще пару бойцов. Удерживать дорогу до нашего возвращения, – крикнул он пехотинцам, оттеснявшим немцев подальше от проходов.
– Понял, капитан, – узнал он по голосу Глодова. – Вот только увязли мы в этой драчке основательно.
– Зато днем германцы будут отсыпаться.
– Желательно вечным сном.
От дороги немцы действительно отошли, но в той стороне, где плато подступало к плавням, бой уже разгорелся не на шутку. Впрочем, Беркуту это сейчас было на руку.
Арзамасцев долго ждать себя не заставил. Правда, развернуть машину он не смог, слишком узкой была дорога, но и задним ходом ефрейтор довольно точно прошел ворота и, подобрав Беркута в кабину, а двух бойцов с пулеметом и ленточной колодкой – в кузов, начал прогонять ее дальше, за плато.
– Остановишься в долине, – наставлял Кирилла капитан, пока тот разворачивался уже за вторым проездом, на склоне долины. – Блокируешь спуск. Немцы обычно высаживаются с машин еще на дороге.
– Аккуратность любят, сволочи.
– Как только они появятся – освещаешь их фарами. Огонь за нами.
– А тех, возле скал, наши удержат?
– Уверенности нет, но бой даем в любом случае.
32
Остановив машину между валуном и склоном оврага, Арзамасцев заглушил мотор, и двое бойцов с пулеметом сразу же заняли позицию за небольшой каменной грядой, метрах в десяти от грузовика.
Несколько минут Беркут и Арзамасцев сидели, молча вглядываясь в пустынное, укутанное мраком шоссе. Справа от них, у плато, погас последний костер и, судя по тому, что перестрелка смещалась все дальше в долину, можно было предположить: уцелевшие немцы отходят к рощице, чтобы, очевидно, дождаться там подкрепления.
Они помнили, что русские ни разу не пытались оттеснить их за шоссе, ни разу не бросались в ночные атаки, чтобы очистить плато. Каждая такая попытка стоила бы им слишком многих жертв, а русских и так осталось очень мало, человек тридцать – не больше. И то, что произошло сегодня…
Наверно, офицер, командовавший ночным заслоном вермахтовцев, решил, что русские действительно получили подкрепление, пробившееся к ним по льду замерзшей реки – не зря же там целую ночь продолжается стрельба – и теперь стремятся вырваться из окружения. Об этом он конечно же сообщил по телефону командованию. Интересно, сколько их там может быть, в селе? Рота? Батальон?
«“Наверное, подумал”, “очевидно, решил”… – вздохнул капитан, пародируя самого себя. – Несерьезно. Нужен хороший язык. Захватить бы этого офицера и поговорить с ним. Но сначала его нужно захватить…»
– А теперь объясни мне, капитан, что мы здесь делаем? – приблизился к нему Арзамасцев.
– Я ведь тебе все объяснил, – ответил Беркут. Он сидел, запрокинув голову и закрыв глаза, в надежде хоть две-три минуты подремать. – А дальше – исходя из ситуации.
– Да я не об этом, – нервно отреагировал Арзамасцев. – Тут все ясно: колонна, фары, отходить с боем. Какого черта мы вообще оказались на этом плато? Кто нас сюда просил? Кто послал?
Вместо ответа Беркут сдержанно рассмеялся. Лишь несколько минут назад он сравнивал с Арзамасцевым лейтенанта Глодова. Впрочем, ефрейтор даже не пытался понять подноготную его смеха.
– Мы могли спокойно уйти отсюда, – окончательно вспылил Арзамасцев. – В ту же ночь. Сбив какой-нибудь паршивый плотик. Вон сколько бравых офицеров, подчиненных тому же генералу Мезенцеву, драпали с этого берега! Да еще как драпали!
– Ну, скажем так, неорганизованно отступали.
– Правда, командир одной из его рот задержался здесь, но, прикрываясь своей паршивой раной, устроил себе лазаретный курорт. А командовать этой похоронной командой смертников должен почему-то капитан Беркут.
– Помолчи, Кирилл. Осматривай местность. Долиной могут возвращаться те, кого мы оставили без машин на берегу реки.
– Черта два они попрутся сюда. И потом, почему ты ни разу не поговорил со мной после нашего появления здесь? Тебе постоянно некогда.
– Напомню, что у тебя была возможность вернуться к самолету. Мало того, я даже приказывал сделать это.
– Но мне и в голову не могло прийти, что ты заведешь меня в настоящее пекло! – вдруг заорал Арзамасцев. – Я ведь ехал с тобой, считая, что хоть на полчаса раньше, чем те, у самолета, увижу своих, увижу армию, смогу убедиться, что я наконец вырвался из того кошмара, в который ты завел меня после побега с эшелона!
– Тогда в чем дело? Все это ты уже видел: своих, армию… – совершенно невозмутимо заметил Беркут. – А главное, побег наш удался. Отличный был побег, чего зря грешить? Как и весь «польский рейд».
– Да хватит тебе: «побег удался»! При такой «удаче» лучше уж было оставаться за колючей проволокой и дожидаться, если не своих, то хотя бы американцев.
– Бо-жественная мысль.
– Как я ждал этого перелета! Как боялся, что не возьмешь меня. Что не разрешат. В последнюю минуту не разрешат, скажут: пошел ты со своим ефрейтором… и потом, там, в поле, когда нас подбили… Если бы ты знал, как я боялся быть убитым. Или хотя бы раненым. Никогда в жизни не боялся так люто смерти или ранения, как тогда.
– Исповедываться, ефрейтор, будем после войны, – пробовал урезонить его Андрей, все еще сидя с закрытыми глазами. – Береги свои воспоминания и страхи для внуков.
– Ну, ты, знаешь что?! Ты хоть бы раз по-человечески поговрил со мной. Как водится между людьми, по-человечески, хоть на пять минут забыв о своем чине-звании…
– Отвоюем, погоны снимем, тогда и поговорим.
– Да ты и тогда будешь каждое слово сквозь зубы цедить, потому что давно разучился говорить по-людски, а может, никогда и не умел.
Услышав это, Беркут вздрогнул, но сдержался. Он, конечно, мог бы вышвырнуть сейчас ефрейторишку из кабины, пусть бы остыл на снегу – поскольку никакого иного наказания придумать ему в этих условиях не способен. И, наверное, так и поступил бы, если бы эти оскорбительные слова сорвались у любого другого человека.
Но сержант Крамарчук и медсестра Кристич, – последние бойцы гарнизона, с которыми ему удалось вырваться из замурованного немцами дота, погибли. Поручик Мазовецкий ушел в Польшу. Многие бойцы группы, с которой он начинал партизанскую борьбу тогда, в конце лета сорок первого, тоже погибли в боях, замучены в камерах гестапо или томятся в концлагерях. Вот и получилось, что Арзамасцев оказался теперь единственным человеком, с которым Беркут сражался за линией фронта. А это уже своеобразное братство.
Конечно же ему очень хотелось спасти Кирилла. Но кто знает способ спасти, сохранить солдата на войне, где каждый день гибнут тысячи таких же солдат?
– Сейчас ты думаешь только о себе – стукнул тем временем Кирилл кулаком по рулю. – Продержусь, выслужусь, докажу! Глядишь, медальку дадут. А то и орден. Но это твое дело. А что касается меня…
– Генерал обещал мне за эту операцию Звезду Героя, – невозмитимо посвятил его Беркут.
– Ах вот оно что?! Тогда, конечно, наплевать тебе на судьбу какого-то ефрейторишки.
– Если действительно наградят, – распилю и половину золотой звезды отдам тебе, – вальяжно произнес Беркут, откинувшись на спинку сиденья.
– Ну да, ты можешь позволить себе даже такие шуточки.
– Я очень редко шучу, ефрейтор Арзамасцев, – жестко парировал капитан. – Особенно когда мне хамят. И вы напрасно считаете, что у меня железные нервы. Я сейчас же могу вывести вас, поставить лицом к борту и самому себе скомандовать «Пли!». Но прежде, чем сделаю это, скажу вам вот что: знаете, что меня больше всего терзало, когда я находился в этом своем месячном плену? Конечно, и выжить хотелось, и было страшно умирать от голода. И расстреливали меня, да все как-то неудачно…
– Расстреливали его «неудачно»! – иронично ухмыльнулся Арзамасцев.
– Но больше всего я терзался от сознания, что другие парни воюют, а я вынужден сидеть в лагере под охраной вонючих тыловиков и дрожать, ожидая, чем вся эта история кончится. И как я завидовал тем, в чьих руках было оружие. Как я им завидовал! Даже самому необученному солдатику, с непристрелянной трехлинейкой и вечно размотанными обмотками – завидовал. Потому что у него все же есть эта самая трехлинейка, и через час-другой его поднимут в атаку. А я вот броситься в атаку уже не смогу. Бросаться же на лагерную колючую проволоку – презренное самоубийство, способ спасти самого себя от страха. А тут – смотрите сколько врагов! На каждом шагу. Их тьма, этих врагов, и вы сражаетесь вместе со всеми. На своей земле. Так чего, какого дьявола вам еще нужно?
– Говоришь ты красиво. Но больше всех славы в этой войне мне не нужно.
– Не волнуйтесь: нам с тобой ее и не достанется, – устало вздохнул Беркут, вновь переходя на «ты». – Вот пулю какого-то накачавшегося шнапсом Ганса – это в любое время, хоть сейчас. Кстати, вон они.
– Точно, – вмиг забыл о своих обидах Арзамасцев. – Одна, две, кажется, три машины…
– Ну и божественно. А ты спрашиваешь, зачем мы здесь, – как-то сразу оживился капитан. Ожидание, припудренное исповедью Арзамасцева, уже начинало угнетать его. – Только затем, чтобы истреблять врагов наших, вот мы зачем! А врагов, как видишь, несчитанно.
Андрей вышел из машины и перебежал к пулеметчикам. Отстранив бойца и, поудобнее устроив пулемет на перемычке между валунами, он стал поджидать, когда машины приблизятся к повороту.
– Следи, чтобы не обошли с тыла, – напомнил тому бойцу, что выглядел помоложе. – Отойди за дорогу. А ты, солдат, приготовь запасную ленту. Знаешь, как это делать?
– Канешна знаю – да! – развел руками боец. – Ишо как знаю! Сам пулеметчиком был – да. Только нэ такой пулемет. – Он говорил с заметным кавказским акцентом, и Беркут с удивлением отметил, что не помнит этого красноармейца. Как оказалось, он пока еще вообще плохо знает их, бойцов своего гарнизона, – разбросанных по плато, по постам и дозорам.
– Как только приблизятся – поддержи огнем из автомата. И ни в коем случае не паниковать.
– Зачем паниковать? Паниковать нэ надо, – рассудительно согласился боец. – Умирать можно, паниковать нэльзя, – да.
«Философ!», – ухмыльнулся про себя капитан, не сводя глаз с дороги.
33
Вот машины медленно подошли к повороту и остановились. Там, конечно, безопаснее, чем спускаться в долину, на разбитую дорогу.
Свет фар, осветивших борта машины, и длинная пулеметная очередь зародились почти в одно и то же мгновение. Прицелившись по кромке борта первой машины, Беркут так и провел ее до конца колонны, затем вернулся назад и только потом опустил ствол чуть пониже, встречая огнем тех, кто успел соскочить на землю.
Он понимал, что успех налета зависит сейчас от этих нескольких очередей, от первых секунд боя, от того, скольких солдат сумеет истребить, прежде чем они рассредоточатся и опомнятся.
Однако опомнились немцы довольно быстро и сразу же весь огонь перенесли на машину… И били по ней, пока не погасли фары, пока, изрешеченная, она не загорелась.
«Где Арзамасцев?! – встревожился капитан, когда первые пули отбили дробь на валуне слева от него. Гитлеровцы наконец поняли, что свет фар – это что-то вроде психической атаки. – Странно: я не слышал его автомата».
– Арзамасцев! – крикнул он. – Отходи!
– Отошел, – спокойно ответил ефрейтор откуда-то из-за спины. Андрей на мгновение оглянулся и увидел, что Кирилл засел чуть правее их укрытия, в каменистой выбоине.
Боец помоложе, залегший слева, ближе к машине, упорно отбивался от тех нескольких немцев, что уже обошли горящий грузовик.
– Что, Богу молишься?! Вступай в бой! Эй, автоматчик, отходи! Потом прикроешь. Да прихвати того парня, пока не выстрелял все магазины.
Самому Беркуту пришлось отступать по обочине, перебегая от валуна к валуну, потому что вся дорога уже простреливалась немцами, засевшими за их изрешеченной машиной. Вслед за ним, с пулеметной колодкой в руках, по-рачьи, на четвереньках, пятился его второй номер, кавказец.
– Что, капитан, нахрапа лезут? – вдруг остановил Андрея будничный, с ленцой голос Мальчевского, устроившегося за небольшой скалой, уже на подступах к гряде.
– По всякому… лезу.
– Но причесал ты их там здорово.
– Сколько вас здесь, окопников?
– Пятеро.
– Это же почти полк! Какого черта отмалчиваетесь?
– Не хотели мешать. Обидитесь. Да и тех, что от плавней поджимали, пришлось попридержать. Вы, капитан, тоже притихните на время. Отойдите чуть дальше, на гребень, что у ворот, и притихните. Пусть расхрабрятся.
– Пожалуй, ты прав. А где тот, что прикрывал тебя? – спросил Андрей упавшего почти рядом с ним и Мальчевским Арзамасцева.
– Да вон он. Лежит. Скосили, по-моему.
– Ну-ка достань его.
– Что значит «достань»?
– Я сказал: вернись и выясни, что с ним. Если ранен, тащи сюда. Убит – возьми оставшиеся патроны…
– Чтобы потом меня самого «доставали»? Черта. Пусть уж он полежит, коль суждено. А я еще побегаю.
– Ну ты, – передернул затвор автомата Мальчевский, – дармоед в обмотках! Не расслышал приказ командира?!
– А ты кто такой?
– Фельдмаршал Манштейн. Еще раз огрызнешься, лично лычку сорву.
– Прекратить, – спокойно остановил его Беркут.
Капитан понимал, что открытое неповиновение, которое нагло демонстрировал Арзамасцев, пресечь он уже не сможет. По крайней мере сейчас. А вернувшись в каменоломни, мог только расстрелять его перед строем. В той обстановке, в которой они оказались, другого выхода у него не было. Но прибегать к крайностям Беркуту не хотелось. Поэтому не стал ни настаивать на выполнении приказа, ни угрожать ефрейтору.
Отложив пулемет, он броском проскочил дорогу, скатился по склону в заснеженную ложбину, ощущая при этом, как десятки невидимых камней впиваются ему в тело, пронизывая шинель. И пополз к лежащему бойцу.
Немцы пока не стреляли. Андрей видел, как они накапливались правее дороги и за машиной. Но, судя по всему, осталось их уже немного. Человек десять.
Боец еще был жив. Подползая, Андрей слышал его стоны. Но, возможно, еще раньше их услышали притаившиеся за машиной вермахтовцы. Вот только в полуночном мраке не заметили, что туда подполз еще один русский.
Поразив первого же высунувшегося из-за заднего борта гитлеровца, капитан переметнулся к камню, за которым стонал красноармеец. Он лежал на спине. Даже сейчас, в темноте, видно было, что шинель его в двух местах прошита пулями.
Рядом, в снежный занос, что-то мягко шлепнулось, но прежде чем Беркут понял, что это, он схватил гранату не за ручку, а просто за металлическое тело, швырнул назад и тут же упал, прикрывая телом голову раненого. К счастью, граната взорвалась под кузовом машины, разнеся борта на мелкие щепки, и только это спасло его от града осколков.
Капитан был на полпути к «воротам» плато, когда боец умолк, и тело его сразу же как-то странно потяжелело. Уже понимая, что он скончался, Беркут все тащил и тащил его, отползая под огнем и немцев, и своих, пытающихся прикрыть его. Тащил даже тогда, когда погибший принял в себя еще одну автоматную очередь, предназначавшуюся теперь уже его неудачливому спасителю.
Упорство, с которым он вырвал раненого буквально из рук фашистов и теперь уносил из-под огня, было единственным, чем он мог «наказать» сейчас ефрейтора, демонстративно, в присутствии нескольких красноармейцев, отказавшегося подчиниться его приказу.
– Теперь отдохни, капитан, а я поговорю с этими германцами эфиопскими на свинцовом языке своей ярости! – услышал он долетевший сверху, с каменного щита плато, спасительный голос Мальчевского.
– Божественная мысль, сержант. Поговори, а я действительно передохну.
Через несколько минут стало ясно, что все уцелевшие германцы обошли плато и растворились в фиолетовой темноте зимней ночи. Но и после этого Беркут еще с полчаса не отводил своих бойцов, и даже прикидывал, не прочесать ли «по тихому» окрестный перелесок, чтобы уже окончательно отбить у немцев желание наседать на его редеющий гарнизон.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
1
Капитан полулежал на койке, прислонившись спиной к промерзшей стене, ледяную сырость которой ощущал даже через сукно шинели. Он устало смотрел на дверь, обреченно ожидая, когда она откроется и очередной гонец сообщит еще одну безрадостную весть. Какую именно – это уже не имело значения. Все вести, которые ему приносили в эти дни, были одинаково безнадежными и повевало от них порохом и смертью.
Беркут чувствовал, что плечи его уже сцементировал обжигающий холод, понимал, что нужно оторваться от стены, но все та же обреченная усталость сковывала его волю, мешая поступать так, как подсказывал рассудок.
Иногда он закрывал глаза, и ему грезился огромный заснеженный гребень амурского берега, высившийся недалеко от дома, где прошло его детство, и он, совершенно обессиленный, долго, упорно поднимается к его гребню, словно альпинист – к заветной вершине. При этом Андрей ощущал всю неимоверную тяжесть этого подъема, и в то же время как бы наблюдал за ним со стороны.
Именно раздвоение мешало ему окончательно установить, что это: бред, видение смертельно уставшего человека, или еще что-то такое, сущность чего постичь он пока что не в состоянии? Одно он понял: нужно прекращать это интеллигентское самокопание в своей взбудораженной душе, не ко времени сейчас это.
– Еще один к гарнизону прибился, товарищ капитан. В плавнях выловили.
– Божественно. Бойцы нам нужны, – проговорил Андрей, не открывая глаз. Голос лейтенанта Глодова долетел до него приглушенным эхом, зарождающимся где-то за гребнем той вершины, на которую он в очередной раз восходил. – В строй его.
– Без оружия он. Гражданский.
– Все равно в строй. Оружие выдать. В отечественную войну гражданскими могут быть только женщины и дети. Гражданских мужчин в Отечественную быть не должно.
– Он считает по-иному, – устало ответил лейтенант, грузно опускаясь на низенькую самодельную лавку, стоявшую у противоположной стены, слева от двери. – Требует переправить его на тот берег.
– Скажи, что переправой на этой реке я не ведаю. И в строй его, в строй! Если артачится, – в подчинение к Мальчевскому, тот его быстро в кавалергарда превратит.
– Но он говорит, что несет какие-то особо ценные сведения. Не подлежащие разглашению. Потому и требует срочно переправить к своим.
– Это он хорошо придумал: потребовать, – все еще примерзал лопатками к стене капитан. И глаза его оставались закрытыми. Вот только видение наконец исчезло. Беркут даже пожалел об этом. – Кто он: разведчик, подпольщик, окруженец?
– Больше похож на колхозного кладовщика. Местный житель. Сейчас у старшины возле кухни отогревается. Никаких документов, удостоверяющих личность, у него нет.
– Это уже любопытно.
– И подозрительно.
– Отогревается, говоришь? Мне бы тоже не мешало отогреться. Ну-ка зови его, кладовщика с особо ценными сведениями, не подлежащими никакому разглашению.
Глодов устало посмотрел на капитана, как бы вопрошая, на кой черт ему понадобился этот кладовщик, зябко передернул плечами, предчувствуя возвращение в морозную серость плато, и, тяжело вздохнув, вышел.
Капитан слышал, как, стоя на тропинке возле дома, он окликнул кого-то из бойцов. И через несколько минут вернулся уже с «кладовщиком» – плотно скроенным пятидесятилетним мужиком, с широкоскулым землисто-серым лицом, каждая черта которого была обрисована настолько грубо, что Беркуту показалось, будто это еще и не лицо, а всего лишь заготовка из засохшей глины, из которой еще только предстояло слепить нечто человекообразное.
Все еще сидя на кровати, Беркут молча указал ему на стул за маленьким квадратным столиком, накрытым тонкой плитой из красного гранита и, поеживаясь от нахлынувшего на него коридорного холода, прошелся по комнате.
– Слушаю вас, слушаю…
– Значит, вы тут главный, если так, под протокол?
– Если «под протокол», то да. – Беркут остановился, удивленно посмотрел на пришельца и пожалел, что не может видеть его глаз. И не только из-за слабого освещения. Они были полностью упрятаны под косматыми, совершенно седыми бровями.
Беркута это удивило: чтобы волосы на голове (кладовщик еще на пороге снял кепку) лишь слегка были подернуты изморозью старости, а брови уже выглядели совершенно седыми – такого видеть ему еще не приходилось.
– Как ваша фамилия, будьте добры? – спросил задержанный. – Чтобы, как говорится, под протокол.
– Это не имеет значения. Важно, что я командую гарнизоном. О чем вам уже доложено… под протокол. Поэтому представьтесь. И коротко, очень коротко, изложите суть. Времени у нас немного.
– Так надо бы тогда с глазу на глаз. Потому как сведения… – покосился на любопытствующего Глодова. – Не подлежащие… Тут уж под протокол.
– Допустим, – неохотно согласился Беркут. – Лейтенант, оставьте нас. – А как только дверь зa Глодовым закрылась, вновь ожидающе уставился на задержанного.
– Фамилия моя ничего особого вам не скажет, – «кладовщик» подошел к маленькому столику и оперся об него кулаком. Другую руку он заложил за борт ватника. Эта поза очень напоминала Беркуту позу штатных армейских ораторов, когда они приезжали выступать к ним в училище или в часть. – Но кое-кому сказала бы. Видите ли, я в каком-то роде особо доверенное лицо.
– Не понял. Что значит: «особо доверенное лицо»? Чье «особо доверенное»?
– То есть как это «чье»? Вам, капитану Красной армии, такое надо понимать. «Особо доверенное лицо» – оно и есть «особо доверенное». Такие у нас в каждом селе были. Чтобы, значит, в любое время…
– Вот теперь прояснилось, – поморщился Беркут. – Вы из тех, кто пользовался правом первого доноса. Неотъемлемое право донести первому, пока не донесли на тебя.
– Ну, знаете, за такие высказывания… Любой энкаведист… Это уже под протокол.
– Слушайте вы, «протокольщик», – хрипло остудил его Андрей. – Ваша фамилия, кто вы и откуда? И живо, не то я тут же пущу вас в расход, как вражеского агента. Особо доверенного. И Бог мне судья, поняли?
– Понял-понял, – сразу поостыл задержанный, и рука его как-то сама собой выпала из-за борта. – Я… я ведь и не скрываю. Упаси бог. Лазарев, Иван Никодимыч.
– Лазарев. Ясно. Откуда родом? Откуда и куда идете?
– Местный я. Из Подкаменки. Село здесь рядом. По карте видно, – вдруг зачастил Лазарев, поняв, что своей «особой доверенностью» должного впечатления на командира гарнизона он не произвел. А шлепнуть тот горазд. Именно как лазутчика. – До войны был районным уполномоченным по кусту. Какое-то время бригадирствовал в колхозе.
– Почему «какое-то»? – вдруг захотелось Беркуту придраться к его словам. – Сняли, небось еще и судить должны были.
– Скажем так: перевели на другую ответственную работу, это под протокол.
– Божественно. Какие же у вас секреты? Что-то важное выведали у немцев?
– Да кабы у немцев, кабы у немцев… – доверительно приблизился тот к Беркуту. – Тут за своими – нашенскими не углядишь. Чтобы, значит, потом, когда опять оперуполномоченный наш появится, все под протокол, как полагается…
– Так что, что там у вас? Список неблагонадежных составили? Я спрашиваю: список приготовили? На стол его, быстро!
– Но я не имею права. Только оперуполномоченному.
– В роли уполномоченного здесь я. Особо уполномоченного.
С минуту Лазарев растерянно смотрел на Беркута, не понимая, с кем это свела его судьба и почему капитан так бездумно ведет себя. Затем отвернулся, но все же Беркут заметил, что он прощупывает полу ватника, а потом, вспоров подкладку, на удивление долго извлекал – не извлекал, а святодействовал! – свою бумаженцию.
– Здесь неблагонадежные из двух сел, – протянул ее капитану.
– Из двух сразу?
– Тридцать девять человек. Но из тех, самых-самых, которые в прямом услужении у немцев.
– Полицаи, что ли?
– Ну что вы?! Полицаев я даже не заносил. Те – само собой, особым протоколом. Они от суда не уйдут. А эти притихнут, трудоднями колхозными откупятся и будут поживать себе, как ни в чем не бывало.
– Почему же вы не отдали этот список кому-либо из «особистов», когда в села эти вошли наши?
– Так ведь не успел. Тот, старый список, пожелтел весь, а новый… пока уточнял да расписывал «заслуги» каждого, пока переписывал начисто – немцы вас и… потеснили. Однако на сей раз, кумекаю, потеснили ненадолго. А тут все под протокол, все под статью. Только так. У нас в этом деле порядок, – угоднически-иезуитски ухмыльнулся Лазарев.
– Ясно. Читайте. Только вдумчиво читайте. Вместе со всеми «заслугами».
– Что, весь список?
Вряд ли он рассмотрел выражение лица капитана, однако молчание, которым тот ответил на его вопрос, оказалось довольно красноречивым.
– Базук Мария Дмитриевна… Я здесь по алфавиту, строго под протокол.
– Не отвлекайтесь, – резко осадил его Беркут.
– Как прикажете. Так вот, Базук Мария… всю оккупацию работала в больнице. Госпиталя здесь, вблизи, у немцев не было, – оторвался от листика, – так они несколько своих из местных гарнизонов и тыловых служб прямо в эту больницу и ложили. И врач у них из немцев, фольксдойч. Им гражданка Базук и прислуживала.
– Но сельчане ваши тоже лечились в этой больнице?
– В ней, понятное дело. Хотя какое там лечение? А главное, там лежали германские солдаты.
– Значит, сельчанам вашим она тоже прислуживала? – пропустил Беркут мимо ушей сообщение о солдатах. – Вы это подтверждаете?
– Не-ет, – помахал бумажкой Лазарев. – Свои – это свои. Кабы только свои. А тут немцы. Солдаты. Так что все под протокол. Вы человек военный, в этом деле не спец. А те, кому надо, сразу разберутся. И под статью. Читаю дальше. Митнюк Иван. Раненым в село прибился, от своих отстал. Умышленно – не умышленно, это без меня уточнят.
– Ранен он был куда?
– Ну, вроде как в грудь… Так вот, подлечившись, на лесопилке работал. Ходил сгорбившись, еле ноги волочил, а работал справно. На фашистов.
– Семья у него есть?
– Двое детей было. Так он еще третьего… Ну да это дело Божье. А вот то, что лес этот в Германию шел, – это под протокол. Да что там. Митнюк как Митнюк. Человек он малограмотный, ему – что Маркс, что Гитлер. А есть одна особа, которая прямо под протокол. И по всем статьям. Учительница. 3оренчак Клавдия Виленовна. Эта сама в райцентр поехала, сама предложила немцам школу открыть и сама же преподавала в ней. Русскому и немецкому учила. Еще и нескольких учениц-старшеклассниц к услужению немцам повела. Одна из них взялась учить детишек химии, другая вроде как вместо математички была.
– Стоп-стоп. Как вы назвали имя-отчество этой учительницы?
– Клавдия Виленовна. Неужто знакомая какая?
Беркут поднялся, прошелся по комнате. Остановившись напротив Лазарева, выхватил из его руки листок и еще раз перечитал все, что касалось учительницы. Да, это она. Спасительница майора. Сама говорила, что учила детей русскому и немецкому.
– Это ж додуматься надо: немцы полстраны оккупировали, молодежь в Германию угоняют, а она им «шпрехен зи дойч» преподносит.
В том, что Лазарев говорил сейчас, было что-то и от заискивания, однако произносил он эти слова грубо, бубня себе под нос, сурово сдвинув на переносице косматые, подернутые сединой брови.
– Но вы же сами сказали, что учила она не только немецкому.
– Не только. Русскому – тоже. Но ведь школа-то немецкой была.
– Почему немецкой? Дети учились местные, сельские. Химию, физику, математику изучали. Ну а немецкому они и до войны там обучались. И после войны будут. Великий европейский язык…
– Что-то я не пойму вас, товарищ капитан, – агрессивно насторожился Лазарев, удивленно уставившись на командира гарнизона. – По-вашему, во всем этом… – попробовал он снова завладеть своей бумажкой, но Беркут отстранил свою руку, – вообще нет никакой политики? Вроде бы и не было сотрудничества с оккупантами, не было пособничества…
– Послушайте, вы, «особо доверенный», вы-то сами чем промышляли все годы оккупации? Только правду, правду! Я ведь все равно проверю.
– Я? – хмыкнул он. – А что я? Я мог кем и чем угодно.
– Почему вы могли, а остальные нет?
– Как особо доверенное лицо…
– Отвечайте на мой вопрос. В качестве кого вы работали во время оккупации? – резко потребовал Беркут.
Какое-то время Лазарев все еще удивленно смотрел на капитана, словно ожидал, что тот откажется от попытки допросить его, но, почувствовав, что капитан сумеет настоять на своем, нехотя ответил:
– Так ведь работал. Но это уже другой параграф. Сумел войти в доверие врага, усыпить его бдительность. Устроился чем-то вроде кладовщика при сельской общине, которую они тут создали.
«А ведь Глодов так и предположил, что он мог быть колхозным кладовщиком! – вспомнил Беркут. – Хотя понятно, что никакого разговора о роде деятельности с задержанным у него не происходило».
– Значит, кладовщиком, говорите? При общине, созданной оккупантами? Божественно. Тогда почему вас нет в этом списке? – Беркут припечатал листик к столу, выхватил из офицерской сумки и положил рядом с ним карандаш. – Свою фамилию туда. Собственноручно. Ничего-ничего, кому надо – разберутся, – упредил он возражение Лазарева. – И не заставляйте меня повторять дважды. Свою фамилию – в общий список, причем первым. Чуть повыше фамилии той несчастной санитарки, которую вы готовы упрятать в Сибирь.
Не отводя взгляда от капитана, Лазарев дрожащими руками нащупал на столе список, и в какое-то мгновение Беркуту показалось, что он вот-вот уничтожит эту страшную бумаженцию. Однако «особо доверенный» не решился на это.
– Все равно там, где надо, я объясню, что это вы заставили меня вписать свою фамилию, – медленно, дрожащей рукой выводил буковки кладовщик общины, обладатель права первого доноса.
– Подробности меня не интересуют, – снова завладел списком Беркут. – А теперь объясните мне, почему в сорок первом вы не пошли на фронт. По повестке ли, добровольцем… Или в крайнем случае не отошли с нашими.
– Отстал я. В окружение попал. Был призван, однако попал в окружение. Да, попал! И вернулся в село! – сорвался на истерический крик Лазарев. При всем своем высокомерном презрении к коменданту этого обреченного гарнизона, он все же понимал, что вопросы, которые только что прозвучали, будут задавать ему еще не раз. Об этом он как-то не подумал. – Не знаю, как вы тут воюете, но у меня перед Родиной свои заслуги…
– Заслугами будете потрясать на суде. Почему, оказавшись на оккупированной территории, вы не взяли в руки оружие? Почему не пошли в партизанский отряд? Или, может быть, в этих краях не было партизан?
– Да какого дьявола в партизаны? Зачем в партизаны?! – наконец-то по-настоящему перетрусил Лазарев. – Я ведь в доверие врага… Они меня на такой, можно сказать, пост… Два села, как на ладони. Кто нашим остался, кто сразу предал, кто так, по мелочевке прислуживал… О каждом ведь знаю.
Беркут вцепился в его ватник на плече, с силой привлек к себе.
– Многие наши беды на этой войне именно от того, что тысячи, десятки тысяч таких, как вы, слишком активно «втирались в доверие к врагу», устраиваясь, кто кладовщиком, кто фуражиром, а кто и прямо в старосты. Вместо того чтобы сражаться с врагом, как надлежит мужчине. Вы поняли меня?
– Так вы что, обвинить меня хотите?
– Миллионы людей, стариков, женщин, раненых окруженцев, оказавшись на оккупирова территории, под угрозой голодной смерти вынуждены были, кто как мог, зарабатывать себе на кусок хлеба. Но это не вина их, а беда. Вина же в этом наша. Мы, армия, откатывались, оставляя тысячи километров территории врагу. Бросая свой народ на произвол судьбы. Это я вам говорю, воюющий в тылу врага с июня сорок первого.
– С июня в тылу? – хитровато сощурившись, спросил Лазарев. – Тогда, конечно…
– Лейтенант! – позвал Беркут, все еще не выпуская ватника Лазарева из цепких пальцев, словно хотел швырнуть этого человека прямо в руки Глодову.
– Нет лейтенанта, – появилась в проеме двери чья-то фигура.
– Как «нет»? Куда он девался? Вы кто такой?
– Рядовой Звонарь. Я тут, у двери топтался, хотел войти.
– Оружие этому человеку. Оружие – и в строй. В самое пекло. Так и доложить Глодову или старшине Бодрову.
– Этого, что ли? – кивнул Звонарь на Лазарева. – Особо доверенного? Этому сами ад устроим.
– И если будет замечено, что вы трусите или уклоняетесь от боя, – почти приподнял комендант Лазарева на носки, – пристрелю. Перед строем. Как труса. Ко всеобщему, всенародному, можно сказать, облегчению…
– Вот так, значит, – то ли обиженно, то ли угрожающе проговорил Лазарев, пятясь к выходу. – Значит, вот так со мной… Как с врагом народа.
– Подожди во дворе, нехристь! – бросил вслед особо доверенному кладовщику Звонарь. – Товарищ капитан, я как раз по этому делу и хотел погутарить.
– По поводу этого человека? – удивленно уточнил Беркут, когда за Лазаревым закрылась входная дверь дома. – Вы с ним знакомы?
– Я – нет, зато учительница эта, Клавдия Виленовна, очень хорошо знакома. Видела, как лейтенант вел его. Нет, она не просила идти к вам. Просто сказала: «Будет страшно, если капитан, или любой другой офицер, доверится этому подлецу. Он способен принести своему страдальческому селу больше бед, чем все оккупанты, которые прошли через него».
– Почему она так считает?
– Знает его, шкуру, давно. По его спискам в тридцать седьмом – тридцать восьмом чуть ли не четверть мужиков из обоих сел в лагеря позагоняли. Многие так и не вернулись оттуда. За это его и прозвали «Сибирской Чумой». Он и сейчас списки подготовил. Похвалялся ими учительнице, на понт брал, переспать с ним требовал – в виде откупного, параша лагерная.
– Вы сами что, тоже из лагерных? Спрашиваю об этом уже во второй раз.
– Меня Бог миловал. А вот он… он многих…
– Ну, хватит, хватит, красноармеец Звонарь. В этом без нас разберутся.
– Почему «без нас»?
– Да потому. Я сказал: хватит! Есть кому разбираться, слава богу.
– А мне кажется, что некому. Некому, – в том и погибельность наша, – вдруг решительно воспротивился Звонарь. – Нам с вами, и ей, учительнице, легче разобраться с этой вшой лагерной, чем слюнявчикам-операм, которые привезут свои жирные зады на тыловых полуторках. Нам самим надо сначала разобраться – так я думаю. И не только с этой парашей, но и со многими другими, – изливал душу Звонарь, уже выйдя в коридор.
* * *
Когда дверь за Звонарем закрылась, Беркут еще какое-то время стоял перед ней, словно замерзающий путник – перед единственной попавшейся ему посреди степи хатой, в которую его, однако, не впустили.
«Нам самим надо сначала разобраться. Самим надо!» – вызванивало в его сознании так, будто именно с этими словами, его, давно не бывавшего в родных краях и забывшего местные нравы и обычаи, прогоняли вон, обрекая на погибель.
«А ведь в чем-то он прав, – горько подумалось Андрею. Слишком уж отстраненно ты относишься ко многому, что тебе приходится узнавать или на что тебе просто-напросто пытаются открыть глаза. Конечно, куда проще отгородиться от всего этого: “Я солдат, мое дело – солдатское”. Но ведь в конце концов солдат тоже должен твердо знать, за что он воюет, что отстаивает в своем отечестве, а чего душа его не приемлет».
Ему вдруг захотелось вернуть Лазарева назад и высказать ему все, что думает о нем и таких, как он. Капитан даже приоткрыл дверь, но ощутив на себе ледяное дуновение реки, как-то сразу остыл.
«В этом деле, капитан, главное не высказывать, главное понимать нужно, саму суть улавливать», – молвил уже лишь в оправдание своей нерешительности.
2
Прикосновение женских рук…
Беркут ощутил его еще во сне. И там же, во сне, не поверил своему ощущению. Слишком уж сладостным, а потому нереальным, оно почудилось. Сколько раз вот так же, во сне, бредил он женскими ласками. Как часто, со всей возможной достоверностью, ощущал близость женского тела, а порой даже упоительно обладал им…
Но потом сон вдруг развеивался, и с мучительной тоской на душе Андрей обнаруживал себя в затхлом доте или отсыревшей партизанской землянке; под упоительно пахнущей кроной сосны или на нарах лагеря военнопленных…
Даже приоткрыв глаза и ощутив на груди голову женщины, Андрей все еще не решался ни притронуться к ней, ни просто пошевелиться. Настолько невероятной казалась сама мысль о том, что рядом с ним действительно может оказаться женщина.
– А-а, вот ты и проснулся!.. – жарко и почти ликующе дохнул ему кто-то в ухо. – Но лучше вновь закрой глаза. И помолчи, теперь уже только помолчи.
Резковатый запах солдатского одеколона смешивался с приторью настоянных на дымных кострах волос. Чуть ниже соска – упругий клубок девичьей груди.
– Ты, Клавдия…
– Какая еще Клавдия?! – не зло, а томно как-то возмутилась женщина. – Никакой Клавдии не было и быть не может, – горячечно и все еще безо всякого намека на ревность или огорчение, продолжила Войтич. – Жди, дураша, придет она к тебе, подстилка майорская! Поэтому лежи и молчи. Слышишь меня: закрой глаза и молчи, а то опять все не сложится.
– Почему опять?
– Ну, как тогда, в моем «бункере».
– Тогда я попросту не решился.
– Дурак, значит. Раз уж облапил девку, то что ж тут решаться? Уже, считай-радуйся, все решено.
Только теперь Андрей понял, что он уже полуоголен. Нога женщины жарко обвила его ногу; одной рукой Калина нервно теребит волосы где-то у него на затылке, другой беспощадно расправляется с остатками одежды.
Не выдержав этой пытки, Беркут захватил Калину за талию, плавно перекатил через себя и, обнаружив, что под короткой, из шинельного сукна, юбчонкой – лишь голое, пылающее жаром тело, подмял под себя и попытался яростно наброситься на нее. Ошибки, которую допустил при первой встрече, он уже не допустит. Однако Калина вывернулась, отжав подбородок мужчины, слегка успокоила его и только тогда молвила:
– Это ж тебе не в рукопашной, капитан. Тут все нужно делать спокойно, деликатно, а главное – умеючи.
– То есть как это «умеючи»? – нервно переспросил он.
– То есть так это, что женщину так заласкать нужно, – тихо, рассудительно наставляла его Войтич, – чтобы она упала в обморок, и, так и не воскресая, всю ночь напролет отдавалась тебе.
– Всю ночь, и не воскресая?
– Желательно, не воскресая. Томная женщина всегда отдается слаще.
– Чего же ты упираешься?
– Ты же еще и не пробовал ласкать! – возмутилась Калина.
Вывернувшись из-под массивного тела Андрея, она тотчас же принялась деловито, словно к молодому жеребцу приценивалась, ощупывать его мощный торс, а проделав это, восхищенно заохала.
– Но сюда кто-то может войти, – вдруг некстати спохватился Беркут.
– Как войдет, так и выйдет. И черт с ним. А нахрапа полезет, пристрелю, – спокойно заверила Калина. – Дверь я закрыла. Входную и нашей комнаты. Разве что немцы в ночную атаку попрут, но и тогда пусть без тебя их попридержат. Сегодня моя ночь. Зря что ли вечером баньку устраивала. Для себя отмывала, старалась.
– Отмывался вроде бы я сам.
– Только потому, что не позвал.
– Как сюда шла, никто не видел?
– Клавдии, во всяком случае, не заметила. Так что можешь успокоиться.
– При чем здесь Клавдия?
– Но ты же назвал ее, а не меня.
Окончательно расправившись с одеждой мужчины, Калина вновь похвалила себя за то, что отмыла его, и сладострастно повела губами по груди, животу, опускаясь все ниже и ниже.
– После этой ночи никакой Клавки тебе уже не понадобится, – пригрозила она, прежде чем предаться тому способу первородного греха, предаваться которому Андрею приходилось только с Анной Ягодзинской. Впрочем, до сих пор он все еще весьма смутно представлял себе, как это делается.
Тем не менее с первого же мгновения понял, что Калина права: чувство, нахлынувшее на него при первых же прикосновениях женских губ, не подлежало никакому сравнению. Оно было настолько яростным и всепоглощающим, что в какие-то мгновения Андрею показалось, будто он впадает в магнетический транс и, теряя чувство реальности, возносится к вершинам блаженства.
– А все же, почему ты назвал ее, а не меня, капитан? – вернул его к реальности томный голос Калины, совсем не такой грубый, к какому Андрей привык, и вообще совершенно не похожий на голос Войтич.
– Просто к тому времени я еще не проснулся.
Войтич улеглась рядом с капитаном, завлекая его на себя, и долго, страстно исцеловывала грудь, шею, щеки, глаза…
– Теперь, просыпаясь, ты будешь произносить только мое имя. Только мое! Кто бы ни оказался к утру в твоей постели.
– Это будет ужасно.
– Наоборот, сразу же будешь вспоминать ночи, проведенные со мной, – все так же нежно и игриво уточнила Калина. – Я ведь тебе нравлюсь.
– Ну… в общем… – растерялся Андрей, явно не ожидавший подобного утверждения, ибо молвлено это было женщиной не в форме вопроса.
– Нравлюсь-нравлюсь. Просто ты еще этого не понял. Но уже завтрашней ночью, обнаружив, что меня нет рядом с тобой в постели, поймешь это. И так затоскуешь… Если б ты только мог представить, как ты затоскуешь по мне.
На том берегу реки вдруг ожил пулемет. Очередь его легла почти рядом с домом, в котором они блаженствовали, и это «напоминание» войны заставило Андрея и Калину приумолкнуть, а главное, вспомнить, где они и что на самом деле происходит за стенами – пусть и довольно мощными, сложенными из огромных диких камней, – их дома.
– В каких-нибудь пятистах метрах от нас – враги. Они со всех сторон. Мы в окружении. И тем не менее лежим в постели и занимаемся черт знает чем.
– Что значит «черт знает чем»? – встрепенулась Калина. – Как ты можешь такое говорить? Может быть, мы только что зачали сына: а ты говоришь: «черт знает чем»?
– Так уж сразу и сына!
– А все может быть. На всякий случай предпримем еще одну попытку, – рассмеялась Калина. – И не обращай внимания на пулемет. Ты что, впервые попадаешь в окружение? Ты ведь партизанил, был диверсантом, еще кем-то там.
– Но никогда еще не лежал в домашней кровати посреди двух фронтов. Да к тому же – с женщиной.
– С такой красивой женщиной.
– С такой красивой… И не зачинал сыновей под пулеметную дробь.
– Зато каким мужественным вырастет этот, зачатый под пулеметную дробь, сын! Настоящим солдатом.
Калина благодарно вздохнула и, свернувшись калачиком, приложилась виском к его солнечному сплетению. Он видел, как хладнокровно действовала эта женщина, выступая в роли снайпера. Знал, что в течение нескольких лет она была надзирательницей женского лагеря политзаключенных и, судя по ее намекам, даже принимала участие в казнях этих несчастных, объявленных «врагами народа». Но теперь ему казалось, что женщина, с грациозностью тигрицы свернувшаяся рядом с ним в постели, не имеет ничего общего ни с Калиной Войтич – надзирательницей, ни с воинственной, при всяком удобном случае хватающийся за оружие, амазонкой.
– Назови меня еще раз красивой.
– Не стоит, зазнаешься.
– Зазналась я еще после первого раза. Так что теперь уже не жадничай.
– Ты и в самом деле красивая. Просто никогда раньше не видел тебя такой вот – оголенной, покорной, а главное – в постели.
– Теперь всегда буду рядом с тобой.
– Это невозможно.
– Хотя бы до тех пор, пока стоим гарнизоном в Каменоречьи.
– Кто знает, сколько это продлится и чем кончится…
– Да чем бы не заканчивалось! – решительно молвила Калина. – А сына я тебе выношу. К тебе же только одна просьба: почаще ласкать меня.
– Почаще не получится.
– Клавдии опасаешься? Так вот, с ней я сама разберусь. Если однажды утром в каменоломнях ее не окажется, не надо слишком уж удивляться.
– Клавдия здесь ни при чем.
– Ты ведь переспал с ней, там в выработке.
– Что за чушь?!
– Я следила за вами.
– Брось, Калина, – как можно спокойнее попытался Андрей урезонить девушку.
– Говорю тебе… Подсмотрела, выследила, а там, наверху, под потолком, есть узенькая щель. Если подползти по полке, все слышно. Так я взяла и подползла. Видеть не видела – врать не стану. Но все слышала.
– Не ври. Ничего ты там не могла слышать.
– Могла, все могла.
– Между нами ничего не было. «К сожалению», – мысленно добавил Андрей.
– Не ври, вы действительно выкобеливались там. Все так и было, ты проговорился. Мне Арзамасцев сказал, что ты увел Клавдию в дальнюю выработку.
– Не мог он сказать такое. Мы искали место для госпиталя.
Однако Войтич уже не слушала его.
– То ли ненавидит тебя этот Арзамасцев, то ли ревнует.
– Не хочет простить того, что оказался здесь. Считает, что из-за меня. Собственно, так оно и было на самом деле, мы ведь сейчас могли где-нибудь в тылу отсиживаться, после возвращения из-за линии фронта.
– Знаю, рассказывал.
– Когда?
– Не ты, а ефрейтор Арзамасцев.
– Когда вы с ним оказались в той самой, дальней выработке?
– Пристрелю, капитан. Ни с кем, нигде, кроме тебя, я здесь не была.
– Извини, пошутил. И, как всегда, неудачно.
* * *
То ли пулеметчику что-то мерещилось, то ли просто постреливал, чтобы разогнать сон. Правда, на сей раз очередь прошла над плавнями. Зато в той, степной, стороне все по-прежнему оставалось спокойно. И Беркут не мог понять: то ли Ганке все еще не увел свою роту и продолжает придерживаться условий перемирия, то ли командир нового подразделения счел, что ради кучи этих камней рисковать своими обстрелянными фронтовиками не стоит.
– Как ты догадался, что я действительно ничего не слышала, а просто беру тебя на понт?
– Если бы ты оказалась где-то рядом и застала нас, то наверняка швырнула бы в выработку гранату. Или перестреляла.
– Это уж точно! – все с той же детской шаловливостью и наивностью рассмеялась Калина. – Сдержаться не смогла бы. Ну и как она как баба, учиха эта твоя?
– На такие вопросы не отвечают.
– Хотя бы намекни как-нибудь.
– Как намекнуть? – решил Андрей, что спорить с Войтич бесполезно. Лучше принять условия ее игры.
– Как угодно, я пойму.
– Тогда можешь считать, что намекнул.
– Лучше, чем со мной? – не на шутку встревожилась Калина.
– Нет. Очевидно, нет… не должно… так мне кажется.
– Попробовал бы сказать, что лучше. Смотри мне, пристрелю. Когда я уже была в девятом классе, к нам в школу прибыла новая учительница украинского языка. Киевлянка. Жена заместителя начальника лагеря. Того самого. Она казалась мне такой красивой и настолько суровой и недоступной, что по грешности своей девичьей я не раз спрашивала себя: неужели и она тоже… ну это… как все, с мужиками. Как любая сельская баба. Неужели и ее мужики… тоже? Не верилось как-то. Казалось, что учительницы – особенно эта, городская, – какие-то особенные. Ты ведь тоже впервые с учительницей переспал.
– Впервые, – непроизвольно как-то вырвалось у Андрея, о чем он тотчас же пожалел, почувствовав себя неловко перед Клавдией. – Только не переспал, а так, немного поласкал. Но осознание того, что ласкаешь не просто женщину, а учительницу, – да, признаюсь, на психику это здорово давило. Но только ты…
– Не боись, не выдам, – успокоила его Войтич. – У нас ведь с тобой теперь сугубо мужской разговор. А потому не ври. И вообще на будущее запомни: в постели я – женщина. На кухне тоже, а вот, во всех остальных житейских передрягах рассчитывай на меня, как на мужика. Потому и говорю, что здесь, в Каменоречье, буду стараться не отходить от тебя, оставаясь в роли телохранителя.
– Этого не будет, Калина. Никаких «телохранителей». И чтобы я никогда больше не слышал об этом.
– Понятно, стесняешься. Ничего, я ненавязчиво. Подстраховывая. Очень страшно потерять тебя.
– А себя?
– Я не знаю, что такое страх, капитан. По-моему, совершенно не знаю.
– Божест-вен-но.
– В самом деле, не вру. Почти не ощущаю его. Там, где на обычных, нормальных людей снисходит леденящий душу страх, на меня – леденящая душу ярость.
– Вот оно что! Спасибо, это многое проясняет в твоем характере.
– Нет-нет, внешне это почти никак не проявляется. Внешне я остаюсь спокойной, разве что иногда даю волю языку. Но когда должен появиться страх, у меня появляется ярость. Она-то и глушит любое другое чувство. А еще – терпеть не могу слез, особенно причитаний. Если кто-либо метнет в мою сторону нож или выстрелит-промажет, – еще могу простить. А плач-рев услышу – пристрелю, не задумываясь. Терпеть этого не могу. Веришь?
– Поверить в это так же трудно, как и не поверить. Но если страх действительно обходит тебя… Жаль, что ты не встретилась мне за линией фронта. Очень даже могла бы пригодиться. Появляться в городе в немецкой форме, с надежной женщиной – куда лучше, чем бродить в одиночку.
– Вот и подумай теперь над этим.
– Да поздновато думать, война уже идет к концу.
– Не так скоро она закончится, как тебе кажется. И потом, со мной что по ту, что по эту сторону фронта – надежно. То, что в конвое я немного «сзечилась», то есть от зеков словечек всяких и повадок нахваталась, пусть тебя не пугает. Нужно будет, стану вести себя, как польская аристократка. Опять не веришь?
– Почему же… Все может быть.
– Кстати, во мне ведь течет польская кровь. Стопроцентная, и почти голубая. Это я по отцу Войтич, кстати, тоже поляку, а по матери Даневская. Были в здешних краях такие гербовые шляхтичи Даневские. А, как тебе пани Даневская? Кончится война, перейду на фамилию матери. Все равно отец бросил нас, когда мне еще и двух лет не было. Хочешь, с завтрашнего дня предстану перед тобой польской шляхтянкой?
– Любопытно было бы взглянуть.
– Только пообещай, что станешь любить меня еще сильнее.
«Разве ты уже объяснился ей в любви?» – попробовал было возмутиться Беркут. Но только мысленно, про себя. Эта женщина все решительнее вторгалась в его жизнь, и с ней приходилось считаться.
3
Услышав шаги, капитан открыл занавешенные ресницами усталости глаза и резко оглянулся. При этом рука его мгновенно легла на кобуру. Но это был Глодов.
– Товарищ капитан, разрешите доложить.
– Слушаю, – бросил Беркут, не поднимаясь с низенького лежака, который смастерили для него на командном пункте солдаты-плотники. Сейчас он просто не в состоянии был подняться. Даже отворачиваться от холодной стены, которая однако приносила ему успокоение, становилось все труднее. Судя по всему, он смертельно устал, причем больше всего донимала бессонница.
Если любому из бойцов все же удавалось хотя бы часок-другой между обстрелами поспать, то у него почему-то не получалось. То вдруг начинал тревожить радист, то появлялись немцы, то… Калина.
– Я уточнил. Во время ночной операции погибли четыре бойца гарнизона. С разведчиком, которого вы пытались спасти, – пятеро. Двоих ранило. К счастью, легко. В числе погибших – старший лейтенант Корун.
– Что-что?! – вновь приоткрыл сами собой закрывшиеся глаза Андрей. – Что ты сказал, лейтенант?
– Погиб командир роты старший лейтенант Корун, – уточнил Глодов, исполнявший теперь обязанности заместителя коменданта гарнизона. – Извините, считал, что вам уже сообщили.
– Как это могло произойти?! Он ведь все время находился в укрытии, в нашем лазарете.
Забыв, что доклад не окончен, или же решив, что после этого вопроса формальности уже излишни, Глодов присел к приспособленной под печку-буржуйку бочке из-под горючего и подбросил туда несколько мелких дощечек.
– На сей раз он вышел из госпиталя-укрытия. Зачем он прибег к этому, понять трудно.
– Неужели попытался поднять бойцов в очередную бессмысленную контратаку?
Глодов смерил коменданта тягостным взглядом и, выдержав минутную паузу, проговорил:
– Мне бы не хотелось повторять все то, что он говорил.
– Я тоже терпеть этого не могу, но согласись, лейтенант, что случай особый.
– Он вышел с криком: «Кто позволил поднимать роту в атаку?! До тех пор, пока я – командир роты, я не позволю гнать на убой моих бойцов!».
– Любопытное заявление. Видно, совесть заела. Именно он-то и гонял их… как на убой.
– Я пытался объяснить ему ситуацию. Напомнил, что генерал Мезенцев назначил вас комендантом гарнизона этого плацдарма, однако ничего этого слышать Корун не хотел. Он пистолет мне под нос, мол, пристрелю, под трибунал отдам, и все такое прочее…
– Постой-постой, лейтенант, – насторожился Беркут. – Ты покороче и вдумчивее. Насколько я понял, между вами произошла стычка?
– Да нет… Просто я послал его. Про себя, конечно. И пошел догонять бойцов. А скосили Коруна чуть позже. Из пулемета. Недалеко от входа в штольню, возле первого поста. Двое солдат занесли его в подземелье, пытались перевязывать, но…
– Может, он специально полез под пули, использовав эту вылазку, как один из способов самоубийства?
– Вряд ли. Погибать он не собирался. Скорее наоборот, пытался вернуть себе власть в роте. В принципе его можно понять: командиром роты его, старшего лейтенанта, назначили только месяц назад. И ему очень хотелось спасти ее остатки, чтобы опять не оказаться во взводных…
Капитан молча поиграл желваками. Ему уже приходилось встречать старшего лейтенанта, который любой ценой хотел спасти остатки своей роты. Не из сострадания, а лишь для того, чтобы числиться комроты, а значит, в скором времени получить капитана. Так вот, этот самый старший лейтенант, Рашковский, увел в сорок первом из-под его дота роту, которая была оставлена командованием для прикрытия.
А вместо него подходы к доту несколько суток прикрывала горсточка случайно оказавшихся там бойцов из другой части. Которые как раз имели приказ отойти вместе со всеми, а, значит, могли вырваться из окружения. Но сержантик, командовавший этими несколькими пехотинцами, сообразил: уйди они – и дот с первых же минут оказался бы отданным на растерзание, поскольку с тыла у дота была «мертвая» зона. И он остался. Чтобы выполнить свой солдатский долг.
Вот почему Беркут не понимал и не желал понимать Коруна. Он не понимал офицера, который, оказавшись раненым, в такой сложной ситуации больше заботился не о судьбе гарнизона, а, значит, и своей роты, а о собственных амбициях. Хотя на войне их, казалось бы, не должно быть.
Впрочем, все это – «размышления по поводу». И делиться ими с кем бы то ни было не имело сейчас никакого смысла.
– Кто остальные трое?
– Ефрейтор Федоренко. Рядовые Абдурахманов и Коннов.
– Постой-постой…
– Коннов, – упредил его вопрос Глодов, – это тот, которого вы пытались дотащить до своих?
«И из-за которого чуть не погиб… – мысленно добавил Андрей. – Возможно, Глодов имел в виду именно это».
– Мальчевский уже сообщал мне об этом происшествии.
– Я попытался установить, кто именно стрелял, но…
– Не нужно ничего устанавливать. Сойдемся на том, что судьба есть судьба, – произнес Беркут, сочувственно помолчав.
– Коруна надо бы похоронить где-то отдельно. Все-таки командир роты. Ну и хоть с какими-то с почестями…
– А что, офицеров принято хоронить отдельно? Таков порядок? Я ведь воевал в доте, а потом в тылу врага.
– Во всяком случае, стараются.
– Нелепая традиция. Высшей честью для офицера должна быть возможность навсегда остаться со своими солдатами.
– На этом решении мы и остановимся.
Хоронили погибших в воронке, у самого обрыва, на краю хутора. Отсалютовать решили при первой же атаке немцев. Залпом. По врагу.
* * *
Это было удивительное утро: по-летнему яркое солнце источало сухой яростный холод, доводивший до морозного кипения небесную синеву. Вокруг каменного островка, на который забросила их судьба, бродила свинцовая смерть, и в то же время сейчас над ним царила какая-то жутковатая тишина. Такая, что даже те несколько бойцов, которые принимали участие в похоронах, почему-то разговаривали между собой полушепотом, словно боялись разбудить притаившуюся по обе стороны реки человеческую ненависть, возбудить ее ожесточенность.
После ночного боя, потеряв по меньшей мере двадцать человек убитыми, противник вообще отошел от плато, и бойцы, вышедшие на рассвете подбирать оружие и боеприпасы, с удивлением обнаружили, что немцы оставили даже тех, кто погиб в долине. И вообще в уходе вермахтовцев с позиций чувствовалась какая-то паническая обреченность, усугубляемая к тому же этим страшным, почти сибирским морозом.
Правда, по замерзшему шоссе курсировал мотоциклетный патруль, но и он почему-то не обстрелял смельчаков, собиравших патроны и гранаты у остова разбитой машины.
Все это подняло настроение бойцов. Шутники начали соотносить боевой дух немцев с сухостью их подштанников, гадая при этом, через сколько суток после такой «прочехвостки» фрицы опять решатся сунуться в Каменоречье.
Однако самого Беркута эта «волчья», как точно выразился старшина Кобзач, тишина уже начинала удручать, заставляя все более критически задумываться над тем, как держать оборону дальше. Затишье на том берегу лучше всяких объяснений, которые им пытались дать по рации, подтверждало: наступления в ближайшие сутки не предвидится.
А что касается отхода немцев… Просто вчера они окончательно убедились, что имеют дело не с группкой окруженцев, главная цель которых – прорваться к своим или пробиться в леса, а что этот гарнизон умышленно оставлен в их тылу, чтобы сковывать значительные силы врага и подготовить плацдарм для возвращения своих войск на левый берег. Вот и вся разгадка.
Но Беркут понимал, что именно она неминуемо заставит немецкое командование бросить на подавление окруженцев более серьезные силы. Тогда-то и начнутся настоящие бои.
– Сколько в строю, старшина? – спросил он Кобзача, вернувшись вместе с офицерами на командный пункт.
Тот достал из офицерской планшетки, с которой никогда не разлучался, замусоленную тетрадку, полистал ее, подсчитывая по отдельным спискам численность роты и всех прибившихся…
– Если с двумя разведчиками и радистом, то получается сорок четыре. Ну, еще старик, девка и учительница. Тоже, считайте, полтора штыка.
– Вот именно: полтора. Правда, гарнизонного снайпера Калины это не касается. Остальные двое… Что поделаешь, резервов не предвидится. Кстати, надо позаботиться о том, чтобы и эти «полтора штыка» тоже были вооружены и, в случае чего… Как только Кобзач ушел, дверь штабной комнаты распахнулась и в проеме ее, подталкиваемый прикладом автомата восстал Лазарев. Одной рукой он держался за щеку у виска, а другую, с растопыренными пальцами, выставил так, словно хотел защититься от удара капитана.
– Что здесь происходит? – сурово поинтересовался комендант у Мальчевского, который, собственно, и пригнал этого, «особо доверенного».
– К немцам драпануть собирался, товарищ капитан.
– Н-не п-правда! – заикающимся голосом возразил Лазарев. – Уйти пытался, это под протокол, однако же не к немцам.
– И не просто собирался, а уже драпал. Мы его в заслон направили, а он, придворный рысак королевы Елизаветы, к фрицам бежать намылился. Но я бойцов предупредил. Перехватили и хорошенько дали ему. Хотели, правда, дезертирский трибунал устроить, с расстрелом, замененным на повешение, но высокое заседание я пока что отменил.
– Не собирался я бежать к фрицам! – закричал особо доверенный, – Не собирался, не собирался. У меня сведения особой важности. – Но, после того как Мальчевский ударил его кулаком в затылок, сразу же понизил тон. – Я просто хотел уйти, чтобы перебраться на тот берег, к своим.
– Вы были зачислены в состав гарнизона, – жестко напомнил ему Беркут. – И на армейском языке «уйти», тем более – с поста, означает дезертировать.
– Но я не был мобилизован. Вы сами окруженцы, и вы не имели права зачислять меня в свое подразделение.
Он прокричал еще что-то, однако комендант выслушал его с полным безразличием.
– Ну что, – оживился Мальчевский, когда «особо доверенный» наконец умолк, – свое последнее слово этот дезертир Бургундского полка прокричал, думаю, можно вешать?
Беркут едва удержался, чтобы не огласить приговор: «Расстрелять перед строем», но вовремя сдержался. Он понимал, что после возвращения своих эта история может всплыть. А ему и так предстояли «задушевные беседы» с особистами, так зачем усложнять себе жизнь?
– Где его оружие?
– Винтовка у меня, на всякий случай, реквизировал, как брошенную на поле боя, – объяснил младший сержант.
– Неправда, не бросал я оружие! – уже откровенно запаниковал Лазарев. – Я с оружием, товарищ капитан! Вы не имеете права. Я буду жаловаться!
– Жалуйся-жалуйся, – ухмыльнулся Мальчевский. – Только у апостола Петра день сегодня неприемный.
Лазарев попытался прокричать еще что-то, однако, получив еще один удар в затылок, окончательно умолк.
– Оружие вернуть, – решил прекратить эту сцену капитан, – струсившего бойца отправить туда же, в передовой дозор у ворот Каменоречья.
– А если он опять вздумает?..
– При повторной попытке дезертирства, предадим военно-полевому суду.
– Так, может, прямо сейчас и предадим? Ведь понятно, что он опять струсит и попытается бежать.
– Не стану я бежать, – почти взмолился Лазарев. Но, после небольшой паузы, вдруг добавил: – Все, раз надо, я останусь здесь, в Каменоречье, и буду сражаться. Но потом все равно обжалую ваши действия. И ваши, и тех, кто меня избивал.
– Выполняйте приказ, младший сержант, – не стал реагировать на его угрозы Беркут. А когда Мальчевский подтолкнул «особо доверенного» к двери, добавил: – И поручите наблюдение за ним рядовому Звонарю.
– Да я сам его…
– Вы слышали, что я сказал.
– Звонарю, значит, на съедение? Ну, это гвардеец надежный…
– Звонарю, Звонарю… – многозначительно подтвердил комендант. – Сейчас в гарнизоне каждый штык на вес жизни, так что пусть заставит этого труса воевать.
– И заставит, – угрожающе пообещал младший сержант. – Всех – под знамена и под барабанную дробь.
Примечания
1
Этот полк входил в состав дивизии СС «Мертвая голова».
(обратно)2
Хлопцы (укр.) – парни, ребята.
(обратно)3
Гарнизон дота «Беркут», комендантом которого являлся лейтенант Андрей Громов, он же Беркут, состоял из 30 бойцов и медсестры. Именно таким в реальности и был гарнизон дота, судьба которого была положена в основу цикла «романов о Беркуте». В реальной действительности остатки этого гарнизона немцы замуровали в доте после того, как бойцы отказались сдаться.
(обратно)4
Ефрейтор войск СС.
(обратно)5
То есть сотрудники Смерша – армейской контрразведки.
(обратно)


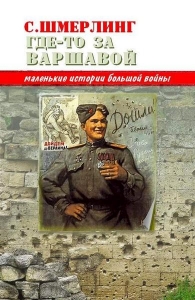
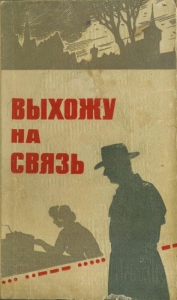
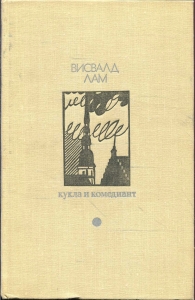





Комментарии к книге «До последнего солдата», Богдан Иванович Сушинский
Всего 0 комментариев