Богдан Сушинский Река убиенных
Умирать нужно так же мужественно, как и жить.
Автор
1
Автоматная очередь и предсмертный крик мотоциклиста раздались почти одновременно и настолько неожиданно, что Громов не сразу понял, что, собственно, произошло. Только что они свернули с проселочной дороги, и сидящий за рулем ефрейтор, уже хорошо знавший дорогу к штабному доту, не сбавляя скорости, начал петлять, проскакивая от поляны к поляне, ловко лавируя при этом между каменными глыбами, пробивающимися сквозь чистый зеленый ковер, словно ростки далеких гор.
Места здесь были изумительные, а фронт, как ему сказали, – километров за тридцать от Днестра. И на какое-то время Громов позволил себе забыть о нем, о войне, о предупреждении офицера контрразведки, что на их направлении, к Днестру, во втором эшелоне подходит отборный полк «Бранденбург», специализирующийся на десантах в тыл противника, диверсиях, уничтожении штабов, а главное – на вскрытии обороны укрепрайонов.
Обо всем этом лейтенант Андрей Громов забыл лишь на несколько минут. Просто его вдруг опьяняюще поразила тишина светлого лиственного леса, очаровали величественные кроны деревьев, нетронутая, немыслимо зеленая чистота полян и библейская первородность ручья…
Он почему-то решил, что лично для него война начнется с того момента, когда примет командование дотом, а посему действительно позволил себе на какое-то время забыться. Вот только война тотчас же наказала его за эту беспечность… Впрочем, так оно по законам военного времени и должно было произойти.
…И все же он не мог не то чтобы понять, а смириться с тем, что ни водитель, ни он, ни сидевший на заднем сиденье сержант-связист так и не заметили каких-либо признаков засады, не ощутили опасности. Что ж это за слепота-беспечность такая, Господи?! Как же при таком отсутствии интуиции все мы собираемся воевать?
Съехав на склон оврага, мотоцикл налетел на валун, и по-настоящему Громов пришел в себя, только поняв, что машина переворачивается. А еще он помнил, что в последний момент сумел оттолкнуться ногами от коляски и, пытаясь проделать нечто напоминающее сальто-мортале, отпрыгнул назад, чтобы не оказаться под мотоциклом.
И хотя в этом немыслимом пируэте он и водитель перекувыркнулись друг через друга, все же мотоцикл не задел его колесами, а, пролетев мимо, застрял мет-рах в трех ниже по склону, между двумя валунами.
– Сержант, жив?! – сразу же окликнул Громов, хватаясь за автомат ефрейтора. Сорвавшись с плеча водителя, этот автомат саданул Андрея диском по голове, зато теперь оказался рядышком, на расстоянии вытянутой руки, за несколько метров от своего погибшего хозяина.
– Жив! – хрипло отозвался сержант откуда-то из-за изгиба оврага.
– Значит, держаться! – яростно прокричал Андрей, понимая, что от того, продержится ли сержант хотя бы несколько минут, будет зависеть и его жизнь. – Держаться, понял?!
– Да понял, понял… – без особого энтузиазма прохрипел сержант, словно лейтенант предлагал ему что-то не очень приемлемое. – Но только не держаться, а драпать сейчас надо.
– Лежать! Скосят.
В ту же минуту на гребне оврага появилось несколько фигур в зеленых маскхалатах. Андрей тотчас же прошелся по ним длинной очередью и откатился поближе к изгибу, за которым лежал сержант. В ответ тоже ударили двумя-тремя очередями, но короткими и тявкающе несмелыми.
«За офицера штаба меня приняли, – понял Громов. – А штабист им как раз и нужен. Живым, конечно». Если так все и есть, через минуту-другую десантники бросятся к нему, к мотоциклу, и тогда им с сержантом не продержаться. Знать бы, сколько их там? Впрочем, запасного диска у него все равно нет. А с пистолетом не повоюешь.
Прислушался: из-за поворота донеслось два выстрела – заработал карабин сержанта, сообразил Анд-рей. Уже легче. Хотя бы потому, что драп отменяется. А если бы удалось перебраться к нему, было бы совсем хорошо.
Стараясь не выдавать себя, Громов приготовился к броску, но в это время за дальним валуном вдруг мелькнула фигура десантника.
«Началось, подбираются!» – ударив короткой очередью по десантнику, лейтенант послал затем пару пуль по баку мотоцикла.
Десантник явно рвался к машине, надеясь найти там бумаги, а главное, поскорее очутиться за спиной русского офицера. Как назло, мотоцикл не загорелся, а тратить на него патроны Андрей больше не мог.
Высунувшись из-за камня, он попытался охватить взглядом и гребень оврага, и валун, за которым подозрительно притих немец, и перевернутый мотоцикл… Ситуация оставалась неясной: сколько здесь германцев-десантников, где остальные и почему медлят? Но, может, потому и медлят, что обстреляны и знают законы войны. Он, конечно, понимал, что боевое крещение придется принимать очень скоро, но не думал, что оно произойдет столь внезапно и при таком раскладе сил.
2
Взрыв по ту сторону изгиба, где лежал сержант, вновь заставил его припасть к земле. Затаив дыхание, Громов ждал, что рядом тоже вот-вот упадет граната, но вместо этого где-то за гребнем послышалась негромкая отрывистая команда на немецком, а затем вдруг откуда-то издалека долетели отзвуки длинной трещоточной очереди. Еще одной, еще!.. И теперь уже Громов по звуку определил, что это – ручной пулемет, «дегтярь».
Неужели свой?! Вот немцы ответили несколькими очередями из автоматов, однако выстрелы стали глуше, и лейтенант понял, что они отходят в глубь леса. Они отходят – вот в чем дело. А значит, сейчас им уже не до мотоциклистов.
Выбравшись из укрытия, он все еще опасался, что лежащий за мотоциклом десантник может ожить, поэтому через ребристый, словно хребет динозавра, изгиб переползал очень осторожно. Да, сержант был мертв. Граната разорвалась почти рядом с ним, и теперь на тело его страшно было смотреть. А еще полчаса назад, садясь в мотоцикл, этот весельчак говорил ему: «Можешь считать, что тебе здорово повезло, лейтенант, – разница в звании его не смущала. – В лес этот трамвай ходит не часто, так что пользуйся случаем».
«Нужно было дать ему возможность драпануть, – мелькнуло в сознании Громова. – Парень словно чувствовал, что этот, первый, бой станет и последним его боем. Но если бы он отошел, эта граната нашла бы тебя, – осадил себя лейтенант. – И вообще, что значит «драпануть»?
Стараясь не останавливать взгляд на иссеченном, окровавленном лице сержанта, Громов быстро извлек его документы и подобрал валявшийся рядом, возле камня, планшет. Очевидно, в последние минуты жизни сержант пытался спрятать его, но не успел. А в планшете, наверняка, пакет – не зря же ефрейтор был вооружен автоматом. То, что они взяли себе в попутчики незнакомого лейтенанта, – конечно же было явным нарушением инструкции. Кроме всего прочего, война должна была научить их еще и осторожности. Да только не успела.
Перебежками приблизившись к валуну, за которым лежал десантник, Громов убедился, что тот тоже мертв. Пуля попала в шею, и он просто-напросто истек кровью.
– Эй, военный, – заставил его содрогнуться чей-то звонкий, почти мальчишеский голос, доносившийся словно бы из поднебесья, – живой?!
– Живой, как видишь!
Там, наверху, широко расставив ноги, стоял боец с пулеметом в руках. Отсюда, снизу, он был похож на невнушительную, совершенно нелепую статую бездарного скульптора.
– А ведь бывает же!.. Не зря, значит, старались.
– Где сейчас фашисты?
– Как где? К горе их прижали. Палят они, конечно, как на стрельбище. Но долго им не продержаться. Да и осталось-то их трое-четверо, не больше.
– Божественно, – полутомно повел подбородком лейтенант. – Будем считать, что фронтовое крещение удалось.
– А это кто? – поинтересовался пулеметчик, спускаясь склоном оврага к Громову и, только теперь поняв, что имеет дело с командиром, добавил: —…товарищ лейтенант?
– Один из них, в тыл к нам засланный.
Громов расстегнул окровавленный маскхалат, но, к своему удивлению, вместо мундира увидел ношенный, до бесцветности выцветший крестьянский пиджак и застиранную, расстегнутую на груди рубашку.
– Во, гад! – изумился пулеметчик, склонившись над убитым. – Отбросил бы он этот балахон и автомат – никогда и не подумал бы…
– На это и расчет.
– Еще и по-русски, наверное, «шпрехал», как считаешь?
– У них это предусмотрено. В случае неудачи – раствориться среди гражданского населения, засесть, притаиться где-нибудь на чердаке сельского дома…
Как и следовало ожидать, документов у десантника не оказалось. Его настоящие не должны были попасть к русским, а советские он обязан был раздобыть себе здесь, в тылу.
Перевернув немца, Громов выхватил у него из-за поясного ремня пистолет, достал и положил в карман две запасные обоймы, прихватил автомат.
– Оружие и документы мотоциклиста, – коротко приказал пулеметчику, и, пока тот, отложив пулемет, выполнял приказ, изъял у фашиста и бросил себе в вещмешок два автоматных рожка с патронами.
Через несколько дней, когда он наверняка сам окажется в окружении, в тылу у фашистов, этот автомат еще может сослужить ему службу. Да и нужно было познакомить бойцов с оружием врага.
Последним был нож. Повертев его в руке, Андрей сунул себе за голенище: когда-нибудь он тоже пригодится.
– Изъято, товарищ лейтенант.
– Божественно.
– Вас, я вижу, тянет к оружию.
– Может оказаться, что вскоре будем считать каждый патрон. Ну да ладно, бери свою пушку, – устало проговорил Громов, принимая у пулеметчика бумажник ефрейтора. – Кстати, очень надежный механизм, – добавил он, подумав о том, что не мешало бы иметь парочку «дегтярей» в каждом из дотов. – Береги его.
Уже уходя, он в последний раз пристально взглянул в искаженное гримасой лицо десантника, но не потому, что хотелось запомнить его. Скорее, это получилось у него как-то непроизвольно, тем не менее он ощутил, что в душе его шевельнулось нечто похожее на жалость к человеку, чей жизненный путь прерван был столь неожиданно и мгновенно; и кто знает, сколько еще лежать ему здесь, в этом мрачном сыром овраге забытым и непогребенным.
К тому же это был первый увиденный и первый убитый им враг. Что ни говори, а свой смертный счет на этой войне он уже открыл. Теперь и помирать не так страшно, не так бессмысленно будет.
«А ведь где-нибудь и меня вот так же… загонят в вечность небытия… – с грустью подумалось лейтенанту. – Оставят лежать непогребенным».
Увешанные оружием, они быстро выбрались из оврага. На вершине Громов облегченно вздохнул и осмотрелся: вон они, кусты, из-за которых прогремела та роковая автоматная очередь, отсеченная ветка, следы мотоциклетных колес… Что ни говори, а овраг стал их спасением. Организовывая засаду, фашисты явно не учли этого. Впрочем, они очень многое не учли, нападая на такую огромную страну. Огромную и сплоченную. И очень скоро они это поймут.
А в то же время мог ли он, комендант дота, предположить, что боевое крещение свое придется принимать не на передовой, не за бетонными стенами дота, а здесь, в ангельской тиши тылового леса? Но это случилось. И сейчас Громов лихорадочно анализировал ситуацию, действия противника и свои собственные. Урок и опыт, которые он мог извлечь из этого нападения, должны были стать продолжением его командирской подготовки – суровой и отчаянно жестокой военной практикой.
– Не знаешь, до ближайшего дота далеко? – спросил он пулеметчика, обходя неестественно изогнутое тело другого убитого фашиста, возможно, как раз им, этим парнем, скошенного.
– Километр, не больше.
– Всего лишь?
– Я говорю о ближайшем. А их много, и уходят они вправо и влево, вдоль реки, на многие километры. А ведь вам нужен какой-то один.
– Естественно.
– Не спрашиваю, какой. Понимаю, что военная тайна.
– Значит, все ты верно понимаешь…
– Примете командование дотом?
– Если успею, – пожал плечами Громов. – При таком-то развитии событий.
– Так, может, к вам в дот податься?!
– Для этого нужен приказ высшего командира.
– Неужели людей специально отбирали?! – не поверил пулеметчик.
– Меня и самого это удивляет.
– Ну, мне пора. – Красноармеец быстро объяснил ему, как выйти к доту, и поспешил к скале, где все еще отстреливались окруженные десантники. – Только немцам больше не попадайтесь! – крикнул уже издали. – Во второй раз могу не успеть! А так… может, еще свидимся!
«В километре от штаба батальона, в самом центре укрепрайона, рыщут вражеские десантники! – с горечью подумал Андрей, прислушиваясь к густой, все нарастающей орудийной пальбе, раздававшейся уже по ту сторону Днестра. – Неужели положение настолько серьезное? И только ли на этом участке?»
3
Едва бригадефюрер СС Вальтер Шелленберг успел войти в свой кабинет, как ожил телефон и, подняв трубку, шеф Шестого отделения «Рейхзихерхайтсхауптамта», то есть Главного управления имперской безопасности, с удивлением услышал в трубке вкрадчиво-назидательный голос адмирала Канариса.
– Знаю, что вы только что вернулись, бригадефюрер, и, как всегда, слегка утомлены, но полагаю, что нам следует встретиться.
– День действительно выдался… – начал было Шелленберг, однако главный абверовец рейха мягко прервал его:
– А ведь впереди много-много дней пострашнее. – И тут же вернулся к теме, с которой начал разговор: – Встретиться предлагаю в десять ноль-ноль, в ресторане у Горхера.
Шелленберг не любил, когда кто-либо пытался «извлекать» его из кабинета, особенно в первой половине дня. Это было «его» время. Он любил приезжать пораньше, когда коридоры огромного здания, в котором размещались подразделения Главного управления имперской безопасности, еще пустынны; пока они не были пропитаны растленным духом приказов, команд, чинопочитания и… страха, вечного страха по завтрашнему дню, по карьере, по стремлению угодить, не попасться под горячую руку, произвести впечатление, не «проколоться» перед внутренней службой безопасности СС. Да, он это не любил. Но звонил шеф «Абвера», и завтрак был назначен на субботу, которую Шелленберг конечно же решил посвятить службе. Тем не менее у адмирала было оправдание…
– Приглашен еще кто-либо? – поинтересовался бригадефюрер, уловив, что Канарис слишком задержался у телефонного аппарата.
Обер-абверовец покряхтел, как он делал всегда, когда желал бы не касаться темы, в которую его втягивают, или называть имя, которое он не хотел бы в данный момент произносить.
– Это всего лишь дружеский завтрак в одном из наиболее респектабельных ресторанов Берлина, – бойко, почти игриво произнес он, давая понять всякому, кто решился бы прослушивать их разговор, что речь идет всего лишь о дружеском мужском застолье, – и разделить его с нами дали согласие господа Гейдрих и Мюллер.
– Вполне приличная компания, – неуверенно произнес Шелленберг, не в состоянии скрыть удивления по поводу имен господ, пожелавших позавтракать за счет адмирала. Тем более что один из них, Генрих Мюллер, был шефом гестапо, которое тоже, пусть и номинально, подчинялось Главному управлению имперской безопасности (РСХА); а другой господин был непосредственным руководителем РСХА. Человеком, которого побаивался даже Мюллер, которого в этой империи опасались все остальные, кроме разве что Гитлера и рейхсфюрера СС Гиммлера. Которые, впрочем, тоже не сомневались, что тайные «дела» Гейдрих и «гестаповский Мюллер» завели и на них, безгрешных и неподсудных.
– Итак, завтра, в десять ноль-ноль, – завершил тем временем адмирал и, не давая Шелленбергу опомниться, бросил трубку на рычаг.
Несколько мгновений Шелленберг все еще смотрел на аппарат, словно опасался, что он вновь оживет, затем открыл свой блокнот, чтобы увековечить это приглашение краткой записью, но тотчас же отложил перо. Зачем записывать в служебный «ежедневник» частное приглашение? И потом, может ли он позволить себе забыть о нем? Особенно если там будет Гейдрих, который со дня на день должен был решить вопрос о его назначении на должность начальника только что реорганизованного Шестого управления[1], теперь уже более-менее подготовленного к германо-русской кампании.
Предупредив своего помощника, чтобы тот ни с кем, кроме высшего руководства, не связывал его, Шелленберг удобно устроился в глубоком кресле так, что голова оказалась где-то посредине спинки – его любимая «поза глубинного познания», и, закрыв глаза, погрузился в раздумья.
Канарис в принципе, по сути своей, не принадлежал к людям, склонным проводить время в кругу друзей, за кружкой пива. Тем более что ни Гейдрих и Мюллер, не говоря уже о нем, «молодом выскочке» Шелленберге, к кругу таковых друзей главного абверовца Рейха не принадлежали. Значит, тема встречи может быть только одна – предстоящая война с русскими. Длительная, кровопролитная и крайне опасная для рейха война. То, самое секретное, чем жило сейчас высшее руководство Рейха. Никто, кроме самого фюрера, да, возможно, еще начальника генштаба вермахта, понятия не имел, когда именно начнется эта «русская кампания», как все еще деликатно именовал ее Гитлер; но что начнется она уже этим летом, причем со дня на день, в этом никто не сомневался. То есть, Канарис собирал их явно не для того, чтобы раскрыть величайшую тайну Третьего Рейха. Тогда для чего же?
Шелленберг пытался понять мотивы, заставившие адмирала собрать субботним утром эту «тайную вечерю». Что он намерен предпринять, чего добиться? Узаконить свое главенство среди лидеров спецслужб? Согласовать план действия во время «русской кампании»? Убедить коллег, что Гитлер совершает роковую ошибку, и они, руководители спецслужб, обязаны разубедить его в успешном исходе, а то и составить оппозицию фюреру?
«О нет, только не оппозицию!» – почти вслух простонал Шелленберг, прекрасно понимая, что, какую бы позицию он ни занял во время сколачивания подобной оппозиции, как бы ни противостоял абверовскому вольномыслию адмирала, от преследований и мести фюрера и его окружения это уже не спасет. Наоборот, именно его, Шелленберга, вольномыслие будет воспринято в окружении фюрера с особой остротой. Поскольку именно он оказался среди наиболее доверенных лиц, готовивших рейх и мир к «походу на Москву». Именно ему была доверена подготовка наиболее важного пропагандистского документа, которому отведена роль идеологического обеспечения плана «Барбаросса».
Буквально на днях в его кабинете прозвенела точно такая же телефонная трель и он услышал сухой, резковатый и слегка гортанный голос Гейдриха:
– Вам, Шелленберг, придется подготовить основательный доклад о контрразведывательной работе против русских, – произнес он без всякого вступления, на одинаково ровной, суховато-грозной ноте.
– У меня он, по существу, есть, господин группенфюрер.
– Речь идет не о тех канцелярских заготовках, которые пылятся в вашем шкафу, бригадефюрер, и которые, очевидно, достались вам еще от предшественника. Нужно показать, каким образом вы собираетесь резко усилить контрразведывательную работу, учитывая при этом особую активность русских, продиктованную военными действиями против них.
– Понимаю, господин группенфюрер, такой доклад будет подготовлен.
– При этом докладывать вам придется лично.
– Ф-фю-реру? – перехватило у Шелленберга дыхание.
– Рейхсфюреру, – невозмутимо уточнил Гейдрих, всегда отличавшийся безразличием к столпам рейха и демонстрировавший пренебрежение к высоким особам и высоким титулам. Тем не менее он словно бы упрекнул своего подчиненного, не сумевшего осознать, что докладывать-то ему придется кому-то более значимому, нежели сам фюрер. – Рейхсфюреру Гиммлеру. Лично.
– Когда это произойдет?
– У вас двое суток, Шелленберг. Всего двое суток. И вы должны привыкать к тому, что далеко не для каждого доклада вам столь немыслимо щедро будут отводить такую массу времени.
– Что само собой разумеется, господин группенфюрер.
Хорошо, что Шелленберг не стал полагаться на прогноз Гейдриха и сумел подготовить доклад уже в течение следующих суток. Поскольку на второй день ему уже выпало предстать перед Гиммлером вместе с докладом и… Гейдрихом. И единственное, что утешало Шелленберга, так это то, что, стоя перед Гиммлером, Гейдрих волновался не меньше, нежели группенфюрер.
– Садитесь, друзья, – по очереди расстрелял их обоих рейхсфюрер СС свинцовыми вспышками своих маленьких, круглых, похожих на дула старинных пистолетов очковых стекол. – Нам есть о чем серьезно поговорить, дабы все для себя выяснить и уяснить.
4
Впереди, за жиденькой березняковой рощицей, открывался пологий склон огромной лесной долины, с усадьбой и какими-то отдельно стоящими хозяйственными постройками меж двумя почерневшими стогами сена. Однако оберштурмфюрер СС[2]Штубер понял, что идиллический хуторок на безлесье может стать для него гибельной ловушкой, поэтому снова нырнул в ольховник и, опасливо озираясь, начал уходить по кромке его вправо, постепенно оттягиваясь назад, чтобы пропустить погоню мимо себя и оказаться за спиной хотя бы первой волны русских. Вот именно, просочиться сквозь цепь преследователей, залечь, пересидеть, отдышаться… Хотя бы несколько минут для того, чтобы отдышаться… – вот все, чего он хотел сейчас от этого жаркого июльского дня, от удачи, от самой своей судьбы.
Тем временем бой у скалы постепенно затихал. Чувствовалось, что прижатые к ней диверсанты отстреливались последними патронами. Но Штубер молил Бога, чтобы агония эта продлилась еще хотя бы полчаса. До тех пор, пока окруженные у каменных выступов десантники из полка «Бранденбург» держатся, основная масса брошенных на подавление десанта русских будет прикована к ним. Освободившись, они сразу же начнут прочесывать окрестности укрепрайона и ближайшие села.
Еще какое-то время Штубер уходил по кромке ольховника, но как только почувствовал, что упорно пробивавшиеся через заросли русские окончательно потеряли его след, в отчаянном прыжке дотянулся до склона небольшого оврага, скатился по прелой перине прошлогодних листьев, дополз до ствола иссеченного осколками дуба и замер за ним. Позиция оказалась крайне неудачной – это он определил сразу же. Отсюда он не мог видеть ни опушки рощи, ни подходов к оврагу, а каждый возникший на склоне преследователь прошил бы его первой же очередью.
И все же, понимая это, Штубер не двинулся с места. Казалось, у него уже не было сил не то что выбираться из оврага, но даже пошевелиться. Несколько минут он так и лежал, прижавшись щекой ко все еще горячему стволу шмайсера, в рожке которого уже не осталось ни одного патрона, и полузабвенно закрыв глаза.
Оберштурмфюрер слышал, как, постреливая на ходу из винтовок, русские входили в рощу. Слышал их ругань, доносившуюся уже со склона долины, на которой они, взяв в осаду стога и постройки, приказывали сдаться укрывшимся там воображаемым парашютистам.
Но лишь когда шум преследования начал долетать издалека, уже, очевидно, из опушки леса по ту сторону долины, оберштурмфюрер наконец со всей ясностью осознал, что спасен. На какое-то время – спасен. И что времени этого у него осталось ровно столько, сколько понадобится одной части русских, чтобы расправиться с последними десантниками у скалы, а другой – чтобы вернуться из долины. Однако Штубер старался не думать об этом. Он блаженствовал. Будь его воля, здесь, на этой перине из травы и хвои, заночевал бы. Возможно, это была бы самая эдемская ночь из когда-либо проведенных им.
Затихли голоса. Совершенно неожиданно, как внезапно прерванная жизнь, умолк, отстучав последними выстрелами, охрипший пулемет. Однако спасительную лесную тишину, которая вот-вот должна была подступить к этому небольшому лесному урочищу, уже вспахивали явственно слышимые шаги, ревматическое потрескивание веток, приглушенные, еле выговариваемые сдавленными одышкой глотками проклятия.
Осторожно, стараясь не шелестеть листвой, Штубер подполз к кромке оврага, прижался плечом к стволу какого-то дерева и достал из-за поясного ремня небольшой швейцарский пистолетик, который у них, в диверсионной школе, называли «последней надеждой диверсанта».
Люди приближались со стороны укрепрайона и должны были пройти рядом с его укрытием. Однако непохоже, чтобы это был кто-то из его преследователей. Так натужно материться могут лишь в предчувствии схватки.
Первым из чащобы вырвался человек, обвешанный лохмотьями маскхалата. Штубер не успел присмотреться к его лицу, не узнал, кто это, тем более что знаком он был далеко не со всеми диверсантами, однако сразу же признал в нем своего, и, вполголоса скомандовав по-немецки: «Ложись!», тут же перехватил пистолетик в левую руку и выхватил нож.
Залегать бранденбуржец вроде бы и не собирался, но, услышав окрик на немецком, глянул в сторону Штубера, споткнулся то ли о полегшую ветку, то ли об оголенный корень и, пробравшись еще несколько метров на четвереньках, уткнулся головой в едва выступающий из листвы пень.
«А ведь автомата у него нет! – успел заметить Штубер. – Неужели выбросил, как только кончились патроны? Так не воюют».
Еще через несколько мгновений в приовражной низинке появился и преследователь. Поначалу Штуберу показалось, что русский бежит прямо на него, но был он еще достаточно далеко, а пистолетику своему оберштурмфюрер в таких ситуациях не доверял.
Штубера русский, очевидно, не заметил только потому, что хищным взглядом охотника намертво был прикован к упавшему у пня десантнику.
Он бежал, тяжело хлопая сапогами, еще издали разя Штубера окопным потом, и при этом так налегал грудью на диск прижатого к гимнастерке ручного пулемета, словно пытался поддерживать себя этой нелегкой ношей.
Был ли у него в диске еще хотя бы один патрон? Возможно, и был. Но он берег его, поскольку другого диска Бог ему не послал. Автомата у него за спиной тоже не видно.
А десантник – вот он. Уже немолодой, с подсеребренными волосами, привалился к пню и дышит так, словно вот-вот вместе с кровью начнет выплевывать куски растерзанных легких. Достигнув его, русский опустил пулемет, перехватил обеими руками ствол так, чтобы можно было, в случае надобности, с ходу ударить им бранденбуржца, но в тот самый момент, когда, оказавшись в двух шагах от него, преследователь – невысокого роста, с тонкими раскоряченными ногами, на которых он бежал так, словно только что вырвался из больничной палаты для ревматиков, – начал медленно поднимать свою стальную дубину, Штубер резко привстал и нажал на спусковой крючок.
Выстрел прозвучал не громче хлопка детских ладошек, поэтому, не поверив ему, оберштурмфюрер выстрелил еще раз, прямо между лопаток, и тотчас же выхватил из-за голенища нож.
Увидев, что, привалившись к стволу сосны, красноармеец медленно оседает, Штубер хотел было послать в него еще один патрон из своего «швейцарца», но в последнее мгновение передумал и резко, от бедра, метнул в него нож. Когда еще представился бы случай освятить его, по германскому обычаю, кровью врага?
– А, это вы, оберштурмфюрер… – каким-то совершенно угасшим, безразличным голосом признал его обессилевший десантник, как только Штубер добил русского ударом ножа.
– Самому с трудом верится. Но ведь поди ж ты…
Штубер успел заметить, что, глядя на надвигавшегося на него русского, этот «бранденбуржец» даже ничего не пытался предпринять, что могло бы спасти его. Очевидно, он был из тех, кто ставит на себе крест значительно раньше, чем это сделает противник.
– Спасли. Должник я ваш, так вроде бы получается…
– Можете не сомневаться, на всю жизнь – должник, – выдернул окровавленный нож из подреберья солдата Штубер. И кровь вытирать не спешил. Вид ее пьянил, как кровь на мече рыцаря.
– Честь имею. Напоминаю: лейтенант вермахта, он же бывший поручик Белой гвардии Розданов. Грибные места здесь, не правда ли, оберштурмфюрер?
– Возможно, в свое время мы действительно знакомились… – устало опустился по другую сторону огромного полуистлевшего пня Штубер.
– Так точно.
– Только я вас что-то не припоминаю.
– Не мудрено. С некоторых пор меня мало кто запоминает. И я вспоминаю – тоже неохотно.
– Война – времена изгоев. Так где и при каких обстоятельствах?
– Отложим воспоминания для более благостных времен. Вы что, тоже из русских?
– Из саксонцев, с вашего позволения. Странно, только сейчас уловил, что говорю с вами не на немецком.
Пулеметчик вдруг ожил и прополз с полметра в сторону десантников, словно все еще намеревался сразиться с ними. Упокоился же он, только привалившись на свой «дегтярь» и уткнувшись теменем прямо в подошву сапога Розданова.
Одна из пуль, очевидно, легко ранила русского в голову, и теперь кровь густо окрашивала его короткие пшеничные волосы. Но, похоже, ни отодвинуть его, ни отстраниться самому сил у Розданова уже не было.
– Саксонец, говорите? С таким истинно русским лапотно-рязанским говором?
– Наконец-то я хоть чем-то сумел удивить вас, поручик, – прокряхтел Штубер, поднимаясь. Пробежка по зарослям под дулами русских трехлинеек все еще давала знать о себе. – Благодарите Бога, что на вас остались эти лохмотья. Иначе первым пришлось бы уложить вас, а не этого волонтера.
– Окажите любезность, оберштурмфюрер, уложите. В этом больше чести, нежели бегать по лесам, спасаясь от местных провинциальных мерзавцев.
– «Провинциальных мерзавцев»?.. – хмыкнул Штубер. Определение явно импонировало ему.
– Вот именно.
– Этот неистребимый снобизм белогвардейских офицеров!.. – с ироническим пафосом процедил оберштурмфюрер. – Представляю себе, каково вам было с ним там, в России, в завшивленных траншеях офицерских батальонов.
– А мы в траншеях бывали очень редко, оберштурмфюрер. Отборный батальон дроздовцев. В основном нас бросали на прорыв. Тех, кто уцелел, отводили потом на постой. Окапывались же полевые части Добрармии.
– Понятно, элита.
– Зато на прорыв шли под барабанный бой. Со знаменами. Ничего не скажешь, красиво шли…
– Это немало значит: красиво идти на смерть, – заметил Штубер, прижавшись грудью к сосне и внимательно осматривая окрестности. Никого. Неужели русский преследовал Розданова в одиночку? Лихой парень.
Словно услышав его, русский вновь дернулся и то ли застонал, то ли прохрипел. Пораженный его живучестью, Штубер опять метнул в него нож.
– …И вот, дошли, – запоздало отреагировал на его слова белогвардеец. – Возвращаемся на свою землю в обозе германцев. Я вас не обидел, оберштурмфюрер?
Штубер молча сбросил маскхалат и, оставшись в форме красноармейского лейтенанта, вновь выдернул из убитого нож. Уже держа его в руке, словно хотел броситься на Розданова, эсэсовец прислушался к тому, что происходило в долине. Несколько выстрелов прозвучали совсем близко. Однако вряд ли там мог находиться кто-либо из «бранденбуржцев». Очевидно, преследователи яростно «расстреливали» подозрительные заросли.
– Встать, поручик, встать! – оберштурмфюрер вытер пучком травы нож и сунул его за голенище сапога.
– Нет сил.
– Я сказал: встать! Сбрасывайте свои салонные лохмотья. Что там у вас под ними?
– Цивильное.
– Тогда примеряйте это, с убитого.
– Хватит того, что эти провинциальные мерзавцы заставили меня одеться в цивильное. Но снимать с трупа…
– Прекратить болтовню, – осек его Штубер, переходя на немецкий. К пулевым и ножевым отверстиям на гимнастерке он подносил зажигалку, и через несколько мгновений на месте их образовывались небольшие прожоги. – Вот так, дезинфекция и гигиена, – явно остался доволен своей смекалкой. – Быстро снять, переодеться. Следовать за мной. Заплату наложите, когда окажемся в безопасности.
Оберштурмфюрер выдернул из-под убитого пулемет, проверил. Странно: в диске все еще оставалось несколько патронов. На короткую очередь вполне хватило бы. Очевидно пулеметчика погубило тщеславие: захотелось во что бы то ни стало привести пленного.
– Как же он преследовал меня, провинциальный мерзавец! – тяжело поднимался Розданов. – Он ведь загнал меня, как гусарского жеребца.
– Быстрее, лейтенант, быстрее. Иначе придется пристрелить и вас. Не оставлять же такую «находку вермахта» врагу, – нервно торопил его Штубер, наблюдая, как тот медленно, брезгливо стаскивает с убитого обмундирование.
Он конечно же бросил бы Розданова, будь этот человек немцем. Но Бог послал ему в спутники русского! С чистым, петербургским, насколько он понимает, произношением. Это-то и поможет, когда придется предстать перед советскими офицерами.
5
Сняв гимнастерку, Розданов не спешил облачаться в нее, а обвязал рукавами вокруг себя и в таком виде подхватил вместе со Штубером тело пулеметчика. Замаскировав его листьями и ветками в соседней лощине, они еле успели спастись от цепи возвращающихся в лес красноармейцев, решивших еще раз прочесать этот участок леса до границ укрепрайона. Они замерли в небольшой ложбинке, прикрытой ветками молодой ели, в трех шагах от того места, где прошел русский офицер, и не заметил он диверсантов только потому, что на несколько мгновений отвлекся, подгоняя отставших солдат. «В цепь, в цепь! – рявкал он. – Не терять друг друга из виду!»
– Они ведь еще и службы не знают, провинциальные мерзавцы, – на ухо Штуберу проворчал поручик, как только спина красного командира скрылась в кустарнике.
– Так пойдите подмуштруйте их, – язвительно посоветовал Штубер. – Вам за это воздастся.
– Но ведь действительно обмельчали. Ни дисциплины, ни толковых офицеров.
– Самых толковых они перестреляли в Гражданскую, – не отказал себе в удовольствии Штубер. Все равно следовало несколько минут вылежать: вдруг позади вторая цепь или контрольный арьергардный дозор. – Уцелевшие же спасаются в эмиграции, пытаясь поучать: кто англичан, а кто германцев.
Розданов хотел что-то ответить, но Штубер захватил его за загривок и ткнул лицом в листву.
– Не дышать, – едва слышно приказал бывшему белогвардейцу. Расчет оказался верным: русские действительно пустили вслед за цепью арьергардные дозоры, которые должны были перехватывать прорвавшихся сквозь цепь. Один из таких дозоров, в составе троих бойцов, прошел метрах в десяти от них, полукругом охватывая поросшую кустарником лощину.
Розданову хотелось поскорее добраться до реки и попытаться переправиться на правый берег. Он понимал, что Штубера, как немца, могут взять в плен и поместить в лагерь. Его же, русского и бывшего белогвардейца, пленным офицером армии противника считать не будут, а повесят, как предателя. В лучшем случае, расстреляют. И конечно же не перед строем.
Именно боязнь оказаться в руках своих соотечественников и гнала его к Днестру. Он и сейчас продолжил бы путь к реке, хотя здравый смысл подсказывал ему: спасение только в более глубоком тылу русских. Подальше от укрепрайона, от места высадки, от скоп-ления войск.
– Вы что, решили пригнать меня к Москве раньше дивизии СС «Дас рейх»? – вспыхнул Розданов, когда Штубер буквально под дулом пистолетика заставил его свернуть с кромки леса на поросший мелким ольховником склон долины.
– Понимаю, для вас предпочтительнее Санкт-Петербург.
– Хватит того, что ваши провинциальные мерзавцы забросили меня на левый берег Днестра раньше всех авангардных войск.
– Слишком многословны, поручик, – Штубер решил обращаться к нему так, употребляя более высокий чин Розданова, к тому же полученный еще в Белой гвардии. – Идти будете туда, куда прикажу. А что касается азов диверсантской науки, то преподам их вам чуть позже.
– Мне-то казалось, что я их уже получил.
В ответ Штубер снисходительно оскалился: «Русско-офицерская самонадеянность. И спесь. Развернутым строем, под знаменами, плечо в плечо и под барабанную дробь. Психическая атака, видите ли… При такой-то плотности огня! Довоевались!»
Просмотр белогвардейской кинохроники и советских «революционных» фильмов был когда-то одним из элементов подготовки в разведшколе. Поэтому Штубер знал, с кем имеет дело.
Но и Розданов тоже понимал, кого судьба послала ему в попутчики. И даже предполагал, что эсэсовской элите еще только надлежит сформироваться и что со временем не только Германия, но и вся Европа может получить вышколенную, огнем и словом закаленную военно-политическую касту.
Улыбка этого рослого, смуглолицего, совершенно не похожего на немца верзилы – впечатляла. Как и его внешность. А еще поручику бросилось в глаза, что ведет себя оберштурмфюрер как-то слишком уж уверенно, словно оказывался в этих краях и в подобной ситуации по крайней мере раз десять; при этом – никакого красования; и эта манера говорить – холодно, властно и с чувством нескрываемого превосходства…
– Вас готовили в диверсионной школе? – негромко поинтересовался оберштурмфюрер, когда, спустившись в долину, они перебрели через каменистую речушку и короткими перебежками начали приближаться к чернеющему на опушке леса сараю с сеновалом. Новое, добротное строение это стояло метрах в пятидесяти от дома, на возвышенности, и вместе с ним составляло чуть отколовшийся от деревни хуторок. Более удобного места для того, чтобы передохнуть и привести себя в порядок, даже трудно было себе представить.
– Будем считать, что в школе. На самом деле – нечто вроде ускоренных курсов: прыжки с парашютом, рукопашный бой, диверсии на дорогах… Добровольцем в вермахт я попросился только в марте сорок первого. Когда понял, что от похода на Россию вашему фюреру не удержаться.
– Так вы еще и доброволец! Тогда в чем дело, поручик? Я не должен слышать никаких роптаний.
Подбежав к сараю, Штубер ударом сапога толкнул дверь и, пригнувшись, нырнул внутрь. Никого. Прикладом пулемета и каблуками сапог оторвал в нижней части две доски задней стенки, чтобы обеспечить себе отход к лесу, и настороженно осмотрел опушку.
– В вашем распоряжении, поручик, полчаса. Отдышаться, залатать гимнастерку, вырезав лоскут из нижней ее части, а главное, застирать кровь на воротнике.
* * *
Штубер еще раз осмотрел пулемет, повозился с ним, чтобы лучше освоиться с русским оружием, проверил пистолет. Из вещмешка, который ему перед заброской выдали вместо привычного немецкого ранца, он достал кобуру с русским пистолетом и пристроил ее к ремню. Оттуда же он извлек красноармейскую офицерскую фуражку.
– Так с какой это стати вы решили стать добровольцем доблестного вермахта? – поинтересовался он, надев фуражку и полюбовавшись на себя в маленькое дамское зеркальце. – Неужели столь сильно прониклись духом национал-социализма?
При слове «социализма» Розданова буквально передернуло.
– Какого еще социализма? – презрительно процедил он, стаскивая с себя гимнастерку.
– Национал, поручик, национал… батенька. Но социализма. По Марксу – Ленину определяемся, – осклабился оберштурмфюрер СС. Так что с большевичками вашими нам больше по пути, нежели с вами, отрыжкой капитализма.
Розданов понимал, что германец откровенно издевается над ним, но сейчас не время для ораторских диспутов.
– Я уже объяснил: немецкая армия меня интересует постольку, поскольку она совершает поход на Россию.
– Это не поход, поручик. Это война. После которой от той, прежней вашей России останутся лишь смутные воспоминания.
– От этой, прежней нашей России, оберштурмфюрер, уже давно остались только воспоминания. Поэтому я и пришел в ваше воинство, что хочу возродить ту, нашу, Россию.
Штубер снисходительно ухмыльнулся.
– Это вы, Розданов, о той, «единой и неделимой», которой все наши эмигранты буквально грезят?!
– Да, о той.
– Ну, знаете… Не советовал бы заблуждаться на сей счет, – проговорил он, внимательно осматривая хорошо открывавшийся из дверного проема склон долины. – Но если вы истинный офицер, – тут же решил подсластить преподнесенную Розданову пилюлю, – то конечно же сумеете влиться в немецкое офицерское братство. Возможно, даже станете офицером войск «зеленых СС». В конце концов, вы служите в лучшей, дисциплинированнейшей и преданнейшей своей государственной идее армии. Вы не могли не понять этого. Ну а в случае победы, когда с большевиками будет покончено, вы тоже не будете забыты, поручик. Надеюсь, хоть что-нибудь да осталось в России от вашего бывшего имения?
– Вряд ли.
– Ничего, отстроите. Как офицеру, вам выделят гектар-другой земли.
– Меня не жадность ведет сюда, оберштурмфюрер…
– А ненависть.
– Точнее будет сказать – месть.
– Если вы ожидаете, что я начну распространяться по поводу того, что ненависть – плохая советчица, то зря. Ненависть – святое чувство, способное повести воина на любой подвиг. Но только воина. Если же она становится достоянием труса, – а такое случается довольно часто, – тогда это уже не подвиг, а гнусная месть.
Розданов промолчал, но Штубер и не требовал его ответа. Выйдя из их случайного укрытия, Штубер приблизился к жердям, которые служили воротами, и, налегая на верхнюю из них, какое-то время всматривался в поросший кустарником гребень склона. Он специально вышел сюда, чтобы привыкнуть к обстановке, привыкнуть к своей красноармейской форме, вжиться в роль красного командира. Он знал, как это трудно: покинуть укрытие в тот момент, когда нужно предстать перед врагом, без «обживания местности», без уверенности в том, что ты готов встретиться с ним лицом к лицу, выдавая себя не за того, кто ты есть на самом деле.
– И каковы наши дальнейшие действия, оберштурмфюрер? – появился рядом с ним Розданов.
– Товарищ командир…
– Не понял.
– Пока мы в тылу у красных, обращаться ко мне только так, как принято у них.
– Так что же мы предпринимаем дальше, товарищ командир?
– Ждем, отдыхаем, проясняем ситуацию…
– Здесь, в этом сарае?
– Или в лучшем из домов ближайшего села. В общем-то задание мы выполнили. Теперь главное – дождаться наступления вермахта и румын, чтобы удачно «сдаться» своим. Кстати, о сдаче. Вам не приходило в голову, поручик, что как русский человек вы не на той стороне воюете?
– Если вы пытаетесь устроить мне проверку, то это бессмысленно, – подергал Розданов боковую опору ворот. Сейчас он напоминал хозяина, который, вернувшись из дальних странствий, выясняет, в каком состоянии находится его дворовое хозяйство. – Проверен десятки раз. И потом, в отличие от вас, оберштурмфюрер, простите великодушно… товарищ командир, у меня с красными свои, личные счеты.
– Вот оно что?! – ухмыльнулся Штубер, давая понять, что не воспринимает этот аргумент всерьез.
– И в этом смысле я намного надежнее и упорнее большинства ваших солдат, для которых сдаться в плен – означает спастись, отсидеться, пережить… Для меня плен – это позор и… расстрел.
– Успокойтесь, поручик, это не проверка. Просто я хочу уловить ход ваших мыслей; понять, как вы, русский, чувствуете себя, поднимая оружие на русских, стреляя в своих единокровных.
– Примеряетесь к психологии предателя на тот случай, если вам, германцу, придется стрелять в своих же, германцев?
– Видите ли, сударь, я, в некотором роде… психолог. – Розданов непонимающе покачал головой, мол, при чем здесь это? – Психолог войны, если хотите. Мне уже несколько раз приходилось консультировать по вопросам психологии противника высоких чинов из разведки и контрразведки. Имен не называю, не положено…
– То есть, по профессии вы психолог, а не военный, я верно все понимаю?
– Скорее, профессиональный военный, увлеченный психологией. А еще точнее, профессиональный психолог войны.
– Так вот, «психолог войны», вы должны были бы помнить, что рядом с вами не просто русский, а бывший белогвардейский офицер. А это значит, что он уже успел вдоволь навоеваться против своих же, русских, во время Гражданской войны; а главное, приучен к мысли, что существуют «русские свои» и «русские чужие». Так вот, армия, против которой я сейчас воюю, это армия «чужих русских», в борьбе с которой армия германцев воспринимается мною исключительно как армия союзников.
Штубер хотел что-то ответить, но запнулся на полуслове: он вдруг явственно услышал топот многих копыт и зычный голос командира.
«Неужели кавалерия?! – не поверил своему слуху оберштурмфюрер. – Не может быть! Впрочем, почему не может быть?»
Вместе с Роздановым они метнулись к углу огражденного подворья. А еще через минуту из села вырвалось до полусотни всадников на рослых, истинно кавалерийских конях. На полном аллюре они неслись мимо сарая в сторону Днестра, в сторону укрепрайона.
Впрочем, Штубера и Розданова не очень-то интересовало, куда именно направляется это конное подразделение. Поражал сам факт, что здесь вдруг появились кавалеристы, которые словно бы возникли откуда-то из другого времени, другой эпохи – эпохи Гражданской войны, материализуясь из воспоминаний бывшего белогвардейского поручика Розданова. Всадники рассыпались по луговой равнине и атакующей лавой устремились к лесу.
– Они что, там, в красных штабах, совсем обезумели?! – не удержался поручик, когда, не обращая внимания на стоявших у сарая красноармейцев, до полусотни всадников втянулось в лесную дорогу, уводящую за изгиб долины. – На крутых склонах Днестра хотят противопоставить германской авиации, артиллерии и танкам свою сабельно-карабинную кавалерию?
– Именно это красные и намереваются делать. Я вспомнил, что, согласно агентурным данным, доты будут прикрывать кавалерийские полуэскадроны[3].
– Вы это серьезно?!
– Я никогда не принадлежал к людям, которых считают шутниками, поручик, тем более, когда речь идет о военной тактике врага.
– Представляю себе эту сцену: по крутым склонам Днестра, от дота к доту, с шашками наголо носятся лихие кавалеристы, представляя собой идеальные мишени для всех видов оружия противника, начиная от авиации и заканчивая шмайсерами и румынскими карабинами.
Словно подтверждая слова Розданова, со стороны реки появилось звено немецких самолетов. Заметив кавалерийский отряд, пилоты снизили свои машины и устроили своеобразную карусель, упражняясь в прицельном бомбометании и расстреле движущихся наземных целей из пулеметов. Причем оба офицера были удивлены, обнаружив, что за все то время, пока продолжался налет, в небе не появилось ни одного советского самолета, а земля не отозвалась ни одним выстрелом зенитки.
Проводя разворот над сараем, возле которого находились диверсанты, пилот одного из самолетов тоже прошелся по ним пулеметной очередью, да так, что пули легли буквально в полуметре от Штубера, который в отличие от Розданова так и остался стоять.
– Что, оберштурмфюрер, уверены, что «своя» пуля не тронет? – несколько уязвленно поинтересовался Розданов, поднимаясь из зарослей лопухов.
– Просто привыкаю к обстрелу, к фронтовой обстановке, – спокойно объяснил Штубер, глядя вслед улетающему самолету.
– Как думаете, когда германские подразделения достигнут этой деревни?
– Как только сломают оборону Могилевско-Ямпольского укрепрайона. А сделать это не так-то просто. Во-первых, здесь мощные, скальные доты. Во-вторых, Советы все еще держат оборону на том, правом, берегу Днестра. Хотя вся остальная часть Молдавии уже под контролем вермахта и румын.
– Значит, я так понимаю, что вскоре, вместе с коммунистами, мы окажемся в котле.
– Не исключено. И тут уж нам, двум опытным диверсантам, будет где разгуляться.
«Увидим, как ты “разгуляешься”, когда действительно окажешься в двойном котле: своих и красных», – заметил про себя поручик, окидывая оберштурмфюрера уничтожающим взглядом.
6
…Подождав, пока Гейнхард Гейдрих и Вальтер Шелленберг усядутся друг против друга за приставной столик, Гиммлер еще несколько мгновений внимательно рассматривал их, стоя посреди огромного кабинета, и только потом уже занял свое место за массивным дубовым, покрытым черным бархатом столом, на левом конце которого красовался металлический, очень напоминающий пушечное ядро глобус.
Упершись худощавыми, смуглыми кистями рук в крышку стола, рейхсфюрер СС с силой оттолкнулся от нее, зацепился затылком за спинку кресла и, передернув поросшей короткими рыжеватыми усиками верхней губой, процедил:
– Только что у меня состоялась встреча с фюрером.
Гейдрих и Шелленберг переглянулись; теперь они понимали, почему идти на прием пришлось на день раньше. И только сейчас бригадефюрер по-настоящему оценил ту скупую похвалу, которой одарил его Гейдрих в приемной Гиммлера. Услышав о том, что Шелленберг все же успел подготовиться к докладу, он обронил:
– Вы значительно дальновиднее, Шелленберг, нежели я предполагал. Постарайтесь и впредь оставаться таким же, не полагаясь ни на чью иную интуицию, кроме своей собственной.
– Я внемлю этому мудрому совету.
Вот и сейчас, сидя у Гиммлера, шеф РСХА изобразил некое подобие ухмылки. Если бы рейхсфюрер СС заметил ее, она показалась бы ему слишком уж неуместной. Но Шелленберг знал, кому она предназначалась, и воспринял ее как намек на извинения.
– Во время беседы с фюрером у нас возникло немало вопросов, которые необходимо обсудить с вами, Гейдрих. А вас, Шелленберг, – сразу же разъяснил ситуацию рейхсфюрер СС Гиммлер, – я пригласил потому, что по крайней мере два из них касаются непосредственно вашего управления, а значит, и лично вас.
– Понимаю, господин рейсхфюрер.
Гиммлер выдержал многозначительную паузу, словно трагик, настраивающийся на «монолог перед казнью», и продолжал:
– О том, что фюрер намерен начать войну против России, вам уже известно.
Хотя Гиммлер все еще продолжал расстреливать их своими свинцовыми стеклами, Шелленберг воздержался от реакции на его слова, предпочитая дождаться, когда ответит шеф РСХА. И тот ответил так, как и должен был отвечать чиновник от разведки:
– Всего лишь в очень общих чертах. Без дат, направлений основных ударов и прочих деталей.
И в ответе этом прозвучало и предупреждение: ничего лишнего, чего знать им не положено, они не знают, и откровенная провокация, с расчетом на то, что Гиммлер наконец-то посвятит их в те детали предстоящей кампании, которые им, как генералам службы имперской безопасности, все же надлежит знать. Хотя бы во имя имперской безопасности.
– Что ж, – прекрасно понял его рейхсфюрер, – кое-какой информацией я могу поделиться с вами уже сейчас. Хотя, как вы понимаете… Еще совсем недавно наша пропаганда умиротворяла германцев всевозможными размышлениями о благах, которые принес нашему народу советско-германский «Договор о ненападении»[4]. Само собой понятно, что теперь мы не можем объявить войну коммунистам, не подготовив свое население и армию к этому акту; я имею в виду подготовку пропагандистскую, не объяснив германскому народу, почему мы вынуждены, нет, крайне вынуждены, в силу самих сложившихся обстоятельств, нарушить этот договор и начать боевые действия. Вам это понятно, Гейдрих.
– Да, рейхсфюрер, – угрюмо произнес начальник Главного управления имперской безопасности. И угрюмость эта была настолько необъяснимой и пессимистической, что Гиммлер на какое-то мгновение запнулся, не зная, как ее следует воспринимать. Именно поэтому он искоса взглянул на Шелленберга.
– Это и в самом деле требует пропагандистского разъяснения, господин рейхсфюрер СС, – с готовностью отозвался сотрудник управления шпионажа и диверсий РСХА, полагая, что таким образом он приходит на помощь своему от природы угрюмому шефу. – Тем более что этот договор имел секретный дополнительный протокол, о котором советская пропаганда до сих пор молчала, но который она может активно эксплуатировать во время пропагандистской войны.
– Вот именно, «пропагандистской войны». То, что мы обсуждали сегодня с фюрером, больше всего касалось именно ведения пропагандистской войны, – ухватился Гиммлер за подаренный Шелленбергом термин. – Причем наше пропагандистское наступление должно быть направлено одновременно и на германский и на советский народы. Разумеется, о последнем речь пойдет тогда, когда появятся первые оккупиров… то есть я хотел сказать – освобожденные от коммунистов районы, – тотчас же уточнил Гиммлер, вспомнив об основополагающем принципе всякой пропаганды: быть предельно точным в вынужденной лжи и предельно лживым в вынужденной правде. А пока что фюрер мудро решил, что о начале русской кампании он должен возвестить германский народ и весь мир своим особым воззванием к германскому народу, выраженному в яркой, убедительной речи в духе фюрера и Третьего рейха.
«Неужели они с фюрером решили, что это «Воззвание» должен подготовить я?! – вдруг похолодело в груди Шелленберга, до которого только теперь дошло, зачем его собственно пригласили. – Но почему я? Ведь существует же Геббельс со всей его камарильей, всей пропагандистской и журналистской братией. Так какого дьявола?!»
– Высказывая эту идею, фюрер обратился к опыту начала войны на Западном фронте. А тогда, как вы помните, к воззванию были приложены лаконичные, но очень емкие сообщения Верховного командования вермахта. Теперь сообщений не будет, но будут факты, уверяющие, что в данном случае наша армия готова к победному маршу на Восток и что без этого натиска на Восток дальнейшая история Рейха немыслима; и будут сообщения министерства иностранных дел, предельно ясно доказывающие, что и сами русские уже готовы к броску на территорию Рейха и что наша главная военная цель – упредить нападение коммунистов на его священные границы. Не мешало бы также использовать в этом воззвании и столь же лаконичное, но емкое сообщение министерства внутренних дел, которое убеждало бы нас, с одной стороны, в единстве германского народа, его вере в фюрера и сплоченности вокруг него, а с другой стороны, в том, что к моменту нападения на нас Красной армии в Германии поднимут головы ее самые страшные враги – коммунисты и прочие жидомасоны, к деятельности которых германские власти до сих пор были предельно терпимы. Предельно… – подчеркнул Гиммлер, – многотерпимы. И когда я напомнил об этом фюреру, он высказал пожелание, чтобы в воззвании было использовано и мое сообщение как шефа германской полиции[5].
«То есть Гиммлер свое участие в подготовке «Воззвания» определил, – уяснил для себя Шелленберг. – Осталось выяснить, кто будет основным сочинителем воззвания. Хотя… Даже если он поручит это Гейдриху, тот все равно свалит сию работенку на меня. Но тогда я останусь еще и безвестным исполнителем этого приказа. Так что лучше уж пусть…»
– Подчеркиваю: все эти документы должны быть предельно убедительными и такими же… пропагандистски выразительными. И в этих материалах, и в самом «Воззвании» обязательно должны прозвучать тревога и решительность по поводу подрывной деятельности на территории Рейха Коммунистического интернационала, так называемого Коминтерна, – произнес Гиммлер именно так, как обычно произносили это слово дикторы советского радио. – Германцы должны осознать, что никто из них не сможет отсидеться в своем доме, не ощутив на себе воздействия коммунистической заразы, ибо уже сейчас она у каждого нашего порога.
Когда после этих слов он, наконец, остановил свой блуждающий взгляд на Гейдрихе, тот поневоле напрягся и его собственный взгляд напоминал взгляд загипнотизированного удавом кролика. И это Гейдрих, которого в рядах национал-социалистов давно именуют «человеком с железным сердцем». Тем более что ни для кого не было секретом, насколько близкими стали в последние дни отношения Гиммлера и Гейдриха.
Они и в самом деле оставались близкими, но все же психологически Гейдрих проигрывал Гиммлеру. И если в начале общего пути они поднимались к вершинам власти рейха, врастали в его корни и крону, как союзники и соратники, то уже в сороковом году у Гейдриха начали проявляться все признаки и симптомы психологии подчиненного, помощника и, что имело принципиальное значение, «человека на вторых ролях». Как в театре, когда у актера, который, убедительно заявив себя в амплуа характерного героя и актера, способного потянуть любую заглавную роль, вдруг постепенно начала развиваться психология «актера второго плана», а то и «актера массовки».
Словно бы вычитав мысли Шелленберга, рейхсфюрер СС вдруг резко перевел взгляд на него.
– Я понимаю, Вальтер, что вы не волшебник и что у вас нет опыта создания подобных «воззваний», вообще подобного рода значимых документов, – произнес он, давая понять, что давно, с самого начала их встречи, Шелленберг должен был уяснить для себя, почему он здесь и кому будет отведена роль жертвенного агнца. – Как понимаю и то, что сутки, которые отведены всем нам для сотворения этого судьбоносного документа, срок убийственный. Но попытайтесь сделать все возможное. Группенфюрер Гейдрих проследит за тем, чтобы вас обеспечили всеми необходимыми документами, причем сделали это сегодня же, в кратчайшие сроки. Так что не теряйте времени.
– Приступаю немедленно, – кротко ответил Шелленберг, содрогаясь от одной мысли, что буквально через несколько минут ему придется предстать перед чистым листом бумаги, на котором нужно будет начертать: «Воззвание к германскому народу». При этом никто не смог бы убедить его сейчас, что когда-нибудь в его голове появятся слова, достаточные для того, чтобы фюрер, вооружившись ими, мог предстать перед всем миром в образе человека, развязывающего новую мировую войну.
– Кстати, – не дал ему опомниться Гиммлер, – в ходе обсуждения этого вопроса фюрер пожелал, чтобы в «своем воззвании» он коснулся порядком всем нам поднадоевшего дела этого румына Хории Симы[6].
Услышав имя руководителя румынской фашистской организации «Железная гвардия», Гейдрих непроизвольно ударил ладонями по столу, почти у самых рук Шелленберга, и, откинувшись на спинку кресла, тотчас же повернулся вполоборота к Гиммлеру. Они все трое знали – как знал это и сам фюрер, – что все, что касается Хории Симы, самым непосредственным образом касается и лично его, Гейдриха, его профессиональных качеств, его карьеры, его государственного и политического реноме. Еще в прошлом году Гиммлер, Гейдрих и, что особенно важно, сам Гитлер были единодушны во мнении о том, что румынский диктатор маршал Антонеску – «не совсем тот человек», которого Германии хотелось бы видеть во главе союзной Румынии, когда речь пойдет о совместном выступлении против Советского Союза. В роли маршала, в роли главнокомандующего румынскими войсками – еще куда ни шло. Но только не в ипостаси главы государства.
Никто не мог усомниться, что у Румынии нет более подготовленного военачальника, как и в том, что Антонеску, несомненно, поддержит вступление Германии в войну против коммунистов. Но при любом раскладе политических сил и при любом исходе войны Антонеску так и останется всего лишь диктатором и румынским националистом, грезившим созданием Великой Румынии, от Дуная – до Крыма, а возможно, и предгорий Кавказа. Но в Берлине этого казалось мало. В его апартаментах считали, что сейчас «Великой Румынии» нужен еще и свой «великий дуче». И желательно не в настолько аляповатой копии, насколько он воспроизведен в образе его итальянского «оригинала».
– Вы, Гейдрих, понимаете, что всякое упоминание о руководителе «Железной гвардии» в таком документе, как воззвание, только усилит неприязнь Антонеску к Германии и лично к фюреру, – и в голосе Гиммлера впервые проявилась такая жестокость, которая сразу же определяла: «В этом вопросе я вам, господа из РСХА, не защитник. И к фюреру в виде просителя – не ходок».
– Что совершенно естественно, – так же жестко ответил «человек с железным сердцем».
– Но для нас это слишком опасно, поскольку неминуемо всплывет идиотская история с провалом путча «железногвардейцев» против Антонеску и бегство Хории Симы в Германию.
– Сейчас упоминание этого имени – крайне нежелательно, – почти прорычал Гейдрих, не понимая, как вообще «дело» Хории Симы могло возникнуть при решении такого вопроса, как появление «Воззвания к германскому народу». Почему Гиммлер допустил его появление и почему сразу же не разубедил фюрера в намерении извлекать на свет политический этот частный и давно неактуальный случай?
– Так должен ли я буду отговорить фюрера, отсоветовать ему прибегать к этому демаршу, или же пусть он совершает его? – неожиданно спросил Гиммлер, окончательно загнав этим обоих своих собеседников в логический тупик.
Гейдрих был поражен двурушничеством Гиммлера. И это он, рейхсфюрер СС, прямо замешанный в деле Симы, смеет выяснять у него, Гейдриха, стоит ли ему отговаривать фюрера?! Как будто у него есть выбор! Как будто он имеет право допустить, чтобы все, начиная от людей, которые будут готовить материалы для Шелленберга, бросились копаться в этой корзине с протухшим румынским политическим бельем. Еще раз открывая для себя всю бездарность не только руководства «Железной гвардии», но и руководства СС, руководства Главного управления имперской безопасности.
7
Из полученных им в штабе объяснений, Громов знал, что дот командира батальона майора Шелуденко находится во второй полосе укрепрайона и искать его следует в полутора километрах от села Подольская Каменица. Однако сейчас, после нападения германских десантников, эти объяснения уже мало помогали. Отправляясь в путь, он полностью полагался на водителя мотоцикла, и теперь отчаянно шел напрямик, каменистыми отрогами небольшой возвышенности, смутно представляя себе, в каком именно направлении он должен двигаться, и беззаботно радуясь тому, что сумел в этой стычке выжить.
Вырвавшееся из-за холмистой гряды звено германских самолетов прошло так низко, что на какое-то мгновение лейтенанту показалось, будто вся тройка самолетов пикирует на него. Но устало бредший по склону долины одинокий солдат совершенно не привлекал внимания пилотов. Натужно содрогая моторами воздух и землю, они провели свои могучие машины между скалистыми холмами по ту сторону низины и исчезли в поднебесной дымке. Но как только гул их моторов растворился в заоблачной дали, с запада, из-за Днестра, стало доноситься нечто похожее на приглушенные расстоянием раскаты грома. И лейтенанту не нужно было гадать, что это на самом деле: увертюра приближающейся грозы или залпы орудий. И чьих именно – уже не имело значения. Важно, что раскаты эти раздавались значительно ближе, нежели были слышны еще сегодняшним утром.
Пройдя по кремнистому склону примерно полкилометра, Громов за изгибом гряды вдруг увидел старую полузаброшенную каменоломню, посреди которой, под каменистым карнизом выступа, притаились домик смотрителя карьера и длинное строение, напоминающее то ли мастерскую, то ли склад. Громов понял, что каменоломня находится на окраине села, поскольку в проломе оголенного каменистого хребта отчетливо просматривались дымоходы крестьянских хат. Ему не верилось, что война может дотянуться и до этого укромного уголка, поэтому сразу же ощутил себя успокоенным и защищенным.
Еще издали Громов увидел выставленные у стены мастерской огромные каменные кресты, надгробные плиты и погребальные стелы и понял, что в этом ущелье, сотворенном не столько природой, сколько многими поколениями камнетесов, как бы сходятся на полпути к подземному царству два мира – живых и мертвых.
Тропа проходила мимо каменоломни, однако Громову захотелось заглянуть в этот уголок, соприкоснуться с тем мрачным видом искусства, где зарождались все эти фигурные, с вычурной резьбой кресты, стелы и надгробные камни. Это был мир, с которым ему никогда раньше не доводилось встречаться и который всегда таил в себе некую, почти неземную, тайну.
Но как только он свернул с обходной тропы на ту, что вела в глубь каньона, прозвучал выстрел и, ударив о скальный выступ буквально у локтя лейтенанта, пуля рикошетом пронеслась у самого его затылка.
Громов мгновенно присел, но следующая пуля вонзилась в тропу чуть выше того места, где он присел.
«Стрелок хренов, – хватило у лейтенанта мужества оценить меткость стрельбы того, кто хладнокровно расстреливал его, засев в мастерской, и понял, что рисковать все же нельзя. Поняв, что при подъеме наверх он вновь предстанет перед стрелком как на ладони, Громов метнулся по тропе вниз, к двум валунам, между которыми зеленел куст шиповника, и успел заметить, что третья пуля проредила этот куст за мгновение до того, как он успел достичь ближайшего валуна.
Больше выстрелов не последовало, зато Громов увидел по ту сторону мастерской три мужские фигуры. Один из убегавших – приземистый, черноволосый мужик в плаще, полы которого, казалось, волочились по земле, был вооружен винтовкой. Остановившись, он вскинул ружье, однако выстрела не последовало. По тому, как он нервно дергал затвор, Громов определил, что у него заклинило патрон. Единственным укрытием его могла стать подвода-одноконка, однако до нее еще нужно было добежать. Воспользовавшись заминкой, Громов большими прыжками понесся в сторону мастерской, под защиту ее стены. И, лишь на мгновение остановившись, длинной густой очередью из шмайсера скосил стрелка. Оба его сообщника все это время поднимались по тропе и вскоре достигли вершины перевала, за которым оказались недосягаемыми. О том, чтобы преследовать их, не могло быть и речи.
– Эй, вы! – закричал Громов изо всей мощи своих легких. – Вы почему стреляли в меня?!
И был удивлен, когда увидел, что один из убегавших остановился у наклоненного над крутым склоном каньона ствола сосны. Очевидно, у него уже не было сил дальше бежать, и то, что красноармеец не стрелял, а спрашивал, позволяло ему хоть немного перевести дух.
– Чтобы убить! – по-русски и достаточно нагло ответил он, прислонившись к стволу.
– Тогда кто вы такие?!
– Мы – те, кто всегда ненавидели красных. И кто будет вешать вас, жидокоммунистов, за каждого загнанного вами в сибирские концлагеря русского человека. Пусть только войдут сюда немцы!
– Вон как?! – искренне удивился Громов. – Оказывается, здесь, в тылу, уже готовятся к встрече германцев! А я-то думал, что все, как один… На борьбу за Отечество.
– Не сметь рассуждать об Отечестве! – огрызнулся беглец. – Вы это Отечество предали и продали жидобольшевикам и масонам. Об одном жалею: мало мы вас тогда, в Гражданскую!..
Убедившись, что беглец не вооружен, Громов подступил еще на несколько шагов, стараясь приблизиться к склону. Белогвардеец – очевидно, из бывших офицеров – тоже видел, как Громов демонстративно закинул автомат за плечо, а посему из ненависти к этому, невесть откуда появившемуся красноармейскому командиру уходить не стал.
– И много вас здесь таких? – спросил его лейтенант.
– Подожди полчаса и увидишь еще человек десять. А завтра появится целый отряд.
Поняв, что он случайно оказался на месте сбора белогвардейского подполья Подольска и окрестных деревень, Громов не стал испытывать судьбу и решил удалиться. Задержал его голос беглеца: низкий, сипловатый, принадлежащий человеку, которому конечно же было далеко за пятьдесят.
– Прежде чем уходить, загляни все же в мастерскую, коммунист! Там одна стерва, которая когда-то следователем НКВД была и многих из нас отправляла под расстрел. Теперь в деревне решила спрятаться, потому что даже своих же, энкаведистов, боялась.
Толкнув ногой приоткрытую дверь, Громов осторожно, опасаясь засады, заглянул внутрь. Прямо напротив двери, при проникающем из двух больших окон свете, Андрей увидел буквально растерзанное, окровавленное тело той самой чекистки, о которой только что сообщил ему белогвардеец. Она была распята на большом каменном кресте, нижняя часть которого покоилась на огромной гранитной плите, служившей мастеру-камнетесу станком, а верхняя – полого опускалась на пол. На женщине все еще оставались остатки изорванного, окровавленного платья, а ноги ее были широко расставлены и привязаны к концам крестовины. Даже запах крови не мог перебить запаха сексуальной похоти, который эта несчастная женщина сейчас источала. Привязав чекистку к кресту, все трое насиловали ее прямо на распятии, а затем, очевидно, заметив приближающегося солдата и решив, что он не один, искромсали ее ножами.
Пытаясь выяснить, жива ли она, Громов склонился над ее лицом. Женщина пришла в себя и четко, хотя и едва слышно, произнесла:
– Двести десять.
– Что… «двести десять»? – не понял Громов. Женщине тоже было под пятьдесят, у нее оказались короткие, крашенные, с седыми корнями, волосы, а черты лица все еще сохраняли следы некоего аристократизма.
– В лагеря отправила… двести десять, – с трудом ответила она на тот вопрос, ответ на который добивались от нее насильники. Уже не понимая, кто над ней склонился, чекистка решила исповедаться перед ним этой страшной цифрой – «двести десять». А немного передохнув, объяснила: – В лагеря, без права…
«Без права переписки, – понял Громов, – то есть на расстрел». О том, что значило «без права переписки» в приговорах коммунистических «троек», Андрей узнал от отца, который и сам в течение нескольких лет ждал, что его вот-вот арестуют, как арестовали тысячи других генералов и офицеров Красной армии.
Коммунистка хотела сказать еще что-то, но не смогла. Тем не менее лейтенант увидел, как на лице ее, уже переплавляясь в посмертную маску, вырисовывалась садистская ухмылка следователя-иезуитки. И осознал, что не ощущает никакого сочувствия к этой женщине. И даже снимать ее с распятия не стал.
Выйдя из мастерской, Громов лишь мельком взглянул на вершину склона и, отвязав от коновязи бричку-одноконку, погнал ее к выезду из каньона, стараясь как можно скорее выбраться из этого странного и страшного, осененного безбожническим крес-том и столь же безбожным распятием полуобезумевшего мира.
8
Землисто-серый купол дота предстал посреди изломанного молодого ельника, словно уродливый нарост на давнишней, окаменевшей ране земли, и трудно было поверить, что под ним возможно существование чего-либо живого. Вот почему боец, внезапно вынырнувший из окопчика, прикрывающего вход в этот склеп, действительно возник перед ним так, будто выполз из-под могильной плиты.
– К нам, товарищ лейтенант?
– Не «к нам», а «стой, кто идет? Пароль!» Вояки чертовы!
– Стой, кто идет? – решил исправиться часовой.
– Поздно, рядовой, уже пришел.
– А все-таки… пароль.
– Вот так и дрессируй вас на свою голову. Пароль – «Сокол». Где комендант?
– Тутычки.
– «Тутычки»? Божественно! Называется, подготовили-мобилизовали!..
– …Это да, согласен: наглеют, сволочи, наглеют… – довольно невозмутимо признал командир отдельного батальона и он же комендант отдельного участка укрепрайона майор Шелуденко, выслушав короткий доклад лейтенанта. И тот понял, что стычки с диверсантами и вражескими разведчиками для майора уже не в новинку.
– Нужно срочно создать истребительные отряды.
– Какими силами? Разве что вывести и погубить гарнизоны дотов, чтобы потом без боя сдать весь участок укрепрайона?
– Но ведь должны же были создать истребительные роты из местных добровольцев.
– И наверняка создали. Вот только где они теперь – эти «истребительные роты»? Немцы потому и наглеют, что в некоторых местах, севернее и южнее Подольска, наши войска уже отходят на левый берег. А значит, два-три дня и… – Он прочел содержащийся в пакете приказ и, отодвинув планшет мотоциклиста подальше от себя, несколько минут сидел с закрытыми глазами, словно уснул.
– Вам надо бы отдохнуть.
– А кто возражает? Давай-ка выйдем из этого бетонного короба, – медленно приходил в себя майор. – Успеем еще, насидимся. Честно говоря, я тебя, лейтенант, очень ждал.
– То есть, вас уже предупредили?
– Связь пока действует. Примешь основной дот, 120‑й, он у нас «Беркутом» значится. Расположен почти напротив моего оборонного узла, то есть в центре, узловой он у нас. Так что на тебя и надежда. Особенно в первые часы, особенно в первые, понимаешь? Пока наши гарнизоны пообстреляются да приноровятся к действиям в окружении.
– Считаете, что наши войска уйдут, оставив нас в окружении?
– А у них не будет выбора. Когда встанет вопрос: «Кого обрекать на окружение – всю группу войск или гарнизоны дотов?», конечно же пожертвуют гарнизонами. Такие доты создаются для тех, кто обязан сковывать врага, сражаясь в окружении. Для смертников они, лейтенант, для смертников…
Майору было за сорок. Худощавый, длинные, бочкообразно изогнутые ноги, жесткие седоватые волосы и жесткий взгляд усталых молочно-серых глаз…
Хотя особой выправки у Шелуденко вроде бы и не замечалось, однако манера поведения и привычка говорить резким приказным тоном сразу же выдавали в нем кадрового офицера. Для Громова это было важно. Несколько последних месяцев ему пришлось читать лекции для офицеров, призванных из запаса, и у него выработалось довольно стойкое предубеждение против этих «партизан-запасников». Конечно, среди них тоже случались, по гражданским представлениям, люди довольно толковые и даже смыслящие в военном деле, но получать приказы Андрей все же предпочитал от кадрового офицера.
– С обстановкой в укрепрайоне штабисты тебя, конечно, знакомили? – спросил майор, первым выходя из мрачного сыроватого подземелья.
– Не до меня там сейчас. Выслушали рапорт, проверили документы – и сразу сюда. Раз ты специалист по дотам – сам на месте и разбирайся.
– Но ты действительно… специалист, – неожиданно усомнился майор, – или так себе? Попал в «дотчики» – потому что приказали?
– Вообще-то война проверит. Но определенная подготовка имеется.
– Вот и по телефону сказали, что с системой укрепрайонов ты вроде бы знаком. Потому и интересуюсь: знаком или нет?
– Да вроде бы… Сначала в училище натаскивали, потом командировали в группу офицеров, которых готовили к обязанностям комендантов дотов.
– Во как! А вот у меня такой подготовки не было.
– Ну и два месяца командовал одним из дотов Брестского укрепрайона. Теперь вот нас, нескольких комендантов, перебросили из резерва сюда, для укрепления командного состава. Конечно, надо было бы сделать это чуть пораньше…
– Вот именно, – мрачно согласился майор. – Раньше бы. Я специальной выучки не получил, но в свое время командовал одним из дотов севернее Ленинграда. Потом, после финской войны, отлежал свое по госпиталям и вот, сюда. Тактика обороны укрепрайонов – это ведь целая наука. Да и к доту нужно привыкнуть, гарнизон «обкатать». Даже некоторые офицеры боятся этих дотов, как медвежьей западни. Им открытую местность подавай, окопы, маневр… И чтобы небо над головой, как минимум – небо. А когда ты в доте, а вокруг, даже у тебя над головой, – враги, это уже совсем иная война. Тут закалка и психика должны быть, как у подводников.
Они прошли через линию опоясывающих штабной дот окопов, которые обживались немолодыми уже новобранцами из окрестных сел; по едва приметной тропинке пробились через густой ельник и вскоре оказались у невысокой потрескавшейся скалы. И тут вдруг открылось, что майор и сам был одним из тех, кто предпочитал колпаку дота небо над головой и маневр. Не зря же здесь, у скалы, он успел оборудовать, устлав ее листьями и еловыми лапками, небольшую лежанку, на которой, возможно, и ночевал. Впрочем, местечко действительно славное: воздух удивительно сухой, насыщенный запахом сосны; кроме того, ни с одной стороны эта «позиция» не просматривалась, а для обороны была вполне пригодной. Даже гул боя по ту сторону реки казался здесь намного отдаленнее, чем на самом деле.
– Там у меня, – кивнул майор, – за ельником, вторая линия дотов, правда, не таких мощных, как по берегу Днестра, но держаться можно. А на скале – гнезда для двух пулеметов. Ты же видел мой дот: два орудия, три пулемета… На первый взгляд, сила, но все как бы по фронту. А тыл-то мертвый. Только со скалы его и можно прикрыть.
– Да, на бои в окружении этот дот явно не рассчитан, – согласился Громов, усаживаясь рядом с ним на палатку и прислоняясь спиной к теплому телу скалы.
– Остальные, к сожалению, тоже, – добродушно добавил Шелуденко после небольшой паузы, ухмыльнувшись какой-то особой, только ему присущей ухмылкой. – Однако рассуждать-осуждать уже поздно. Раньше надо было думать, когда строили. А теперь говорить об этом – только бойцов расхолаживать. Какой смысл?
– Но бойцов с нами нет, – напомнил Громов, пытаясь поддержать в нем дух откровения. Любая информация о дотах и укрепрайоне в целом казалась ему сейчас неоценимой.
Шелуденко понял, что лейтенант во что бы то ни стало пытается спровоцировать на откровенность, и с какой-то тоскливой грустью осмотрел его, давая понять, что с ним, командиром участка укрепрайона, такие игры не проходят.
«А ведь он мне не доверяет, – сделал для себя вывод Громов. – Хотя с какой это стати он обязан доверять мне?»
– Извините, товарищ майор, – лучшее, что он мог сделать сейчас, так это признать свою оплошность. – Просто слишком мало времени для общения, а узнать о районе хочется как можно больше, мне ведь даже карты участка не показали, сослались на секретность и на то, что по тылам нашим шастают немецкие диверсанты.
– В чем вы сразу же и убедились, – проворчал Шелуденко.
9
Резиденция начальника службы СД группы войск «Центр» штандартенфюрера СС Арнольда Гредера должна была располагаться в одном из небольших старинных особняков Днестровска, в двух кварталах от средневековой крепости, даже в эти военные дни мирно грезившей над излучиной спокойного, медлительного в этих местах Днестра.
По ту сторону реки еще продолжались бои с небольшими группами противника, оказавшимися в окружении, но участь этих самоубийц уже была решена. Последние части красных еще только завершали переправу через Днестр южнее и севернее городка и окапывались на том берегу или сразу же уходили дальше, в сторону Подольской гряды, а команда квартирмейстеров службы безопасности СС уже облюбовала этот, построенный по образцу старинной помещичьей усадьбы двухэтажный особняк – с облупленными колоннами у входа, большим балконом и двумя флигельными постройками, образующими внутренний дворик, предварительно изгнав из него квартирмейстеров штаба какой-то румынской дивизии.
– Никаких румынских штабов по эту сторону Днестра! – жестко отреагировал Гредер на телефонный доклад своего квартирмейстера Нодэля. – С кличем: «Алла! Алла!» – на левый берег, добывать для Антонеску великую Транснистрию.
– Простите, штандартенфюрер, насколько я знаю, румыны идут в бой с другим кличем, и потом…
– Они сотни лет были под игом турок и других воинственных кличей просто не знают. Поэтому приказываю: гнать их из этого особняка, гауптштурмфюрер! А если заупрямятся, гнать из города, из всех окрестных сел, из Бессарабии. Румын? Значит, гнать!
Гауптштурмфюрер уже начал понемногу привыкать к «диким монологам», как он их именовал, своего влиятельного шефа, и только это спасало его от опрометчивой спешки в выполнении подобных приказов. При этом Гредера нельзя было назвать самодуром. Вернее, иллюзия о его самодурстве развеивалась сразу же, как только появившийся в орбите его влияния офицер начинал понимать, что устраивает эти свои «дикие монологи» штандартенфюрер не из самодурства и даже не из маниакального стремления казаться влиятельнее и грознее, чем он есть на самом деле… Просто он, человек, который терпеть не мог театра и актеров и который за всю свою сорокапятилетнюю жизнь едва ли раза три там побывал, привык подобным образом самовыражаться. То есть, в случае с Гредером тезис «вся жизнь – игра» приобрел некое особое звучание и воплощение; он действительно всю свою жизнь играл, возможно даже не подозревая, что играет, причем делает это великолепно, естественно, не впадая ни в театральщину, ни в пошлую любительщину.
«Предаваясь своим диким монологам», Гредер мог, талантливо импровизируя, разыграть кого угодно: неисправимого садиста, устрашающего добродетеля, непобедимого полководца, избалованного философа-аристократа… Кто-то мог улавливать в этих его экзальтациях легкое пародирование дуче Муссолини; кто-то с ужасом находил в его выходках отзвуки программных речей фюрера, но при этом мало кто решался комментировать поведение этого «самого страшного человека» группы войск, лично знакомого с начальником полиции безопасности и службы безопасности Эрнстом Кальтенбруннером, с Борманом и даже с фюрером.
Впрочем, самая большая опасность для подчиненных Гредера заключалась не в том, чтобы не выдать своего возмущения или восхищения его «дикими монологами», а в том, чтобы не впасть в эйфорию от одного из таких монологов и не пытаться воплотить в жизнь одну из его театрально-бредовых идей, или выполнить один из его абсурдных приказов-рассуждений.
Приземистый, немыслимо широкоплечий, с красновато-серым (цвета пережженного кирпича) лицом закоренелого гипертоника и короткими, по-монгольски кривыми, словно всю жизнь просидел на глобусе, ногами, Гредер имел привычку представать перед своими подчиненными, воинственно набычившись, обеими руками держась за широкий, специально для него пошитый, почти бандажный ремень, чтобы, пренебрегая какими-либо вступлениями, раскручивать один из многих своих «диких монологов». И поскольку лишь искушенные знали, что у штандартенфюрера СС Гредера есть кодовые слова: «Ибо приказ вам известен», то своими фантазиями шеф СД группы армий не раз ставил в идиотское положение и подчиненных, и самого себя.
А секрет заключался в том, что из всего потока, который Гредер выплескивал, изощряясь в красноречии, выполнению, да и вообще, вниманию подлежала только та сентенция или то прямое указание, которые завершались словами: «Ибо приказ вам известен». Использование им слова «приказ» в любом ином словосочетании или контексте просто не принималось во внимание.
– Говорят, где-то там, рядом, должна находиться древняя крепость. Это так?
– Она рядом, – ответил гауптштурмфюрер Нодэль. – Небольшая, но действительно древняя.
– Тогда почему мы с вами располагаемся в этом вашем особняке, а не в крепости? Только потому, что из нее не нужно было изгонять путающихся под ногами румынских штабистов? Но вы же знаете, как я отношусь к крепостям!
– Вы им поклоняетесь.
– Вот именно. Мне приятно, что вам хоть что-то известно о своем командире. Так почему мы не в крепости?
– На ее территории нет ни одного подходящего строения. И вообще, это обычная восточная крепость, а не укрепленный замок в виде приятных взору европейца бургов[7].
– То есть, вы хотите сказать, что замка на территории этой крепости нет?
– Его нет, господин штандартенфюрер!
– И вы так спокойно сообщаете мне об этом, Нодэль.
– А что прикажете делать, господин штандартенфюрер?
– Что я прикажу делать?! Разнести стены крепости и построить из камня нормальный приличный замок, черт возьми, – вот что я прикажу делать. Что вы там возитесь с какими-то хижинами?
Нодэль замялся. Должность и обязанности квартирмейстера он считал позорными для себя и готов был принять под свое командование любое отделение СД на оккупированной территории, или даже роту «Ваффен СС», только бы не заниматься этими бесконечными переездами и не выслушивать по три раза на день «дикие монологи» штандартенфюрера СС Гредера.
– Оно бы, конечно, неплохо… – наконец нашелся он с ответом. И тотчас же услышал:
– Через два часа я буду в этом вашем, гм-гм…
– Днестровске, – подсказал Нодэль.
– Вот именно. Но что касается вас, Нодэль, то вы должны думать не о том, где именно я буду через два часа, а о том, что, где бы я через эти самые два часа ни оказался, – там все должно быть готовым к моему переезду. Ибо приказ вам известен.
– Чтобы все было готово в крепости? – все же решил подстраховаться квартирмейстер.
– В Кремле, Нодэль, в Кремле!
– Я вас понял. Через час резиденция в Днестровске будет готова.
– Ибо приказ вам известен, Нодэль!
В каком бы тоне Гредер ни общался со своими собеседниками, он никогда не злился и уж тем более – не выходил из себя. Конечно, приказной командирский баритон – это у него из офицерской школы, но штандартенфюрер никогда особо не налегал на него. Иное дело, что многих вводил в заблуждение цвет его лица. Но лишь немногие знали, что на самом деле это не «печать гипертоника», а печать… пожара и взрыва на гигантском дирижабле «Гинденбург» в мае 1937 года, в американском аэропорту Лейкхерст.
Именно с дирижаблем «Гинденбург» были связаны – причем не только в переносном, но и в прямом смысле – взлет и падение Гредера. Именно благодаря личному причастию к созданию «Гинденбурга», его, тогда еще гауптштурмфюрера, представили Герингу и фюреру. А после гибели «Гинденбурга» он чуть было не попал под суд. «Чуть было…» Это теперь он может говорить «чуть было…», а тогда обвинений в его адрес сыпалось столько, что их вполне хватило бы не только для разжалования до эсэсманна[8], или даже изгнания из рядов СС, но и для того, чтобы повесить на арке Бранденбургских ворот. Но когда предание Гредера суду уже было делом решенным, его вдруг пригласил к себе Гитлер.
Узнав об этом вызове (Гредер должен был явиться на прием на следующий день), главный конструктор дирижабля Гуго Экнер, который и сам опасался за свою жизнь, попытался успокоить его: «По крайней мере поговоришь с самим фюрером. Ради этого тебе стоило собственноручно взорвать не только “Гинденбург”, но и весь воздушный флот Германии».
Фюрер под страхом смерти запретил Гредеру разглашать то, о чем они вели тогда, в мае 1937 года, беседу в его восточно-прусской ставке. Но назад, в Берлин, Гредер вернулся уже в чине штурмбаннфюрера СС и в должности начальника специальной службы СД, которая долгое время занималась расследованием причин таинственной гибели самого большого и самого оснащенного за всю историю воздухоплавания дирижабля, которая самим фюрером названа была тогда «секретной раной Третьего рейха».
10
Арнольд Гредер уже собирался покинуть свое временное пристанище в какой-то бессарабской деревне, в десяти километрах от Днестровска, когда в его кабинете вдруг появился адъютант Курт Шушнинг со срочной шифрограммой от Кальтенбруннера.
– Да, но вы получили ее еще час назад, унтерштурмфюрер! – вскинул брови Гредер. Он всегда обращал внимание на время поступления подобных шифрограмм. – Почему же я вижу ее у себя на столе только сейчас?
– Смею заметить, господин штандартенфюрер, – педантично уточнил Шушнинг, – что там указано время принятия радиограммы нашим радистом.
– А вы конечно же долго размышляли: «Брать ее у радиста или не стоит?»
– Я узнал о ней немедленно, однако она была зашифрована.
– Да что вы говорите?! – артистично изумился Гредер. – Кто бы мог предположить, что начальник Главного управления имперской безопасности[9]решится потревожить вас своей шифровкой?! И вообще, предположить, что все радиограммы из Главного управления имперской безопасности приходят только шифрованными.
– Вы уже приказали шифровальному отделу готовиться к переезду. И мне не сразу удалось найти шифровальщика Зоннера.
– Но у нас есть еще два шифровальщика.
– Радиограмма была закодирована по системе «Циклоп», у которой есть два «ключа». Первый «ключ» у Зоннера, второй – у вас, штандартенфюрер.
– Ах вот как, «Циклоп»?! – поумерил свой пыл Гредер. – Так какого дьявола вы сразу же не сказали, что это радиограмма по системе «Циклопа»? Я-то вижу, что здесь какая-то ахинея.
– Потому что это текст после расшифровки первым ключ-кодом. Смысл, в сути своей, дурацкий, позволю себе заметить, – вежливо склонился в поклоне сухопарый с длинной гусиной шеей Шушнинг. – Но за ним что-то скрывается, и докопаться до глубинного смысла его сможете только вы. Зоннер, как я уже сказал, владеет лишь первым кодом этого шифра.
– Так где вы его обнаружили?
– Шифровку?
– Зоннера, черт возьми!
Шушнинг замялся.
– Собственно, он прощался с одной местной дамой.
– Пока я ждал радиограммы. Надеюсь, вы его уже повесили?
– Никак нет.
– Жаль дамы? Даму-то вы, надеюсь, уже вздернули?!
Адъютант вновь замер в едва уловимом поклоне. На самом деле это был не поклон. Так, наклонясь с высоты своего почти двухметрового страусиного роста, Шушнинг ждал кодовой фразы штандартенфюрера: «Ибо приказ вам известен». Если она прозвучит, ему в самом деле придется попросить местное отделение гестапо, чтобы его люди занялись этой смуглолицей румынкой, кстати, весьма смахивающей на цыганку.
Но, вместо этой «приговорной» фразы, неожиданно прозвучала другая:
– Что вы топчетесь у меня перед глазами, унтерштурмфюрер? Убирайтесь вон! Пока я буду заниматься здесь расшифровкой этого «папируса», находитесь в приемной, рядом с часовым, будьте готовым к любому развитию событий.
– Яволь. Выйти, ждать и… быть готовым.
Поднявшись из-за стола, Гредер открыл массивный сейф и извлек оттуда пакет с ключ-кодом номер два шифра «Циклоп». Даже если бы кто-то из этих двоих – Зоннер или Шушнинг – оказались предателями, они ничего не смогли бы сказать определенного по этой шифровке, поскольку Зоннер расшифровывал ее после цифрового кодирования, превращая его в кодирование словесное, прочтя которое, непосвященный в лучшем случае узнал бы о сходе снежной лавины в Альпах, или о метеоусловиях в Гренландии. И лишь пройдя через повторную стадию расшифровки, можно было добраться до истинного смысла этого послания.
Вернувшись за стол, Гредер открыл словарик «код-ключа», но в это время ожил телефонный аппарат. Звонили из Абвера, от генерал-майора Роттена.
– Интересующее вас подразделение, – слегка грассировал приятный командирский баритон на том конце провода, – вступит в соприкосновение с врагом в зоне действия Подольского укрепрайона.
– А что, разве укрепрайон все еще сопротивляется?! – искренне изумился Гредер.
– Отдельные его части все еще сражаются на правом берегу Днестра. Сам укрепрайон, доты которого находятся на левобережье, судя по всему, будет сдерживать наше наступление, даже находясь в полном окружении, – терпеливо объяснял арийский баритон, основательно подпорченный полуфранцузским-полуеврейским грассированием. Как докладывает разведка, гарнизоны дотов к отходу не готовятся. Хотя севернее и южнее этого укрепрайона наши части…
– Наши доблестные части, – прервал его Гредер, делая ударение на слово «доблестные». – А вот чем занимается возлюбленная королевская рать Антонеску – это вопрос.
– Простите… – педантично запнулся баритон, фамилии этого представившегося ему подполковника абвера Гредер просто не запомнил.
– Так поднимайте же эту орду, подполковник, – начал раскручивать свой очередной «дикий монолог» штандартенфюрер СС, – поднимайте! Насколько я помню, это непобедимое воинство одичавших римлян стремится добыть себе Транснистрию. Так объясните им, подполковник, что она находится по ту сторону реки. Поведите их туда, подполковник, укажите им путь, они нуждаются в вас, как в Моисее! Когда-нибудь потомки транснистрорумын будут молиться на ваши гранитные лики: «Вот он, – будут объяснять внукам своим, – новозаветный Моисей, приведший нас в Транснистрию! Поклонимся же ему…» Что вы умолкли, Моисей?
– Подполковник Курт фон Брюнинг, господин штандартенфюрер, – холодно напомнил ему абверовец, не собираясь перевоплощаться в иудейского Моисея, сам намек на отдаленное родство с которым был теперь крайне опасным. Даже для Шикльгрубера-Гитлера.
– Так действуйте же, действуйте, – проигнорировал его дворянскую гордыню Гредер. – Сорок отведенных вам дней уходят, наш абвер-Моисей! – Положив трубку, штандартенфюрер еще несколько мгновений смотрел на нее, словно бы медиумически пытаясь проникнуть в словесную суть того, что говорит и думает по ту сторону провода некий подполковник. «Абвер-Моисей!» – самодовольно повел подбородком Гредер. Сейчас он напоминал актера, сорвавшего своим монологом бурю оваций и уже за кулисами пытающегося понять, в связи с чем и по какому поводу сей фурор. – «Не понимаю, чем этот подполковник недоволен? Почти библейская слава…»
11
Гейдрих и в самом деле был поражен поведением рейхсфюрера СС. Гиммлер пытался вести себя так, словно лично он к организации заговора «Железной гвардии» против правительства Антонеску, а равно, как и к его позорному провалу, никакого отношения не имеет. И теперь он позволяет себе у него, Гейдриха, выяснять, стоит ли ему отговаривать фюрера от упоминания о деле Хории Симы в «Воззвании к германскому народу»! Словно не понимает, что именно сейчас фюрер будет крайне заинтересован в том, чтобы Антонеску стал надежным союзником Германии. Потому что Румыния – это сотни километров сопредельной с Советами территории, на которой могут разместиться наступающие германские войска. Потому что Румыния – это сотни тысяч пусть и не самых боеспособных в Европе, тем не менее – дополнительных штыков, которые фюрер может нацелить на Одессу и Крым, высвободив свои собственные части для удара на Минск, Москву и Ленинград. А самое главное – что это пока единственный солидный источник горючего, столь необходимого для механизированных армад Германии, для ее авиации.
– Фюрер конечно же, – чеканя каждый слог, произнес Гейдрих, – ни при каких обстоятельствах не должен упоминать в своем воззвании к народу даже имени Хории Симы. Какой в этом смысл? Пощекотать нервы Антонеску? Напомнить румынскому диктатору, что в любое время мы можем поднять против него остатки разгромленной «Железной гвардии», которая, по нашим последним и достоверным сведениям, подняться для серьезного мятежа уже не готова? Перед всем миром выставить Антонеску и его правительство как недружественных нам и ненадежных, на которые мы не можем положиться? Но в таком случае мы должны идти до конца, возвысить короля Румынии и заставить Антонеску уйти в отставку, или же вообще убрать его. И это в то время, когда сам Антонеску готов простить нам заговор против него, ради более важной цели – возврата Румынии земель между Прутом и Бугом, «исконно – как он считает – румынских земель»! А ведь это воззвание должно быть нацелено против русских. Так чем фюрер собирается навредить русским, раздувая дело о неудавшемся путче против Антонеску?
И Гиммлер, и даже Шелленберг ощутили, что Гейдрих слегка зарывается. То – что и как – он сейчас говорил, звучало слишком резко; фюрер такой реакции не одобрил бы. Зато Шелленберг наконец-то увидел того, не признающего вождей и авторитетов Гейдриха-нигилиста, которого сотворила чиновничья молва. Рейхсфюрер СС и шеф РСХА пристально взглянули друг на друга и, поняв, что их диалог зашел в тупик, перевели взгляд на Шелленберга, надеясь дождаться его третейского решения или хотя бы услышать мнение начальника управления разведки РСХА.
В данной ситуации Шелленберг оказался в самом выгодном положении, ибо к провалу в 1940 году заговора против Антонеску никакого отношения он не имел. Зато успел основательно познакомиться со всеми тонкостями этого заговора германских спецслужб и его последствий. Сразу же после провала заговора, Антонеску сумел арестовать Хориа Симу и всех основных его исполнителей. Кроме тех, кто до этой волны арестов просто не дожил.
Антонеску уже готов был вздернуть Хориа Симу на столбе напротив своего кабинета. Но мог и не торопиться с казнью, а заставить вождя железно-гвардейцев раскрыть все те нити, которые вели к заговорщикам в Берлин. И тогда Германия предстала бы перед миром как страна, не уважающая своих союзников. Тем более что Антонеску раздражало сближение Германии и России. Понятно, что он знал об условности советско-германского «Договора о ненападении» и что фюрер не собирается долго опираться на эти договоренности. Но знал и то, что у «Договора о ненападении» имеется «секретный дополнительный протокол», определяющий сферы влияния коммунистической и фашистской империй. И если бы он касался лишь раздела Польши, с окончательным и не подлежащим обжалованию приговором, вынесенным этой стране Сталиным и Молотовым, в котором утверждалось, что такого государства больше не существует и что «воссоздание его в каких-либо границах возможно только путем дружеского согласия»… Но там был Третий пункт, навязанный Германии Россией, а значит, выигранный коммунистами. И вот этот-то пункт прямо касался основ румынской государственности и румынской национальной гордости. Ибо в нем говорилось: «Касательно Юго-Восточной Европы, Советская сторона указала на свою заинтересованность в Бессарабии. Германская сторона заявила о полной политической незаинтересованности в этих территориях».
То есть, Германия демонстративно самоустранялась от влияния на процессы, связанные с Бессарабией, по существу отдавая эти «исконно румынские территории» на откуп коммунистам.
И вот сейчас, выдержав вопросительные взгляды Гиммлера и Гейдриха, Шелленберг, до сих пор чувствовавший себя как ефрейтор на генеральском совете, заговорил:
– В данный момент фюрер рассматривает Румынию как своего самого идеального союзника на южном фланге. Начиная кампанию против России, он конечно же рассчитывает на политическую волю Антонеску и на решимость румынского народа вернуть себе захваченные русскими национальные территории. Фюрер помнит, что, по настоянию руководства Главного Управления имперской безопасности, высшее руководство Германии вынуждено было вступиться за неудачливого заговорщика и попросить Антонеску сохранить ему жизнь. – Произнося это, Шелленберг заметил, как не только Гейдрих, но и Гиммлер стыдливо отвели взгляды.
Шелленберг конечно же мог бы и не акцентировать внимание на этом их провале. Но, с другой стороны, они ведь сами захотели услышать мнение своего подчиненного, да к тому же будущего автора текста «Воззвания фюрера к германскому народу». И, чтобы основательно изложить свою точку зрения, бригадефюрер просто обязан был коснуться некоторых неприятных моментов этой скандальной истории.
– Да, это так, – проскрипел зубами Гейдрих. – И нам еще повезло, что этого болвана из «Железной гвардии» удалось вырвать из рук румынской сигуранцы.
– Однако, передавая нам Симу, – не стал щадить его Шелленберг, – маршал Антонеску заявил, что делает это в знак примирения, чтобы показать, что в дальнейшем рассчитывает на полное доверие и поддержку со стороны германского руководства.
– Но при этом он знал, что сам акт передачи заговорщика Германии, – проворчал Гейдрих, – является демонстративным жестом, указывающим на то, кто именно, какая страна и какая политическая сила стоит за подготовкой этого заговора. Мы сами выдали себя – вот почему маршал выдал нам Симу, превратив сам акт передачи в акт самоутверждения[10].
– Можно истолковывать и так, – неохотно признал Гиммлер.
– И только так, – нахраписто подтвердил Гейд-рих. – Он ткнул всех нас мордами в дерьмо… прошу прощения, рейхсфюрер. Но именно так, в дерьмо… мордами. И все верно рассчитал. Фюрер был крайне недоволен нашими действиями. Его буквально взбесило то, что мы не сумели довести до успешного конца столь, казалось бы, успешно подготовленный заговор.
Шелленберг про себя ухмыльнулся, превратив при этом свое собственное лицо в преисполненную скорби погребальную маску. Он-то прекрасно знал, что непосредственными виновниками этого провала фюрер считал конкретных людей – Гиммлера и Гейдриха. Или, наоборот, Гейдриха и Гиммлера. Что, собственно, особого значения не имело. И не решился отстранить их от должностей только потому, что не время было портить отношения с двумя самыми влиятельными людьми Германии, за которыми стояла своя собственная «железная гвардия» в виде СС и Главного управления имперской безопасности.
– Возвращаясь к «делу Хориа Симы» в своем «Воззвании к народу», – неожиданно повело Шелленберга, – фюрер желает еще раз, причем официально, на высшем политическом и государственном уровне, убедить Антонеску, что подобные действия против его правительства не повторятся. Уверен, что Гитлер не просто хочет ликвидировать это черное пятно в наших отношениях с Румынией, но и попытается преподнести дело Хории Симы, как интригу русских, удачно замаскированную под операцию германских сил безопасности.
– Что-что? – просветлело лицо Гейдриха. – Что вы, Шелленберг, только что сказали? Что фюрер попытается изобличить в неудавшемся перевороте в Бухаресте русских?
– А ведь до сих пор мы даже не пытались преподнести истоки этой истории в виде умелого заговора русских, действовавших совместно с румынским коммунистическим подпольем и подло использовавших некоторых представителей «Железной гвардии».
– В том числе и Хориа Симу? – спросил Гейдрих, явно разочарованный тем, что Гиммлер несколько исказил ход его мыслей. – Но тогда нам придется пожертвовать этим обер-железногвардейцем.
– Им давно следовало бы пожертвовать, – обронил Шелленберг. – Поговаривают, что в подобных случаях Сталин любит произносить: «Есть человек – есть вопрос, нет человека – нет вопроса». Вот уже два года этот «вопрос Хориа Симы» остается только потому, что все еще остается сам Сима.
– Да убрать его не составляет никакой сложности, – буквально прохрипел Гейдрих. Когда он волновался, голос предавал его и каждое слово ему приходилось буквально выдавливать из себя. – Но тогда мы потеряем веру в себя со стороны многих других националистических лидеров, на которых пока что можем делать ставки, в том числе и лидеров националистических формирований в эмиграции, представляющих народы Советского Союза и Югославии.
Гейдрих и Гиммлер опять умолкли и уставились на Шелленберга, как на царя Соломона. И бригадефюрер СС вновь не разочаровал их.
– Следует учитывать, что румынской общественности хорошо известны подробности этого «дела» в той интерпретации, в какой в свое время подавала ее и наша сторона, и пресса Антонеску. Я не припоминаю, участвовали ли в заговоре коммунисты, или хотя бы были причастны к нему… Но сама идея фюрера может эффективно сработать только тогда, когда нам удастся доказать участие в «деле Симы» румынских, а значит, и советских коммунистов. И тогда искоренение коммунизма в России было бы еще истолковано как необходимость искоренения его поросли в Южной и Западной Европе.
Гиммлер задумчиво постукивал тыльной стороной карандаша по столу и молчал. Гейдрих тоже молчал, с той лишь разницей, что изливал свою нервозность, поправляя и без того довольно свободно свисавший на его шее галстук. Просто он чувствовал себя в нем, как в петле палача.
Шелленберг и сам понимал, что слишком запоздалое вовлечение в эту пропагандистскую атаку коммунистов потребует от каждого из них, и еще от доброй сотни людей, многих усилий. Назревает целая операция, подобная той, что связана с поджогом рейхстага. Но в том-то и дело, что вспоминать «об этом пропагандистском самосожжении» уже никому не хотелось. Особенно Гиммлеру и Гейдриху. Да и время не позволяло заниматься сейчас этим румынским пепелищем.
– По-моему, всем нам, и в первую очередь вам, Шелленберг, стало ясно, что появление «дела Симы» в «Воззвании фюрера к германскому народу» крайне нежелательно, – вдруг, словно спохватившись, решительно завершил Гиммлер. – Думаю, наших общих усилий будет достаточно, чтобы… удержать фюрера от попытки реанимировать этот давний политический конфуз.
– Во что бы то ни стало – удержать! – вновь прохрипел Гейдрих.
– Всё, партайгеноссе, вы свободны! Что касается вас, Шелленберг, то не позволяйте себе потерять ни минуты.
– Чтобы как можно быстрее справиться с этой задачей, – тотчас же воспользовался моментом Шелленберг, – мне понадобятся кое-какие материалы из архивов Мюллера и Канариса.
– Как только вернетесь к себе, сообщите руководству гестапо и абвера, какие именно материалы вам нужны. В течение часа они будут вам доставлены, – глядя в стол, проговорил Гиммлер, явно теряя интерес к дальнейшему общению с подчиненными и мысленно уже занятый какими-то своими собственными проблемами.
12
– Ладно, о секретах забудем, по поводу назначения дотов и их мощи разбираться будем после войны.
– Вот именно. А пока ввожу в курс дела. Смотри, – развернул майор обычную армейскую карту, а не карту укрепрайона, как ожидал Громов. – Это – пойма реки. Здесь, по самому берегу, оборону займет пехота из тех частей, что переправятся из-за Днестра.
– А сейчас что, прикрытия у меня вообще нет?! Гарнизон дота – и все?
– Ну, не то чтобы вообще… Но и не густо. Фашисты уже прорвались и севернее, и южнее укрепрайона. Отдельные их части, особенно танковые, прошли далеко вперед. Так что большим силам взяться у нас негде, и задача наша будет не генеральской, а солдатской: сдерживая – держаться.
– Божественно, а главное, по-солдатски.
– Да, по-солдатски… А громить… Громить немца будут, очевидно, другие, уже где-то там, на Южном Буге, на Днепре. И намного позже.
– Но если германцы уже прорвались и южнее, и севернее, – выходит, мы окружены?
– Пока что нет. Прорывы осуществлены далеко отсюда. И колонны врага ушли к своим целям. Но вскоре возьмутся и за нас.
– Ясно.
Громов внимательно посмотрел на все еще не отрывавшегося от карты майора. Заподозрить его в чрезмерном оптимизме было трудно: не каждый командир решился бы на такие мрачные прогнозы. Хотя, при всей панической безутешности, они, судя по всему, были вполне реалистичными.
– Покажите, где находится мой дот.
Майор провел потрескавшимся слегка изувеченным указательным пальцем по голубой линии Днестра и остановился у крестика на одном из его изгибов.
– Вот здесь он. Место выбрано удачно. Грунт скальный. Стены мощные. Впрочем, все это надо видеть не на карте. Тем более – на такой, где укрепрайон вообще не значится.
– Итак, первая линия обороны нашей пехоты – по кромке берега? Дальше, на возвышенности, – доты.
– Взаимоподдержка – артиллерийским и пулеметным огнем. Местность по фронту простреливается и пристреляна.
– Это в самом деле божественно. Божественно!
– Дальше, вот здесь, по этому гребню, снова пехота. Мой дот – это уже во второй линии, где дотов негусто. Вот, собственно, и весь наш участок укрепрайона. Силы: маневренная рота, в основном для борьбы с десантами; полуэскадрон в сорок сабель, саперная рота, рота связи. Есть еще тяжелый артиллерийский дивизион, который должен прикрыть отход войск за реку, да пять пулеметных рот в дотах и в круговой обороне вокруг них. Для такой территории, как ты понимаешь, это почти ничего, петрушка – мак зеленый. Но все же какой-никакой костяк. Для начала. А потом… потом – что пошлют Бог и командиры.
– И каков приказ штаба?
– То есть?
– Сколько надо держаться?
– Пока не будет приказа на отход. А он поступит только тогда, когда, прикрывая отход основных войск, мы окажемся в полном окружении. И учти: твой «Беркут» на самом опасном участке. Берега там по обе стороны пологие, словно созданные для форсирования.
– Думаю, немцы это учтут.
– Опыт у них имеется. Теперь о самом доте, лейтенант. Не знаю, как там было на Буге, но здесь, особенно при сооружении твоего дота, инженеры постарались. Скальная порода, бетон. Вгрызались намертво. Вооружение и оборудование тоже солидное: два 76‑миллиметровых орудия, три пулемета на турелях… Энергоотсек, санчасть, столовая, «красный уголок», командный и наблюдательный пункты. На случай газовой атаки – спецтруба с фильтрационными устройствами.
– Словом, все по науке.
– Воздухонагреватели и амбразуры дота перекрываются металлическими заслонками. Что еще? Да…
– Связь с вашим дотом, – подсказал Громов, хотя и не понимал, зачем комбат столь подробно описывает его дот. Через несколько минут он сам все это увидит.
– Вот именно, – вдохновенно подхватил Шелуденко. – Телефонная связь у тебя – с узлом связи, который в моем доте, и с двумя соседними гробницами. Есть еще рация с радиусом действия двенадцать километров. На Буге, наверняка, были точно такие же. Были-были, точно знаю. Словом, с какой стороны ни взгляни – подземная крепость. Ни снарядами, ни бомбами тебя не достанут.
– Это уже ободряет.
– Гарнизон – тридцать один человек. Вместе с тобой, конечно. Боезапас тоже штатный – по десять тысяч патронов на пулемет и по тысяче снарядов на орудие[11]. Так что только держаться, только держаться!..
– Гарнизон, надеюсь, укомплектован?
– По штатному. Кадровых, правда, всего шестеро. Тут уж извини. Остальные – из запаса, только что призванные. Тоже в основном из местных ребят-мужичков, необстрелянных, естественно. Но народ надежный. Подбирали, насколько это возможно. Да, вот еще что… фельдшера или медсестру обещали прислать. Возможно, уже сегодня. В крайнем случае завтра. Очевидно, из местной больницы. Только не забыли бы. Ну а запас продовольствия, медикаментов создан. Колодец там свой. Кухня есть. Повар тоже отыскался.
– Но почему почти все бойцы из запаса? В дотах что, постоянных гарнизонов не было?
– Нет, конечно. На Буге ситуация иная: по нему до самой войны проходила граница. Впрочем, когда в тридцатых строили эти доты, Днестр тоже был границей. А строили, конечно, тайно, по ночам, маскируя под сараи, скирды сена. И тогда, сразу после строительства, гарнизоны были. Небольшие, правда, но все-таки. Однако со временем, когда в сороковом граница отошла за Прут, укрепрайон сразу оказался в глубоком тылу. Так что доты пришлось законсервировать.
– Добро еще – вооружение не сняли.
– Хотя были уверены: не пригодится. Ан нет, пригодилось!
– Товарищ майор! – появился на тропинке худенький, похожий на девчушку боец. – Вас к телефону!
– Потерпят, – не спеша поднялся Шелуденко.
– Но…
– Потерпят, я сказал.
– Командование примешь от старшины Дзюбача. Не из кадровых, но в Гражданскую воевал, а значит, обстрелянный. Сейчас это на вес золота. Немецкий и румынский неплохо знает, – объяснял он уже на ходу, раскорячливо вышагивая впереди Громова. – А ты, лейтенант?
– Немецкий. Основательно. О румынском как-то не позаботился.
Они вернулись к доту. Майор переговорил с кем-то по телефону и вновь вышел.
– Тоже неплохо. Да, там у тебя есть хороший партиец, младший сержант Ивановский, парторг дота. Сорок пять лет от роду, в военном деле не спец, из колхозников, но мужик твердый, надежный, словом владеет. Так что опирайся на него, такой не подведет. Ну и на сержанта Крамарчука, конечно. Этот, правда, слегка норовистый, – вопросительно взглянул на Громова, пытаясь понять, как он относится к «норовистым».
– Ничего, приучу его проявлять свой норов только в бою.
– Значит, нашла коса на камень, – развел руками Шелуденко. – Да я, собственно, так сразу и понял, петрушка – мак зеленый. – Только бы не оказалось, что дот для вас двоих тесноватый. В доте, там ведь, как в подводной лодке: деться друг от друга некуда. Кстати, там два орудия, а Крамарчук прекрасный, прирожденный, можно сказать, артиллерист. И если бы ты, лейтенант, немного запоздал со своим появлением, комендантом дота был бы он.
– Так, может, мне уйти? – полушутя поинтересовался Громов.
– Он не из карьеристов. И солдатское братство для него дороже командирства.
– Тогда порядок, своюемся.
Шелуденко хотел подтвердить, дескать «своюетесь», но вдруг умолк и как-то странно, с особой проницательностью и какой-то блудливой ухмылкой присмотрелся к лицу Громова.
– Послушай, лейтенант, да ведь вы, кажется, даже похожи с ним. Я имею в виду – внешне похожи.
– Ну да?!
– Точно говорю: похожи – еще более пристально присмотрелся к Громову. – Может, ты ростом чуток повыше, да в плечах покрепче… А так, в общем-то…
– Вот и божественно. Тем более своюемся.
– А вообще-то странно: чтобы в одном доте… почти как близнецы, а, лейтенант?! Только ты там держись, и парней береги. Каких хлопцев погубят нынче фрицы; скольких, а главное, каких!..
Их разговор вновь прервал телефонист.
– Товарищ майор, там старший лейтенант Рашковский… Требует к телефону.
– Ну, если Рашковский… да еще и требует… – недовольно прокряхтел комендант участка.
13
Вернувшись в свой кабинет, Шелленберг почувствовал себя так, словно после длительной погони наконец-то добрался до надежного укрытия, где его не только не растерзают, но даже не обнаружат. Стоя у двери, он осмотрел его с таким же интересом, с каким разглядывал, когда впервые вошел сюда его хозяином. Этот огромный, занимающий весь пол, пушистый, выдержанный в бордовых тонах ковер… Старомодный шкаф слева от стола, в котором бредила бессмертием его личная справочная литература; огромный письменный стол из черного дерева и сотворенный в стиле, который Шелленберг называл «стилем вечного рейха», ибо все в нем было огромных размеров, все выдержано в антрацитово-черных тонах, все было массивным и предельно крепким.
Этот стол всегда напоминал Шелленбергу некое укрепление – бункер, дот или даже небольшой форт, в котором он чувствовал себя, как солдат, получивший приказ «Ни шагу назад!». Неудачным это сравнение могло показаться лишь человеку, который даже не догадывался, что в этот стол вмонтированы два пулемета! Два… пулемета! Причем оба они были нацелены на посетителя, а точка прицела автоматически менялась, по мере того как посетитель приближался к столу. В случае малейшей опасности Шелленбергу достаточно было нажать на кнопку и оба пулемета начали бы изрыгать такой фонтан пуль, что в течение нескольких секунд большая часть кабинета оказалась бы изрешеченной. Рядом с этой кнопкой находилась еще одна, нажатием коей Шелленберг воем сирены мог поднять на ноги всю охрану, которая тотчас же окружила бы здание, блокируя все входы и выходы. Когда недавно в здании РСХА была объявлена учебная тревога, это выглядело впечатляюще. И еще… Шелленберг так и определил для себя, куда, к какой «графе» – «охрана» или «слежка» за ним самим – следует отнести то несметное количество микрофонов, которые были вмонтированы в его кабинете в стенах, в столе, в шкафу и даже в одной из настольных ламп. Но сразу же предупрежденный о них бригадефюрер постепенно приучил себя к мысли, что самое разумное – забыть об их существовании, не забывая при этом, что всякое подслушивающее устройство создано на погибель людей, несдержанных в своих оценках и элементарно болтливых.
Еще пребывая в машине, доставляющей его к РСХА из офиса Гиммлера, бригадефюрер успел связаться со своим секретарем по коротковолновому радиопередатчику, действовавшему в радиусе двадцати пяти миль от здания Главного управления, и потребовал, чтобы тот немедленно занялся добычей необходимых документов. Поэтому через полчаса после того, как Шелленберг уселся в своем кресле, на столе его выросла целая гора всевозможных сводок, отчетов и сборников документов, принадлежащих к дипломатической почте.
Прежде всего бригадефюрер решил ознакомиться с текстом «Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом» – именно тем документом, дух и букву которого в течение суток он обязан был взломать, как ледокол – глыбу многовекового арктического льда.
«26 августа 1939 года. Правительство СССР и правительство Германии, – углубился он в чтение теперь уже потерявшего всякий смысл политического завещания, – руководствуясь желанием укрепления дела мира между СССР и Германией и исходя из основных положений договора о нейтралитете, заключенного между СССР и Германией в апреле 1926 года, пришли к следующему соглашению…»
«Ага, – отметил про себя Шелленберг, – значит, договор 1939 года стал естественным следствием договора, действовавшего в течение предшествовавших тринадцати лет. Вот только этому, последнему, не суждено было продержаться и двух лет».
Никакого особого интереса пункты «Договора о ненападении» не представляли. «Стороны обязуются воздерживаться от всякого насилия, от всякого агрессивного действия и всякого нападения друг на друга, как отдельно, так и совместно с другими странами. Если одна из стран станет объектом нападения со стороны третьей державы, другая договаривающаяся сторона не будет поддерживать ни в какой форме эту державу…» Ну и конечно же обязательство не участвовать в какой-либо группировке стран, действия которой прямо или косвенно направлены против другой стороны. И заключен был договор сроком на десять лет, с правом пролонгации.
Шелленбергу стало понятно, что основная изюминка действительно заключалась в «Секретном дополнительном протоколе», приложенном к этому договору, но так и не опубликованном. И что именно ссылка на нарушение Германией этого договора станет основным мотивом всех политических демаршей России. «Но при этом она так и не решится опубликовать или хотя бы сослаться на “Секретный дополнительный договор”, приложенный к “Пакту Молотова – Риббентропа”, – напомнил себе Шелленберг. – Вопрос в том, что практически может извлечь Германия из рассекречивания этого приложения и позволит ли оно шантажировать коммунистов даже с учетом того, что в роли агрессора предстанет все же Рейх».
Понятное дело, что в нужный момент германская пропаганда может организовать утечку информации, или даже официально заявить, как подло повела себя Россия в отношении Польши, и надолго осложнить и без того непростые отношения между поляками и русскими. В пункте втором договора говорилось: «В случае территориальных и политических преобразований в областях, принадлежащих Польскому государству, сферы влияния Германии и СССР будут разграничены приблизительно по линии рек Нарев, Висла и Сан.
Вопрос о том, желательно ли в интересах обеих Сторон сохранение независимости Польского государства, и о границах такого государства будет окончательно решен лишь ходом будущих политических событий. В любом случае оба Правительства разрешат этот вопрос путем дружеского согласия».
– А ведь они его уже давно «разрешили»! – вслух произнес бригадефюрер СС, понимая, что если когда-либо германская пропаганда и сможет извлечь некую выгоду из выдачи данного секрета, то не сейчас и только не в контексте «Воззвания фюрера к германскому народу». Уже хотя бы потому, что Польша давно расчленена, Польского государства ни де-юре, ни де-факто не существует и воссоздание его не выгодно ни одной из сторон.
В папке, которую Шелленбергу доставили из Министерства иностранных дел, к тексту договора была приложена и вырезка из статьи «Советско-германский договор о ненападении», опубликованной в советской газете «Правда», с дословным переводом ее на германский. Причем Шелленберг особое внимание обратил на ее окончание: «Вражде между Германией и СССР кладется конец. Различие в идеологии и в политической системе не должно и не может служить препятствием для установления добрососедских отношений между двумя странами. Дружба народов СССР и Германии, загнанная в тупик стараниями врагов Германии и СССР, отныне должна получить необходимые условия для своего развития».
“Загнанная в тупик стараниями врагов Германии и СССР”, – хохотнул про себя бригадефюрер. – Это ж какие такие враги нашлись у дружбы народов Германии и СССР?» – задался он сакраментальным вопросом, чувствуя, что постепенно превращается в оппозиционера режимов обоих империй. А прочувствовав это, загадочно улыбнулся: «А что, еще все может быть!»
Впрочем, ответ на вопрос о том, кого имели в виду Молотов и Риббентроп, говоря о врагах германо-советской дружбы, найден был бригадефюрером довольно быстро. В «папке Канариса», предоставленной ему секретарем, штурмбаннфюрером СС Теллером, он обнаружил документ с грифом «Государственная тайна. Канцелярия Имперского министра иностранных дел. 24 августа 1939 года». И назывался он: «Запись беседы, состоявшейся в ночь с 23 на 24 августа между Имперским министром иностранных дел, с одной стороны, и господином Сталиным и Председателем Совета Народных Комиссаров Молотовым, с другой стороны».
В разделе, определяющем обсуждаемые вопросы и названном «дипломатами» из абвера просто и глубокомысленно – «Англия», Шелленберг не без ехидства прочел: «Господин Сталин и Молотов враждебно комментировали манеру поведения британской военной миссии в Москве, которая так и не высказала советскому правительству, чего она в действительности хочет.
Имперский министр иностранных дел фон Риббентроп заявил в связи с этим, что Англия всегда пыталась и до сих пор пытается подорвать развитие хороших отношений между Германией и Советским Союзом. Англия слаба и хочет, чтобы другие поддерживали ее высокомерные претензии на мировое господство.
Господин Сталин живо согласился с этим и заметил следующее: «Британская армия слаба, британский флот больше не заслуживает своей прежней репутации. Английский воздушный флот, можно быть уверенным, увеличивается, но Англии не хватает пилотов. Если, несмотря на все это, Англия еще господствует в мире, то это происходит лишь благодаря глупости других стран, которые всегда давали себя обманывать. Смешно, например, что всего несколько сотен британцев правят Индией».
«А ведь “вождь всех времен и народов” явно провоцирует Германию на войну с Англией, – не было нужды Шелленбергу слишком уж углубляться в размышления. – Он почти открытым текстом призывает фюрера напасть на слабую, почти безоружную Анг-лию, чтобы затем, победив ее совместно с Россией, произвести новый раздел мира. Он буквально навязывает фюреру свою дружбу в обмен на нападение на Англию. Конечно же подстраховываясь при этом и направляя основное острие военных устремлений Третьего рейха в сторону Ла-Манша».
«Имперский Министр иностранных дел, – со все большим интересом читал Шелленберг этот прелюбопытнейший документ, – согласился с этим и конфиденциально заявил Сталину, что на днях Анг-лия заново прощупывала почву, с виноватым упоминанием 1914 года. Это был типично английский глупый маневр. Имперский Министр иностранных дел предложил фюреру сообщить англичанам, что, в случае германо-польского конфликта, ответом на любой враждебный акт Великобритании будет бомбардировка Лондона.
Господин Сталин заметил, что прощупыванием почвы, очевидно, было письмо Чемберлена к фюреру, которое посол Великобритании в Германии Гендерсон доставил в Оберзальцберг 23 августа. Сталин далее выразил мнение, что Англия, несмотря на слабость, будет вести войну довольно ловко и упрямо».
«И здесь вождь мирового пролетариата тоже явно набивался в союзники, давая Риббентропу понять, что при всей слабости Англии, Рейху все же лучше иметь у себя в тылу надежного союзника».
14
Вернувшись к началу документа, Шелленберг обратил внимание, что беседа-то между Сталиным и фон Риббентропом состоялась ночью. А что, подумал он, возможно, такие переговоры, после которых Германия спокойно могла начать войну против Польши, как раз и стоит проводить в полночь, продолжая традиции тайных вечерь.
Шелленберг уже хотел было отложить этот мюллеровский документ, когда вдруг взгляд его наткнулся на имеющуюся на последней странице запись: «Тосты». Некий Генке, чья подпись, без указания должности, стояла под этим протоколом ночной встречи Сталина и фон Риббентропа, не пренебрег в своем документе и тостами, справедливо полагая, что они тоже несут определенную политическую нагрузку.
«В ходе беседы господин Сталин неожиданно предложил тост за фюрера: “Я знаю, как сильно германская нация любит своего вождя, и поэтому мне хочется выпить за его здоровье”.
Господин Молотов выпил за здоровье имперского министра иностранных дел и посла, графа фон Шулленбурга. Господин Молотов поднял бокал за Сталина, отметив, что именно Сталин своей речью в марте этого года[12], которую в Германии правильно поняли, полностью изменил политические отношения».
…При прощании господин Сталин обратился к имперскому министру иностранных дел со следующими словами: «Советское правительство относится к новому Пакту очень серьезно. Он может дать свое честное слово, что Советский Союз никогда не предаст своего партнера».
Бригадефюрер вдруг поймал себя на том, что он, собственно, не тем занимается. Времени становится все меньше, а ни одной строчки «Воззвания» пока еще не написано. Даже в черновом варианте. Мало того, Шелленберг понимал, что пока не извлек для своего «Воззвания к германскому народу» ничего конкретного. Тем не менее ощущал, что постепенно погружается в атмосферу тайного сговора властителей двух империй, которые, заботясь только о расширении и благополучии своих держав и исходя из имперских амбиций, уже, как на «зеро», сделали ставку в своей военно-политической рулетке на Европу.
Прежде чем окончательно сложить бумаги в «папку от Канариса», бригадефюрер успел выяснить для себя, что, оказывается, существовали еще три протокола-приложения. Один из них проходил под грифом «конфиденциально», два остальных – «секретно». В «конфиденциальном» протоколе оговаривались условия переселения в Германию этнических немцев, которые после вступления в силу этого договора оказывались в зоне советского влияния, куда вошли Финляндия, Латвия, Эстония, а также «восточные территории Польского государства», то есть Западная Украина и Западная Белоруссия.
Сложнее была ситуация с Литвой. По договору от 23 августа 1939 года она оказывалась в сфере влияния Германии. Но 28 сентября этого же года между СССР и Германией был подписан «Договор о дружбе и границе», к которому были приложены эти три конфиденциально-секретных протокола.
Так вот, по одному из них, Литва уже переходила под сферу влияния СССР. Но не вся. Небольшая юго-западная часть этого государства оставалась под патронатом Германии. При этом оговаривалось, что Литва находится в сфере влияния России взамен Люблинского и части Варшавского воеводств, которые она передает Германии. По имперской логике, фюрер должен был бы изо всех сил цепляться за ту юго-западную часть Литвы, которая досталась Рейху. Однако совершенно недавно политический торг за территории был возведен политиками этих двух стран в торг элементарный, естественный, то есть финансовый.
Шелленберг знал, что по взаимному соглашению от 10 января 1941 года эту часть Литвы Германия передала России. Но только сейчас он выяснил, что Советскому Союзу это приобретение обошлось в 31 с половиной миллиона рейхсмарок. Причем восьмую часть этой суммы Советы обязаны были в течение трех месяцев покрыть поставками цветных металлов, «которые так необходимы сейчас нашей промышленности, особенно авиастроителям», прокомментировал эту более чем выгодную сделку бригадефюрер СС. А всю остальную сумму – золотыми слитками.
Разобравшись в сути этой аферы, Шелленберг хищно рассмеялся. Ему, как никому другому, было понятно, что фюрер пошел на сделку только для того, чтобы основательно опустошить советскую казну, ибо уже через недельку-вторую эта территория опять окажется под юрисдикцией Германии. И на сей раз – навсегда. Как, впрочем, и вся Литва, а также Латвия и Эстония.
Но самая главная ошибка Сталина состояла в другом. Заключив с Германией «Договор о ненападении и дружбе», он вынужден был позволить своей прессе пропагандировать эту самую дружбу, сводя на нет все усилия, все пропагандистские заделы, созданные международным коммунистическим движением. Таким образом, он перечеркнул всю антигитлеровскую, антинацистскую пропаганду, которую так старательно и так жертвенно налаживали в тридцатые годы коммунисты в странах Западной Европы.
15
Шел двенадцатый час ночи, когда Шелленберг, взяв необходимые документы и первые наметки «Воззвания», хотел было отправиться на свою виллу в Гедесберге, но передумал и в последнюю минуту приказал водителю везти его на Берлинскую квартиру. Он предчувствовал, что ночь выдастся беспокойной: возможны звонки, а также и курьеры с дополнительными бумагами. Поэтому более разумно, если он останется дома, а не на вилле, где сейчас пребывала его семья. К тому же в доме у него собрана специальная библиотека и домашний архив, позволявшие ему, в принципе, работать над любым документом.
И предчувствие не обмануло его. Едва Шелленберг начисто переписал два первых вступительных абзаца, как позвонил Гейдрих[13].
– Как движется работа, Вальтер? – довольно встревоженно поинтересовался он, словно боялся, что невыполнение поручения Гиммлера повлечет для него более серьезные последствия, нежели для Шелленберга.
– Да как сказать, в общем-то… – непростительно замялся бригадефюрер.
– Говорите прямо, – грубовато прервал его Гейд-рих. – Что там у вас?
– Вступительные абзацы готовы.
– Только вступительные?! – изумился группенфюрер. – Но уже полночь. А к утру…
– В документах такого рода, группенфюрер, самое сложное – первые вступительные предложения, – устало помассировал большим и безымянным пальцами виски бригадефюрер. – Ибо они задают тон и определяют стиль…
– К черту ваш стиль, Шелленберг! Вы уже потеряли уйму времени.
Вальтер хотел съязвить, что больше всего времени он теряет сейчас, выслушивая его, и будет терять во время каждого его последующего звонка. Но вовремя осадил себя.
– Учту, группенфюрер.
– И не вздумайте завалиться спать!
– Не сомкну глаз, пока не допишу последней строчки. Утром все перечитаю.
Миролюбивый тон подчиненного сбил Гейдриха с агрессивного настроя, и несколько мгновений он то ли прокашливался, то ли ворчал что-то несвязное, прекрасно понимая, что наседать сейчас на молодого СС-генерала тоже не стоит. Как всякий человек, который аллергически боится самого процесса составления бумаг, он почти с ужасом представил, окажись на месте Шелленберга он сам. Так что в основе первого побудительного мотива, заставившего Гейдриха взяться за трубку, было все же сострадание. Пусть даже чиновничье. А уж потом – благородный гнев Гиммлера и ярость фюрера, ожидавшие его как шефа Главного управления имперской безопасности в том случае, если вдруг несчастный Шелленберг не разродится этим историческим «Воззванием» фюрера.
– Документов вам хватает? – уже совершенно иным, сочувственным тоном поинтересовался он.
– Их оказалось даже больше, чем я предполагал. Они-то и отобрали у меня львиную долю времени. Правда, сами по себе они настолько важны и настолько могут пригодиться мне, что времени жалеть не приходится.
– Главное, просмотрите несколько подобных речей фюрера. Обратите внимание, что говорит он короткими, резкими, значимыми фразами. В отличие от Геббельса, который любую околесицу несет напыщенно и многословно.
– Вы правы: фюрер умеет общаться с простыми германцами, с бюргерами, – поспешно ответил Шелленберг, вспомнив, что в квартире его встроенных микрофонов не меньше, нежели в служебном кабинете. И только потому не касался оценки речей Геббельса, что не желал сознаться: в отличие от Гейдриха он, Шелленберг, является тайным поклонником цицероновского таланта рейхсминистра пропаганды.
– Да, рейхсфюрер вам не звонил?
– Пока что нет.
– Еще, очевидно, позвонит.
– Ну, наверное, он сначала свяжется с вами.
– Со мной – тоже. Сейчас без четверти одиннадцать. Фюрер только что закончил совещание с генштабистами вермахта. Но, прежде чем принять генералов, поинтересовался у Гиммлера, готовится ли его обращение и кто именно, – вы слышите, Шелленберг? – кто персонально этим занимается.
– И если я все еще тружусь над этим «Воззванием», значит, возражений против моей скромной нелитературной кандидатуры не возникло, – бодро произнес Шелленберг, и тут же мысленно взмолился: «Только бы фюрер не вздумал звонить прямо сюда! Тогда уж он точно выбьет меня из творческого процесса часа на полтора. А вообще-то, фюреру давно пора обзавестись таким личным секретарем, для которого составление подобных воззваний было бы приятным времяпрепровождением».
– Надеюсь, утром мне удастся лицезреть плоды вашего труда, – неожиданно завершил свой звонок Гейдрих в духе Геббельса.
– Тяжкого труда, – уточнил бригадефюрер.
Около часа Шелленберг писал воззвание, ста-раясь следить не столько за стилем – этому он будет предаваться при читке – сколько за изложением мотивов, которые вынудили фюрера, всю Германию, нарушить Пакт о ненападении на СССР и развязать войну.
Прервавшись на какое-то время, он подбодрил себя рюмкой французского коньяку и вновь вернулся к бумагам, на сей раз – к «папке от Мюллера». И теперь уже его внимание привлекли сообщения ТАСС, опубликованные в газете «Правда» от 19 и 20 сентября 1939 года, как раз в то время, когда советская и германская армии расправлялись с агонизирующей Польшей. Именно из этих публикаций прямо и ясно следовало, что коммунисты рассматривали «германских нацистов» как верных и преданных союзников.
«Во избежание всякого рода необоснованных слухов, – говорилось в первом сообщении ТАСС, – насчет задач советских и германских войск, действующих в Польше, правительство СССР и правительство Германии заявляют, что действия этих войск не преследуют какой-либо цели, идущей вразрез интересов Германии или Советского Союза и противоречащей духу и букве пакта о ненападении, заключенного между Германией и СССР. Задача этих войск, наоборот, состоит в том, чтобы восстановить в Польше порядок и спокойствие, нарушенные распадом польского государства, и помочь населению Польши переустроить условия своего государственного существования».
– А ведь там, где начинают писать советские борзописцы, Геббельсу делать нечего, – полузабывшись, вслух произнес Шелленберг, вновь добавляя себе коньячку. «Восстановить порядок и спокойствие, нарушенные распадом польского государства». Вот так, взяло и распалось… Зарождение империи начинается не с военных побед и завоеванных территорий, а с формирования имперских амбиций и имперской логики. А еще лучше было бы сказать: «Зарождение империй начинается не с формирования армий и территорий, а с формирования имперских амбиций и имперского способа мышления. И какая иезуитская казуистика звучит в словах «помочь населению Польши переустроить условия своего государственного существования»!
А вот второе сообщение заинтересовало бригадефюрера прежде всего тем, что оно было передано корреспондентом ТАСС из Берлина. Причем в тот же день, когда появилось предыдущее сообщение ТАСС в «Правде».
«Германия. Берлин. 19 сентября (ТАСС). Германское население единодушно приветствует решение советского правительства взять под защиту родственное советскому народу белорусское и украинское население Польши, оставленное на произвол судьбы бежавшим польским правительством. Берлин в эти дни принял особенно оживленный вид. На улицах, около витрин и специальных щитов, где вывешены карты Польши, весь день толпятся люди. Продвижение частей Красной армии обозначается на карте красными советскими флажками».
И здесь же Шелленберг обнаружил копию телеграммы, посланной все того же 19 сентября 1939 года имперским министром иностранных дел фон Риббентропом в Москву, германскому послу Шуленбургу:
«Я предписываю, чтобы Вы сказали господину Сталину, что Вы сообщили в Берлин о Вашей встрече с ним и что теперь Вы, по моему наставлению, информируете его о том, что соглашения, которые я заключил в Москве по поручению фюрера, будут конечно же соблюдаться и что они рассматриваются нами, как фундамент новых дружественных отношений между Германией и Советским Союзом.
Риббентроп».
«Так, может, не стоит торопиться с войной против России? – вдруг закралась в сознание Шелленберга шальная мысль. – Какой в этом смысл? Почему бы и Англию не расчленить точно так же, как Польшу?» Нет, он, конечно, знал, что русские подтягивают свои войска к границе, что они резко увеличивают численность своей армии, создавая при этом все новые и новые части «смертников» из неисчислимого числа заключенных. И поскольку Германия даже мечтать не может о таком количестве концлагерей, которые создали в своей «самой демократической в мире стране» коммунисты, то понятно, что и запас смертников у России неисчерпаем.
Шелленберг не сомневался, что рано или поздно германским войскам придется подойти к стенам Кремля. Но стоит ли развязывать эту войну сейчас? Не лучше ли с помощью русских расправиться с Англией, Францией и США, а уж затем, создав национальные силы сопротивления из представителей народов, входящих в СССР, приняться и за этого глиняного колосса?
В самый разгар оппозиционистских размышлений Шелленберга с ним вдруг связался Гиммлер.
– Шелленберг, только что мне позвонил фюрер, – провозгласил он таким голосом, словно только что ему явился Иисус. – Фюрер желает, чтобы мотивы, которые заставили его принять решение о начале боевых действий, вы изложили, исходя из последних данных нашей разведки и контрразведки. Деталей касаться не нужно, ссылаться на агентурные сведения – тоже. – «Кому бы пришло такое в голову – в “Воззвании” к народу?» – ужаснулся бригадефюрер. – Но вы должны раскрыть все активизирующееся действие русской секретной службы, которая массово засылает в Германию и на подконтрольные ей территории шпионов и диверсантов, поощряет действия местных врагов рейха… Словом, продумайте, как это отразить, чтобы звучало лаконично и убедительно.
– Яволь, господин рейхсфюрер. Мысленно я уже готовлюсь именно к такому изложению данной проблемы.
Отбросив все те концепции мироустройства, которыми он только что грезил, Шелленберг принялся излагать мысли фюрера со старательностью ученика, которому поручили пересказать одно из произведений Гёте.
До половины третьего ночи, когда наконец текст был готов и секретарь отвез его дежурившей в РСХА машинистке, Гиммлер успел позвонить еще трижды, приводя его своими звонками в ярость. Единственным оправданием могло служить только то, что каждый свой звонок он объяснял звонком фюрера. Ну а свое воззвание, по воле Шелленберга, фюрер должен был обрывать на самой тревожной, но в то же время мобилизующей ноте: «Народ Германии! Развернувшиеся в настоящее время военные события по своему масштабу намного превосходят все те, которые когда-либо переживало человечество!»
Когда бригадефюрер писал эти слова, ему казалось, что при их чтении каждый германец, даже если он не разделяет национал-социалистических взглядов, должен преисполняться чувством гордости за могущество и величие рейха. И лишь когда, не раздеваясь, прилег на диване, чтобы пару часов подремать, вдруг поймал себя на мысли: «А ведь когда 22 июня это обращение будет опубликовано в прессе и зачитано по радио, первые сотни германских солдат уже падут убитыми и ранеными на ощетинившихся штыками просторах России. И даже из этих последних слов “Воззвания” германцы поймут, что началась не какая-то там “русская кампания”, началась Вторая мировая война».
«Но ведь начал-то ее, эту войну, не Шелленберг, – по-адвокатски вздохнул бригадефюрер, сладостно погружаясь в тихую предрассветную дрему. – Тем не менее было бы справедливо, если бы со временем мир узнал, что автором этого воззвания был все же не фюрер, а тогда еще мало кому известный начальник Управления разведки и диверсий Главного управления имперской безопасности Вальтер Шелленберг. В конце концов, за каждым важным историческим документом должна четко просматриваться не менее важная историческая личность».
16
Шифровка, направленная штандартенфюреру из Главного управления имперской безопасности, оказалась немногословной. «Самым тщательным образом соберите сведения о действиях подразделений диверсионного полка дивизии «Бранденбург». Рассмотрите эти действия под углом переподчинения данного полка войскам СС и переформирования его в диверсионную дивизию, с подчинением Главному управлению имперской безопасности. Кальтенбруннер».
«И это все?! – удивился Гредер. – И этот приказ нужно было загонять под двойной шифр “Циклопа” и помечать грифом “Управление VI S”[14], что означало “Управление зарубежной разведки СД, отдел диверсий”»[15].
Гредер понимал, что определенная доля секретности в подобных сообщениях необходима, но всегда возражал против того, чтобы доходить в подобных вопросах до абсурда. Правда, Гредер прекрасно помнил, что и случай, который в начале прошлого года привел к резкому ужесточению правил секретности, тоже из разряда абсурдных. Двое офицеров-идиотов из вермахта вместо того, чтобы сесть в поезд и срочно прибыть в Кельн, заглянули к своему другу в Мюнстер и поэтому опоздали. Друг этот оказался майором люфтваффе и решил доставить их в Кельн на своем транспортном самолете. Но при плохой видимости пилот сбился с курса и совершил вынужденную посаду в Бельгии, неподалеку от города Малин. Там их арестовали и доставили в полицейский участок.
Каковым же было изумление офицеров бельгийской контрразведки, когда оказалось, что один из офицеров был спецкурьером и в сумке своей вез сверхсекретный план вторжения вермахта в Бельгию и Голландию. При этом офицеры дважды пытались уничтожить эти документы, но в первый раз у них не оказалось спичек, а затем они бросили их в печку, но полицейский это заметил и достал из огня. Гредер занимался расследованием этого случая и был потрясен его невероятностью. Именно абсурдность ситуации заставила бельгийские и голландские власти решить, что документы – фальшивка. Только это и спасло офицеров от расстрела. И то, что им оставили жизнь, вопреки требованию самого фюрера, – тоже кажется теперь невероятным. В конце концов этих болванов великодушно обвинили не в измене, а всего лишь в преступной небрежности.
«Они там, в Берлине, похоже, решили, что нам здесь вообще нечем заниматься, кроме как следить за действиями “бранденбуржцев” и собирать сведения об их победах? – вновь предался негодованию Гредер. – И потом, что мешает им получить эти сведения в самом ведомстве адмирала Канариса, коему этот диверсионный полк подчинен? Вот именно: абвер этот полк формировал, абвер готовил диверсантов, набирая кандидатов из многих стран Европы, владеющих различными языками мира, причем многие из них всерьез рассматривались военной разведкой как потенциальные вожди местных повстанческих движений, и даже вождей народов Югославии, Советского Союза и некоторых азиатских стран».
«Стоп! – вдруг прервал штандартенфюрер поток своей армейской аналитики. – Канарис! Кальтенбруннер именно потому и требует собрать сведения об эффективности действий брандербуржцев, что до сих пор эта диверсионная элита подчинена абверу!»
Отправив назад в сейф шифровальный «словарик» второго кода «Циклопа» и саму радиограмму, Гредер несколько минут вышагивал по просторному кабинету, в котором еще недавно располагался партком какого-то молдавского винзавода, а потом вновь вернулся за письменный стол.
Кальтенбруннер мог бы, конечно, выражаться и чуточку яснее. Но и так было понятно, что его, Гредера, пытаются втянуть в схватку между Кальтенбруннером и Канарисом, вернее между рейхсфюрером СС Гиммлером и Канарисом, в которой и Кальтенбруннер – тоже всего лишь исполнитель воли вождя СС.
Гредер помнил, что к началу войны с Польшей под командованием Гиммлера находилась одна-единственная дивизия СС. Рейхсфюрера, замыслившего создать империю СС-элиты, это конечно же не устраивало. Теперь в системе СС действует уже несколько дивизий, отдельных охранных полков и батальонов. Но этого мало. Гиммлеру надоели бесконечные «гонки на опережение» с абвером, он давно считал эту военную разведку, в нынешнем ее командном составе и при нынешнем стиле подготовки разведчиков к работе за рубежом, – неэффективной.
– Господин штандартенфюрер СС, – появился в проеме двери адъютант. – Прибыли машины для перевозки имущества в Днестровск.
– Да, уже прибыли? Опять эта чертова перевозка! Из-за этих бесконечных переездов почти не остается времени для того, чтобы сосредоточиться.
– Просто русские отступают непростительно быстро, – сочувственно объяснил ему Курт.
– Вы так считаете, Шушнинг, «отступают непростительно быстро»? Так, может, пожалуемся на них Сталину? Что они себе, черт возьми, позволяют? Или же обратимся к фюреру, пусть прикажет нашим войскам не слишком налегать, чтобы мы поспевали за ними.
– Лучше – Сталину, в Кремле нас, по крайней мере, не осудят.
Гредер понимал, что адъютант то ли неумело подыгрывает, то ли откровенно издевается, но ему сейчас было не до воспитательных нотаций.
– Ладно, Шушнинг, готовьте мою машину, укладывайте личные вещи и обеспечивайте охрану.
Шушнинг уже хотел было скрыться за дверью, но Гредер остановил его.
– Кстати, вы не в курсе, где сейчас вернейший из ваших друзей, оберштурмфюрер Штубер?
– Знаю только, что он был переправлен на ту сторону Днестра, в тыл врага, на территорию укрепрайона.
Штубер никогда не был другом Шушнинга, мало того, Шушнинг откровенно недолюбливал этого «психолога войны» за его псевдоученое высокомерие и аристократические амбиции, однако он знал, что нет ничего более бессмысленного, чем пытаться опровергать утверждения штандартенфюрера.
– И хотите сказать, что он до сих пор не вернулся оттуда?
– Я слышал от румынского полковника, что все пространство между двумя линиями дотов этого укрепрайона напичкано войсками русских, там идут упорные бои…
– Штубера все это не касается. Этот проходимец вернется даже из преисподней. Причем здесь все это: доты, войска, русская контрразведка?
– Как только он появится, я доложу.
– Как только он появится, немедленно представьте его пред мои очи, ибо приказ вам известен.
* * *
Когда колонна тронулась в путь, солнце уже достигало зенита. Было жарко, сквозь невидимые щели в машину пробивалась пыль и, смешиваясь с путом, заставляла тучного штандартенфюрера проклинать и русскую жару, и русские дороги, и, естественно, «русскую войну». И лишь когда машина оказалась на небольшом перевале, с которого, где-то вдалеке, в створе между вершинами двух холмов, сверкнул своей голубизной речной залив, Гредер облегченно вздохнул и окинул взглядом окрестности. Там, внизу, дорога заползала в зелень садов и лениво петляла между изумрудной красоты склонами холмов. Чем-то неуловимым этот край напоминал Гредеру предгорья где-нибудь в Баварии или Австрии. И, казалось, ничто не способно помешать ему остановить машину, пройтись по перевалу, посидеть вон на той плоской шлемоподобной вершине холма…
Возможно, он так и поступил бы, если бы не все нарастающие раскаты артиллерийской канонады, доносившиеся откуда-то с юга, из тех мест, между Подольском и Ямполем, – Гредер даже успел запомнить названия этих городков, – где располагался укреп-район. И похоже, что сейчас там разгоралась настоящая артиллерийская дуэль. Глядя на то, как сидевший впереди, рядом с водителем (Гредер всегда предпочитал «покоиться» на широком и более безопасном заднем сиденье), адъютант его зябко поеживается, штандартенфюрер подумал, что, наверное, он слегка поторопился со своим переездом. И хотя вряд ли русские способны сейчас на масштабный контрудар с форсированием такой большой реки, некая опасность оказаться либо под русскими бомбами и снарядами, либо под огнем русских диверсантов – все же существовала.
Воспользовавшись тем, что навстречу поднимались три санитарные машины какого-то румынского госпиталя, Гредер приказал водителю свернуть с дороги, чтобы пропустить их, и, пренебрегая опасностью, все-таки вышел из машины.
«А ведь о трагедии гигантского дирижабля “Гинденбурга” мне напомнил именно он, Штубер, – вдруг вернулся к призабытой истории штандартенфюрер. – Причем так и не объяснил, почему он вдруг завел об этом речь. Неужели его, Штубера, тоже пытаются привлечь к расследованию этой катастрофы? Хотя какое, к дьяволу, расследование?! Дело давно закрыто!»
Единственное, что Гредеру удалось установить уже после их разговора с бароном, так это то, что к осени 1938 года в группу по расследованию причин трагедии дирижабля был включен и отец Вилли Штубера, ныне уже генерал-майор, барон фон Штубер. Но это было под занавес, перед тем как в декабре того же 1938 года расследование было прекращено по личному указанию фюрера, которому надоело выслушивать бесконечные догадки, версии и подозрения. Однажды, выслушав очередной доклад по расследованию этой катастрофы, он грохнул кулаком по столу и заорал:
– Сейчас мне ясно только одно, что мы опозорились в глазах не только наших потенциальных противников, Соединенных Штатов, но и в глазах всего мира! Если уж мы оказались в состоянии создать такой гигантский воздушный корабль, то надо было позаботиться о его охране!
– Но ведь охраной занималась СД, а расследованием занимается гестапо, – возразил Геринг, пытаясь отвести от себя гнев фюрера. Кстати, за его безопасность отвечал лично штурмбаннфюрер СС, он же – сотрудник службы безопасности СС Арнольд Гредер.
И вот тогда Гитлер произнес так и оставшуюся для многих загадочную фразу, которая на долгое время заставила умолкнуть всех желающих списать катастрофу на нерасторопность Гредера.
– Гредера, этого офицера СД, не трогать! – резко предупредил он. – Почему все расследование сводится к доказательствам нерадивости Гредера? Или, может, это он взорвал ваш дирижабль? Нет. Тогда в чем дело?! Я лично беседовал с Гредером и требую, чтобы этого офицера СД оставили в покое!
Именно это требование, которое с тех пор стало чуть ли не девизом родового герба штурмбаннфюрера, да, тогда еще штурмбаннфюрера СС[16], «Гредера не трогать!» – служило щитом, о который разбивались все попытки его тайных и явных недругов не то чтобы списать на него всю вину за аварию «Гинденбурга», но даже вызывать его на допросы в качестве свидетеля. Во всяком случае, при любой попытке заговорить с ним на эту тему, члены следственной комиссии всякий раз вынуждены были ретироваться после заявления Гредера: «Все, что мне было известно по этому вопросу, я уже изложил письменно, а также в личной беседе с фюрером. После нашей встречи фюрер лично, в присутствии Геринга, приказал: «Этого офицера СД не трогать!» И это был веский аргумент.
– Дорога свободна, – попытался вырвать его из водоворота воспоминаний адъютант. – Пора двигаться. Нам бы следовало оказаться в новой резиденции до того, как настанут сумерки.
– Именно так, Шушнинг, до того как мир в очередной раз окутают сумерки. «Но даже если он все же погрузится в этот мрак, – мысленно продолжил Гредер, – то и там, во мраке, последует окрик фюрера: “Гредера не трогать! ”»
17
Разговаривая по телефону, майор с некоторым удивлением наблюдал, как, забросив за спину трофейный автомат, Андрей поудобнее укладывал в вещмешок взятые у мотоциклистов запасные магазины и добытые тем, «случайным» пулеметчиком, гранаты.
– Пулеметы и пушки из «Беркута» не возьмешь, – негромко объяснил лейтенант, почувствовав себя неловко. – А если придется прорываться к своим, – каждая граната, каждый патрон на вес жизни.
– Согласен, на «вес жизни», – поддержал Шелуденко, прикрыв ладонью трубку.
– Да и в доте неизвестно, как придется держаться, особенно в последние часы боя.
Майор и на сей раз понимающе кивнул, а, как только закончил говорить по телефону, устало объяснил:
– Рашковский звонил. Старший лейтенант, командир маневренной роты. К сожалению, ни одного десантника взять в плен не удалось. Уложить уложили, а вот… Заядлые, сволочи. Наверное, эсэсовцы.
– Точнее будет сказать, специально подготовленные. Десяток подобных, засланных нам в тыл, десантников может нанести такой урон, какого в открытом бою не нанесет полк.
– Так, может, нам следовало бы не столько на все-обуч налегать, сколько на подготовку диверсантов?
– Не забывая и о всеобуче.
– Теперь мы на многое в военном деле по-иному посмотрим. Слышать про этих птиц мы слышали, но в деле видеть не приходилось. Кстати, известно, что на нашем участке действуют части 11‑й немецкой и 3‑й румынской армий. А также особый диверсионный полк «Бранденбург». Но он вроде бы не эсэсовский. Откуда эти десантники – неизвестно. Хотя, по всему видать, вышколенные, черти… И номерные эсэсовские наколки у некоторых.
– Что вышколены – в этом они меня убедили, – мрачновато улыбнулся Громов. – Ничего, война и нас вышколит.
Снова вышли из дота. Посмотрели на высокое июльское небо, прислушались к ставшей уже непривычной тишине леса, к настораживающей и кричащей, которая лишь обостряет чувство опасности: сознание того, что враг где-то рядом и в незримости своей кажущийся опаснее, чем есть на самом деле, приводит к уверенности, что это всего лишь передышка перед боем, который, кто знает…
Не удержавшись, Громов улегся на небольшой пригорок и, заложив руки за голову, умиленно уставился на неяркое, слегка подернутое дымкой солнце. На самом деле не было войны, не было десантников, не было дотов. Даже неугомонный, разговорчивый майор оказался где-то вне зоны его восприятия, и теперь единственной реальностью оставалось это все жарче пригревающее солнце да трио сосен с высокими пышными кронами, сомкнувшимися над небольшой ложбинкой, сплошь усеянной хвоей, шишками и мелкими веточками, из-под которых кое-где все еще просматривалась зеленая поросль.
Громов понимал, что все, что с ним сейчас происходит, попытка его сознания вырваться из реального мира и спасительно перенестись в иллюзорный мир тишины и спокойствия, оставшийся где-то за пределами очередной, сотворенной человечеством войны.
– Ну не томительно ли «погребать» себя в такие прекрасные доты, причем на самой передовой? – неожиданно ворвался в этот иллюзорный мир вполне реальный, хотя и потусторонний голос майора Шелуденко.
– Пока не знаю, поскольку не успел освоить эту процедуру. А ведь образно сказано: «погребение в дот».
– Потому и спрашиваю, что еще не успел принять командование дотом, – почему-то приглушил голос майор.
– В общем-то, дот для меня – не новинка. Хотя психика далеко не каждого бойца выдерживает это, как вы верно выразились, «погребение» в камни и бетон. К доту нужно привыкать, как и ко всякому замкнутому пространству – танка, например, не говоря уже о субмарине. Там, в дотах по Западному Бугу, мне приходилось…
– Да это понятно, – как-то нервно и не очень тактично прервал его комендант участка, – сейчас не время для воспоминаний. Может быть, я неудачно выразил все то, что пытался, но…
Громов нехотя приподнялся, сел, захватил обеими руками и долго просеивал сквозь пальцы пожелтевшую прошлогоднюю хвою.
– Так слушаю вас, товарищ майор.
Вместо того, чтобы тут же ответить, Шелуденко как-то странновато взглянул на него, пожал плечами и, зайдя под навес, созданный кронами сосен, долго расковыривал носком сапога слой старой, давно слежавшейся влажноватой хвои, уже порождавшей запах тлена и… грибов.
– Понимаешь, когда ты примешь командование дотом, это уже будет другая ситуация; тогда уже говорить об этом будет поздно. А пока что… мало ли что могло случиться. Например, задержался в бою с диверсантами… Был ведь бой? Был. Или давай я пошлю тебя с донесением в штаб…
– То есть, вам не хочется, чтобы я принимал командование дотом? – удивленно уставился на него Громов. – Предпочитаете, чтобы командиром остался старшина Дзюбач или же тот самый, как его… ну, словом, сержант-артиллерист?
– Да не в нем дело, лейтенант, – прекратил свои раскопки Шелуденко. – При чем здесь сержант? Мне тебя жалко. Там, – кивнул он на восток, – ты бы еще понадобился, еще, может быть, не один месяц повоевал бы, и, если бы повезло, может, даже остался бы жив. По крайней мере, так у тебя появился бы хоть какой-то шанс.
– Слава богу, я-то подумал, что вам не хочется отстранять от командования знакомого вам старшину.
– Опять мы не о том говорим. Там у тебя есть шанс.
– А здесь, в дотах, его нет?
– Здесь уже завтра или послезавтра мы окажемся в плотном и близком окружении, в мешке, в плотной осаде. Даже если уцелеешь в бою, выбор у тебя будет сугубо солдатский: либо позор плена, либо пуля в висок.
Громов понимал, что перед ним не трус и не предатель. Перед ним – умудренный жизнью человек, который по возрасту своему и по мудрости годится ему в отцы, а посему не стал ни дерзить, ни словесно геройствовать.
– Но ведь в дезертирстве тоже чести немного…
– Я не о дезертирстве, скорее – о целесообразности. Давай, сочиню донесение, скажем, о нападении диверсантов, и отправлю тебя в Подольск, в штаб… Застанешь ты этот штаб в Подольске или нет – это уже вопрос десятый, а вот оправдательный документ у тебя будет. Твое дело маленькое, ты выполнял приказ! Да и кто там, в этом водовороте отступающих войск, будет с тобой разбираться? Зато любой командир захочет иметь у себя бравого взводного.
– А вы?
– Что я? Я уже буду в кольце врагов, так что своим разбираться со мной будет не так-то просто.
– Вам не хотелось бы уйти отсюда?
– Разговор не обо мне! – резко напомнил майор. – Обо мне вообще речи быть не может. Так что думай…
Громов не отвечал, и майор уже решил было, что тот согласен.
– Только этого разговора у нас не было, понял? – вновь занервничал Шелуденко, понимая, что поступает хоть и по человеческому сочувствию, но против приказа высшего командования.
– Успокойтесь, товарищ майор, его действительно не было, – резко подхватился на ноги Громов. – И потом, я ведь из семьи военного, офицера… С детства приучен к тому, что приказ есть приказ и что на войне каждый должен пройти через то, что ему суждено судьбой и командирами.
Майор лишь мельком взглянул на него и, словно бы устыдившись своей непростительной слабости духа, отвернулся.
– Мыслишь ты, конечно, правильно, по-офицерски, – проговорил он глуховатым, взволнованным голосом. – Кстати, я не знал, что ты из семьи кадрового военного. Там свое воспитание. Впрочем, и там тоже случаются…
– В любом случае я признателен вам, майор…
– Только ради бога не подумай, что я пытался проверять тебя, петрушка – мак зеленый…
– Может быть, мой отец сейчас точно так же пытается спасти кого-нибудь из своих молоденьких лейтенантиков. Поэтому и служить под его командованием, «по-родственному», я отказался, хотя возможность такую мне предоставляли.
– Вот так оно в жизни и бывает, петрушка – мак зеленый. Ладно, о чем могли, поговорили, и душу, будем считать, отвели, – резко одернул гимнастерку Шелуденко, словно собирался показаться перед строем. – Тогда вот что, лейтенант: с обстановкой я тебя ознакомил, инструкции ты, будем считать, получил. Как и мое командирское благословение к ним.
– Так точно, инструкции вместе с благословением.
– В таком случае, уже через полчаса ты будешь в доте. Времени больше не теряй: готовь орудия и прочее оружие… О людях не забывай. Проверь, как там у вас с водой. Кстати, у вас там, в нижнем ярусе дота, свой колодец, правда, вода слегка с душком, но… вода! В общем, задача командира тебе известна: в любой ситуации пытаться предусмотреть даже то, что в общем-то предусмотреть совершенно невозможно.
– Понял.
– Да, и пойдешь туда не один. Красноармеец Кожухарь! – позвал он рослого солдата, оказавшегося неподалеку, – очевидно, тот уже искал майора, – с катушкой телефонного провода за спиной. – Считайте, боец, что вам повезло. Пойдете в дот вместе со своим новым командиром. Это ваш связист, товарищ лейтенант, – сразу же перешел майор на официальный тон. – Красноармеец Кожухарь.
– Прекрасно, одним бойцом больше.
– Надежным бойцом, – явно сыграл на восприятие Кожухаря. – Можно считать лучшим связистом укрепрайона, а возможно, и всего военного округа. Я тут подзадержал его… Специально для того, чтобы было кому провести вас к доту.
– Тогда все, – взял под козырек Громов. – Разрешите идти?
– Счастливо. Через два часа позвоните, доложите обстановку. Завтра, если позволит время, сам наведаюсь. Даст бог, наведаюсь, если, конечно… – и, не договорив, махнул рукой.
«Если позволят время и… враги», – мысленно закончил фразу Громов. Слишком уж стремительно развивались на этом участке события.
– Но в общем-то оборону мы пока что держим, – поспешил успокоить его майор. – Мало того, на том берегу тоже есть еще несколько наших частей. Где-то там, севернее, немцы продвинулись далеко вперед, а здесь – в основном румыны, эти торопятся не спеша, а главное, с опаской.
– Значит, и мы тоже с отходом спешить не будем, да и отходить будем не торопясь. Все, пошли… – обратился Громов к Кожухарю, – лучший связист всей Красной армии и Военно-морского флота.
18
Бригадефюрер подъехал к ресторану в то время, когда там уже стояли машины Канариса и Мюллера. Он взглянул на часы: до назначенного адмиралом времени встречи оставалось почти пять минут. Судя по всему, Гейдрих стоически утверждал германскую гиперпунктуальность, которую Шелленберг всегда считал слишком преувеличенной.
Входить в ресторан бригадефюрер не торопился. Неспешной походкой бездельника он прошелся до конца квартала и, постояв на перекрестке, понаблюдал за такой же неспешной и немноголюдной жизнью улиц. Все вокруг выглядело обыденно, буднично. Шелленберг понимал, что любая попытка хоть как-то подготовить город к фронтовым условиям немедленно была бы замечена иностранной агентурой, журналистами. И представителями полпредств. А фюрер хотел нанести удар совершенно внезапно, насколько это позволяла приграничная обстановка. И все же развязывать масштабную войну, в которой уже менее чем через сутки окажутся втянутыми большие части Европы и Азии, и ничего не предпринимать для подготовки столицы к противовоздушной и прочей обороны и вообще к военной жизни…
Солнце уж медленно выползало из-за шпиля ближайшей кирхи, однако откуда-то, со стороны Шпрее, а возможно, и с самой Балтики, накатывались клубы полудымки-полутумана, превращая город в мирную, в еще не до конца проснувшуюся обитель.
В эти минуты Шелленберг чувствовал себя Нероном, который знал, что менее чем через сутки не только этот город, но и вся страна заполыхает. И что факел уже зажжен.
Ровно в десять все были в сборе. Когда Канарис произнес: «Господа, прошу к столу», Мюллер мрачно изрек:
– Все заговорщики в сборе.
Канарис попытался не реагировать на это колкое замечание, однако это ему не удалось. Шелленберг заметил, как на мгновение взметнулись вверх его брови и как осуждающе взглянул он на обер-гестаповца рейха.
– Мы принадлежим к тем государственным людям, – сказал адмирал, – которым время от времени следует собираться за дружеским столом, чтобы сверить часы.
Адмирал выждал, пока кельнер принесет им бутылку «Бордо», салаты и жареную телятину, и произнес тост за Великую Германию, после которого, по примеру самого Канариса, они выпили молча и стоя. И только после салата, ни на кого конкретно не глядя, а уставившись в некую точку в стене между головами Гейдриха и Мюллера, руководитель абвера заговорил:
– Как вы уже поняли, меня очень беспокоит предстоящая русская кампания.
Гейдрих и Шелленберг молча кивнули, соглашаясь с тем, что предстоящая большая война, ее исход и военно-политические последствия волнуют теперь всех. В своем духе отреагировал только Мюллер.
– Надеюсь, вы не собираетесь отменять ее, адмирал?
– Я – нет, но лишь потому, что это не в моей власти, – со всей возможной суровостью парировал Канарис.
– И не в нашей, – невозмутимо напомнил Мюллер.
И Шелленберг понял, что он не ошибся: адмирал действительно созвал их сюда, чтобы использовать последнюю возможность избавления Мюллера и Гейдриха от излишнего оптимизма по поводу быстротечности русской кампании. Тем более что это уже была не первая его попытка. Но если раньше полемика по поводу целесообразности «наполеоновского марша на Москву» была всего лишь данью общим философским рассуждениям, то теперь все они стояли у адовых ворот России. А значит, следовало решать и решаться.
– Я уверен, – продолжил свою мысль адмирал, – что, прежде чем принять окончательное решение и отдать приказ войскам, фюрер созовет нас с вами, тех людей, от которых зависит военная и политическая разведка и контрразведка. Я знаю, что начальник Генерального штаба вермахта генерал Гальде сумел убедить фюрера, что русские войска будут повержены в течение шести недель. И мне страшно подумать, что произойдет с нашими войсками, если в своих расчетах по обеспечению армии и готовности Германии к войне Гитлер будет исходить именно из этих, совершенно нереальных планов и предположений. Гальдер, очевидно, запамятовал, что Россия заканчивается не Москвой, а побережьем Тихого океана. И что даже если бы у Советов не было ни одной боеспособной воинской части, кроме каких-нибудь жалких сил местной самообороны, то и тогда, учитывая размеры этой страны, не следовало бы планировать военную кампанию исходя из термина, предложенного нашими генштабистами. – Канарис уже явно входил в роль оратора. – Отвратительные дороги, колоссальные людские ресурсы, огромная территория, традиции русской партизанской войны, в которой они поднаторели во время своей последней, Гражданской, и которая, как вы помните, в свое время стала губительной для Бонапарта.
– А вы пытались излагать ход своих рассуждений фюреру? – как всегда простовато и безапелляционно пробубнил Мюллер, не позволяя шефу абвера втянуть всех присутствующих в полемику. – Почему бы не попытаться переубедить его?
– Спасибо, господин Мюллер, я воспользуюсь вашим советом. Но без вашей поддержки, друзья, мне это не удастся. Во время встречи с фюрером, которая конечно же произойдет накануне русской кампании, очень важна будет ваша позиция в этом вопросе.
«Господи, да ведь он еще даже не знает, что эта самая “кампания” начнется уже следующей ночью! – открыл для себя Шелленберг. – И только сие неведенье подтолкнуло его к самоубийственной мысли собрать нас здесь и попытаться осуждать планы фюрера». Он вспомнил, как неделю назад Канарис и Мюллер сцепились по проблеме, связанной с использованием в Польской кампании, а в будущем – и во время нападения на СССР – украинских националистических лидеров Бандеры и Мельника, а следовательно, и их украинское национально-освободительное движение. Если Канарис предлагал использовать украинское движение как союзное, которое при этом имеет право на долю власти в будущей оккупированной Украине, то Мюллер категорически возражал против такого подхода. «Гестаповский Мюллер»[17]считал, что у Германии достаточно сил, чтобы решать польский, белорусский и русский вопросы без ориентации на уже существующие националистические движения и их лидеров, которые конечно же потребуют затем у фюрера права на всю полноту власти на своих этнических землях. Да к тому же будут втягивать германские вооруженные силы, и особенно силы безопасности, в свои межэтнические и политические конфликты.
Сам Шелленберг пытался держаться в стороне от этой полемики, понимая, что, как самый младший по возрасту и занимаемому положению, может оказаться в личных врагах и руководства абвера, и руководства гестапо. А не хотелось бы.
– Напрасно вы считаете, адмирал, что фюрер пребывает в стадии эйфории. Да, был период, когда он и в самом деле полагался только на расчеты генштабистов, – Гейдрих отпил немного вина и, по-наполеоновски скрестив руки на груди, воинственно осмотрел своих собеседников. – Но теперь, когда план кампании вот-вот начнет осуществляться, он пытается осмыслить всю ту глыбу проблем, которую она за собой повлечет. Сегодня утром мне позвонил Гиммлер.
– Так-так, – постучал кончиками пальцев по краю стола Мюллер. – Это уже, как говорят ваши, Шелленберг, неудавшиеся шпионы, «источник, заслуживающий доверия».
– Оставляю за собою право на ответный выпад, – желчно улыбнулся Шелленберг.
– Та встреча, на которую вы, адмирал, возлагаете столько надежд, уже произошла. Вчера. И называлась «обедом у фюрера». Не стоит скорбить по поводу того, что мы не оказались в числе приглашенных. В конце концов, каждый из нас помнит свое место. Для нас сейчас куда важнее знать, что во время обеда фюрер был задумчивым, сдержанным и предельно сосредоточенным. И не скрывал, что настроение это вызвано необходимостью выйти на берег Рубикона.
– Но он говорил что-либо по поводу того, что русскую кампанию следует перенести на более позднее время, а возможно, и на год? И что существуют данные разведслужб, в частности абвера, которые не позволяют нам относиться к этой кампании легкомысленно?
– Извините, адмирал, но в последнее время фюрер не очень-то и полагается на данные нашей разведки. Почему это произошло – тема другого разговора.
Все, кто был за столом, прекрасно понимали, что прежде всего Гейдрих имел в виду ошибки Шестого управления, то есть вверенного ему управления политической разведки Главного управления имперской безопасности. Гейдрих лично занимался делами некоторых его сотрудников, а затем приказал Мюллеру и руководителю внутренней службы безопасности РСХА Штрекебаху провести основательную проверку и даже чистку его сотрудников. На двух из них даже заведены уголовные дела. Сути положения они, конечно, не изменили, Шестое управление требовало коренной перестройки организационной и агентурной деятельности. Но заниматься этим Гейдриху придется уже в условиях войны, что изначально осложняло его задачу.
– Так вот, – продолжил Гейдрих, так и не дождавшись сколько-нибудь внятной реакции шефа армейской разведки, – роль утешителя фюрера по праву взял на себя Борман, который сказал: «Я знаю, фюрер, какие напряженные у вас дни. Мне понятно, как вы волнуетесь. Но все мы понимаем, что успешное завершение русской кампании зависит только от вас. Бог избрал вас как свое орудие для решения судьбы всего мира. И, поверьте, никто лучше меня не знает, сколько в вас решимости выполнить эту миссию наилучшим образом. И так оно и будет. Мне известно, что вы до мельчайших подробностей изучили политическую и экономическую ситуацию в России, взвесили потенциальные возможности ее и наших союзников. Я очень внимательно ознакомился с вашим планом проведения русской кампании и нахожу, что в нем нет изъянов, которые бы заставляли поставить этот план под сомнение. Вы начали великое дело построения Великой Германии, и нет сомнения в том, что в очень скором будущем оно будет успешно завершено». Не могу ручаться за точность каждого слова, адмирал, но смысл его речи был именно таким.
– Борман… – морщась, недовольно проворчал Мюллер. – Если бы фюрер хоть на какую-то долю был так уверен в себе, как Борман уверен в своем фюрере…
– Вот-вот. Именно Борман очень часто мешает вести диалог с Гитлером, мешает вести беседу откровенно и по существу. – Канарис взглянул на Шелленберга, ища у него поддержки, однако бригадефюрер в это время предпочел внимательно рассматривать остаток телятины в своей тарелке. Но как только адмирал умолк, тотчас же поинтересовался:
– Ну, и как к его запрестольной речи отнесся фюрер?
– Очень сдержанно, – ответил Гейдрих. – В том смысле, что никакой уверенности в исходе кампании нет. И можно лишь надеяться, что в конце концов успех будет на нашей стороне.
– Да? – оживился Канарис. – Он так и сказал?!
– Могу изложить точнее. Он ответил, что никто не может быть абсолютно уверенным, что все учтено и взвешено. А посему приходится лишь надеяться и молиться, чтобы победителями в этой войне оказались германцы.
Канарис чуть было еще раз не воскликнул: «Да, именно так он и сказал?!», однако на сей раз что-то удержало его и от недоверия, и от непростительного восторга.
– Ну что ж, позиция фюрера заслуживает внимания, – задумчиво произнес адмирал. Если бы Гейдрих рассказал о звонке Гиммлера в самом начале их встречи, Канарис, очевидно, вообще воздержался бы от своей изобличительной речи.
– Как видите, адмирал, фюрер далеко не так беспечен и беззаботен, как некоторые из его военных советников.
На какое-то время за столом воцарилось напряженное молчание. Канарис прекрасно понимал, что его замысел не удался, ибо никто из этих людей в противостоянии фюреру поддерживать его не станет.
– И все же, как думаете, господа, – уныло спросил он, – когда фюрер намерен провести совещание с нашим участием?
– Уже после того, как наши войска подойдут к Минску и Киеву, – не стал церемониться с ним Мюллер.
– То есть боевые действия начнутся очень скоро?
Шелленбергу жалко было смотреть на шефа абвера. Он прекрасно понимал, чего стоило начальнику армейской разведки интересоваться у них, когда именно армия начнет свои боевые действия. Всем стало ясно: хотя фюрер еще и доверяет Канарису, иначе попросту убрал бы его с этого поста, тем не менее держит его на расстоянии и не рассматривает в качестве своего военного советника. А долго так продолжаться не может.
19
…Да-да, именно барон фон Штубер во время первой же встречи с ним в районе Ясс самым неожиданным образом вверг его в воспоминания, связанные с катастрофой дирижабля «Гинденбург», заявив, что буквально накануне войны с Советским Союзом Гитлер вдруг потребовал отчет о расследовании гибели этого супер-дирижабля.
– Как, разве это дело еще не закрыли?! – искренне удивился Гредер. – Я ведь в свое время лично возглавлял группу, которая занималась его расследованием. Возглавлял, правда, недолго.
– Поскольку лично отвечали за безопасность его полетов и даже чудом спаслись во время катастрофы. Впрочем, – смилостивился над ним Штубер, – об этом не будем.
– Однако в декабре 1938‑го фюрер…
– Совершенно верно: грохнул по столу и сказал, что этой катастрофой мы опозорились на весь воздухоплавательный мир, а расследованием – рассмешили всю полицию Европы.
– Не перевирайте, Штубер, фюрер такого не говорил! – побагровел штандартенфюрер. – Не создавайте ненужных легенд и слухов, особенно когда речь идет о воле и словах фюрера.
– Согласен, я слегка утрирую. Но лишь в том, что касается словесного, а не душевного возмущения фюрера. Извините, штандартенфюрер, что речь идет о группе СД, которую возглавляли лично вы… Но ведь каждому понятно, что вы лишь возглавляли общее руководство, а самим расследованием занимался следователь гестапо штурмбаннфюрер Ютгер и трое его помощников. Кроме того, Геринг подключал своих людей и агентов абвера в США.
– Все это мне известно, – еще более нервно отреагировал Гредер. Разговор происходил в кабинете штандартенфюрера, в присутствии начальника отдела абвера при группе армий «Центр» генерал-майора Роттена, который хотя и молчал, но по его реакции нетрудно было догадаться, что разговор его явно заинтересовал.
Они все трое ждали звонка из штаба группы «Центр», который должен был внести ясность в вопрос о действии полка «Бранденбург» после вступ-ления германских войск на территорию Украины, а также о взаимодействии при этом абвера и СД.
– Как известно и то, что к этому делу был подключен американский резидент абвера на Западном побережье США некий Янке, который затем стал экспертом по разведке и шпионажу у заместителя фюрера Рудольфа Гесса.
– Вы считаете, – взъярился Гредер, – что подключение к операции этого «китайского гробовщика» Янке[18] каким-то образом помогло комиссии? Или хотя бы потенциально способно было помочь?
– Занятие, которое он себе избрал, может быть, не самое уважаемое в этом мире, – возразил генерал Роттен. – Но, во-первых, оно долгое время служило ему надежным прикрытием, а во-вторых, он – из тех немногих агентов абвера, которые не только не выклянчивали у Берлина все новые и новые суммы денег, но и сами способны были содержать как минимум половину германской агентуры в США.
– И что плохого в том, что он, Янке, так старательно заботился о похоронах китайцев? – иронически заметил Штубер. – Правда, если бы с таким же успехом он заботился о том, чтобы «красных» китайцев становилось как можно меньше, тогда это могло бы навести на более основательные размышления. Тем не менее известно, что именно благодаря Янке и его агентуре удалось отработать несколько вариантов версий, которые, после тщательной проработки, отпали сами собой.
Гредер недовольно покряхтел, ему явно не нравилось, что Штубер затеял разговор о гибели «Гинденбурга», но в то же время стремился понять, почему фюрер решил возобновить расследование. Именно поэтому, выждав несколько мгновений, во время которых взоры всей троицы были примиряюще обращены на телефонный аппарат, Гредер все же вынужден был вернуться к этой в высшей степени неприятной для него теме. Потому что завтра Штубер мог исчезнуть где-то на бескрайних просторах украинского Подолья, причем исчезнуть навсегда, и тогда ему, Гредеру, придется искать объяснения через другие источники, пока что ему неведомые. А делать это, находясь здесь, в Бессарабии, причем не привлекая особого внимания к своему интересу, было сложно и даже рискованно.
– Так все же, господин барон, вам известны мотивы, побудившие фюрера вернуться к проблеме гибели дирижабля, при том, что в свое время он решил это дело закрыть.
– Видите ли, осталась неотвергнутой главная и наиболее неприятная для фюрера и Геринга версия – что якобы дирижабль «Гинденбург» был заминирован то ли абвером, то ли СД еще в Германии и взрывчатка была оснащена часовым механизмом. Расчет якобы был на то…
– Что за бред?! – возмутился Гредер, однако, не обращая внимания на его реакцию, Штубер продолжал:
– Так вот, наши секретные службы якобы рассчитывали, что этот гигант взорвется только тогда, когда окажется заякоренным на американской авиабазе Лейкхерст, и уже под охраной американских контрразведчиков и полицейских. Таким образом, нам, дескать, удалось бы и разнести половину американской авиабазы, и обвинить американцев, точнее, американских коммунистов, в террористической акции по отношению к «Гинденбургу».
– Но такие операции не совершаются без согласия высшего командования и высшего руководства страны! – вновь вспыхнул Гредер, понимая, что разговор принимает для него очень неприятный оборот. В конце концов, именно он отвечал за безопасность супер-дирижабля. И получается, что не без его ведома кто-то заминировал «Гинденбурга».
– Вот фюрер и хотел бы убедиться, что в стране не нашлось человека, который бы рискнул совершить подобный акт террористического безумия без его, фюрера, личного согласия. Понимаете, штандартенфюрер, он просто жаждет, чтобы его в этом убедили. Он хочет быть уверен, что такого не было и быть не могло. Но пока сомнения остаются. А ведь сейчас уже речь идет не столько о престиже Германии и ее дирижаблестроителей, сколько о верности фюреру, об управляемости наших спецслужб и их подконтрольности.
– Кроме того, – вновь вмешался в разговор генерал-майор от абвера Роттен, подтверждая тем самым, что знает об этом деле значительно больше, нежели можно судить по его внешне безучастному молчанию, – не следует забывать об уязвленном самолюбии генерального конструктора «Гинденбурга» Гуго Экнера, который, если бы не трагическая гибель его супер-дирижабля, сейчас был бы ведущим и непревзойденным дирижаблестроителем мира. И, вполне возможно, стоял бы во главе гигантского дирижаблестроительного концерна. Тем более что стало известно: пытаясь обезопасить Москву от налета нашей авиации, русские принялись активно использовать дирижабли, заполняя ими значительную часть воздушного пространства, особенно в центре столицы. А ведь из-за досадной и совершенно необъяснимой гибели «Гинденбурга» Германия свернула производство[19]еще нескольких подобных гигантов, которые могли бы сегодня успешно конкурировать с пассажирской и транспортной авиацией и даже с морским флотом.
– Но именно поэтому, – подался к нему через стол Гредер, – дирижабль «Гинденбург» был опасен для многих промышленников, связанных с традиционным самолетостроением. Кстати, замечу, что весьма скептически относился к нему и сам Геринг, не говоря уже о его ближайшем окружении…
– То есть, вы хотите сказать, – угрожающе понизил тон генерал Роттен, – что в гибели «Гинденбурга» могли быть заинтересованы люди из окружения Геринга? Потому что дирижаблестроение отвлекало те средства, которые должны были идти на развитие традиционной авиации и, в частности, бомбардировщиков?
– Вот этого я никогда не говорил! – резко отмахнулся от него Гредер. – А если нечто подобное и сказал, то не для того, чтобы навеять подозрение на Геринга и его людей, – понял свою оплошность штандартенфюрер. – Но есть факты, которые мы не можем игнорировать. И суть не в том, что развитие дирижаблей в корне могло изменить отношение к развитию традиционного самолетостроения и в целом к обычной авиации. Конструктор «Гинденбурга» Гуго Экнер, которого я имею удовольствие знать лично, даже не скрывал своих амбициозных планов по отношению к переориентации наших авиасил, в том числе и военных.
– А надо было бы скрывать, – проворчал Штубер, но, перехватив испепеляющий взгляд Гредера, слегка склонил голову, – прошу прощения, штандартенфюрер, но… законы секретности… Когда их нарушают, происходит то, что, собственно, и произошло 6 мая 1937 года на окраине Нью-Йорка, в аэропорту Лейкхерст, в присутствии американских журналистов, 248‑ми человек «причальной команды» и нескольких сотен зевак. Кстати, вы были тем офицером, который встретился с капитаном «Гинденбурга» Максом Пруссом, после того как его, со страшными ожогами, вынесли на носилках из останков пассажирской гондолы «Гинденбурга». Мне приходилось слышать несколько версий того, каковыми были его последние слова, прежде чем он скончался в госпитале.
– Я не знаю, каковыми были его последние слова, оберштурмфюрер, ибо после разговора со мной он еще какое-то время был жив. Знаю лишь то, что он успел сказать мне.
– Вот именно: ваша версия…
– Какая там, к черту, версия? Он был в ужасном состоянии и, похоже, так и не понял, что произошло с дирижаблем. «Я не понимаю… Я не могу понять… Я не знаю, почему это случилось… Такого просто не могло произойти…» – вот все, что повторял бедняга в те минуты, когда ему уже следовало забыть о катастрофе и творить предсмертные молитвы. В конце концов, все мы прекрасно знали, что при всем великолепии этой махины у нее был страшный недостаток: все ее пятнадцать гигантских баллонов, благодаря которым она парила над Атлантикой, были заполнены водородом. Двести тысяч кубических метров крайне взрывоопасного газа – это, по существу, двести тысяч кубометров взрывчатки, способной сработать при попадании в нее хотя бы одной искорки. Теперь вы понимаете, что представляло собой это «чудо техники»?
– А что же тогда ее главный конструктор?..
– Гуго Экнер? Ее «творец Гуго» знал это лучше всех остальных. Вот почему он настаивал, чтобы водород в баллонах дирижабля был заменен гелием. Тогда даже при прямом попадании зенитного снаряда взрывались бы один-два отсека-баллона из пятнадцати. А «Гинденбург» мог оставаться «на плаву» даже при шести искореженных отсеках! По крайней мере, так нас уверяли. В любом случае, он не падал бы на землю, как самолет, а спускался, планируя.
– Тогда почему же ваш этот… гм-гм?… – начал было Роттен.
– Экнер, – подсказал ему Штубер.
– Вот именно… не настоял, чтобы в отсеки был закачан гелий? Какого черта он согласился доверить свое детище водороду?
– Да потому, что единственное разведанное природное месторождение этого негорючего газа находится в США, в штате Техас. Единственное в мире, господа! Но по настоянию еврейского лобби и прочих германоненавистников конгресс США принял специальный закон, запрещающий продажу гелия Германии. Причем принял его именно в те дни, когда стало ясно, что в области дирижаблестроения мы обошли не только США, но и Англию, которая до тех пор, пока в воздух не поднялся красавец «Гинденбург», считалась ведущей страной мира в этой отрасли. Теперь-то вы понимаете, что врагов у Гуго Экнера и его красавца-дирижабля, названного неким баварским поэтом «Гордым ангелом», было предостаточно, причем по обе стороны Атлантики, не говоря уже о Ла-Манше. Конечно же я понимаю, что можно обвинять кого угодно: американские спецслужбы, английских диверсантов или наши диверсионные службы, которые якобы хотели обострить отношения между Германией и США, обвинив американских коммунистов в организации теракта, а американские спецслужбы и власти – в безответственном отношении к охране «Гинденбурга». Но все эти догадки нуждаются в доказательствах.
– А чем специалисты объясняют тот факт, что дирижабль взорвался преждевременно, до того как совершил посадку? Ведь пока он не приземлился, заложить в него «американскую» взрывчатку было невозможно. Ведь там наверняка был часовой механизм.
– Если допустить, что была сама взрывчатка, – смягчил вопрос генерала барон фон Штубер.
– Если исходить из этой версии, то план диверсантов не удался лишь потому, что из-за сильной грозы дирижабль прибыл в Лейкхерст с некоторым опозданием и часовой механизм сработал раньше времени. Но, во-первых, перед отлетом весь дирижабль был тщательнейшим образом обследован нашими саперами. Во-вторых, «Гинденбург» – слишком дорогое удовольствие для нас, германцев, чтобы можно было пожертвовать им во имя какой-то сомнительной провокации в отношении американских спецслужб. И потом, надо было видеть, как удрученно наблюдали за нашим полетом английские моряки с палуб своей военной эскадры, курсирующей у берегов Северо-Западной Африки! К тому же подобные дирижабли могли бы стать прекрасными ночными бомбардировщиками.
– С их тихоходностью? – усомнился генерал.
– И бесшумностью. Да-да, можете не сомневаться: не только транспортно-пассажирскими судами, но и судами-бомбардировщиками.
– Теперь уже известно, что один из секретных проектов англичан, – признался генерал-майор, – касался как раз производства эскадры дирижаблей-бомбардировщиков. Лично я в эффективности их сомневаюсь, но специалисты… По их мнению, такими же бомбардировщиками-штурмовиками могли бы стать и два дирижабля, которые уже были заложены на стапелях Германии. Заложены, обратите внимание, под успех «Гинденбурга». Но после гибели «Гордого ангела» и англичане закрыли свой проект, и мы отказались от строительства других судов. Закрылась строительная верфь дирижаблей и в Южной Африке.
20
Пока генерал делился неожиданными потоками информации о «Гинденбурге», штандартенфюрер Гредер извлек из глубин своего стола коричневую папку с тисненным на ней имперским орлом и, порывшись в ней, положил на стол перед Штубером, – именно перед Штубером, а не перед генералом, – несколько соединенных скрепкой листков.
Барон вопросительно взглянул на Роттена, но, поскольку тот и бровью не повел, перевел взгляд на Гредера.
– Это выводы технических экспертов, на основании которых в 1938 году дело о взрыве дирижабля «Гинденбург» было закрыто, – объяснил тот.
Пробежав глазами его вступительную часть, Штубер прочел: «В качестве основной версии причин гибели дирижабля члены комиссии принимают версию о том, что причиной возгорания водородного газа и дальнейшего взрыва дирижабля оказался разряд статической энергии, накопившейся в течение тех шести часов, которые “Гинденбургу” пришлось дрейфовать в окрестностях Лейкхерста, ожидая прекращения грозы, сопровождавшейся сильными разрядами молнии, а также появлением шаровых молний.
Пламя возникло в одном из заполненных водородом баллонов как раз в то время, когда брошенный вахтенным офицером причальный трос коснулся земли. В момент касания троса мокрой земли, то есть в момент “заземления” дирижабля, по металлическому тросу искра прошла до топливной секции и привела к пожару, а затем и взрыву.
Вывод: если бы в топливных отсеках находился не водород, а гелий, такого быстрого возгорания от столь маломощного источника не произошло бы».
Из подписей, которые имелись под этим лаконичным, но исчерпывающим документом, внимание барона фон Штубера привлекли две: штурмбаннфюрера Гредера и главного конструктора дирижабля Гуго Экнера, который после подписей всех членов комиссии размашисто и чуть наискосок начертал: «С выводами комиссии согласен. Дирижабли следует переводить на гелий. Главный конструктор Гуго Экнер».
Штубер уже хотел было вернуть бумаги Гредеру, но в последний момент обратил внимание на еще один листок, на котором были изложены технико-экономические данные «Гинденбурга», в которых он подавался в сравнении… с печально известным «Титаником». Оказывается, длина корпуса самого большого судна современности «Титаника» достигала 240, а корпуса дирижабля – 248 метров. «Неужели на восемь метров длиннее “Титаника”?! – не поверил барон. – Кто бы мог предположить?!»
– Это было потрясающее судно, – спешно подтвердил Гредер. – Да, действительно, двести сорок восемь метров в длину и сорок метров в диаметре, так сказать, по экватору. Пассажирская гондола его состояла из двух палуб, на верхней из которых находились двадцать шесть двухместных кают, ресторан, бар, кают-компания и даже читальный зал. Вдоль бортов расположены были прогулочные галереи с окнами для обзора; а на нижней палубе располагались оснащенный электроплитами камбуз, туалеты, комнаты для курения, два лифта и даже ванная. Кстати, хотя взрыв оказался настолько мощным, что вспышка его видна была в радиусе двадцати пяти километров, большая часть находившихся на борту людей, а конкретнее, шестьдесят семь человек, – спаслась. Пассажирская гондола разломилась на две части, одна из которых плавно спланировала на землю. К материалам приложена расшифровка текста радиорепортажа Герберта Моррисона из чикагской радиостанции, который он вел с места предполагаемой посадки «Гинденбурга».
Штубер перевернул еще одну страничку и прочел: «Вот он приближается, этот серебристый красавец!.. Его удлиненный корпус светится в розовых лучах солнца! Вот открывается люк, и офицер сбрасывает на землю причальный трос. Но что это?! О Боже, он горит! Он падает вниз! Он взорвался. Господи, да он же взорвался!»
Штубер знал, что среди тех, кому в тот день удалось спастись, оказался и Гредер, но старался не напоминать ему об этом. Однако было нечто такое, о чем он промолчать не мог.
– Это правда, что после гибели «Гинденбурга» вы с сожалением говорили, что если бы этот лайнер уцелел, вы просили бы командование назначить вас его капитаном?
– Я и сейчас сожалею о его гибели и своей неудачной карьере пилота. Дело в том, что в молодости я занимался планеризмом и даже умудрился совершить несколько прыжков с парашютом. А потом была летная школа. Так что у меня возникали все основания претендовать на пост капитана этого лайнера. Зная об этом, Геринг и предложил мою кандидатуру на пост начальника службы безопасности дирижабельной эскадры, заметьте, уже эскадры…
…Гредер прервал поток воспоминаний и, открыв глаза, внимательно присмотрелся к местности, открывающейся впереди и сбоку от машины.
– Однако вы так и не ответили мне, адъютант, где сейчас находится барон фон Штубер?
Сидевший рядом с водителем унтерштурмфюрер Курт Шушнинг оглянулся и удивленно взглянул на штандартенфюрера. Он прекрасно помнил, что отвечал на этот вопрос, но намекать шефу на его склероз не рискнул.
– Он уже по ту сторону Днестра, в тылу у русских, откуда мало кто возвращается.
– Вы все же уверены, что он там? – величавым, аристократическим движением руки указал Гредер на пространство впереди себя, в глубинах которого должен был теряться Днестр.
– Вместе с другими бранденбуржцами. Многие из которых действительно не вернутся.
– Этот проходимец вернется, – проворчал Гредер, вновь откидываясь на спинку сиденья и закрывая глаза. – И мне бы не хотелось, чтобы именно ему было поручено расследование причин гибели «Гинденбурга». – Перед мысленным взором его медленно проплыла огромная серебристая сигара дирижабля; окаймленная прогулочными галереями двухпалубная пассажирская гондола; прекрасно оформленный зал ресторана…
Гредер никогда не скрывал, что был увлечен и очарован этим сказочным воздушным кораблем, его роскошью и надежностью. С того часа, когда перед первым пробным испытательным полетом Гредер вместе с группой конструкторов и инженеров-строителей обошел залы пассажирской гондолы, он был заражен почти маниакальной идеей – стать капитаном этого воздушного судна, которое могло превратиться в его дом, как превращаются в дома для настоящих морских волков их морские лайнеры.
– С какой стати именно Штуберу? – попытался возразить Шушнинг. – Штубер теперь нужен здесь, в тылу русских. Хотя… Кто-то же должен будет этим заняться. Так, может быть, лучше, если этим человеком станет Штубер? Все-таки вы с ним достаточно хорошо знакомы.
– Достаточно… хорошо, – без особого энтузиазма процедил Гредер. И на несколько минут в салоне машины воцарилось тягостное молчание.
Штандартенфюреру вдруг вспомнилась последняя беседа с генерал-майором Роттеном, в которой принимал участие и Штубер. Всем троим уже было ясно, что расследование причин аварии зашло в тупик. Тома бумаг, которыми снабдили их спецы по расследованиям авиакатастроф и пожаров, не таили в себе ничего, кроме бесчисленного множества заключений всевозможных экспертов, мнений специалистов и протоколов допросов тех пассажиров и членов экипажа, которым удалось уцелеть.
Спора нет, рассказ каждого из уцелевших достоин был пера новеллиста. Гредер с удовольствием прочел их все, без исключения. Но ни один из них не содержал в себе ничего такого, что хоть как-то проливало бы свет на истинную причину аварии «Гинденбурга».
Понятно, что фюрера такие материалы удовлетворить не могли. Как не мог удовлетворить и вывод. И теперь эти трое были похожи на заговорщиков, которые, опасаясь неминуемого изобличения, пытались искать спасения в единстве своих судебных показаний.
– Так что будем докладывать фюреру, господа? – решил завершить эту «тайную вечерю» генерал-майор фон Роттен.
– Вот именно… – безнадежно поддержал его Гредер. – Прочтя доклад, который мы можем составить по материалам расследования, фюрер конечно же откажется нас понимать.
– Главное, чтобы сами мы поняли, к чему собственно стремились прийти комиссии в этих расследованиях и к чему на самом деле пришли, – заметил Штубер.
Генерал и полковник разочарованно взглянули на барона и, ухмыльнувшись, дружно покачали головами, как бы говоря: «А что еще можно ждать от этого недоученного диверсанта?!»
– Если я верно вас понял, господа, – подытожил генерал-майор, – никаких экстраординарных мыслей и предложений не последует. В таком случае мы вынуждены будем констатировать, что причины катастрофы нам неизвестны, признав единственно правильной ту, первичную, версию об искре электрического разряда, возникшей в результате удара молнии.
– С которой мы, собственно, и начинали наше расследование, – проворчал штандартенфюрер Гредер.
– Хотя, конечно, странно, – глуховатым голосом проговорил фон Роттен, меланхолически складывая бумажки в папку с тесненным на ней орлом. – Прошло несколько лет, а причина гибели «Гинденбурга» так и остается одной из самых больших тайн Третьего рейха. Если фюрер сочтет нужным, он, конечно, может продолжить это расследование, но вряд ли те, кто станет знакомиться с выводами наших экспертов, продвинутся в нужном направлении.
– А зачем вообще понадобилось это расследование? – неожиданно задался сакраментальным вопросом барон фон Штубер, несказанно удивив им своих собеседников. – Прошло время, гибель «Гинденбурга» обросла множеством легенд. Каждый из спасшихся считает свое спасение настоящим чудом. Так давайте смиримся с тем, что гибель «Гинденбурга» навсегда останется одной из самых больших тайн Третьего рейха.
– Но ведь из-за этой вашей тайны прекратилось строительство новых дирижаблей, – возразил Гредер. – Угасло целое направление авиастроения. А я считаю это непростительной ошибкой наших авиастроителей.
– Ну, прекратилось оно, допустим, лишь на какое-то время. С этим нужно смириться, как с неминуемой жертвой. И вообще, господа, – неожиданно расфилософствовался Штубер, – это же прекрасно, когда у государства есть тайна. А где тайна – там обязательно появляются легенды. Не может быть великого народа без великих тайн и порожденных им легенд.
– Опомнитесь, барон, – язвительно остановил Гредера генерал-майор Роттен. – Мы сейчас говорим о дирижабле «Гинденбург», а не о величии Германии.
– Позвольте с вами не согласиться, господин генерал-майор. О чем бы мы с вами ни говорили, мы всегда говорим о величии Германии. Особенно когда речь идет о таких величественных достижениях, как дирижабль «Гинденбург»[20].
21
Шелленберг выключил приемник, но еще несколько минут стоял у него, словно ожидал, что голос фюрера прорвется и через технические запоры. Вошел секретарь и протянул ему сложенную вчетверо газету.
– «Фелькише беобахтер», – сказал он, – как вы велели, бригадефюрер.
Однако Шелленберг уже мог и не разворачивать ее: авторские амбиции его были удовлетворены: из того текста, который он предложил Гейдриху в качестве всего лишь основы для текста «Воззвания к германскому народу», фюрер не изъял ни строчки. Как, впрочем, ни строчки и не дописал. Хотя сам Гейдрих, судя по всему, был не в восторге. Прочтя писания своего подчиненного, он выразительно пожал плечами, несколько раз перетасовал странички и, положив их в массивную, украшенную большим имперским орлом коричневую папку, проворчал:
– Главное, что фюрер получит это вовремя. У него есть целый штат секретарей и помощников – пусть поизощряются. – А затем, подняв глаза на Шелленберга, мрачновато ухмыльнулся: – Какие бы изменения в этот текст фюрер не внес, можете считать, Шелленберг, что Вторая мировая война была объявлена росчерком вашего пера.
– Извините, группенфюрер, я бы так не сказал.
– Завидую, – не стал реагировать на его замечание Гейдрих. – Не каждому отведена такая историческая роль.
– Тогда скорее вашего пера… господин группенфюрер СС. Поскольку на нем стоит ваша виза.
– Виз, как всегда, будет много. Как со временем и претендентов на авторство. Но исторический факт – вот он! В этой папке. Вы хотя бы копию для себя оставили? С собственными правками?
Шелленберг понимал, что логичнее было бы ответить: «Нет». Но коль уж момент действительно исторический, решил придерживаться его правды.
– Оставил, конечно. Рассматривая его как исходящий документ. И потом, может понадобиться доработка.
– Правильно сделали, бригадефюрер. Когда вас поведут на «суд народов» как одного из отцов и духовных наставников этой войны, на вашей груди палач закрепит именно этот текст.
…И хохот, которым Гейдрих разразился, произнеся эти слова, показался Шелленбергу хохотом из преисподней.
– Мне бы не хотелось, чтобы ваши слова оказались пророческими, группенфюрер СС, – с особым нажимом произнес Шелленберг это «СС», памятуя, какими злобными эпитетами наделяла коммунистическая пропаганда их, «по образу и подобию иезуитского, созданный Черный Орден фашизма».
– Успокойтесь, Шелленберг, – медленно двигал широкими массивными скулами-жерновами Гейдрих, – пророком я всегда был плохим. Именно поэтому всегда был неплохим солдатом. Две эти ипостаси несопоставимы.
– Будем надеяться, – несколько оскорбленно проговорил Шелленберг, но Гейдрих уже не слушал его. Кто-то позвонил ему по телефону, и, не обращая внимания на бригадефюрера, начальник Главного управления имперской безопасности с упоением переспрашивал: «Да, войска уже продвинулись почти на сто километ-ров в сторону Минска? А в Прибалтике? Прекрасно, штандартенфюрер, прекрасно. Нам с вами можно лишь сожалеть, что завтра мы не окажемся в наступающих порядках дивизии “дас Рейх” или “Мертвая голова”. А как обстоят дела с подготовкой на “украинском фронте”? Понятно. Значит, уже завтра к ночи наши войска будут во Львове. Тем более что в действие должны вступить группы национал-партизан. Ну, румыны – это понятное дело. Они не в счет».
Положив трубку, Гейдрих, словно бы не замечая Шелленберга, самодовольно потер руки.
– Уверен: еще сутки не пройдут, а сотни тысяч квадратных километров вражеской территории окажутся под гусеницами наших танков. Из этого следует, что фюрер все-таки прав. Он – единственный среди нас – провидец, если уж вам так хочется видеть среди нас провидца-прорицателя, Шелленберг. Кстати, почему вы все еще сидите здесь?
– Жду ваших распоряжений, – поднялся Шелленберг, не решаясь уточнять, после какой информации шеф настроился столь воинственно.
– Ах да, я ведь до сих пор не отпустил вас.
– Так точно, группенфюрер СС.
– Но ведь вы же слышали, что происходит. Теперь у вас работы хватит и без моих распоряжений, – поднялся он, чтобы идти к фюреру.
– Яволь. – Но уже в проеме двери бригадефюрер вдруг услышал:
– А ведь теперь вы, Вальтер, станете известны как «специалист по воззваниям». Не исключено, что уже завтра вам позвонит сам Лаврентий Берия и предложит составить точно такой же документ… для Сталина, естественно.
– Вот этим «воззванием» я бы действительно гордился, – натянуто улыбнулся Шелленберг.
Но это происходило вчера, а сегодня…
Вернувшись за стол, Шелленберг все же развернул газету и с удовольствием углубился в чтение. Несмотря на всю желчность Гейдриха, в корне он прав: как к этому ни подходи, а Вторая мировая война была объявлена росчерком его, Шелленберга, пера. И ни Истории, ни друзьям и завистникам от этого факта уже не уйти. А что касается шутки относительно звонка Берии…
Как только Вальтер вспомнил фамилию главного русского палача, вошел его секретарь и доложил, что звонят из Министерства иностранных дел. По очень важному вопросу.
«Из Министерства иностранных?! – улыбнулся про себя бригадефюрер, все еще помня о напророченном ему звонке от Берии. – Неожиданно».
– Господин Шелленберг, мы были бы вам очень обязаны, если бы вы сочли возможным принять участие в переговорах с русским посольством, – взволнованным голосом произнес заместитель министра иностранных дел доктор Штоуфе.
– Переговоры… с русским посольством? По поводу чего? – довольно иронично поинтересовался бригадефюрер СС. – Уж не о перемирии ли?
– Возникла проблема репатриации сотрудников посольств. Мы должны отправить в Россию посла Деканозова со всем штатом его посольства, а также служебный персонал советского «Интуриста» и слишком неудачно прибывшую в Берлин делегацию советского правительства по вопросам торговли. А благодаря этому помочь вернуться в Берлин нашему послу, графу Шуленбургу с его подчиненными.
Бригадефюрер СС выдержал паузу. Переговоры с русскими, среди которых добрый десяток русских разведчиков?.. Заманчиво.
– Я немедленно выделю двоих своих сотрудников, а также лично приму участие в переговорах в тех случаях, когда это будет необходимо.
– Имперский министр фон Риббентроп доложит об этом фюреру, который уже потребовал самым строгим образом контролировать отъезд всех названных русских, – объяснил ситуацию доктор Штоуфе. – Конечно, было бы неплохо завладеть той документацией, которой они обладают. Но поскольку решено соблюсти все международные нормы дипломатического приличия…
– …То мы постараемся их соблюсти, господин Штоуфе. При том, что я конечно же дам указание своим агентам максимально отследить все действия русских, а также их контакты, вплоть до пересечения репатриантами границы Советского Союза. Впрочем, не только до пересечения…
– Благодарю, бригадефюрер.
«А ведь мы совершенно упустили из виду этот участок деятельности, – честно признался себе Шелленберг, когда разговор был завершен. – В суете и нервозности, предшествовавшей сегодняшнему наступлению вермахта, мы, политическая разведка, упустили тот момент, что придется обмениваться посольствами, а также дипломатическими, правительственными, интуристовскими и прочими структурами».
Он вызвал секретаря, попросил немедленно связаться с агентами из Управления в Имперском министерстве иностранных дел и положить ему на стол все сведения о Деканозове и его сотрудниках, а также всю агентурную разработку сотрудников «Интуриста».
«“Вторая мировая война, провозглашенная росчерком пера бригадефюрера СС Шелленберга”… – вспомнил он слова Гейдриха. – А что, в этом что-то есть. По крайней мере, на надгробной плите эти строки выглядели бы впечатляюще».
22
Этот человек появился совершенно неожиданно, откуда-то из-под стожка, черневшего на полпути от сарая до леса. Осмотревшись, старательно замаскировал свою нору и усталой трусцой двинулся к убежищу Штубера и Розданова.
– Это еще что за явление?! – не удержался поручик. – Да к нам гости!
– Все, не дышать! – успел прошипеть Штубер.
Розданов только что закончил латать гимнастерку. Услышав предупреждение, он так и замер, сидя на куче спрессованного сена и держа ее в руках, словно стыдливо закрывался от посторонних глаз.
Дезертиром оказался невзрачный мужичонка лет сорока, с непокрытой лысой головой, поросшей редкими седыми клочьями волос. Едва он успел открыть дверь, как Штубер метнулся ему навстречу, мощным ударом в переносицу сбил с ног, а еще через несколько мгновений «гость» уже полулежал прислоненным к куче дров, а Розданов, отбросив свою залатанную, спешно напяливал на себя новую, еще пахнущую складским нафталином красноармейскую гимнастерку дезертира.
– А ведь он, провинциальный мерзавец, и до окопов своих не дошел! – возмущался поручик, бегло знакомясь со «справкой призывника». – Ведь не дошел? – уставился он на пленного. – Только четыре дня назад как призван?
– Только четыре.
– До чего же выродился нынче русский солдат!
– Судить его будем, поручик. Как подлого дезертира. Боеспособность Красной армии подрывает, сволочь эдакая, – изощрялся Штубер.
– И будем.
– Вы будете, поручик: и судить, и расстреливать. Жажду видеть, как русский принимает смерть от русского. Струсит ведь, подлец, ползать будет пред лицом презренной смерти своей.
– Не надо так о смерти, оберштурмфюрер. Даже о смерти врага. И согласитесь: от красных сбежал, от нас с вами погибнет… – развел руками Розданов. – Судьба, ядри его!..
Однако убивать дезертира Штубер не стал. Как только тот немного пришел в себя, оберштурмфюрер вдруг жестко извинился перед ним за удар и за то, что пришлось «занять» у него гимнастерку, и довольно сдержанно поинтересовался, когда именно он дезертировал из части.
– Я не дезертировал, – испуганно отползал подальше от ног оберштурмфюрера Лозовский, – таковой была фамилия этого человека, судя по записи в его «справке»[21]. – Я тут… Я сюда… Понимаете, у меня тут родственники.
– Хватит лгать! – наступал на него Штубер. – У нас нет времени на протоколы допроса. До трибунала тоже далековато.
– Да правду я говорю, правду… Просто зашел сюда… – продолжал бормотать Лозовский, понимая, что вопрос, жить ему или умирать, решает сейчас только этот, невесть откуда появившийся лейтенантик.
– И поэтому прятался под копной сена?
– Так ведь в село нагрянуло человек тридцать солдат. На хутор тоже заглядывали. Еле успел затаиться. Я ведь вроде как не спросясь наведался сюда; не спросясь, отлучился из части.
– …В яму под копной «отлучился»? Которую давно приготовил? И тоже «не спросясь»? Встать! Встать, идиот! Смотреть в глаза.
– Позвольте, я с ним поговорю, – приблизился к ним поручик.
– Не мешать, Розданов, не мешать! – остановил его порыв барон фон Штубер. – Он мой. И на меня нашло вдохновение. Что заставило тебя дезертировать из армии? – вновь обратился к Лозовскому. – Я спрашиваю: – повторил Штубер по-немецки, – что заставило тебя оставить свою часть и скрываться здесь?
– Я уже объяснил вам, – пролепетал дезертир, все еще плохо представляя себе, в чьи руки – своих или немцев – он попал.
– Да тебе же повезло! – подхватил его Розданов за шиворот. – Перед тобой – немецкий офицер! Десантник. Неужели до сих пор не понял этого?! Перед тобой – твое спасение и твое будущее. Если, конечно, ты, провинциальный мерзавец, еще достоин какого-либо будущего.
С большим усилием он поставил Лозовского на ноги, подтолкнул к Штуберу и для полного приведения в чувство несильно, однако довольно резко ударил ребром ладони по правой почке.
– Так вы… немец? – простонал Лозовский, болезненно морщась, но стараясь при этом не обращать внимания на Розданова.
– Тебе ведь сказано, – резко ответил Штубер по-немецки. – Перед тобой десантники. Слышал о десанте? – перешел он на русский.
– А как же, слышал. Те, что прочесывали долину, говорили между собой. Немецких десантников искали.
– Ну вот, Розданов, а вы что-то там твердили о непонятливости господина Лозовского, – и губы оберштурмфюрера передернула презрительная улыбка. – Что за склонность без конца недооценивать и ругать своих земляков, поручик белой гвардии?! Оружие есть? – снова обратился к Лозовскому.
– Там оно, – кивнул в сторону стожка.
– Значит, оружие все же не бросил? Похвально. А когда я доски отбивал – слышал?
– Нет.
– Так ты что, умудрился прозевать нас?
– Придремал малость, господин офицер.
– Так бы и сказал. Почему такое недоверие? Вот видишь, ты объяснил, и сразу же все прояснилось. Господин Лозовский, отныне вы – солдат Великой Германии.
– Как… это? – не уловил своего «везения» дезертир.
– Через несколько дней вы вернетесь в это село старостой. А может, и начальником районной полиции. Все будет зависеть от вашего старания и преданности рейху.
Лозовский сначала испуганно уставился на Штубера, а затем медленно перевел взгляд на Розданова. Этому он доверял больше, хотя бы потому, что поручик был русским.
– Ну, отвечай, отвечай. Германский офицер предлагает тебе не позорный плен, а почетную службу в вермахте. Или в полиции. Тебе даруют жизнь. Все равно красные тебя бы расстреляли.
– Буду стараться, господин офицер, – дрожащим голосом заверил дезертир. – Коммунистом я никогда не был.
– Но и никогда не думал, что это будет считаться твоей заслугой, – язвительно заметил Розданов. – Все вы теперь будете отрекаться от своего красного нутра, провинциальные мерзавцы…
Лозовский очумело посмотрел на Розданова. Он все еще не мог взять в толк, что это за человек, почему он оказался рядом с немецким офицером, почему так ведет себя, а главное, какую роль способен сыграть поручик в его собственной судьбе. Единственное, что он хорошо усвоил, – что этот лейтенант – не красноармеец, а значит, расстрел перед батальонным каре по приговору военного трибунала на время откладывается.
– Можно я схожу за своей винтовкой? – спросил он Розданова.
– Почему же ты оружие не выбросил?
– Война ведь вокруг.
– Но ты же не собирался воевать? Или все же собирался?
– Он решил влиться в ряды вермахта со своим оружием, – ухмыльнулся Штубер. – Но то, что винтовку он все же не бросил, как-то смягчает его вину перед Родиной.
– Ну что стоишь, провинциальный мерзавец? – не стал морально истязать его поручик. – Неси свою берданку. Только не вздумай брать нас в плен.
– Какой там плен?! – проворчал Лозовский. – Но и вы меня тоже в плен не ведите.
– А что нам с тобой делать? – огрызнулся Розданов. – Разве что здесь же и казнить. Выбор у нас небольшой: либо пристрелить тебя, либо переправить через Днестр в качестве словоохотливого «языка».
Через несколько минут Лозовский вновь появился у сарая, но уже с винтовкой за плечом и с пилоткой на голове.
– Может, и пересидим где-то здесь, на этой стороне, пока немцы… ваши то есть, извиняюсь, подойдут? – с надеждой спросил он. Идти через Днестр, на погибель, ему вовсе не хотелось.
– Сейчас мы пойдем на шоссе, – не резко, но очень твердо ответил Штубер. – И вернемся на тот берег по мосту.
– Так ведь не пройдем.
Штубер вопросительно взглянул на него.
– Там документы проверяют.
– Ну, кое-какие документы у нас все же есть. И не думаю, чтобы они тщательно проверяли у тех, кто идет на фронт. Другое дело те, кто приходит с правого берега.
На какое-то время в сарае воцарилось напряженное молчание. Штуберу понятно было колебание Розданова и Лозовского. Ему и самому хотелось отсидеться здесь. Это убежище казалось таким мирным и надежным. Его так не хотелось покидать.
– По мосту – так по мосту… – первым прервал молчание Лозовский. – А пока давайте зайдем ко мне в дом. Перекусим, подумаем, как быть дальше. Леском пойдем. Незаметно.
* * *
В доме их ждала маленькая, худенькая, почти лилипутской комплекции женщина. Когда мужчины вошли в дом, она сидела за столом, на котором уже исходили паром две миски борща и миска картошки в мундирах. Рядом с ними серел казанок с квашеной капустой. Появление двух незнакомых мужчин ее совершенно не удивило, она словно бы ждала их. Некрасивое, безликое какое-то лицо ее казалось совершенно безучастным.
– Эти – со мной. Подождешь в той комнате, – наставлял Лозовский, пока женщина наполняла борщом третью миску. – Нет, лучше во дворе. Если кто сунется – в окно постучишь.
Хозяйка ничего не ответила, молча выставила на стол бутылек самогона и так же молча, безропотно вышла.
Штубер сам разлил самогон, отмерив каждому не более чем по сто грамм, и, брезгливо поморщившись, выпил первым.
– Итак, сейчас выходим на шоссе. Попытаемся захватить машину. В крайнем случае, пристроимся где-нибудь в городе к колонне, идущей на ту сторону, – излагал он свой план, без всякого аппетита отведав несколько ложек борща. Блюдо это было явно непривычным для него, а потому казалось невкусным.
– А ведь план неплохой, – признал Розданов. – Если, конечно, исходить из того, что нам как можно скорее следует вернуться на правый берег. Хотя безопаснее было бы затаиться где-то здесь.
– Прямо где-то здесь, в селе, – поддержал его Лозовский. – Спрячемся у меня под сараем, там, со стороны леска, есть небольшой погребок, в котором можно будет пересидеть. Найти нас там могут только с собакой-ищейкой. Но ведь искать будет некому. Никто о нас не знает.
– Или пройти километров пять в глубь территории, – как бы между прочим предложил поручик. – То есть в те места, которые красные, отступая, будут проходить в спешке, без боев, торопясь к новым рубежам.
– Оба варианта приемлемы, – не стал вдаваться в полемику Штубер. – Особенно удачным и безопасным кажется ваш план, – обратился к Лозовскому. – Для дезертира он просто идеален. Но мы-то с вами, поручик Розданов, не дезертиры. Или, может, побежим и от русских, и от немцев? – повысил он голос. – Так ведь долго не набегаемся. – И вы, Лозовский, тоже уже дали согласие служить рейху. Дали-дали!.. – прервал попытку дезертира что-то возра-зить. – А посему обедаем – и идем к мосту. В случае неудачи – встречаемся на этом хуторе. Потом решим, как быть дальше. И еще, – добавил Штубер, когда с едой было покончено и он внимательно просмотрел документы и обмундирование своих спутников. – Если погибну, тот из вас, кто сумеет уцелеть, должен будет заявить в штабе любой немецкой части, что он встречался с оберштурмфюрером Штубером. Пусть срочно свяжутся с разведорганами.
– Вам бы фуражечку какую, – робко напомнил Лозовский. – Не по форме оно как-то, без фуражечки…
– Вот вы, лично вы, Лозовский, и добудете мне эту самую «фуражечку». При первом же подходящем случае.
– Я? – испуганно переспросил Лозовский. Но, встретившись с жестким взглядом Штубера, тут же пролепетал: – Нет, нож у меня, конечно, есть, – достал из-за голенища самодельную финку с узким лезвием и красивой наборной ручкой. – Так что…
– Я чувствую себя так, словно мы выходим на большую дорогу грабить проезжих, – проворчал Розданов. – Сколько русской крови прольется. Сколько ее прольется – и все зазря. Разве это Россия? Разве это Страна Советов? Это страна провинциальных мерзавцев.
– Вот именно! – согласился Лозовский. – И сказано-то как: «Страна провинциальных мерзавцев»! Никогда такого не слышал.
– Провинциальный мерзавец, – проворчал Розданов, но уже как-то беззлобно, примиряюще.
Лозовский набыченно взглянул на поручика, однако ничего не сказал, вновь наполнил небольшие стограммовые стаканчики и, не отвлекаясь на тосты, выпил.
– Я ведь предлагаю отсидеться не из трусости, – обратился к Штуберу, демонстративно игнорируя поручика, – а во спасение всех нас. Из части ушел тоже не из трусости, а потому что воевать за красных не желаю. Хотя и страх тоже есть, не без того.
Покончив с обедом, они все трое еще с полчаса просидели молча, привалившись спинами к стенам дома и закрыв глаза. Это был своеобразный «сон на дорожку».
– Ну что, господа, пора, – наконец скомандовал Штубер, напряженно взглянув на Лозовского.
– Если решили, значит, надо идти, – неожиданно охотно согласился тот. – Посидите еще минут десять, я тут… словом, с женой хочу попрощаться.
– Только не вздумай бежать, – подался вслед за ним к двери Розданов.
– Я ведь сказал: только с женой.
Когда ровно через десять минут он явился раскрасневшийся, вытирая с лица пот и снимая с волос стебельки сена, Штубер и Розданов встретили его с ухмылкой. Они понимали, каким было это его прощание с женой, и даже чуточку позавидовали ему.
23
По опушке леса они обогнули деревню и потом, поплутав немного по мрачному урочищу, Лозовский повел их прямо к городу. Впрочем, путь этот был не самым коротким. Узкая извилистая тропа будто специально оказалась проложенной так, чтобы путник пробирался через густые заросли терновника, березняка и ельника; карабкался по склонам оврагов или сбивал ноги на остряках каменистого распадка, образовавшегося между разрытыми под карьеры горами.
– Ты действительно ведешь нас к городу? – усомнился было Розданов.
– Не к трясине же, – проворчал в ответ Лозовский.
– А кто тебя знает?!
Когда в просвете между отрогами гор они наконец увидели долгожданное шоссе, а за ним, за изгибом речки, – окраины города, сразу же облегченно вздохнули. И вопрос о том, как более или менее незаметно и естественно оказаться на шоссе – решился сам собой. Налетевшие пикирующие бомбардировщики «люфтваффе» буквально утюжили дорогу, уничтожая или сгоняя с нее все живое и движущееся.
Какой-то водитель, не сбавляя скорости, сумел загнать свою машину дальше всех, почти на каменистую россыпь ручейка, однако стрелки бомбардировщиков и здесь настигали разбегающихся солдат, поэтому вскоре вся тройка Штубера оказалась среди лежащих, копошащихся и мечущихся тел – живых, израненных или уже мертвых…
Фуражку для Штубера Лозовский подобрал возле замертво упавшего недалеко от него старшины. Как оказалось, он был старшим этой полуторки. Поняв, что теперь новобранцы оказались без своего командира, Штубер решил принять командование на себя. В перерыве между налетами он приказал красноармейцам задним ходом вытолкать машину к шоссе и, запретив хоронить четверых убитых («этим займутся другие, а нас ждет фронт»), приказал всем сесть в машину.
Солдаты-новобранцы были настолько напуганы, что повиновались этому, внушительного вида и невесть откуда взявшемуся лейтенанту так же безропотно, как Розданов и Лозовский. Особенно укрепился его авторитет, когда Штубер, заметив в кустарнике одного из рядовых, который лежал, притворяясь убитым, схватил его за шиворот, ударил лбом о ствол сосны и пинками погнал к машине.
– Один шаг в сторону от машины без моего разрешения, и я тотчас же пристрелю каждого, кто на это решится, – пригрозил он, размахивая пистолетом.
При въезде в город снова начался налет, и, вместо того чтобы проверять документы, часовые у шлагбаума, матерясь и угрожая оружием, побыстрее прогоняли машины и повозки мимо себя, помня, что всякое скопление людей и техники сразу же привлекает внимание немецких пилотов. Через город они проехали без особых приключений. У моста же барон фон Штубер сам на ходу выскочил из кабины и подбежал к стоящему во главе поста капитану:
– Далеко до фронта, товарищ капитан? – бесшабашно спросил он, так же бесшабашно-небрежно козырнув старшему по званию. – А то еще один налет – и от моих хлопцев только перья останутся.
– Чего ж они у тебя наполовину в гражданском? – не подозрительно, а скорее сочувственно поинтересовался капитан.
– Да прямо из военкомата. Там, на месте, кого могли – обмундировали и вооружили, остальных – как бог даст.
– Но, кажется, уже обстрелянные, – ткнул капитан кулаком в растрощенный борт.
– Еще как обстреляны! Даже до фронта не дошли, а четверых уже потеряли.
– Давай, проскакивай, пока немцы и мост не разнесли вместе с твоим воинством. Хотя мост они стараются пока что не трогать. Для себя небось берегут.
– Конечно, для себя.
Пока проезжали мост, Штубер сидел, крепко сжав зубы, и всматривался в одну, только ему открывавшуюся точку на горизонте.
«Сегодня тебе везет, как отчаявшемуся картежнику, – почти вслух проговорил он, как только миновали второй пост. – Другого такого дня не будет».
– Все вон на эту сторону реки драпают, а мы туда в самое пекло премся, – мрачно заметил седоусый водитель, который до этого на каждый вопрос Штубера отвечал так медлительно и неохотно, словно уже осознавал, что отвечает врагу. Как на допросе.
– А тебе кто мешал драпать? – спросил Штубер, глядя куда-то в боковое стекло.
– Куда же мне драпать? Я ведь вас везу.
– Теперь – да, теперь я тебе драпануть не позволю. Но ведь у тебя была возможность драпануть до прибытия к военкомату.
– Да не о себе я, не о себе!.. – обиженно прокряхтел водитель. – Я о вас думаю. Хлопцев вон жалко. Здесь, на этом берегу, они бы еще могли повоевать. А там немчура и повоевать им не даст – вот что самое обидное.
– Не даст, можешь не сомневаться.
– Потому и гутарю, жалею.
– Но тебе может повезти больше, чем многим из них, если окажешься в плену и спокойно дождешься конца войны где-нибудь в Германии, в лагере военнопленных.
Водитель внимательно посмотрел на лейтенанта. Он понял, что разговор тот завел неспроста, видимо, готовил почву для более серьезной беседы. Может быть, потому и готовит ее, что лично для себя уже давно решил: эту войну лучше переждать в плену. Ну и что, что командир? Он уже встречал таких, лейтенант – не первый и, понятное дело, не последний.
– Нельзя нам… по лагерям, товарищ лейтенант. Даже когда очень жить хочется. Так хочется, что до смертности тоска заедает – а нельзя! – рассудительно проговорил он, вцепившись руками в потрескавшийся руль.
– Но ведь сам говоришь, что жить хочется.
– Говорю. И что из того? Все так говорят. Немчура, конечно, может рассуждать: «Завоюем – не завоюем… – это еще надо посмотреть, а в лагере военнопленных можно отсидеться». У нас же… Смотри вон мужика сколько выбило. Страх сколько. А ведь еще больше выбьет. Но кому-то же нужно и спасать-оборонять эту землю. Силой возьмут в лагеря – и то убегу. А ты: «Сдаться, пересидеть…» – укоризненно покачал новенькой, но уже основательно засаленной пилоткой.
– Ну, это я так, по-житейски… – поправил Штубер расстегнутую кобуру. Чтобы поближе и поудобнее…
– Понял, что по-житейски. Потому ничего такого и не слышал. Зря кобуру, как девку, щупаешь, лейтенант.
– Хитер ты, рулятник. Опытен. С Гражданской, что ли?
– Да нет.
– Вообще не воевал?
– На фронте – нет.
– Где же еще?
– Да после войны немножко пострелял.
– Как это «после»? Когда?
– Да отряд у нас был. Небольшой. Против коллективизации сгуртувались. Советы нас, конечно, бандой называли. Хотя, какая мы банда? Свое, кровное, от заезжих коммунистов-коллективизаторов отбивали – вот и весь наш «бандитизм».
– Так ты против красных, что ли, воевал?! – оживился Штубер.
– Белые не раскуркуливали.
– Почему же тогда не расстреляли?
– Сам не пойму. Вроде бы стрелял в ихних не хуже остальных. Червонец дали. Может, потому, что сам не из богачей был… Но хорошо знал, как это самое богатство наше, крестьянское, дается. Потому и стоял за справедливость.
– Десять лет – тоже не скупо.
– Аккурат червонец. Это у них, как у Господа Бога в аптеке. На что-на что, а на пули и лагеря коммунисты не скупятся. При всей своей нищенской бедности. Правда, два годка не досидел. Отпустили с миром.
– Ну, отпустили… Дальше что? Они простили тебе, а ты – им? Зла не помня, голову сложу?
– А ты вроде как не русский?
– Не русский? – насторожился Штубер. – Почему не русский? То есть, почему так решил?
– Да произношение какое-то такое… Литовец со мной один сидел в лагере. Вроде бы хорошо говорил по-русски, правильно. А все равно чувствовалось: прибалтиец! С той поры я всегда чувствую прибалтийцев.
«Вот тебе и подсказка… – молвил себе оберштурмфюрер. – Выдавай себя за литовца. Или латыша…»
– Чуть-чуть не угадал, – молвил вслух. – Эстонец. Из «красных эстонцев». Отец в интернациональной бригаде воевал. Литовцы – они русые. И произношение другое. Эстонец-то эстонец, но когда называют «нерусским» – обижаюсь, – почти искренне, без наигранности, рассмеялся Штубер. Этот ненаигранный смех он натренировал давно, еще когда совсем юным действительно начинал свою агентурную работу в Эстонии. Под видом агента торговой фирмы. – И вообще, отношения к делу это не имеет.
– О том и гутарю, лейтенант. В кого я стрелял, за что сидел – все со мной и при мне. Во всем этом мы тут сами разбираться будем. Они же, германцы, пусть не суются.
– Вот за это хвалю. Это по-нашенски.
Выждав еще несколько минут, Штубер понял, что самое опасное место беседы они миновали. Показывать водителю удостоверение, согласно которому он является лейтенантом Красной армии Валентином Трифоновичем Гуревским, оберштурмфюрер все равно не собирался. Но все же…
24
Дорога пролегала как бы по террасе, проложенной у самого гребня возвышенности, и отсюда, с высоты ее, Штубер мог спокойно осматривать левый берег, на котором, где-то там, между мостом и горой, затаились доты укрепрайона. Правда, отсюда они почти не просматривались – русские позаботились о естественной маскировке, но все же он, очевидно, был одним из первых немецких офицеров, которые вот так, спокойно, могли рассматривать всю линию обороны противника на том берегу: окопы, блиндажи; врытую в землю неподалеку от разрушенного завода артиллерийскую батарею. Впрочем, вон и дот. На склоне горы. Ага, отсюда он угадывается довольно четко. Жаль, что нет фотоаппарата…
– Что за машина? Чья орда? – остановил их машину подполковник-артиллерист, как только они выбрались за разбомбленную и почти целиком сожженную окраину молдавского села.
– Моя, товарищ подполковник. Лейтенант Гуревский, – спокойно ответил Штубер, выходя из машины. – Если вас интересуют документы, то их только что проверяли.
– Меня интересуют люди, а точнее – штыки. Кто такие? Куда вас направляют?
– Куда именно – пока не ясно. Новобранцы. Подкрепление. Приказано прибыть в дивизию, а там уж – на усмотрение командиров.
– Кто ж это приказал? – неожиданно вмешался водитель машины, стоя на подножке. – Вроде как не было приказа, чтобы ехать сюда, на молдавский берег.
– Ну да, чем дальше от фронта, тем спокойнее, – зло взглянул на него Штубер и, достав портсигар, предложил подполковнику закурить. – На фронт ему, видите ли, не хочется, – вполголоса проговорил он. – Все, мол, на тот, левый, берег, а мы – в самое пекло премся.
Водитель хотел еще что-то сказать, однако, наткнувшись на цепкий взгляд лейтенанта, запнулся. Тем более что рука офицера вновь легла на кобуру.
– Слушай, козак-станичник, махры у тебя не найдется? – тотчас же впился в плечо водителя лысоватый красноармеец, один из тех троих, что пристали к их машине во время бомбежки.
– Не найдется, – резко отреагировал бывший контрреволюционер.
– А то бы угостил, – не отставал от него Лозовский, поняв, что, если сейчас не отвлечь его, тот может наговорить лишнего.
– Так, водитель, – гаркнул Штубер, – займите свое место в кабине! И ждите дальнейших указаний.
– Шоферюга. Ему бы по бабам-тыловичкам шастать, – согласился подполковник, провожая взглядом поспешливо уходящего водителя. – Так в какую дивизию тебе приказано?
– Да тут, в машине, старшина был старшим. Вот только убило его. Мне же приказали доставить их сюда. Мол, новобранцы. На передовой виднее, куда их.
– Черт знает что. Полная неразбериха. Сколько их у тебя?
– Надо выяснить. Четверо погибло. Несколько человек пересело с другой машины, которую немцы разбомбили. Думаю, человек тридцать наберется. Эй, Лозовский, посчитать людей!
– С водителем – двадцать восемь, – ответил тот через несколько минут.
– Извините, товарищ подполковник, все, что есть.
– Как думаете: больше подкрепления не будет?
– Похоже, что нет. Вы вот что, возьмите нас всех под свое начало, товарищ подполковник. Коль уж судьба свела…
– Да? – задумчиво окинул его взглядом подполковник. – А что, и возьму. У меня от полка – одно название осталось. Чехлов! – позвал он кого-то из черневшего неподалеку блиндажа.
– Я! – показался в проеме коренастый крепыш с пилоткой, одетой поперек головы, как треуголка.
– Перебрось пополнение в третий дивизион. Передай его капитану Грошеву.
– Есть перебросить в третий дивизион! – гаркнул Чехлов так, словно командовал парадом целой дивизии.
– Кстати, от дивизиона – тоже одно наименование… Два боеспособных орудия, – объяснил подполковник Штуберу. – Так что воевать личному составу придется без орудий, в окопах, по-пехотному.
– Последний заслон перед Днестром, – согласно кивнул Штубер. – Дело ясное. Если есть раненые, советую отправить их на машине на тот берег.
– Есть, конечно.
– Лозовский, – все еще не выпускал инициативу из своих рук Штубер, – проследите за погрузкой раненых! – А когда Лозовский приблизился, вполголоса приказал: – Ни на шаг от водителя. В случае чего, снимай его ножом или пулей и уходи то ли на грузовике, то ли пешком.
– Понял. Он у меня не пикнет.
Но уже через несколько минут ситуация изменилась. Как оказалось, двое раненых умерло, одного санитар не советовал везти в машине, потому что тряски он не выдержит, а вот в спокойствии может и отлежится. Еще троих легкораненых подполковник приказал оставить в батальоне.
– По закону Спарты, – объяснил он Штуберу, – раненые должны разделить судьбу всего войска.
И тотчас же приказал погрузить новобранцев в машину и доставить в батальон.
25
Холмистая равнина уводила все выше и выше к горизонту, и иногда Громову казалось, что они поднимаются куда-то в горы; уходят к каким-то лесистым вершинам, спасаясь от войны и собственного страха. Вот и тропинка становится все каменистей, подъемы круче, а трава на разрытых желтоватых склонах холмов – жестче и скуднее.
Однако чем ближе Громов и Кожухарь подходили к фронту, тем явственнее становилась артиллерийская канонада. А вскоре она разгорелась с такой силой, словно эти двое оказались в центре какого-то огромного сражения – окруженные, беспомощные, однако все еще хранимые судьбой.
Время от времени в сознание лейтенанта даже закрадывалось опасение, что фронт прорван, фашисты вышли к реке и уже форсируют ее, а дот принял бой без коменданта, который так и не сможет пробиться к нему.
Каждый раз, когда такая мысль въедалась ему в душу, Громов буквально наступал на пятки неспешно шагавшему впереди него Кожухарю, стараясь подогнать его, и, тяжело дыша в затылок, раздосадованно спрашивал:
– Ну, где он, где?! Далеко еще? Скоро покажется эта проклятая река?
– Чего же проклятая? Река как река! – обиженно вступился за Днестр связист, поправляя болтавшуюся у него за спиной катушку с кабелем. – И до пещеры нашей недалеко.
– Какой еще «пещеры»?! – возмутился лейтенант. – Это вы что, о доте?!
– Ото еще километр, – словно бы не слышал его слов связист, – и будем на месте. Та вы не волнуйтесь, товаришу, – забывал добавлять звание Кожухарь. – Немец же на том берегу Днестра, а мы – на этом. Кто ж ему с ходу даст такую реку перейти? С ходу ему никто не даст. Так что всегда успеем.
Говорил Кожухарь с сильным, характерным украинским акцентом, неспешно растягивая слова, словно выкрикивал их для кого-то, стоящего очень далеко. Но при этом не особенно заботился, чтобы его действительно услышали! Больше общался с самим собой. И прислушивался тоже в основном к себе.
– Да уж надо бы успеть, – в который раз мрачно соглашался лейтенант, мысленно поругивая себя за несдержанность.
– Послушайте, Кожухарь, а как вы чувствуете себя в доте? Не страшно оставаться в подземелье?
Кожухарь удивленно оглянулся на лейтенанта, покряхтел и, не спрашивая разрешения, уселся на произраставший из пригорка валун.
– Я ведь не один там буду. Одному было бы страшно. А если всем взводом…
– Но ты понимаешь, что, когда немцы прорвутся на этот берег, все мы окажемся в каменном мешке?
Кожухарь непонимающе уставился на лейтенанта, но затем взгляд его несколько прояснился.
– Если вы боитесь, лейтенант, – вдруг понизил он голос, – можете не идти. В доте скажу, что вас убило, чтобы не бросились искать да по связи спрашивать. Или нет, скажу, что вас взял с собой какой-то майор. А вы пристаньте к какой-нибудь части… Кто там потом будет разбираться.
– Надежный вы человек, Кожухарь, – не стал вдаваться в объяснения Громов. – Но все же… подъем, пора идти к доту.
«А ведь действительно, какой был бы срам, если бы вдруг не успели в “Беркут”, – подумалось Громову, когда Кожухарь послушно поднялся. – Такой срам русские офицеры смывали, только исповедуясь под дулом своего личного пистолета. Так что поскорее бы в дот, в гарнизон… Сориентироваться на местности, наладить связь с соседними гарнизонами и маневренной ротой, выяснить изменения в обстановке на участке фронта…» Его прибытие и так безобразно затянулось.
– Чтобы фриц туда раньше нас – да никогда! – мурлыкал в прокуренные усы Кожухарь, не прибавляя шагу и в то же время не пропуская лейтенанта вперед. – Там же Днестро. Фрицы его по-мирному переплыть захотят – половину перетопятся. А тут же – под пушками надо, под пулеметами…
– Разговоры, красноармеец Кожухарь, разговоры… – сдержанно проговорил Громов.
Откуда-то из-под утреннего солнца вынырнуло звено немецких бомбардировщиков. Потом еще и еще одно. Самолеты проходили почти над головами Громова и Кожухаря, но ни их, ни длинный обоз беженцев, тянувшийся внизу, по проселочной дороге, германцы не трогали, не желая тратить на них боезапас. Они медленно, угрожающе разворачивались, снова уходили к солнцу и, уже охваченные его лучами, словно пламенем, пикировали на невидимые отсюда цели.
«А ведь на доты пошли! – проскрипел зубами Громов, прислушиваясь к разрывам бомб. – Утюжат запасную линию обороны. К переправе готовятся…»
– Аккурат наши доты и бомбят, – подключился к его размышлениям Кожухарь. – Точно, наши.
– Будем надеяться, что так, с ходу, они их не возьмут. Кстати, есть там хоть одно зенитное орудие?
– Зенитное? Нет.
– Что, с воздуха доты вообще не прикрыты?
– А кто бы их там прикрывал? – по-крестьянски удивился Кожухарь.
И оба надолго умолкли, все внимание свое обращая на отзвуки воздушной атаки.
– Давно в гарнизоне дота, связист? – нарушил это молчание лейтенант.
– Неделю. Мы все там неделю, – срывающимся голосом ответил красноармеец, задрав голову и внимательно следя за самолетами, перестраивающимися для новой атаки. – И почти все такие же необстрелянные, как я. Так что войско вам досталось…
– Теперь оно всем такое досталось.
– А дот хороший. И название ладное: «Беркут»! Орел, значит. Отож и нам нужно быть орлами.
– А они?.. – повел взглядом по небу. – Они, немецкие самолеты, что, каждый день вот так?..
– Да нет. Дальше пролетали. А то еще на город сбрасывали. Нас почему-то не тревожили. Наверное, потому, что войск возле нас мало. Да и живем мы скрытно, маскируясь…
– И все же… За все эти дни – никакого прикрытия с воздуха?
– Та какое ж там прикрытие?! Это уже, может, потом прикроют, когда фашист за берег цепляться будет. А сейчас только архангелы за нас и заступаются.
– Архангелы – да. Архангелам работы нынче хватает. Впрочем, хватает ли? Очень скоро каждому из нас понадобится по очень надежному ангелу-архангелу. По крайней мере, для того чтобы знать, кого молить о спасении. Но это уже другой разговор. А пока что… Слушай мою команду, красноармеец Кожухарь: «За мной! Бегом марш!»
– Так ведь не добежим же до дота! – изумленно уставился на него Кожухарь. – Сил не хватит. И зачем бежать, немцы-то пока еще на том берегу. Ну придем на полчаса позже, какая разница?
– За мной, Кожухарь, за мной, – неожиданно занервничал Громов, словно бы предчувствуя, что в доте сейчас происходит что-то неладное. – Время дорого, время! А то ведь может случиться так, что пока мы доберемся до своего «Беркута», бойцы уже разбредутся кто куда.
– Не разбредутся, – тяжело, по-стариковски дыша, поднимался на небольшое взгорье Кожухарь. – Там ведь старшина Дзюбач. Тот и сам не уйдет, и другим не даст.
– Разве что надежда на старшину Дзюбача… – примирительно согласился Громов.
26
Хозяин, в доме которого штандартенфюрер СС Гредер решил остановиться, чтобы отдохнуть и перекусить, оказался молдаванином, к тому же бывшим учителем немецкого языка. Дом его не пострадал, снаряд, упавший у него в саду, оказался болванкой – из тех, которыми иногда пользуются танкисты, и он так и лежал невзорвавшимся.
Высокий, крепкого телосложения усач этот встретил полковника, его адъютанта и водителя без особой радости, но и незлобиво, как встречают напросившихся на ночлег случайных проезжих.
Деревня была занята какой-то румынской частью, и своих, молдаван, румыны старались не обижать. Единственное, на что хозяин, которого звали Мирчей, пожаловался, так это на то, что слишком уж многие из солдат попрошайничают.
– И надолго вы ко мне? – бесцеремонно поинтересовался Мирча, как только, выслушав его жалобу, полковник СС пообещал потребовать от румынского командира, чтобы тот унял своих попрошаек.
– На два часа, – ответил Гредер.
– Это приемлемо, – признал Мирча. С немцами он вел себя, как с союзниками, поэтому старался держаться непринужденно. Тем не менее это его «приемлемо» оскорбило адъютанта Гредера унтерштурмфюрера Курта Шушнинга, и тот посоветовал хозяину попридержать язык.
Семидесятилетний экс-педагог высокомерно взглянул на молодого лейтенанта, давая понять, что ему не следовало бы вмешиваться в разговор старших, и как ни в чем не бывало продолжил:
– За полчаса до вашего появления здесь ко мне зашел румынский полковник. Возможно, я принял бы его, но вместе с ним оказался пленный русский летчик, которого полковник Думитраш намеревался прямо здесь, у меня в доме, допрашивать. Но я так и сказал ему, что это дом сельского интеллигента, а не филиал бухарестской тюрьмы…
Услышав о летчике, Гредер прекратил опустошать свой бокал с густым терпковато-сладким красным вином и резко прервал Мирчу:
– Этот пленный что, действительно был русский летчик?
– Летчик, – пожал плечами хозяин дома, принимая от еще довольно моложавой жены две большие миски: одну – с нарезанными на ней ломтиками брынзы, другую – с жареным перцем. – Полковник сам говорил. К тому же я видел форму и знаки различия. Его вчера подбили. Причем подбили на левом берегу Днестра, а самолет упал на правый. Почти сутки этот пилот скрывался в степи. По званию вроде бы майор, в советских знаках различия я не очень-то хорошо разбираюсь.
– Это уже интересно, Шушнинг, – обратил Гредер свой взор на адъютанта. – Пленного немедленно сюда. Не для допроса, просто я хочу с ним переговорить.
– А если румын-полковник станет возражать?
– Значит, вы доставите этого летчика вместе с вашим «румын-полковником». Возьмите с собой водителя и под двумя стволами – сюда их, обоих. Что касается вас, господин Мирча, то я попрошу вас быть переводчиком. Поскольку русский мой слабоват.
– Так вы владеете русским? Учительствовали у себя в Германии?
– Нет, сам учился. У них, в России, – вновь наполнил Гредер свой стакан вином из стоявшего посреди стола чайника. Он впервые в жизни видел, чтобы вино подавали в чайниках. До этого дня он даже не догадывался, что такое в принципе возможно.
– Значит, вы русский немец? – поинтересовался Мирча, отослав жену в другую комнату, очевидно, побаиваясь, как бы подвыпивший эсэсовец не засмотрелся на нее.
– По крайней мере так считали русские, когда я учился в России.
Их разговор прервало появление адъютанта и водителя. Шушнинг торжествующе представил идущего вместе с ними коренастого, лет под сорок человека, знаки различия которого свидетельствовали, что он является подполковником Военно-воздушных сил Советского Союза.
– Господин штандартенфюрер, позвольте взглянуть: заместитель командира полка подполковник Реутов, – артистично представил русского унтерштурмфюрер, и лицо его светилось так, словно это он сам подбил самолет, в котором над занятой союзными войсками территорией оказался этот русский ас. Хотя единственной его победой была победа над румынским полковником. – Был сбит над Днестром, когда прикрывал отход советских войск. Вступил в бой с тремя германскими самолетами.
– Надеюсь, вы не очень усложнили жизнь нашему другу, румынскому полковнику? – великодушно поинтересовался Гредер после того, как, выдержав напряженную паузу, убедился, что появление самого румынского офицера в доме не последует.
– Всего лишь пообещал господину Думитрашу, что будем помнить о том, что в плен русского офицера взяли все же его, а не наши солдаты.
– Должна же хоть какая-то победа числиться за доблестной румынской королевской армией! – усовестил его Гредер и потребовал от хозяина принести стакан для еще одного гостя.
– Поэтому-то румын-полковник и расчувствовался.
Пленный вел себя очень спокойно. Он уселся за стол, аккуратно положив перед собой забинтованную – то ли раненую, то ли обожженную – правую руку, а левой, не дожидаясь приглашения, взялся за чайник.
– За небеса, господин подполковник, – по-русски предложил тост Гредер.
– За небеса? Да, за небеса можно выпить, – согласился Реутов, но, прежде чем поднести стакан ко рту, пристально взглянул в лицо Гредера.
– Не пытайтесь узнать, в небе вы меня видеть не могли, – едва заметно ухмыльнулся Гредер, давая пленному понять, что любопытство его не осталось незамеченным.
– И все же лицо ваше мне вроде бы знакомо.
– Кстати, какую летную школу вы заканчивали?
– Это допрос?
– Допрос начинался бы с того, в какой части вы служили, сколько боевых машин было в ней в день вашего вылета и кто командир полка. Разве не так? А я всего лишь спрашиваю, какую школу красных военных летчиков вы закончили. И лицо ваше мне тоже знакомо. Фамилии не помню, а вот лицо… В Липецк вас, случайно, судьба не забрасывала, где-то так в конце двадцатых годов?
– В Липецк?! – оживился Реутов. Ему было за сорок, крупное, испещренное глубокими морщинами мужественное лицо… – А что вы знаете о… Липецке? Почему заговорили именно о нем?
– Это что, допрос, господин подполковник? – отомстил ему Гредер.
Реутов понял, что эсэсовец язвит, но обижаться не стал.
– Сами заявили, что у нас всего лишь разговор двух офицеров.
– Вот именно. Немецким владеете?
– Немного.
– А я русским… и тоже немного. Насколько мне известно, в 1924 году по личному приказу Сталина в Липецке была закрыта Высшая школа красных летчиков? Да или нет?
– Ну, допустим, известно. Почему вы о ней вспомнили?
– Вы, лично вы, учились в этой высшей школе?
– Нет, я появился в Липецке значительно позже.
– Так вот, я тоже появился там «значительно позже», уже в 1930 году, так как вместо закрытой Высшей школы красных летчиков вождь Сталин приказал открыть Высшую школу германских летчиков «Виф-Упаст». Поскольку международные договора запрещали проигравшей в Первой мировой войне Германии готовить кадры военных летчиков, мы готовили их у вас, в Советском Союзе. В тайне от всего мира. За восемь лет существования секретной школы «Виф-Упаст» коммунисты подготовили для нашего фюрера более двухсот первоклассных летчиков, составляющих теперь основы «Люфтваффе». Кстати, среди выпускников липецкой секретной школы летчиков был и нынешний командующий «Люфтваффе» Герман Геринг.
– Да, и Геринг тоже? Этого я не знал, – оживился подполковник. И адъютант Гредера, решивший было, что таким образом штандартенфюрер СС действительно пытается выудить из пленного какую-то ценную информацию, услужливо подлил в стакан Реутова вина и пододвинул миску с брынзой.
– Да, в Липецке, тайно от всего мира, коммунисты готовили гитлеровских, как вы говорите, летчиков, а в Казани, в школе, возглавляемой гитлеровским генералом Лютцем, – офицеров танковых войск. И поскольку учебу в авиашколе я, грешный, соединял с контр-разведывательной работой, – ничего не поделаешь, служба! – артистично развел руками Гредер, – то до сих пор помню, что создание школы «Виф-Упаст» происходило в рамках секретного советско-германского договора «О подготовке германских военных кадров на советской территории и испытании военной техники». Впрочем, вы о нем тоже могли не знать, поскольку оно было слишком засекречено.
– Нет, о том, что некое соглашение существует, я, естественно, знал, но в название и текст меня никто не посвящал. Не положено было.
– Судя по тому, что в конце тридцатых годов ваши бериевцы расстреляли или загнали в концлагеря несколько тысяч офицеров, в том числе сотни офицеров высшего командного состава вашей авиации и почти всех авиаконструкторов… У вас это все действительно строго, причем в строгости своей доведено до абсурда. Но не будем сейчас об этом. Учиться в «Виф-Упаст» вы, подполковник, не могли, следовательно, были в охране школы или в команде технического обслуживания.
– Все верно, я служил тогда в аэродромной охране. И лицо ваше мне знакомо. Военное училище я закончил уже потом. Знакомиться с вами поближе нам, как вы знаете, запрещали, но все же…
– Вы, очевидно, оканчивали Сталинградское авиаучилище?
– Так оно и было.
– Помню, что немало ваших парней мечтало поступить именно туда, в Сталинградское.
На какое-то время за столом было забыто, кто здесь офицер СС, а кто пленный советский летчик. Они выпили «за встречу» и «за небеса» – чтобы они всегда были благосклонны к тем, кто в них стремится. Со стороны это могло бы показаться встречей давних друзей.
– Но, судя по вашей форме, сейчас вы не в летной части? – заговорил Реутов после некоторого молчания.
– Сейчас – нет. В выборе между специальностями «пилот» и «контрразведчик» начальство склонило меня к профессии контрразведчика. Хотя порой я об этом жалею. – Он выдержал небольшую паузу, покряхтел, отпил немного вина и, прокашлявшись, сказал: – Вы понимаете, что я не могу не предложить вам, господин Реутов, перейти на службу в ряды «Люфтваффе» или в наземные части. Это было бы просто неблагородно с моей стороны. Если вы даете согласие служить в «Люфтваффе», я постараюсь сделать все возможное, чтобы вам в этом помогли, избавив вас от лагеря военнопленных.
– А что, есть уже такие, что переходят к вам на службу?
– Есть, господин Реутов, есть, – язвительно ухмыльнулся Гредер. – И добровольно сдаются, и переходят. Многим мы сохраняем воинские чины. Нам нужны хорошие пилоты, хорошие командиры. Мы ведь знаем, что в Советском Союзе есть много людей, пострадавших от коммунистических репрессий. Будем откровенны: Германия тоже не образец западной демократии, у нас тоже бывают свои «перегибы». Но то, что происходит у вас, тот размах истребления офицерских и руководящих кадров, с которым развернули свои чистки вы, коммунисты, не идет ни в какое сравнение с тем, что происходит в Германии.
Реутов отпил еще немного вина, съел ломтик брынзы и поднялся.
– Спасибо за угощение, господин штандартенфюрер, но я предпочту лагерь военнопленных.
Гредер тоже поднялся. Отказ русского подполковника не смутил и не огорчил его.
– Существует приказ, согласно которому русских офицеров-летчиков у нас содержат в специальных лагерях, со значительно более либеральным режимом, нежели в общем лагере. Поэтому мы попросим румынское командование передать вас нашей полевой жандармерии. К тому же я потребую, чтобы к вам отнеслись как положено, – перешел он на немецкий. – Уведите пленного, Шушнинг, и займитесь тем, о чем я говорил.
27
Шелленберг только что прослушал очередную фронтовую сводку и пребывал в приподнятом настроении. Он понимал, что, как и положено в таких случаях, данные о потерях германских войск конечно же занижаются, в то время как потери русских значительно преувеличены; что не все те населенные пункты, которые уже названы взятыми, в действительности полностью захвачены и что наверняка в некоторых из них все еще идут бои. Тем не менее общая картина наступательных действий была ясна. Она поражала и еще раз свидетельствовала в пользу стратегов из Генштаба вермахта.
«Позвонить Канарису, что ли, и предложить, чтобы он собрал нас в ресторане у Горхера еще раз? Интересно, как бы он вел себя теперь, великий изобличитель оптимистов?»
– Господин бригадефюрер, – услышал он в трубке характерный баварский говор сотрудника Министерства иностранных дел Штоуфе. – Извините, что беспокою…
– У нас обычно извиняются, если умудрились вовремя не побеспокоить, – успокоил его Шелленберг. – Все еще проблемы с Деканозовым?
– Да, бригадефюрер. Ситуация начинает приобретать форму международного политического скандала.
– Ничего, на фоне всех тех событий, которые разворачиваются сейчас в Восточной Европе, любой скандал покажется ухмылкой пересмешника.
Штоуфе выслушал его молча и, очевидно, с удивлением. Его немного сбивала с толку игривость настроения начальника отдела политической разведки Имперской службы безопасности. Он-то фронтовые сводки не слушал, а варился в шпиономанском дипломатическом котле.
– Это понятно, – как можно учтивее согласился он. – Но дело вот в чем: только что русский посол, господин Деканозов, заявил, что не уедет из Берлина, пока не будут найдены два сотрудника советского консульства в Данциге.
– А… куда они, собственно, исчезли? – наконец-то голос Шелленберга стал соответствовать его чину и должности.
– Разве вы не в курсе дела? – чуть было не воскликнул доктор Штоуфе. – Вам ничего неизвестно об их судьбе?
– Зато у вас есть возможность просветить меня.
– Официально они считаются пропавшими без вести. По крайней мере так было сообщено русскому послу. На самом же деле они арестованы местными агентами абвера и гестапо. Операция была совместной.
– Канарис опять может записать очко на свой счет. Так вы что, решили признать перед Деканозовым факт их ареста?
– Он сам заявил, что оба сотрудника арестованы гестапо и сейчас их допрашивают. То есть, это уже сработала разведка русских. До тех пор, пока эти двое сотрудников не будут доставлены в Берлин, в русское посольство, Деканозов отказывается вести какие-либо переговоры о своем выезде из Берлина. Поэтому нужно срочно решать, что, какие такие акции предпринять, чтобы замять этот скандал. Учитывая, что от нашего решения зависит также судьба посла Германии в Москве графа Шуленбурга и его подчиненных.
– Ну, думаю, мы не допустим, чтобы вместо Германии графа отправили в Сибирь.
А уже через несколько минут Шелленберг говорил с начальником Данцигского отделения РСХА штурмбаннфюрером Карлом Вейзером. Оказалось, что он и сам только сегодня узнал об аресте двух русских диппредставителей, которые, несомненно, были резидентами довольно большой польско-германской шпионской группы. Эти сотрудники, выступающие под фамилиями Зверянин и Смоляков, уже перевезены в Восточную Пруссию и дают показания.
– И что, появились другие арестованные по этому делу?
– Двадцать пять человек, из числа германцев и поляков.
Услышав эту цифру, Шелленберг присвистнул от удивления.
– Надеюсь, они там не хватали всех подряд, для счета?
– Свидетельства допрошенных полностью подтверждают, что дипсотрудники русского консульства были резидентами. И что где-то рядом, в районе Данцига, работал радиопередатчик русских.
– И уже расшифрован код?
– Нет, расшифровать пока не удалось, задержать радиста – тоже.
– Но в таком случае, все остальные показания задержанных будут выглядеть неубедительно. Мало ли в чем могут признаться люди, пройдя через подвалы гестапо!
– Но есть показания самих русских шпионов.
– Прошедших через те же подвалы, – напомнил ему Шелленберг. – Существуют еще какие-либо пикантные подробности?
– В деле фигурируют высшие офицеры из данцигского штаба Управления снабжения сухопутных войск.
– Вот уж поистине неиссякаемый кладезь информации! – одобрил работу русских профессионалов Шелленберг. – Узнай от пьяного интенданта, куда и сколько пар сапог ушло или сколько тонн горючего выделено на танковую дивизию, и никакие агентурные группы разведчиков в нашем тылу русским уже не понадобятся.
– Возможно потому, что сведения получали из управления снабженцев, русским удалось передать ряд важнейших сведений о дислокации войск в Восточной Пруссии и их передислокации в прибалтийские страны, а также о перемещениях кораблей нашего балтийского флота. Кстати, готовится арест еще более двадцати человек. В том числе и из числа офицеров вермахта и крингсмарине.
– То есть вина этих двух русских дипсотрудников доказана? – уточнил Шелленберг.
– Абсолютно. Они – профессиональные разведчики, бригадефюрер. Это доказано всеми материалами, которые имеются у следователя. И в этом оба они, по крайней мере один из них точно, уже практически сознались.
– Кто из следователей работает с ними?
– Гаупштурмфюрер СС Рольке.
– Не имею чести знать. Тем не менее завтра же он должен быть у меня, со всеми материалами по делу этих двоих русских. А самих русских немедленно освободить.
Штурмбаннфюрер натужно прокашлялся и только тогда осипшим голосом произнес:
– Простите?
– Я сказал: обоих освободить.
– Но они же… русские разведчики!
– Именно поэтому – освободить, – не стал приводить никакие дополнительные доводы Шелленберг.
Штурмбаннфюрер попытался еще раз прокашляться, затягивая паузу:
– Прямо сейчас?
– Сию минуту.
– Что, взять и просто так отпустить их?
– Боже упаси! Привести в надлежащий вид, накормить, позаботиться об их костюмах и обязательно снабдить переводчиком. Из наших людей, естественно.
– Хорошо, я доложу, что таков был ваш приказ.
– Что таковым был приказ начальника Главного Управления Имперской безопасности группенфюрера СС Гейдриха. Который согласовал свое решение с рейхсфюрером СС, – уже почти рявкал Шелленберг, опасаясь, как бы эти кретины из данцигского отделения РСХА не спасовали перед гестаповцами, абверовцами и еще неизвестно кем из тех, кто пасется сейчас на шпионских лугах Восточной Пруссии.
28
Следователь по делу русских дипломатических разведчиков предстал перед Шелленбергом уже на следующий день. Худощавый, нервный, в мешковатой форме, он мало походил на тех молодцеватых офицеров СС, которые смотрели в последнее время со страниц германских газет на площадях крупных городов Украины, Белоруссии и Прибалтики. Во внешнем облике гауптштурмфюрера Рольке вообще не было ничего, что выдавало бы в нем офицера, хотя бы какой-нибудь тыловой части вермахта. Гауптштурмфюрер, очевидно, все утро добирался из Восточной Пруссии до Берлина, выглядел бледным, усталым и смертельно невыспавшимся. Но это не помешало ему, обведя взглядом огромный кабинет бригадефюрера с его столом-дотом, прийти в еще большее смятение.
– Не теряйте время, гауптштурмфюрер, – жестко произнес Шелленберг, не позволяя ему опомниться. – Вас ведь вызвали сюда для личного доклада, а не для ознакомления с апартаментами Главного управления имперской безопасности.
– Да-да, господин бригадефюрер. Я готов. У меня было очень мало времени, – трясущимися руками начал он раскрывать толстенную папку с документами. Упустил один из документов, почему-то долго не мог поднять его с пола, пальцы просто-напросто не слушались его. Когда же он, наконец, разогнулся и встретился взглядом с бригадефюрером, то вздрогнул. Ему показалось, что Шелленберг в ярости.
– Бросьте эту вашу бумажку обратно на пол, – скомандовал Шелленберг, а увидев, что гауптштурмфюрер разомкнул пальцы и выпустил листик, продолжил: – Туда же бросьте эту чертову папку.
Гауптштурмфюрер послушно положил папку перед носками нечищенных, давно запыленных сапог.
– Вот… – еле слышно произнес он, абсолютно не понимая, к чему клонит бригадефюрер.
– А теперь садитесь вон на тот стул и спокойно, вдумчиво расскажите все, что вам известно по этому делу. Упуская все ненужные детали. У вас десять минут. И у вас еще никогда не было более благодарного слушателя, нежели тот, которого вы видите сейчас перед собой.
Как оказалось, гауптштурмфюрер обладал неплохой памятью и мог бы прослыть неплохим рассказчиком. Через десять минут Шелленберг имел полную ясность относительно сути дела, поведения арестованных и наиболее значимых фигур из числа тех пятидесяти человек, которые уже арестованы по делу о дипшпионах. Озадачило бригадефюрера лишь завершение этого доклада.
– Замечу, что следствие еще не завершено. Но я полон решимости завершить его, если только вы сочтете возможным допустить меня до него после этого доклада.
– Да, вы будете заниматься этим «делом». Но… по-моему вы что-то не договариваете.
– Извините, мне не удалось доставить их целыми и невредимыми, как было приказано.
– Что-что? – приподнялся Шелленберг. – Что вы там, гауптштурмфюрер, бормочите? Что значит «мне не удалось доставить их живыми и невредимыми, как было приказано»?
– Простите, бригадефюрер, но так произошло.
– Вы что, убили их?
– Ну что вы?!
– Так они живы? Я вас спрашиваю, черт возьми, эти двое русских разведчиков… они живы?!
– Так точно, – подхватился гауптштурмфюрер.
– Где они? Сейчас, в эту минуту? Я спрашиваю, где они сейчас?
– Здесь, в Берлине. В полицейском участке у железнодорожного вокзала. Под присмотром двух полицейских, агента абвера и переводчика, унтерштурмфюрера…
– Да плевать мне на унтерштурмфюрера… Почему вы сказали, что вам не удалось доставить их живыми и невредимыми?
– Я сказал: «целыми и невредимыми», бригадефюрер СС. И прошу наложить на меня взыскание. Я этого вполне заслуживаю[22].
– Четче, гауптштурмфюрер, четче выражайтесь…
– Я не знал, что их затребуют из Берлина. И буквально вчера вечером одному из них подбил глаз. Он вел себя крайне нагло и не желал говорить ни слова правды. Но главное все же в том, что он упрямо отрицал очевидные факты, которые его явно изобличали. Я не удержался и нанес ему несколько ударов в корпус, а затем в лицо. Один глаз заплыл. К счастью, вмешался присутствовавший на допросе агент абвера, предчувствовавший, что эти двое русских еще могут выпутаться, ибо Берлин не пожелает идти на дипломатический скандал. Он так и сказал мне: «Это вам уже не контрразведка, Рольке, это дипломатия. А в ней законы контрразведки не действуют». И оказался прав.
– Второй тоже избит?
Гауптштурмфюрер немного замялся, но признал:
– Тоже. Только это уже не моя вина. В конце концов их избивали при задержании, при перевозке в Восточную Пруссию, в тюрьме. Мне же приходилось работать с тем «материалом», который мне доставляли для допроса.
– Ясно.
Шелленберг тотчас же позвонил Штоуфе и сказал, что оба русских уже находятся под патронатом его службы политической разведки. Но понадобится пара дней, чтобы они смогли привести себя в порядок, а его люди позаботились бы о медицинской помощи арестованным, а также их одеянии.
– Значит, они уже в Берлине? Слава тебе господи. Мой шеф требует как можно скорее освободить из русского плена графа Шуленбурга. Его судьбой уже интересовались Борман, Геринг и даже фюрер. К которому вроде бы обратился кто-то из близких графа. Как вы считаете, после двух дней, которые они проведут у вас, мы сможем представить их послу Советов? Вы понимаете, о чем я говорю. Мне хотелось бы знать, в каком они виде. Если они предстанут перед фотокамерами русских на костылях…
– Костыли исключаются. Но нам нужно еще хотя бы три дня.
– Чтобы самим поработать с ними?
– И поработать – тоже. Деликатно, конечно.
– Но мы намерены отправить поезд русских завтра.
– И отправляйте. Кстати, как это будет происходить?
– План таков. Члены русского посольства, «Интуриста» и прочие… специальным поездом, под надежной охраной, едут до болгарского города Свиленграда, что на болгаро-турецкой границе. Туда же должен прибыть и поезд с членами германского посольства в СССР. Именно на болгаро-турецкой границе и состоится обмен диппредставительствами.
– Заверьте Деканозова, что оба сотрудника данцигского консульства освобождены, однако не поедут вместе с ними, а самолетом прибудут в Софию или прямо в Свиленград.
– Мотивация?
– Нужно выполнить некоторые формальности, закрыть «дело», уточнить кое-какие вопросы… При твердой гарантии, что оба сотрудника будут доставлены в Свиленград и освобождены. Обещайте Деканозову, что дипсотрудники из Данцига присоединятся к его команде раньше, чем поезд пересечет турецкую границу.
– А если он мне не поверит?
– Он конечно же не поверит. Пусть понервничает. Да и сами русские дипразведчики тоже пусть попортят себе нервы. Вместе с нами. – Шелленберг положил трубку и пристально посмотрел на гауптштурмфюрера.
– Взгляните на свои часы и еще раз убедите меня, что русские уже в Берлине, что их уже доставили сюда.
– Но их доставили, я уже говорил об этом.
– Тот редчайший случай, когда вам простится даже мимолетное служебное вранье. Главное, чтобы к этому часу они уже были в Берлине. Кто у них в роли переводчика?
– Лейтенант Зарански.
– Из поляков?
– Из селезских немцев. Агент абвера.
– Поселите их в гостинице «Мюнхен». Под ненавязчивой охраной. И пусть Зарански свяжется со мной.
29
Остановился Громов только тогда, когда вдруг увидел, что равнина обрывается и в широкой, обрамленной каменистыми склонами долине виднеется огромный изгиб реки.
«Днестр! – не поверил сам себе. – Наконец-то!»
Там, за рекой, на уступах склона, напоминающего трибуны древнего театра, обрамленные зеленью садов, на удивление мирно белели хаты, покаянно тянулись к поднебесью зеленоватые купола трехглавой церквушки, и даже дым нескольких пожарищ казался сейчас, в наступившей тишине, мирным, словно это сжигали старые, отбывшие свое, скирды соломы.
Нет, похоже, немцы туда еще не дошли.
«Не дошли они», – убеждал себя лейтенант, тяжело переводя дух и поджидая безнадежно отставшего связиста.
– Подтянуться, Кожухарь, подтянуться!
– Та я шо, я стараюсь, – казалось, выжимал из себя едва слышимые слова вместе с запеченной слюной и растерзанными легкими.
«Ну, а дот… дот где-то здесь», – прощупывал Громов взором берег, на котором стоял.
Слева от него, километрах в двух, склон долины переходил в огромную возвышенность, с разрытой, будто снесенной снарядом, вершиной; справа, наоборот, виднелась низина, за которой в синей дали чернели деревенские крыши. А еще дальше серела окраина городка. И тропинка, на которой стоял Громов, тоже раздваивалась, петляя вдоль обрыва.
Лейтенант приблизился к самой кромке его и, поднявшись на огромный валун, посмотрел вниз. Долина реки напоминала здесь гигантский разлом земной коры, но берег, на котором он стоял, хоть и был довольно крутым, тем не менее буквально метрах в пяти под ним переходил в довольно широкий, поросший кустарником уступ. А шагах в двадцати правее, на краю каменистой этажерки, лейтенант наконец увидел то, что так упорно искал: огневую точку, дот! Правда, видел он только часть ее, ту, залитую бетоном, часть, которую нельзя было укрыть в каменном подземелье. По всей вероятности, это был орудийный полукапонир, а пулеметная трехамбразурная точка находилась несколько ниже у подножия уступа. Но это уже детали. Главное, пришли.
– Какая краса, а, товаришу офицер?! – прохрипел связист сразу же, как только перевел дыхание, и тут же осел у ног коменданта.
– «Товарищ лейтенант».
– Что? – не понял Кожухарь.
– «Товарищ лейтенант», говорю. Впредь вы будете обращаться ко мне только так. Или «товарищ комендант», – уточнил Громов, все еще не отводя взгляда от дота.
– Ага, чтобы по-военному, значится… Оно правильно. Потому как и время военное. Так ото, я про красу… Холмы у нас здесь вековые. Как сама земля эта. Посмотрите: вон то – Гродницкая Гора. Называется она так. Дорога туда ведет смертоубийственная. Сколько подвод на ней угробилось, сколько подвод! И машин тоже, вместе с человеческими жизнями. А вон там, дальше, – показал на окраины, – наш Подольск. Красивые места, красивые…
– «Места»! Теперь уже не «места», а позиции. Сплошные позиции, красноармеец Кожухарь. Хотя, конечно, я вас понимаю… Где тут получше спуститься?
– Да вон там. Спокойно, не спеша. Уже дома. Все здесь тихо. И бега мы с вами напрасно устроили.
– Бега… Вы-то к этим бегам оказались не готовы. Кстати, что это вы за привал себе устроили? Кто приказал?
– Так ведь гражданский я, товаришу. И вообще, нестроевой, – простодушно ухмыльнулся Кожухарь.
«Вот именно: “гражданский, нестроевой”, – проворчал про себя лейтенант. – Теперь это многим из нас служит оправданием. Хотя не должно служить. Ведь знали, к чему идет дело, предчувствовали. А не готовили себя. Каждый – себя…»
– Не торопитесь, лейтенант, – мирно, по-отцовски посоветовал Кожухарь. – Тут уже торопиться не надо. Насидитесь еще в этом бетонном гробу, если только немцы не озвереют. Так что вы пока что здесь присядьте; на небо, на луг, на реку посмотрите. Такая красота… Хоть будет что в предсмертном бреду вспоминать.
– Разве что, – иронично усмехнулся лейтенант.
– Нет, вы посмотрите, какая тут у нас красота. Вечная.
– Божественная, – наконец признал Громов и, на мгновение забывшись, тоже присел.
– Правильно «гутарите», как говорит наш майор, божественная. А вы торопитесь.
Время шло, а эти двое солдат, словно в оцепенении, все сидели и сидели, не в силах подняться, не в состоянии отвести взгляд от первозданной красоты.
И что странно: то здесь, то там из окопов и всевозможных укрытий начали появляться бойцы, но все они вели себя на удивление спокойно, словно опасаясь, что громким словом или резким движением обнаружат себя, спровоцировав новый налет германской авиации.
– Что, Кожухарь, – взорвал эту идиллию лейтенант, – привал окончен. Отвоюемся, еще как-нибудь полчасика выкроем и посидим…
– Надо идти, – старчески покряхтел связист.
Спустившись по крутому склону на второй ярус долины, лейтенант пропустил вперед Кожухаря, сразу же устремившегося еще дальше, к третьему ярусу, на котором и находился невидимый отсюда вход в подземелье, а сам осмотрел трубу воздухонагревателя и оба вентиляционных колодца.
Да, вроде бы все сработано основательно, добротно. Просто не верилось, что там, внизу, под толщей каменного пласта, почти в преисподней, находятся сейчас люди: ходят, балагурят, чистят оружие… «Но что это?! “Мертвая”, не простреливаемая зона?! Точно! Как же это инженеры наши умудрились? Неужели не понимали?.. Вот дьявол!»
Что и говорить, возле каждого дота фашисты вынуждены будут как минимум роту положить, и еще роту держать для того, чтобы окончательно подавить сопротивление гарнизона. Но все же… Почему инженеры рассматривали их лишь как элемент общей линии прикрытия границы? Ведь если бы сюда, в «мертвую» зону, добавить еще одну пулеметную точку, в доте, пожалуй, можно было бы продержаться и месяц. Даже в полном окружении. Странно, почему в штабах инженерных и пограничных войск не подумали об этом? Почему бой в полном окружении на открытой местности или в лесу – тактикой ведения войны вполне допускается, а в таких мощных дотах – нет? Не предусмотрен, видите ли!
Если ему каким-то чудом удастся вырваться отсюда, он конечно же изложит свои соображения и выводы в подробном докладе. И добьется, чтобы труд его пошел по инстанциям. Ведь не исключено, что где-нибудь на рубеже Днепра уже строят новые линии. А значит, доты там сооружаются по образу и подобию днестровских. И – не приведи, Господь – тоже с вот такими, «мертвыми», зонами.
– Так что представляюсь: старшина Дзюбач… – возник перед Громовым приземистый плотный мужик лет пятидесяти. – Ерофей Матвеевич. Гарнизон дота успешно проводит занятия для ведения боя.
– «Занятия для ведения боя»? Божественно, старшина Дзюбач, – едва заметно усмехнулся Громов, внимательно рассматривая старшину. И поскольку осмотр и связанное с ним молчание затянулись, загорелое, почти кирпичного цвета лицо старшины оросилось капельками пота.
– Докладываете вы, старшина, так себе. Но не в этом суть.
– Сказал, может, и не по форме, – передернул плечами Дзюбач. – Но занятия, точно, идут.
– И сколько вас тут обучается?
– Вместе со мной двадцать восемь активных штыков. Красноармеец Кожухарь, что с вами прибыл, двадцать девятый, а вы, стало быть…
– Вольно, старшина. Потом подсчитаем. Вопрос первый: после воздушного налета потери есть?
– Никаких.
– Божественно. Вопрос второй: как вам эта «подземная крепость»?
– Если честно, кто ее знает? В поле, в лесу, в окопе оно как-то привычнее и понятнее. По крайней мере, там тебе фашист по голове топтаться не будет. А тут вроде и снарядом не должен пробить, но и вырваться из дота, если запрут в нем, как в погребе у кумы, тоже не удастся. Сооружение мощное. Сам я его аккурат и строил. Точнее, достраивал.
– Неужели?! Вы действительно строили его?
– Так точно.
– Тогда сам Бог велел вам отстаивать свое строение.
– Велел, как видите. Хотя воевать в нем, в камне-бетоне этом, даже врагу не желал бы. Ну а техника и вооружение – в исправности, это да. Боеприпасами тоже не обижены. Сходим к реке, лейтенант. Обмыться бы по теплу-жаре, да всем запарившимся гарнизоном…
– На реке мы еще побываем. А пока давайте не будем маячить здесь. Отлично просматриваемся из-за реки.
– Там пока что свои. Пусть смотрят.
– Там уже разные, старшина. Пора это запомнить. Взгляните на террасы. Из какого окна деревенского ни смотри – весь участок берега как на ладони. Гитлеровцы были бы идиотами, если бы не попытались усадить у этих окон своих агентов да разведчиков.
30
Прежде чем выйти из дому, Шелленберг позвонил лейтенанту Зарански и приказал к десяти утра доставить обоих русских дипразведчиков в его кабинет, чтобы лично познакомиться с ними. Первым Зарански ввел Зверянина. Мельком взглянув на него, Шелленберг понял, что это и есть тот самый разведчик русских, которого Рольке слегка изувечил: правый глаз его все еще был охвачен фиолетовым полунимбом, щека распухла и оставалась рассеченной, как и его основательно разбухший подбородок, на котором все еще виднелись корочки запекшейся крови.
– А ведь бил его Рольке не однажды, и притом вполне профессионально, – заметил бригадефюрер. – Впрочем, возможно, часть этих «произведений искусств» оставлена была и тюремщиками.
– Садитесь, товарищ Зверянин. Как ваше самочувствие? – Слово «товарищ» Шелленберг произнес на почти безупречном русском, остальное Зверянин понял без перевода.
– О моем самочувствии вам судить проще, чем мне, – угрюмо ответил русский под почти синхронный перевод Зарански. – Поскольку видите мое лицо.
– А как вы думаете, если бы наш замаскированный под дипломата разведчик оказался в вашем НКВД, вид у него был бы лучше?
– Не лучше. Там тоже сидят мастера кулачного боя. – Зверянину было под сорок. Это был рослый крепкий мужчина со скуластым матерым лицом и рыжеватыми, под германца, волосами.
– В отчетах для прессы о начале таких переговоров было бы сказано: «Беседа прошла в дружеской обстановке и в духе полного взаимопонимания». А теперь уже так, не для протокола, как коллега коллеге… Все еще считаете, что ваше задержание было неоправданным и ваша вина не доказана?
С минуту Зверянин напряженно самоистязающе молчал.
Шелленберг до сих пор не предложил ему стул, справедливо полагая, что право сидеть перед ним русский еще должен заслужить. Пусть он все еще чувствует себя подследственным, пребывающим между плахой и свободой. Ну а что касается молчания русского дипломата… Бригадефюрер прекрасно понимал, что за ним скрывается.
Зверянину нетрудно было предположить, что после допросов в гестапо, абвере и СД неминуемо начнутся допросы и в его родном НКВД, где он вынужден будет мучительно доказывать, что в провале вины его не было. Во время допросов он молчал, и ни один из тех пятидесяти русских агентов, которых пытают сейчас в подвалах гестапо, не арестован по его вине, здесь его совесть чиста. Вот только доказать это будет непросто.
– Напомню вам, Зверянин, что еще вчера утром вы признали: «Мне представлены такие доказательства, опровергать которые уже невозможно». Вы отказываетесь от этих слов?
– В общем-то нет, – едва слышно проговорил русский. Уже здесь, в Берлине, его успели немного приодеть и теперь на нем был слегка мешковатый, светлый, под кремовую парусину, костюм и новая белая рубашка без галстука. На дипломатическом приеме в таком одеянии, понятное дело, не появишься, но для дальней поездки в летнюю жару оно вполне подходило.
– Как-то слишком уж несмело вы это произносите, капитан Зверянин, – наугад возвел его в воинское звание бригадефюрер. – Или, может быть, все еще сомневаетесь в этом? Если сомневаетесь, тогда мы пригласим сюда посла Деканозова и проведем несколько очных ставок с арестованными по вашему делу представителями Управления снабжения наших сухопутных сил, всех прочих германцев и поляков. Сопровождая эти очные свидания медленным, вдумчивым чтением протоколов ваших допросов. В присутствии посла. И даже предоставив ему копии, которые он сможет приложить к отчету, составленному по требованию НКВД. Такая постановка финальной сцены прощания с Германией вас устраивает?
Шелленберг с ухмылкой понаблюдал, как, поигрывая желваками, Зверянин мучительно размышляет. Тогда, во время допросов, он не верил, что посол сумеет вытащить его из подвалов гестапо, и признавал свою вину не для того, чтобы спасти жизнь, – «Кто там станет нянькаться со мной посреди войны?!» – а только для того, чтобы уменьшить пытки, ослабить страдания во время допросов. Но теперь получалось так, что в гестапо с ним еще пытаются разговаривать, а вот в НКВД – последуют настоящие пытки. И вопросы будут до примитивности простые: «Почему схватили?», «Кого выдал во время допросов?», «Почему признал себя виновным?», «Почему поддался на вербовку абвера?».
– Нет, – мрачно признал русский дипшпион, – такой финал нежелателен.
– Тогда, пожалуйста, отчетливо, внятно выскажите все то, что уже пытались высказывать по поводу своего задержания и своей вины перед рейхом. Доказанной нашими следователями вины. Если вы это сделаете, мы учтем ваше раскаяние и не станем передавать для публикации в шведской и прочей прессе подробности ваших допросов и вообще подробности этого дела. В противном случае мы вынуждены будем публично доказывать правомерность вашего ареста.
– Я поставлен был перед такими фактами и такими доказательствами, – пересохшим от волнения голосом произнес Зверянин, – при которых отрицать какую-либо часть инкриминированной мне вины уже невозможно.
Произнеся это, Зверянин исподлобья взглянул сначала на переводчика, а затем на Шелленберга, как ученик, проходящий отбор в школу декламаторов.
– Не скрою, это уже более-менее внятно. – А вы отдаете себе отчет в том, что, если бы не вмешалась наша служба СД, из подвалов гестапо вы уже не вырвались бы?
– Отдаю.
«Не хотелось бы мне оказаться сейчас в шкуре этого человека», – философично держал паузу бригадефюрер СС.
– Тогда почему, даже после предъявления вам совершенно неопровержимых доказательств, вы пытались их отрицать? Ведь вы же пользуетесь дипломатическим иммунитетом. И если бы вы были более благоразумны, нам не пришлось бы буквально вырывать вас из рук гестапо. Хотя, если честно, мы и сейчас не уверены: стоит ли нам рекомендовать Министерству иностранных дел и высшему руководству страны отпускать вас, прежде чем будут обнаружены радиопередатчик, шифры, радист и его группа охраны.
– Но вы же понимаете, что даже если бы радист и в самом деле существовал и я знал его явки, все равно после шумных массовых арестов рацию свою он давно законсервировал, от старых явок отказался, Данциг и его окрестности оставил. И даже вполне возможно, что в эти минуты он подъезжает к линии фронта в форме германского офицера.
– Именно поэтому мы и не пытаемся загнать наши с вами отношения в дипломатический тупик, из которого трудно будет выбраться и вам, и нам. Кстати, кто из вас двоих старше по званию и положению в вашей разведгруппе? Нет-нет, это опять же не для протокола. Просто сейчас нам придется решать несколько вопросов, связанных с вашей переброской в Советский Союз.
Шелленберг знал, что арестованные еще не посвящены в план обмена дипломатическим персоналом двух империй, поэтому спокойно мог спекулировать на сложности их переправки.
– Смоляков, – после некоторых колебаний признал Зверянин. – Старший – Смоляков.
Когда Зверянина уводили, Зарански устроил все так, что он буквально столкнулся в дверях со своим шефом Смоляковым. Но, почувствовав неловкость, оба отвернулись в разные стороны.
– Вы подтверждаете все то, что говорили на допросе? – спросил Шелленберг, не давая арестованному ни осмотреться, ни опомниться.
– Подтверждаю.
– Почему вы сразу же не признались в том, что уже было доказано материалами следствия?
– Потому что после ваших допросов начнется дознание сначала прямо в посольстве у Деканозова, а затем там, в Москве, на Лубянке, где за дело примутся энкавэдисты.
– А почему вы решили, что вас освободят и вернут в посольство?
– Анализ ситуации показывает, да и поведение ваших офицеров.
– Профессионально, – признал бригадефюрер. – Вот только окончательно вопрос еще не решен. Все зависит от вашего поведения. Насколько я понял, вы не рады возвращению в Россию?
Смоляков замешкался, затем словно бы вспомнил о чем-то, передернул плечами и попытался вскинуть подбородок.
– Почему не рад? Это моя родина. К тому же Германия развязала войну.
– Понятно, господин Смоляков, понятно. Вы боитесь допросов в НКВД и «десяти лет без права переписки»[23]. Как там будет дальше, увидим, а пока молитесь Богу, что нам удалось вырвать вас из рук нашего, германского, «НКВД». И потом, учтите, даже если бы вы захотели сейчас остаться в Германии, мы не смогли бы вас принять, ибо Деканозов не покинет пределы Рейха, пока не увидит вас живыми или мертвыми в своем дипломатическом вагоне. Причем он предпочел бы увидеть вас мертвыми. Это позволило бы ему представить вас обоих в Москве как героев, как мучеников, погибших в застенках гестапо, но никого не выдавших и ничего существенного не сообщивших.
– Эт-то понятно, – процедил Смоляков, тоскливо глядя куда-то в окно.
– В таком случае, оговорим детали вашего путешествия. Поезд с Деканозовым и членами его посольства уйдет в сторону Софии без вас. С вами еще… побеседуют наши сотрудники.
– А потом?
– Вас доставят в Софию, или прямо в Свиленград, на специальном самолете. Это даст нам возможность уточнить кое-какие вопросы, которые возникли к вам у нашей службы безопасности. А вам – прийти в себя, немного отдохнуть. Жить вы будете в отеле. Ресторанное питание, неплохой номер… Пользуйтесь нашей добротой, Смоляков. Ведь еще неизвестно, как к вам отнесутся в Москве, в НКВД.
– Но если вы отправите нас на спецсамолете, в Москве сразу же истолкуют это как свидетельство нашего предательства. То есть, получится так, что вроде бы мы все рассказали, вы нас перевербовали и со всеми почестями отправили на спецсамолете.
– Разве наши службы предлагали вам стать германским агентом?
– Нет.
– Вот видите! – Шелленберг поднялся и с минуту постоял спиной к Смолякову, осматривая часть внутреннего дворика, открывавшегося из окна его кабинета. – Так и объясните своим энкавэдистам, что о вербовке не было и речи.
– Но кто нам поверит?! – изумился Смоляков. – Особенно если вы отправите нас в Свиленград самолетом.
– Вы правы, никто не поверит. Почему они должны верить вам?
– Тогда зачем же вы решили отправлять нас отдельным самолетом?
Шелленберг наконец повернулся к нему лицом, и Смоляков мог видеть, как на еще довольно молодом, аристократически холеном лице Шелленберга заиграла садистская улыбка.
– А почему вы считаете, что мы обязаны спасать вас от энкавэдистов, поддерживать вас, блюсти ваше реноме? Почему вы так решили, господин Смоляков? Вы в течение нескольких лет руководили у нас в стране целой группой шпионов, вы завербовали в свою преступную организацию десятки германских граждан, вы нанесли урон безопасности Третьего рейха, и после всего этого требуете от руководства Имперской службы безопасности, чтобы мы оберегали вас от подозрений вашего советского гестапо?!
Смоляков смотрел на него широко раскрытыми, испуганными глазами; челюсти его двигались, однако нужных слов он так и не находил.
– Но коль уж вы отпускаете нас…
– Ну и что? В наших кровных интересах сделать все возможное, чтобы НКВД арестовало вас, как только вы пересечете границу Союза. А затем, после пыток и издевательств, расстреляло как трусов, изменников и агентов абвера… или гестапо. Что особого значения не имеет.
– Хорошо, что мы должны сделать?
– Рассказать нам всю правду. Я же обещаю вам, что все будет представлено так, будто вы никого не выдали, наоборот, сами стали жертвой слабонервности одного из тех, кто проходит по вашему делу. Детали мы берем на себя. Никакого предательства с вашей стороны здесь уже не будет. Вы и так изобличены. Деканозов и прочие энкавэдисты вам уже не доверяют. Поэтому ваше спасение – в нашем заступничестве.
31
С минуту Смоляков молчал. Шелленберг его не торопил. Пока русский переваривал полученную от бригадефюрера СС информацию и вырабатывал линию своего поведения, тот успел сделать пару звонков и покопаться в своих бумагах.
– Хорошо, я согласен. Зверянин, думаю, тоже согласится.
– Он уже согласился, – проворчал Шелленберг, не отрываясь от бумаги.
– Тем более.
– В таком случае самолет отменяется. Вас доставят в Свиленград машиной. В сопровождении лейтенанта Зарански. Он конечно же будет в гражданском. Ваша задержка будет объяснена вами тем, что уже под завершение вашего пребывания в Германии гестапо все еще пыталось что-либо выжать из вас, но у него ничего не получилось. Так что не следует пренебрегать такой «светомаскировкой», как рассеченная губа, бровь, подбитый глаз и синяки на ребрах. Но все это при одном условии: что с этой минуты вы будете отвечать правдиво. Раскаяний нам не нужно, раскаяние – это непрофессионально. А вот признать, подтвердить и внести ясность в некоторые… неясности – это уже вопрос взаимной профессиональной вежливости. Никаких протоколов при этом мы вести не будем. Записи будут сугубо рабочими.
* * *
Через два дня машина, за рулем которой находился один из офицеров СД, увозила Смолякова и Зверянина, двух русских дипразведчиков, на юг, в сторону Мюнхена. Когда лжедипломатов усаживали в машину, они выглядели почти счастливыми. Все прежние страхи, которые до сих пор изводили их: действительно ли германские власти отпустят их, или же вся эта затея с переездом в Берлин, отелем и задушевными беседами – всего лишь гестаповский спектакль, окончательно развеялись. Посол и Москва уже знают, что они в Берлине и что сегодня их отправляют по тому же маршруту, по которому уже проследовал спецпоезд с остальными русскими дипломатами. Перед отъездом Деканозов получил возможность поговорить со Смоляковым по телефону. Так что, уезжая, эти двое русских прекрасно понимали, что каждый километр, отделяющий их от Берлина, – это километр, отдаляющий и от виселицы, уготованной большинству агентов их разведгруппы, которые томились сейчас в подземельях гестапо.
Однако чем дальше они удалялись от границ Германии, тем настроение дипразведчиков становилось все более мрачным. Из сообщения, которое лейтенант Зарански сделал из Будапешта, Шелленберг понял, что русские уже даже не пытаются скрывать своего страха перед Деканозовым и последующим расследованием, ожидающим их в Москве: провал группы, арест, признания в гестапо и СД, наконец, эта задержка в Берлине и поездка отдельно от группы… Все, все срабатывало теперь против них, и в откровенных беседах с переводчиком и гидом Смоляков настойчиво намекал на то, что, представ перед Деканозовым, они готовы сделать заявление о том, что не желают возвращаться в Советский Союз.
– Объясните им, унтерштурмфюрер, что их внезапно вспыхнувшая любовь к Третьему рейху остается без взаимности, – коротко наставлял Шелленберг своего курьера. – Вот когда в Москве им удастся пройти через проверку коммунист – гестапо, тогда мы можем вернуться к разговору об их чувствах. А пока что… от их возвращения зависит освобождение нашего посла в Москве.
Однако русских это не успокоило, и, пребывая на кратковременном отдыхе в Софии, Зарански уже панически извещал бригадефюрера, что опасается, как бы русские не ударились в бега. На протяжении всей дороги от столицы Венгрии до столицы Болгарии они распаляли свое воображение рассказами о терроре, развязанном коммунистами в тридцать седьмом году, и о тысячах земляков, которые были расстреляны, погибли в концлагерях или же до сих пор томятся в них.
– В Софии наверняка есть в продаже русская водка, – дал мудрый совет Шелленберг. – Предложите своим русским по стакану этого пойла, как обычно русские офицеры предлагают его своим солдатам перед атакой. Думаю, это их взбодрит, а главное – разбудит ностальгию по родине.
Еще почти сутки Зарански вместе со своими русскими прохлаждался в каком-то провинциальном оте-ле на краю Свиленграда в ожидании прихода поезда с германскими дипломатами. Москва умышленно задерживала его, пока не получила сообщение своего бывшего посла в Германии Деканозова, что два его дипсотрудника уже прибыли в Свиленград.
Лейтенант Зарански готов был сразу же сдать их под попечительство посла и убраться восвояси, но Смоляков дал понять, что оставшееся время он и его коллега хотели бы провести вне поезда. И лейтенанту, а также прибывшему в Свиленград представителю Министерства иностранных дел Германии пришлось убедить Деканозова, что разведчики переступят порог вагона, как только поезд с графом Шуленбургом покажется по ту сторону болгаро-турецкой границы. В то же время к русским приставили двух местных агентов абвера и полицейского, чтобы не позволить дипшпионам бежать, скрыться, уйти в подполье.
А как только поезд с русскими оказался на территории Турции, из Берлина пошла шифрограмма в Москву, где один из резидентов получил приказ проследить за судьбой этих двух данцигских неофитов от разведки, которые еще могли им пригодиться.
32
Плесенная прохлада, удушливо обволакивающая тишина подземелья, бетонная сырость казематов… Непонятно только, почему он воспринимает все это так, словно в доте оказался впервые? И откуда это страстное желание поскорее выбраться отсюда, увидеть свет поднебесья, вдохнуть глоток мятного воздуха речной долины; этот навязчивый страх быть навечно закрытым здесь, заживо погребенным? Ведь привык же к «дотовой» жизни, приучили. Неужели какое-то подсознательное предчувствие? Кожухарь негу наслал: трава, река… Красота поднебесная. А теперь вот…
«Божественно! С ромашек начнем: убьет – не убьет, – резко одернул себя лейтенант. – Сейчас это именно то, что нужно».
Впрочем, все эти предчувствия-гадания остались при нем, а перед гарнизоном Громов предстал вполне естественно, даже буднично. Словно на несколько часов отлучался по командирским делам, и вот, снова вернулся к рутинной гарнизонной жизни.
Дзюбач знал, что для знакомства с новым командиром бойцов полагалось построить, сделать перекличку… И был очень удивлен, когда лейтенант отменил построение, сказав, что сначала нужно познакомиться и поговорить с людьми в нормальной, «человеческой» обстановке.
Прежде всего он пошел в артиллерийскую точку, где в специальных отсеках-капонирах стояло два орудия. Лейтенант понимал, что пока противник – на противоположном берегу и поначалу бои будут вестись не за дот, а за Днестр, за переправы, участие в них дота будет зависеть исключительно от меткости пушкарей. А хотелось, чтобы оно было заметным.
– Стрельба напрямую – это понятно, – обратился он к младшим командирам. – А если по дальним подступам, по закрытым целям?
– Да что вы волнуетесь, лейтенант? Мои гайдуки свое дело знают, – снисходительно, чуть ли не похлопывая нового коменданта по плечу, успокоил его командир артиллерийской точки сержант Крамарчук. – Все ориентиры засечены, таблицы для стрельбы имеются. Одно только плохо.
– Что именно? – напрягся Громов.
– Проверить их пока невозможно. Куда ни пальни – везде свои. Можно бы и пальнуть, так ведь не поймут, обидятся.
– Ничего, долго томиться вам не придется. А пока проверим себя без пальбы. Расчет, первое орудие к бою!
– Гайдуки, первое орудие – к бою! – сразу же по-своему «уточнил» команду Крамарчук. Лет двадцати шести – двадцати семи, чуть выше среднего роста, широкоплечий, грубоватое, но все же привлекающее сдержанной мужской красотой скуластое лицо, отменная, «гренадерская», как говорили у них в училище, выправка… Глядя на этого «гренадера», Громову трудно было поверить, что Крамарчук не кадровый военный (он узнал это от Дзюбача); что армию он отслужил еще несколько лет назад и до самой войны работал машинистом каменного карьера. Уж больно отчетливо виделось ему в этом парне нечто истинно солдатское.
Бойцы привели орудие в готовность за считанные секунды и потом, по команде младшего сержанта Газаряна (как и командир второго орудия младший сержант Назаренко, Газарян был направлен сюда из кадровой части), произвели семь условных выстрелов по различным целям. Получалось вроде бы неплохо. Но все же Громова неприятно поразило то, что оба расчета вели себя слишком раскованно. Словно решили, что их загнали в этот дот, чтобы «поиграться в войну».
– Четче надо действовать, младший сержант Газарян, – прикрикнул Громов. – Четче и ответственнее. Ваши бойцы должны чувствовать вашу строгость.
– Это… если на плацу, по-командирски, – попытался вступиться за него Назаренко, однако Громов резко прервал его и потребовал повторить «боевую тревогу» для обоих расчетов.
На этот раз каких-то особых претензий к сержантам у него не было.
– Ну что ж, если они так же четко будут действовать и в бою… – скупо похвалил Громов Крамарчука, уходя из артиллерийской точки, – то по крайней мере первый бой мы выиграем.
– Почему только первый?! – обиделся Крамарчук. – Да сюда бы еще пару пушек, и мои гайдуки перекрыли бы Днестр на двадцати километрах! Несколько тренировок – и они будут работать на орудиях, как циркачи на трапециях.
– У вас богатая фантазия, сержант, – коменданту не понравились вольготные манеры Крамарчука. Громов считал, что в любом солдатском деле по-настоящему можно положиться лишь на людей спокойных, уравновешенных, умеющих почитать каноны воинской дисциплины. А Крамарчук, при всей его «гренадерской» выправке, слишком уж смахивал на деревенского шалапута. – Продолжайте работать с отделением. Должна быть полная взаимозаменяемость номеров. И поднесите к отсекам побольше снарядов. В бою это облегчит вам жизнь.
– В бою? Да пока дело дойдет до боя…
– Я не пророк, сержант. Да и вы на эту роль тоже не подходите.
«Увидим, как ты будешь вести себя, когда здесь запахнет не только порохом, но и смертью, ба-ла-гур! А вот в том, что мы с Крамарчуком действительно чуток похожи – майор прав. Сугубо внешне, надеюсь».
– Товарищ лейтенант, – появился на его пути старшина. – Хлопцы вновь просят разрешения искупаться. Жара, вода теплая, фашисты пока что далековато…
– И что вы предлагаете, старшина? Устроить на Днестре гарнизонный пляж, как в Одессе?
– И все же надо бы уважить – так я мозгую, – сник, но не сдался Дзюбач. – Может, в последний раз в Днестре своем купаемся. Тут уж сам бог велел.
– Разве что Бог, – развел руками Громов, чуть поколебавшись. Ему не хотелось начинать знакомство с гарнизоном с того, что он «не уважил». Хотя все его естество решительно протестовало сейчас против вольности.
– …И отец-командир, – уточнил Дзюбач.
– Придется вступать в отцовство. Выставьте у дота часового – и командуйте.
– Каравайный за часового останется, механик наш. С детства реки побаивается, как нечистый – креста.
* * *
Вода оказалась на удивление теплой и какой-то… бархатно нежной. Тем не менее люди входили в нее молча, сосредоточенно вглядываясь в течение. Никто не радовался реке, не радовался избавлению от жары и солдатского пота, и уже одно это казалось весьма странным. Они, не стесняясь, раздевались догола и входили в Днестр молча, словно погружались в библейские воды Иордана, которые должны были смыть с них все прегрешения. Входили медленно, долго и торжественно. Вот только сохранялась ритуальность сия недолго.
– Эй! Смотрите, смотрите: труп! Братцы, утопленник! – неожиданно завопил худенький, почти мальчишеского телосложения Иван Роднов – самый юный в гарнизоне, бросаясь назад, к берегу.
– Чего ерепенишься?! – на удивление хладнокровно попытался «успокоить» его старшина.
– Так ведь утопленник!
– Ну и что? Вон еще один. – И хотя труп проплыл почти в метре от него, к берегу так и не отступил. – Теперь их всегда будет много. Так что привыкай.
– Как же привыкать к такому-то? – заскулил Роднов, оказавшись на берегу.
– А вот так, – пробасил старшина. – Хоронить теперь некому и некогда, а потому предавать не земле, а реке… Не Днестр это теперь, а река убиенных…
Вместо того чтобы тотчас же окунуться, поплавать, бойцы так и стояли в этой «реке убиенных» – кто по пояс, кто по грудь, – настороженно вглядываясь в течение, в речную глубину, словно забыли, зачем вошли в Днестр, а может, пытались разглядеть в его водовороте свою собственную фронтовую судьбу. Разглядеть, загадать на нее и смириться.
Ну а тройка самолетов появилась из-за холмов так неожиданно, что так и не раздевшийся лейтенант едва успел скомандовать: «Рассредоточиться! Воздух!»
Скомандовать-то он скомандовал. Однако ни один солдат на его крик не отреагировал: «река убиенных» словно бы околдовала их. Это были ее жертвы, и она не собиралась отпускать их.
Будто понимая обреченность людей, ни одного выстрела по ним летчики так и не сделали. Уверовавшие в свою карающую миссию, они разворачивались над лесом и друг за другом направляли свои машины на окопы пехоты, на невидимые отсюда позиции артиллеристов и на хорошо просматривавшийся со стороны реки дот.
С ужасом наблюдая, как немцы сбрасывают бомбы на «Беркут», Громов лишь бессильно сжимал кулаки. Все его безоружное, застывшее в воде голопузое войско выглядело теперь жалким и ничтожно беззащитным. Как комендант он был потрясен. Как он вообще мог согласиться на это идиотское купание?! Ведь летчикам ничего не стоило уничтожить весь его гарнизон прямо в воде. Две бомбы, шесть пулеметных очередей – и от его гарнизона… Господи!.. Это ж надо было клюнуть на чье-то дурацкое «уважить»!
Тем временем бойцы начали приходить в себя. Они молча, словно вдруг все до единого онемели, выбирались из реки, хватали одежду и, суетливо напяливая ее на себя, умоляюще посматривали на проносящиеся над их головами самолеты: «Только бы не спикировали, только бы!..»
Бомбы рвались почти рядом, осколки ложились еще ближе, и лишь удивительным солдатским везением, непостижимым фронтовым случаем можно было объяснить то, что до сих пор никого из бойцов «Беркута» даже не ранило.
Кое-кто из солдат гарнизона уже попытался бежать к доту, но Громов властно приказал всем вернуться и рассредоточиться под речным обрывом. Он успел сделать это как раз вовремя, поскольку появившаяся из-за тех же холмов еще одна тройка штурмовиков теперь уже пошла прямо на них, на прибрежные окопы, вспарывая пулями и холмы, и мелководье, и само поднебесье.
– А ведь самым хитрым оказался тот, над кем все подтрунивали – Каравайный, – добродушно проворчал Дзюбач, когда и этот налет наконец закончился.
– Это ж почему? – почти машинально поинтересовался лейтенант.
– Он один спокойно отсиделся в доте, посмеиваясь и над нами, грешнопупыми, и над бомбоплевателями.
– В таком случае не хитрый, а мудрый. Если, конечно, и в самом деле предвидел нечто подобное.
– Так ведь предвидел же, ирод!
– Значит, пусть это будет нам уроком, – отрубил Громов, взбираясь вслед за старшиной на крутизну. – Мы не имели права оставлять дот. Ни на одну минуту. Ни под каким предлогом. Отныне всякие групповые выходы и купания запрещаю! Вы поняли меня, старшина?
– Так ведь уже давно понял, товарищ лейтенант, – покаянно молвил Дзюбач. – Как по Святому Писанию – понял. Да только это, может, и есть последнее наше купание в «реке убиенных».
– Вот именно: «в реке убиенных»!
33
Последний километр машина, на которой старшим по званию оказался оберштурмфюрер СС Штубер, пробивалась к передовой по холмистой заднестровской равнине, покрытой уже основательно пожелтевшей травой и руинами чабанских домиков, между которыми все еще угадывались остатки огромных кошар.
Впереди, за небольшой долиной с поросшими терновником склонами, отчетливо слышалась пальба, и все свидетельствовало о том, что где-то там проходит сейчас передний край. Тем более странно было видеть, как из-за высокого холма медленно выползает довольно большой обоз с беженцами и ранеными, в гуще которого виднелись даже две цыганские кибитки. Обоз этот пытался поскорее проскользнуть мимо очень уж ненадежной линии обороны, чтобы выйти к мосту. Однако на равнине его сразу же заметили немецкие летчики, и стоявший на подножке представитель штаба Чехлов первым отчаянно завопил:
– Братья-християне, кто куда может!
Большинство красноармейцев, как и сам Чехлов, бросилось искать спасения в небольшом овраге, извивающемся справа от грунтовки. Но Штубер умышленно метнулся мимо радиатора влево и, крикнув водителю: «За мной, там карьер!», помчался к довольно глубокой карьерной выработке. Выполняя эту команду, водитель неуклюже спрыгнул с невысокого обрыва вслед за офицером и чуть было не растоптал его своими сапожищами. Но как только он попытался подняться, Штубер тотчас же сбил его с ног и, как бы прикрывая телом от взрыва, изо всей силы ударил кулаком в глотку. А едва взрывная волна осела, еще несколько раз ударил по голове подвернувшимся под руку ребристым осколком гранита. Так, втоптанным в песок, с камнем у виска, он и оставил его, скатившись по склону вправо, где испуганно копошились двое солдатиков-новобранцев.
– Что, непривычно умирать? – язвительно спросил он, залегая рядом с ними.
– Страшно, – признался один из них, плечистый коротышка, лежавший ближе к нему. Штубера так и подмывало еще раз воспользоваться одним из камней, которых здесь было множество, но решил не рисковать. Во-первых, солдат было двое, во-вторых, они должны были обеспечить ему алиби.
Когда налет окончился, именно этих солдатиков он и заставил пройтись по склону, чтобы разыскать водителя. И в их же присутствии погоревал по поводу его бессмысленной, «дикой» гибели.
– Машину водить умеешь? – спросил Штубер Чехлова, когда новобранцы принесли «печальную весть» о гибели шофера.
– Да потрошку-понемножку доберусь. Если только эта каруца способна дотащиться назад, до штаба.
– До штаба? – удивленно переспросил оберштурмфюрер.
– Куда же еще? – уже откровенно правил труса Чехлов. – Не видите, что там происходит?
– Тогда… до штаба она дотащится. Особенно если у тебя есть желание унести отсюда ноги, сержант.
– А у тебя, лейтенант, его нет?
Один из новобранцев оказался раненым и по команде Штубера его уложили на полуразрушенный кузов.
– Я вынужден доставить пополнение куда приказано.
– Тогда сами найдите свой дивизион. Он должен быть где-то вон там… Видите, за оврагом, справа от кустарника, виднеются руины какой-то старинной башни – то ли крепости, то ли замка, церкви или еще чего-то. Командиром там – капитан Грошев.
– Я запомню, сержант. Жаль водителя. Стоящий был мужик. И так глупо, камнем…
– Один черт. Как бы ни погиб, все равно напишут: «Смертью храбрых». Это для живых справедливости не хватает. Для мертвых – все по справедливости.
– Философ ты, сержант.
– Философ смерти, – ткнул указательным пальцем в небо Чехлов. – Вернусь с войны – организую особую академию, смертофилософии. Академик смертофилософских наук… Кто и когда слышал такое? Все, я свое дело сделал.
«Давай, вали… Гробоакадемик, – саркастически улыбнулся вслед ему Штубер. Этого сержанта он мог спокойно отпустить. – Вот водитель, тот наверняка донес бы на меня, как на подозрительного как только вернулся бы в город. Может, и раньше».
– Розданов, построить людей, – скомандовал Штубер, чуть было не обратившись к нему «поручик». А назвав фамилию, тотчас же вспомнил, что не поинтересовался, под каким именем этот эмигрант записан в своей фальшивой солдатской книжке. «Если ты будешь так вести себя в тылу, – подумал Вилли, – уже сегодня к вечеру предстанешь перед русской контрразведкой. Моли Бога, что все они здесь в такой панике и во всеобщем бедламе, что даже собственных дезертиров вылавливать не успевают. Но рассчитывать надо не на балаган, а на серьезные армейские структуры».
И все же, глядя, как суетливо строятся новобранцы, Штубер мысленно прикидывал: смогли бы они втроем выкосить этот жиденький строй, не вызвав ответного огня? Нет, не смогли бы. Тем более что диск пулемета Розданова почти пуст. А жаль… Куда с большим удовольствием он расстрелял бы это пополнение здесь, чем потом возиться с ним на передовой, решая, как пробраться к своим, не подставив башку какой-нибудь своей, отечественной, штутгартской бестолочи, которая конечно же похвастается потом, что уложила «Ивана-разведчика». Идиотов на этой войне будет хватать по обе стороны фронта – вот что уравнивает шансы наших диверсант-разведок.
Приземистый, чрезмерно располневший, командир дивизиона капитан Грошев предстал перед Штубером, как гном перед колоссом.
– Какое еще пополнение?! – взрычал он, оббегая вокруг его подножия. – Какое, к сучкиным правнукам, пополнение?!
– Вам что, не нужно пополнение?! – изумился, причем искренне, без какой-либо игры, Штубер. – Там, в штабе, считают, что этими людьми спасают вас.
– Мне плевать, что они там считают. Мне нужен приказ на отход за Днестр! – еще яростнее зарычал капитан. – У вас есть такой приказ? Вы его привезли?
– Нет.
– Тогда на кой хрен вы пригнали мне эту новобранскую бестолочь? Они, в штабе, что… думают, что капитан Грошев со своим артиллерийским бедламом удержит весь фронт от Карпат до Черного моря? Я вас спрашиваю, лейтенант!
– Вам лучше спросить об этом маршала Тимошенко, – спокойно заметил Штубер. – Или командующего фронтом. Кстати, где проходит эта ваша передовая?
– Передовая? Тебе нужна передовая, лейтенант? Вот она, любуйся! – нервно ткнул Грошев заостренным под школьную указку прутиком в сторону невысокой каменистой гряды. – И осталось их там, пехотинцев, на одну атаку. Через час-другой румыны и немцы попрут на них еще раз, и через полчаса все уцелевшие на передовой будут в моих окопах. Если, конечно, удастся пригасить их драп через наши позиции. – Капитан подбоченился и, потрясая животиком, нервно рассмеялся. На его не по-фронтовому лощеном лице, на хрипловато-властном голосе, на всей нескладной, но в то же время преисполненной ничем неподкрепленного величия наполеоновской фигуре уже четко просматривалась печать судьбы несостоявшегося диктатора. Пусть даже районного масштаба – но диктатора. Во всяком случае, у этого человека были все задатки местного дуче.
– А я не думаю, чтобы наши хлопцы так быстро сдали позиции, – жестко заметил Штубер, решив поиграться в патриота. – Они ведь понимают, что за ними – река, мост, город. К тому же в штабе подольского гарнизона мне заявили, что оборону здесь вам придется держать еще как минимум неделю.
– Неделю?! – махал перед лицом Штубера своим прутиком капитан. – Какую неделю? Какая оборона?! Я вас спрашиваю. Какими такими силами я должен держать оборону?!
– Извините, капитан. Я не знал, что вы командуете обороной всего правого берега Днестра, – желчно произнес Штубер. – Мне казалось, здесь еще существуют штабы. Во всяком случае, в этом только что уверял меня подполковник Коровников, – прибег он к фамилии высшего командира, зная, что такой прием всегда способствует легализации агента.
– Если так пойдет и дальше, лейтенант, – вскоре может случиться, что капитан Грошев, – поиграл комдив желваками, покачиваясь при этом на носках, – будет командовать всем западным фронтом. Больше просто некому будет.
И вот тут Штубер вдруг открыл для себя, что капитан по-настоящему нравится ему. Было что-то в этом офицере от… истинного офицера. Всех времен и народов. Этот лоск, этот аристократический надрыв, который, однако, не мешает ему оставаться достаточно хладнокровным и взвешенным в своих решениях. Это откровенное презрение и к врагу, и к своим, по обе стороны фронта. Очень уж этот капитан Грошев напоминал ему кое-кого из прусских офицеров. Вынужденные служить в армии «вечного ефрейтора», они так же откровенно презирают этого ефрейтора и его войско, как и капитан Грошев – войско засевшего в Кремле недоученного семинариста. Да, черт возьми, именно на таких офицерах – возможно, не самых подготовленных и достойных – держались и держатся все армии мира.
– Воздух! Воздух! – вдруг панически возопил щупленький новобранец, но, вместо того чтобы бежать к окопам, присел, прикрывая голову… положенной плашмя винтовкой. Однако самолеты пролетали мимо позиции дивизиона, и солдаты-старички спокойно провожали их усталыми взглядами. Только новобранец, ухватившись руками за винтовку, словно бы вгонял себя ею в потрескавшуюся от жажды землю, все дрожал и бубнил про себя какие-то слова заклинания. Именно заклинания, ибо слова молитвы он вряд ли способен был вспомнить.
– Успокойте этого идиота. Я вас спрашиваю! – первым пришел в себя дивизионный дуче.
– Представляю, как он будет вести себя в бою, – мрачно заметил Розданов, до того хранивший независимое, преисполненное холодной иронии молчание.
– Как и все остальные новобранцы, – ответил Штубер. – Тем не менее бой все же состоится. Укажите участок, капитан, который должен занять я со своим взводом.
– Со своим сбродом, – негромко, но достаточно мрачно уточнил Грошев, оценивающе окинув взглядом столпившихся у колодца с перебитым журавлем новобранцев. Пока офицеры выясняли отношения, эти обреченные почти со счастливым визгом обмывали свои потные тела, черпая воду из наполненного корыта. – Интересно, знает ли хотя бы один из них, как заряжают винтовку? Если только эти винтовки не театральные. Я вас спрашиваю!
– По крайней мере, они у них есть. Сотни других новобранцев прибывают на передовую, имея одну винтовку на четверых. Наши маршалы убеждены, что любой новобранец способен добыть себе оружие в бою. – Штубер оглянулся. Розданов все еще оставался у него за спиной. Как бы он ни перемещался – все время за спиной. Держа палец на спусковом крючке ручного пулемета. У Штубера закралось подозрение, что первой и последней очередью из своего «дегтяря» поручик готов скосить их обоих. Обязательно обоих.
– Дожились. А ведь готовились: «Красная армия всех сильней». Еще утром передний край был за пять километров отсюда. А мы копошились в глубоком тылу. Я вас спрашиваю!
– Лучше спросите, что происходит на том берегу Днестра. Лозовский, воды командиру!
– И что же там происходит? На том берегу?
– Уже ничего. Немцы форсировали реку севернее и южнее укрепрайона. И теперь все, кто может, смываются, чтобы не оказаться в немецком котле. – Лозовский принес флягу, и оба офицера по очереди напились. Вода показалась оберштурмфюреру слишком теплой и горьковато-соленой. Несмотря на то что рядом несла свои воды большая пресная река. – А вам прислали подкрепление. В виде этого сброда – в чем вы совершенно правы.
– Так что прикажете делать мне, капитану Грошеву? Я вас спрашиваю.
– Доблестно сражаться. Что вы, собственно, и намерены делать. Где мои позиции?
– Ваши позиции? – Грошев взошел на желтевший рядом холм, очень смахивающий на братскую могилу, уже насыпанную, но еще без трупов. Хотя претендентов на погребение хоть отбавляй. – Ваши позиции? – переспросил капитан, окинув взглядом окрест, словно выбирая место для размещения целой кавалерийской дивизии. – Вон они, – показал куда-то вправо. – От безверхой акации и до излучины реки.
– От акации и до излучины? – удивился Штубер. – Разве ваш дивизион занимает по фронту…
– Занимает, занимает, лейтенант. Позиции ближайшего соседа – по ту сторону излучины, за камышами. Здесь ведь не передовая. Это всего лишь прикрытие, заслон. Для истребления мелких групп противника, которые могут просачиваться к реке через боевые порядки первой линии. Я вас спрашиваю…
Кажется, только сейчас Штубер окончательно понял, что это капитаново «Я вас спрашиваю» вовсе не означало вопроса. Выкрикивая в очередной раз эти слова, Грошев скорее адресовал их своей люти, своим нервам или, в крайнем случае, Господу Богу. И совершенно не нуждался в чьих бы то ни было разъяснениях.
– Но ведь от акации до этого речного изгиба не меньше километра. А у меня всего лишь двадцать человек.
– Там полтора километра, лейтенант. Вы могли бы обзавестись биноклем. Полтора километра, на которых вы полный хозяин. Властелин. Могу даже убрать оттуда пятерых своих последних бойцов, которые спокойно держали эту линию до прибытия вашего взвода. Кроме того, учтите, что за вами огневая поддержка всей вверенной мне артиллерии.
И оба они перевели взгляды на «вверенную капитану артиллерию».
Последнее орудие дивизиона с мольбой уставилось тонким стволом в предвечернее степное небо. По обе стороны от него виднелись разбомбленные позиции – со всем тем, что осталось от некогда стоявших там орудий. Судя по гигантской воронке, две позиции летчики уничтожили прямым попаданием больших бомб. Нетрудно было представить себе, что произошло с расчетами.
– Если поддержка этой «артиллерии» мне действительно обеспечена, пятерых своих солдат можете отозвать хоть сейчас. Для уплотнения своей обороны. Эти полтора километра я буду героически удерживать силами своего отчаянного взвода. Всмотритесь в лица этих людей. Это лица завтрашних героев.
– Боюсь, что сегодняшних, – неожиданно помрачнел этот военно-полевой дуче. – Боюсь, что уже сегодняшних, – повторил, всматриваясь в недалекие рубежи первой линии. – К ночи немцы наверняка захотят выйти к Днестру, чтобы утром, благословясь, форсировать его. Им выжидать некогда.
– Тогда нам стоит поторопиться.
– Хотя бы потому, что нет там пока что ни окопов, ни блиндажей. Так, отдельные ячейки.
«Нет, есть в этом командире дивизиона что-то от его предшественника, отчаянного артиллериста Бонапарта, – подумалось Штуберу. – Не зря говорят, что артиллеристы – особая армейская каста, уверовавшая, что не орудия их являются богами войны, а они сами».
– Взвод, строиться! – скомандовал он. – На боевой рубеж шагом марш!
– Старшина Вознов! Выдать этому войску два ящика патронов! – приказал капитан, наблюдая, как неохотно строятся новобранцы. Они уже разговорились с артиллеристами, понаходили среди них земляков и даже односельчан, и уже решили было, что останутся вместе с ними – обстрелянными, более опытными.
– Какой провинциальный мерзавец! – проворчал Розданов, когда после построения взвод вновь рассыпался и побрел к старой акации со снесенной снарядом верхней частью ствола. – Полтора километра на взвод!
– Уж не собираетесь ли вы взаправду держать здесь оборону, поручик? Эдак дослужитесь до ордена Красного Флага.
– Красного Знамени, оберштурмфюрер. Ордена противника нужно знать так же хорошо, как и звания. Кстати, в гражданскую это был высший орден красных.
– Вы его, уверен, удостоились.
– Я был белогвардейцем, – устало, безинтонационно напомнил Розданов.
– Понятно. В таком случае этого ордена Красного Флага удостоен офицер, который догнал вас до крымских берегов.
– И вполне заслуженно, – неожиданно обезоружил Штубера поручик. – Вы правы, если вермахт попрет, придется держаться. Не успеешь сдаться в плен, как какой-нибудь ефрейторишка проткнет тебя штыком или скосит под корень.
– Думаю, до темноты передняя линия все же продержится.
– Лучше думать над тем, как перейти линию фронта.
– Сдаваться ведь тоже не так-то просто, – согласился оберштурмфюрер. – Было бы куда лучше для нас, если бы впереди были только части вермахта. Чтобы можно было вступить в контакт. Но ведь там могут оказаться презренные нами союзники, румыны, которым куда проще расстрелять нас, чем разбираться, кто мы и откуда.
– Главное, что мы уже на этом, правом берегу. На великолепном участке. А уж здесь мы что-нибудь придумаем, провин-циаль-ные мер-завцы, – непонятно по чьему адресу, но со всем приличествующим случаю презрением проворчал Розданов.
34
Сонное солнце застыло над желтым холмистым горизонтом и, постепенно расплавляясь в нем, в то же время медленно, неотвратимо угасало, как последний факел надежды. Оно действительно было последним для многих, кто в этот жаркий июльский день уже погиб, смертельно ранен или кому еще только предстояло проститься с ним в разгар очередного боя.
Предвечернее солнце уже зависло над горизонтом, но до темноты все еще оставалась уйма времени, а решиться на переход линии фронта Штубер мог только тогда, когда окончательно стемнеет. Думая об этом, оберштурмфюрер все чаще поглядывал на небо и каждый раз, словно жрец – таинственное заклинание, произносил: «Когда же кончится этот “изумительный” день? Скорее бы…»
Ветер, еще недавно бодро веевший с Днестра, внезапно затих, а вместе с ним прекратилось вдруг всякое движение в воздухе, заливе, в плавнях. Угомонились и исчезли в глубине камышовых зарослей речные чайки, окончательно умолк безутешно рыдавший над позициями взвода обиженный кем-то жаворонок…
Небо, степь, люди, птицы, река – все, все, томительно преодолевая страх и жажду, ожидало, когда наконец погаснет в поднебесье этот опостылевший божественный светильник.
На передовой все еще время от времени вспыхивала перестрелка, и всякий раз, когда оттуда начинали доноситься выстрелы, истекавшие потом новобранцы бросали лопаты, испуганно приседали в своих неотрытых до конца, неказистых окопчиках и начинали лихорадочно осматривать винтовки и проверять, на месте ли разложенные по карманам и под кустиками запасные обоймы.
Штубер и сам с напряжением ожидал, чем кончится очередная пальба, и пуще любого новобранца молил Бога, чтобы вермахтовцы не прорвали линию фронта хотя бы до ночи. Иначе ему пришлось бы отбивать их атаку вместе с красноармейцами.
Впрочем, сама мысль о том, что ему, офицеру СС, пришлось бы командовать этим взводом русских во время атаки какой-нибудь истрепанной вермахтовской роты, вызывала у него приступ внутреннего хохота. Офицер СС, а также лейтенант вермахта, он же бывший поручик Белой гвардии Розданов, вкупе с неким дезертиром удерживают берег Днестра от натиска немцев. Ничего более фантастического придумать в этой войне просто невозможно. Все перемешалось в великом побоище народов, все потеряло здравый смысл.
– Товарищ лейтенант! – донесся голос Семенюка, того самого солдатика, что винтовкой прикрывался от бомб. Взяв на себя роль сержанта, Розданов выставил его за ближайшую гряду невысоких холмов следить за пролегающей параллельно их окопам лощиной и подходам к плавням. – К нам идут трое! Они в низине. Со стороны плавней.
– Выяснить, кто!
– Один из них вроде немец!
– Немец?! – насторожился Штубер.
– Один немец, двое наших. Пленного ведут. Точно, пленного.
Услышав это, Штубер буквально побежал туда, где на склоне холма, в тени акациевого кустарника, засел Семенюк. Увидев офицера, солдат подхватился и, виновато отводя глаза, начал отряхивать с брюк белесую пыль. Винтовка его при этом продолжала валяться между кустами.
– Вон они, наши. И с ними – пленный. Я далеко вижу.
– Винтовку подобрать, разгильдяй! – осадил его Штубер.
Как ни странно, эти наспех рекрутированные в армию сельские парни, которые достались ему в русском тылу в качестве подчиненных, постепенно становились Вилли все ближе. Возможно, срабатывал всего лишь обычный инстинкт фронтового офицера, всегда помнящего, что главное – сохранить пополнение в первые дни. Дать новобранцам привыкнуть к фронту, пообстреляться, свыкнуться с окопной жизнью.
– Товарищ командир, приказано передать этого вояку вам. Чтобы, значится, вы здесь сами разобрались, куда его: то ли дальше в тыл, за Днестр, то ли… Ежели никакого толка не добьетесь… – объяснил один из конвоиров, держа скрюченную руку возле измятой, с прожженным верхом фуражки с якорем. Другой конвоир был пехотинцем. Не обращая внимания на лейтенанта и не отдав ему чести, он сразу же уселся на землю и принялся перематывать грязную, с затоптанным концом обмотку.
– У вас там что, моряки тоже держат оборону? – спросил Штубер докладывавшего ему конвоира, пристально вглядываясь при этом в лицо молоденького германского лейтенанта, стоявшего чуть в стороне со связанными за спиной руками. Левый рукав его кителя был пропорот штыком и на обрывках ткани просматривались сгустки запекшейся крови. На голове, у лба – лейтенант был без головного убора – отливала кровавой синевой огромная шишка.
– Есть немного. С гражданских катеров сняли, с Днестра. Так в своем, морском, и воюем, товарищ лейтенант. Поскольку военных моряков не наблюдается. Они под Одессой.
– Когда взяли этого? – кивнул Штубер в сторону пленного.
– Часа два назад. Несколько немцев в окопы ворвались. Еле врукопашную от них отбились. Так вот этого я лично… Прикладом. Думал, что укокошил. Но когда солдатня его драпанула, вижу: очухался.
– Почему не расстреляли?
– Старший лейтенант наш не велел. Говорит: офицер. Первый и единственный. Вдруг в тылу из него чего полезного выжмут. В штабе, то есть. Так что вы отправьте его дальше, куда хотите.
– Скорее всего, на тот свет, – проговорил Штубер, снисходительно осматривая пленного. – Чтобы без волокиты.
– Мы вам его живого, как велено… А вы уж тут решайте, – рассудил речник. – Разрешите идти?
– До вечера продержитесь?
– Обещали, крабы береговые, подкрепление. Но его нет. Если бы не остатки какой-то роты, что пробилась к нам вчера ночью из окружения, мы бы и сегодня не продержались. Слух идет, ночью на тот берег переправляться будем.
– Не будете. Нас оставят здесь до конца. Пока все войска не отойдут по мосту и переправе на Подольск. Это приказ.
– Так и передать старшему лейтенанту?
– У вас разве нет связи со штабом?
– Время от времени восстанавливаем. Но там одно твердят: держаться до последней возможности.
– Раз твердят, значит, нужно стоять насмерть. Приказ есть приказ. Все, свободен. Да, – вдруг вспомнил Штубер, когда речник уже повернулся, чтобы уйти. – Вы хоть допрашивали этого немца?
– Как же его, краба берегового, допросишь? Он по-русски ни бельмеса, мы – по-ихнему. Что-то говорил: то ли просил отпустить, то ли матерился. Пойди пойми. Они ж и выматериться по-человечески не умеют: «фафлюхтер, доннер ветер…» – и вся радость. – Моряк презрительно сплюнул и старательно, чтобы видел пленный, растер слюну носком разбитого запыленного ботинка. Потом еще раз сплюнул, теперь уже прямо на носок сапога немецкого лейтенанта, и с чувством исполненного долга пошел прочь, даже не позвав за собой другого конвоира, все еще неумело возившегося со своими обмотками.
– Семенюк, развяжи пленного и побудь здесь. Мы с ним отойдем в тень, под иву.
– Так ведь он убить вас может, развязанный, – испуганно округлил глаза новобранец.
– Конечно, может. Причем сделает это с величайшим удовольствием, – согласился Штубер. – Если только сумеет. Так что разрежь веревку.
Семенюк остолбенело посмотрел на Штубера, но, так и не уловив нити его логики, пожал плечами.
– Связанного допрашивать все-таки легче.
– Связанного легче бить, а не допрашивать.
– Я буду рядом, если что…
35
Когда, с помощью штыка, Семенюк освободил пленного от веревки, Штубер махнул лейтенанту рукой и первым пошел к иве. Семенюк подался за ним, но затем остановился на почтительном расстоянии.
– Что предпочитаем, лейтенант: позор плена или сладость смерти при сохранении чести? – поинтересовался Штубер уже по-немецки, присаживаясь на небольшой бугорок в тени ивы. Лейтенанту он сесть не предложил. Пистолет держал в руке: мало ли что этому вермахтовцу взбредет в голову.
– Вы говорите по-немецки?
– По-итальянски, – оскалился Штубер. – На неаполитанском диалекте.
– Но, простите…
– Отвечать на мои вопросы. Так что вы предпочитаете?
– Если честно: ни то, ни другое, – переступил с ноги на ногу лейтенант, зажимая рукой раненое предплечье.
– Похоже на откровенность. Вот только выбор все же придется сделать.
– Поступайте, как хотите, – вяло и почти полусонно произнес пленный. И Штубер уловил его состояние. Больше всего на свете пленному хотелось сейчас поспать. Хотя бы минут десять вздремнуть. Штубер и сам пребывал в том же состоянии. Не зря же казнят всегда на рассвете, до восхода солнца, когда организм обреченного еще не проникся жаждой жизни, пока он все еще дремлет.
– Могу похлопотать за вас перед своим командованием. Отправят в школу разведки. Обучат, откормят. Это куда лучше, чем расстрел. Офицеров в лагеря, как правило, не отправляют. У нас, советских, больше ценятся пролетарии.
– Нет, – поморщившись, помотал головой пленный.
– Что означает ваше «нет», лейтенант? Не хотите жить? – поиграл пистолетом Штубер. – Посмотрите вправо. Я сказал: вправо. На эту вонючую лужу. Это и есть ваша могила. Уложить прямо сейчас, или же передать людям из особого отдела, чтобы они основательно потренировались на вас?
– Господи, н-нет…
– Не слышу членораздельной речи, фельдфебель. Кстати, как вас там?
– Лейтенант Розбах.
– Вот именно, фельдфебель Фишбейн, – умышленно исказил его фамилию и чин Штубер.
– Лейтенант Розбах, – педантично и в то же время почти умоляюще уточнил пленный.
– Можете считать, что в чине я вас уже понизил. Каждого пленного, который попадает нам в руки, мы тотчас понижаем в чине. Кроме рядовых, конечно. Это делает любой допрашивающий офицер. И сразу же сообщаем об этом немецкому командованию. Через международный Красный Крест. Что, не знали об этом?
– Нет, господин лейтенант, не знал. Нам о таких действиях не сообщали.
– Скрыли, значит, сволочи.
– Скрыли, – почти заискивающе подтвердил пленник.
– То есть, я так понял, что школа разведки вас вполне устраивает, фельдфебель?
– Предпочел бы обычный лагерь для военнопленных, – вяло пробормотал Розбах. – Я – пленный и согласно международной конвенции…
– Это буржуазная конвенция, унтер-офицер, – еще раз понизил его в чине Штубер. – Всякого пленного, который обвиняет Красную армию в нарушении этой вражеской конвенции, у нас принято вешать.
– Проклятие… Тогда сделайте что-нибудь, чтобы меня отправили… если можно, в офицерский…
– Что, «в офицерский»? Лагерь, что ли? Я вас спрашиваю! – вдруг вспомнился Штуберу теперь уже незабываемый для него капитан Грошев.
– Лагерь, господин лейтенант, – еще тише проговорил Розбах.
Штубер издевательски расхохотался.
– В таком случае, придется сразу же повышать вас до капитана. В офицерские принимаем, только начиная с чина капитана. Или оберлейтенанта СС. Для эсэсовцев скидка. Слушайте вы, идиот. Мало того, что вы угодили в плен, так вы еще и пытаетесь убедить противника, что офицеров вермахта подбирают исключительно из дебилов. О каком лагере для офицеров вы здесь несете? Их у нас в помине нет. Вообще никаких лагерей для военнопленных. Из какого полка?
– Что?
– Из какого вы полка, кретин?
– Второй пехотный.
– Восьмой дивизии? – добавил Штубер. – Я вас спрашиваю.
– Восьмой.
– Командиром которой является генерал-майор Вензель?
– Вот видите, вы и так все знаете.
– Да, мы знаем все. Но это не освобождает вас от необходимости отвечать на мои вопросы.
– Но ведь я отвечаю, – испуганно заверил пленный.
– Сколько людей в вашем батальоне?
– Понятия не имею. После этой атаки…
– Сколько было до атаки?
– Человек семьдесят.
– Фамилия командира батальона? Чин?
– Майор Нойман.
«Пора прекращать допрос, – сказал себе оберштурмфюрер. – Иначе этот болван выдаст мне весь генералитет, – презрительно ухмыльнулся он. – Включая командующего Южной группы войск генерала Гольдера. И тогда трудно будет убедить его в необходимости возвращаться к своим. А пока что на него еще можно положиться. Во всяком случае, никакого иного гонца до этой ночи Бог нам не пошлет».
Шла минута за минутой. Штубер молчал. Пленный сначала не придавал этому значения, потом, поняв, что молчание затягивается, отвел глаза от лужи, которая была обещана ему в качестве усыпальницы, наконец, начал нервно покашливать и шаркать ногами, пытаясь привлечь к себе внимание советского лейтенанта. Однако Штубер задумчиво смотрел куда-то мимо него, в выжженную степь, и, казалось, совершенно забыл о допрашиваемом.
– Так что со мной будет, господин лейтенант?
– Товарищ лейтенант, – угрожающе уточнил Штубер.
– Товарищ лейтенант. Именно так я и хотел сказать.
– Семенюк! – позвал Штубер. Все это время новобранец сидел неподалеку, по-турецки поджав ноги и не снимая пальца со спускового крючка винтовки. Подстраховывая своего командира, он не решался спускать глаз с пленного немца. – Уведи его в мой окопчик. И снова свяжи.
– Господин лейтенант! Умоляю вас, господин лейтенант… – сцепил руки у подбородка пленный, решив, что русский офицер приказал расстрелять его. – Но ведь я ничего не совершил. Предайте меня хотя бы суду. Я – военнопленный. Нельзя же просто так, своей властью.
– Предать вас суду? – поднялся Штубер. – Суда у нас нужно заслужить, товарищ ефрейтор. Своим мужеством. Но если вы так настаиваете… могу устроить вам суд. – Он смерил лейтенанта с ног до головы и, уже уходя, бросил: – Суд я вам даже обещаю, рядовой.
36
Свет этого странного невесть откуда взявшегося диска проникал в амбразуры дота, слепил окуляр перископа, в который Громов пытался рассмотреть его, а серую заводь Днестра просвечивал так, словно где-то там, в глубине ее, зарождалось и все выше и выше поднималось к поверхности некое подобие луны, готовой вот-вот вырваться из мутных потоков реки и взметнуться в ночное поднебесье.
Под сенью этого сияния по обоим берегам реки вдруг воцарилась непривычная, необъяснимая, какая-то вселенская тишина. Все, что еще несколько минут назад жаждало смерти и в то же время вздрагивало в страхе за свою жизнь, накапливая ненависть для того, чтобы отобрать ее у подобного себе, – теперь вдруг затихло, замерло, застыло, осененное этим странным молочно-голубоватым светом, словно снизошедшей из глубины Вселенной небесной благодатью.
По ту и эту сторону Днестра, на прибрежных холмах и высотах, окопах и дотах, люди, затаив дыхание, в изумлении смотрели на странное небесное сниспослание сие, ощущая в душах зарождающееся чувство первопровидцев, питающееся не вполне осознанным, но глубоким и искренним чувством покаяния.
– Ты явился, Господи!.. Не бери нас к себе, а помири и наставь на путь христовый.
– Ты с кем это беседуешь, Кожухарь?
– С Господом.
– Молишься, что ли?
– Не молюсь, а объясняю. Он ведь сам уже не ведает, что творит. Ты явился, Господи. Но почему только сейчас? Чтобы отпевать нас? Отпевать и убивать у нас и без Тебя есть кому. И ненавидеть – тоже. Ненавидеть мы от Тебя научились. И карать – во имя Твое. Так явись же. Научи, надоумь…
– Прекратить, Кожухарь, – негромко и незло прервал Андрей молитвенное стенание связиста.
Кожухарь стоял у амбразуры на коленях, подставив лицо странному сиянию, но при этом все же прижимал к груди винтовку. И непонятно было: то ли он, чисто по-солдатски, хотел предстать с ней пред очи Господни, как с орудием преступления; то ли надеялся, что Господь оставит его на земле.
Громов оторвался от окуляра перископа лишь на несколько мгновений, но, когда вновь припал к нему, вдруг отчетливо увидел, что сияние слегка померкло, зато прямо перед ним предстало некое подобие иллюминатора, за которым едва заметно очерчивалась фигура сидящего человека. Словно над рекой вдруг застыл самолет, летчик которого заставил машину остановиться всего за какую-нибудь сотню метров от крутого берега, в который она вроде бы неминуемо должна была врезаться.
В мощный перископ Андрей явственно видел фигуру этого пилота в светлом, отливающем лунной синевой костюме. И еще ему почудилось, что на несколько секунд рядом с пилотом появился другой человек. Появился, нагнулся над ним, словно что-то сообщил или просто всмотрелся в иллюминатор…
– Господи, что ж ты так поздно прислал ангелов своих? Сколько крови людской стекло в эту реку. Сколько жизней людских приняла она. Воистину сказано было: «река убиенных».
– Вот-вот, воистину… – прошептал лейтенант, поддаваясь магии его божественных экзальтаций. И в то же мгновение иллюминатор погас, фигура пилота исчезла, а сам солнечный диск растаял в ночной мгле.
Громов мотнул головой, закрыл и снова открыл глаза, повертел ручками перископа влево, вправо… Ничего! Коричневатое ночное поднебесье. Чуть поопустил перископ вниз… Словно бы ничего и не было! Никакого диска. Никакого иллюминатора. И уж, конечно, никакого пилота…
«Сон? Бред? Мираж?..»
Повертев еще немного стволом перископа, Громов устало протер дрожащей рукой глаза, размазал по лицу капли липкого пота и осел на табурет, поставленный между лежанкой и ящиками автоматных патронов.
– Что же ты замолчал, Кожухарь? Чудно́ так говорил, как священник на проповеди.
Кожухарь не ответил. Вокруг царило молчание.
Громов повернул голову и в сумерках полуотсека связи, в котором обычно располагался телефонист, увидел, что тот стоит на коленях, уткнувшись головой в откос амбразуры.
Лейтенант поднялся и, прихватив его подбородок, оторвал лицо от стены.
«Спит?! – не поверил своим глазам. – Не может быть! Когда ж он?..»
– Кожухарь! Слышь, Кожухарь?
– А? Что?! Я, товарищ лейтенант, – медленно, все еще до конца не проснувшись, поднимался связист.
– Когда ж ты успел заснуть?
– Заснуть? – удивленно, не понимающе, переспросил Кожухарь. – Давно. Сон какой-то странный такой.
– Какой?
– Непересказуемый какой-то, – неохотно молвил связист, давая понять, что делиться своими сновидениями не желает.
– Подожди, какой сон? Ты ведь только что говорил. Молился, что ли… «Господи, что ж ты так поздно послал ангелов своих». Или что-то в этом роде.
– Я… молился?! – очумело смотрел на него Кожухарь.
– Ты, ты. Молился. Что-то о крови говорил, которая в реку стекла. В «реку убиенных». «Не бери нас к себе, Господи, а помири и наставь на путь христовый». Ты, вообще-то, человек верующий? Откровенно. Для меня главное – правда.
– Не говорил я такого, товарищ лейтенант, – испуганно помотал головой Кожухарь. – Да я и слов таких не сказал бы. И церкви у нас в селе не было. Взорвали ее коммунисты еще в тридцать втором. То есть, я хотел сказать…
– Не в этом дело, – налег ему рукой на плечо Громов. – Важно: говорил ли ты или не говорил.
– Ничего я не говорил. Спал.
– Тогда я ничего не понимаю, – снова опустился лейтенант на стул. – Пусть ты… Допустим, во сне. Но я-то не спал.
– Вот и поспали бы, пока тихо. А то ведь на рассвете ударят изо всех стволов…
– Стой, стой, Кожухарь, не нуди… Тут дело серьезное. Ты мне скажи, что ты все-таки видел?.. Во сне ли, наяву… Что именно?
– Да вроде как солнце восходило… Там, над рекой… Солнце не солнце, луна не луна. Диск какой-то. Страшновато как-то стало.
– И ты это видел?
– Что… видел?
– Диск этот, видел?
– Видел, – пожал тот плечами, усаживаясь на небольшую, устланную шинелью лежанку.
– Наяву видел?
– Н-не знаю…
– Так во сне или наяву?
– Во сне… кажись. Точно, во сне.
– Хорошо, ну а то, что ты говорил… Эти молитвы. Ты хоть что-нибудь помнишь?
– Что-то припоминаю. По-моему, я лишь повторял чьи-то слова. Говорил кто-то другой. Сон, словом.
– Но «рекой убиенных» назвал Днестр старшина. А ты вдруг повторил. Только по-иному преподнес эти слова.
– Так ведь она и есть – «река убиенных».
– По сути – правильно, – почесал заросшие щетиной скулы Громов. – Но то – суть, а то слова. В том шаре, что завис над Днестром, ты людей видел? Хотя бы одного человека?
– Значит, вам тоже что-то такое приснилось? – передернул плечами Кожухарь.
– Причудилось. Поскольку я не спал. Так видел?
– Нет, никаких человеков я не видел. Но шар огненный вроде был. Плыл по небу. Шар – да, плыл…
– Комендант, товарищ комендант! – вдруг появился в проеме двери механик дота Каравайный. – Там солдатва шумит, что, мол, видение небесное – это не просто так, это небесное знамение.
– Вы почему с винтовкой в руке, Каравайный? – холодно осек его Громов. – Стрелять по знамению собрались?
– Почему по знамению?
– По кому же тогда?
– По врагу. На посту я. – Громов уже знал, что еще две недели назад Каравайный был механиком на самоходной речной барже. Приставленный к энергоустановке, он освоился в доте очень быстро. У механика, привыкшего к машинному отделению и к трюмам, погружение во чрево дота никаких особых эмоций не вызывало. Единственное неудобство, которое его слегка раздражало: на тельняшку иногда приходилось надевать гимнастерку.
– Вот и я о том же: на посту! – быстро сориентировался Андрей. – А кто вам давал право оставлять пост? Вы обязаны оставаться на нем, даже когда на проверку постов укрепрайона выйдет сам Иисус Христос… По Днестру придет, «по воде, аки по суху». Вы поняли меня? Немцы разведывательный зонд запустили, а вы, красные бойцы, атеисты, сразу уши развесили: «Знамение божье! Спасайся, кто может!» Хоть бы вы устыдились, флотский механик как-никак.
– Понял, товарищ комендант, – смущенно пробормотал Каравайный. – Зонд – значит зонд. Вы – командир. Как скажете – так и запишем. Извините, отбываю на пост.
– Стойте, – остановил его Громов уже за дверью. – Теперь пусть пост подождет. Пройдитесь по отсекам. Успокойте солдат. Передайте то, что слышали: немцы зонд осветительный запустили. С фотоаппаратом, для съемок. Не столько для разведки запустили, сколько для устрашения. Вы поняли меня, красноармеец Каравайный?
– Что ж не понять? Понял: зонд для устрашения. Думали, что запаникуем. Вы – командир. Как скажете, так и запишем.
– И, вернувшись на пост, то же самое повторяйте. Каждому, кто полюбопытствует. Но к доту никого не подпускать.
«Только знамения здесь не хватало!» – возмутился лейтенант уже про себя, когда Каравайный ушел, а Кожухарь вышел из отсека, чтобы перехватывать всех желающих поделиться с лейтенантом впечатлением от увиденного.
Тем временем лейтенант вновь и вновь возрождал в своей зрительной памяти увиденный им диск и постепенно приходил к выводу, что их позиции посетил тот самый «солнечный диск», который когда-то зависал еще над войсками Александра Македонского во время его переправы через какую-то азиатскую реку. Громов читал об этом явлении небес, но не придал ему значения, попросту не воспринял всерьез: мало ли о каких чудесах упоминается в различных мифах. Но теперь… он сам был очевидцем…
«Единственного, чего здесь сейчас не хватает, так это знамения! – укладывался Громов лицом к сырой стене, чтобы защититься от тусклого света лампочки, которую решил не выключать – легче приходить в себя в случае налета. – Видения пойдут чуть позже, когда противник начнет выплескивать на этот берег десант за десантом. Вот это будут настоящие видения!»
37
Когда на передовой наконец затихло, Штубер увидел солдат, которые поодиночке или небольшими группками, по два-три человека, отходили в сторону его окопов. Те, что еще оставались на передовой, продолжали постреливать, но лишь для того, чтобы замаскировать отступление батальона, а может, и целого полка, к берегу реки. Да, очевидно, полка, потому что левее их позиций появились точно такие же группки. Подразделения полка отбили атаку противника и теперь отходили на последний рубеж на этом, правом, берегу, чтобы соединиться с заслоном.
– Эй, лейтенант, не вздумай палить! – предупредил Штубера по телефону капитан Грошев. Полчаса назад связь с командиром дивизиона была налажена, однако это совершенно не радовало оберштурмфюрера.
– Даже по тем, кто бежит сам по себе, то есть дезертирует?
– Попытайся сдерживать их. Не давай этим странникам перебегать через твои окопы. Тут вот еще переправу наладили, так они сразу к ней хлынут. А должны оставаться с нами.
– Пристрелю каждого, кто окажется по ту сторону моего окопа, – холодно заверил Штубер.
– Только учти, что и им тоже терять нечего. В штыковую пойдут, чтобы прорваться. Хотя, что мы здесь способны удержать, если разобраться? И что здесь нужно удерживать? Я вас спрашиваю.
Последнюю группу возглавил старшина, принявший во время последнего боя командование над всем тем, что еще оставалось от роты. Двое бойцов трусцой бежали впереди старшины и все время оглядывались, опасаясь выстрелов в спину. А старшина шел медленно, устало переваливаясь с ноги на ногу, словно пахарь по свежевспаханной ниве. Он был без фуражки. На лице – маска из пыли и крови. Винтовка висела на груди, а немецкий автомат нес на плече, как дубинку.
Немцы уже заняли их окопы. Некоторые из вермахтовцев стояли на бруствере и кричали, даже улюлюкали вслед отходящим красноармейцам, но почему-то не стреляли – что казалось очень странным. Таким образом немцы демонстрировали то ли свое презрение к отступавшим, то ли жалость.
«А ведь они могли ворваться в наши окопы на плечах отступающих, – с досадой прокомментировал это зрелище оберштурмфюрер. – И уже через каких-нибудь полчаса выйти к реке. Ах да, этот неистребимый немецкий педантизм. Не было, видите ли, приказа преследовать противника, атакуя его вторую линию. А в штабе, очевидно, плохо представляют себе силы заслона. Разведка опять не сработала».
– Все, разъядренили нас, – еле выговорил старшина, оседая на бруствер прямо перед лейтенантом.
– Вижу, что разъядренили. Чем хвастаешься?
– Что ж вы, сукины дети, не подошли, не подсобили, если все видели…
– Что за тон, старшина?
– Да брось ты со своим тоном, сынок, – устало махнул рукой прибывший. Возраст его был таким, что он и в самом деле спокойно мог называть Штубера «сынком». – Ты вон посмотри, сколько нас отошло. И двадцати человек от роты не осталось.
– Успокойтесь, старшина, не одни вы отходите.
– Дык кому ж от этого легче? Разве что немчуре. Хотя им тоже в радость не будет.
– Представьтесь, старшина.
– А шо ж тут представляться? Конюхов. Старшина. Весь тут.
– Так вот что, «Конюх-старшина весь тут», соберите эти свои остатки роты и займите левый фланг. Вплоть до акации. И побыстрее. Окопы там только намечены. Работы до утра.
– Так, может, сразу отойти на левый берег Днестра, и уже там, усилив боевые порядки левобережных частей…
– Стратег ты, Конюх-старшина: «отойти, усилить». А эту землю оборонять по-твоему не нужно?
– Оборонять нужно там, где ее сподручнее оборонять, – тяжело вздохнул старшина. – Если бы этому еще и офицеров наших учили…
– Прекратить болтовню, старшина! Выполнять приказ. И спускайтесь в окоп, что вы на бруствере мишените?
Старшина обиженно покряхтел и испепеляюще посмотрел на лейтенанта.
– Ну, воюем, землячки хреновы, ну воюем… – посокрушался он и тяжело, почти по-стариковски, опираясь кулаком о бруствер, поднялся. – Неужели ж ни одного мудрого генерала-маршала в этом войске не осталось? Как стадо гонят нас. От самой границы по Пруту. Ну, землячки хреновы…
Штубер посмотрел на часы. «Сейчас у них там будет ужин, – сглотнул он слюну. – Грошев тоже обещал, что кухня подъедет. Но когда это будет, «землячки хреновы»? У вермахта ужин, поэтому до темноты атаки не будет. Ночью тоже не пойдут. Значит, к реке выйдут с восходом солнца. Чтобы в тот же день, не теряя людей под огнем русских батарей, форсировать. Все рассчитано».
– Но два пулемета мы вам все же притащили, – как-то обиженно напомнил старшина, словно предупреждая, что может отнести эти пулеметы обратно. – И трахтоматов немецких целую кучу.
Не обращая на него внимания, оберштурмфюрер взглянул на небо. Солнца уже не было. Но темнело медленно. Какой же он сегодня долгий, этот южный вечер.
– Что будем делать, оберштурмфюрер? – тихо спросил Розданов, неслышно приблизившись к Штуберу. Вилли стоял у пулеметного гнезда и рассматривал в бинокль глазеющих в их сторону вермахтовцев. Бинокль этот он конфисковал у пулеметчика, отступившего вместе со старшиной.
– Радоваться жизни.
– Нарадовались. Пора уходить, пока сюда не нагрянули эти принципиальные мерзавцы из контр-разведки.
– И нагрянут. Почему бы им не нагрянуть?
– Но если нагрянут, могут поинтересоваться, откуда взялся здесь лейтенант Гуревский.
– И должны поинтересоваться, – попытался отговариваться в том же духе, но вовремя прервал себя: – Не причитать, поручик, не причитать.
– Мы и так… то ли Бог нас хранит, то ли черт.
– Главное, что хранит, – меланхолично ответил Штубер. – Слушайте меня, красноармеец. Немедленно идите к пленному. Смените Лозовского. Подготовьте лейтенанта к переходу к нашим.
– Каким образом? – по-солдатски, в кулак, раскуривал махорочную скрутку Розданов.
– Обо мне ни слова. Ведите переговоры от своего имени. Скажите, что, как только стемнеет, вы поведете его якобы расстреливать. В плавни, под иву, под которой состоялся первый допрос. Если он окажется благоразумным и согласится на наши условия – выстрелите в воздух. Взамен он должен пробраться к нашим, а сделать это здесь не так уж трудно, и передать, что в два ночи к их окопам подползет группа немецких диверсантов, вернувшихся с того берега. Из полка «Бранденбург».
– В два ночи… из полка «Бранденбург»… Понятно. И что?
– Пусть не вздумают «салютовать» нам из всех своих видов оружия.
– Как мы узнаем, что он передал все это?
– Две красные ракеты и одна зеленая. В сторону плавней.
– А если он не поверит?
– Кто, лейтенант? Куда ему деваться? Главное, чтобы не сошел с ума от неожиданно свалившейся на него удачи. «Расстреливать» поведете вместе с Лозовским. Только учтите: на островах красные, там засады.
– Я это заметил. Не исключено, что есть заслоны и на краю плавней.
– Есть. Я наблюдал их передвижение. В случае чего, вы должны будете отвлечь их, вызвать огонь на себя. Жизнь лейтенанта сейчас дороже.
– Спасибо за оценку, барон.
– Я ведь не сказал, что вы обязаны погибнуть, – миролюбиво похлопал его по плечу Штубер. – Отвлечь и уйти. Утром мы все это спишем на недоразу-мение.
– Две армии провинциальных мерзавцев, – не стал щадить его поручик Розданов. – Теперь я понимаю, почему Господь спровоцировал эту войну. Как бы Он еще отправил на небеса такое несметное множество негодяев?
– Чудная версия. Позволите записать в «святое благовествование от Розданова»?
Поручик не ответил, и несколько мгновений оба всматривались в судный мрак «ничейной земли». Они вели себя так, словно сейчас им нужно было подниматься в последнюю, гибельную атаку.
– Хотя бы этот провинциальный мерзавец сумел дойти. Только боюсь, что сей студень с университетским дипломом и ползать-то толком не умеет. А ведь уходить придется на брюхе.
– Пора, поручик. Темнеет. Начинайте обрабатывать пленного. Только поубедительнее. Через час я устрою небольшой спектакль, после которого велю расстрелять лейтенанта.
– Может, стоило бы вам поговорить с ним, оберштурмфюрер. Как немец с немцем. Как офицер СС и гестапо.
– Как офицер гестапо я поговорю с этим болваном по ту сторону фронта. Ибо он вполне заслуживает такой беседы. Я вас спрашиваю!..
– Простите? Ах, да. Имитируете капитана Грошева, этого провинциального мерзавца. Впрочем, он мне нравится. Есть в нем что-то от бесшабашности истинного русского офицера. Правда, с налетом разгильдяйства. Но тоже… истинно русского.
38
Жара постепенно спадала. На тускнеющем небосводе созревали гроздья первых созвездий, и тучи, которые нагонял на них прорвавшийся из предгорий Карпат «верховинский» ветер, напоминали клубы песчаной бури, обрушивающейся на далекие, освещенные небесным светом оазисы. Прохлады этот ветер не принес, но все же уставшие за день бойцы явственно ощущали ее – источаемую рекой, заливом, плавнями. Это была прохлада, крепко настоянная на речном иле, болотной тине и луговых травах.
«Значит, опять к “ним”… – подумал Розданов, вдыхая эти запахи и прислушиваясь к шуршанию еще не успевшего покрыться желтизной камыша, к легкому поскрипыванию подступающего к самым окопам ивняка. – А ведь здесь ты среди своих. В русских окопах. И перед тобой окопы германцев. История словно бы вывернула сама себя наизнанку, представая перед тобой в совершенно ином, каком-то давно забытом отражении. Хотя… для этих “обмоточников” ты “свой” лишь до тех пор, пока кто-нибудь из них не догадается, кто ты такой на самом деле. А догадавшись… с каким удовольствием они поставят тебя к стенке!»
Да, Розданов понимал, что не так-то просто для него стать своим в русских окопах. Если только это вообще возможно. И все же душа его прикипала к этой земле, к траншеям и к Днестру, к родным солдатским гимнастеркам… Душа эта смутными, но все же довольно острыми воспоминаниями отзывалась на милозвучный украинский говор.
Поручик пришел на эту землю, вернулся на нее, будучи уверен, что в нем все еще жива ненависть к красноармейцам как к врагам; что каждый шаг по этим нивам будет отмечен жаждой борьбы, жаждой отмщения.
Но вот они, эти красноармейцы, перед ним: плохо обученные, скверно обмундированные, несытно накормленные и уж совсем нищенски вооруженные. Они зарываются в выжженную степь, устилают могилами берега каждой речушки, пытаясь противостоять невиданным по численности и крепости брони танковым ордам немецкой армии и все еще плохо представляя себе, какая же в действительности силища надвигается на них. Возможно, этот, как и много других боев, они проиграют, но саму войну они проиграть не могут. Где-то там, на немыслимо огромных просторах Российской империи, силы германцев иссякнут. И весь вопрос заключается в том, появится ли к тому времени третья сила – сила новой, некоммунистической России… которая готова будет и сумеет возобладать над подорванными силами коммунистической и фашистской империй.
Проходя по полуобвалившемуся окопу, переступая через ноги уставших от жары и трудов русских солдат, он с тревогой и покаянием думал о том, сколько же крови – родной, русской крови – должно быть пролито, сколько жизней погублено, сколько городов сметено с лица земли, чтобы он, поручик Розданов, наконец почувствовал себя отмщенным! Да и кому он, собственно, мстит? Этим забитым пропагандой, запуганным энкевэдистскими чистками, раскулачиванием и прочими репрессиями сельским мужикам?
«Уж лучше было погибнуть где-то там, в лесу, чем оказаться вражеским лазутчиком в русских окопах, где любой солдат готов умереть, но не пропустить германца на свою землю, – мрачновато размышлял Розданов. И размышления эти были с горьким привкусом спасения, купленного на сребреники Иуды. – Если бы я оказался у красных в такой роли во времена Гражданской войны – это было бы понятно, естественно, продиктовано самими обстоятельствами, самим ходом истории моей страны и моего народа. Но ведь сейчас эта история приобрела совершенно иной излом…»
На той стороне Днестра в полнеба расползалось багряно-черное зарево, очевидно, доставшееся красным от очередного налета штурмовиков «люфтваффе». Впрочем, не исключено, что поджигали сами красные: дабы не досталось врагу.
«И теперь, находясь здесь, я должен вступать в сговор с гитлеровским лейтенантом, этим провинциальным мерзавцем, чтобы помог мне вернуться в стан вермахтовцев, помог снова стать врагом, снова, в который раз, предать… Хотя, пардон, – вдруг остановил себя Розданов. – Тогда, в рядах белого движения, я никого не предавал. Никого. Ибо тогда я оставался верным офицерскому долгу. Пусть большинство народа тянулось за большевиками, поддаваясь демагогическим обещаниям по поводу земли, равенства и братства, которых они так и не получили и вряд ли когда-нибудь получат. Но в то же время огромные массы российского люда поддерживали и нас. И не моя вина, а моя беда, что в конце концов народ сделал тот выбор, который он сделал. Этот свой роковой выбор».
С этой облегчившей его душу мыслью Розданов и подошел к открытому чуть позади окопов и накрытому сверху бревнами и ветками санитарному окопу-полублиндажу, в котором в тени-прохладе молился, ожидая своей участи, немецкий лейтенант.
– Как служба, Лозовский? – с наигранной бодростью поинтересовался у часового.
– Страшновато… Скорей бы уже… – поднялся ему навстречу дезертир, тоже пристроившийся было так, чтобы толика тени досталась и ему. – Что немец, что я. Оба ждем, когда за нами придут.
– Что в этом странного? Обычные ощущения дезертира и пленного.
– Ты-то сам кто? – оскорбленно проворчал Лозовский. – На мне хоть крови нет.
– Этого мы пока не учли. Спасибо за напоминание. Прежде надо было «повязать» кровью. Закон любого преступного сообщества. Ведет себя наш германец как? – не стал дальше подбрасывать поленья в огонь Розданов.
– Смирился. Но сюда этот приходил, Семенюк, или как там его. Ну, тот, в присутствии которого лейтенант учинил пленному допрос. Пришел, поговорили. И, сдается, заподозрил он что-то. Все допытывался, откуда родом наш лейтенант, почему так хорошо знает немецкий.
– Заподозрил, естественно. И кто бы на его месте не заподозрил? Если Штубер – обычный красноармейский лейтенант, то почему так хорошо владеет германским? А если так хорошо владеет, то почему в окопах на передовой, а не в штабе, не в разведке? Ну а ты что?
– Сказал, что лейтенант – бывший учитель немецкого.
– Гениальная мысль.
– Но парень все равно чует что-то неладное. И вроде бы уже поделился своими страхами еще с двумя солдатиками.
– Видел-видел… Он и возле старшины ошивается. Придется успокоить этого провинциального мерзавца вечным упокоем.
– Сам смерти ищет, сам, – прошептал дезертир, испуганно крестясь.
– Ладно, покарауль здесь вблизи. Теперь я с этим лейтенантом сам потолкую.
Пленный уже понял, что речь идет о нем, поднялся и бледными трясущимися руками поправил китель, застегнул верхние пуговицы.
– Только не нервничать, господин лейтенант, – упредил его вопрос Розданов, перейдя на немецкий. – Перед вами тоже лейтенант вермахта. Из русских, естественно.
– Хватит с меня ваших спектаклей! – вдруг взорвался пленный. – Я требую, чтобы меня судили! Или отправили в тыл! В комендатуру ближайшего города. Я голоден. Взяв меня в плен, вы обязаны позаботиться о моем содержании. О содержании, достойном офицера.
39
Еще добрых две-три минуты Розбах высказывал свои яростные претензии, угрожал, что пожалуется на их лейтенанта русскому командованию, что очень умилило поручика; а еще он требовал пищи и воды; наконец, попросил пистолет, желая «покончить с жизнью, как подобает офицеру рейха».
И все это время Розданов терпеливо, молча выслушивал пленного, сдерживая вполне естественное желание изо всей силы съездить ему по худой, продолговатой, как у состарившейся гончей, морде.
– Вы ведете себя, как провинциальный мерзавец, лейтенант. Я ведь представился: перед вами лейтенант германской армии, бывший поручик русской Белой гвардии Розданов. Какие еще разъяснения по этому поводу вам нужны?
– Я не желаю принимать игры вашей контрразведки, ЧК или как вас там следует называть! – снова взвизгнул лейтенант.
И тогда Розданов захватил его за китель, притянул к себе, резко ударил головой так, что рассеченные губы сразу же покрылись кровяной пеной, и прошипел:
– Или ты поймешь меня, или я сейчас же утоплю тебя в этом зловонном болоте. Причем топить буду медленно, смакуя. Ни один красно-русский тебя бы так не топил. Дошло?
– Прекратите избивать меня, – сорвался на полушепот пленный. Но именно этот срыв подсказал Розданову, что германец поуспокоился и готов к разговору.
– А теперь слушайте меня внимательно. Нашу группу возглавляет офицер СС, агент гестапо, в чине оберштурмфюрера. Это известный разведчик. Этой ночью мы должны перейти линию фронта.
– Речь идет о лейтенанте, который меня допрашивал? – пробормотал Розбах, все еще недоверчиво рассматривая красноармейскую гимнастерку человека, выдающего себя за офицера вермахта.
– Неважно, о ком именно идет речь. Не задавайте слишком много вопросов. Ибо отвечать на них будут в гестапо. Вы этого хотите?
Упоминание о гестапо как-то сразу охладило лейтенанта. Похоже, он опасался его агентов куда больше, чем советской контрразведки. Впрочем, Розданова это не удивило. Нравы и порядки, царящие в Германии со времени прихода к власти Гитлера, были хорошо известны ему.
– Что я должен сделать, господин лейтенант? – наконец пришел в себя Розбах.
– Вот с этого вопроса вы и должны были начинать разговор. Осознавая, что в этом мире вам крупно, просто-таки невероятно повезло.
– Допустим, я уже осознал это. Ваши предложения?
– Через несколько минут мы поведем вас расстреливать. В плавни. Стрелять, само собой разумеется, будем вверх. То есть, дадим вам возможность уйти к нашим. Но, когда будем уводить вас отсюда, вы должны буквально ползать у наших ног, умоляя спасти вам жизнь. Причем все должно быть натурально. Как в лучших театрах Европы. Чтобы большевики-красноперы поверили: человек идет на смерть.
– Ползать у ног? – вдруг напыщенно переспросил Розбах. Поняв, что ему действительно чертовски повезло и смерть откладывается, пленный решил сыграть «в гордыню». – Только не это. Есть ведь еще и такое понятие, как «честь мундира».
– Что-что? – побагровел Розданов. – Слушайте, вы, провинциальный мерзавец!.. В вашем положении это уже не «честь мундира», а чистота подштанников. Если у вас хватило ума сдаться большевикам в плен…
– Но я не сдавался! – Розданов заметил, как вдруг осел голос лейтенанта.
– То есть как это не сдавались? Вы ведь сами перешли к красным. Исходя из своих убеждений.
– Да неправда все это! Меня взяли в плен. Меня оглушили.
– Вполне допускаю. Однако доказать это можем только мы. Поэтому внимайте каждому моему слову.
Пока Розданов договаривался с лейтенантом о деталях «побега после расстрела», Штубер отослал телефониста с ведром за водой, а сам на виду у находившихся неподалеку старшины и нескольких солдат имитировал разговор со штабом.
– Что делать с этим пленным немецким лейтенантом, товарищ подполковник?! Даже так? Расстрелять?! Но он может дать ценные сведения. Если, конечно, хорошенько поднажать на него. Могу отправить его со старшиной, – услышав, что речь идет о нем, старшина подошел поближе. – Ну, есть тут один старшина, с передовой отошел. Опытный мужик. Нет, этот лейтенант не из эсэсовской части. Но может кое-что рассказать. Да? Значит, все-таки в расход? Сегодня же? Есть. Понял! Как прикажете. Думаю, до полудня продержимся. Но хорошо бы подбросить подкрепление. И хотя бы парочку орудий. Есть. Так точно.
Штубер положил трубку на полевой аппарат и вопросительно посмотрел на старшину и подошедшего к ним Семенюка.
– Так что, велено расстрелять? – спустился в его окопчик старшина.
– Слыхал ведь. Только спрашивается тогда: какого черта мы с ним здесь морочились? Да и вы там, у себя на передовой. Кстати, его привел сюда морячок-речничок. Что-то его не видно.
– Не видно, точно, – пробасил старшина Конюхов. – Погиб. Как только вернулся от вас. Не в бою. Вроде как случайная пуля. Снайпер, видать, подкараулил.
– Снайпера у них зверствуют, это известно.
– Может, его еще и спасли бы, да только поторопился мужик. Пришел в себя, понял, в чем дело, и… горлом на штык. Храбрый был якорник. Ни одного морячка не уцелело. Все полегли.
– Моряки… Эти всегда славились.
Тема разговора вроде бы исчерпала себя, но в это время старшина настороженно как-то оглянулся на бойца.
– Семенюк, ты пока погуляй. Нам тут по-командирски поговорить надо.
Парнишка неохотно отошел. Но Штуберу показалось, что все равно отошел он лишь на такое расстояние, с которого при громком разговоре мог бы улавливать хотя бы отдельные слова.
– Товарищ лейтенант, вы что, немец по национальности? – вполголоса спросил старшина.
– А, вон что тебя волнует. И не тебя одного. Прибалтиец я. Из «красных латышей». Слышал о латышских стрелках? А что касается языка, то я всего-навсего учитель немецкого. В институте преподавал. Обещают перевести в штаб, сделать переводчиком. Да, видно, здесь офицеров тоже не хватает.
– Учитель, значит… – старшина облегченно вытер пот рукавом гимнастерки и снова оглянулся на вертевшегося неподалеку Семенюка. – Тогда понятно. А то хлопец этот, – кивнул в сторону Семенюка, – принял вас чуть ли не за ихнего шпиона. Еще и набычился: звони в штаб, звони ротному. Пусть разберутся.
– И что же? Звонил?
Старшина замялся.
– Я спрашиваю: звонил?
– Как же звонить? Вы здесь, вблизи… Да и вообще, боевой офицер.
– Значит, гонца-солдатика послал, чтобы сообщил?
Старшина виновато посмотрел на Штубера и снова оглянулся на Семенюка.
– Еще нет. Но признаю: хотел послать. Его самого. Пусть сам и объясняет. Он еще говорит, что и в командирах у них вы тоже оказались как-то странно, во время бомбежки. Когда старшину, который принял их от военкомата, убило. На шоссе вас вроде бы не было. Из леса вышли, что ли.
– Только не из лесу, а из придорожного перелеска, – беззаботно уточнил Штубер. – Это же я и должен был принять взвод новобранцев. Однако меня задержали в областном военкомате, поэтому послали старшину. Вместе с двумя бойцами из комендантской роты я встречал его потом на дороге, чтобы сразу сюда. Жаль, погиб старшина.
– Тогда еще понятнее, – облегченно вздохнул Конюхов. – А то сразу: «Шпион! Шли гонца в штаб».
Штубер улыбнулся. Покачал головой. Потом, немного подумав, поманил старшину пальцем, чтобы тот наклонился.
– Чего ж все-таки не послал? Так, по-честному, между нами… Ведь у самого тоже были сомнения.
– Были, конечно, как не быть?
– Тогда в чем дело?
– Так ведь вы же воюете здесь, вы на фронте, а не где-то в тылу заводы взрываете. Вдруг ошибся бы.
– Я могу быть с вами откровенным?
– А чего ж, конечно… – воровато оглянулся Конюхов.
– Только чтобы это осталось между нами, – сурово потребовал обештрумфюрер.
Старшина кивнул и опять оглянулся.
– Я из разведотдела армии. Выполняю здесь особый приказ. Не исключено, что придется даже попасть в плен. И перейти на службу к немцам. Так надо. Потому и заигрываю с лейтенантом. Однако всего этого ты, старшина, не слышал.
– Крест святой. Как можно?! – простодушно поклялся старшина. Хотя Штубер и не был убежден, что тот окончательно поверил ему.
– Словом, хорошо, что ты не поспешил. Имел бы крупные неприятности из-за того, что раскрыл меня перед бойцами и сорвал задание.
– А ведь точно: имел бы. Знаете, в окопе оно проще. Вот – ты, вот – твои бойцы, а там – враг. В политику я не суюсь. Без меня разберутся.
– Тогда почему этот паренек так старается?
– В НКВД мечтает работать.
– Мечтает или уже работает?
– Пока только мечтает. Сам признался.
– Вот как?! А что, эдакая жилка в нем есть. Надо бы подсказать кому надо. Пусть возьмут на заметку, помогут. Мечта все-таки.
Такое завершение разговора, кажется, окончательно успокоило старшину. И все же Штубер понял, что он все еще находится на грани провала. Ощущение опасности еще больше усилилось, когда буквально через несколько минут позвонил капитан Грошев и сообщил, что к одиннадцати вечера, скрытно, должно подойти крупное пополнение. И что на его участок он еще дополнительно выделит взвод, поскольку приказано сдерживать здесь немцев до тех пор, пока позади, на вершине возвышенности, не будет создана новая линия обороны.
– А что, разве она уже создается? – уточнил Штубер.
– Ну, окопы роют. Наблюдаю. К ним и будем отступать, когда нас окончательно обескровят.
– Те, кто уцелеет, возможно, и отступят, – не преминул заметить Штубер, взглянув на часы. Двадцать два тридцать. Он-то рассчитывал еще более ослабить оборону участка. То ли на прощание швырнуть в окопы пару гранат, то ли хотя бы заманить с собой в плавни несколько бойцов и там убить… В зависимости от обстоятельств. Но теперь эти обстоятельства складываются так, что придется уходить вместе с пленным. Хотя к окопам он его, конечно, пошлет первым.
Выждав еще полчаса, Штубер подозвал к себе старшину и Семенюка и вместе с ними подошел к санитарному блиндажу. Розданов и Лозовский уже ждали его там. Пленный, похоже, тоже был готов. Хотя и выглядел довольно спокойным.
– Семенюк, и вы двое, – ткнул Штубер пальцем в Розданова и Лозовского, – отведите пленного в плавни и расстреляйте. Это приказ командования.
– Точно, был такой приказ, – неожиданно подтвердил старшина, чтобы никто не засомневался в правдивости слов лейтенанта.
– Есть расстрелять! – вытянулся в струнку Розданов, давая Семенюку понять, что он здесь старший.
– Ведите его плавнями в сторону немецких окопов. Чтобы не было доказательств, что мы расстреливаем пленных. Погиб во время атаки, как многие прочие.
– Опять же ясно, – вновь вытянулся Розданов.
– После расстрела немца похоронить? – спросил Лозовский.
– На кой черт? Хотя… Можно в болото. Тогда уж точно без следов.
– Есть «без следов».
– Товарищ лейтенант, – ожил доселе молчавший Семенюк, – пошлите вместо меня кого-нибудь другого. Никогда в жизни не расстреливал.
– Вот и представится случай, – негромко, но властно ответил Штубер. – Вдруг потом по службе пригодится. Так что выполнять приказ.
«А ведь этот парень почувствовал холодок гибели», – сказал себе Штубер. И, как только Семенюк отвернулся, жестом, но так, чтобы и старшина тоже не видел, показал Розданову: «Этого – ножом».
40
Выстрел этот Штубер сразу выделил из всех прочих, которые то и дело раздавались в плавнях и по ту сторону излучины. Он прозвучал как-то особенно выразительно и призывно. Розданов, очевидно, специально выбрал момент, когда стрельба вокруг поутихла. И хотя выстрел поручика снова вызвал пулеметную чахотку и по ту сторону плавней, и в немецких окопах, заглушить его для Штубера не смогла бы уже никакая канонада.
– Спрашивается тогда, на кой черт мы брали его в плен, таскались с ним? – проворчал старшина, которого Штубер пригласил к себе в блиндаж.
– Что с ними еще делать? Пришли сюда, ворвались в дом, как бандиты…
– Оно так. А все же… Как-никак жизнь человеческая ушла.
– По-христиански, старшина, по-христиански. Только сумеем ли всех оплакать? Хотя бы своих. Не говоря уже о пришельцах. И еще скажи мне… Ты значительно старше меня, опытнее, жизнь повидал. Сумеем в конце-концов устоять в этой войне? Против такой-то силы?
Старшина помолчал, закурил, потом еще какое-то время задумчиво смотрел на пламя зажигалки.
– Я тебе как окопник окопнику скажу, чтобы не под протокол.
– Так и прошу.
– Гнать он нас будет долго. Далеко гнать будет – точно говорю. Может, до самого Днепра, а может, и дальше – до Волги, Дона. А все равно выдохнется. Страна огромная. Люду много. Леса темные. И бить немца будут повсюдно, в каждом городе, каждом селе, в каждом перелеске. Нет, не захватить ему такую страну, не удержать ее – при всей его стальной машинерии.
– Но ведь, кроме Германии, против нас еще Румыния, Венгрия. А там и Япония не выдержит, попрет.
– Согласен, силища. Уж какой румын невояка, а человек при оружии – он всегда страшен. И убить его, обстрелянного, ой как непросто. Он ведь тоже горазд убивать. Но только, мозгую, все эти союзнички германцу не помощь. Дух не тот. Германец еще и духом, верой в свой рейх силен. А остальные – что свора шавок, им бы на падаль бросаться или после коршуна пировать.
– Доля истины в этом, конечно, есть, – неохотно согласился Штубер. Но это игра. В душе барон был полностью согласен с ним. Особенно в том, что касается союзников. Но более всего Штубера удивил трезвый аналитический подход старшины к оценке ситуации.
– Зря Гитлер попер сюда, зря. Чего ему не хватало? Под гусеницами его танков вся Европа. С нами вон договор подписал. Когда два медведя начинают драть друг друга из-за берлоги, хозяином становится третий. Послабее, но осмотрительнее, хитрее.
– Англия то есть?
– Да хоть бы Америка.
– А ты политик, старшина, политик. Кто ж ты по профессии?
– Да как тебе сбалагурить? Студентом был когда-то. Инженерничать мечтал. Не дали выучиться, выгнали. Чуть ли не судили как врага народа. Старый друг, армейский майор, помог в армию определиться. Уж сам не знаю, почему, но приняли меня, хоть и не должны были – неблагонадежный все же. Командовать людьми, конечно, не дали, все при технике состоял, но как-никак старшина.
– Однако предупредили, что офицерского чина тебе не получить?
Штубер сразу заметил, что употребил понятие «чин» вместо «звание». Однако старшина на это не среагировал.
– Я и не рвусь. И на том спасибо. Не будь армии – спился бы, заблатнился, как множество других. Так что я не в претензии.
– Сам-то рассчитываешь пережить эту войну, или… голова в кустах? Что чутье подсказывает?
– Подсказывает, что вроде должен еще пожить. Особого страха нет. Но и на рожон не лезу. А там, как судьба предначертит.
– Значит, говоришь, еще должен повоевать? Хорошее предчувствие.
Штубер поднялся и вышел из блиндажа. Вслед за ним вышел и старшина. Какое-то время они стояли в окопе и всматривались в ту сторону, где должны были находиться окопы немцев. Ночной ветер разносил по степи зарождавшиеся там слова германского солдатского гимна и звуки губных гармошек.
– Э, старшина, хлопцы наши уже вернулись? – как бы невзначай спросил Штубер.
– Которые расстреливали? Не знаю.
– Странно. Почему не доложили?
Они прошли ходом сообщения к окопу, поинтересовались у одного солдата, другого. Старшина позвал Семенюка (фамилии остальных, очевидно, не запомнил), но кто-то из бойцов ответил, что он до сих пор в плавнях.
– Может, они там в секрете остались? Как дозорные? – предположил старшина.
– Товарищ лейтенант, вас к телефону! – крикнул телефонист.
– Меня? Кому это я понадобился?
– Командир дивизиона.
– Ничего не предпринимать, старшина. Ждать меня здесь. Я сейчас.
«Только бы не вздумал пойти на поиски красноармейцев без меня, – слегка нервничал Штубер, принимая из рук телефониста трубку. – Кстати, почему бы нам не сходить на эти поиски вместе? Прихватив, может быть, еще кого-либо из солдат?» – успел он подумать, прежде чем услышал сбитый с тональности сиплой одышкой голос Грошева. Оберштурмфюреру уже запомнилась эта неизгонимая одышка, с которой капитан, очевидно, давно свыкся.
– Пляши, лейтенант, прибыло подкрепление. Взвод приведет младший лейтенант Совко. К сожалению, совсем еще дитя. Ни стрелять, ни козырять. Я вас спрашиваю! Так что принимай на себя общее командование сводной ротой.
– Как прикажете, товарищ капитан.
– Пусть пока окапываются во втором эшелоне. Метрах в пятидесяти за тобой.
– Не против. Пусть окапываются.
– Вслед за ним и я тебя навещу. А то меня в штаб полка вызывали.
– По поводу меня, что ли?
Вопрос был задан в темпе разговора и не должен был вызвать особого подозрения.
Грошев замялся.
– Почему тебя? По общей обстановке. Кстати, в штабе сказали, что к тебе вроде бы пленного переправили. С передовой. Немецкого офицера.
– Странно. Откуда они узнали об этом? – не смог скрыть удивления Штубер.
– Кто-то сообщил. Им тут сразу же разведотдел дивизии заинтересовался. Так что жди еще одних гостей. Придут за твоим «языком».
– А вы не могли бы попросить штаб полка, чтобы их, гостей этих, немножко задержали?
– Это ж почему? – спросил Грошев после некоторой паузы. Голос его сразу же стал жестким.
– Подстрелили мы этого лейтенанта. При попытке к бегству.
– Ты что, сдурел?! Какая еще «попытка к бегству»?! Я вас спрашиваю!
– Так получилось. Офицер ударил конвоира ногой, пытался убежать в плавни. А тот пальнул.
– Тогда иди и добывай им нового лейтенанта, понял? Сам иди и добывай. И в штаб я звонить не буду. Разведчиков отпугивать от тебя тоже не стану. Не подашь им к машине немецкого лейтенанта или другого офицера – пойдешь под суд. Я вас спрашиваю!
Положив трубку, Штубер зло рассмеялся, хотя в сущности ему было не до смеха. Попасться в руки русской контрразведки за то, что расстрелял пленного немца! Сюжет, который может привести в изумление кого угодно. Вот только становиться героем этой истории ему не хотелось.
Быстрым шагом, почти бегом, он направился по ходу сообщений в передовой окоп, но, добравшись до развилки, от которой один из ходов вел к санитарному блиндажу, чуть не столкнулся с бегущим ему навстречу солдатиком.
– Товарищ лейтенант, там такое творится, там такое… – вполголоса, но очень взволнованно заговорил тот.
– Что именно там… творится? По-человечески изложить можешь?
– Семенюк приполз. Его ножом в спину.
– Как это, «приполз»? – опешил Штубер. – Кто его… в спину?..
– Свои же. Предатели. А немца, пленного офицера, отпустили. Один стрелял в воздух, чтобы мы думали, что расстреливает пленного, а другой в это время Семенюка ножом в спину. Его ножом, а сами сбежали.
Штубер и солдат прошли одну накрытую плащпалатками и ветками «спальню» бойцов, вторую, третью. Отовсюду доносились то храп, то приглушенные голоса. Выставленные сержантами часовые тоже дремали, сидя в пулеметных точках. Только там, недалеко от плавней, действительно копошилась небольшая группка окопников.
– Значит, Семенюка ударили и бросили? Он пришел в себя и приполз? – начал уточнять Штубер, остановившись и заставив остановиться гонца. – Что еще успел сообщить этот ваш Семенюк?
– Он еле говорит. Умрет, наверное. Сказал, что здесь действует группа предателей. Немецких агентов. Что он давно понял это.
– Какая еще «группа»? Он имел в виду тех двоих, что расстреливали? Ну, говори, говори…
Солдат замялся, но потом еле слышно проговорил:
– Он сказал: «Те двое, которые появились с лейтенантом. Тоже немцем».
– Так и сказал? – переспросил Штубер, сразу же свернув в переход, ведущий к оврагу, куда они планировали относить убитых.
– Сам слышал.
– Тогда кто тебя послал за мной? Старшина? – Он не мог рассмотреть лица солдата.
– Нет, я сам. Услышал и побежал. Я чуть в стороне стоял. Они даже не заметили. Предупредить вас хотел. Знаете, еще и вправду ляпнут на вас. Семенюк это может. Мы из одного села, о нем давно слухи…
– А, так вы давно с ним знакомы?
– А какой же вы немец? Скажет тоже.
– Был учителем немецкого языка в школе. А жил в Прибалтике, потому и говорю с легким акцентом – вот и все, – как можно спокойнее объяснил Штубер. – Я пытался поговорить с пленным. Вроде получалось. Ну, Семенюк это слышал. Он что, был у вас в селе активистом?
– Не то чтобы активистом, а просто… Ходил, высматривал. Если что, сразу сообщал в милицию или куда там еще.
– Ясно. Сколько их там вместе со старшиной?
– Человек пять.
– Приготовь оружие.
– Зачем?
– Все может быть. Если что – сразу стреляй. Представлю к награде. За мужество и спасение командира. Понял?
– А… старшина? – испуганно спросил солдат. Это был довольно рослый, крепкий парень. Штубер вдруг вспомнил, что приметил его еще тогда, когда оказался у машины, везущей новобранцев на передовую.
– Поди знай, что он за человек, – неопределенно ответил лейтенант.
41
Сокращая путь к плавням, они пробежали лощиной, пересекли небольшой холм и оказались как раз над тем местом, где на развилке окопов четко очерчивалось несколько фигур и раздавались негромкие голоса.
– Что здесь происходит?! – С немецкой стороны ударил пулемет. Свинцовая очередь вспахала холм чуть левее того места, где стоял Штубер. – Кто это, Семенюк?
– Он самый, – ответил старшина.
– Он еще жив?
– Пока еще… Вот, вернулся…
– Знаю, что вернулся, – брал инициативу в свои руки лейтенант. – Перевязали?
– Нет. Потерял сознание.
– Так какого черта?! Быстро перевязать. Старшина, свяжитесь с комдивом, пусть пришлет фельдшера или медсестру… надо как-то доставить его в медсанбат. Он еще понадобится нашим особистам как свидетель. Выполняйте, старшина.
– Есть. – Старшина недоверчиво посмотрел на пистолет в руке офицера и попятился по окопу к командному пункту.
– А что те двое? – спросил ему вдогонку Штубер. – Не объявлялись?
– Предатели они. Фрицевские агенты, – ответил вместо старшины кто-то из четверых солдат. – Семенюк полз и громко стонал. Мы услышали. Сначала думали: немец.
– Хватит подробностей. Значит, те двое ушли? Сговорились и ушли? Ну, сволочи…
– Темное дело, – только и сказал старшина, поторапливаясь уйти подальше от лейтенанта.
Штубер спрыгнул в окоп, наклонился над Семенюком. Тот лежал на подложенной кем-то шинели, грудью вниз. Гимнастерка на спине была липкой от крови и грязи.
– Как фамилия? – спросил он солдата, предупредившего и пришедшего вместе с ним.
– Семенюк.
– Твоя, солдат, твоя.
– Моя? Жоденчук.
– Семенюк что, говорил, что лейтенанта не расстреляли? Отпустили?
– Да, он так и говорил.
– Отпустили, а его ножом… – мрачно добавил кто-то из красноармейцев.
– Понятно. Это уже явная измена. Вы, – обратился к бойцам, – остаетесь здесь. Жоденчук – за мной. Осмотрим место расстрела. Нужно ведь будет что-то докладывать командованию, – выбрался из окопа Штубер. – Да, вы времени не теряйте, – сказал остававшимся. – Перенесите раненого в санитарный блиндаж, в котором сидел пленный. Промойте рану и перевяжите. Пошли, Жоденчук.
Несколько мгновений солдат постоял в нерешительности, глядя на своих сослуживцев, потом неохотно перепрыгнул через окоп и так же неохотно побрел вслед за лейтенантом, уже, очевидно, проклиная себя за то, что побежал предупреждать его. Не нравилась парню вся эта ночная история с расстрелом и сразу двумя немцами-лейтенантами.
Зайдя в плавни, Штубер услышал звук автомобильного мотора. К их позиции приближалась машина, однако света фар он не видел. Зато чуть дальше, в степи, виднелись фары второй машины.
«Подкрепление? Из разведки?»
Впрочем, теперь это не имело особого значения. Главное, что он ушел.
Автоматная очередь мигом положила их обоих на землю. Причем необстрелянный новобранец оказался на ней раньше Штубера.
– Свои! Не стрелять! – крикнул оберштурмфюрер. – Дозор!
– Какого черта шляешься?! – огрызнулся кто-то там, сидящий на островке в засаде.
– Ты лучше немца смотри! – осмелел Жоденчук, робко поднимаясь с влажной травы.
Они добрели до ивы, у которой вечером Штубер допрашивал вермахтовца. Затаились. Никого. Прошли еще несколько метров. Опять их окликнул кто-то из засады. Штубер ответил, и в этот раз выстрелов не последовало. Зато в небо одна за другой взвились две красные ракеты.
Когда Жоденчук засмотрелся на третью, зеленую, Штубер, сумевший оказаться чуть сбоку и как бы позади него, бросился на новобранца, обхватил рукой горло, осадил назад, дважды ударил ножом в живот и тотчас же метнулся в сторону, подальше от этого места, от плавней. Сигнал: две красные, одна зеленая – был. Значит, на передовой его ждут.
Он бежал и бежал по степи, ожидая выстрела в грудь или в спину, и даже не пытался хоть как-то подстраховываться. Сейчас у него была только одна цель: уйти подальше от окопов русских, от гибели.
А выстрелы все же прозвучали. Стреляли свои. На пули не скупились.
– Отдышись, оберштурмфюрер! – услышал он сквозь эту стрельбу на удивление спокойный, чуть ироничный голос Розданова, когда, споткнувшись, чуть не налетел на поручика, упав между ним и кус-том, за которым затаился Лозовский.
– Вы? Какого черта? Почему здесь? – зло спросил Штубер.
– Ушли подальше от плавней. Там на каждом шагу засада. Эти провинциальные мерзавцы…
– Хотели уйти без меня, – проворчал Штубер, совершенно не осуждая Розданова. Понимал: нервы на пределе. – Кто бил ножом Семенюка?
– Я, – подал голос Лозовский.
– Он, точно, – подтвердил Розданов. – Вступал, как говорится, в орден головорезов.
– Хреново «вступал».
Пулеметная очередь подстригла куст, под которым они залегли, и несколько минут все трое лежали молча, томительно ожидая следующей очереди.
– За такую работу, дезертир, тебя следовало бы вздернуть. Семенюк приполз к своим с легкой раной в спине.
– Да не может быть! – приподнялся на колени Лозовский. – Я ж его… Я ж, как велено.
– Ты, провинциальный мерзавец!.. – захватил его за ворот гимнастерки Розданов. – Ты у меня сам на себе упражняться будешь… Как на полигонном чучеле.
– Отставить, – вмешался Штубер. – Бить следовало вам, поручик. Впрочем, потом разберемся. Пошли.
– Надо пересидеть, – предложил Розданов.
– Некогда. Ракеты уже были.
– Заметил, были. Но, видно, не всех успели предупредить. Кто-то же палит.
– И все же отсиживаться поздно. Семенюк уже наверняка пришел в себя. Так что короткими перебежками! – скомандовал оберштурмфюрер. – За мной!
42
Прежде чем вызвать к себе Штубера, начальник службы СД группы войск «Юг» штандартенфюрер[24]СС Гредер успел основательно переговорить с Роздановым и Лозовским и столь же основательно допросил вернувшегося из плена лейтенанта Розбаха. Это дало ему возможность, по существу, проследить весь путь оберштурмфюрера по тылам противника, вплоть до его выхода к боевым порядкам 2‑го полка 8‑й пехотной дивизии.
Гредер уже признавался себе, что рейд поразил его своей авантюрностью. Если бы не свидетельства троих, таких разных, людей, сговор между которыми полностью исключался, Гредер никогда бы не поверил в правдивость многих его подробностей. А между тем подробности эти способны были поразить воображение любого опытнейшего диверсанта.
Гредер не был ни завистливым, ни либеральным. Он считал себя «профессиональным солдатом» (именно так штандартенфюрер и называл себя), навсегда связавшим судьбу с отделом диверсий управления зарубежной разведки СД, самой совершенной, по его мнению, службы такого рода в мире, поэтому позволял себе оценивать людей своей профессии исключительно по их волевым и профессиональным качествам, отвергая любые личные симпатии и антипатии.
Что же касается оберштурмфюрера Вилли Штубера, то его Гредеру рекомендовали буквально за неделю до вступления в действие стратегического «плана Барбароса» как уже довольно опытного, перспективного диверсанта, способного попутно выполнять сложные разведывательные задания. Понятно, что рекомендовавший не знал об их давнем знакомстве. Впрочем, как диверсанта Гредер его действительно не знал. Поэтому с интересом прочел все, что имелось в представленном ему досье на Штубера. Он помнил, что Штубер участвовал в расследовании гибели дирижабля «Гинденбург», но не знал, что барон являлся одним из лучших диверсантов Рейха.
Гредер редко полагался на рекомендации, подобные той, которую получил Штубер. В большинстве случаев они лишь настораживали его, требуя тщательной проверки человека. Однако на сей раз оценки исходили из Главного управления имперской безопасности, и при этом беседовавший с ним оберштурмбаннфюрер[25]ссылался на ближайшее окружение Гиммлера. К тому же намекнул, что при попытке раскрутить спираль этих рекомендаций он, Гредер, неминуемо откроет для себя, что перед Гиммлером о Штубере замолвил словцо Эрнст Кальтенбруннер[26], которого Гредер знал еще по Австрии как одного из руководителей национал-социалистического путча, приведшего Австрию к аншлюсу, и с которым потом встречался в Вене – уже когда Кальтенбруннер был там верховным фюрером СС и полиции.
Впрочем, в любом случае раскручивать эту спираль не имело смысла. Всякая попытка проследить дальнейшие связи Штубера могла вызвать недовольство в одном из кабинетов Главного управления имперской безопасности. И не столь уж важно, в каком именно.
И все же Гредер сумел кое-что прояснить для себя, проследив боевой путь барона фон Штубера от эсэсовской казармы в Берлин-Лихтерфельде, где он, тогда еще гауптшарфюрер[27], проходил усиленную подготовку и где перед строем ему вручили погоны унтерштурмфюрера[28], – через Бельгию, Францию, Югославию, Польшу… Штубер как-то обмолвился, что знаком с Отто Скорцени. А для Гредера не было секретом, что этот молодой австрийский инженер, один из героев «Венского путча», является хорошим другом Кальтенбруннера. И не так уж трудно было проследить, что весь свой путь по Западной Европе в составе дивизии «Рейх» он прошел в той же части особого назначения, где служил и ныне служит оберштурмфюрер СС Отто Скорцени, которого командир дивизии бригадефюрер Пауль Хауссер считал одним из храбрейших своих бойцов.
– Господин штандартенфюрер, оберштурмфюрер Штубер по вашему личному приказанию явился.
– Вольно, оберштурмфюрер. Садитесь, – довольно сухо обронил Гредер, но, выждав, пока Штубер сядет, еще какое-то время стоял за своим креслом, вцепившись руками в его спинку.
Коридорами этого двухэтажного особняка, занятого подразделениями армейской контрразведки, СД и гестапо, витал дух временности и необжитости, все его обитатели понимали, что очень скоро, буквально через несколько дней, им придется обустраиваться уже по ту сторону Днестра. И только здесь, в кабинете начальника службы безопасности, все было обставлено так, словно хозяин его полностью перевез свой кабинет из Баварии или Саксонии: ковры на стенах, оленьи рога, небольшой декоративный щит со старинным германским гербом. На массивном столе из темного дерева – хрустальный письменный прибор со свастиками на кончиках двух массивных ручек. Эти-то свастики не оставляли сомнения в том, что ручки были привезены хозяином из Германии.
«Обстоятельно… – оценил Штубер. – Слишком обстоятельно».
Он всегда с настороженностью относился к армейским офицерам, которые старались обставлять свой походный быт с такой тщательностью.
– Итак, барон… Что вы еще можете добавить к тому, что мне уже известно?
– Предполагаю, что добавить уже нечего, – с холодной вежливостью ответил Штубер. – Трое таких рассказчиков… Особенно в лице нашего незабвенного поручика Розданова…
– Почему вы не остались в стане русских? Они получили бы неплохого командира взвода, отлично подготовленного офицера. Своих-то они постреляли.
– Не скрою, возникала и такая идея. Однако обстоятельства складывались не совсем так, как хотелось бы. Вы уже знаете, что снятый ножом русский – выжил. Как оказалось, перед ранением он успел поделиться своими подозрениями. И выяснилось, что он давний внештатный агент НКВД. Я ушел из окопов буквально за десять минут до появления там русской контрразведки. Командир дивизиона намекнул.
– Это проясняет ситуацию.
– Кроме того, надолго внедряться в ряды русских – не в моем амплуа.
– Знаю, ваша стихия – диверсии. Люди, рекомендовавшие вас, подчеркивали это. А теперь – ваши общие впечатления. И, естественно, выводы.
– Небольшие, хорошо обученные диверсионные группы – вот что страшно сейчас для русских, при их поражающей воображение несобранности и недисциплинированности. Мы выбросили слишком большой десант. И слишком близко от передовой. К тому же в центре укрепрайона. Такой десант имел бы смысл лишь в том случае, если бы наши войска вели бои уже на подходах к укрепрайону.
– Думаю, командование прислушается к вашим выводам и замечаниям, – деликатно заметил штандартенфюрер. – А теперь рекомендации относительно этого… – заглянул он в лежавшую у него на столе папочку, – поручика Розданова.
– Как агент – сыроват. Подвержен излишним эмоциям.
– Вечное копание в своей русской душе, – криво ухмыльнулся Гредер, демонстрируя свое знание психологии русских. У них это называется «дос-тоевщиной».
– Но сдаваться красным не побежит.
– Могу констатировать, что вместе с этим офицером-белоэмигрантом вы совершили почти легендарный рейд по тылам противника, проводя разведку и уничтожая его живую силу. К тому же умудрились вырвать из плена немецкого лейтенанта и привести с собой дезертира. Надеюсь, письменный рапорт обо всем, что с вами произошло?..
– Вот он, – извлек Штубер из кармана кителя сложенный вчетверо лист бумаги.
– Так скромно? – удивился штандартенфюрер, даже не взглянув на то, что там написано. – Тем не менее представляю вас к Железному кресту второй степени.
– Благодарю, господин штандартенфюрер, – встал Штубер. – Хайль Гитлер!
– Садитесь, – слегка поморщился Гредер, не признававший эмоций своих подчиненных. – Помнится, вы были среди тех, кто действовал на коммуникациях поляков в момент вступления наших войск в Польшу. Там тоже работали небольшие группы диверсантов. Этот же опыт, правда, с меньшим эффектом, мы использовали в первые дни войны в Западной Украине, Белоруссии и Прибалтике.
– Что касается русских, то его нужно применять в течение всей войны с ними. Здесь – леса, много сочувствующих нам или, по крайней мере, ненавидящих большевиков, обиженных ими во время коллективизации и разгула НКВД.
– То есть вы считаете, что наиболее рационально будет использовать вас в роли командира одной из таких групп? Я верно понял, оберштурмфюрер?
– В том числе и на оккупированной нами территории, на которой неминуемо будут возникать отряды сопротивления. Опыт Югославии убедил нас в этом.
– Речь идет о жандармских функциях в тылу наших войск?
– «Жандармскими» не обойтись. Придется вести настоящие бои. Даже с применением танков и авиации.
Штандартенфюрер зачем-то развернул его рапорт, словно в нем было нечто такое, что подтверждало бы «опыт Югославии», скользнул по нему взглядом и на сей раз вложил в черную папку с тисненным на ней серебристым орлом.
– Полагаете, нам нужно готовиться к очень серьезному сопротивлению в своих тылах?
– Начиная с сопротивления, которое окажут некоторые доты Подольского укрепрайона.
– Кстати, об укрепрайоне. Только что звонил начальник разведотдела армии. Он хотел бы получить все имеющиеся у вас сведения относительно этого района. Через полчаса он будет здесь.
– К его услугам.
– А пока что чуть поподробнее об этом вашем белогвардейце…
– Лейтенант вермахта, он же бывший поручик-белогвардеец Розданов.
– Боевой опыт есть, это я уже понял. Какими еще достоинствами он обладает? Сильная, волевая личность?
– Не сказал бы, что он производит впечатление сильной личности. Ни особой храбрости, ни выдержки, ни стремления вести борьбу с большевиками любыми средствами я не обнаружил.
– Вы меня разочаровываете.
– Ничего не поделаешь. Терпеть не могу эти специфически русские «страдания по-Достоевскому». Мирная жизнь в европейской эмиграции не пошла ему на пользу. По-моему, он больше общался с философствующей эмигрантской интеллигенцией, нежели с настоящим боевым офицерством. Хотя и окончил какие-то курсы. В общем, вы абсолютно правы: сплошные «страдания по-Достоевскому».
– И где, на ваш взгляд, его целесообразно будет использовать?
– Во всяком случае, не в разведке и не в диверсионных отрядах. Деревенский староста. Бургомистр небольшого городка. Начальник местной полиции. Следователь полиции, наконец.
Пергаментное лицо Гредера покрылось налетом серой тоски. Характеристика действительно разочаровала его. И Штубера это не удивило. Понятно, что СД нуждалось в приливе свежей крови аборигенов. Кто-то же должен был профессионально защищать интересы рейха в этой Славянии.
– Ну, хорошо, с Роздановым разобрались. А этот ваш дезертир? Его амплуа?
– Провокатор в лагере для военнопленных. Полицай. Агент для засылки в партизанские отряды под видом окруженца. Рассчитывать на него как на серьезного разведчика нет смысла. Не тот материал.
– Вот оно: не тот материал!.. – поднялся штандартенфюрер, хлопая мертвецки желтой и в то же время на удивление жилистой рукой по папке. Все его жесты выдавали в Гредере человека сдержанного и по натуре своей желчного. Однако все, что Штубер знал о штандартенфюрере, свидетельствовало о другом: он был, или, по крайней мере, пытался оставаться, в пределах элементарной человеческой порядочности. Насколько это, конечно, возможно, будучи высоким чином имперской службы безопасности. – Как часто приходится констатировать сей печальный факт, знакомясь уже не только с кандидатами в курсанты разведывательно-диверсионных школ, но и с их выпускниками. Очевидно, в сферах, которые занимаются кадрами разведшкол, не хватает психологов, настоящих военных психологов. Как считаете, оберштурмфюрер?
– Высказав это предположение, вы наверняка вспомнили, что время от времени я выступаю со статьями по проблемам психологической обработки противника и воспитательной работы в армии.
– Естественно. Как я могу забыть о столь редком в среде офицеров-диверсантов увлечении?
– Вам это импонирует?
– Единственное, чего бы мне не хотелось… чтобы вы превращались в «чистого» психолога-профессионала, какие бы выгоды от этого вам ни сулили. – Штубер еще только решал для себя, стоит ли ему воспринимать это как шутку. И если да, то как тогда понимать пассаж Гредера относительно того, что в «сферах» не хватает психологов?
– Почему вас это смущает?
– Вы – отлично подготовленный диверсант. И давайте исходить именно из этого. Свое мнение я доведу до сведения чинов из Главного управления имперской безопасности.
– Мы оба, я и мой отец, генерал фон Штубер, будем весьма признательны вам, господин штандартенфюрер, – поднялся Штубер.
43
Громов заново привыкал к оглушающей тишине дота, к сырости его переходов, к вечерней сумеречности отсеков и капониров, к отрешенной отор-ванности этого бетонного подземелья от внешнего мира.
Только бы не погибнуть сейчас, в самом начале войны, лихорадочно размышлял комендант, осмат-ривая в амбразуру берег реки, освещенный лиловой, с пятнами запекшейся крови, луной, которая напоминала сегодня покореженную осколками каску. Ведь не может же быть, чтобы его, офицера, столько готовили ради одного-единственного боя, ради защиты одного-единственного дота. Так не должно быть. Это слишком несправедливо.
Впрочем, из всего, что он успел узнать о войнах, вытекало, что иногда тот самый, один-единственный, бой стоит жизни не только никому не известному лейтенанту, но и прославленному в прошлых войнах генералу. А для принимающего свой первый бой офицера главное: не струсить, не сломаться, не разувериться в своем воинском призвании…
Пока что никто, ни один провидец не мог предсказать, как будет складываться оборона левобережья Днестра в этом укрепленном районе и как будет осуществляться отвод войск в случае неудачи. Однако Громов прекрасно понимал, что в любом случае гарнизонам дотов прикажут прикрывать отход. И вряд ли кто-нибудь возьмется четко определить, сколько они обязаны продержаться после отвода всех частей. Но даже если командование определит… Продержаться положенное время – только часть задачи, так сказать, долг перед командованием. Вопрос: что делать дальше? Как вырываться из дота, из окружения? И вообще, возможно ли это?
Луна действительно напоминала искореженную каску, оставшуюся на вершине распаханного холма ночной тучи. «Только не распаханного, – отверг он это первое впечатление. – Не распаханного, а могильного. И судьба наша уже нагадана по этой каске».
Сдачи в плен Устав не допускает. Значит, на спасение своих бойцов ценой плена он как офицер права не имеет. Остается неотъемлемая привилегия солдата: «последняя пуля, последняя граната – для себя». Вот только пойдет ли на это каждый из загнанных сюда сельских мужиков? Они ведь не фанатики-самоубийцы, понимают, что плен дает шанс на спасение. И даже возможность продолжить борьбу – попытаться убежать, вернуться к своим, присоединиться к местным партизанам… И дело тут не в логике войны, а в самой жизни.
Но если кто-либо из бойцов действительно изберет этот путь, как в таком случае должен поступать он, Громов? Угрожать? Убеждать солдат, что у них нет выбора? Храбро и благородно сражались – значит нужно храбро и благородно умереть. Но удастся ли убедить?..
Да, условия боевых действий в укрепрайоне, в дотах – особые. Здесь своя тактика, своя психология боя. И все это еще нужно выстроить.
…Вырваться бы потом из этого дота, добраться до своих, дожить до того дня, когда враг будет остановлен, фронт выровняется, начнутся позиционные бои. К тому времени он, возможно, примет роту. Появится опыт. Тогда и можно будет выяснить, на что он как командир способен на самом деле.
Хотя… почему это должно выясняться только тогда, когда начнется позиционная война и враг будет остановлен? Почему не сейчас, когда твоя армия в крайне тяжелом положении? Когда фронт, по существу, рухнул, а судьба войны зависит от того, как сражается, как держится в своем окопчике каждый солдат?
«Нет, Громов, все это должно стать очевидным уже сейчас. И учиться на ошибках наших тактиков и стратегов следует теперь, в ходе нынешней войны».
Впрочем, разве он этого еще не решил? Конечно, у него не раз возникало желание оставить училище и вернуться в институт, на свой факультет иностранных языков. Но теперь все колебания позади. То ли он избрал для себя этот дот, то ли дот избрал его… Всё это уже неважно.
Независимо от того, кто и как относится к понятиям «карьера», «делать карьеру», Громова они не пугали. О военной карьере он заботился с первого курса училища. Тактика ведения боевых действий, состав и вооружение современных европейских армий… Войсковые учения, командирский голос, офицерская честь, святость Устава; святыни армейских традиций и реликвий, воинская дисциплина…
Ко всему этому курсанты – вчерашние заводские и сельские парни, школьники относились по-разному. Но, к своему удивлению, он сразу заметил, что многие и честь отдавали как-то неохотно только потому, что боялись взыскания, и в строй становились, тоскуя по возможности пройтись вразвалочку; и командирами себя мыслили – эдакими «батями» чтобы ребята из взвода сразу признали в них «своих в доску» и полюбили, как отцов родных. Поэтому одни из них считали, что Андрей Громов выслуживается, солдафонится; другие, наоборот, что он не может забыть своего «офицерского происхождения», все еще мнит себя «белой костью», эдаким кавалергардом, лейбгвардейцем голубых кровей.
Шептались по этому поводу многие. Но в открытую первым высказался сосед по койке и по строю Мишка Горлов – бесталанный в курсантской науке заводской парень, с замашками вождя революционеров-анархистов. Это он после очередной мелкой стычки в присутствии других курсантов бросил ему в лицо:
– Думаешь, мы не уловили классовую сущность твоего поведения? Еще как уловили! Офицерам-белогвардейцам подражаешь! Золотопогонничкам! А как же: гордая поза, выправка, аристократические замашки, эти разговоры о «слове офицера», об «офицерской чести»… А мы не офицерами будем. Не офицерьем, понял?! А командирами Рабоче-крестьянской Красной армии.
Для Громова это был очень важный разговор. Он вдруг открыл для себя, что многие из его однокурсников стремятся стать командирами, не становясь при этом… офицерами. Пребывая в состоянии какого-то революционно-идеологического беспамятства, они пытались отторгнуть от познаваемой ими науки и воспитания весь многовековой опыт и традиции русского и мирового офицерского корпуса, все те самые благородные и возвышенные принципы и традиции, выработанные офицерством мира на основе рыцарского кодекса.
– Во всех цивилизованных армиях мира человек, получивший звание лейтенанта, считается офицером, – спокойно парировал Громов, ничуть не смутившись этим довольно опасным «наблюдением». – И потом: почему обязательно «белогвардейским»? Были ведь и просто офицеры русской армии и флота: суворовские, кутузовские, нахимовские… Офицеры Русско-японской, Первой мировой, офицеры, которые затем стали военспецами и командирами Красной армии… Тебе что, все это неизвестно?
– Вот в этом и вся твоя сущность! – взъярился Горлов. – Офицерье оправдываешь, брезгуя при этом классовым чутьем.
«Ты смотри! – изумился Громов. – Когда ж он этих слов нахватался?!»
Убедить Горлова ему так и не удалось. Мишка принадлежал к людям, считавшим постыдным самим мыслить, иметь собственное мнение, подвергать сомнению устоявшиеся взгляды. Им вполне хватало двух десятков лозунгов, которые они лепили к месту и не к месту, считая это «апофеозом революционности», и никому не удавалось убедить их, что это всего лишь бездумная демагогия.
Впрочем, желающих полемизировать с ним тоже находилось немного, ибо люди сорта Мишки Горлова дискутировали «от ярлыка до ярлыка», за каждым из которых следовала информация «куда надо». Хотелось бы ему знать, где сейчас Горлов, как складывается его армейская судьба.
В небе прямо над дотом прострекотали «ПО-2». «Звено, – определил Громов. И тут же удивился: – Ночной вылет? Однако пошли не тройками, а друг за дружкой. Значит, транспортные? Очевидно, будут эвакуировать раненых или вырывать из окружения какой-то штаб».
К сожалению, во всем, что касалось авиации, особенно немецкой, он пока что разбирался слабовато. То ли знания по авиации противника им давали никчемные, то ли сам что-то упустил. Но вот к чему их действительно плохо готовили – так это к боевым действиям в одиночку: в лесу, в степи, в горах, в полном окружении, в расположении противника… А ведь какая масса красноармейцев может оказаться в эти первые месяцы войны в окружении врага. И если бы вместо того, чтобы сразу же пытаться прорваться через линию фронта и, по существу, зря потерять людей, эти группы начинали организованно действовать в тылу врага, на его коммуникациях, наступление противника было бы сорвано. Или крайне ослаблено. Но ведь не готовили же офицеров к войне в тылу врага на собственной территории, не обучали партизанским методам войны, психологически не подводили к самой мысли о том, что огромные территории Союза могут оказаться оккупированными врагом, с поглощением больших воинских контингентов.
В прошлом году, во время отпуска, он побывал в части отца, командира полка, и тот показал ему, как специально присланный из Москвы инструктор готовит полковых разведчиков. С той поры Андрей мечтал попасть в разведку если не в армейскую или дивизионную, то хотя бы в полковую. Совершенно по-иному начал воспринимать он после этого и подготовку в своем училище. То, что до сих пор казалось ему незаменимой основой воинской подготовки: муштра, бесконечные строевые смотры, возведенная в ранг ритуала уборка казармы… – вдруг предстало перед ним бессмысленной тратой времени.
44
Громов вышел из пулеметной точки, прошел по тускло освещенному ходу сообщения и открыл дверь дота. От реки повеяло запахами ночного поля, вишневой смолы и сыроватой, пропахшей илом плавневой свежестью.
Откуда-то издали, с противоположного берега Днестра, может быть из предгорья Карпат, доносились то ли раскаты грома, то ли взрывы, к которым уже никто не прислушивался; зато когда рядом, в окопе, сонно закричал солдат, на него сразу посыпалась разноголосая изощренная брань.
«А ведь, возможно, это последняя такая относительно тихая ночь… Завтра на правом берегу уже будут немцы, и берег этот станет вражеским».
Будто подтверждая его мысль, на противоположном берегу чахоточно закашлял крупнокалиберный пулемет. И тотчас же в небе появились дымные шлейфы трех осветительных ракет.
Пулемет затих, однако вместо его чахоточной трели где-то за недалеким горизонтом начал зарождаться гул моторов. Очевидно, переправлялась на этот берег еще одна пробивавшаяся с боями часть из тех, последних, заградительных. Очень странно, что сегодня укрепрайон не обстреливает дальнобойная артиллерия. Но это ненадолго. Пушкари сменят позиции, окопаются поближе к берегу и утром начнут пристреливаться.
…Дед Андрея, подполковник русской армии Климентий Громов, в конце-концов все же воспринял революцию, хотя революционно настроенным человеком никогда себя не считал. Да и не был им. Может быть, потому и принял, что слишком уж надоела война, что видел, как сильно обмельчало и неудержимо вырождалось в сути своей русское офицерство – оттого так много было на фронте бездарно разработанных операций, глупейших, противоречащих друг другу приказов, бессмысленных атак и самоубийственных наступлений, в которых гибли тысячи храбрейших солдат; оттого пришлось ему быть свидетелем и дичайшей несправедливости в отношении солдат, и примитивнейшего хамства в среде офицеров. На его глазах кадровое русское офицерство уходило в небытие, а белогвардейские «скороспелки», в большинстве своем из недоученных гимназистов и лавочников, уже не способны были возрождать идеалы предыдущих золотопогонных поколений.
В Гражданскую судьба подполковника Громова сложилась более-менее удачно. Повезло ему с самого начала, когда оказалось, что председателем губревкома стал его однополчанин Дмитрий Романенко, которого Громов когда-то, в Первую мировую, спас от военно-полевого суда, а потом, послав в разведку и распустив слух о его храбрости, даже добился того, чтобы ему присвоили чин унтер-офицера.
К чести Романенко, своего бывшего батальонного, пришедшего в цивильном костюме проситься на любую достойную службу, он признал сразу же. В городе как раз формировался полк Красной гвардии. Дать ему хотя бы взвод в этом полку губревком не решился – слишком уж воинственно настроены были многие рабочие в отношении «всякого там офицерья». Но все же Романенко сумел уговорить командира полка, чтобы тот взял Громова к себе в штаб военспецом в роли консультанта.
Да, тогда ему здорово повезло. Со временем Громов вырос в военспеца дивизии, армии и, возможно, стал бы ее командующим, если бы где-то в штабе фронта не появился один из тех «радетелей революции», которые, как они сами тогда говорили, «презрительно и революционно ненавидели всех военспецов из “бывших”…»
По воле этого радетеля, Громова дважды объявляли «врагом революции и окопавшейся контрой». Однако в первом случае его спасло заступничество командира дивизии и все того же Романенко, которого друзья Громова отыскали уже в Москве, куда он был направлен на советскую работу. А во втором – то, что в боях за революцию он получил два ранения. Тяжелое – когда поднял в атаку оставшийся без командира и запаниковавший перед «психической» атакой белых батальон, и легкое – когда вместе со штабистами, комендантским взводом и группкой случайно прибившихся откуда-то красноармейцев почти сутки выстоял в окружении в каком-то лесном урочище. Там он настолько талантливо организовал оборону и так хладнокровно держался, что потом отстаивать его ринулись все оставшиеся в живых штабисты – они были просто поражены мужеством военспеца. «Проливая кровь за революцию» – тогда эти слова еще срабатывали. Да и сын его, Ростислав, в то время уже командовал взводом Красной армии и был партийцем.
– Ты, лейтенант?
– Я, – вздрогнул Громов. Задумавшись, он и не заметил, откуда на тропинке, извивающейся по склону долины, взялся старшина Дзюбач, который днем отпросился, чтобы попрощаться с родными. – Что так рано, старшина?
– А чего ж там? Отправил своих, попрощался.
– Поездом отправил?
– Какое там поездом? Разбомбили всю железную дорогу. Машин тоже нет. Не хватило. По котомке взяли и пошли, – осипшим голосом объяснил Дзюбач, нервно обшаривая карманы, чтобы закурить.
– Почему прямо ночью?
– Видел бы ты, что там, в городе, делается. Отходят наши. Все отходят. Получен приказ тот берег оставить. Помянешь мое слово, лейтенант: завтра мы тоже окажемся в окружении. Довоевались, гроб ему с вензелями.
– Ну, допустим еще не «довоевались». Это только разминка.
– Считаешь, что здесь, на этом берегу, остановим?
– На этом берегу – еще нет.
– Но ведь все-таки водный рубеж.
– Не подготовили мы его к настоящей обороне, этот наш водный рубеж. И потом, основные силы противника прорвались южнее и севернее нас. С нами воюют фланговые да тыловые части, командиры которых ждут, когда мы окажемся в огромном котле. Без связи со своими, без снарядов и патронов.
– Во как ты широко охватил! – уважительно заметил Дзюбач. – По-настоящему, по-суворовски.
– Задержать – да, задержим. На сутки-двое. Но остановить, судя по всему, что здесь происходит, уже не сможем.
– Значит, прикидываешь своим командирским умом, это еще не та река? – переспросил старшина, тяжело вздохнув и скручивая такую самокрутку, из которой в пору стрелять, как из самопала. – Где же тогда остановим? На Буге? Под Киевом, на Днепре? На Волге, на Урале?
– Сидя в этом доте, ответа не найдешь, – спокойно сказал Громов. – И потом, наше дело солдатское. Пока есть приказ, будем сражаться. А рассуждать обо всем, что видим сейчас, приличнее будет после войны. Так надежнее.
– Да оно и до… не мешало бы. А то, как я погляжу, не очень-то мы и подготовились к тому, что сейчас происходит. Уже не только от немцев, но и от румын отступаем. Вон, беженцев из Молдавии встретил. Так говорят, что Кишинев уже вроде бы королевский.
– Так уж и королевский!
– Окопники говорят. Эти врать не станут.
– Разве что окопники.
– Там все без пропаганды. Что видят, о том и говорят.
– Идите отдыхать, старшина.
– Какое там отдыхать?
В ту же минуту послышался вой снаряда. Старшина присел. Громов даже не пригнулся. Не от бесстрашия – от внутреннего протеста против всей той правды, которую выдал ему только что старшина. Снаряд упал чуть выше, на равнине, но воздушная волна настигла их, и Громову показалось, что здесь, у него под ногами, земля чуть-чуть содрогнулась.
– Побудку, как видится, обещают раннюю.
– Это больше похоже на отбой, – заметил старшина, отряхиваясь. – Вечный, аллилуйный.
45
Дзюбач вошел в дот, а Громов продолжал стоять и задумчиво глядеть на реку. Обстрел все еще продолжался.
Всего Громов насчитал десять выстрелов. И снова тишина. Кажется, он начинал понимать тактику вражеских дальнобойщиков. Они поочередно выпускают по несколько снарядов то по одному, то по другому участку, зная, что, куда бы ни стреляли, все равно держат в напряжении и морально изматывают всю эту часть укрепрайона.
«Немного терпения, лейтенант, – сказал он себе, снова поглядывая на окровавленную каску луны, теперь уже полузахороненную в кроваво-черной туче, – и тебе представится полная возможность проверить себя на прочность. Плохо, конечно, что начинать приходится с этого чертового дота, где ни маневра не используешь, ни хитрости не применишь. А первый же бой – уже почти в окружении, уже в мышеловке. Но ведь так приказано».
С этим величественно успокоительным, по-настоящему понятным только офицеру «так приказано», Андрей и вернулся к себе, на командный пункт дота.
– Как тут, все тихо? – спросил он Кожухаря.
– Тихо-то оно тихо, да только штаб никогда не дремлет.
– Дремлет, Кожухарь, дремлет.
В ту же минуту, как бы оспаривая его слова, зазуммерил телефон.
– Кожухар на дрот[29]. Так точно. Здесь он, готовит дот к бою. Вас просят, – протянул ему трубку связист.
– Сто двадцатый? – спросил кто-то звонким, почти мальчишечьим голоском.
– Так точно.
– «Беркут»?
– Так точно. Кто на проводе?
– Это тебя сто девятнадцатый беспокоит. Комендант. Считай, познакомились.
«Нет, чтобы предупредить, что не из штаба, – скосил взгляд на своего телефониста Громов. – “Кожухар на дрот”!..»
– Считай, – молвил вслух.
– Слушай, пришли кого-нибудь из своих, пусть заберут твою красавицу.
– Не понял, комендант.
– Санинструктор твоя… у меня ночует. В доте. Теперь понял?
– Как она у тебя оказалась? – жестко и подозрительно поинтересовался Громов.
– С подружкой, моим санинструктором, прибилась на ночь глядя, я ее дальше не пустил. Опасно. Еще украдут по дороге.
– Спасибо за заботу. Утром кого-нибудь из бойцов пришлю. Кстати, как ее зовут?
– Мария Кристич. Почти как Мария Стюарт. И должен сказать, что она и сама по себе королева.
– Лучше бы ей быть королевой от медицины.
– Брось, не ханжи. При чем тут медицина? Она сама по себе и из себя… Предлагаю обмен. Даю своего санинструктора плюс двадцать доз наркомовских?
– Как тебя зовут, комендант? Представься.
– Младший лейтенант Томенко.
– Лейтенант Громов. Так вот, «меняло», мою королеву накормить и проследить, чтобы никто словом не обидел. Иначе мои ребята разнесут твою бетонную гробницу вдребезги.
– Вот теперь ты мыслишь правильно, лейтенант. На твоем месте я бы тоже не согласился. Как-никак Мария Стюарт… Повезло тебе. Завидую. Как там у тебя?
– По-фронтовому. Что-то в твоих краях шумновато.
– Мост рядом. Тут всегда шумно. На правобережье фашист прет вовсю. У меня возле дота настоящий лазарет, а заодно и перевалочный пункт. Это вы там, тыловики…
– Не завидуй, младшóй, не завидуй, – решил перейти на тон, который предложил сам комендант 119‑го. – Скоро здесь везде будет пекло. Знаешь, утром я к тебе, наверное, сам наведаюсь.
– Занервничал?! – ехидно спросил Томенко. – Решил Марию лично принять, как бы гонец твой по дороге не «распропагандировал».
– К местности хочу присмотреться, – суховато осадил его Громов. – Не исключено, что придется поддерживать огнем.
Примечания
1
Формально исполняющим обязанности начальника Шес-того управления Шелленберг был назначен уже на следующий день – 22 июня 1941 года.
(обратно)2
Оберштурмфюрер СС – чин, приравненный к армейскому (вермахтовскому) обер-лейтенанту.
(обратно)3
Реальный исторический факт: на прикрытие дотов советское командование на этом участке укрепрайона бросило кавалерийские полуэскадроны.
(обратно)4
Речь идет о «Договоре о ненападении», подписанном 23 августа 1939 года в Москве председателем Совнаркома и народным комиссаром иностранных дел СССР Молотовым, с одной стороны, и министром иностранных дел Германии фон Риббентропом – с другой, и больше известном как «пакт Молотова – Риббентропа». Еще и в 80-е годы коммунистическая пропаганда всячески скрывала от населения СССР, что к этому договору имелся «Секретный дополнительный протокол», доказывающий существование сговора между коммунистами и фашистами по поводу передела Европы.
(обратно)5
В историю Второй мировой Гиммлер вошел прежде всего как рейхсфюрер (то есть маршал, главнокомандующий) войск СС. Значительно меньше широкой читательской публике известно, что с июля 1936 года и до конца войны он был еще и начальником всей германской полиции. А до этого назначения в течение нескольких лет служил начальником полиции Баварии.
(обратно)6
Гитлер и в самом деле обсуждал этот вопрос с Гиммлером накануне своего выступления с «Воззванием к германскому народу».
(обратно)7
Бург – укрепленный замок. То есть замок, обнесенный крепостной стеной. Вокруг подобных бургов часто вырастали поселения, в которых селились рыцари, воины из охраны бурга, крестьяне и мастеровой люд. По традиции, эти поселения, впоследствии превращавшиеся в города, носили в своем названии слово «бург»: Страсбург, Люксембург, Питсбург… – Примеч. автора.
(обратно)8
1 Эсэсманн – рядовой войск СС.
(обратно)9
Немецкое название «Рейхзихерхайтсхауптамт». Создано в сентябре 1939 года. – Примеч. автора.
(обратно)10
Известно, что на этом история со скрывавшимся в Германии Хорией Симой не завершилась. В конце 1942 года Симе тайком от гестапо и СД удалось бежать в Италию. Причем побег этот был осуществлен так, что какое-то время гестапо даже не знало об его исчезновении, а узнав об этом, не могло установить, где именно он скрывается и каким каналом воспользовался. Пребывая в полном неведении, шеф гестапо Мюллер в течение двух недель, в буквальном смысле рискуя головой, скрывал от фюрера и других руководителей рейха сам факт исчезновения главного румынского заговорщика.
(обратно)11
Вооружение, боезапас, численность гарнизона и само устройство дота даны, исходя из реальных данных по дотам, которые действительно имелись в пределах этого укрепрайона.
(обратно)12
Имеется в виду речь Сталина на XVIII съезде ВКП(б) в марте 1939 года.
(обратно)13
Исторический факт. Из мемуаров Шелленберга следует, что Гейдрих и Гиммлер звонили ему всю ночь. Особенно нервничал Гиммлер, который всю эту ночь оставался посредником между Шелленбергом и самим фюрером. Тоже не спавшим и тоже нервничавшим.
(обратно)14
Под грифом «Управление VI S» поступали сообщения и документы, проходящие как «секретные дела имперского значения».
(обратно)15
Исторический факт. Из мемуаров Шелленберга следует, что Гейдрих и Гиммлер звонили ему всю ночь. Особенно нервничал Гиммлер, который всю эту ночь оставался посредником между Шелленбергом и самим фюрером. Тоже не спавшим и тоже нервничавшим.
(обратно)16
Штурмбаннфюрер СС – майор войск СС.
(обратно)17
Для германца это звучит, как «гестаповский кузнец». – Примеч. автора.
(обратно)18
Янке – реальная историческая личность. В США прибыл как эмигрант еще перед Первой мировой. Служил в пограничной полиции иммиграционной службы США. Уйдя в отставку, занялся уникальным бизнесом – изготовлением цинковых контейнеров, в которых китайские эмигранты переправляли в Китай гробы с умершими родственниками. Стал очень богатым человеком и завоевал большой авторитет в эмигрантской, особенно китайской, среде. В течение многих лет был одним из руководителей германской секретной службы в США. Перед Второй мировой был экспертом по разведке и шпионажу в ведомстве Рудольфа Гесса, одним из его помощников и консультантов.
(обратно)19
Гитлер и Геринг рассматривали дирижабль «Гинденбург» в качестве флагмана германского воздушного флота. Но после его гибели свернули строительство еще двух подобных дирижаблей. Их примеру последовала и Англия.
(обратно)20
Окончательно расследование причин гибели «Гинденбурга» было прекращено по личному указанию фюрера лишь в 1943 году, когда германскому командованию, да и самому Гитлеру, уже было не до тайны гибели какого-то там дирижабля, на грани гибели находился сам Третий рейх.
(обратно)21
В книгах многих авторов, пишущих о начальном периоде войны, упоминается «книжка красноармейца», или «военный билет». На самом деле в 41-м у абсолютного большинства красноармейцев рядового и сержантского состава никаких документов не было. Это обстоятельство использовали германские разведорганы при засылке своей агентуры.
(обратно)22
Такое поведение следователя засвидетельствовано в мемуарах Шелленберга. – Примеч. автора.
(обратно)23
Родственникам приговоренных к смертной казни политзаключенных коммунисты сообщали, что они «приговорены к десяти годам без права переписки».
(обратно)24
Штандартенфюрер СС – полковник войск СС.
(обратно)25
Подполковник войск СС.
(обратно)26
Был начальником полиции безопасности (гестапо) и службы безопасности (СД). В 1945 году казнен по приговору Нюрнбергского Международного военного трибунала.
(обратно)27
Оберфельдфебель войск СС.
(обратно)28
Лейтенант войск СС.
(обратно)29
На дроті – на проводе (укр.).
(обратно)




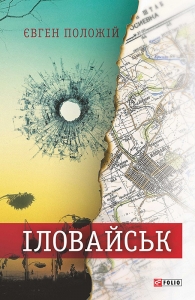
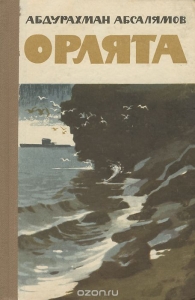
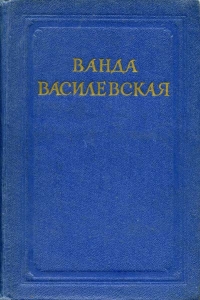
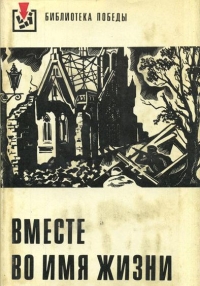

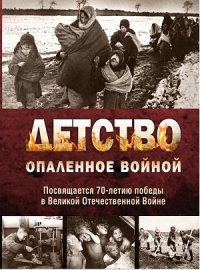

Комментарии к книге «Река убиенных», Богдан Иванович Сушинский
Всего 0 комментариев