Богдан Сушинский Заговор обреченных
…Германский народ выдержал войны с римлянами… Наполеоновские… освободительные войны; он выдержал мировую войну, даже революцию… И меня он тоже выдержит.
Гитлер© Сушинский Б.И., 2015
© ООО «Издательство «Вече», 2015
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2015
Сайт издательства
* * *
1
Пастор открыл дверь часовни и молча уставился на Штауффенберга. Он знал, что война, тяжелые травмы и предсмертный бред госпиталей превратили этого гордого аристократа в одного из наиболее искренне верующих людей его прихода, города, возможно, всей разуверившейся, сменившей Христа на фюрера, страны.
– Вы хотели, чтобы я ушел? – неуверенно проговорил он, пропуская полковника мимо себя.
– Как всегда, наедине… с ним, – зрячий глаз Штауффенберг прикрыл, устремляя в небеса черноту своей наглазной повязки.
– Мне представляется, что сегодня вам особенно трудно будет оставаться откровенным с ним.
– Вы правы, святой отец. Иногда мне кажется, что я уже давно не смею быть откровенным ни с людьми, ни с Богом. Хотя весь мой грех состоит в страстном желании избавить эту землю от Сатаны.
Пастор – седовласый шестидесятилетний саксонец, с фронтовой вмятиной на лбу, оставленной осколком еще первой мировой, отшатнулся от него и поднес кончики соединенных пальцев к ране, однако осенить ее крестом так и не решился.
– Избавить от Сатаны? – пробормотал он вслед входящему в полумрак часовни полковнику. – Неужели и сейчас находятся люди, видящие свое земное предназначение в изгнании Сатаны? Я-то считал, что это донкихотство утонуло в молитвах моего поколения.
Пастор перекрестил последнего донкихота, которого ему приходится видеть, последнего защитника всего сущего от сатаны, и, прежде чем вернуться в храм, окинул всепрощенческим взглядом старое с позеленевшими каменными крестами да надгробиями кладбище. Он всегда считал, что настоящий Божий храм должен находиться не на шумных городских площадях, а в глубинах огромных кладбищ. Прежде чем войти в такой храм, верующий обязан пройти мимо сотен могил своих собратьев во Христе, вспомнить о бренности мира и отрешиться от забот повседневности. Только тогда, надеялся он, – старый солдат, познавший окопы передовой, плен, госпитали и срам венерической палаты, – человек оказывается по-настоящему готовым к искренности своей исповеди перед Господом и к самоуничижительному покаянию.
Пастор был уверен, что этот полковник, который живет и работает в другом конце Берлина, избрал его уцелевшую среди руин дальнего предместья церковь только потому, что она спасительно восставала посреди мира мертвых. Этот искалеченный жизнью и сомнениями офицер, очевидно, не раз оказывался на той, последней грани, за которой смерть кажется уже не гибелью, а спасением.
Штауффенберг не слышал ни его слов, ни мыслей. Подойдя к распятию, он опустился на колени, однако пламя единственной зажженной пастором свечи мешало ему, ослепляя единственный глаз. Полковник поднялся, погасил пламя ладонью и, зажав в кулаке собственную, подаренную ему свечой, боль, вновь опустился на колени.
Его молитву и его исповедь лучше всего творить в кромешном мраке. Сколь бы ни было оправданным и чем бы он ни оправдывал задуманное им покушение, все же перед Господом он предстает человеком, долго и хладнокровно готовящимся стать убийцей. Здесь не фронт. Готовить покушение на человека, пусть даже он кажется тебе дьяволом во плоти, это совершенно не то же самое, что стрелять в солдата, находясь в окопе.
«Ранения и госпитали сделали тебя слишком сентиментальным и религиозным, чтобы ты способен был совершить то, что уже давно намереваешься, – пробормотал он вместо первых слов молитвы. – Но все же ты не имеешь права отступать. Кроме тебя, этого уже не сделает никто. Уже не сделает. Ты же видишь: они не способны переступить через присягу, через верность долгу, честь офицера. Словно для тебя это пустые звуки. Словно тебе вообще не известно, что такое долг, честь, верность, приказ…»
Штауффенберг опять хочет вспомнить хоть какие-то молитвенные слова, однако никак не может ввергнуть себя в пучину памяти, которая не дарит ему ничего такого, что хотя бы отдаленно напоминало молитву. А все, что он может высказать себе и распятому за вселенские грехи Христу, сводится к отчаянному проклятию.
У полковника не было времени долго сосредоточиваться на своих страхах и молитвах. Он только что вернулся в Берлин из ставки фюрера. Вернулся после еще одной неудавшейся попытки покушения. Вновь неудавшейся.
Как только Штауффенберг был назначен начальником штаба армии резерва, он сразу же обрел возможность время от времени бывать на совещаниях у фюрера, именно ту возможность, которая слишком редко предоставлялась кому бы то ни было из заговорщиков-генералов.
В первый раз его приглашают в ставку «Бергхоф» уже через неделю после вступления в должность. Какой нечеловеческий страх он пережил тогда, пронося в портфеле с бумагами пакет со взрывчаткой! До этого появления в ставке он ведь так и не смог выяснить, обыскивает ли охрана фюрера портфели и вообще разрешают ли заходить в «ситуационный зал», как называли комнату для совещаний, с портфелями. Но он рискнул. Победил страх и неопределенность.
Что ни говори, а в тот, первый день у него была прекрасная возможность запустить свою адскую машину. И при этом даже попытаться спастись.
Почему же не решился? Почему… не решился?
Припав холодным липким лбом к истекающим кровью ногам распятого Христа, граф покаянно повертел головой. Это было покаяние убийцы, не решившегося, не нашедшего в себе мужества убить. Раскаяние заговорщика, не сумевшего принести свою жизнь в жертву идее.
Потом, уже вернувшись из Берхтесгадена в Берлин, граф попытался оправдать свое отступление тем, что на сборище не присутствовали Гиммлер и Геринг, то есть люди, которые после гибели фюрера могли и имели законные основания перехватить власть в Германии и продолжить его дело.
Опираясь о мраморную плиту, полковник поднялся с колен, но еще какое-то время стоял с опущенной головой. Объяснение могло показаться довольно убедительным, если бы все те генералы, которым пришлось это объяснять, верили, что он окончательно решил пожертвовать своей жизнью, изгнав из души всякий страх и сомнения. Однако они в это не верили. Поскольку сверяли свои действия с собственным страхом и офицерско-аристократическими предрассудками. Не зря многие из заговорщиков угрюмо признавались, что сами никогда бы не осмелились посягнуть на жизнь вождя нации, пронести взрывчатку или выстрелить. А ведь если бы он, Штауффенберг, не вызвался пожертвовать собой, решаться пришлось бы кому-то из них. Вот где была бы экзальтация патриотизма, замешанного на страхе.
Тогда ему явно не поверили. Словно догадывались, что свое оправдание он придумал уже по пути в Берлин. Впрочем, так оно и было – догадывались. Просто из чувства такта никто не смел высказать свои предположения вслух. Признать полковника трусом значило отстранить от операции. Но кто мог, кто способен был заменить его?
Да, раньше такие попытки предпринимались. Однако когорта добровольцев-смертников, кажется, иссякла, исчерпала себя. На сцене этого театра рейхстрагедий остался только он. В окружении целого сонма напыщенных демагогов-статистов.
Через четыре дня – это произошло 11 июля – он вновь оказался в том же зале, и вновь в его портфеле ждал своего часа пакет со взрывчаткой. Но в этот раз Штауффенберг действительно решил для себя: взрывать устройство лишь в том случае, когда рядом с Гитлером окажутся Геринг и Гиммлер. И с облегчением вздохнул, убедившись, что на совещании у фюрера их вновь не оказалось.
Когда граф вернулся на Бендлерштрассе, в штаб армии резерва сухопутных сил, генерал Ольбрихт – всегда такой спокойный, сдержанный, отечески-покровительственный – неожиданно рассвирепел:
– Вам никто не смеет приказывать, чтобы вы вершили задуманное вами покушение! – хрипло воскликнул он срывающимся голосом, заводя его в свой кабинет. – В конце концов, вы имеете право отказаться от него под любым предлогом, а то и вовсе без предлога. Но вы не отказались. Наоборот, заверили нас. И теперь, как и в прошлый раз, даже не пытаетесь скрыть, что возможность, реальная возможность убрать фюрера у вас была. Так что произошло, что, что?! Мы теряем время. Завтра такой возможности у нас не появится. Уже хотя бы потому, что завтра вся наша группа окажется в подвалах гестапо.
– Я уже объяснил, господин генерал: там не было тех двоих. А если уж рисковать…
– Но ведь мы с генералом Беком просили вас, требовали… не выдвигать это условие. В данном случае… при тех силах и той организации, которая имеется у нас, ваше условие совершенно необязательно. Мы нейтрализуем этих людей сразу же, как только дадите нам возможность подать сигнал «Валькирия».
– Но зачем рисковать, если есть шанс одним усилием убрать всех троих? Тогда уж точно никто не посмеет встать на нашем пути.
– Кто возражает, полковник? Кто в этом сомневается? Да, конечно, лучше бы всех троих. Все его окружение. Но время, полковник, время! Вы же отлично знаете, что первая волна арестов уже прошла. Фон Мольтке, Райхвайн и Лебер арестованы. Они пока молчат. Пока держатся. Гестапо все еще не удалось узнать от них ничего существенного. И никаких особых улик… Но оно уже идет по нашим следам.
– У меня есть сведения, что буквально через несколько дней состоится еще одно совещание, – мрачно молвил Штауффенберг, нервно поправляя сползающую наглазную повязку. – И, возможно, тогда…
– Никаких «возможно», полковник. Нужно действовать. Действовать наверняка. Независимо от того, на кого укажет перст судьбы, поставив его рядом с фюрером.
– Согласен, господин генерал, согласен. Простите, но вы слишком эмоциональны. У меня ведь тоже нервы… И они на пределе. Вы всего лишь ждете результата. А мне приходится проносить взрывчатку. Вы можете себе представить, что такое пройти в ставку фюрера, мимо десятков эсэсовцев из охранного батальона, каждый из которых имеет право остановить и потребовать открыть портфель…
– Не посвящайте в подробности, – холодно осадил его Ольбрихт, останавливаясь над развернутой на столе картой, словно собирался отдать приказ о мощном наступлении. – Уже хотя бы потому, что они мне хорошо известны. Но вы должны понять меня, всех нас… – он говорил уже совершенно спокойно, но при этом продолжал блуждать взглядом по карте. – В этот раз мы ведь подняли по тревоге верные нам воинские части и училища, которые должны были обеспечить переход власти в Берлине. Сигналы о высшей степени готовности ушли во Францию и к некоторым генералам с Восточного фронта. Теперь нам срочно приходится предпринимать шаги к тому, чтобы наши приготовления оказались незамеченными… Вот цена вашей нерешительности, господин фон Штауффенберг.
…Через несколько минут машина, ожидавшая полковника у ворот кладбища, должна была вновь доставить его в штаб. И полковник с ужасом думал о том, что ему вновь придется предстать пред очи все того же генерала Ольбрихта. Хорошо, если у заместителя командующего хватит нервов опять взорваться эмоциями и словесами, как в прошлый раз. А если он снизойдет лишь до презрительного взгляда? А ведь объяснение «главного исполнителя»: «Прошу прощения, господин генерал, до начала совещания у фюрера мне не удалось вставить запал во взрывное устройство» покажутся Ольбрихту, Беку, Геппнеру, фельдмаршалу Витцлебену… еще более наивными и невнятными, чем все предыдущие оправдания.
– Господин полковник, – Штауффенберг оглянулся и увидел в проеме двери фон Хефтена. – Извините, но вы просили напомнить… Нам пора.
– Ждите у машины, обер-лейтенант, – проворчал Штауффенберг.
Адъютант щелкнул каблуком и исчез.
Граф с сожалением взглянул на распятие, словно прощался с интересным, доверчивым собеседником, которому так и не успел рассказать обо всем том, с чем пришел.
– Прости меня, Господи. Кажется, я не способен ни толком согрешить, ни толком раскаяться. Что-то произошло со мной с тех пор, как… тогда, в Африке… Что-то произошло.
«Ни толком согрешить, ни толком раскаяться»… – с этой самоуничтожительной мыслью полковник и входил через некоторое время в здание штаба резерва сухопутных войск, где его с нетерпеливым подозрением ожидали разнервничавшиеся генералы.
2
Ольбрихт встретил Штауффенберга так, словно тот вернулся не из ставки фюрера, которую должен был поднять на воздух, а из офицерской столовой. Заместитель командующего демонстративно не замечал его. Он весь был поглощен изучением каких-то бумаг, листая которые, задумчиво кряхтел, мямлил что-то себе под нос и вновь, теперь уже озадаченно, кряхтел.
«Случилось то, чего ты больше всего опасался, – молвил себе несостоявшийся террорист. – Тебя уже ни о чем не спрашивают и ни в чем не собираются упрекнуть. Тебя всего лишь брезгливо игнорируют. Брезгливо… Если только это все еще способно расстраивать тебя».
Полковник пребывал в том идиотском «не в духе», когда он уже не нуждался ни в каких упреках, поскольку сам способен был извести себя какими угодно обвинениями, каким угодно презрением.
– Я готов доложить о ходе совещания, господин генерал, – Штауффенберг обязан был сказать это, поскольку подобный доклад являлся традиционным и входил в обязанности начальника штаба.
– Думаю, вам лучше предстать с ним перед командующим, – небрежно отмахнулся Ольбрихт, не отрываясь от бумаг. И полковник вспомнил, что это первый случай, когда заместитель командующего отсылал его к Фромму.
– В таком случае изложу в письменном виде.
Ольбрихт никак не отреагировал на его заявление, давая понять, что игра амбиций и нервов продолжается. Обычно Штауффенберг докладывал о ходе совещания, а также замечаниях фюрера и Кейтеля только Ольбрихту, и на этом официальная часть его визита в ставку завершалась, начиналась рутинная штабистская возня. Но сегодня порядок нарушен и, оказавшись меж двумя генералами, полковник чувствовал себя неуютно.
– Я понимаю, господин генерал, что вы вправе презирать меня…
– С какой стати? – резковато перебил его Ольбрихт, не желая объяснений. – Не опущусь дальше констатации факта.
– Но, поверьте, так сложились обстоятельства. Начало совещания неожиданно было перенесено. Место – тоже. У меня совершенно не оставалось времени, чтобы сориентироваться.
– Ах, вот вы о чем, – наконец оторвался заместитель командующего от бумаг. – Очевидно, вы уже поняли, полковник, что мне неудобно возвращаться к разговору на эту тему.
– Но время и место совещания действительно были перенесены. И я не успел приготовить то, с чем должен был войти. Для этого у меня попросту не хватило времени. Механизм подготовки вам известен.
– В таком случае мы вынуждены будем признать, что против нас восстали уже даже не земные, а всевышние, роковые обстоятельства – да, нет? – как вопрошает в таких случаях генерал Фромм.
– Как человек глубоко верующий, – вспомнилась Штауффенбергу часовня посреди – кладбища, – я склонен думать, что это всего лишь временное невезение. – Он откинулся на спинку стула и с минуту сидел так, закрыв глаза и пытаясь возродить в памяти ситуацию, в которой оказался, узнав о том, что фюрер решил начать совещание немедленно.
Удавалось это Штауффенбергу с трудом. Но даже те проблески недавних событий в ставке, которые ему все же удалось возродить, вновь убеждали: подготовить мину к взрыву, причем так, чтобы не вызвать подозрения и не сорвать операцию, он попросту не сумел бы.
– А ведь мы опять подняли некоторые части по тревоге, – все же не смог Ольбрихт удержаться от упреков. – Объявили готовность, – безынтонационно, как бы самому себе, выговаривал он. – Сюда прибыли генералы Бек и Геппнер. Как видите, все очень рассчитывали на вас.
– Но не может же быть, чтобы нам вечно не везло.
– То есть вы намерены попытаться еще раз? – мягко поинтересовался Ольбрихт после небольшой паузы.
– В последний.
Граф фон Штауффенберг взглянул единственным глазом на Ольбрихта… Генерал сидел, подперев кулаками подбородок и уставившись на него.
– И еще… Приношу всем вам, кто ждал от меня этого подвига, свои искренние извинения.
– Да дело, в общем-то, не в нашей обидчивости, как вы сами понимаете, граф…
– В следующий раз я совершу это, даже если понадобится взлететь вместе… с ним, – не решился полковник вслух произнести имя фюрера. – Вы что, не верите мне?
– Честно говоря… – покачал головой Ольбрихт. – Бек и Геппнер считают, что вы уже сломлены. И что вам уже не подняться. Завтра мы соберемся, чтобы вместе искать выход из создавшейся ситуации. Уж не знаю, удобно ли вам будет присутствовать при этом.
– То есть искать человека, сумевшего бы заменить меня?
– Так будет точнее, – согласился генерал. – И ваше отсутствие будет воспринято с пониманием.
– Просил бы не прибегать к этому, господин генерал, – резко поднялся полковник Штауффенберг. – К чему такая поспешность? В конце концов, речь идет о крайне опасной, рискованной операции.
– Именно исходя из этого. Хотя, откровенно говоря, не ожидал, что наше стремление найти иное решение операции способно возмутить вас.
– Потому что речь идет не об «ином решении», а об ином исполнителе. А для меня это вопрос чести.
«Господи, полковник… – умиленно взглянул генерал на однорукого, безглазого офицера, уже одним видом своим вызывающего сожаление. – Неужели вы считаете, что штаб армии резерва кишит храбрецами-самоубийцами, способными по нескольку раз в течение месяца являться в зал заседаний ставки фюрера с миной в портфеле? Как же непростительно высоко вы оцениваете патриотический дух своих единомышленников».
– Я считаю, что мне должна быть предоставлена еще одна возможность, – не унимался тем временем Африканский Циклоп. – Последняя.
Слушая его, Ольбрихт сосредоточенно смотрит куда-то в сторону, как школьный учитель, решающий для себя, стоит ли и дальше томить ученика муками раскаяния или же прекратить нотации и поверить ему на слово?
– Каждый раз, когда вы в очередной раз отправляетесь туда… Рискуете не только вы, фон Штауффенберг. Рискуем все мы. Каждый раз нервы натянуты до предела. Каждый раз готовятся и поднимаются по тревоге воинские части. Десятки, сотни офицеров меняют свои планы, подстраиваются под обстоятельства и с надеждой ожидают вестей «оттуда». Поэтому вы тоже должны понять нас, полковник. Тем более, что эта акция – ваше добровольное решение.
– Я все понимаю. Но мой последний шанс. Никто не имеет права отнимать его у меня. Только бы вы позаботились о том, чтобы я в ближайшее же время вновь сумел попасть в «Бергхоф».
– Теперь уже в «Вольфшанце». Фюрер переезжает. Там контроль жестче.
– В любом случае.
Ольбрихт пытался что-то добавить, но в это время ожил телефон и генерал внимательно взглянул на террориста, словно заподозрил, что и звонок тоже может быть связан с его просьбой.
– Так прибыл ваш «африканец», генерал – да, нет? – услышал он довольно резкий, скрежещущий бас Фромма.
– Так точно. Он здесь, – взглянул Ольбрихт на полковника, давая понять, что речь о нем.
– Есть что-то важное для нас?
– В общих, так сказать, чертах, господин командующий, – только сейчас пожалел Ольбрихт, что не удосужился расспросить полковника о событиях в «Бергхофе».
– Ко мне его.
Ольбрихт положил трубку и вновь взглянул на фон Штауффенберга.
– К командующему, господин полковник. – А когда тот уже направился к двери, бросил ему вслед: – И запомните: никто не сможет запретить вам использовать свой последний шанс. Это право свято, как право исповеди.
– Жаль тратить заряд, – воспринял фон Штауффенберг его слова как шутливое, хотя и страшное напутствие.
3
– Наконец-то вы появились, Скорцени… – Гитлер сидел за столом в своем большом купе, занимавшем почти половину «бункер-вагона» и, даже обращаясь к начальнику военного отдела секретной службы СС, старался смотреть так, чтобы краем глаза видеть медленно проплывавшие за окном рыжевато-зеленые холмы, между которыми взблескивали на солнце плесы небольших болотных озерец. – В последнее время вас трудно найти. Вообще найти кого бы то ни было в этой стране становится все труднее, – уже откровенно пробрюзжал фюрер.
– Я только что из Италии, – напомнил Отто, поняв, что «верховный судья нации» пребывает в каком-то полусомнамбулическом состоянии, вывести из которого его будет непросто.
– Из Италии… – запрокинул голову Гитлер и, как показалось Скорцени, окинул его осуждающим взглядом: «И вы, штурмбаннфюрер! В такое-то время! В Италии». – Конечно, вы из Италии… – Только сейчас прорезалось в его голосе нечто романтически-завистливое и по-человечески вполне понятное Скорцени.
Поезд резко качнуло, но, придержавшись за кончик стола, Отто все же сумел сохранить равновесие, а затем сел, хотя фюрер не позволил ему этого. Впрочем, хозяин «бункер-вагона» воспринял его самоуправство с обреченным спокойствием. Откинувшись на спинку дивана-сиденья, – маленький, ссутулившийся, с усталым худощаво-обрюзгшим лицом, забившийся в угол – Гитлер казался совершенно случайным в этом шикарном купе, во всем этом тщательно охраняемом поезде. Тем не менее рослый, уверенный в себе диверсант, каждая мышца которого бурлила силой и авантюрным риском, взирал на него с покорностью и надеждой, готовый промолчать и смириться, простить и исполнить. Во что бы то ни стало – исполнить. Любой приказ. Любой ценой. При любых обстоятельствах. В этом скрывалась самая большая тайна отношений теряющего свои могущество и власть, морально и физически деградирующего фюрера – и «первого диверсанта империи», самородка, сумевшего вознести свое страшное ремесло к вершинам военного искусства.
– Вы были у Муссолини?
– Он приглашал меня. Но стало известно, что дуче срочно вызван в «Вольфшанце».
– Это так. Я вызвал его.
– Поэтому решил, что из политических соображений лучше будет встретиться с ним здесь, в Германии.
– Он все еще признателен вам, Скорцени. Все еще… – Фюрер то ли иронично улыбнулся, то ли брезгливо поморщился. Во всяком случае, чувствовалось, что любое упоминание об «императорствующем макароннике» вызывает у него приступ снисходительного недовольства.
И ощущение это было близко и понятно «первому диверсанту рейха». Ни один глава государства не застрахован от недругов, дворцовых интриг и переворотов. Но не таких примитивных. И не в Италии – с ее мощной фашистской фалангой, национальной гвардией и целой армией секретных и давно рассекреченных агентов СД, гестапо, абвера, с частями СС. Не в Италии и не столь анекдотически – вот чего не могли простить Муссолини ни фюрер, ни Скорцени.
– Это наша вина: не сумели упредить события в Риме. – Появился официант и оставил для Скорцени бутылку пива, а для Гитлера – бутылку богемской минералки и бокалы. – Если бы дуче сумел предупредить нас, мы нанесли бы упреждающий удар по королю и Бадольо, – мрачно оправдывался Гитлер. – Пусть даже пришлось бы пожертвовать Муссолини и всем его кабинетом министров.
Берясь за свой бокал, фюрер вопросительно взглянул на «первого диверсанта рейха».
– И мы нанесли бы этот удар, – жестко подтвердил Скорцени. Пиво только что извлекли изо льда, и здесь, в душноватом вагоне, оно показалось штурмбаннфюреру родниковым напитком рая. – Был бы только приказ.
Фюрер воспринял это как упрек. Но Скорцени такое позволялось.
– …Теперь карта фронтов на южном театре Европы выглядела бы совершенно по-иному, – продолжил свое брюзжание Гитлер. – А мы бы имели десяток лишних дивизий. Пусть не самых отборных и боеспособных. Зато противостояли бы они союзникам, а не вермахту.
Скорцени промолчал. Фюрер сам должен был понять, что запоздал с этим разговором ровно на год. Кроме того, ему показалось, что и сама тема переворота в Риме возникла стихийно, только потому, что он вернулся из Италии.
И был немало удивлен, когда вдруг услышал:
– Но мы должны извлекать уроки, Скорцени. Мы обязаны извлекать их. Даже из таких вот, начисто проигранных нами, дворцовых сражений, какие происходили в Риме. Иначе чего мы все будем стоить? – «Верховный судья нации» вновь вопросительно взглянул на штурмбаннфюрера, словно предполагал, что с его банальной сентенцией можно не согласиться.
– Мы должны продемонстрировать это миру, – мягко уточнил Скорцени, напоминая фюреру, что это всего лишь слова, на которые он не мастак. Пора бы переходить к делу.
– Вам представится возможность продемонстрировать это, Скорцени, представится. Причем очень скоро.
– Где и когда? – по-солдатски кратко поинтересовался обер-диверсант СС.
«Где и когда?» – мысленно повторил фюрер, с благодарностью глядя на офицера. Если бы каждый его фельдмаршал, каждый генерал с такой же готовностью вопрошал: «Где и когда?», разве сейчас он ломал бы голову над тем, как остановить врага у самых границ рейха?
И все же с ответом не спешил. То, что он должен был произнести, принадлежало к высшим секретам империи. К его личным секретам. И даже пребывая тет-а-тет со Скорцени…
– Венгрия, – вырвалось у него как-то само собой. – Говорят, ваша мать – венгерка.
– Во мне бурлит кровь всех народов Европы. Но вся эта смесь и представляет собой кровь германца. Речь идет об адмирале Хорти?
– О регенте… Хорти.
Скорцени задумчиво помолчал. Он пытался вспомнить, обладает ли какой-нибудь особой информацией, позволявшей ему подтвердить актуальность этого упреждающего удара. Но обнаружил, что никакими такими особыми, свежими сведениями не обладает. Кроме общей уверенности в том, что на Хорти нельзя положиться точно так же, как нельзя было полагаться на Муссолини, на Антонеску. Или Франко. Который вместо того, чтобы прийти на помощь Германии, забился в свою пиренейскую пещеру и делает вид, что все, происходящее по ту сторону горных перевалов, его не касается. Именно эти размышления заставили Отто напомнить Гитлеру:
– Мне почему-то казалось, что начнем с Мадрида.
– Почему с Мадрида? – нервно передернул плечами фюрер. – Знаю, что недолюбливаете Франко. Многие недолюбливают его. Но основания?
– Уже хотя бы потому, что мы дали возможность генералу Франко вдоволь отдышаться и прийти в себя. Огромная страна. Огромные людские и материальные резервы, оказавшиеся за спиной у англо-американцев.
– Стратегически это обнадеживает, – вяло признал Гитлер.
– Сменив Франко, мы могли бы срочно перебросить в Испанию пару наших дивизий, быстро довооружить несколько испанских, создав таким образом мощный армейский кулак в тылу у войск союзников.
Гитлер задумчиво смотрел в окно. Скорцени не был уверен, что тот слышит его, а точнее – пытается осмыслить сказанное им.
В двери появился личный адьютант вождя обергруппенфюрер Шауб. Он попытался привлечь внимание Гитлера, однако тот демонстративно не замечал его, и адъютант вынужден был исчезнуть, чтобы дождаться более благоприятного момента.
– И все же отправляться вам придется в Будапешт, Скорцени, – наконец вернулся фюрер в катящуюся в сторону Балтики реальность. – Но об этом мы еще поговорим. Здесь нужно будет все взвесить. Подобрать личность, способную заменить уставшего от бремени власти адмирала. Когда «ситуация созреет», мы обязательно вызовем вас, Скорцени.
– Я готов, мой фюрер.
– В Италии вы занимались секретным оружием.
– Морскими камикадзе.
– И что же?
В течение нескольких минут Скорцени рассказывал обо всех впечатлениях, которые он вынес в результате знакомства со школой князя Боргезе.
Гитлер не перебивал его. Отто сразу же почувствовал, что интерес фюрера к его докладу неподдельный и что появление «человеко-торпед», «человеко-бомб» и пилотируемых смертниками ракет «Фау» пробуждает у него пусть пока что весьма смутную, но все же надежду. Гитлер много раз уверял германцев, что вот-вот введет в действие некое чудо-оружие, которого в природе пока не существовало. Так пусть появится хоть что-то новое, способное причинить противнику более-менее заметный урон.
Но как только Скорцени увлекся описанием первой атаки камикадзе Райса, в ходе которой был потоплен английский корабль с солдатами на борту, фюрер прервал его:
– Скажите, Скорцени, вы уверены, что мы действительно получим нужное число смертников-добровольцев, чтобы создать этот… особый род войск?
– А кто может усомниться в этом? – угрожающе проворчал Скорцени, не принимая в расчет то обстоятельство, что основной сомневающийся уже перед ним.
– Вы в этом действительно уверены? – привстал и потянулся к нему через стол фюрер. И подернутые слюдяной влагой, доселе дремавшие, мертвенные глаза Гитлера наконец-то оживились, взыграв холодным лучом недоверия.
– Мы наберем их столько, сколько понадобится, мой фюрер, – грохнул кулаком по столу «первый диверсант рейха».
– Вы не поняли меня, Скорцени. Я спросил, сумеем ли мы получить столько добровольцев.
– Если понадобится, мой фюрер, мы превратим в смертников-добровольцев весь военно-морской флот, всю зажиревшую геринговскую люфтваффе. Вся СС превратится в части камикадзе. И пусть только кто-нибудь из этих мерзавцев, дьявол меня расстреляй!..
Гитлер закрыл глаза и нервно повертел головой, пытаясь остановить порожденную рокотом этого исполосованного шрамами верзилы словесную лавину.
– Я всего лишь хотел знать, готовы ли… все еще, готовы ли мои солдаты умирать за своего фюрера, – негромко и несмело объяснил он. – Умирать с той же верой и той возвышенной жаждой самопожертвования, с какой умирают во имя своего императора те, истинные камикадзе.
4
Гиммлера не очень-то удивило упорство, с которым редактор газеты «Дас Шварце Кор» полковник СС Гюнтер д’Алькен добивался его аудиенции. Рейхсфюрер уже выяснил, что полковник только что вернулся после длительной поездки по территориям, прилегающим к Восточному фронту, и теперь был, очевидно, обуреваем какими-то совершенно немыслимыми идеями. Настолько же гениальными, насколько и бредовыми.
Несмотря на то что «Дас Шварце Кор» являлась официозом СС и, следовательно, должна была отличатся особой правоверностью, ее редактор давно прослыл вольнодумцем, по некоторым вопросам позволял себе не соглашаться со всеми, вплоть до фюрера. Правда, вольномыслие это крайне редко удавалось доносить до газетных страниц, что, собственно, и спасало д’Алькена как редактора. Но ведь и мнение, высказанное в кулуарах совещания, в кабинете высокого чина СС или в собственном кабинете, тоже достойно того, чтобы быть отмеченным не только отставкой, но и концлагерем.
– Говорят, поездка по окрестностям Восточного фронта произвела на вас, полковник, неизгладимое впечатление.
– Справедливое замечание.
Они прошли вдоль берега небольшого озерца и оказались посреди чашеобразной, почти первозданной по красоте своей, низине, в которой каким-то образом вмещались это родниковое, обрамленное двумя невысокими скалами озерцо, дубовая роща, поросшие мхом руины замка и заброшенная штольня старой каменоломни. Эту «Долину Отрешенности», как назвал ее Гиммлер, водитель открыл для него еще прошлым летом, когда завернул сюда, чтобы помочь шефу утолить жажду. Три родничка, издревле питавшие озерцо, казались божественно прохладными и умиротворяющими. Руины и каменоломня навевали на философские раздумья о вечности и суетности жизни, а между шатром рощи и озерным плесом царила какая-то особая нордическая прохлада, совершенно отделяющая эту долину от издерганного, расплавленного зноем остального мира.
– Каковы ваши прогнозы, редактор? – поинтересовался Гиммлер, отпивая с ладоней родниковую воду.
– Как всегда, мрачные.
– Как всегда, – задумчиво кивнул Гиммлер, но в голосе его не послышалось ни осуждения, ни мстительности.
– Зато поездка помогла мне убедиться в том, в чем, собственно, я и так был убежден.
– Еще одно оригинальное признание.
Гиммлер остановился у гранитной, отполированной стихиями скалы, в которой отливалась голубизна озерного плеса, а в кварцевых зернах отражались лучи предобеденного солнца, – и выжидающе уставился на д’Алькена. Лицо его оставалось при этом холодно-вежливым и смиренно-терпеливым.
– Мы, господин рейхсфюрер, допускали огромную ошибку, унижая и истребляя население оккупированных нами русских территорий. Подавляющее большинство его действительно ненавидело коммунистов и не желало возвращения советской власти. Будь мы осмотрительнее и дальновиднее – давно сумели бы превратить начатую нами войну в гражданскую войну России.
– Уверены, что таких было большинство?
– Во всяком случае, потенциально. Речь идет о населении, которое изначально считало нас избавителями от коммунистических врагов, разрушивших тысячи храмов, истребивших в концлагерях десятки тысяч их земляков; сославших под видом кулаков в Сибирь наиболее трудолюбивую часть крестьян. Оставшееся население являлось нашим естественным союзником – это, на мой взгляд, совершенно бесспорно.
– Я погрешил бы против истины, полковник, если бы признал, что вы открыли для меня некую высшую истину, которой мы все, генералитет СС и руководство рейха, постичь были не в состоянии.
– Но я и не претендую на роль мессии, – грубоватое, далеко не аристократическое лицо д’Алькена слегка побледнело, однако он все же сумел сдержаться. Штандартенфюрер давно готовился к этому разговору, рассчитывал на него и обрадовался, узнав, что Гиммлер назначил встречу не в своем кабинете, а здесь, в этом романтическом, истинно германском уголке, вдали от скрытых магнитофонов.
– На что же вы тогда претендуете?
– Это интересует многих, господин рейхсфюрер. Многим непонятно, с какой стати я вдруг отстаиваю власовское движение. Почему пытаюсь оживить его, используя при этом не только свою газету, но и личные связи.
– Не тщитесь, штандартенфюрер, во «враги народа», подобно тому, как это делает со своими вольнодумцами Иосиф Виссарионович, вас все равно не зачислят. В героях послевоенной Германии вам тоже не ходить. Так и останетесь «редактором одиозной эсэсовской газетенки». – Улыбку, которая вырисовывалась на лице Гиммлера, действительно можно было бы считать улыбкой, если бы только это лицо не принадлежало Гиммлеру. – Вы – яростный сторонник Власова, это мне уже понятно. Непонятно другое – за что вы его так возлюбили.
– Это любовь к Германии. Бросив на русские штыки сотни тысяч бывших русских пленных, мы спасем сотни тысяч арийцев.
– Но испоганим саму идею арийского господства. Ради которой, собственно, все это и затевалось. Такой поворот мыслей никогда не увлекал вас?
– …Но каждый раз побеждало желание облегчить участь наших солдат.
Гиммлер благодушно развел руками.
– Если бы не моя вера в то, что вы руководствуетесь состраданием к Германии, а отнюдь не состраданием к Власову, вы бы давно сменили свой мундир на более скромное одеяние.
– После вашего откровения, господин рейхсфюрер, мне сам Бог велел быть предельно откровенным. Известно, что Власов добивается встречи с вами.
– Как и с фюрером.
– Фюрер вряд ли согласится принять русского генерала, поскольку ему трудно будет отречься от предубеждений относительно Русской освободительной армии, которые уже стали притчей во языцех. Но было бы неплохо, если бы приняли его вы.
– Допустим, приму…
– Тогда власовское движение стало бы приобретением СС, а не ведомства Розенберга. А то, что окончательно отказаться от власовцев мы не можем, – не то время – уже ясно. Так что мы в конце концов теряем? Создавая русскую армию, мы получаем новых солдат, меняем отношение к себе славянского населения России, не говоря уже об отношении многих европейских политиков, поскольку Власов – это ведь борьба не с целью захвата России, а с целью освобождения ее народов и всего мира от коммунистической чумы… Мне как журналисту совершенно очевидно, что политическая выгода от нашей лояльности к власовцам еще более важна, чем сугубо военная.
– Но ведь вам известно, что в свое время я назвал Власова «большевистским подмастерьем мясника»[1].
– И запретили мне каким бы то ни было образом поддерживать генерала и его движение.
– Неужели я пал так низко?
– Однако свои взгляды мы должны менять в соответствии с ситуацией и общей обстановкой. Хотя Сталин – если только он узнал об этом высказывании – не в восторге от возведения его в ранг мясника.
– Скорцени называет его проще: «Кровавым Кобой»[2] – презрительно поморщился Гиммлер.
– Вот кому принадлежит новый псевдоним вождя!
– Ладно, как вы себе представляете развитие русского движения в Германии, штандартенфюрер?
– Оно не будет иметь никакого влияния, пока мы не создадим русскую армию хотя бы в составе двух стрелковых дивизий, с полком авиации и прочими приданными и вспомогательными частями. Это сразу же поднимет авторитет Власова и среди пленных, и среди будущих дезертиров. Кстати, во время операции «Зильберштрайф»[3] мы добились достаточно большого потока перебежчиков. Но сейчас он резко сократился. И не только потому, что наши войска отступают. Русские не видят по ту сторону линии фронта частей власовской освободительной армии, не видят силы, которая способна будет заменить вермахт и возглавить сопротивление коммунистам, – вот в чем проблема.
– Справедливо, – согласился Гиммлер, останавливаясь у руин замка. – Народу нужен вождь, нужна надежда.
Старая, вконец ослабевшая змея заползла на вершину обломка и, греясь на солнце, лениво уставилась на людей. Какое-то время рейхсфюрер и змея гипнотизировали друг друга, оставаясь совершенно неподвижными. Это продолжалось до тех пор, пока штандартенфюрер не извлек пистолет и не рассек пресмыкающееся несколькими выстрелами.
– Вместе с пропагандистским отделом вермахта вы затеяли сейчас новую операцию?
– «Скорпион».
– Красноречиво. Есть успехи?
– Особых нет. По той же причине. Переходя на нашу сторону, русские очень рискуют. Мы уходим, приходят коммунисты. И начинаются расстрелы, концлагеря, ссылки в Сибирь. Многие не хотят служить нам, но согласны служить под началом русских генералов, выступающих за свободную Россию без коммунистов.
– Вы говорите все это, чтобы расчувствовать меня, полковник? Вы ведь знаете, что мои сопереживания несчастным русским, отданным на произвол коммунистам, глубоки и искренни. – По идее, Гиммлер должен был произнести это с легкой иронией. Однако д’Алькен так и не сумел уловить ее.
«Ирония, очевидно, в том и заключается, что Гиммлер произносит подобные вещи совершенно серьезно и совершенно искренне», – объяснил себе шеф эсэсовского официоза, по старой журналистской привычке пытаясь всему дать собственное толкование.
– Господин рейхсфюрер, я понимаю, что ваше время слишком ограничено, – молвил он. Бросив последний взгляд на руины и на растерзанное пулями все еще вздрагивающее тело змеи, Гиммлер направился к стоящим поодаль, на выходе из «чащи», машинам. – Могу ли я сообщить Власову, что вы готовы принять его? Если это так, мы у себя в газете – да и пресса, рассчитанная иа население оккупированных территорий, – могли бы преподнести сию новость в соответствующей интонации.
Вопрос был задан настолько прямо и беспардонно, что рейхсфюрер удивленно уставился на д’Алькена, однако почувствовал, что это тот случай, когда все же следует дать «добро».
– Я жду его у себя двадцать первого июля, – скороговоркой отмахнулся он от продолжения темы. – Надеюсь, дата господина Власова устроит? – теперь он не скрывал ни презрения, ни сарказма. – Или, может быть, генерал назначит свою?
– Его устроит любой день из отведенных ему на этой грешной земле.
– Время ему сообщат дополнительно. Но вы, полковник, должны понять, что ни фюрер, ни я никаких особых чувств к этому генералу не испытываем. В принципе не испытываем.
– Мне это известно.
– Кроме того, его поведение во время поездок по освобожденным нами территориям…
– Непростительное, истинно русское свинство. Но ведь и мы тоже не должны забывать, с кем имеем дело. Кстати, если уж господин Власов настолько – как любят говорить русские – «пришелся не ко двору», почему мы должны терпеть его? Для нас важен не Власов, а сама идея русского освободительного движения.
– Вы намерены заменить генерала Власова генералом Геленом? – мрачно улыбнулся Гиммлер.
– Гелена русские вряд ли воспримут. А вот генерал Жиленков вполне бы подошел.
– Есть и такой генерал? – удивленно вскинул брови Гиммлер. Однако д’Алькен понял, что это всего лишь игра. О Жиленкове рейхсфюрер слышал, не мог не слышать. – У них тут что, свой генштаб?
– Поскольку существует армия, должен быть и генералитет, – сдержанно остепенил его д’Алькен. К чинам выше полковничьих он всегда относился с должным почитанием. – Мы уже обсуждали его кандидатуру с Гайнцем Гельмихом[4]. Командующий тоже готов поддержать кандидатуру Жиленкова.
– Этому генералу хватит авторитета и решительности?
– Он достаточно решителен, когда того требуют обстоятельства, и достаточно сдержан, когда того требует чувство такта. Которое так часто изменяет пролетарскому генералу Власову. Кроме того, Жиленков – один из авторов «Смоленской декларации», он стоял у истоков Русского освободительного движения. И вообще, больший «власовец», чем сам Власов.
– Но это вызовет раскол в среде русских. Они устроят здесь настоящую гражданскую войну. Разве вы не знаете, что они там, у себя в России, так и не довоевали до конца?
– Судя по воинственности белых офицеров, находящихся в Германии и Франции, а красных – по ту сторону фронта, – согласился полковник. – Но позволю себе заметить: раскол возможен в том случае, когда Власов будет оставаться среди активных членов «русского комитета», членов руководства движением. Если он все еще будет оставаться…
– Вот это другое дело, – мрачно пробубнил Гиммлер. – Тогда, может быть, есть смысл сразу же встретиться с этим вашим… Жиленковым? Знаете, полковник, у нас, в штабе командования СС, как-то не принято пожимать руки покойникам.
– С вашего позволения, я поговорю с самим Жиленковым. Думаю, отказа не последует. Но формальность есть формальность.
– Так вы еще не беседовали с ним… – грустно констатировал Гиммлер, с сожалением глядя на полковника. – Придется перевести вас в действующую армию, штандартенфюрер. Редакторское кресло действует на вас деморализующе.
5
Генерал благоговейно снял со своей груди овеянную французскими духами головку Сото, осторожно, чтобы не разбудить девушку, оставил распутное ложе и подошел к столу. Полрюмки рисовой водки не могли ни утолить его похмельную жажду, ни избавить от утренней «любовной одури».
Ночь, которую он только что прожил, относилась к тем его бурным, «налетным» – как называл их Семенов со времен своего атаманства – ночам, что еще вполне были ему по чину и карману, однако уже давно становились не по здоровью. И ничего тут не поделаешь. Осталось лишь смириться с этой прискорбной истиной. Вот только смириться генерал не мог: казацкая удаль никак не усмирялась.
Генерал взглянул на безмятежно спавшую девушку. На сей раз «налетную» ночь делила с ним Сото, что в какой-то мере оправдывало его. Тем не менее… Пора бы попридержать коней.
Командующий прошелся взглядом по оголенному бедру девушки, по розоватому соску, едва заметно проклевывающемуся сквозь перевернутую вверх донышком пиалу груди, и решил, что, пожалуй, сегодня он слишком жесток по отношению к себе: еще четвертинка рюмки не помешает ни ему, ни его ангелу-хранителю. В конце концов, не зря же именно эту рисовую погань употребляют перед своим последним полетом их камикадзе.
Вершины горного хребта напоминали далекие лесные костры. Бледновато-розовое пламя их мерно полыхало в поднебесной синеве Большого Хингана, сливаясь в сплошное утреннее марево – холодное и безучастное ко всему мирскому. Не отводя взгляда от этого пламени, генерал вновь опустошил свою рюмку и, блаженственно крякнув, вернулся к девушке.
Поцелуи его были едва ощутимыми, а потому порочно-невинными. С трудом отрываясь от теплой нежной шеи с призывно пульсирующей сонной артерией, Семенов припал к груди Сото, словно к священному источнику, и почувствовал, что нет ни силы такой, ни воли, которые заставили бы его прервать это душевное омовение.
Девушка пошевелилась во сне и, по-детски потягиваясь, перевернулась на спину, одну ногу откинув в сторону, другую изысканно подогнув.
Поцелуи, которыми стареющий генерал покрывал нежную кожу ее живота, становились все более затяжными и отчаянными. У лобка мужчина взревел, как раненый зверь и, обхватив дрожащими руками бедра девушки, приподнял их, приближая к себе…
Стук в дверь показался ему зовом из иного мира. Все еще поддерживая бедра, словно чашу святого Грааля, Семенов затравленно оглянулся. Стук повторился, но теперь он прозвучал резче и настойчивее. Только после этого генерал сдавленным голосом прорычал:
– Какого дьявола, нехристи заамурские, в соболях-алмазах?!
– Господин генерал, срочное сообщение, – услышал он голос адъютанта.
– Какое еще может быть сообщение, мерзавец? – проворчал Семенов, поглядывая на оголенное тело девушки с такой тоской, будто отрывали от нее навсегда. – Какое еще может быть сообщение? – Он даже гаркнуть не мог по-людски, поскольку опасался разбудить Сото. Хотя, казалось, ангельский сон ее уже не смогли бы нарушить даже иерехонские трубы.
Прикрыв девушку легким одеялом, генерал надел брюки, набросил на плечи френч и тяжело прошлепал босыми ногами к двери.
– Прошу великодушия, господин командующий, – предстал перед убийственно-разъяренным генералом полковник Дратов, не догадывающийся, что тот был занят женщиной. – Донесение от полковника Родзаевского. В таких случаях вы просили докладывать незамедлительно.
– Не просил, а требовал, – мстительно огрызнулся генерал. – Что произошло? Японский император совершил обряд харакири?
Дратов был чуть повыше Семенова, что позволяло ему спокойно заглядывать через плечо, туда, где лежала Сото. Генерал тоже поневоле оглянулся и увидел, что японка вновь ухитрилась оголиться, даже во сне протестуя против того, чтобы ее красоту упрятывали.
– Однако, полковник… – ревниво оттеснил адъютанта командующий и закрыл дверь.
– Прошу великодушия, господин генерал. Сообщение Родзаевского касается группы ротмистра Курбатова.
– Разве что, – примирительно протянул Семенов. – Так что, он наконец дошел? – Когда речь заходила о Курбатове, генерал Семенов позволял себе отрешаться от всех остальных людей и событий. С некоторых пор евроазиатский марш этой группы по красным тылам стал последней гордостью атамана, понявшего, что его армии так и не суждено перейти Амур и победно двинуться к Уралу.
– Так точно, господин командующий. Курбатов уже в Германии.
Семенов победно улыбнулся и воинственно расправил плечи, как бы говоря всем тем, в квантунском штабе сидящим, кто низвел его до бытия тыловика: «Я вам еще не то покажу, в соболях-алмазах!»
– Значит, дошел ротмистр, сабельная его душа… – Они спустились на первый кабинет, в котором Семенов обычно принимая гостей и своих офицеров, и налили себе по стопке водки. – Сколько их добралось до Германии?
– Курбатов и фон Тирбах. Только эти двое.
– Как и следовало ожидать, – одобряюще кивнул командующий. – Это как раз неплохо, с германцем как-никак… Все остальные, значит…
– Некоторые остались в России. Кто на Волге, кто на Дону. Потери, в общем-то, небольшие. Иных подробностей не знаю, но Родзаевский, ссылаясь на сведения японцев, утверждает, что прихватили с собой и какого-то немецкого офицера, которого освободили из русского плена.
– Прийти в Берлин с офицером, вырванным из лагеря, – это уже визитка, Дратов! Что бы ты ни думал о ротмистре и его людях.
– Самого высокого мнения.
– Ты не прав, полковник, – не слышал его генерал, – это уже визитка!
– Но теперь он останется в Германии, и мы его так или иначе потеряли.
– Мыслите, как в бане, полковник, – не согласился Семенов, закусывая малосольными огурцами, которые заготавливала для него осевшая под Харбином семья отставного штабс-капитана Хрулева. – Мы не потеряли этого пройдоху, мы его нашли. Кто знает, возможно, когда-нибудь, когда ото всей их германско-японской авантюры останутся лишь туманные воспоминания, все наше бело-маньчжурское движение войдет в историю только этим диверсионным походам через полмира.
– Все может быть, прошу великодушия. Однако не хотелось бы, чтобы только этим. Мы с вами, господин генерал, заслуживаем большего.
– Могли бы заслужить, адъютант, могли бы, в соболях-алмазах, – вновь взялся за графин, атаман Семенов.
Осчастливив себя еще одной рюмочкой, они несколько минут молча закусывали.
– В каком чине он должен прибыть в Германию, не помните Дратов?
– Увы, в чине полковника, – вздохнул адъютант. Он всегда вздыхал, узнавая, что кому-то посчастливилось дослужиться до такого чина, в котором он столь безнадежно долго пребывает, не имея почти никаких шансов на генеральские лампасы. – Но Курбатов, прошу великодушия, его-то как раз заслуживает. Чего не могу сказать о некоторая иных, нацелившихся в генералы.
– Не нуди, Дратов, – грубовато урезонил командующий, прекрасно понявший, о ком идет речь. – Интересно, как он там перед Скорцени предстанет? Примет ли тот его?
– Примет, куда денется. Ведь прошел. Факт. Фон Тирбах подтвердит, вся японская контрразведка в свидетелях. Вот только затылки чесать нам теперь следует по другому поводу.
Семенов вопросительно взглянул на полковника.
– …Именно это я и имею в виду, господин командующий. Пора направить стопы свои в том же направлении. Только маршрут избрать чуть покороче и понадежнее. Похоже, что делать в этой маньчжурской помойке, где мы уже никому не нужны, нам больше нечего.
– Потому и послал туда Курбатова, что хочу напомнить о самом атамане Семенове, в соболях-алмазах…
6
Встреча д’Алькена с «власовским Геббельсом» произошла неподалеку от штаба армии резерва, в небольшом старинном ресторанчике с непредсказуемо опасным названием «Как в лучшие времена», стены которого еще благодарно помнили устрашающие речи крестоносцев, отправлявшихся отвоевывать гроб Господний.
– Утверждают, господин Жиленков, что в последнее время у вас возникли серьезные трения с генералом Власовым, – нагло провоцировал его редактор «Дас Шварце Кор», прекрасно зная, что никаких особых трений между этими генералами не возникало. – Надеюсь, они не настолько безудержны, что могут вызвать раскол в Комитете освобождения народов России?
– Так вас заинтересовало только это? Мне-то сказали, что понадобился вам как соредактор газеты «Воля Народа»[5].
– Мне еще понятно, когда вы настороженно относитесь к контактам с генералами из лагеря атамана Краснова, пытающимися переманить от вас лучшие командирские кадры, чтобы омолодить свое белогвардейское воинство. Но откуда такая настороженность в отношении офицеров СС?
– Время такое. Всегда нужно знать, с кем и о чем… Опять же, особенность нашего полуэмигрантского-полупленницкого положения.
Приземистый, худощавый, генерал вообще не производил какого бы то ни было впечатления: ни выправки офицерской, ни статности, ни командирского голоса. Однако таким, неказистым и невоенным, он должен был казаться на плацу. Штандартенфюрер прекрасно знал, что Жиленков слывет неплохим оратором, к тому же сам составляет свои речи. Один из русских власовских офицеров даже отозвался о нем в том духе, что перед любой, самой мизерной аудиторией генерал выступает так, словно стоит на баррикаде под стволами жандармов.
Революционная терминология д’Алькена не смутила. Важно, что генерала воспринимают. Не зря в КОНРе он занимает два важнейших поста – шефа отдела пропаганды и шефа отдела внешних сношений.
– «С кем» – вы уже, допустим, знаете. А вот «о чем» – будет для вас неожиданностью.
Пиво оказалось на удивление густым и кисловато-горьким. Уже не пиво, а некий прифронтовой эрзац. Но они потягивали его, смакуя не напиток, а знакомство друг с другом.
– Хотите переправить меня через линию фронта, чтобы создавал там партизанские отряды?
– Согласились бы?
– Нет. Увольте.
– Почему так решительно? Партизанский генерал Жиленков в тылу у красных! Статьи во всех газетах Европы. В России красные партизанские командиры гремят, купаясь в славе. Ковпак, например. Всенародный почет.
– Ковпак? Наслышан. Говорят, действительно неплохо воюет. Но только одно дело воевать против немцев, которые немало насолили всем, да к тому же чужаки на этой земле; другое дело – когда ты стреляешь из-за угла в солдат, которые только недавно эти края освобождали.
– Но ведь вы – генерал освободительной армии, – замер д’Алькен с кружкой у рта. – Вам ли ставить вопрос таким образом? У освободительной армии нет иного способа начать войну, кроме как партизанский.
Жиленков угрюмо, затравленно улыбнулся. Он понял, что поспешил с отказом, но что теперь поделаешь? Его худощавое прыщеватое лицо с шелушащимися щеками и заостренным красноватым носом еще более вытянулось и приобрело ярко выраженные черты посконной рожи непротрезвившегося конюха.
– Поздно начинать партизанить, штандартенфюрер. К тому же мы – регулярная армия. Хотя бы первые победы наши должны быть вырваны в открытом бою, плечом в плечо с союзниками. Вот почему мне совершенно не понятно, кто и по какому злому умыслу сдерживает формирование дивизий РОА.
Д’Алькен озорно хмыкнул и удивленно покачал головой. Он не мог не поражаться наивности русского генерала.
– Если я назову человека, активнее всех сдерживающего их формирование, пиво покажется вам еще более безвкусным, а весь дальнейший разговор потеряет всякий смысл.
«Фюрер», – понял Жиленков, тотчас же признавшись себе, что не такая уж это тайна и неожиданность, чтобы поражаться ей.
– Тогда кто же вам поручил вести переговоры о власовском партизанском движении?
– Ну почему сразу «власовском»? Почему не русском освободительном? Вы что, всерьез воспринимаете Власова как вождя движения?
Жиленков резко поставил свою кружку с недопитым пивом на стол и впился глазами в штандартенфюрера. Д’Алькен сразу же почувствовал, что погорячился: к такому дипломатическому аллюру генерал явно не готов.
– Как я должен воспринимать подобный пассаж? – настороженно спросил Жиленков и почему-то оглянулся на дверь, словно кто-то там, за ней, мог подслушивать их разговор. – Что, немецкое командование больше не доверяет генерал-лейтенанту Власову?
– Можно сформулировать и таким образом, – согласился д’Алькен, решив идти напропалую. Все равно ведь тональность беседы изменить было уже невозможно.
– Но почему? Разве не он?..
– Не утруждайтесь перечислением заслуг командующего, коллега, – осадил его редактор. – Они общеизвестны. Как общеизвестны и те слабости генерала, которые не позволяют ему занять достойное место в сонме руководителей вооруженных сил рейха.
– Не могли бы вы как-нибудь поточнее сформулировать претензии к нему?
– У меня существуют иные, более полезные занятия, господин генерал, – напомнил ему д’Алькен. – Власов давно не внушает доверия не только многим генералам из верховного командования вермахта, но и самому фюреру. Не говоря уже о Гиммлере и Геринге. Поэтому вопрос теперь стоит так: Власов должен быть смещен. Спокойно, порядочным образом с подобающим достоинством… И ничего не поделаешь. Не он первый генерал, которому в ходе войны «посчастливилось» познавать горечь вынужденной отставки: К тому же Власов сам попросит ее, – загадочно улыбнулся д’Алькен. – Об этом позаботятся.
– Кого вы, в таком случае, представляете? Для меня это важно, господин штандартенфюрер.
– Самые высшие эшелоны власти, генерал. Не мог же я начать разговор только потому, что не сидится за редакторским столом. Лучше бы вы спросили, почему он начат именно с вами.
Жиленков залпом допил остатки пива и молча проследил, как д’Алькен, на правах хозяина, заказал еще по кружке. К тому моменту принесли нечто похожее на гуляш, присоединив это блюдо к жареной печени с картофельным гарниром. В отличие от пива еду здесь подавали отменную, словно этого старинного, со стенами, покрытыми исторической плесенью, ветерана война совершенно не коснулась. В нем действительно почти все было, как в лучшие времена, что полностью соответствовало названию сего чревоугодного заведения.
– Так почему же в качестве собеседника вы избрали меня? – спросил Жиленков, отдав дань и этому блюду.
– Хорошо, господин генерал, играем в открытую. Поскольку отставка Власова – вопрос ближайшей недели, нужен генерал, достойный возглавить Русское освободительное движение и вооруженные силы РОА. Не далее как вчера у меня состоялась встреча с Гиммлером. На пост лидера движения без особых раздумий и сомнения я предложил генерала Жиленкова. – Д’Алькен запнулся, заметив, что сам избранник слушает его почти с ужасом. И весь он выглядит при этом жалким и затравленным. – Да, я предложил именно вашу кандидатуру, генерал. Зная ваши ораторские способности, ваш авторитет и военный опыт. И рейхсфюрер, пусть не без колебаний, но все же согласился.
– Да к чему все это? – растерянно изумился Жиленков. – Если бы раньше… Сейчас, при нынешней ситуации на Восточном фронте…
– С вами еще будут беседовать… Кейтель, Гиммлер, Риббентроп, Геринг, Розенберг. Возможно, и сам фюрер, у которого к вам отношение будет совершенно иным, нежели к Власову, – упорно довел до конца свою «вербовочную арию» д’Алькен, чтобы каким-то образом завершить это странное военно-политическое сватовство.
Какое-то время Жиленков отрешенно смотрел в окно и, сам того не замечая, отчаянно качал головой, отрекаясь не только от слов своих, но и от мыслей.
– Никогда не соглашусь на такое, – наконец едва внятно пробормотал он. И д’Алькен почувствовал, каких усилий стоило генералу решиться на отказ.
«А ведь не раз уже примерял шинель командующего, не раз мысленно взваливал на плечи его крест», – не отказал себе штандартенфюрер в возможности позлорадствовать.
– Поймите, в такое время расчленять все движение… Делить всех нас на «власовцев» и «жиленковцев»… Это же недопустимо. Непатриотично. Да за мной попросту не пойдут, еще и заклеймят предателем и раскольником. Вначале – да. Вначале я вполне мог возглавить наше движение. Но выбор-то пал на Власова. Теперь, его знают. Появился авторитет…
Генерал все говорил и говорил, старательно подбирая непослушные, черствые в его устах немецкие слова. Однако штандартенфюрер уже совершенно потерял интерес к нему. Он вдруг со всей ясностью осознал, как жестоко ошибся в этом кретине. Как он вообще мог предложить кандидатуру этой мрази?.. И это он, д’Алькен, слывущий психологом и чуть ли не прорицателем!
Были мгновения, когда штандартенфюреру попросту захотелось выплеснуть остатки пива в лицо этой грязной русской свинье и уйти. Возможно, так и поступил бы, если бы не осознание того, что встреча все же проходит по личной просьбе Гиммлера.
– Не время расшаркиваться, генерал Жиленков, – брезгливо прервал д’Алькен его бесконечный монолог. – Не вре-мя! Спрашиваю со всей ответственностью: вы согласны возглавить Русское освободительное движение? Да или нет?
– Нет, – поспешно ответил генерал. И д’Алькен явственно почувствовал, что тот боится Власова, как сицилийский мафиози – своего «крестного отца». – Нет и нет. Прошу так и передать рейхсфюреру… При всем моем личном уважении к нему и вам, при всей благодарности за доверие.
– Это ваше окончательное решение?
– Поверьте, в эти страшные дни во главе движения может быть только Власов. Многие офицеры знают его еще по фронту, по довоенной службе, по обороне Москвы…
– Так я спрашиваю: – побагровел штандартенфюрер, – ваше «нет» – это ваше окончательное «нет»?!
Жиленков нервно побарабанил костяшками пальцев по столу. Не соглашаться с лестным предложением штандартенфюрера, одобренным к тому же всемогущим Гиммлером, казалось еще опаснее, чем вот так, за кружкой пива, решать судьбу генерала Власова и всего освободительного движения.
– Окончательное, – выдохнул он с таким стоном, словно умудрился выкрикнуть уже из могилы.
Д’Алькен облегченно вздохнул, как человек, сумевший довести до логического конца тяжелую, занудную миссию.
– Что ж, примем это к сведению. Думаю, за более подходящей кандидатурой дело не станет.
– Не хотелось бы, – промямлил Жиленков.
– Вас это уже не касается, генерал! – резко отрубил штандартенфюрер. – Лично вас это уже ни в коей мере не касается.
Допив пиво, д’Алькен старательно рассчитался с официантом, но только за свой обед, чем вызвал молчаливое негодование Жиленкова, уверенного, что его здесь потчуют как гостя.
– Лично вас, генерал Жиленков, все подробности этого дела уже не касаются, – зачем-то повторил штандартенфюрер, не обращая внимания на присутствие официанта, невозмутимо наблюдающего за тем, как русский горячечно извлекает из внутреннего кармана френча свой бумажник.
– Меня как одного из руководителей движения такие вопросы не могут не касаться, господин полковник, – впервые резко возразил Жиленков.
На улице было душно. Яркое июльское солнце буквально испепеляло всякого, кто оказывался под его лучами, и полковник с генералом сразу же почувствовали, как прекрасно было там, в полуподвальном прохладном зале ресторанчика.
Д’Алькену неприятно было осознавать, что этого русского кретина с генеральскими погонами, доставшимися ему по чистому недоразумению, придется везти в своей машине. Но все же он пригласил его сесть, напомнив шоферу, что тот должен будет отвезти господина генерала в Дабендорф.
– Если хоть кто-нибудь, хоть одна живая душа в штабе Власова…
– Никто и никогда, – упредил его Жиленков. – Разговор сугубо между нами.
– Тем более, что всякое разглашение явно не в ваших интересах, – процедил штандартенфюрер с такой угрозой в голосе, что генерал поневоле вздрогнул и выпрямился, словно новобранец перед фельдмаршалом.
7
«Это свершится сегодня, – зажав портфель между коленками, Штауффенберг достал из кармана носовичок и старательно вытер вспотевший лоб. Настоянная на сосновой хвое духота разъедала его в эти минуты точно так же, как кислота, которую он только что выдавил из ампулы в приемной начальника штаба Верховного главнокомандования вермахта, разъедает сейчас проволочку в его начиненной экзогеном[6] мине. Он очень остро ощущал течение уже даже не минут – секунд. Время и жара… подогреваемая страхом и волнением июльская жара. – И все же это свершится сегодня… Теперь я не отступлю, даже если придется погибнуть вместе со всеми…»
– Мы опаздываем полковник, опаздываем, – нервно поторопил его генерал-фельдмаршал Вильгельм фон Кейтель, чуть сбавляя шаг. Только увечность его коллеги, начальника штаба армии резерва, не позволяла выразиться более резко. Вначале полковник с опозданием прибыл к нему в штаб, затем, уже с улицы, вернулся в приемную, поскольку забыл там портфель с бумагами. Мало того, он умудрился забыть у него даже ремень!.. Что вы хотите, армия резерва! Даже такой боевой офицер, как Штауффенберг, проработав там каких-нибудь полмесяца, превращается в закоренелого разгильдяя.
– Так сложились обстоятельства, – пробормотал в свое оправдание фон Штауффенберг. Но тут же вспомнил о миссии, о той исторической миссии, с которой ему предстояла явиться в павильон, где проходило совещание, и лицо его приобрело надменный вид.
– Обстоятельства еще будут складываться, полковник.
О чем подумал Кейтель, говоря эти слова? Или, может, вообще ни о чем? Тот случай, когда мысли источает само Провидение?
– Вы правы: они еще только будут складываться.
В павильоне было чуть прохладнее, чем на улице. Однако даже кроны дубов, обычно спасающие окна от лучей палящего солнца, растеряли теперь свою тенистую благодать.
Проходя между двумя часовыми, Штауффенберг плотнее прижал к ноге портфель, инстинктивно опасаясь, как бы кто-то из них не вздумал задержать его или выдернуть портфель из рук.
Когда они вошли, полковник Бранит – приземистый широкоплечий крепыш лет сорока от роду – запнулся, умолк и удивленно взглянул вначале на них, потом на фюрера, потом вновь, почти с благодарностью, на Кейтеля и однорукого, незнакомого ему полковника.
Доклад Брандта о ходе боев в Галиции проходил слишком нервно и неровно. Гитлер уже дважды прерывал его, взрываясь не столько конкретными замечаниями, сколько нелепой патетикой, которую, возможно, и следовало бы не принимать близко к сердцу, если бы время от времени, в самых неожиданных местах доклада, Гитлер вдруг не обнаруживал удивительную, почти феноменальную память, помогавшую мгновенно вспоминать названия воинских частей, их принадлежность к той или иной армии, имена командиров и даже приблизительную численность, указанную в недавних фронтовых сводках.
– Мой фюрер, полковник фон Штауффенберг, начальник штаба армии резерва сухопутных войск. Из штаба Фромма, – почему-то счел необходимым уточнить Кейтель.
– Этот полковник мне уже известен, – холодно ответил Гитлер, осматривая обезображенное повязкой лицо, часть пустующего рукава, всю щуплую, но довольно стройную фигуру графа. – Он уже бывал здесь.
«А ведь не только фюрер, но и все, кто здесь находится, уже мертвецы, – мелькнуло в сознании Штауффенберга. – С сочувствием разглядывая меня, они и не догадываются, с каким сочувствием я смотрю сейчас на них, мертвецов».
– По какому вопросу доклад этого полковника? – неожиданно спросил Гитлер у Кейтеля.
– О создании специальных частей армии резерва из ополченцев, которым надлежит вместе с частями вермахта, оборонять населенные пункты, в случае, если…
– Понятно, Кейтель, – прервал его фюрер, поморщившись. Фельдмаршал всегда раздражал его тяготением к подробностям. – Продолжайте, полковник Брандт. Только четче, четче. Мы вызвали вас для того, чтобы вы нарисовали нам полную и совершенно реальную картину. Вы же отлично понимаете, что, теряя Галицию, мы впускаем русских в предгорье и на карпатские перевалы.
Кейтель чуть-чуть замешкался с выбором стула, и Штауффенберг шагнул к тому, который стоял ближе к фюреру, что в иное время было бы расценено как непозволительная вольность. Но теперь ему не было дела до того, как воспримет эту его субординационную бестактность фельдмаршал, который тоже через несколько минут окажется на том свете. Как и все остальные.
Обнаружив, что от фюрера его отделяет лишь полковник Брандт, Штауффенберг с некоторым холодком в сердце подумал о том, что ведь вместе с фюрером погибнет десяток других людей, чьи подчиненные, родственники и друзья никогда не простят их гибели.
«Ты думал только о гибели фюрера, забывая, что принесешь гибель и горе многим другим, невинным людям. Но это не должно остановить тебя. Не должно, – чуть не сорвавшись на крик, объявил себе Штауффенберг. – Не должно! Все! Механизм запущен. Берлин, вся Германия ждет условного сигнала и страшных вестей из “Волчьего логова”. Ты и прибыл сюда именно для того, чтобы эти вести были страшными».
8
Брандт все еще что-то там говорил о больших потерях, словно бы на каком-то ином участке фронта они были сейчас небольшими; о необходимости переброски в Карпаты новых частей, особенно егерских, способных быстро фортифицировать перевалы и закрыть горные долины. О ненадежности словацких частей. Об их крайней неблагонадежности…
– А как ведут себя украинские части? – нетерпеливо постучал карандашом по столу Гитлер.
– Украинские? – удивленно переспросил Брандт, сразу же выдавая свою неподготовленность в этом вопросе.
– Да, как они ведут себя? У меня есть сведения, что теперь они наконец поняли, кто их настоящий враг, и перестали нападать на подразделения вермахта.
– Мне кажется, это отдельный вопрос, мой фюрер. Его надо бы изучить. Я не могу сейчас говорить ни о численности соединений украинских националистов, ни об их активности. Знаю только, что нами дано указание передавать частям украинской повстанческой армии все трофейное оружие.
– Понятно, полковник, вы не готовы прояснить эту ситуацию, – недовольно швырнул карандаш на стол Гитлер.
Брандт что-то попытался сказать в свое оправдание, однако слова его уже весьма смутно доходили не только до фюрера, но и до Штауффенберга. Он взглянул на часы. Время его и всех присутствующих здесь неумолимо истекает. Ах, если бы он мог каким-то образом увести отсюда хотя бы Кейтеля, которого, несмотря на вздорность его характера, все же уважал за штабистский талант; или хотя бы начальника оперативного отдела генштаба сухопутных войск генерала Хойзингера[7]; или этого беднягу, полковника Брандта – фронтовика, по жесточайшей иронии судьбы нашедшего свою гибель в самом охраняемом, самом безопасном месте Европы – ставке фюрера…
Однако все это сентиментальные вопли души. У него остается не более семи минут.
«Или, может, ты собираешься взлететь под небеса в обнимку с фюрером?» – с издевкой заглушил он собственный страх, незаметно передвигая портфель с миной от задней ножки своего стула до массивной дубовой опоры стола. Оказалось, что буквально под ноги полковнику, но зато с той стороны, поближе к фюреру. Эта массивная стойка, весь этот похожий на толстую броню стол… Неужели он погасит взрыв? Выдержит? Не может быть такого. Мощность взрыва рассчитана специалистами.
– Мне нужно позвонить в Берлин, – шепчет Штауффенберр, наклонясь к фельдмаршалу Кейтелю. Тот морщится и с раздражением смотрит на графа. «Какие еще могут быть звонки у полковника, которого пригласили на доклад к фюреру?!» – изумленно восклицает фельдмаршал. Но делает это мысленно, одним только взглядом.
– Я вынужден выйти. Звонок в штаб… – зачем-то сообщает Штауффенберг уже завершившему доклад Брандту. Словно этот фронтовой полковник вдруг может хватиться его. Но Брандт промокнул платочком вспотевший висок и даже не взглянул на Штауффенберга.
Согнувшись, прячась за его спиной, заговорщик попятился к выходу, потом резко повернулся и еле сдержал себя, чтобы не выбежать за дверь. Сердце его бешено колотилось. Обе руки – даже та, оторванная кисть – дрожали. Он явственно ощущал это, оторванная ладонь взмокла от пота и мелко, предательски дрожала.
Оказавшись на улице, граф вдруг почувствовал, как ноги его в коленках подкосились от страха. В ужасе оглянувшись на входную дверь, он скорым шагом, срывающимся на панический бег, бросился к находившейся здесь же, за небольшой рощицей, посреди которой естественным образом замаскированный огромными деревьями ждал своего исторического часа павильон для совещаний, стоянке. Полковник потерял ощущение времени и ему казалось, что взрыв должен произойти с секунды на секунду, – еще до того, как он достигнет машины, в которой его ждали водитель и адъютант фон Хефтен.
Обер-лейтенант выскочил из машины, открыл дверцу, словно спасая Штауффенберга от погони, буквально затолкал его в салон рядом с водителем и, плюхнувшись на заднее сиденье, крикнул:
– Поскорее на аэродром. У полковника срочный вылет.
Мотор был заведен и водитель подготовлен к тому, что после доклада у фюрера шефу адъютанта понадобится как можно быстрее добраться до ожидавшего его самолета, чтобы попасть на важное совещание в Берлине. Все это было объяснено ему как бы между прочим, чтобы не вызвать даже искры подозрения. Но унтер-офицер привык к тому, что здесь все всегда смертельно торопятся: из ставки на аэродром, с аэродрома – в ставку.
А в это время в павильоне, где шло совещание, создалась странная ситуация. Свой доклад генерал Хойзингер закончил очень быстро – он всегда отличался предельным лаконизмом. Не задавая ему никаких вопросов, Гитлер, заглянув в лежащую перед ним бумажку, проговорил: «Штаб армии резерва сухопутных войск. Полковник Штауффенберг» и лишь затем обратил свой взор на пустой стул, скользнул взглядом по Брандту, Кейтелю…
Брандт нервно передернул ногами, словно это он виноват в том, что Штауффенберг исчез, и вдруг ощутил, что носок его сапога уперся во что-то мягкое.
«Портфель Штауффенберга», – понял он и, мгновенно наклонившись, переставил его по другую сторону стойки, подальше от фюрера, еще и затолкал под стол.
Одно движение руки.
Одно машинальное движение человека, избавляющегося от мелкого неудобства. Не будь его и, возможно, весь ход истории Германии, весь ход мировой истории пошел бы совершенно по иному пути. И уж в любом случае – по несколько иному сценарию.
– Где Штауффенберг? – сухо, настороженно спросил фюрер. – Я спрашиваю, где начальник штаба армии резерва, который должен докладывать?
Кто-то из сидевших здесь офицеров бросился в фойе, чтобы разыскать недисциплинированного полковника. Но Кейтель, осознавая, что это прежде всего его вина, он позволил графу оставить совещание ради какого-то там звонка в Берлин, лично поднялся и направился к выходу.
Фельдмаршал помнил, что Штауффенберг мог звонить только из его, Кейтеля, резиденции, и потому лучше других знал, где искать полковника. Он уже преодолел фойе, когда мощная взрывная волна буквально смела его с ног и швырнула о стену.
Падая, Кейтель успел выставить вперед руки, предохраняясь от удара, и, оказавшись у самой стены, он тем самым спасся от части обрушившегося в другом конце фойе потолка. Он же и первым пришел в себя. Прорываясь через тучи пыли, обломки стены и дверей, он ворвался в зал для совещаний:
– Где фюрер?! Что с ним?!
Переступая через чьи-то тела, Кейтель добрался до лежащего у края стола полковника Брандта и, еще не зная, жив он или мертв, ухватился за свисающий с массивной стойки край стола. Именно из-под этого обломка показался обожженный затылок фюрера, а затем его покрытое копотью и пылью до неузнаваемости искаженное лицо.
Подхватив Гитлера под мышки, Кейтель буквально выволок его из зала, а затем из фойе, в ужасе оглядываясь на руины павильона и с секунды на секунду ожидая следующего взрыва. Почему-то его упорно преследовало предчувствие, что взрыв должен быть не один.
– Где Штауффенберг?! – спросил офицера, испуганно выбежавшего из штаба. Словно поиски беглого полковника значили сейчас больше, чем извлечение из-под обломков полуразрушенного здания людей. – Немедленно разыщите полковника Штауффенберга.
Но вместо того, чтобы что-то ответить или броситься назад, к зданию штаба, майор оцепенело уставился на хромающего и находящегося в каком-то полуобморочном состоянии фюрера. Изорванный китель, брюки, превратившиеся в грязные лохмотья, исцарапанное пятнистое лицо. Явление Христа поразило бы майора-штабиста меньше, чем подобный вид вождя нации.
– Господи, – испуганно пробормотал он, – Что же это? Как же такое может быть?
– Может, – прохрипел в ответ фюрер, глядя на офицера налившимися кровью глазами.
9
Взрыв показался Штауффенбергу настолько мощным, что в какое-то мгновение ему почудилось, будто вместе со столбом пыли, осколками и пламенем в воздух вздымается вся та стена леса, что подступает к воротам наиболее охраняемой зоны «А».
От неожиданности водитель бросил руль, в ужасе посмотрел на полковника и вновь успел вцепиться в баранку только тогда, когда передок машины чуть было не врезался в придорожную сосну.
– К воротам, водитель, к воротам! – сквозь сцепленные зубы прорычал Штауффенберг, и единственный глаз его покрылся замутненной пленкой.
– Что там? Что произошло?! – выскочил из будки охранника дежурный офицер.
– Об этом вы узнаете, когда вам будет положено, – резко ответил Штауффенберг, не выходя из машины, а лишь приоткрывая дверцу. – Я – начальник штаба армии резерва. Немедленно поднимите шлагбаум и пропустите машину.
– Но что это за взрыв?
– Сейчас не время выяснять. На аэродроме меня ждет самолет! – взрывается теперь уже полковник. – Это приказ фюрера, – как-то само собой срывается у него из уст. Он и не помышлял прикрываться авторитетом того «дьявола во плоти», которого только что отправил к другому контрольно-пропускному пункту, именуемому вратами ада.
Обер-лейтенант растерянно смотрит то на Штауффенберга, то на оседающий султан взрыва. Он уяснил, что произошло что-то страшное. Что-то такое, что никак не могло и не должно было произойти. А тут еще этот полковник, спешащий на аэродром, чтобы отбыть в Берлин… Его отъезд, конечно же, как-то связан со страшным происшествием в ставке. Но каким образом?
– Вы что, не поняли меня? – еще внушительнее орет Штауффенберг, выхватывая пистолет. – Немедленно прикажите пропустить машину! Неужели не видите, что там происходит?!
– Да, вижу… – омертвевшим голосом соглашается обер-лейтенант. Приказав солдатам открыть ворота, он совершенно забыл, что продолжает стоять у передка машины.
– Объезжай его, объезжай, – вполголоса подсказывает водителю фон Хефтен.
Только сейчас унтер-офицер наконец проникается важностью этой поездки. Не задавая лишних вопросов и не раздумывая, он сдает чуть назад, резко объезжает дежурного офицера и буквально протискивается в образовавшийся в воротах просвет.
– Теперь главное, чтобы на месте оказался Фельгибель, – откидывается Штауффенберг на спинку сиденья и облегченно вздыхает.
– Он на месте, – уверенно заявляет фон Хефтен, немного успокаиваясь. Были мгновения, когда ему казалось, что все – провал! Он готов был выскочить из машины и броситься в лес, чтобы потом попытаться каким-то образом вырваться из ставки. Или по крайней мере спокойно пустить себе пулю в лоб, поскольку твердо решил для себя: не попадаться, не утруждать своим присутствием и упорством следователей гестапо. – Там, впереди, еще один контрольно-пропускной, – предупреждает он.
– Ворота Южной зоны, – беззаботно подтверждает водитель. Он единственный в этой машине чист и безвинен, как ангел. – Но если выпустили из зоны «А», там тоже выпустят.
«А вдруг он догадывается, кого везет в своей машине, – закрадывается у полковника смутное пока еще подозрение. – В таком случае он действительно святой».
Они слышали, как взвыли сирены слишком запоздалой тревоги. И, оглянувшись, фон Хефтен увидел через заднее стекло, что позади них солдаты охраны преграждают дорогу лежавшими доселе у ее обочины рогатками и мотками колючей проволоки.
– Выезд всех машин из ставки строго запрещен! – рявкает коренастый пышнощекий лейтенант, выскакивая из дежурки и на ходу напяливая на себя рогатую каску, сразу же превращающую его в некое подобие не до конца обмундированного рыцаря. – Объявлена тревога. Приказано задерживать всех въезжающих и выезжающих.
– Мне известно это лучше вас, лейтенант. Но у меня задание фюрера, с которым я срочно должен вылететь в Берлин, – поспешно оставляет машину Штауффенберг. – Мой отъезд связан именно с этим происшествием.
«Здесь нас не пропустят, – с убийственной рассудительностью говорит себе Хефтен, расстегивая кобуру. – Мы потеряли время. Те две-три минуты, что мы провели у КПП зоны «А», – вот время нашего спасения, которое уже не вернуть».
Немного помедлив, он тоже вышел из машины, но водителю приказал держать мотор заведенным. Пилот ждать не станет.
Сейчас он должен быть рядом с полковником. Лейтенант и двое солдат против них двоих. Ах да, еще водитель… Но все же можно рискнуть. Фон Хефтену кажется, что главное – вырваться из ставки. Так заключенному, оказавшемуся в лагере смерти, кажется, что там, за колючей проволокой, мир ждет его с распростертыми объятиями.
Фон Хефтен вошел в караулку в ту минуту, когда Штауффенберг уже напропалую требовал связать его с комендантом «Волчьего логова».
«Только не это, – почти шепчет Хефтен, пытаясь остановить полковника. – Только не коменданта».
Однако, уступая напору полковника, лейтенант уже набирает по внутреннему телефону нужный номер. И адъютант смиряется. Он понимает, что полковник блефует. Но также понимает и то, что беседа с комендантом – их последний шанс. Если в павильоне все погибли, или пусть даже половина тяжело ранена, – там еще вряд ли выяснили, кто ушел до взрыва, а главное, кто подложил взрывчатку.
– Коменданта нет, – едва шевелит задеревеневшими губами лейтенант. – Говорят, это взорвалась мина в зале совещания, в котором находился фюрер. – Он в ужасе смотрит на полковника и его адъютанта. – Комендант на месте происшествия.
– Тогда с кем вы говорите? – вырывает из его рук трубку граф Штауффенберг. – Алло, здесь начальник штаба армии резерва полковник Штауффенберг. С кем я говорю?
– Заместитель коменданта, подполковник Гельнер. Нам приказано…
– Я знаю, что вам приказано, подполковник, – прерывает его Штауффенберг. – Вы знаете меня, Гельнер? Это я, Штауффенберг! – Господи, так может повезти только раз в жизни! Полковник совершенно не был знаком с комендантом. Но Гельнера, Гедьнера-то он знал еще по своему предыдущему месту службы. – У меня задание фюрера. Да-да, в связи с тем, что произошло. Мне приказано срочно вылететь в Берлин, чтобы там были приняты меры. Надеюсь, вы понимаете, о чем идет речь?!
– Но мне нужно решить этот вопрос с комендантом.
– Вам нужно немедленно приказать начальнику поста, чтобы он пропустил машину – вот что вам нужно, Гельнер! Какие еще доводы вам приводить, чтобы вы выполнили свой долг, свою прямую обязанность? Я передаю трубку начальнику поста и еду на аэродром.
Еще несколько секунд лейтенант то ли ждет, приложив трубку к уху, решения подполковника, то ли выслушивает его наставления.
– Если это приказ, который отменяет полученный мною ранее… – наконец говорит он, все еще недоверчиво посматривая на Штауффенберга.
– Да, он отменяет, – прорывается приглушенный расстоянием и мембраной голос Гельнера.
– В таком случае я выполняю ваш приказ.
До самого аэродрома Штауффенберг ехал молча, творя про себя молитвы. Он понимал, что вырвался из Южной зоны только чудом, поскольку никакая иная машина в течение этого дня с территории ставки выпущена наверняка не будет. Но в то же время он лихорадочно оглядывался, не видно ли погони.
К счастью, никаких особых указаний пилот связного «Хейнкеля-III» не получал. Оказавшись на борту, Штауффенберг велел ему немедленно взлетать и брать курс на Берлин.
– В ставке, кажется, что-то произошло? – неуверенно спросил капитан военно-воздушных сил, прежде чем зайти в свою кабину.
– В ставке всегда что-нибудь да происходит, капитану, – назидательно объяснил ему граф, твердо решив, что если пилот откажется вылетать, они с адъютантом заставят его сделать это под дулами пистолетов.
Когда самолет наконец оторвался от земли, полковник почувствовал себя так, словно он сам уже вознесся в небеса, поскольку душа его взлетела вместе с душами всех погребенных им под развалинами павильона. Черное чрево самолета показалось сумрачным залом часовенки посреди старинного кладбища. А на двери, ведущей в кабину пилота, явственно просматривалось распятие. Штауффенберг едва удержался, чтобы не пасть перед ним на колени.
– Под нами Растенбург, – прервал его погружение в мир привидений адъютант фон Хефтен. – Знать бы, что там сейчас происходит – в Берлине и вообще в мире.
– Как-никак прошло полчаса. Ну-ка поинтересуйтесь у пилота. Должна же у него быть радиосвязь с землей.
Фон Хефтен, пошатываясь, идет к кабине пилота, но уже через минуту возвращается и удивленно пожимает плечами.
– Даже предположить не мог, что у него вообще нет рации. Он сказал, что до Берлина еще чуть более часа лета и что никакой связи с аэродромом у него нет. Вы представляете себе, господин полковник, как можно летать под военным небом, не имея радиосвязи?
– У меня страшное предчувствие, фон Хефтен.
– Что нас арестуют? – садится на свое место рядом с полковником обер-лейтенант. – Сразу же, как только приземлимся.
– Не только относительно ареста.
– Что не сработает другое радио, генерала Фельгибеля?
– Пока что я не могу понять, с чем именно оно связано. Но у меня пред-чув-ствие, обер-лейтенант. Которое, к сожалению, крайне редко подводит меня. Если только речь идет о крупных неприятностях.
Фон Хефтен непроизвольно окинул взглядом изувеченную фигуру полковника. Большего доказательства правдивости его предчувствий не требовалось.
10
Заместитель командующего армией резерва генерал Ольбрихт как можно спокойнее взглянул на часы и, отметив про себя, что после «часа X» прошло уже более пяти минут, приказал находящемуся здесь же, в кабинете, адъютанту срочно соединить его с начальником службы связи Верховного главнокомандования вермахта.
Пока тот пробивался до узла связи «Вольфшанце», Ольбрихт прохаживался мимо сидящих вполоборота к нему генералов, один из которых, генерал-полковник Бек, согласно их плану, должен был принять на себя обязанности президента новой Германии; другой – Геппнер – возглавить армию резерва. Если операция «Валькирия» пройдет успешно, то уже через несколько часов оба эти господина окажутся его, Ольбрихта, начальниками.
Подумав об этом, Ольбрихт снисходительно хмыкнул про себя. В подготовительной суете организаторы забыли определиться лично с ним, Ольбрихтом. Не то чтобы совсем, но как-то слишком уж неясно.
Оно, конечно, не время сейчас делить посты и портфели, как бы не пришлось разбираться с висельничными петлями. И все же… В свои шестьдесят четыре, при тех заслугах, а также усилиях и риске, которые выпали на его долю в этом святом заговоре генералов, он мог бы спокойно претендовать и на любой из этих двух постов. Или пост главнокомандующего сухопутными силами, который почему-то предопределен фельдмаршалу Витцлебену.
– На связи генерал Фельгибель, – слышится из адъютантской голос дежурного офицера.
Ольбрихт метнулся к столу, схватил трубку.
– Здесь генерал Ольбрихт. Что там у вас происходит, генерал? До нас дошли слухи…
– Они правдивы, – голос Фельгибеля сухой, взволнованный, и в какие-то мгновения Ольбрихту кажется, что он дрожит. – Совершено покушение на фюрера. Об этом, очевидно, будет официальное сообщение, – на всякий случай подстраховывается начальник службы связи, чтобы подслушивающие воспринимали его слова как официальный ответ на запрос штаба армии резерва, а не как беседу двух заговорщиков. – Взрыв был очень мощным. Очень…
– А что фюрер?
– Хотите спросить, не погиб ли он? К счастью, он жив и находится в безопасности.
Худощавое лицо Ольбрихта покрывается испариной. Забыв о платочке, он прямо ладонью вытирает глубокие, чуть ли не до темени, залысины, и нервно подергивает плечами.
– Вы уверены, что фюрер в безопасности? Что он жив, и что?..
Бек и Геппнер медленно, словно лунатики, поднимаются со своих мест и почти на носках приближаются к столу, за которым стоит заместитель командующего армии резерва, словно хотят услышать ответы Фельгибеля собственными ушами.
– Я бы, скорее всего, ответил, что да, уверен. Но сейчас здесь слишком много людей, все взвинчены и никто ничего толком не знает. Если позволите, я позвоню вам через несколько минут.
– Мы уже ждали твоего звонка, Фриц, – только сейчас, несколько опрометчиво, напоминает ему Ольбрихт о том, что он сам обязан был связаться с ним и произнести хотя бы ту одну-единственную фразу, которая была ими обусловлена, – «Штиф приведен в движение». Именно она послужила бы сигналом к проведению всей операции «Валькирия». – И будем ждать дальше.
Ольбрихт положил трубку и, сдернув с переносицы невзрачные мутноватые очки в круглой металлической оправе, принялся усердно протирать их, стараясь при этом не встречаться взглядом со своими сообщниками.
– Не кажется ли вам, что если бы фюрер погиб, Фельгибель уже знал бы об этом? – сдавленным голосом говорит Геппнер.
– Но взрыв произошел, Фельгибель подтвердил это, – возражает Бек. Он всегда выглядел несколько решительнее Геппнера.
– Из этого ничего не следует, – упрямствует Геппнер.
Еще осенью сорок первого Геппнеру прочили большое будущее и даже ставили его в один ряд с Гудерианом и Манштейном. Но уже зимой, спасая свою 4-ю танковую армию, где-то там, в русских снегах, он отдал приказ о ее отступлении, не получив на то соизволения фюрера. И был отправлен в отставку без права ношения формы. Поговаривали, что Гитлер даже грозился вообще разжаловать его до рядового и отправить в окопы, но потом поддался на уговоры Кейтеля и смирил свой неправедный гнев. Вот тогда Геппнер сник. Тогда и затаил ненависть к Гитлеру, которая со временем привела его в стан «валькиристов».
– В любом случае нам следует действовать, – еще более жестко утверждает свою решительность Бек, тоже в свое время изгнанный. Свою непонятную многим решительность он доказал, еще будучи в должности начальника штаба вермахта, когда, задолго до этой войны выступил против решения фюрера оккупировать Прагу. За что и получил насмешливо-презрительную кличку «Пражский Миротворец». Однако теперь, когда Гитлер отправлен к праотцам и придется вести трудные переговоры с Англией и Америкой, его «пражское миротворчество» представлялось очень даже кстати.
В томительном ожидании прошло пять минут, десять. Фельгибель не звонил. И чем дольше длилось его молчание, тем больше в сознание Ольбрихта закрадывалось подозрение, что он уже никогда не позвонит сюда: то ли окончательно струсил, то ли уже арестован.
Приказав адъютанту находиться у телефона в ожидании звонка Фельгибеля, Ольбрихт заявил, что идет к Фромму.
– Может, нам пойти всем вместе? – предлагает Бек.
– Я против, – сразу же предупреждает Геппнер. И Бек понимает его. Во время беседы с командующим Геппнер чувствовал бы себя слишком неловко. Ведь Фромм не догадывается, что перед ним человек, который через час должен занять его кабинет.
– Я постараюсь убедить Фромма. Если же нет… – Ольбрихт не договаривает, но оба генерала почему-то переводят взгляды на кобуру его пистолета.
– Если он заупрямится, нам придется действовать самим, – смягчает их решимость Ольбрихт.
11
Фромм ждал его появления. Как только Ольбрихт вошел, командующий весь напрягся и выжидающе уставился на него. До сих пор Фромм держался как бы в стороне от заговорщиков. То есть он, вроде бы, поддерживал их, нo в то же время не давал никаких оснований для уверенности в нем. Вот почему каждый раз, когда доходило до определения действий командующего, путчисты вынуждены были оговаривать: «Если Фромм не примкнет к нам, его придется изолировать, заменив Геттером».
– Что-то я не вижу Штауффенберга. Нам важно знать, одобрил фюрер план создания новых частей из ополченцев или нет, – первым заговорил командующий, давая понять, что его интересует сейчас только это.
«Как же он заботится о своем алиби! – недовольно поморщился Ольбрихт. – Наверняка уже продумал как минимум пять версий объяснения своего бездействия на случай провала. “Да, оказывается, заговорщики действовали под крышей штаба армии резерва. Но причем здесь я?”»
– Мы тоже пока не видим здесь полковника Штауффенберга, господин командующий, – воинственно отвечает Ольбрихт. – Но для того, чтобы вернуться из «Волчьего логова», нужно время. И стоит ли нам терять его? Только что я беседовал с генералом Фельгибелем. Он передает, что покушение на фюрера состоялось. Вся ставка в панике. Больше нам ждать нечего. Мы просили бы вас, господин генерал-полковник, отдать подчиненным частям приказ о действиях согласно плану «Валькирия».
– Подождите вы со своим планом «Валькирия», Ольбрихт… – вырастает из-за стола гигантская фигура командующего. – Кто подтвердил, что покушение действительно состоялось, – да, нет? – Лицо командующего становится пепельно-серым, а пальцы он сжимает в кулаки, возможно, только для того, чтобы не выдавать дрожи. Однако Ольбрихт старается не замечать этого. Он и сам пребывает в адском напряжении.
– Это подтвердил сам начальник службы связи Верховного командования вермахта генерал Фельгибель. Он сейчас там, в ставке фюрера. И кто, как не он…
– Заверения Фельгибеля – еще не доказательство. Есть официальное сообщение о том, что фюрер погиб? – стоит на своем командующий армией резерва. – Я спрашиваю: да, нет? А мне нужны четкие, убедительные доказательства.
– Но вы можете сами связаться со ставкой и проверить.
– Именно это я и намерен сделать. И пока не услышу подтверждения из уст самого Кейтеля…
– Кейтель был на совещании. Его могло спасти только чудо.
– Чудо – это как раз для Кейтеля, – медленно двигает массивной, похожей на жернов, нижней челюстью Фромм; Ольбрихт пытается понять сказанное им, но не может.
Все проясняется буквально через минуту. Ольбрихт потрясен. Кейтель отвечает сразу же. В иное время до него почти невозможно дозвониться, невозможно выловить в штабных лабиринтах ставки, а тут вдруг…
– Господин фельдмаршал, – торжественно-заискивающим тоном начинает Фромм. – Я хотел бы выяснить, правда ли, что?..
– Это произошло, Фромм. Это произошло! – разъяренно кричит в трубку начальник штаба Верховного командования вермахта. – Какие-то грязные подонки, предатели рейха, осмелились совершить покушение на фюрера. Но вы не должны выполнять никаких приказов, кроме тех, что поступают из ставки. Вы поняли меня, Фромм? Мы пока не знаем, кто они. Но очень скоро заговорщики выдадут себя. Кое-какие подозрения уже имеются. Поэтому никаких приказов, которые могли бы изменить ситуацию, в столице.
– То есть фюрер жив?
– Жив и совершенно невредим. Сообщите об этом всем офицерам своего штаба. Важно, чтобы они знали. Он, конечно, получил несколько царапин, слегка оглушен… Но мы-то, военные, понимаем, что это чепуха. Да, еще четыре человека тяжело ранены. Один полковник, кажется, убит. Или умер уже в госпитале.
– Значит, господь по-прежнему хранит нашего фюрера, – громыхает в трубку Фромм, победно, по-садистски, ухмыляясь Ольбрихту. И тому кажется, что, положив на рычаг трубку, командующий тотчас же возьмется за пистолет.
– Кстати, здесь был ваш начальник штаба полковник Штауффенберг. И, как только что выяснилось, он куда-то внезапно исчез. Причем за несколько минут до взрыва. Прямо из зала совещания. Вам известно, где он сейчас находится?
– Никак нет.
– Вы точно знаете, что он еще не появлялся у вас?
– Я спрошу у присутствующего здесь моего заместителя. Генерал, вам что-либо известно о местонахождении полковника Штауффенберга? – спрашивает он, обращаясь к Ольбрихту, но не отнимая трубки от уха.
– Пока что нет.
Фромм повторяет его ответ фельдмаршалу.
– Как только он появится, – грозно повышает тон Кейтель, – примите меры к тому, чтобы задержать его. Исчезновение полковника кажется нам достаточно подозрительным. Вот так, генерал.
«Это все! – понимает Ольбрихт. – Провал. Все мы погибли. Как же это могло случиться?»
Связь прервалась, но Фромм еще какое-то время стоит у аппарата с трубкой в руке и с уничтожающей презрительностью смотрит на своего заместителя.
– Так что вы мне здесь рассказываете, Ольбрихт? Фюрер, говорите, мертв? Или, может быть, хотите убедить меня, что это Кейтель лжет? Они даже знают, чья это работа – ваш взрыв. Интересно, как вы будете выпутываться сейчас из всего того кавардака, который устроили здесь – да, нет?
«Уже сейчас он дает понять, что не имеет ничего общего с нами, – похолодело в висках у Ольбрихта. – Сколько же вас сейчас обнаружится, таких вот… предателей!»
Ольбрихт поворачивается и, сутулясь, еле шевеля ногами, словно сам только что оказался в эпицентре взрыва, повергшего в смятение всю ставку фюрера, бредет к двери. Но у края стола останавливается и медленно поворачивается к командующему.
– Если говорить честно, я не уверен, что Кейтель сказал всю правду. Возможно, они там, в ставке, всего лишь выигрывают время, чтобы взять под контроль основные рычаги власти.
– И поэтому скрывают от нас? – уже спокойнее уточняет Фромм.
– Естественно. Это в их интересах.
– Но какие у вас доводы, кроме собственных сомнений? И попомните меня, чем скорее этот одноглазый окажется на том свете, тем меньшей кровью отделаетесь все вы. Если только вы тоже замешаны в этом заговоре, генерал Ольбрихт, – неожиданно указывает он путь к спасению, приглашая Ольбрихта под свое, покровительственное крыло. – В чем я очень сомневаюсь.
– Замешан.
– Вот как?
– И вы прекрасно знаете об этом. Замешан, как замешаны и вы.
– Прекратите свои глупые шутки, Ольбрихт.
– Даже если окажется, – не дает ему договорить Ольбрихт, – что фюрер действительно остался в живых, нам все равно следует действовать. Мы не одни. Нас поддержат Роммель, Штюльпнгель, Клюге. В нашем распоряжении находится несколько военных училищ и частей в самом Берлине… Поймите, господин Фромм, если мы упустим время, то время упустит нас. Хотя речь сейчас идет уже не о нас – о спасении Германии.
Фромм самодовольно хмыкает и по-наполеоновски скрещивает руки на груди.
– Поскольку это разговор тет-а-тет. Только из уважения… Вам известны были мои условия. Теперь, очевидно, что вы, то есть ваши дружки, опять напортачили. Этот ваш трусливый циклоп, из-за которого вы, как помнится, уже дважды поднимали войска по тревоге… да, нет? Как только вы могли полагаться на это ничтожество?
– Не смейте так говорить об этом человеке!
– Как вы могли положиться на это ничтожество, Ольбрихт? – ожесточился Фромм, грохая кулаками по столу. – Вот чего я не могу понять. Обо всем остальном я попросту не слышал.
Несколько минут Ольбрихт угрюмо молчал. В душе он уже готов был согласиться с Фроммом. Он помнил, как долго Штауффенберг решался, как, пронося взрывчатку в зал совещания, трусливо возвращался с ней сюда, в штаб. Но даже если он, Ольбрихт, взберется сейчас на стол командующего и, стоя на нем, провозгласит перед всеми сотрудниками, что Штауффенберг негодяй и последнее ничтожество… Что от этого изменится?
– Господин командующий, сейчас не время… Многое зависит лично от вас. Все равно ведь ваше участие будет определено. Так не лучше ли сейчас, пока не поздно, действовать более решительно?
– Я уже сказал, генерал Ольбрихт! – побагровел Фромм. – Если только дело дойдет до… Я не только не знал о подготовке покушения, но и вас, лично вас, тоже не знал!
12
Муссолини летел на встречу с Гитлером. Арест офицерами королевской гвардии, скитания по местам заключения, наконец, похищение, совершенное с вершины Абруццо диверсантами Скорцени, – все эти события, сокрушившие столь старательно создаваемый им образ великого дуче, психологически надломили бывшего премьер-министра Италии. А первые дни пребывания в Германии на правах то ли бежавшего из тюрьмы уголовника, то ли политического эмигранта, деликатно именуемого «яичным гостем фюрера», еще и показались Муссолини оскорбительными. Да, оскорбительными, хотя никакой вины в этом ни фюрера, ни кого бы то ни было из германских политиков не было.
Самолет пролетал над Австрией, и дуче мог видеть вершины Восточных Альп; голубовато-зеленые чаши озер, лазурево поблескивающих посреди горных лугов; извилистые вены горных речушек, самозабвенно устремляющихся к беспокойному предгорному Инну[8]…
Муссолини специально попросил пилота, чтобы он держался как можно ниже, что позволяло ему осматривать с подоблачной высоты все то, что еще оставалось в его владении на севере Италии; еще раз пройтись взглядом по территории его несостоявшейся империи, по которой в последнее время он так жадно рыскал с помощью самых крупномасштабных, предоставленных ему штабом обергруппенфюрера СС Вольфа[9] карт.
– Было бы удобнее, если бы наша встреча проходила здесь, в Берхтесгадене, – пожаловался Муссолини склонившемуся к нему личному секретарю. Он прибывал в ставку фюрера налегке, без дипломатической свиты и протокольной прислуги. Не то время сейчас, чтобы устраивать помпезные выезды к соседним правителям, не то…
– Но Гитлер, говорят, надолго перебрался в Растенбург, чтобы быть поближе к фронтам. К тому же «Волчье логово» лучше подготовлено к налетам авиации противника и надежнее охраняется.
– А мне вот приходится тащиться к нему через всю Европу. И добро бы – в Берлин.
Секретарь, он же личный телохранитель дуче, молчаливо склонил голову, как бы скорбя по безвременно утраченному его покровителем самолюбию. В другие времена, по которым так грустит теперь даже Гитлер, он, Муссолини, возможно, еще и подумал бы, следует ли наносить визит при условии, что ему не будет оказан прием, достойный вождя Италии. Однако в те времена Гитлер тоже не стал бы принимать его в каком-то затхлом бункере, теряя при этом возможность продемонстрировать всей Европе, что, невзирая ни на что, ось «Рим – Берлин» существует, а мощь двух стран способна противостоять…
Впрочем, что осталось от этой мощи и кому она способна нынче противостоять, если американцы уже заняли половину его несчастной, раздираемой гражданской войной Италии?
Вершины Альп остались позади, и теперь под крылом самолета медленно таяли в белесой дымке испещренные коричневатыми крышами замков и крепостей да пришпиленные к небесам остриями сборов небольшие, голубовато-зеленые равнины Баварии. Всматриваясь в них через запотевший иллюминатор, Муссолини думал сейчас о том же, о чем верноподданнически страдал за него секретарь. Ситуация на севере Италии представлялась таковой, что, возможно, через месяц-другой ему вновь придется искать спасения в Германии, в ставке своего последнего, единственного союзника. И тогда «Вольфшанце» окажется пристанищем сразу двух вождей.
Не хотелось бы Муссолини дожить до этих дней, не хотелось бы. Но англо-американцы уже близко. Король и маршал Бадольо тоже давно готовы растерзать его беспомощную «армию». Но всего опаснее представлялись ему прокоммунистически настроенные партизаны, отрядов которых становилось в горах все больше и больше.
Конечно, Муссолини был рад, что фюрер все еще принимает его как главу государства, хоть как-то считается с ним. В то же время он понимал всю условность договоренностей, которые будут достигнуты в «Вольфшанце», поскольку Германия сама находится на пороге краха – военного, экономического, политического.
К тому же дуче неприятно шокировало само идиотское название ставки, в которой будет происходить их встреча. Он представлял себе, с какой иронией будут читать его макаронники в римских газетах о том, как дуче и фюрер, забравшись в «Волчье логово», о чем-то там якобы договаривались. Уж не о том ли, в какое логово забиться, когда станет ясно, что обе их империи окончательно рухнули?
«Три тысячелетия нашей истории позволяют нам, итальянцам, с величественным равнодушием воспринимать доктрины, существующие по ту сторону Альп, – неожиданно вспомнились ему собственные, преисполненные цезарского величия слова, сказанные в одной из речей еще в те, довоенные времена, когда он готовился к великой войне за Африку. Когда, еще предвкушая победу в Абиссинии, помышлял о превентивной войне против Англии, а газеты Италии даже позволяли себе откровенно антигерманские публикации, готовя общественное мнение к военному конфликту с Германией на стороне Австрии. – …Доктрины, разработанные потомками тех людей, которые в дни Цезаря, Вергилия и Августа еще не знали грамоты». И все это о германцах!
Муссолини уже не мог припомнить этот свой пассаж в дословном изложении, но произнесено было именно в таком духе. Если Гитлеру решились пересказать его слова, он, очевидно, воспринял их как оплеуху. Но ведь наверняка не пересказали. Пощадили имперское величие фюрера великой Германии, распространявшееся к тому времени уже по обе стороны Альп.
Зато ему, Муссолини, немедленно докладывали о каждом политическом шаге, о каждом высказывании Гитлера относительно Италии и ее дуче. Особенно дуче. И были времена, когда фюрер откровенно лебезил перед ним. Как тогда, когда решался вопрос о Рейнской области[10] или когда Гитлер побаивался слишком глубоко втягиваться в гражданскую войну в Испании и решительность пришлось проявлять итальянским генералам.
– Мы уже рядом с Судетами, – приблизился к нему секретарь, успевший до этого заглянуть в пилотскую кабину. – Сейчас пилот сменит высоту, побаивается, как бы в небе не появились русские истребители, постоянно околачивающиеся над соседними Карпатами.
– Сколь высоко ни забирались бы пилоты, вознестись в небеса во время этого полета нам не суждено, – заклинающе проговорил дуче и, сняв пилотку, принялся обмахиваться ею, думая при этом о чем-то своем. Взгляд его остекленел, губы едва заметно шевелились, вскинутый подбородок принадлежал уже не изгнаннику, нашедшему себе приют на забытых Богом берегах озера Гарда, а дуче, наследнику славы величайших римских императоров.
– Вы правы, синьор Муссолини, вознестись нам уже не дано, – поддался влиянию его угасающего величия секретарь.
«Интересно, – подумал Муссолини, совершенно забыв о существовании и секретаря, и сидевших позади него двух министров. – Перевез ли Гитлер в свой бункер мой бюст, который стоял в его рабочем кабинете в Коричневом доме? Прекрасный, великолепной работы бронзовый бюст».
Узнав, что, принимая важнейшие решения, касающиеся судеб Европы, фюрер лицезреет его бюст, Муссолини даже не возгордился, а воспринял это как дань справедливости. В конце концов, фашизм как общечеловеческая идея зарождался не в Берлине, а в Риме. И мысленные взоры всех оплодотворенных этой идеей в любой точке мира обращены все же не к Берлину, а к первоисточнику.
Те несколько минут, пока они подлетали к Висле, Муссолини сидел, бездумно погрузившись в состояние небытия. Раньше были целые недели, в течение которых он не в состоянии был унять свою буйную фантазию и клокочущую энергию. Какой потрясающей была тогда жизнь, как сладостно было, сидя в резиденции, обдумывать завтрашние выступления, приказы, приемы… Ранним утром он уже лихорадочно диктовал тексты, а поздним вечером вел беседы с генералами, планируя грандиозные военные операции, которые, по его замыслу, должны были вернуть Италии военный гений Древнего Рима.
Другое дело, что, кроме всего этого, его еще и хватало на ночные уличные вылазки, во время которых он инкогнито флиртовал с римскими проститутками. И даже близкие знакомые делали вид, что не узнают его из-за глубоко надвинутой на глаза шляпы да поднятого воротника измятого плаща. Но это уже воспоминания из тех, что на ночь глядя…
Когда полет в бездумие был завершен, Муссолини вновь ощутил, как вибрирует корпус самолета, словно он шел не по небесам, а по искореженной мостовой; прислушался к подозрительным захлебам моторов, и ему вдруг ностальгически захотелось в прошлое, в прожитое. Захотелось той единственной власти, которой не дано было ни одному императору, ни одному гению от политики ли, от фаланги – власти, достаточной для того, чтобы открутить пленку своей жизнехроники хотя бы на два-три года назад.
«Если Гитлер, этот мюнхенский колбасник, еще к тому же заставит меня ожидать приема в одном из сырых бараков ставки, я хлопну дверью и вернусь в Рокка делле Каминате, “к себе на озеро”, – подумал Муссолини. – Что, и в самом деле вернешься? – саркастически спросил он себя. – Ну-ну, весь генералитет “Вольфшанце”, вся газетная братия обхохочутся, узнав о том, что два великих фюрера погрызлись в “Волчьем логове” и разбрелись по своим берлогам-бункерам».
Муссолини вдруг вспомнился его триумфальный приезд в Берлин в сентябре тридцать седьмого. Многотысячные толпы горожан, бюсты римских императоров на бесконечной триумфальной аллее, проложенной специально к его приезду от Бранденбургских ворот до Вест-Энда, кроны откуда-то появившихся лавровых деревьев, которых вполне хватило бы на венки для всего офицерского корпуса Италии.
А чего стоили римские колонны на Унтер-ден-Линден, на каждой из которых омывались золотистыми лучами великоимперские орлы, сносящие в Берлин со всего мира освященные богами свастики… И «народный митинг», на который была согнана… – впрочем, почему «согнана»? – сошлась чуть ли не четверть Германии. И льстивые, хотя и вполне заслуженные речи фюрера, провозглашавшего перед всем миром, что он, Муссолини, из тех немногих вершителей мировых судеб, которые никогда не служат истории материалом для ее экспериментов, поскольку сами позволяют себе экспериментировать с историей, творя и выворачивая ее наизнанку.
– Подлетаем к ставке фюрера в Восточной Пруссии, – вновь вырвал его из потока воспоминаний неугомонный секретарь. – В воздухе появились немецкие истребители, которые будут сопровождать нас до аэродрома в Растенбурге.
– Вот это уже кое о чем говорит, – самодовольно кивнул дуче. – Они там должны помнить, что не каждый день их удостаивает своим визитом сам Муссолини.
Самолет еще только приближался к Растенбургу, когда над занавешенными зеленоватой маскировочной сетью крышами «Вольфшанце» в воздух взметнулось пламя сильного взрыва, салютуя великому дуче Италии султаном камней, обломками бревен и стаями насмерть перепуганного, вопящего воронья.
Вместо того чтобы отпрянуть от иллюминатора, дуче почти инстинктивно прильнул к нему лицом.
Было нечто мистическое в этом «триумфальном салюте» последнему императору Италии. И пока аэродромные службы Растенбурга мурыжили их в воздухе, пытаясь выяснить, что же произошло в ставке и позволяет ли это происшествие принимать иностранные самолеты, Муссолини исступленно, хотя и незримо для своих спутников, молился, чтобы этот взрыв не оказался тем самым безвременным вознесением на небеса фюрера Великогерманского рейха. Это было бы не просто убиением – смертным и политическим – двух дуче-фюреров, но крахом двух великих государственных идей, гибелью двух империй, разрушением целой эпохи человечества.
«Я проделал столь трудный путь сюда не для того, чтобы нам пришлось встречаться на небесах, – заклинал он, с надеждой всматриваясь в ту сторону городка, за которой начиналась ставка фюрера. Вдруг там последует еще один взрыв. – Нам пока еще есть о чем потолковать здесь, на земле».
13
Больше всего Штауффенберга поражало, что Берлин все еще продолжал жить своей обыденной, полуфронтовой-полустоличной жизнью. Что происходит? Почему такое спокойствие? Никаких усиленных постов. Никаких заграждений и колонн. Никакого танкового прикрытия центральной части города.
– Они что, с ума здесь все посходили? – пробормотал он, обращаясь не столько к адъютанту, сколько к самому себе. – Чего они ждут? Уже прошла масса времени. К этому часу весь Берлин должен был находиться в наших руках.
Фон Хефтен резко наклоняется и сжимает плечо полковника, прерывая на полуслове. Тот понимает его: рядом сидит водитель запыленного с искореженными крыльями «опеля», выделенного им заместителем начальника аэродрома.
– Он уже тоже должен знать об этом, – в сердцах бросает Штауффенберг. – Что еще нужно было предпринять, чтобы эти бездельники наконец зашевелились? Поторопитесь, водитель, у меня нет времени.
– Да вон же, опять руины с завалами, – спокойно отвечает тот. – Вновь придется объезжать.
Шофер присмотрелся к желтеющему на столбе указателю и принялся искать объездной путь, по которому можно добраться до интересующей полковника Бендлерштрассе. Он явно не торопится, пребывая в таком неведении, как и все остальные в этом распроклятом городе, который все еще именует себя столицей Третьего рейха. Несмотря на то, что уже почти два часа живет в Четвертом.
У Штауффенберга окончательно сдают нервы. Он непрерывно вертит головой, пытаясь то в лобовое, то в боковое стекла рассмотреть, выудить взглядом хоть какие-то признаки того, что столица все же узнала о свершившемся в «Волчьем логове». Лицо его постепенно бледнеет, тем не менее по осунувшимся щекам почти непрерывно катится пот. А ведь сидящий на заднем сиденье фон Хефтен в общем-то особой жары не ощущает.
Как только машина въехала во внутренний двор ставки резервной армии, Штауффенберг буквально выскакивает из нее и бежит к подъезду. Часовой пытается остановить его, но вовремя узнает. Или же просто не решается требовать документы.
– Полковник Штауффенберг, – предупредительно поднимает вверх указательный палец адъютант, как бы призывая солдата запомнить имя этого человека.
Но Штауффенбергу сейчас не до славы. Он врывается в приемную, затем в открытый кабинет генерала Ольбрихта и видит… что там никого нет!
– Где генерал? – спрашивает он у фон Хефтена.
Адъютант недоуменно пожимает плечами, выбегает в коридор и через минуту вновь появляется. Он явно смущен. И расстроен.
– Что, что?! – набрасывается на него полковник. – Объясните же!
– Мне сказали, что генералы Ольбрихт и Бек… что они обедают.
– Не понял, – едва слышно молвит полковник.
– Да, они спокойно обедают. Там, внизу, в офицерской столовой. Как обычно.
– Как обычно? – почти с ужасом спрашивает Штауффенберг. – О чем вы, Хефтен?
– Так мне сказали. Лично я их не видел.
– Вы что-нибудь понимаете?
– Очевидно, до сих пор не поступило никаких сообщений ни от Фельгибеля, ни от Штиффа[11]. Здесь еще ни о чем не знают – только так я могу объяснить – но не оправдать – поведение генералов.
– Не знают о том, что был взрыв?! – Штауффенберг садится за стол, за которым генерал Ольбрихт обычно проводил совещания, и пальцами искореженной руки обхватывает пылающий висок. – Что же могло произойти с теми генералами из ставки, которые должны были передать сигнал? – бубнит он, словно молитву. – Что могло случиться? Что-то, конечно, произошло…
– Да ничего особенного… – пытается успокоить его адъютант, но полковник не дает ему договорить.
– Гиммлер, Геринг, а может, и Борман… уже взяли власть в свои руки – вот чем все это объясняется. И теперь все раскрылось.
Их гадание на кофейной гуще было прервано появлением Ольбрихта и Бека. Они во вполне нормальном расположении духа. Уже хотя бы потому, что за обедом успели пропустить по стаканчику вина из-за жары, а также благословляя друг друга на успешное проведение операции «Валькирия». Увидев подхватившегося Штауффенберга, они в замешательстве переглядываются и, кажется, чувствуют себя неловко.
– Почему? – почти задыхаясь, спрашивает их полковник. – Господин генерал, почему?.. Ведь прошло уже более двух часов…
– Не расстраивайтесь, полковник. Мы уже кое-что предприняли, – на ходу бросает Ольбрихт, направляясь к своему столу. – Несмотря на то, что Фельгибель так и не назвал нам никаких убедительных свидетельств того, что фюрер действительно мертв.
– Да мертв он, мертв! Зачем вам еще и свидетельства Фельгибеля? Я-то здесь, перед вами.
– И что же вы, стоя здесь, перед нами, можете сказать? – сухо, настороженно интересуется Ольбрихт.
– А то, что мина была заложена. И я своими глазами видел взрыв. Это может подтвердить мой адъютант. Обер-лейтенант фон Хефтен…
– В небо взметнулся такой столб, – подтвердил фон Хефтен, – что никто не сможет убедить меня, будто хоть один человек из находившихся в павильоне уцелел.
– Вот как? – ехидно уточняет Ольбрихт. – Я не собираюсь вас ни в чем убеждать. Как и вас, полковник. Но один уцелевший известен мне совершенно точно.
– Кто именно? – еще больше настораживается Штауффенберг.
– Кейтель. Фельдмаршал Кейтель.
– Не может этого быть! Кейтель погиб вместе с остальными. Он сидел рядом со мной и остался там. Всего в двух метрах от фюрера.
– Он мог сидеть даже в обнимку в фюрером, тем не менее остался жив, – парирует Ольбрихт. – Вам не кажется это странным?
Штауффенберг беспомощно оглядывается на фон Хефтена, ища у него поддержки. Но чем тот может помочь ему? Тогда полковник переводит взгляд на будущего президента. Или уже, может быть, нынешнего.
– Так утверждает генерал Фромм, – объявляет Бек, доселе старавшийся не вмешиваться в их разговор. – Он лично беседовал с Кейтелем по телефону.
– В моем присутствии, – дополняет Ольбрихт. – И при мне Кейтель заверил командующего, что фюрер не только не погиб, но и вообще не пострадал. Если не считать двух-трех ссадин, которые он мог получить и без взрыва, по неосторожности.
– Это ложь! – вспыхивает Штауффенберг. – Они лгут, чтобы выиграть время, разобраться в ситуации и перехватить инициативу. Возможно, Кейтель и уцелел. Вдруг он тоже вышел, пытаясь найти меня или по другой надобности. Но фюрер-то оставался там. И бомба взорвалась буквально у него под ногами. Я сидел вторым от него. После полковника Брандта. И портфель оставил под столом, у стойки. Со стороны фюрера. Это бомба, господа генералы, а не хлопушка. И она взорвалась.
– Все это – подробности… – мрачно отводит взгляд в сторону Ольбрихт. – Но я не слышу главного.
– Чего? – потрясен его неблагодарностью Штауффенберг. Пусть бы кто-нибудь другой вместо него… пусть бы сам Ольбрихт подрожал, пронося в ставку фюрера взрывное устройство. Вставляя в него запал и подкладывая под стол, почти под подбородок Гитлера. А затем попытался прорваться через КПП. Кто из них, этих болтунов-заговорщиков, решился бы на такое?! – Чего еще вы ждете от меня?! – теряет полковник всякое чувство меры и такта.
– Мне почему-то казалось, что вы сумеете убедить нас, – не замечает его взвинченности Ольбрихт. – Честно говоря, я на это надеялся. Поскольку тоже был уверен, что Кейтель лжет, выигрывая время.
– Вы уехали из ставки еще до того, как стали известны результаты покушения, разве не так? – вмешивается Бек.
– А кто бы мне позволил уехать из «Волчьего логова» после того, как они стали бы известными?
– То есть я хотел сказать, что тела фюрера вы, лично вы, не видели, и видеть не могли.
– И тем не менее бросил его труп к вашим ногам. Избавив от этой гнили всю Германию.
– Сейчас не время предаваться патетике, – охлаждает его Ольбрихт. – Меня очень смущает, что второго звонка Фельгибеля не последовало. Хотя мы просили его.
– Потому что он, очевидно, взорвал узел связи. Как и было предусмотрено… Или попросту вывел его из строя, чтобы отрезать ставку от Германии.
– Но Кейтель тем не менее отвечал по телефону, – замечает Бек, – Следовательно, связь работает.
– Наш спор ничего не даст и ни к чему не приведет. Нужно действовать, – размахивает тремя растопыренными пальцами уцелевшей руки Штауффенберг. – Итак, Фромм здесь. Он говорил с Кейтелем. Что дальше?
– Он отказался участвовать в операции «Валькирия», – отвечает Ольбрихт. – И даже слышать о ней не желает. Делает вид, что вообще не в курсе. По крайней мере до тех пор, пока не убедится. Кстати, Кейтель интересовался вашей особой, полковник. Думаю, они подозревают вас.
– Еще бы не подозревать! Все основания.
– Но Фромм относительно вас был не в курсе. Раньше вашей фамилии ему не называли.
– Иначе я беседовал бы уже не с вами, а с людьми Мюллера. Или Скорцени.
– Скорцени? – почему-то встревожился Ольбрихт. – При чем здесь Скорцени? Впрочем, фюрер… если он, конечно, жив, вполне может перебросить сюда этого головореза с его коммандос. В то время как никакого прикрытия у нас нет.
– До сих пор.
– Но мы уже приказали поднять офицерские училища. В некоторые части тоже поступил наш сигнал о начале операции. Так что мы все же действуем.
– «Действуем», – саркастически ухмыльнулся Штауффенберг. – Это не действия, это, извините, предпогибельная возня.
14
Геринг появился в гардеробной фюрера, когда тот уже смыл под душем гарь и пыль и переоделся в новый мундир.
– Это должно было произойти, Герман, – устало произнес Гитлер, брезгливым движением руки прекращая старания врача, аккуратно обрабатывавшего каким-то раствором ссадины на подбородке. – Я предчувствовал, что они выслеживают меня, готовя последний выстрел.
– Я был потрясен, мой фюрер, – вальяжно раскинул руки тучный министр – президент Пруссии. – Чего же стоит вся наша служба безопасности, вся охрана ставки, если эти негодяи проносят бомбу прямо в зал совещания?! Должна же существовать какая-то грань, которую не мог бы переступить ни один ваш ненавистник.
– Ее не существует, Герман, – в последнее время отношения их были натянутыми, и Гитлер уже давно не принимал у себя рейхсмаршала, а тем более – не обращался к нему по имени, как это было прежде. – Мне неизвестно, сколько раз в течение двух последних лет эти твари пытались устроить на меня покушение, но упорно кажется, что всякий раз я предчувствовал… Всякий раз, Геринг! – выкрикнул он таким угрожающим тоном, словно предупреждал: «И не пытайтесь организовать еще одно, рейхсмаршал! Все равно у вас ни черта не получится!» – Это не просто моя интуиция… – Гитлер прошелся по небольшой, довольно скромно обставленной комнате, шаги в которой глушил толстый, неярко раскрашенный персидский ковер, и остановился у висевшей на стене, рядом с окном, картины Фойербаха «Нана» – которую в последний момент, уезжая из ставки «Бергхоф», захватил с собой. – Есть что-то такое, Герман, что удерживает и хранит меня в этом мире. Сейчас я верю в это, как никогда. Удерживает и хранит ради того дела, которое задумано Высшими Силами.
– В этом просто невозможно усомниться.
– Взгляните, вон… – указал Гитлер на стол, где были разложены совершенно изодранные брюки и запыленный известкой, обожженный китель, на спинной части которого божественной меткой зияла внушительная квадратная дыра. – Могу ли я простить им это, Геринг?
– Это невозможно.
– И я никогда не прощу им, рейхсмаршал! – воинственно помахал пальцем перед толстым лицом Геринга, будто шеф военно-воздушных сил отговаривал его от мести. – Где сейчас Скорцени?
– Простите, фюрер, – Геринг непонимающе уставился на Гитлера. – Вы подозреваете, что это…
– Я могу подозревать кого угодно. Даже Господа Бога. Где он сейчас?
– Не… припоминаю, чтобы видел его сегодня в расположении ставки, – нервно повел шеей рейхсминистр, поправляя вспотевшими пальцами легкий китель своего белого с желтым отливом маршальского мундира. – Значит, вы считаете, что покушение связано с ним?
Какое-то время фюрер и рейхсмаршал оцепенело смотрели друг на друга: один – будучи твердо уверенным, что «первый диверсант рейха» попал под опальное подозрение; второй – пораженный самой мыслью о том, что кто-то может заподозрить в этом «героя нации».
«Кто угодно, только не он, – было начерчено в расширившихся от страха белесых глазах Гитлера. – Кто угодно, только не Скорцени».
– Послушайте, Геринг, – неожиданно перешел фюрер на официальный желчный тон. – Если покушение подготовил не самоубийца-одиночка, то могут возникнуть имена десятков, сотен его единомышленников и сочувствующих. Но я не желал бы – вы слышите меня, Геринг? – не желал бы, чтобы в связи со всей этой мрачной историей в числе подозреваемых, пусть даже вскользь, упоминалось имя Скорцени. Без достаточных на то оснований.
– Я понял вас, фюрер.
– Но даже если окажется, что основания есть, я сам, только я, могу определять степень его виновности, а следовательно, его судьбу.
– Только так, – поспешил заверить его Геринг, понимая, что опять умудрился испортить отношения с фюрером, которые уже как бы заново налаживались.
– Скажу тебе по секрету, Герман… Я прикидывал. Если, бы за это страшное дело взялся Скорцени, от «Вольфшанце» уже не осталось бы даже руин, а мы с вами сидели бы там, откуда недавно увезли Муссолини.
– Если бы во главе заговорщиков стоял этот штурмбаннфюрер… – охотно согласился рейхсмаршал.
В эту минуту дверь отворилась, и в нее, пригибая голову, словно в низенькую фронтовую землянку, протиснулась рослая, плечистая фигура личного адъютанта и телохранителя Гитлера обергруппенфюрера Юлиуса Шауба.
– Муссолини, – зычным голосом дворецкого огласил он.
– Кто? – изумленно уставился на него Гитлер.
Гитлер знал, что своим адъютантским лаконизмом обергруппенфюрер превзошел всех доныне известных молчунов и монахов-затворников. Любая попытка поговорить с ним превращалась для фюрера в репетицию допроса у следователя гестапо. Но все же бывали случаи, когда Шауб превосходил самого себя. Доклад, с которым адъютант явился сейчас к фюреру, прекрасно продемонстрировал это.
– Кажется, вы что-то сказали о Муссолини, – пришел на помощь фюреру Геринг. Он не то чтобы недолюбливал Шауба. Точнее было бы сказать, просто ревновал его к фюреру. Такой взлет: уже обергруппенфюрер! Такая приближенность: личный адъютант! Кто не приревнует?
А главное, Шауб, в отличие от начальника личной охраны группенфюрера Раттенхубера[12], стремился к еще большему влиянию на вождя. Правда, Геринг никогда не забывал, что Шаубу пришлось посидеть вместе с фюрером в ландсбергской тюрьме, как никто иной, он мог считать себя истинным ветераном национал-социалистического движения и соратником фюрера. Тем не менее…
– Прибыл Муссолини, – не обратил Шауб внимания на главнокомандующего люфтваффе. Он служил фюреру. Видел только фюрера. Слышал только фюрера. Подчинялся и обожал только фюрера. В этом в ставке уже никто не смел усомниться. – Он ждет. Встреча была намечена.
– Ах да, он должен был прибыть, – спохватился Гитлер.
– Должен, – подтвердил Шауб.
– Он знает, что здесь произошло?
– Знает.
– Я появлюсь через десять минут.
– Через десять, – бесстрастно повторил Шауб. К его манере повторять сказанное собеседником Гитлер успел привыкнуть еще там, в камере тюрьмы. Юлиус словно бы опасался, что забудет, о чем речь. Однако, повторяя, все равно сразу же забывал.
«Женщины обожают этого мавра за его недоумковатость, – объяснил себе Геринг, умилительно созерцая диалог двух бывших сокамерников. Появился бы еще телохранитель фюрера группенфюрер Раттенхубер, который в качестве полицейского охранял их камеру, и в апартаментах фюрера разыгрался бы неподражаемый фарс. – Кто бы мог поверить тогда, что о тайных оргиях Шауба, этого полууголовника, с высокопоставленными немками будет судачить вся берлинская элита? В том числе – эсэсовская».
– Геринг, – заторопился Гитлер, как только Шауб наконец удалился умственно пережевывать услышанное. – Вы должны немедленно связаться с Берлином, разыскать Скорцени и отдать ему мой личный приказ… – Фюрер замялся, пытаясь как-то облачить свою решительность в словесную оболочку.
– Ваш личный приказ… – не удержался Геринг. И хотя это вырвалось у него случайно, рейхсмаршал сразу же заметил, что, по существу, скопировал Шауба.
– Словом, скажите ему, пусть приступает… Так и скажите ему. Скорцени поймет. Это мой приказ. Он должен… Мы еще не знаем, какие силы замешаны в заговоре. Где его центр и каковы истинные планы путчистов. Его миссия – заняться этим центром. Найти, раскрыть, искоренить… – Гитлер вновь запнулся и лихорадочно ощупал саднящее лицо. Руки его при этом дрожали, а движения туловища казались нескоординированными.
– Я скажу Скорцени, что он может приступать, – вновь пришел ему на помощь Геринг. – Скорцени из тех парней, которым дважды повторять не нужно.
Фюрер внимательно присмотрелся к выражению лица командующего люфтваффе. Ему очень не хотелось обнаружить хотя бы малой доли иронии. И Гитлер не обнаружил ее. Мало того, он вспомнил, что во время чествования Скорцени по случаю завершения операции по освобождению Муссолини Геринг снял с этого же парадного мундира «Золотой почетный знак летчика» и приколол к груди диверсанта. «Ваш подвиг, штурмбаннфюрер, – сказал он тогда, – войдет не только в историю германской диверсионной службы, но и в историю германской авиации».
– Вы не должны завидовать ему, Геринг, – неожиданно произнес Гитлер, взбудораженный этими, в общем-то безобидными, воспоминаниями.
– Исключено, мой фюрер. Я уважаю этого офицера. Он напоминает мне меня самого в былые годы.
– О приказе, который вы отдадите Скорцени, в ставке не распространяться. Я почти уверен, что среди заговорщиков есть и люди из моего ближайшего окружения. Иначе они не смогли бы вот так…
– Не смогли бы.
– В центре путчистов не должны знать, откуда на них грянет гром.
– Откуда он неминуемо грянет, – воодушевленно повторил Геринг, довольный тем, что отдать этот приказ фюрер доверил не Гиммлеру и не Кальтенбруннеру. Рейхсмаршал узрел в этом обнадеживающий признак: кажется, к нему возвращается былая благосклонность Гитлера[13].
15
– Вы уверены, что сигнал «Валькирия» поступает в части, училища и вообще туда, куда ему следует поступать?
– Он поступает, – пожал плечами Ольбрихт. – И, насколько мне известно, куда следует.
– А Фромм?
– Что Фромм?
– Генерал Фромм, что… все это время сидит сложа руки и ничего не предпринимает? – прицеливается в него единственным глазом полковник Штауффенберг. – Это он называет генералам и полковникам условный сигнал? Распоряжения уходят от его имени?
Ольбрихт задумался. Он понимал, о чем ведет речь Штауффенберг, куда клонит. В суете телефонных звонков, которые обрушились на них в связи с настойчивыми запросами заговорщиков, находящихся в разных концах Берлина, Германии и даже за ее пределами, они как-то совершенно упустили из вида командующего армией резерва. Да и командующий тоже умудрялся присутствовать, не присутствуя.
– Нам придется еще раз переговорить с Фроммом, – решается Ольбрихт, обращаясь к Беку.
– И как можно скорее, – согласился тот.
– Если он подключится более активно, мы победим.
– Ему нужен труп фюрера, без этого он пальцем не пошевелит.
– А что Париж? – настороженно взглянул Бек в сторону Штауффенберга. Говорить о трупе ему не хотелось.
– Да, Париж… Я лично переговорил с полковником из штаба Штюльпнагеля. Там уже обо всем знают. Но в гибели фюрера сомневаются еще сильнее, чем здесь, в Берлине.
– Чем дальше от Берлина, тем сомнения сильнее. Странная закономерность, – говорит Ольбрихт.
– Но я дал им понять, что пора действовать, а не высматривать покойников.
– И что же?
– А то, что я прямо сказал им: все то время, которое они могли потерять, они уже потеряли, и настало время действовать, независимо от того, что произошло в «Волчьем логове».
Генералы переглянулись: убедительно.
– Штюльпнагель – человек решительный, – неуверенно проговорил Ольбрихт. Если бы только его решительность поскорее преобразовывалась в столь же решительные приказы.
– Мы получили бы в свое распоряжение Францию со всеми находящимися там войсками, – поддержал его Бек.
– Почти со всеми.
– И тогда штаб генерала Штюльпнагеля мог бы действовать самостоятельно, даже в том случае, если бы в Германии попытка переворота завершилась полным провалом.
– Не поговорить ли нам еще и с самим Штюльпнагелем, господин Бек?
– Это должен сделать я?
Ольбрихт замялся и взглянул на полковника-террориста. Только он знает подробности, только ему Штюльпнагель поверит.
– В его штабе служит мой кузен, – пришел ему на помощь граф фон Штауффенберг. – Я уже беседовал с ним. Он не предаст и не подведет.
– То есть он уведомит нас в том случае, если Штюльпнагель откажется от решительных действий, – расшифровал сказанное им Ольбрихт. – Значит, пока что нам с генералом Беком действительно пора заняться Фроммом.
– Не удастся окончательно привлечь его на свою сторону – придется изолировать, – у краев шершавых губ Штауффенберга появилась суровая складка. – Мы должны действовать более уверенно, а не ждать, что там в конечном итоге сообщат из ставки Гитлера.
– Вот мы и пойдем, чтобы действовать «уверенно», – вызывающе взглянул на него Ольбрихт и, по привычке одернув китель, первым направился к кабинету командующего.
Пока они проходили через те несколько смежных комнат, что соединяли кабинеты Ольбрихта и Фромма, на пути их возник начальник штаба Ольбрихта полковник Мерц фон Квиринхейм. Этот невысокого роста, крутоплечий здоровяк с холеным аристократическим лицом был крайне возбужден.
– Я только что осмотрел охрану, господин генерал, – обращается он к Ольбрихту. – Обещанная командованием танкового училища рота охраны нашего здания так и не прибыла. Курсантов пехотного училища тоже не видно.
– Так кто же нас охраняет? – почти испуганно спрашивает Бек, поглядывая то на Квиринхейма, то на Ольбрихта.
– По существу никто, – заявляет Квиринхейм.
– Что вы хотите этим сказать? – еще пуще бледнеет Бек.
– А то, что, по моим наблюдениям, посты не только не усилены, но и ослаблены. Часовые настороженно перешептываются. А ведь у нас почти нет солдат. Кроме тех, что стоят на постах у входа и въездных ворот, и которые, собственно, пока ни о чем не знают. Им может скомандовать любой унтер-офицер.
– Особенно если он эсэсовец, – мстительно, прямо в лицо Ольбрихту, смеется Штауффенберг. Его вновь одолевает мысль, которая зародилась во время разговора со своим кузеном Хофакером из парижского штаба Штюльпнагеля. Когда тот в ходе разговора неожиданно спросил: «Так кто же возглавляет нас теперь?», Штауффенберг так же неожиданно, не только для спрашивающего, но и для самого себя, отрубил: «А никто».
«Не может такого быть». – «Не должно». – «Не смогли распределить роли?» – осторожно поинтересовался Хофакер, стараясь не раскрывать сути вопроса и круг лиц, о которых идет речь. – «По-моему, они вообще не определились. Но это между нами. У нас теперь нет выбора. Нужно действовать. Со своим командующим ты должен говорить значительно решительнее, чем со мной». – «Само собой, Клаус. Но что дальше?» – «Возможно, мне придется самому определить свою собственную роль во всем том бедламе, что творится здесь сейчас». – «На это я и пытался намекать тебе».
Тот мстительный смех, которым Штауффенберг встретил сейчас признание полковника Квиринхейма, был отголоском раздумий, возникших после разговора с Парижем. Если бы не эти генералы с их идиотскими терзаниями и стенаниями по поводу присяги фюреру, которую они, видите ли, не могут нарушить до тех пор, пока он жив…
Но что мог поделать Штауффенберг? Перестрелять их и взять командование на себя? А кто его воспримет всерьез, мало кому известного полковника, лишь недавно обосновавшегося в штабе Фромма на непонятно каких ролях? Или, может, каждому собеседнику объяснять: «То есть что значит, кто я такой? Я – тот, кто убил фюрера!.. Или пытался убить», – с грустью добавил Штауффенберг.
– Еще раз свяжитесь с пехотным училищем в Деберице, – потребовал Ольбрихт от Квиринхейма. – Генерал фон Хитцфельд специально готовил училище к этому дню. Там даже была проведена учебная тревога. На тот случай, если вдруг придется участвовать в восстановлении порядка в Берлине.
– Уже звонил. Генерала нет.
– Но есть полковник Мюллер, его заместитель.
– Полковника тоже нет. Там просто не с кем говорить.
– Это измена, – упавшим голосом констатирует Бек. – Ольбрихт, когда мы решались на эту операцию, все выглядело по-иному. Вы меня разочаровываете, генерал Ольбрихт.
– Наконец-то я слышу голос президента Германии, – сухо отрубил Ольбрихт, как бы спрашивая этим: «А что сделали, на что решились, чем помогли вы, господин Бек?»
– Все значительно проще, – объясняет Штауффенберг. – Они попросту не информированы, что переворот состоится именно сегодня. Если бы мы решились хотя бы нескольким особо доверенным офицерам, имеющим в своем распоряжении солдат или курсантов, сообщить о дне – их не пришлось бы разыскивать сейчас по всему Берлину.
– Полковник фон Квиринхейм, – цедит сквозь стиснутые зубы Ольбрихт. – Связывайтесь с кем угодно. Телефоны вам известны. Если мы не в состоянии взять в свои руки Берлин, позаботьтесь хотя бы о надежном прикрытии здания. В противном случае взвода эсэсовцев вполне хватит, чтобы перестрелять всех нас в течение десяти минут.
– До сих пор не пойму, почему эсэсовцы все еще не добрались до нас, – пожимает плечами фон Квиринхейм. – По логике событий, они уже давно должны находиться здесь. Особенно те, из гестапо.
– Непростительная нерасторопность, – соглашается Бек.
16
Узнав о покушении на фюрера, опальный премьер-министр Италии Бенито Муссолини воспрял духом. Из машины, доставившей его от аэродрома до растенбургской штаб-квартиры Гитлера, он вышел с гордо вскинутым подбородком, и основательно расплывшийся под влиянием лет псевдоримский профиль его впервые после свержения кое-как сформировался и застыл в маске снисходительной надменности.
Все то время, что прошло после его освобождения из плена, Муссолини чувствовал себя подобранной на улице и пригретой дворнягой, которой только и позволено, что лежать на коврике у двери и время от времени полизывать ботинок своего добродетеля. Хотя теперь он вновь возглавлял какое-никакое правительство Итальянской республики, весьма условно обозначенной севером Италии, тем не менее ощущал себя в горной резиденции в Рокка делла Каминате, расположенной на берегу озера Гарда, все тем же «спасенным и обязанным», до встречи с которым фюрер еще иногда может снисходить, но которого никто в Берлине и «Вольфшанце» на равных уже не воспринимает.
Именно таким, «униженно воспринятым», Муссолини и прибыл сегодня в «Волчье логово», с волнением размышляя о том, соизволит ли фюрер побеседовать с ним еще сегодня или же придется слоняться по ставке, коротая время со словоохотливым Герингом и цинично-холодным Гиммлером, стремившимся любой разговор с ним превратить в нравоучительный инструктаж, повторяя то же самое, о чем почти ежедневно толкует с ним личный представитель Гитлера, высший фюрер СС и полиции в Италии обергруппенфюрер Карл Вольф. Который, в свою очередь, повторяет наставления своего шефа, только в несколько иной, вежливо-ироничной форме.
И вдруг это покушение! В день его, Муссолини, официального визита.
Узнав о нем, дуче вначале ужаснулся: здесь, в Восточной Пруссии, творится то же, что еще недавно происходило в Италии! Но поняв, что фюрер спасен, а, значит, переворот в Германии будет подавлен и все останется как было, сразу приободрился. Оказывается, не любят не только его, Муссолини. Фюрера тоже… Наконец-то не ему, а он сам будет выражать сочувствие. Не фюрер его, а он фюрера, пусть даже мысленно, сможет снисходительно похлопать по плечу: «Крепитесь, господин Гитлер. Нас оценит история. Разве эти неблагодарные варвары способны понять, что мы значим каждый для своей страны и что вместе мы значим для Европы, для установления на земле нового миропорядка!»
– Я знаю, что произошло, господин Гитлер, – несколько неуклюже начал он, когда фюрер встретил его в зале для официальных приемов. – Я содрогаюсь при мысли, что у кого-то поднялась рука, – пытался войти в роль утешающего покровителя, хотя сразу же почувствовал: не те слова, не те… Да и тон, в котором они произнесены…
Однако, натолкнувшись на застывшие – словно извлеченные из холодильника подтаявшие устрицы – глаза фюрера, умолк, точно так же, как умолкали сегодня все, кто представал перед хозяином «логова».
– Я воспринимаю все это несколько иначе, – окончательно развеял его настроение Гитлер.
Подходя к дуче, чтобы пожать руку, он двигался, как неумелый наездник, только что сползший с неоседланного, необъезженного коня. Мощный взрыв в «ситуационном бараке» привел к тому, что под влиянием сильнейшего стресса непрерывная дрожь в левой коленке каким-то чудодейственным образом унялась, зато из обеих ног врачу пришлось извлечь добрый десяток мельчайших щепок. Оставленные ими мелкие ранки все еще саднили, некоторые даже слегка кровоточили, однако Гитлер пытался не замечать этого.
– …Что совершенно естественно, – попробовал заверить его итальянец, но, как всегда в такие минуты, Гитлер уже слушал себя, а не его.
– …Все мы должны воспринимать это совершенно по-иному. Измена не могла таиться слишком долго. Этот взрыв спровоцировал полное разоблачение заговорщиков. Наконец-то мы, весь германский народ, узнаем, кто они. И гнев народа будет страшен…
– Это справедливый, а потому – праведный гнев. Мои римские мерзавцы тоже еще познают его.
Гитлер вновь пожал руку дуче и оглянулся на своего личного адъютанта, обергруппенфюрера СС Шауба, словно испрашивал у него разрешения на что-то.
– Вы, господин Муссолини, должны сами увидеть место взрыва и то, что осталось от летнего павильона, в котором он произошел.
– Пожалуй, да.
– Нет, вы должны сами увидеть все это, – настаивал Гитлер, словно дуче пытался возражать. – Они хотели убить меня. Для этого заговорщики использовали самую мощную взрывчатку, которая только существует. Все здание превратилось в руины. Земля под ним разверзлась. Пламя ушло под небеса. Но я уцелел. Кто не верит в чудо, может убедиться. Поэтому-то считаю, что вы должны видеть это собственными глазами. Да, господин Муссолини, – потряс он поднятыми вверх руками, – назло всем, я уцелел!
Растеряв свою покровительственную воинственность, дуче поежился и, выходя из штаб-квартиры, постарался первым пропустить Гитлера. Ему неприятно было ощущать его за собой, словно фюрер мог выстрелить ему в спину. И вообще Муссолини чувствовал себя в эти минуты так, будто сам оказался причастен к покушению.
Руины все еще были оцеплены редкой цепью эсэсовцев, которые держались так, словно ожидали, что из них вот-вот появится террорист. Два десятка солдат из батальона обслуживания лениво растаскивали бревна и доски. Заметив высоких гостей, они оставили свое нудное занятие и скрылись за ближайшими постройками. Вслед за ними как-то незаметно разбрелись и эсэсовцы.
Муссолини вдруг показалось, что и солдаты из батальона обслуживания, и эсэсовцы чувствовали себя обманутыми; взрыв мощный, а толку никакого. Люди войны, они приучены были оценивать любое происшествие по количеству жертв. И порождать руины, а не облагораживать их своим трудом.
Несколько минут Гитлер и дуче, в сопровождении двух телохранителей, молча обходили и осматривали место покушения.
– Трудно поверить, что под этими руинами сумел уцелеть хотя бы один человек. Просто невероятно, – вполголоса проговорил Муссолини. – Просто невероятно, – повторил он. – Кто поверит, что все это – воля слепого случая? Что здесь обошлось без перста Всевышнего.
Его слова вырвали фюрера из летаргического состояния. Он вдруг встрепенулся, поднял слегка подрагивающую голову и взглянул на своего старого друга почти с благодарностью.
– Именно об этом я тоже думал, Бенито. Я готов пропустить мимо руин тысячи священников и закоренелых безбожников. Пусть хоть один из них решится объяснить мое спасение какими-то техническими несовершенствами бомбы или странным стечением земных обстоятельств.
– Не решится, – повертел набыченной шеей Бенито.
– Когда я вновь восстанавливаю в памяти все, что произошло, – как бы непроизвольно взял фюрер под руку Муссолини, чтобы, опираясь на нее, провести его дальше и завершить обход, – поневоле вспоминаю, что ведь все это происходит уже не впервые. Никто лучше меня не знает, что такое случается не впервые, – когда, хранимый Высшими Силами, я избегаю гибели самым невероятным, самым чудесным образом.
– Это может подтвердить сам папа римский.
– Но поверьте, глядя на эти руины, чувствуя близость гибели и волчий оскал своих врагов, я совершенно не ощущаю при этом ни страха, ни тем более – обреченности. Наоборот, после моего сегодняшнего спасения от смертельной опасности я больше чем когда бы то ни было убеждаюсь, что мне необходимо… нет, мне просто суждено, я обязан довести наше общее дело до естественного, предначертанного свыше завершения, до его счастливого конца. Наше с вами общее дело, господин Муссолини. Мы не должны, не можем отступать. Ибо нам так предначертано и суждено.
– Вот уж поистине этот взрыв и это божественное спасение для любого, самого сомневающегося может служить непререкаемым знаком небес[14]. Я хочу, чтобы итальянский народ тоже проникся осознанием – этого великого заступничества Господа и тех небесных сил, которые нами повелевают.
17
– Знаю, Родль, знаю… – тяжело поднимался из-за стола Скорцени. – Сообщи вы мне о заговоре минут на двадцать раньше – предстали бы передо мной в образе спасителя рейха.
– Да я не о заговоре, господин штурмбаннфюрер, – едва заметно улыбнулся адъютант.
– Не может быть. Не стройте из себя оригинала, гауптштурмфюрер. Весь рейх, вся Европа говорит только о покушении и заговоре.
– У нас есть более приятные новости.
«Первый диверсант империи» взглянул на адъютанта, как на священника, явившегося в камеру смертника, чтобы утешить обреченного сообщением о прелестях загробной жизни.
– У вас не может быть «более приятных» новостей, Родль. В этом городе не может существовать никаких «приятных» новостей, пока все, весь генералитет вермахта, не окажутся в застенках гестапо. Уж вам-то это должно быть ясно, не хуже чем мне.
Адъютант приблизился к столу и положил перед шефом тонкую коричневую папку с бумагами.
– Та самая… О ротмистре Курбатове. Ну, о том, что от генерала Семенова. Как было приказано.
– Каком еще ротмистре, гауптштурмфюрер? Вы что, не знаете, что происходит сейчас в Берлине?!
– Но мы ведь совсем было потеряли этого диверсанта. А тут вдруг…
Скорцени хотел что-то ответить, но тихий, вкрадчивый телефонный звонок прервал его благую мысль и заставил взяться за трубку.
– Так вы, Скорцени, уже в курсе? – невнятно жевал слова Кальтенбруннер. По интонации в его голосе, а также степени невнятности слов и мысли штурмбаннфюрер сразу же определил, что обергруппенфюрер основательно подкрепился очередной порцией коньяку.
– Только что мне звонили из ставки фюрера. Я получил приказ Геринга подавить…
– Рейхсмаршала? – задумчиво потянул Кальтенбруннер. – Странно.
– Почему?
– Теперь трудно предугадать, от кого и какой поступит приказ, – еще более невнятнее пробормотал шеф СД. – И вообще считайте, что мой приказ последовал раньше.
– Так и было, обергруппенфюрер, – ни мгновения не колебался Скорцени.
– Используйте свой фридентальский батальон курсантов, части СС. Да, там еще появился некий майор Ремер.
– Ремер? – взглянул Скорцени на адъютанта. Но тот выразительно пожал плечами. – Простите, это еще кто такой?
– Нам предстоит узнать об этом в ближайшие часы, Пока что известно, что он – командир охранного батальона из дивизии «Гроссдойчланд».
– Ах, этот новый…
– Но кто он на самом деле, нам предстоит узнать уже в течение ближайшего часа, – бубнил Кальтенбруннер, и слышно было, как по своему обыкновению ударяет при этом кулаком по столу. – Мне точно известно, что Геббельс, который вечно суется не в свои дела, сумел связать его с фюрером.
– Значит, майор лично говорил с Гитлером? Уже после покушения?
– И получил приказ заняться подавлением мятежа. С самыми широкими полномочиями. Вас это не оскорбляет, «первый диверсант рейха»?
Кальтенбруннер умолк, давая Скорцени возможность осмыслить и осознать всю ту опасность, которая исходит из подобных приказов.
Скорцени прокашлялся и вновь взглянул на адъютанта. Родлю давно пора было оставить кабинет, однако он упорно смотрел на лежащую на столе папочку, считая, что не имеет права оставлять ее на столе шефа без нужных объяснений даже в том случае, когда обнаружится, что вся элита империи взлетела в воздух и рухнула вместе с самим Третьим рейхом.
– Но еще более странно, что приказ об этом получаете не вы, господин обергруппенфюрер СС, – отчеканил Скорцени, – а некий майор Ремер. Пусть даже осчастливленный недавно «дубовыми листьями» к Рыцарскому кресту из рук самого фюрера.
Вначале Кальтенбруннер опешил, потом недовольно проворчал что-то несуразно злое, однако оформить это в некую словесную оболочку так и не удосужился. Тем не менее Скорцени отлично понял смысл его неудовольствия. Решив позвонить ему, начальник полиции безопасности и службы безопасности тем самым давал понять Скорцени, что Гитлер и Гиммлер уже явно обходят его вниманием. И что это очень скоро может сказаться на славе «первого диверсанта рейха» и «самого страшного человека Европы».
Но получилось, что штурмбаннфюрер умудрился упрекнуть его самого, человека прямо отвечающего за безопасность фюрера и всего руководства Германии. Причем сделал это безо всяких обиняков, с унтер-офицерской прямотой.
– Вряд ли мы сможем вообще обойтись без батальона «Гроссдойчланд», – нашел в себе Кальтенбруннер мужество примириться с бестактностью штурмбанфюрера. – Но использовать его следует так, чтобы майор Ремер находился в вашем подчинении, Скорцени. Мы не должны позволить, чтобы, подавляя осиное гнездо заговорщиков, кто-либо способен был обходиться без нас. Опасность, нависшая над фюрером, миновала. Сейчас самое время подумать о других опасностях, связанных не с бомбами, а с интригами.
– Которые в нужное время срабатывают намного удачнее неудачно заложенных бомб. Через несколько минут в Берлин войдет мой фридентальский батальон. А майор Ремер будет делать только то, что мы ему прикажем.
– В штабе армии резерва мы появимся вместе, Скорцени. Держите меня в курсе.
«Он прав, – подумал Скорцени, вешая трубку на рычаг. – Как только развеивается дым после взрыва бомбы, начинают срабатывать фугасы интриг».
– Что вы уставились на меня, гауптштурмфюрер? Жду.
– Чего это вы ждете от меня, Родль? Ах да, эта ваша папка… Вы что, не понимаете, что мне сейчас не до ротмистра Курбатова, дьявол меня расстреляй?
– Извините, господин штурмбаннфюрер, он уже давно подполковник, – щелкнул каблуками Родль, погасив при этом едва прорезавшуюся на кончиках губ ухмылку. Ему не было смысла напоминать Скорцени, что тот до сих пор остается майором, пусть даже войск СС. – Разрешите идти?
– Постойте, Родль, – остановил его штурмбанфюрер уже на пороге. – У меня действительно нет времени возиться сейчас с бумажками. Так где этот ваш сибирский паломник?
– Два часа назад мне сообщили, что Курбатов сумел дойти до Польши и прорвался в расположение одной из частей вермахта на танке.
– И как же он оказался в этом танке? – рассеянно спросил Скорцени. Мысленно он все еще продолжал разговор с Кальтенбруннером, который по-настоящему способен завершиться лишь после того, как в штабе заговорщиков не останется ни одного офицера, замешанного в покушении.
– Танк, естественно, русский. Легионер захватил его неподалеку от линии фронта, перебив обедающий рядом с машиной экипаж. Диверсант есть диверсант.
– Наконец-то вы поняли это, Родль. Раньше эта простая, как ствол ружья, мысль доходила до вас с непостижимым трудом. – Скольких бойцов он привел с собой?
– Только двоих.
– Стоит ли удивляться? – оглянулся Скорцени на висевшую у него за спиной карту.
– Но не все погибли. Несколько человек остались действовать в России. То ли на Волге, то ли на Дону.
– А те двое, что прибыли с ним?
– Оба – немцы. Один – освобожденный из плена капитан вермахта фон Бергер. Другой – племянник белогвардейского генерала барона фон Тирбаха, действовавшего некогда под командованием генерала Семенова в Забайкалье. Мы как-то говорили о нем, – напомнил Родль.
– Вполне возможно. Значит, этот фон Тирбах пришел с ним прямо из Маньчжурии?
– Предварительно пройдя курс наук в диверсионной школе Русского фашистского союза. А Бергер оказался в числе нескольких пленных немецких офицеров, освобожденных группой Курбатова во время нападения на колонну пленных.
– Как бы он ни оказался в составе группы Легионера, он меня больше не интересует. Другое дело, что им может заинтересоваться гестапо. Но и это нас тоже не касается.
– Понял, господин штурмбаннфюрер.
– Ваш любимец – ротмистр – все еще в Польше?
– Пока что – да.
– За освобождение пленных он будет награжден Железным крестом. За весь этот поход – еще одним. Я понимаю, что вы завидуете ему, Родль, но кресты он все же получит.
Адъютант уважительно промолчал. К опасным шуткам своего шефа он уже привык.
– Пусть его доставят во Фриденталь. Месяц курсов особого назначения ему не помешает. Как и этому юному барону фон Тирбаху.
– За что оба будут признательны нам, – подыграл ему Родль. – На курсы их допустят без проверки в особом отделе СД или абвера?
– Какой еще абвер, Родль? И что может добавить проверка к тому, что мы уже знаем об этом человеке? А допросом этого маньчжурского паломника я займусь лично. Управившись со всеми остальными делами, Родль, управившись со всеми остальными…
18
В изнуренные жарой каменные лабиринты Парижа, в недрах которых находилась ставка военного губернатора Франции, наконец-то сумела пробиться спасительная прохлада северного ветра, и генерал пехоты фон Штюльпнагель, открыв окно, долго стоял возле него, подставляя осунувшееся, с заостренными чертами лицо под ее пронизывающую нордическую влажность.
Уже несколько дней командующий германскими войсками во Франции генерал Карл-Генрих фон Штюльпнагель чувствовал себя в кабинете, как на усыпанном раскаленными углями жертвеннике, на который его погибельно загнала уже не поддающаяся никакому – ни божьему, ни человеческому – воздействию судьба.
С запада, со стороны Кана, Эгля и Алансона к Парижу с боями продвигались части 21-й группы союзных армий под командованием британского фельдмаршала Монтгомери. Из Берлина поступали пока что противоречивые сообщения о том, что наконец-то осуществлено долгожданное покушение, фюрер погиб и в Германии разворачивается государственный переворот. В то время как в самом Париже и его пригородах силы французского Сопротивления почти в открытую готовятся к восстанию, которое бы помогло войскам Монтгомери войти в столицу.
Тут было над чем задуматься и над чем потрепать себе нервы. Тем более, что у пятидесятивосьмилетнего генерала они и так уже находились на пределе. Штюльпнагель отлично понимал, что в этой ситуации он обязан действовать, причем быстро и решительно. Но в том-то и дело: окончательно определиться, что же именно он должен предпринять, генерал так и не смог.
Командующий открыл сейф, достал бутылку французского коньяку и, просветлив мозги небольшой рюмкой бессмертного «Наполеона», уселся в кресло напротив окна. Коньяк оставался единственным средством, способным хоть на какое-то время укрощать его неукротимое артериальное давление, которое время от времени доводило генерала своей пляской до состояния полоумия.
Губернатор догадывался, что что-то там, в Берлине, в штабе генерала Ольбрихта, не сладилось. Сведения-то поступали, но какие-то слишком уж противоречивые и неуверенные. Несмотря на это, сразу же после беседы с генерал-полковником Беком Штюльпнагель отдал приказ во все вверенные ему части, возглавляемые путчистами, приступить к выполнению операции «Валькирия», то есть быть готовыми к самым решительным действиям.
Вспомнив об этом, фон Штюльпнагель вновь наполнил рюмку и, прежде чем опустошить ее, с наслаждением вдохнул аромат напитка. Он показался генералу неподражаемо божественным. Как всегда, когда у него обострялось чувство опасности, у Штюльпнагеля просыпался «инстинкт истинной жизни», как он это называл, суть которого заключалась в аристократическом бездействии, роскоши, познании всех прелестей и соблазнов. Иное дело, что с годами и болезнями прелестей ему приходилось вкушать все меньше и меньше. Но это уже другая сторона, как и иная цена «истинной жизни».
– Господин генерал, – появился в его кабинете полковник Вильгельм Хуберт. – На связи – фельдмаршал фон Клюге. Он явно чем-то взволнован, – приглушил голос адъютант. – И откровенно зол.
– Он всегда чем-то взволнован и всегда зол, – даже не пытался скрывать своего отношения к этому отпетому трусу военный губернатор.
Исключительно из вежливости Хуберт пожал плечами, давая понять, что не желает быть судьей в их все осложняющемся споре непонятно о чем и ради чего. И неслышно удалился за дверь.
– Штюльпнагель? – лишь Клюге мог позволить себе обращаться к нему, опуская не только аристократическую приставку «фон», но и звание. Если Штюльпнагель и терпел подобную непозволительность, то только потому, что чувствовал себя связанным с этим ничтожеством в фельдмаршальском мундире тайной заговора. И не время было сейчас, ох, не время… – Что вы можете сказать по поводу обсуждавшейся нами операции?
– «Обсуждавшаяся нами операция» разворачивается, – не без иронии подтвердил Штюльпнагель, используя его же выражение. – Определено время, когда она вступит в самую активную фазу.
– А именно? Какое время вы подразумеваете?
– Мы сообщим вам об этом дополнительно, господин фельдмаршал, – ушел от прямого ответа Штюльпнагель.
И дело было вовсе не в телефоне, все равно вряд ли кто-либо из посторонних смог бы догадаться, о какой операции идет речь. Он попросту не доверял больше главнокомандующему войсками Западного фронта. Как, впрочем, опасливо не доверяли ему – или опасливо доверяли – и в самой берлинской ставке заговора.
Фон Клюге уловил это, недовольно промычал что-то невнятное и потом долго прокашливался и натужно сопел.
– Мой вам приказ, Штюльпнагель, а если хотите, то и совет: остановите весь этот «ход ряженых» и аккуратно заметите за собой следы. Сейчас подобный исход еще возможен. Через час будет поздно, позор без всякого приличия.
Штюльпнагель удрученно помолчал, затем довольно резко поинтересовался:
– А что, собственно, произошло? После прошлой нашей беседы тоже ведь истекло не более часа.
– Ровно сорок пять минут. Время я, как всегда, контролирую.
– Так что же у вас там, в штабе Западного фронта, произошло за эти сорок пять минут? – еще более решительно наступал на командующего фон Штюльпнагель.
– У меня в штабе – ничего. Произошло в Берлине.
– Мне давно известно о том, что там происходит. Мы это уже обсуждали.
– Нам обоим известна была общая картина, – каждый из них старался кое-что недоговаривать, чтобы хоть как-то завуалировать суть разговора. Однако удавалось это с трудом да и делалось крайне небрежно. – Но в этом деле важны нюансы, генерал Штюльпнагель, нюансы.
«Черт бы тебя побрал с твоими «нюансами», – воспользовался небольшой паузой «командующий Францией», как называли Штюльпнагеля его же штабисты. – С Рундштедтом[15] все было иначе. У Рундштедта «да» всегда оставалось «да». Если только он не сказал «нет». Но тогда это «нет» – действительно «нет».
– Только что я связался с Кейтелем, – продолжал фон Клюге. – Он подтвердил, что покушение в самом деле состоялось, но фюрер жив и уже через два часа принимал у себя в гостях Бенито Муссолини.
– Муссолини?! – почти воскликнул Штюльпнагель и сам удивился, почему вдруг этот обычный «дворцовый» факт вызвал у него такую реакцию.
– А что в этом невероятного? – с холодной подозрительностью спросил фон Клюге. – Да, фюрер принял Муссолини, который, кстати, до сих пор находится у него в ставке. Почему вы молчите, генерал Штюльпнагель?
– Фон Штюльпнагель.
– Что? – запнулся на полуслове фон Клюге. – Ах да, мы решили перейти на официальный тон.
– Я жду, когда вы произнесете то, ради чего потревожили меня, мешая наслаждаться британской прохладой.
– Наслаждайтесь, наслаждайтесь, своей «британской, прохладой»… – зловеще проговорил фельдмаршал, сочтя поведение генерала крайне вызывающим. – Но можете считать, что мой окончательный ответ вам известен. При сложившихся в Берлине обстоятельствах рассчитывать на мою помощь не советую. Мало того, приказываю все имеющиеся в наличии вооруженные силы направить на сдерживание наступления англо-американских войск. «Бри-тан-ская прохлада…» – саркастически прорычал он.
Положив трубку, фон Штюльпнагель еще с минуту смотрел на нее, понимая, что с окончательным отказом фельдмаршала от участия в операции «Валькирия» ситуация резко изменилась не только в Берлине, но и здесь, во Франции. Он был потрясен циничными торгами командующего западной группировкой войск.
О том, что фон Клюге дал согласие поддержать путчистов, Штюльпнагеля уведомили еще тогда, когда фельдмаршал командовал группой армий «Центр», бездарно сражаясь на Восточном фронте. Решение Гитлера перебросить фон Клюге на Запад сразу приободрило «валькиристов». Им казалось, что с этого времени в их распоряжение поступили все войска, расположенные во Франции, Бельгии, Голландии и Люксембурге. Следовательно, даже в случае провала заговора в Берлине группировка фельдмаршала Гюнтера фон Клюге способна была самостоятельно выступить против Гитлера, пойдя на сепаратное перемирие с командованием союзных армий.
Так им казалось и так они планировали. Хотя фельдмаршал неоднократно предупреждал: на его помощь следует рассчитывать только в том случае, если покушение на фюрера окажется успешным. Но кто из путчистов сомневался в этом?
Около двух часов назад, узнав из сообщения берлинского радио, что Гитлер остался жив, фон Клюге тотчас же поспешил откреститься от заговорщиков, о чем прямо уведомил Штюльпнагеля, потребовав от него прекратить всякие приготовления к путчу. Однако выполнить этот приказ «командующий Францией» отказался. Последовавшее ровно через полчаса после этого трогательное уведомление фон Клюге о том, что он, пожалуй, сможет поддержать некоторые усилия «валькиристов», Штюльпнагель воспринял с такой же злорадной иронией, с какой фон Клюге только что произнес свое «наслаждайтесь, наслаждайтесь». Оказалось, подействовала телетайпограмма фельдмаршала Витцлебена, уверявшая, что официальное сообщение из «Волчьего логова» – ложь.
И вот только что – третий звонок. Насколько же нужно не уважать себя, чтобы так презренно вилять хвостом, ежечасно меняя свое отношение к перевороту!
«Все равно о моем участии в заговоре в ставке фюрера уже знают. Или узнают в ближайшее время» – размышлял Карл-Генрих Штюльпнагель, прикрывая окно. Необходимости в свежих порывах нордического ветра уже не было. Окажись у генерала нервы послабее, от одного звонка фельдмаршала его прошиб бы холодный пот. – Поэтому отступать поздно. К тому же нас поддержит военный губернатор Бельгии генерал фон Фалькенхаузен и главнокомандующий группой армий «Б» Роммель. Твердость фельдмаршала Роммеля – против трусости фельдмаршала Клюге… Так выглядит сейчас основная линия противостояния на французском театре военно-политических действий».
Его раздумья опять прервал телефонный звонок.
– Здесь генерал Шпейдель из штаба главкома на Западе, – услышал военный губернатор Франции хорошо знакомую скороговорку. Шпейдель всегда спешил. В нем буйствовал какой-то подсознательный страх человека, боящегося, что его обязательно прервут, не выслушав до конца, на полуслове. – У вас появились какие-то новости? Изменились планы? Я готов выслушать вас, генерал.
– Услышав ваш голос, я решил, что это не вы, а ваш дух, вызванный моими душевными стенаниями, – позволил себе романтическое отступление Штюльпнагель, что вполне было в его характере. Иногда, забываясь, он мог предаваться романтическому бреду даже во время совещаний. Особенно когда совещание вел он сам. Подчиненные знали его слабость и мирились с ней, как с безвредным, хотя и надоедливым пунктиком шефа.
– О чем вы, господин Штюльпнагель?
– Да только что подумал о вас…
– А я говорю о деле, – грубовато уточнил Ганс Шпейдель.
– Если о деле, то в моих намерениях ровным счетом ничего не изменилось. Несмотря на звонок фельдмаршала.
– Фон Клюге? – насторожился генерал.
– Его.
– Значит, опять?..
– Сплошной «позор без всякого приличия».
В иной обстановке, после любимой фразы фон Клюге, они, конечно же, рассмеялись бы.
– Я не знал этого. Пытался поговорить с ним, но, как мне показалось, фельдмаршал избегает разговоров на эту тему.
– Можете считать, что я предупредил вас, Шпейдель. Однако мое решение остается прежним. Надеюсь на вашу поддержку.
– А что Роммель?
– И на его поддержку – тоже.
– Все, что будет в моих силах, в пределах должностной компетенции[16], – заверил Шпейдель так, как мог заверить только истинный штабист.
– Может случиться, что самой действенной помощью вашей станет ваше полное бездействие.
– Что-что, а бездействию мы научились. В истинно бюргерском духе.
– Полагаясь на это ваше «умение», как на Господа Бога, я и приступаю к заключительной фазе плана «Валькирия».
19
– Господин командующий, – тихим, прискорбным голосом обратился к Власову полковник Сахаров. – Случилось нечто страшное.
Власов оторвался от бумаг, которые изучал, сидя за столом в своем штабном кабинете, и удивленно уставился на адъютанта-порученца.
– Что вас так испугало, полковник, что русские уже в Берлине?
– Мне бы тоже хотелось шутить по этому поводу, но позволю себе заметить, что «русские в Берлине» интересуют меня куда меньше, чем немцы в том же Берлине. У них здесь переворот. У этих самых «немцев в Берлине».
Сахаров проследил, как Власов медленно, словно в полусонном состоянии, поднимается из-за стола, и лицо его бледнеет.
– Какой еще переворот? – срывающимся голосом спросил Власов. – В Германии это невозможно.
– Мне тоже так казалось.
– Кто… пришел к власти?
– Пока неизвестно, – повертел головой Сахаров.
– Что с фюрером?
– П-пока неизвестно, господин командующий.
– Гиммлер, Кейтель?
– Пока неизвестно, господин командующий.
– Кто же во главе заговорщиков, полковник?
– П-пока неизвестно.
– Тогда хоть что-нибудь, что вам доподлинно известно?.. – перегнулся через стол Власов, упираясь в бумаги громадными костлявыми кулачищами. – Хоть что-нибудь, что вам известно!.. А если вам абсолютно ничего неизвестно, то какого черта?!
– На фюрера совершено покушение, – бросился спасать свой престиж полковник. – Прямо в ставке, в «Вольфшанце». Взорвана мина или что-то в этом роде. В Берлине происходит черт знает что. Никто не может толком понять, какие конкретно имена стоят за этим взрывом, но ситуация накаляется. Если фюрер действительно погиб, как утверждают некоторые…
– Значит, такие утверждения уже появились?
– Причем усиленно муссируются. Кому-то это выгодно. Так вот, если Гитлер погиб…
– Или если он остался жив… Еще неизвестно, что страшнее. И кто на самом деле стоит за этим покушением. Ведь не исключено, что генералитет вермахта. И дай-то бог, чтобы не СС.
– Этого-то я и опасаюсь, господин командующий. В вермахте, в авиации и даже в СС появилось немало вольнолюбивых офицеров. И я вполне допускаю, что некоторые из них были связаны с нами.
– Что вы имеете в виду?
– То есть не только поддерживали связь с нами, но и поддерживали наши идеи.
– Которые так и не были восприняты фюрером, – растерянно добавил Власов.
Они умолкли и несколько секунд бездумно смотрели друг на друга. Вид у обоих был такой, словно это они организовали заговор и покушение на фюрера, потерпели полный крах и теперь ждут своей участи.
Командующий встал из-за стола, подошел к окну и посмотрел на открывавшийся оттуда полигон, на котором с утра до ночи тренировались будущие офицеры и солдаты разведрот РОА. Но теперь он был на удивление пуст, и вообще всю Дабендорфскую школу вдруг охватила такая странная тишина, будто все заблаговременно бежали отсюда, бросив своего командующего на произвол судьбы.
– Где капитан Штрик-Штрикфельдт?
– На территории школы его нет. Я проверял. Барон Георг фон дер Ропп утверждает, что капитан отправился в Берлин. Но он не уверен.
– Давно он отправился туда? Или же мог отправиться?
– Утром.
– Странно. Об этой поездке он не предупреждал. – Власов мельком оглянулся на Сахарова, как бы спрашивая: «И что бы его непредвиденный вояж в столицу мог значить?»
– Не думаю, – твердо ответил полковник, очень отчетливо расшифровав смысл этого взгляда. – А главное, не хотелось бы.
– А что барон фон дер Ропп? Он не мог бы связаться с Берлином?
– Если прикажете вы… Сейчас приглашу.
Барон появился минут через пять. Внешне он был блаженственно спокоен, как невинное дитя посреди наделанной им на полу лужи. Щупловатый, с утонченными чертами непризнанного гения, он мало напоминал тех истинных германских офицеров, какими привык представлять их себе Власов. Возможно, это несоответствие и мешало командующему РОА воспринимать капитана Роппа всерьез. И тем не менее…
Власов отпустил полковника и пригласил барона сесть за стол. Угостив фон дер Роппа французской сигаретой, он не торопился с вопросом, словно давая барону возможность собраться с мыслями.
– Где именно находится сейчас капитан Штрик-Штрикфельдт, вы, насколько я понял, пока не знаете, – с трудом нарушил это молчание командующий.
Барон помнил: каждый раз, когда этот прощелыга Штрик-Штрикфельдт внезапно исчезает, Власов начинает нервничать. Командующий по-прежнему довольно плохо говорил по-немецки, но еще хуже разбирался в тонкостях взаимоотношений между различными военными и политическими ведомствами и вообще во всем том, что происходило в Третьем рейхе. Кроме того, в сознании недавнего пленного все еще просматривался комплекс лагерника, не успевшего свыкнуться с тем, что он уже свободен. Штрик-Штрикфельдт оставался для него своеобразным жрецом воли, жрецом-спасителем.
– Уверен, что он позвонит, – с приятным, изысканным немецким акцентом проговорил барон. Будучи руководителем учебной программы школы, он зря времени не терял, его русский улучшался день ото дня. Единственное, что неприятно поражало Власова, – какая-то непостижимая заторможенность капитана, его вечно отсутствующий взгляд и меланхолически обреченная невозмутимость. – Как только представится возможность.
– Но у вас есть уверенность, что он сегодня же вернется сюда? – избегал Власов прямого вопроса о покушении на Гитлера, не желая, чтобы эта страшная новость пошла гулять по школе из его уст.
– Судя по событиям, которые разворачиваются сейчас в Берлине, все выезды из города могут оказаться перекрытыми. Причем неизвестно, какими силами.
– То есть?
– Верными фюреру или же верными заговорщикам.
– Ситуация может складываться даже таким образом?
Власов сделал глубокую затяжку и, не выпустив, кажется, ни одного кольца дыма, словно полностью вобрал его в себя, глухо спросил:
– Но фюрер-то, надеюсь, жив? Гиммлер, Борман? Что вам известно по этому поводу?
– Официально – пока ничего. Из неофициальных же источников… Был звонок из штаба генерала Фромма.
– Армии резерва, – кивнул Власов, давая понять, что в дополнительных объяснениях не нуждается!
– Звонок был не мне, а командиру батальона охраны местного гарнизона. Звонивший ему офицер утверждал, что фюрер погиб и что вся власть переходит в руки патриотически настроенных офицеров. Хотел бы я знать, что из себя представляют эти «патриотически настроенные офицеры», – жестко, сквозь сцепленные зубы, проговорил барон. – Я никогда не был поклонником фюрера, об этом известно всем, кого интересовало мое мнение. Точно так же известно, что я не раз критиковал действия и решения фюрера. Тем не менее я не изменю присяге.
«Подстраховывается, – иронично подвел итог его заявлению Власов. – Теперь многие из них будут подстраховываться».
– И потом, если некая группа офицеров объявляет себя «патриотически настроенными», то как следует воспринимать самих себя нам, тем, кто верно служил рейху и фюреру и кто никогда не смел усомниться в своем патриотизме?
– Это вопрос скорее философский, нежели политический, – уклончиво ответил командующий, не зная, каким образом помочь барону разобраться в его сомнениях. Помог бы кто-нибудь ему, Власову, разобраться в своих собственных.
– Вопрос долга и чести.
– Что ж, придется подождать, барон. Послушать, что говорит радио. – В кабинете командующего радио не было. Немецкий он понимал плоховато, а слушать русские радиостанции опасался.
Барон понял, чего от него хотят, поднялся и, взяв со стола фуражку, вежливо-учтиво откланялся.
– Простите, господин командующий, – вдруг остановился он уже в проеме двери, – но нам, очевидно, следует объявить тревогу, закрыть ворота и усилить охрану. Мало ли как будут складываться обстоятельства. У нас здесь как минимум шесть сотен вооруженных людей, и какое-то время мы способны…
– Объявлять тревогу не будем, капитан. Зачем давать повод для ненужных толкований? Усилить охрану ворот – это да. Объявить обычный, – подчеркиваю: самый обычный для нашей школы – тренировочный сбор, с выдачей имеющегося оружия – другое дело.
Барон вежливо и бесстрастно смотрел на командующего. Но Власов уже знал, что по лицу капитана трудно было когда-либо определить: согласен он или возражает. Похоже, что некоторых людей мумифицируют не после смерти, а сразу после рождения. Барон – наглядный пример подобного святотатства.
– И еще, – задержал его Власов. – Разошлите посыльных по всем известным вам квартирам и «тайным любовным явкам». Офицеры РОА, находящиеся на этот час в Дабендорфе, должны немедленно явиться сюда. Никто не имеет права оставлять территорию школы без моего разрешения.
– Очень важное решение, господин командующий. Мы не должны терять людей. Или накликать на них подозрение.
20
Условный сигнал о начале операции «Валькирия» Отто Ремер получил у себя на квартире. Едва он вернулся из казарм охранного батальона, располагавшегося неподалеку от его дома, как зазвонил телефон и кто-то из офицеров штаба армии резерва, не представившись, твердо произнес:
– Майор Ремер, «Штиф приведен в движение». Вы все поняли?
– Какой еще «штиф»? – проворчал майор. Он улегся на койку прямо в сапогах, уложив ноги на перила кровати, и не желал выслушивать никакие дурацкие розыгрыши.
– С вами говорят из штаба армии резерва, – нервно повторил звонивший, втолковывая непонятливому майору каждое слово. – «Штиф приведен в движение». Приступайте к осуществлению операции «Валькирия».
– Да с кем я говорю, ангелы-хранители?!
– С офицером из штаба армии резерва. Моя фамилия вам ничего не скажет. Я звоню по поручению полковника Штауффенберга. Повторяю: «Штиф приведен в движение». Более подробные инструкции вы получите в комендатуре города от коменданта генерал-полковника фон Хазе.
И связь прервалась.
Швырнув трубку на рычаг, майор еще несколько минут смотрел на нее, как бы раздумывая, стоит ли то, что он только что услышал, нескольких минут его блаженного отдыха или же послать к черту весь штаб армии резерва и?..
«Но постой, майор, – сказал он себе. – Этот ангел-хранитель говорил об операции «Валькирия». Значит, что-то там произошло».
Ремер вспомнил, что два дня назад получил секретный приказ из штаба армии резерва, которым, в случае «непредвиденных обстоятельств, связанных с беспорядками в Берлине», его батальону предписывалось немедленно поступить в распоряжение коменданта Берлина генерала фон Хазе и выполнять «любые его приказы».
Ремер не придал тогда какого-то особого значения этому предписанию. Ситуация на фронтах была сложной, и в Берлине, конечно же, могли возникнуть какие-то беспорядки. Правда, уже тогда у него возникли сомнения: «При чем здесь секретные приказы? Операция «Валькирия»? Условный сигнал – какой-то там «штиф», который приведен в движение? Когда, наконец, здесь, в тылу, перестанут играть в штабные игры? Отдайте четкий и ясный приказ, куда идти и что делать, – и его батальон наведет полный порядок. Вот в чем он ни минуты не сомневался, так это в том, что его батальон наведет порядок повсюду, куда бы ни послали.
Командование батальоном «Гроссдойчланд» майор принял только недавно, но тыловую дурь из некоторых разгильдяев уже успел выбить, твердо заявив своим воякам, что сделает из них настоящих солдат, храбрости которых позавидует любой фронтовик, прошедший Восточный фронт с июня 1941-го.
Поднявшись с постели, майор взялся было за бутылку с коньяком, но, вспомнив, что объявлено начало операции «Валькирия», решил: в такой ситуации лучше быть патриотически трезвым. Майору шел лишь тридцать второй год[17]. Но в этой войне он уже успел повоевать на всех фронтах, какие только были, и восемь ранений свидетельствовали не столько о его невезучей солдатской доле, сколько о безумной храбрости и невероятном везении. Для многих сверстников-офицеров выпуска 1935 хода оказалось достаточно одного ранения, одной передряги, подобной тем добрым двум десяткам, через которые прошел он.
Ремер не знал, каким образом о его подвигах стало известно фюреру, но после восьмого ранения, которое майор получил при обстоятельствах, сразу же обросших фронтовыми легендами, фюрер лично вручил ему «дубовые листья» к Рыцарскому кресту и назначил командиром охранного батальона «Гроссдойчланд». Конечно, это еще не батальон войск ОС, о котором мечтал Ремер, уже видя себя в черном мундире штурмбанфюрера, однако же и времена наступали такие, что затевать переход в войска CС ему уже не хотелось. Тем более, что батальон «Великая Германия» из дивизии того же наименования считался в вермахте одним из элитных, а служба в нем казалась вчерашнему фронтовику пребыванием в бессрочном отпуске.
А тут вдруг операция «Валькирия». Почему бы не воспользоваться ею? Впрочем, и сейчас ни одна мразь не посмеет упрекнуть майора Ремера, что он отсиживается в тылу. «А посмеет – глотку изорву», – твердо сказал себе Ремер, давно избавившийся на фронте от тех немногих интеллигентских слабостей, с которыми отправлялся туда. У него был свой, особый лексикон и свой стиль общения, с применением которых он особенно не переменился.
* * *
В просторном кабинете коменданта Берлина уже собралось человек двадцать и, чтобы не создавать толчею, несколько вновь подошедших командиров предпочли остаться по ту сторону открытой двери, в приемной. Однако у майора Ремера возникли вопросы, которые он хотел задать лично генералу фон Хазе. А если уж он ощущал потребность кому-то лично задать вопрос, то задавал его даже в том случае, когда в ответчиках числился Господь Бог. Да простятся ему, Господу, все те вопросы, на которые по лености своей он не ответил. Поэтому приемная майора не устраивала, он пошел напролом, бульдозерно прорываясь к самому столу коменданта.
Оказывается, офицерский совет заговорщиков еще только начался. Лишь заметив появление в кабинете Ремера, генерал решил, будто все в сборе, что навело майора на мысль, что во всей этой катавасии его батальону отводится какая-то особая роль. Мельком оглядев собравшихся полковников и подполковников, майор еще больше утвердился в этой своей догадке, поскольку люд перед ним представал в основном штабной да тыловой, не имевший в своем распоряжении никакой реальной воинской силы.
– Господа офицеры, – постучал кулаком по столу генерал-полковник, давая понять, что нельзя больше терять ни минуты. – Все вы знаете, что только что из штаба армии резерва поступил приказ командующего о введении в действие плана операции «Валькирия», в ходе которой мы обязаны предпринять ряд мер по охране наиболее важных объектов города и подавлению любых антиправительственных выступлений. Подчеркиваю: любых…
– Позвольте, но что произошло? – не удержался майор Ремер.
– Это интересует всех нас. В штабах творится полная неразбериха, – поддержал его какой-то подполковник-артиллерист, очевидно, прибывший из части, расквартированной где-то в дальнем предместье Берлина, поскольку здесь, на Унтер-ден-Линден, Ремер никогда не встречал его. – Мы получаем приказы, смысл которых совершенно не ясен офицерам.
– Я ждал этого вопроса. – Генерал старался держаться как можно естественнее. Но Ремер видел, как дряблые, покрытые пигментными пятнами старчества щеки его и по-индюшиному отвисший морщинистый кадык почти при каждом слове нервно вздрагивали. – Чувствую, что настала пора говорить откровенно. Я, конечно, знаю пока что не все. Но то, что мне уже известно, позволяет сделать следующее заявление: господа, фюрер погиб! Будем считать это результатом несчастного случая, – фон Хазе выдержал паузу, дабы дать возможность собравшимся офицерам осознать всю трагическую важность момента.
– Не может быть! – с ужасом вырвалось у кого-то. – Такого попросту не может быть.
– До меня тоже дошли какие-то слухи, – угрюмо признался артиллерист. – Но в это невозможно поверить.
– То, что сказано только что мною – уже не слухи, – на удивление бодро заверил их фон Хазе.
– Значит, операция «Валькирия» специально готовилась на тот случай, когда фюрер погибнет? – негромко, но с достаточной долей иронии, поинтересовался Ремер. Он считал, что ему это позволительно. Есть только один офицер, которому он пока еще уступал в славе – майор СС Отто Скорцени. Но и это «соперничество на равных» он считал временным. – В таком случае мы имеем дело с заговором.
– Я не знаю подробностей, – не дал втянуть себя в дискуссию генерал, – но мне известно, что произошел несчастный случай, и фюрер погиб или, в крайнем случае, находится в очень тяжелом состоянии, при котором уже не способен принимать какие бы то ни было решения. Чтобы предотвратить возможные беспорядки, а также не допустить государственного переворота, армия, в лице группы патриотически настроенных генералов, взяла власть в свои руки.
Ремер грустно улыбнулся: «С этого и следовало начинать, генерал».
– Исходя из создавшейся ситуации и во исполнение приказа командующего армией резерва, – продолжал тем временем комендант Берлина, – вашему батальону, майор Ремер, предстоит сделать следующее. Силами двух рот немедленно блокировать правительственный квартал. В помощь вам будут приданы подразделения полиции. Ваша задача: удерживать этот квартал до подхода частей, которые выделит командующий округом Берлин – Бранденбург генерал фон Кортцфлейш. Кроме того, одна рота вашего батальона должна быть направлена на Бендлерштрассе для усиления охраны штаба армии резерва.
– Приказ ясен, господин генерал.
– Но кто нам будет противостоять? – вновь подал голос неугомонный подполковник-артиллерист. – Мы должны знать силы, с которыми придется столкнуться.
– Это мы должны противостоять… Всем, кто не подчинится плану операции «Валькирия», – с истинно фельдфебельской безапелляционностью отрубил генерал.
– Если с фюрером что-то произошло, то жив рейхсмаршал Геринг, – куда более убедительно парирует Ремер. – Его официальный преемник. Почему он молчит? Почему приказы исходят не от него? И потом, как понимать: «Армия взяла власть в свои руки»? В чьем конкретно лице? Кто принял на себя ответственность? А главное, кто командует врагами рейха? Я со своими парнями глотку ему изорву.
– Вы получили приказ, майор Ремер? – теряет самообладание генерал, не ожидавший от комбата подобной непонятливости. – Немедленно приступайте к его выполнению.
Ремер немного колеблется, но приказ есть приказ. В коридоре комендатуры он встретил адъютанта фон Хазе – майора Хайессена и попытался поговорить с ним, но адъютант еще менее был склонен к рассуждениям и логическим умозаключениям, чем его шеф.
«Что ж, майор, – сказал себе командир батальона «Гроссдойчланд». – Этот приказ ты, конечно, выполнишь. Но что-то тут не то».
Прибыв в расположенный неподалеку штаб батальона, Ремер оказался в таком же положении, в каком только что представал перед ним комендант Берлина. Но все вопросы и недоумения своих офицеров он пресек значительно жестче, чем это позволил себе сделать генерал.
– Меня не интересует, показался ли этот приказ идиотским или гениальным, – заявил он. – Немедленно выводите роты в указанные районы. И впредь все мои приказы выполнять беспрекословно. Если кто-то из вас все еще не побывал на фронте, то я сумею помочь ему попасть туда.
«Глотку изорву», – добавил он про себя, красноречиво положив руку на кобуру.
Однако необходимости «рвать глотки» так и не возникло.
На офицеров действовала магия исключительной храбрости их командира, за которым они готовы были идти в огонь и воду. Кроме того, каждый понимал: командир охранного батальона, только недавно принявший из рук фюрера «дубовые листья» к Рыцарскому кресту и новый чин, не способен предать его.
Но пока офицеры поднимали по тревоге и рассаживали по машинам свои роты, майор позвонил давнему знакомому, доктору Эйзеру, который, как ему было известно, поддерживал кое-какие отношения с Геббельсом.
– Это слишком серьезно, чтобы оставить действия коменданта Берлина без внимания, – оживился доктор, как только Ремер вкратце пересказал ему события, происходившие в гарнизонной комендатуре. – Я сейчас же отправляюсь в министерство пропаганды и попытаюсь связаться с рейхсминистром Геббельсом.
21
В этот день Еву угнетало предчувствие чего-то страшного. Она бесцельно слонялась по «Бергхофу», подолгу стояла у окна, выходящего на Келштейн, или нервно прохаживалась по галерее. В конце концов нервы ее сдали. Сразу же после обеда она не выдержала и пригласила в гостиную начальника охраны резиденции штандартенфюрера фон Кефлаха.
Он появился в гостиной у «божественного камина», у которого Гитлер обычно читал свои «прикаминные проповеди», вопиюще растерянным, его глаза виновато выскальзывали из-под взгляда первой фройлейн рейха и столь же виновато прятались под нависающими косматыми бровями. И вообще фон Кефлах вел себя, как провинившийся пес.
– Что-то случилось, господин штандартенфюрер? – негромко, взволнованно спросила Ева.
Фон Кефлах тупо оглядел пространство вокруг себя и озарил грубоватое, вечно покрытое какими-то чешуйками, кирпичное лицо неким подобием придурковатой улыбки.
– А что, что-то случилось?
– Штандартенфюрер фон Кефлах, – укоризненно покачала головой Ева, поднимаясь со своего кресла и нервно прохаживаясь на виду у начальника охраны. – У каждого из нас вполне достаточно собственной глупости, зачем ее занимать у комедиантов? Вам что-нибудь известно? Что именно? От меня скрывать не нужно.
– По поводу чего? – с услужливой улыбкой дворецкого подался вперед в полупоклоне фон Кефлах.
Ему уже было за сорок. Высокий и тощий, он менее всего подходил к роли начальника охраны чего бы то ни было, не говоря уже о резиденции фюрера. Никакой внушительности, никакой надежности. Но Гитлер почему-то избрал именно его, и доверял только ему, произведя из гауптштурмфюреров сразу в штандартенфюреры, то есть из капитанов да в полковники. Хотя все знали, что этот служака иногда не проявлял никакой особой лояльности ни к Гитлеру, ни тем более – к Еве.
Иное дело, что служить он умудрялся с рабской учтивостью, которая, говорят, была заложена в нем от рождения, как у всякого слуги в десятом поколении. Приставка «фон» появилась у фамилии только его отца, по стечению каких-то странных брачных обстоятельств. Впрочем, мало ли что могут говорить о человеке, совершившем столь фантастическую карьеру.
– Ну хоть что-нибудь произошло? Здесь, в Берхтесгадене, в Мюнхене, в Берлине, наконец?
– Я узнал бы об этом первым, – облагораживал штандартенфюрер свою неблаговидную рожу благосклонной улыбкой. – Вы же понимаете, что первым о чем-либо случившемся в «Бергхофе» и его окрестностях должен узнавать я.
– Только поэтому и пригласила вас, – как можно вежливее, почти с унизительной доверительностью объяснила Ева Браун. – Возможно, англо-американцы вошли в Париж?
– В Рим – да. Но об этом я уже сообщал вам. Фюрер воспринял это известие куда взволнованнее, чем радующийся своему спасению Муссолини.
– Фюрер, – ухватилась за неожиданно поданный кончик ниточки Ева. – Никаких сведений, касающихся фюрера, вы не..? Но я ведь знаю, что все свободное время вы просиживаете у радиоприемника. Там, в вашей караулке, он работает круглосуточно. Я несколько раз включала свой, но ничего…
– Вот видите, фройлейн Браун. Я тоже включал – и ничего. Душный день. Над торами формируется какой-то циклон. Люди нервничают. Это я вам говорю как человек, родившийся здесь, в Баварских Альпах.
До войны Кефлах увлекался спелеологией. Утверждали, что он прекрасно знает не только сами горы, но и все, что сокрыто под ними, – каждую пещеру, каждую штольню заброшенных шахт. В последние дни пребывания в «Бергхофе» Гитлер несколько раз подолгу беседовал с ним, интересуясь пещерами. И даже попросил Кефлаха сделать для него карту пещер и шахт. Может, в этих познаниях – секрет карьеры Кефлаха?
– И все же у меня предчувствие.
– Понимаю, – доверительно признался начальник охраны, он же – комендант «Бергхофа».
– Если вы вдруг узнаете о чем-нибудь таком…
– Вы будете первой и последней в этом замке, кому я немедленно сообщу об этом.
Уходя, фон Кефлах продолжал растерянно ухмыляться и успокоительно помахивать руками, словно врач, успокаивающий пациентку, которой только что вынес смертный приговор-диагноз.
«Насквозь видит, шалава, проворчал он про себя, выйдя из здания резиденции и направляясь в свою, отдельно стоящую, караулку, где у него был довольно уютный, хотя и вечно прокуренный и пропитанный запахами спиртного, кабинет. – Откуда у нее это собачье чутье? Так ведь разве только у нее?»
Минут пятнадцать назад с ним по прямому проводу связался адъютант Гиммлера штандартенфюрер Брандт. Прямо из «Вольфшанце».
– Прошу прощения, фон Кефлах, за несвоевременный звонок, – расточал он свои полуинтеллигентские сопли. – Но мне приказано сообщить вам, что только что на фюрера совершено покушение.
«Идиот!» «Прошу прощения», «ему приказано»… Брандта фон Кефлах, конечно, терпеть не мог. Как и Гиммлера. Но тут уж неприязнь взаимная. Гиммлер начинал подозревать и ненавидеть каждого, кого фюрер подпускал хоть сколько-нибудь близко к себе.
– Что вы такое говорите, Брандт?! Теперь у вас там от комариной тоски так глупо шутят?
– Подробности в «Бергхофе», прошу прощения, должны знать пока что только вы. Остальные узнают о некоторых из них из обращения самого фюрера к народу.
– Значит, покушение все же было?!
– Стал бы я, прощу прощения, попусту тревожить вас.
– Но, к счастью, неудачное, – утирал пот рукавом френча фон Кефлах.
– Не все почитают за счастье узнавать об этом, – елейно изливал свои верноподданнические чувства Брандт, так, как он себе представлял подобное излияние. – Но вы должны предпринять все возможное, чтобы фройлейн Браун ничего об этом не узнала. А если и узнает, если только она случайно узнает, – смягчите удар. И уж ни в коем случае не допустите, чтобы она решилась оставить «Бергхоф».
– То есть предельно усилить охрану?
– В целях ее же – и вашей тоже, полковник, – безопасности.
– Она не имеет права покидать личную резиденцию фюрера?
– Я бы, прошу прощения, сформулировал это мягче: у нее не должно возникать такого желания. За спокойствие и безопасность фройлейн Браун отвечаете лично. Если взрывают бомбы в зале совещания фюрера, их могут взрывать и в ее спальне. Или, может быть, вы не согласны с логикой моих предположений, штандартенфюрер?
– Я ведь знаю, что это логика самого рейхсфюрера, – мелко отомстил ему за все его идиотские недомолвки фон Кефлах.
* * *
… Однако невозможно было скрыть от Евы то, чего скрыть в любом случае невозможно. Стоя у окна, она видела, как у резиденции появились две машины с эсэсовцами, которые сразу же живой изгородью оцепили «Бергхоф». Прохаживаясь у здания, она заметила, как взволнованно переговаривались между собой офицеры, предпочитавшие сразу же умолкать и расходиться, как только она пробовала приблизиться к ним.
«С фюрером что-то произошло… – уже в сотый раз твердила она себе, возвращаясь в гостиную, из окна которой хорошо просматривался въезд на территорию резиденции. – То ли с ним, то ли что-то случилось в Берлине. Что-то страшное. И против меня составлен настоящий заговор. Мне об этом еще не говорят, но, по существу, я уже нахожусь под домашним арестом. Если фюрер погиб или хотя бы отстранен от власти, то сегодня же они убьют и меня. Они пока еще растеряны. Или ждут приказа. Конечно же, приказа…»
– Хватит дурачить меня, штандартенфюрер! – ворвалась она в кабинет коменданта. – Что вы пытаетесь скрывать от меня?! Вы что, не понимаете, чем это кончится для вас?
– К своему ужасу, понимаю, – продолжал фон Кефлах сидеть за столом, обхватив голову дрожащими руками. На Еву он не глядел. – Но все это в любом случае чем-то кончится. И для меня, и для всех нас. Такие изрыгания судьбы зря, просто так, не проходят.
– Тогда слушайте меня, вы, «изрыгание судьбы», – ухватила его за плечо Ева. Фон Кефлах уже знал, какой решительной она бывает, впадая в ярость. – Если вы сейчас же не скажете мне всю правду, я пристрелю вас из вашего же пистолета. И потом положу его на ваше надгробие. Такое будущее вас устраивает?
– На фюрера совершено покушение, – безо всякого перехода, без какой-либо попытки хоть как-то подготовить Браун к этой страшной новости, брякнул он. – Какая-то мразь подложила бомбу прямо ему под стол. Один из офицеров погиб. Несколько ранено. Но сам фюрер, с благословения Бога, уцелел.
Ева обмерла от неожиданности, в ужасе отступила на шаг и, едва удержавшись за кончик стола, осела на стул.
– Бомбу? – тихо спросила, она, глядя на фон Кефлаха расширенными от ужаса глазами.
– Бомбу, бомбу… – с убийственной простотой подтвердил тот. – Какие только способы они уже не избирали. Когда-нибудь мы узнаем всю правду о них и ужаснемся.
– Прямо под стол, за которым он сидел?
– Дубовый стол его, очевидно, и спас.
– Это правда? – со всепрощением богоматери гладила Ева руку штандартенфюрера. – Сейчас вы, конечно же, говорите правду: он жив? – с надеждой заглядывала ему в глаза.
– Так все говорят.
– Что он жив?
– Кто-то умер от ран, кто-то покалечен. Но фюрер, как всегда, спасен. Как всегда. А значит, и мы тоже спасены. Слишком уж крепко связаны.
– Но раны-то у него есть, – не воспринимала Ева страхов эсэсовца.
– Это похоже на чудо, но ран нет. Так мне сказали.
– Это и есть чудо, – с упрямством юродивой гладила его руку рейхсналожница. – В том-то и состоит настоящее чудо. Столько врагов у него, столько иуд предает, столько убийц подсылают, но фюрер остается с нами.
Ева замедленно, словно лунатичка, поднялась, постояла напротив подхватившегося штандартенфюрера в беспросветном забытьи и негнущимися ногами пошла к двери.
– Я буду слушать приемник, фройлейн Браун. Как только фюрер начнет свое обращение к народу…
– Он будет обращаться к народу? – остановилась Ева.
Штандартенфюрер пожал плечами.
– Без этого, думаю, не обойтись.
– Об этом было объявлено?
– Нет. Но в таких случаях всегда обращаются к народу.
– Народ, плодящий стольких убийц и завистников, недостоин того, чтобы в эти страшные минуты фюрер обращался к нему, господин фон Кефлах. Вот в чем состоит истинная трагедия нашего фюрера.
Она повернулась лицом к начальнику охраны, и тот увидел, что страх и растерянность уже смыты с него. Перед ним твердое, суровое лицо женщины, вполне уверенной в том, что она достойна именоваться фюрершей, а значит, судить о достоинствах и недостатках своего народа.
22
Прошло несколько часов. Над горами сгустились сумерки. Последние лучи заката с трудом пробивались сквозь темно-синий занавес горизонта, пытаясь согревать остывающие склоны гор лампадным огнем надежды.
Все это время Ева сидела в полном одиночестве у незажженного камина, не включая приемника и не интересуясь у кого бы то ни было тем, что происходит в Берлине, в Восточной Пруссии, в Берхтесгадене.
Ее тоже пока никто не решался тревожить. «Бергхоф» хранил предгрозовое молчание, достаточно таинственное для того, чтобы в нем творились новые легенды горного пристанища фюрера.
Во время этого бессловесного моления у погасшего камина в гостиную несколько раз заглядывал штандартенфюрер фон Кефлах, но лишь для того, чтобы в очередной раз подтвердить: обращения к народу пока не последовало. Ожидается с часу на час. Но главное – фюрер жив. Однажды комендант даже сказал: «Фюрер по-прежнему жив». Добавив: «В Берлине все еще царит спокойствие. Пока что. Очевидно, уже сегодня ночью там начнутся аресты заговорщиков». Об этом ему сообщил кто-то из его берлинских знакомых, офицеров дивизии «Гроссдойчланд».
«Господи, да мне только бы услышать его голос, – сцепив руки у подбородка, повторяла Ева. – Хотя бы одно слово, чтобы я наконец убедилась, что он действительно жив. Что ничего страшного с ним не случилось…»
Она не доверяла. Ни тем заговорщикам, что затаились в «Вольфшанце», ни тем, что ждали его смерти, сидя по своим берлинским норам, ни тем, что окружали ее здесь и пребывали в страшном заговоре утаивания от нее истины. На которую она, кстати, имела куда больше права, чем любой из них.
Уже поверив, что никаких новых сообщений о событиях, разворачивающихся в «Вольфшанце», она не получит, Ева оставила в покое безмолвное зево камина и отправилась в свою келью, громко именуемую здесь «апартаментами фройлейн Браун».
Приемник она не включала, а просто тупо смотрела на задрапированный коричневатой тканью динамик, словно ожидала, что совершится еще одно чудо: радио заговорит, будучи невключенным.
– Фройлейн Браун, фройлейн Браун! – Она задремала и не слышала ни стука, которым фон Кефлах просил разрешения войти, ни его шагов.
– Что с вами, штандартенфюрер? – негромко спросила Ева, с инстинктивным страхом наблюдая, как полковник СС приближается к ней с каким-то свертком в руках.
Чем ближе он подходил, тем с большим ужасом воспринимала его появление в тихой, охваченной вечерним сумраком комнате Ева, будто опасалась, что в свертке ей тоже будет преподнесена бомба.
– Со мной-то ничего. Посмотрите, что было с фюрером. Извините, но я вынужден. Хотя казалось бы…
– О чем вы, Кефлах?
Штандартенфюрер ступил чуть в сторону, зажег свет и вновь, на вытянутых руках, будто святыню, поднес Еве все тот же сверток.
– Велено сразу же передать вам. Лично от фюрера. С приказом строжайше хранить.
– Но что это? – едва лепетала Ева. – Что в нем? Да разверните же его, чурбан! – вдруг сдали у нее нервы. – Что вы врываетесь ко мне и тычете черт знает что?!
– Прошу прощения, фройлейн. – Штандартенфюрер положил сверток на стол и развернул с такой деликатностью, словно распеленывал младенца. Затем осторожно извлек оттуда запыленные, со следами копоти, изрядно изорванные брюки и разорванный, с квадратной обгоревшей дырой на спине, китель. Который Ева сразу же узнала: это был китель Адольфа Гитлера.
– Что же вы скрывали от меня? – наполнились слезами и ужасом глаза Евы. – Значит, он все же…
– Фюрер, как я уже сказал, цел и невредим, – спокойно отчеканил Кефлах. – Теперь в этом можно не сомневаться. В полночь он выступит по радио. В «Вольфшанце» пока что нет радиостанции, которая позволила бы ему уже сейчас обратиться к народу.
– Но человек, на котором была эта одежда, не мог уцелеть… – потрясала Ева кителем Гитлера. – Он не мог уцелеть! Такую одежду снимают только… только с погибшего, – едва слышно молвила Браун.
– Вы абсолютно правы, фройлейн. Любой иной человек, под стол которого была бы подложена мина такой силы и одежда которого была бы превращена в подобные лохмотья, уцелеть не смог бы. Но вы забываете, что речь идет не о «любом человеке», а о фюрере великой Германии. Те, кто пытался покушаться на его жизнь, забыли об этом, но фюрер еще напомнит им. Вот увидите, фройлейн Ева, фюрер сумеет напомнить, против кого они затевали свое злодейство.
«А ведь таким образом штандартенфюрер уже замаливает какие-то свои собственные грехи и зашептывает страхи», – совершенно некстати подумалось Еве. Ибо не об этом она сейчас должна была думать, не об этом. Не преданность начальника охраны волновала ее сейчас.
– Как эта одежда попала к вам? Почему она здесь?
– По личному приказу фюрера[18], – щелкнул каблуками штандертенфюрер. – Как только он переоделся в новый мундир, этот, уже принадлежащий истории рейха и, несомненно, предназначенный для личного музея фюрера, приказал «немедленно доставить фройлейн Браун», то есть вам. С просьбой при любой ситуации сохранить его.
«Зачем он это сделал? – с горечью подумала Ева, вновь и вновь осматривая изодранную одежду. – Если он жив и все обошлось… зачем ему понадобилось так терзать меня? – Однако, немного поколебавшись, одернула себя: – Ты слишком жестока… Ему больше не с кем было поделиться… Эта посылка – крик любви и отчаяния. “Крик любви и отчаяния”, – повторила Ева, радуясь удачно найденному определению.
Еще с минуту Ева молча осматривала то, что осталось от одежды фюрера, все больше убеждаясь, что спасти его могло только Провидение. Должны были вмешаться какие-то совершенно немыслимые силы, чтобы не дать ему погибнуть.
– Ни в какой музей мира я этот мундир не отдам, штандартенфюрер, – резко молвила Ева. – Я сберегу его до последних дней своей жизни. Он будет храниться в нашем роду как святыня. Вы свободны, штандартенфюрер. Все равно молиться в вашем присутствии я не стану.
23
– У вас появились какие-то новости – да, нет? – медленно поднимал отяжелевшую от полусна-полураздумий, огромную косматую голову генерал-полковник Фромм.
– С нами полковник Штауффенберг.
– Я вижу, что с вами полковник Штауффенберг. Что он все еще с вами и среди вас, – отвечает Фромм, угрожающе набычившись и не предлагая вошедшим сесть. – В то время, как его усиленно разыскивают из «Вольфшанце». Что произошло, полковник? На совещании вы обязаны были докладывать о формировании новых дивизий из ополченцев. Причем докладывать в присутствии самого фюрера – да, нет? Почему вы не выполнили этого?
– Время ли выяснять сейчас, почему доклад не состоялся? – как можно спокойнее заметил Штауффенберг. – Зато вам хорошо известно, господин генерал, что к моменту взрыва я находился в «Волчьем логове», следовательно, могу подтвердить то, что вам уже известно.
– Что кто-то покушался на фюрера – да, нет? Так я знаю об этом от фельдмаршала Кейтеля, который находился в момент взрыва рядом с фюрером. И, как мне стало теперь известно, даже помог ему выбраться из-под обломков здания.
– Сомневаюсь, что ему это удалось.
– Полковник Штауффенберг утверждает, что на самом деле фюрер мертв, – пришел на помощь графу генерал Ольбрихт. – Он лично видел, как выносили его тело. Разве не так, полковник?
– И как павильон, в котором проходило совещание, взлетел на воздух, – ушел от прямого подтверждения Штауффенберг. Даже сейчас, понимая, что ложь Ольбрихта – это ложь во спасение, он не решался в открытую подтвердить ее.
– Что бы вы здесь ни утверждали, господа «валькиристы», а у меня нет оснований не верить человеку, которому я давно привык верить, как самому себе, – фельдмаршалу Кейтелю.
– Фельдмаршал откровенно лжет, – побагровело лицо Штауффенберга.
– Не забывайтесь, полковник, – смеривает его презрительным взглядом Фромм.
– Потому что он лжет…
– Но очень скоро мы узнаем, кто говорит правду – да, нет? А почему, собственно, вы вдруг покинули павильон, где проходило совещание, и оказались в Берлине?
– Он прибыл в штаб по моему вызову, – неожиданно вмещался Ольбрихт, считая, что еще не время раскрывать последний секрет этого обреченного штаба. – Получив подтверждение полковника Штауффенберга о том, что взрыв произошел, мы отдали приказ начать операцию «Валькирия».
– Кто именно отдал этот приказ? Кто конкретно?
– Полковник Мерц фон Квиринхейм.
– Но я запретил отдавать его до тех пор, пока он не будет исходить лично от меня, – стучит кулакам по столу Фромм, и не то чтобы поднимается во весь свой огромный рост, а как-то скользит над столом, словно хочет дотянуться до стоявшего ближе всех генерала Ольбрихта, чтобы схватить его за полу кителя. – Кто позволил отдавать какие-либо приказы командирам частей без моего ведома?
– Это было продиктовано обстоятельствами.
– Плевал я на ваши обстоятельства. Где этот фон Квиринхейм?!
– Полковник фон Квиринхейм здесь ни при чем, – пытается урезонить командующего Ольбрихт. – Он действовал по моему приказу.
– Ах, по вашему?! – только сейчас поднимается во весь рост генерал-полковник Фромм. – Значит, командуете здесь уже вы – да, нет?!
– Нам бы хотелось, чтобы командующим по-прежнему оставались вы, – ответил за Ольбрихта Штауффенберг. – Но для этого необходимо, чтобы вы решились взять на себя всю ответственность, а главное, избавились от сомнений.
– Послушайте, кто вы такой?! – окончательно звереет Фромм. – И по какому праву?.. Так можете считать, что с этой минуты вы уже не являетесь им. Что не освобождает вас от необходимости объяснить причину своего самовольного оставления ставки фюрера. Своего совершенно странного бегства из «Вольфшанце».
– Я не стану вам объяснять что-либо.
– А вы, Ольбрихт, немедленно отмените приказ, – тотчас же забыл о полковнике Фромм. – Никакой «Валькирии», пока я нахожусь на этом посту!
Он хватается за трубку телефона, но Ольбрихт решительно накрывает ее ладонью.
– Мне бы не хотелось, чтобы разногласия между нами зашли столь далеко, – осипшим голосом извещает он командующего.
– А если зайдут?
– Вы окажетесь в очень сложном положении. Поставив в не менее сложное и всех нас.
В двери появляется адъютант Штауффенберга. Никто не знает, почему он пришел сюда, однако Ольбрихт встречает его прибытие с такой радостью, словно явился их единственный спаситель.
– Обер-лейтенант, – твердым голосом приказывает он. – Сообщите дежурному офицеру узла связи, чтобы он отключил телефон командующего. Ни один приказ, отданный генералом Фроммом, не должен выйти за пределы этого здания.
Фон Хефтен выжидающе смотрит вначале на командующего, будто ждет, что тот отменит приказ, потом на Штауффенберга.
– А чтобы не усложнять процедуру ваших выяснений, – вступает в эту, почти театральную, сцену граф Штауффенберг, – должен сообщить вам, господин командующий, что это я совершил убийство фюрера. Выполняя волю группы генералов и офицеров, которые преследуют только одну цель – спасти Германию от окончательного краха.
Нижняя челюсть Фромма не выдерживает напряжения и отвисает, словно оторванная подошва солдатского сапога. Он смотрит на Штауффенберга с таким неприкрытым ужасом, что Ольбрихт и Бек поневоле проникаются им и тоже смотрят на графа так, словно слышат об этом впервые и поражены его поступком. Им не верилось, что полковник-террорист решится признать себя таковым.
– Значит, вот почему Кейтель столь подозрительно интересовался вами, – Ольбрихт прекрасно видел, как все еще отвисающая челюсть Фромма мелко задрожала. – Но в таком случае в ставке уже знают, кто это сорвался с цепи. И гестапо уже идет по вашему следу – да, нет?
– Оно давно идет по нашему следу, – возражает Штауффенберг, напоминая о том «общем следе», который в ставке фюрера неминуемо нащупают, если только они не станут действовать сообща и более уверенно.
– Тогда чего вы ждете, полковник? – упирается своими волосатыми кулачищами о стол командующий. – Пока за вами придут? Пока позор падет на весь штаб? У вас нет пистолета? Вам занять свой – да, нет?
– Если бы у меня было намерение покончить с собой, я сделал бы это без вашего совета, господин генерал, – сжал три уцелевших пальца своей единственной руки в искореженный кулак «последний спаситель Германии». – Но у меня иная цель. Я до конца выполню свой долг.
– Можете считать, что вы его уже «выполнили», несостоявшийся убийца фюрера. Не думайте, что Германия простит вам это злодеяние.
– Когда мы достигнем своей цели, я сам потребую суда над собой. Потребую его. И спокойно восприму любое решение.
Фромм смотрит на него, как на юродивого, и вначале несмело, а потом слишком громко, а потому совершенно неискренне, хохочет.
– Я твердо решил это для себя, зная, что в любом случае убийство рейхсканцлера и фюрера – преступление, – нервно объясняет граф. – Тем более, что оно повлекло за собой гибель и ранения людей, в чьей трагедии я был совершенно не заинтересован.
– Думаю, вас будут судить раньше, – мрачно пророчествует Фромм. – И не по вашей воле. Именно поэтому я и советовал бы вам самому опередить эти события, – красноречиво похлопывает он себя по кобуре.
– Господин командующий, – вмешивается в их совершенно неуместный сейчас диалог генерал Ольбрихт. – У нас нет времени на высокопарные слова. Но хотел бы напомнить, что операцию, к которой все мы сейчас причастны, еще можно спасти.
– Так вы здесь главный заговорщик, Ольбрихт? – обрывает его Фромм. Однако начальник штаба армии резерва не дает спровоцировать себя.
– В конце концов, совершенно неважно, погиб фюрер или жив. Каждому известно, что как фюрер, как символ возрожденной Германии он уже ничего из себя не представляет. А следовательно, он труп. Нас поддерживают фельдмаршалы Роммель и Клюге. За нами пойдет большинство командиров частей, расположенных во Франции. Мы еще сумеем остановиться у той пропасти, в которую загоняет нас Кейтель, с его слепым подчинением воле Гитлера и Гиммлера. Отстранив фюрера и его последователей от власти, мы сразу же вступим в переговоры с англичанами и американцами, то есть достойно выйдем из уже, по существу, проигранной войны. А возможно, и соединим свои усилия с нашими новыми союзниками в борьбе против большевиков.
– Что это вы мне проповеди здесь читаете? – опять побагровел Фромм, которого страшила сама мысль о том, что теперь он полностью посвящен в детали заговора. Ведь до сих пор Ольбрихт говорил в основном о ситуации, которая может сложиться, если фюрер будет отстранен. При этом он всегда намекал то на Гиммлера, то еще на кого-то очень влиятельного, который якобы стоит во главе заговора. И если он, Фромм, терпел подобные разговоры в своем кабинете, то лишь потому, что полагал, будто покушение произойдет без его ведома и участия. Его возглавят важные персоны из нынешнего окружения Гитлера, которые и возьмут на себя всю ответственность. Ему же, Фромму, останется лишь подтвердить свою лояльность новым руководителям Германии.
Но теперь генерал с ужасом открыл для себя, что центр заговора и даже сам несостоявшийся убийца находятся не где-то там, в окружения фюрера, а здесь, в возглавляемом им штабе. А покушавшийся стоит сейчас в двух шагах от него. Он, оказывается, здесь, перед ним! И что же дальше? Фюрер уцелел. Гиммлер, Геринг, Геббельс, Кейтель и весь прочий высший командный состав армии, СС и рейха остались верны ему. А Мюллер, Гиммлер и Кальтенбруннер только и ждут команды, чтобы окончательно разобраться, что к чему, и направить сюда батальон-другой эсэсовцев…
– Итак, я понял, что вы все трое являетесь непосредственными участниками заговора против фюрера и самого покушения на него?
– Мне кажется, нет, почти уверен, что вам это было известно задолго до сегодняшнего дня, – говорит Бек, незаметно пятясь к двери.
Он все еще был в гражданском и безоружен. Это заставляло его чувствовать себя совершенно лишним при подобных выяснениях отношений. Но еще больше его удручало то, что, как оказалось, заговорщики не только не скоординировали действия всего того генералитета, что поддерживал их, но и не позаботились даже о том, чтобы навести порядок здесь, в самом центре, в штабе заговора.
А ведь предлагая ему пост президента новой Германия, те же Ольбрихт, Гешшер, Герделер и Квиринхейм ясно давали понять, что он окажется совершенно непричастным к этому заговору, а следовательно, «не замаранным». Что очень важно было в смысле признания нового президента в дипломатических кругах союзников.
– А вас я вообще не желаю видеть ни в своем кабинете, ни в штабе командования армией резерва! – орет Фромм, расстегивая кобуру. Но в тот момент, когда он хватается за рукоять пистолета, Ольбрихт решительно бросается к нему и перехватывает руку.
– Как это понимать? – пытается освободиться от его захвата Фромм. – Вы – подлые предатели! Вы арестованы, и вас будут судить.
На выручку Ольбрихту приходит генерал-полковник Бек. Но даже вдвоем они не в состоянии совладать с мощным рассвирепевшим командующим. Он буквально выносит их из-за стола, раскручивает и швыряет из стороны в сторону, словно цирковой силач – нависших на него лилипутов.
Эта схватка закончилась бы для заговорщиков трагически, если бы в комнату не ворвались обер-лейтенант фон Хефтен и полковник фон Шверин. Завидев всю эту возню, крепкий, мускулистый Шверин метнулся к Фромму и одним движением заломил ему руку за спину. А Хефтен, просунув руку между руками генералов, столь же ловко, словно цыган на ярмарке, сумел извлечь из кобуры пистолет командующего.
– Господа, – заглянул в кабинет Фромма ничего не подозревавший полковник Мерц фон Квиринхейм. Он на несколько секунд застыл, пытаясь понять, почему все так взъерошены, да и располагаются как-то странно, вокруг командующего. А фон Хефтен к тому же – с пистолетом в руке. – Я только что с узла связи, беседовал с начальником бронетанкового училища полковником Глеземером. Он сообщает, что к казармам войск СС направлен танковый патруль. И что им сформирована танковая колонна, которая готова прикрывать наш штаб. Сам полковник с минуты на минуту будет здесь. Танки тоже движутся сюда.
Какое-то время все молча осмысливают эту информацию. Но время визитов еще не исчерпано.
– Господин командующий, – появляется в двери полковник Егер, – полковник Мюллер, заместитель генерала фон Хитцфельда, наконец появился в пехотном училище в Деберице. Только что я беседовал с ним. В отсутствие генерала, который, как выяснилось, находится где-то вне Берлина, кажется, на похоронах, и, очевидно, не знает о случившемся, полковник принимает на себя командование училищем и приступает к выполнению плана «Валькирия».
Ольбрихт и Бек победно смотрят на Фромма. Они пытаются осматривать его сверху вниз, точно так же, как еще несколько минут назад Фромм осматривал их. Но командующий сник и без их взглядов. Правда, смятение его длилось недолго.
– Ничего, – озлобленно обещает он собравшимся. – Не пройдет и часа, как здесь будут иные танки и иные люди. То, что вы здесь заварили, не может продолжаться вечно. Если вы еще не расстреляны, то лишь потому, что Гиммлер все еще в ставке фюрера, а не в Берлине – да, нет?
– Фон Шверин, фон Хефтен. Под стражу бывшего командующего, – как можно пренебрежительнее приказывает Ольбрихт. – Через какое-то время мы решим, как с ним поступить.
– Предатели! – зло швыряет ему в лицо Фромм, под дулом пистолета оставляя свой собственный кабинет. – Я еще рассчитаюсь со всеми вами. Это я вам обещаю – да, нет?
24
Вновь увидев перед собой майора Ремера, генерал фон Хазе приятно удивлен. Еще больше его удивляет, что приказ выполнен. А раз так – он требует ввести в действие все вспомогательные подразделения батальона, чтобы оцепить район Антгальтского вокзала.
Майор сразу же соображает, что дело тут не в самом вокзале, а в том, что рядом с ними находится здание службы безопасности, а это значит, что предстоит иметь дело с СД, гестапо и еще черт знает с кем. А главное, если дойдет до чего-то серьезного, против его «охранников» будут брошены отборный фридентальский батальон Скорцени и все курсанты его диверсионной школы.
Ремер, конечно, не прочь потягаться славой со Скор-цени. Но он отлично понимает, что солдатики из его вспомогательных служб к такому противостоянию явно не готовы.
– И еще одно, – входит в раж комендант Берлина, которому вдруг показалось, что он командует целой дивизией. Хотя ни одно подразделение из обещанных командующим военным округом Берлин – Бранденбург генералом Кортцфлейшем так до сих пор и не выделено. – Перебросьте часть своих храбрецов на Герман-Герингштрассе и оцепите дом, в котором живет Геббельс.
– Это еще зачем?! – восклицает Ремер, чувствуя, что по телу его прошлась холодная волна страха. Кто бы мог подумать, что впервые по-настоящему струсить ему придется здесь, в центре Берлина? И это при всей его отчаянной, граничащей с безумием храбрости. – Уж не собираетесь ли вы арестовывать министра пропаганды?
Генерал фон Хазе растерянно помолчал, только сейчас, очевидно, поняв, что ведь он, по существу, берет под домашний арест самого Геббельса. К тому же четкого приказа об арестах пока что так и не поступило; и это обескураживало коменданта. Если не арестовывать и не расстреливать, то как же можно установить контроль над столицей и взять власть и свои руки? Что-то там, в штабе армии резерва, темнят.
– Все будет зависеть от ситуации, майор, – наконец изрекает он. – А пока что, вплоть до особого приказа, в дом никого не впускать, из него не выпускать. В том числе – и рейхсминистра Геббельса.
– Но мой батальон не может выполнить этот приказ! – срывается Ремер, не обращая внимания на то, что генерал уже пытается распоряжаться судьбами трех других присутствующих здесь офицеров. – Вы прекрасно знаете, что доктор Геббельс является патроном всей дивизии «Гроссдойчланд», и мои солдаты гордятся этим. Тем более, что совсем недавно Геббельс выступал перед офицерами батальона.
– Так заставьте его выступить еще раз, – насмешливо бросил кто-то из присутствующих здесь яростных заговорщиков.
– Перед оцеплением, у своего дома, – добавляет адъютант коменданта майор Хайессен.
Однако генерал жестом останавливает адъютанта и затем несколько секунд стучит кончиком карандаша по лежащей перед ним карте Берлина, той, особой карте, на которой красными кружочками очерчены кварталы, штабы и различные учреждения, подлежащие блокированию в первые же часы проведения операции «Валькирия».
– В какой-то степени майор прав, – соглашается он, не отрывая от нее глаз. – Доктор Геббельс действительно является патроном этой дивизии, мы как-то не учли этого обстоятельства. И еще неясно, как поведут себя солдаты, когда Геббельс в самом деле решит обратиться к ним. А что он не откажет себе в таком удовольствии – можно не сомневаться. Ладно, майор, мы поручим эту операцию другому подразделению.
– Позвольте, у нас некому больше поручать, – бездумно выдает истинный секрет его колебаний Хайессен.
– Мы поручим эту операцию другому подразделению, – раздраженно, а потому почти по слогам повторяет генерал, осуждающе глядя на своего адъютанта.
25
Оказавшись на какое-то время не у дел, Ремер, однако, не спешил покинуть гарнизонную комендатуру, внимательно наблюдая за всем, что там происходит, прислушиваясь к телефонным разговорам комендатурных офицеров. Все это позволяет ему хоть в какой-то степени оценить реальную ситуацию и шансы заговорщиков, которые пока что представляются ему мизерными.
Он еще не знает, что доктор Эйзер уже успел побывать в министерстве пропаганды, поделиться своими патриотическими сомнениями с одним из советников Геббельса и вместе с ним отправиться на квартиру к рейхсминистру. Поскольку здание еще не оцеплено, попасть в него оказалось несложно. Тем более, что сам Геббельс, до сих пор пребывающий в странном неведении относительно того, что происходит в Берлине, принял обоих посетителей довольно охотно.
– Здесь что-то не то, – прервал доктора Геббельс, едва услышав, что роты охранного батальона вместе с полицией блокируют правительственные кварталы и, по всей видимости, готовятся к арестам. – Возможно, вы чего-то не поняли? Это всего лишь слухи. Кто может решиться на оцепление правительственных кварталов и с какой целью? По чьему приказу?
– Детали мне неизвестны. Но информация исходит от командира охранного батальона «Гроссдойчланд» майора Ремера, – стоит на своем доктор Эйзер. – Потому и счел необходимым…
– Но чем он объясняет появление такого приказа?
– Он пытался выяснить его суть у генерала фон Хазе, – подсказал Эйзер. – Вам лучше поговорить об этом с самим комендантом. Или, в крайнем случае, с майором Ремером. Возможно, с вами он будет более откровенен.
– Да к черту майора! К черту фон Хазе! Они тоже ни черта не знают. Я хочу понять, что происходит, – хватается Геббельс то за телефон правительственной связи, то за прямой телефон, связывающий его с «Вольфшанце». Однако до звонка дело так и не доходит.
– Но это невозможно понять, не побеседовав хотя бы с майором, – с тупым упрямством настаивает Эйзер, уже проклиная себя в душе, что влез в эту историю. При всем его уважении к доктору Геббельсу он вдруг подумал о том, что ведь все может случиться. Если случилось так, что каким-то чудом Гитлер пришел к власти, то таким же чудом он может быть и свергнут. И тогда окажется, что он, доктор Эйзер, пытался спасать этот режим, предавая истинных патриотов.
– Помолчите, доктор, – наконец решается Геббельс и, усадив гостя по ту сторону стола, требует связать его с обер-бургомистром Берлина. Его связывают. И вот тут он дает волю своим эмоциям. Его гневу и настойчивости позавидовал бы в эти минуты сам фюрер. Он решительно требует немедленно выяснить, что происходит, и принять меры к тому, чтобы в столице сохранялось абсолютное спокойствие.
– Что?! Фюрер жив! Он готовится обратиться к народу, – наставлял обер-бургомистра на путь истины. – И всякие спекуляции по этому поводу являются откровенным предательством. – Эти слова он выкрикивал в телефон таким тоном, словно диктовал первые строчки передовицы для «Фелькишер беобахтер». Слегка укротив свой пыл, рейхсминистр связывается со штабом лейб-полка СС «Адольф Гитлер», требует привести весь его состав в полную боевую готовность и ждать его указаний.
«Нет, заговорщикам не справиться с такой силой, – окончательно утверждается во мнении доктор Эйзер, слушая, как Геббельс ведет короткие переговоры с еще несколькими военными, которые, судя по реакции рейхс-министра, тоже полностью на стороне фюрера. – Скоро в этом городе навалят гору трупов. Но меня это уже не должно касаться. Хотя… – кто бы мог предположить – крах путча был заложен именно моим вмешательством».
– Вы убедили меня, доктор…
– … Эйзер, – неохотно подсказывает гость. Теперь ему уже не очень-то хочется, чтобы Геббельс запоминал его подзабытую фамилию. Если она появится в прессе, то вместе с Железным крестом можно удостоиться и деревянного. Путчисты попытаются мстить.
– Где этот ваш майор Ремер, любимец фюрера?
– Очевидно, все еще в штабе батальона. Или в комендатуре города.
– Сейчас разыщем, – поддержал его доселе безмолвствовавший советник министерства. Старый служака, долго пробивавшийся к своей скромной должности, он умел присутствовать не присутствуя.
* * *
…Всего этого майор Ремер пока не знал. И был немало удивлен, когда в комендатуре вдруг появился один из командиров взвода третьей роты и сообщил, что его разыскивает… Геббельс, которому он, майор Ремер, срочно понадобился по важному государственному делу.
– Вы что, лейтенант, не выспались?
– То есть разыскивает вас доктор Эйзер. Но по поручению доктора Геббельса. Который требует, чтобы вы лично явились к нему домой и объяснили свои действия.
– Это не мои действия, лейтенант, – скрипит зубами Ремер. – Мы с вами всего лишь выполняем приказ. Пойдемте вместе со мной, – направляется он к лестнице, ведущей на второй этаж.
Лейтенант затравленно смотрит на командира.
– Я хочу сообщить коменданту о требовании рейхсминистра в вашем присутствии. Чтобы вы, если понадобится, смогли подтвердить.
Однако генерал фон Хазе не желает выслушивать ни майора, ни его лейтенанта. Едва уяснив, что речь идет о встрече с Геббельсом, он заявляет, что пока что приказы здесь отдает он, а не Геббельс. Или, может быть, майор служит уже не в армии, а в министерстве пропаганды?
– Но я обязан был доложить, – багровеет Ремер. – Геббельс наверняка потребует разъяснений.
– А я запрещаю вам вступать в какие бы то ни было переговоры с рейхсминистром Геббельсом, майор! Вы должны находиться здесь, в здании комендатуры, и ждать дальнейших распоряжений.
– Но господин Геббельс велел передать, – обрел дар речи лейтенант, – что если через полчаса господин майор не прибудет, то он будет считать его арестованным, и на помощь ему прибудет взвод солдат СС из лейб-штандарта «Адольф Гитлер».
Ремер удивленно смотрит на лейтенанта. О взводе СС он слышит впервые. Майор мучительно пытается понять: врет лейтенант или же говорит правду?
– И что же тогда? – гневно дрожит индюшиный кадык генерала. – Это что, угроза?
– Он прибудет с приказом освободить майора и доставить в приемную Геббельса. Наверное, это все же угроза, – невозмутимо подтверждает лейтенант.
– А вы, Ремер, уверены, что мне не придется отбивать вас после того, как вас арестуют в этой самой приемной рейхсминистра? – наклоняется генерал к майору через стол. – К тому же в схватку с эсэсовцами здесь придется вступить именно вашему батальону. Так что находитесь здесь, майор, и будьте уверены, что эсэсовцы сюда не сунутся. Пока… А вы, лейтенант, долой с глаз!
Но Ремер понимает, что ему невыгодно оставаться здесь, подчиняясь только запрету генерала фон Хазе. Нужен более веский повод. Конечно, посещение Геббельса связано с определенным риском. Но не явиться к нему – значит уже поставить себя по ту сторону окопов, разделяющих весь Берлин на «тех» и «этих». Но не для того же он проявлял чудеса храбрости на фронте, чтобы быть повешенным теперь, как последний трус и предатель. Выскользнув из комендатуры, майор останавливается на решении: к Геббельсу явиться немедленно, приняв при этом все меры предосторожности.
Прихватив два десятка солдат, из тех самых, вспомогательных подразделений, с которыми должен был оцепить дом Геббельса, Ремер садится в кабину грузовика и отправляется на Герман-Герингштрассе, вспоминая при этом недобрым словом самого Геринга, который непонятно куда исчез и неизвестно чем занимается в эти часы, предоставив берлинским генералам творить все, что им вздумается.
«Разве что все это и происходит по замыслу Геринга? – вдруг осеняет его страшная догадка. – А что, преемник решил ускорить падение фюрера, чтобы провозгласить фюрером себя, – обычная придворная возня. Но я в эту историю не влезаю. Пока фюрер жив, буду служить только ему. – А чуть поколебавшись, добавил: – Какое бы имя он ни носил».
Прежде чем войти в здание, в котором жил Геббельс, майор с тоской посмотрел на небо. Предвечернее солнце еще только начинало свое летнее угасание на бледно-синем небосводе, и Ремер какое-то время любуется им, словно узник, которого через несколько минут должны загнать в мрачное подземелье.
– Ждите меня не более часа, – приказывает он своему заместителю, обер-лейтенанту Штольфу. – Если поймете, что я арестован, врывайтесь и отбивайте силой. Вы способны на это, обер-лейтенант?
– Наверное, да… – бледнеет Штольф.
– И весь ответ?
– Я не позволю, чтобы моего командира арестовывали какие-то там министры. Пусть даже этим министром является Геббельс, – все так же неуверенно тянет Штольф, не понимая, что важны не только слова, важна интонация.
– Да не волнуйтесь вы так, обер-лейтенант. Вы же не на фронте. Возможно, еще все обойдется. – Ремер демонстративно снимает свой пистолет с предохранителя и кладет его в левый карман френча, а пустую кобуру застегивает. Обычная хитрость: арестовывая, прежде всего бросаются к кобуре и заламывают правую руку. – Но если что-либо произойдет, я вынужден буду основательно проверить, чему их здесь обучали, этих холеных эсэсовцев.
26
– Доложите господину рейхсминистру, что майор Ремер прибыл.
Приземистый тщедушный человечек, с искореженной ногой и узкими плечиками, по ширине своей не больше непомерно большой головы, к которому обратился майор, понимающе улыбнулся и указал на дверь, из которой только что появился.
– Так что там происходит, майор? Доктор Эйзер рассказывал…
– Простите, на эту тему я могу говорить только с рейхсминистром пропаганды Геббельсом, – прервал его Ремер, давая понять, что у него нет времени для бесед с прислугой, секретарями и случайными посетителями.
– А вы и говорите с рейхсминистром, – ничуть не обиделся этот хилый полукарлик, уставившись на майора большими, вишнево-темными глазами, укоризненно добрыми и основательно наивными.
– То есть? – не понял Ремер. – Вы – доктор Геббельс?
– Вы могли бы узнать меня по голосу.
– Не узнаю, – попросту признался майор. – По радио вы говорите совершенно иным голосом.
– Разве? – сконфуженно удивился Геббельс. – Этого мне еще никто не говорил.
Указав рукой на свободное кресло, рейхсминистр зашел за стол и, прежде чем сесть, натужно просверлил майора вопросительным взглядом, словно о чем-то хотел спросить, но не решался.
– Помню, что недавно вы были удостоены «дубовых листьев» к Рыцарскому кресту. Их вручал фюрер.
– Было такое, – оживился Ремер, только сейчас окончательно поверив, что перед ним Геббельс.
– Как жаль, что наша пресса забита общими сообщениями с фронтов и слишком мало рассказывает о людях, чей воинский подвиг достоин высших наград и похвал. Но, знаете, война. Когда она наконец кончится, о вас станут говорить с той же долей уважения, с какой говорят о Скорцени.
Ремер едва заметно поморщился, словно от нахлынувшей зубной боли. Он терпеть не мог, когда в его присутствии начинали говорить о «первом диверсанте рейха», «герое нации», «самом страшном человеке Европы»… Возможно, любой другой офицер и гордился бы, что его пытаются сравнивать со Скорцени, но только не он, майор Ремер. Подвигов, которые он совершил, вполне достаточно хотя бы для того, чтобы о них говорили, не сравнивая с этим тыловым диверсантишкой.
– Итак, произошло нечто такое, – предпринял еще одну попытку Геббельс, – что заставило вас не подчиниться приказу коменданта Берлина генерал-полковника фон Хазе…
– Формально я вынужден подчиниться, но… Я офицер. Командир элитного батальона. И я хотел бы знать, что происходит. Если мне приказывают оцепить правительственный квартал, а затем блокировать все подходы к дому рейхсминистра пропаганды, я обязан хотя бы знать, чем это вызвано.
– О чем вы говорите, майор? Вы что, в самом деле получили приказ оцепить мой дом? – приподнялся от удивления Геббельс.
– Именно эту часть приказа я и отказываюсь выполнять.
– А зря.
– Не понял, господин рейхсминистр. Могли бы вы выражаться проще, помня, что перед вами не доктор философии, а фронтовой офицер.
Геббельс не был военным, и это освобождало Ремера от привычного чинопочитания. Гражданских же чинов для него попросту не существовало.
Рейхсминистр улыбнулся и предостерегающе помахал руками, пытаясь успокоить фронтовика.
– Я всего лишь имел в виду, что вы все же приведете солдат и расположите их у моего дома. Но только для того, чтобы избежать оцепления другими войсками, которые, возможно, будут подчиняться заговорщикам.
– Вот это понятно. Будет выполнено немедленно, как только выйду отсюда.
Геббельс выдержал не совсем понятную комбату паузу.
– Майор Ремер… Я должен понимать так, что, несмотря на известные события, вы остаетесь верны национал-социализму, фюреру, Третьему рейху?
– Даже если разговоры о гибели фюрера окажутся правдой, я останусь верным своему долгу офицера.
– Господи, да кто вам сказал, что он погиб? – патетически, но с явным запозданием воскликнул Геббельс, и вот теперь-то Ремер действительно узнал голос главного пропагандиста Третьего рейха. – Откуда исходят подобные разговоры? Он жив! Фюрер находится в своей ставке «Вольфшанце» и продолжает руководить страной. Не скрою, на него было совершено покушение. Есть раненые. Но сам фюрер совершенно не пострадал. Его враги жестоко просчитались и очень скоро они смогут убедиться в этом.
Ремер тоже приподнялся и с несвойственным ему вдохновением ответил в тон Геббельсу:
– Теперь я верю, что вы тоже за фюрера, господин рейхсминистр. Для меня это важно, поскольку убедился, что многие генералы и старшие офицеры уже предали его и даже объявили, что берут власть в свои руки. Они твердят, что все разговоры о том, будто фюрер все еще жив, – обычная пропагандистская ложь.
– Пропагандистская ложь? И даже «обычная», – вспыхивает Геббельс. Ремер знал, чем достать его. – Конечно же, теперь эги мерзавцы будут утверждать нечто подобное до тех пор, пока вся Германия не услышит обращение фюрера к народу. Но для этого еще понадобится некоторое время.
– Почему? Прошло столько времени. Достаточно нескольких его слов. Ведь если бы мои солдаты услышали хотя бы его голос…
Рейхсминистр замялся, давая понять, что его вынуждают говорить то, о чем говорить не положено.
– Все очень просто, майор. Как оказалось, в ставке фюрера нет… трансляционной радиостанции. С часу на час ее туда доставят… Никто не предвидел подобной ситуации. Это серьезное упущение.
– Да уж, – не пощадил его Ремер.
– Но вы, лично вы майор, как командир батальона «Гроссдойчланд», от верности которого во многом зависит сейчас судьба Германии, сами сможете убедиться, что фюрер жив.
– Каким образом? – все с тем же неистребимым окопным простодушием поинтересовался Ремер. Рейхсминистр уже понял, что майор явно переигрывает в своей роли эдакого фронтовика-простачка, однако виду пока что не подавал.
– Да очень просто. Если только нам удастся связаться с «Вольфшанце».
Геббельс отлично понимал, как важно, чтобы фюрер получил поддержку именно от него. И не только на словах. Важны действия. Нужна воинская сила, которая не допустила бы захвата власти хотя бы в столице. И он преподнесет Гитлеру этот подарок, этот неоценимый дар в виде усиленного охранного батальона «Гроссдойчланд». Так что дело здесь не в Ремере.
К счастью, связь работает четко.
– Ставка? Приемная фюрера? Это вы, Буркдорф?! – узнал по голосу шеф-адъютанта Гитлера. – Рейхсминистр Геббельс говорит. Да-да, Геббельс! Соедините меня с фюрером. Что? Это срочно, Буркдорф. Вы знаете, что сейчас происходит в столице?! Я по очень важному государственному делу.
* * *
Ремер напряженно всматривается в лицо Геббельса. Ему с трудом верится, что этот человек вот так, запросто, взял и связался с Гитлером. В какие-то мгновения майору кажется, что Геббельс всего лишь разыгрывает комедию. Не мог он связываться с Гитлером только ради того, чтобы доложить о своем разговоре с каким-то там командиром батальона.
– Здесь Геббельс, мой фюрер, – дрогнувшим голосом заговорил рейхсминистр. – В Берлине путчисты объявили о начале операции «Валькирия». То есть, по существу, это означает государственный переворот.
– Что конкретно вам известно об этом, Геббельс?! – кричит в трубку фюрер. – Кто возглавляет заговорщиков?!
– Имя главаря этой банды мы выясним уже, возможно, в течение ближайшего часа. Пока что ясно, что в заговоре участвует группа высокопоставленных генералов и гражданских. Сейчас они подтягивают к Берлину верные им войска, используя при этом слухи о вашей гибели.
– Так почему вы не скажете Германии, что я жив? Вы, Геббельс!
– Теперь Германия поверит только вам.
– Предатели, – как-то незло, устало бросает Гитлер. – Ждут не дождутся… Кто им противостоит, рейхсминистр? Кто конкретно? Какие силы?
– По этому вопросу я и звоню вам, – уловил свой шанс Геббельс – Рядом со мной находится командир охранного батальона «Гроссдойчланд» майор Ремер, – по-заговорщицки подмигивает майору. – Тот самый, которому вы недавно вручали…
– Я помню майора Ремера. Это храбрый парень. Его батальон, надеюсь, верен мне?
– Именно его батальону было приказано оцепить правительственный квартал и начать аресты министров, а также блокировать здание службы безопасности, а заодно и мой дом.
Фюрер задохнулся от гнева.
– Так Ремер явился с арестом?!
– Нет, он отказался выполнить этот приказ.
– Чей, чей приказ, Геббельс?
– Коменданта Берлина генерала фон Хазе.
– Можете считать, Геббельс, что фон Хазе уже не комендант, не генерал, не фон и вообще его уже не существует. Так и передайте майору. И ничьих приказов, кроме моих, ничьих, рейхсминистр!
– Я-то понял, мой фюрер. Но солдаты есть солдаты, для них приказ генерала…
– А приказ фюрера для них уже не приказ?
– Поэтому очень важно, – не сдавался Геббельс, – чтобы вы сказали несколько слов лично майору Ремеру, – голос Геббельса стал вкрадчивым. Он ненавязчиво, но твердо советовал Гитлеру снизойти до беседы с майором. – Важно, что командир охранного батальона получит приказ из ваших уст. Это произведет впечатление.
– К телефону его!
– С вами будет говорить фюрер, – торжествующе протянул Геббельс трубку оцепеневшему от такого поворота событий майору. Ему и в голову не пришло, что Геббельс решит связать его с фюрером. Был убежден, что достаточно его присутствия при разговоре.
– Майор Ремер?
– Так точно, мой фюрер!
– Вы слышите мой голос?
– Да, мой фюрер! – вытянулся майор по стойке «смирно».
– У вас нет сомнения в том, что вы слышите голос фюрера?
– Никакого сомнения, мой фюрер. Я помню слова, сказанные вами во время вручения награды. И ваш голос.
Ремер, конечно же, узнал Гитлера. Но успел заметить, что сейчас с ним говорит не властный, уверенный в себе вождь нации, а уставший, многое переживший старик. И голос этого старика заискивающе добр, по-дружески тих и по-плебейски непритязателен.
– Так вот, передайте своим солдатам, всем офицерам, с которыми соприкасаетесь, что я жив. Любая болтовня о моей гибели – трусливое хвастовство кучки предателей, решивших совершить переворот. Они уже знают, что покушение на меня не удалось, однако продолжают лгать, рассчитывая обмануть солдат, обмануть весь германский народ. Но мы сегодня же подавим этот мятеж. Слушайте меня внимательно, майор.
– Я слушаю, мой фюрер.
– Через час в Берлин вылетает рейхсминистр СС Гиммлер, который возьмет на себя всю полноту власти в столице и примет командование армией резерва. До вступления им в должность всю полноту военной власти вручаю вам.
– Мне?! – переспросил майор, почти с ужасом взглянув на Геббельса. Вдруг тот воспримет эту новость как личное оскорбление.
– Да, вам, майор!
– Есть, мой фюрер!
– Впредь действуйте только во исполнение моего приказа. Там, где будет необходимо, применяйте силу. Подчиняйте себе все подразделения, какие только окажутся в сфере ваших возможностей. Ваша задача: восстановить в столице полный порядок, обеспечив прежде всего охрану правительственных кварталов. Вы все поняли, майор?
– Так точно, мой фюрер! – кричит Ремер, не сразу сообразив, что на том конце провода уже повесили трубку. Он свою еще несколько мгновений держит в руке, чувствуя, что не в силах расстаться с нею, словно с чудодейственным талисманом.
– Мне приказано восстановить порядок, – то ли сообщил он Геббельсу, то ли спросил самого себя.
Геббельс уже все понял. Он слегка растерян, поскольку явно не ожидал такого решения фюрера.
– Мне передана вся полнота власти, – добивает его Ремер, не ведая, что творит.
Но Геббельс есть Геббельс.
– Так и должно быть, майор, – неожиданно воодушевляется он. – Самой историей, самой судьбой вашей суждено, чтобы эта миссия выпала именно вам.
– Сочту за честь, господин рейхсминистр, – вытер пот рукавом френча майор. – Теперь я знаю, что мне делать. Я наведу здесь порядок, можете не сомневаться.
27
Рабочий стол Штауффенберга находился в том же кабинете, в котором располагался генерал Ольбрихт. Однако возвращаться туда полковнику не хотелось. Когда, вслед за арестованным Фроммом, кабинет командующего оставили и два других генерала, само собой получилось так, что на какое-то время xoзяином его стал Штауффенберг. Он сел за стол Фромма и с облегчением почувствовал, что одиночество – как раз то, чего ему так не хватало в течение всего этого поистине безумного дня.
«Нет, я не покончу с собой, – сказал, он, отодвигая оставленный фон Хефтеном на столе пистолет Фромма. – Не для того я совершал все то, что совершил. Операцию еще можно спасти. Если к нам присоединились войска Штюльпнагеля и если танковая колонна движется сюда, чтобы взять под охрану ваше здание… Еще не все потеряно. СС тоже пока молчит. А ведь многие генералы уверены, что мы – Ольбрихт, Бек, я – всего лишь исполнители. Что это покушение – заговор СС. Они рассчитывают на СС, на Гиммлера, Скорцени, Кальтенбруннера… И это их вдохновляет. Всем кажется: если замысел операции “Валькирия” исходит из штаба СС, значит, она обречена на успех…»
Телефонный звонок вырвал его из раздумий, словно утопленника из пучины.
– Господин генерал-полковник…
– Если вам нужен Фромм, то его нет. Я – начальник его штаба, полковник Штауффенберг.
– Полковник Штауффенберг? Вы в курсе? Я могу быть с вами откровенным?
– Больше, чем с кем бы то ни было в этом управлении. Кто вы?
– Майор Хайессен. Я никак не могу пробиться к генералу Ольбрихту или полковнику фон Квиринхейму.
– Считайте, что уже пробились, майор. Что там у вас? Где вы находитесь?
– В гарнизонной комендатуре. Точнее, сейчас – неподалеку от нее. Звоню от знакомых, но важно не это.
– Что же важно, майор? – как можно добродушнее поинтересовался Штауффенберг.
– Как и было обусловлено, я прибыл сюда, в комендатуру на Унтер-ден-Линден, наш пункт сбора. Здесь уже есть генерал фон Хазе, доктор Хаген, офицеры из охранного батальона «Гроссдойчланд».
– То есть охранный батальон в нашем распоряжении? – оживляется Штауффенберг.
– Не совсем так. Точнее – не уверен, что в нашем. Потому и звоню, что у меня возникло подозрение, что батальон мы потеряли. Его командир, майор Ремер, только что вернулся от Геббельса.
– От кого?!
– От Геббельса, – повторил Хайессен почти по слогам. – Которому уже все известно.
– Что именно?
– Абсолютно все.
– Ну и что?
– Это же Геббельс. И он все знает.
– А как это «все» можно сохранить в тайне?
– Вы считаете?..
– Послушайте, черт бы вас побрал, майор. Здесь дорога каждая минута. Вас откомандировали туда не для того, чтобы вы запугивали нас, а для того, чтобы действовали.
– Но Ремер утверждает, что он только что говорил с фюрером.
Штауффенберг рассмеялся.
– Говорил, естественно, по телефону.
Штауффенберг рассмеялся еще громче.
– Интересно, кто с кем связался: Ремер с самим фюрером или же фюрер вызвонил «самого» Ремера?
– Их связал Геббельс. Из своего домашнего кабинета.
– Вот как? Тогда может быть…
– Ремер получил приказ немедленно восстановить в городе спокойствие.
– Какими силами?
– Силами своего батальона. А также привлекая любые другие подразделения.
– Но до беседы с фюрером он получил приказ арестовать Геббельса; в этом состояла его задача.
– Вы все еще не понимаете меня, господин полковник, – занервничал Хайессен. – Майор Ремер только что беседовал с фюрером. Это подтвердил его офицер. Ремер отправился на квартиру Геббельса, которая была окружена одной из рот его батальона. Но вместо того чтобы арестовать Геббельса, он стал вести переговоры с фюрером. Вы должны знать об этом на тот случай, если эсэсовцы из «Гроссдойчланд» появятся у вас на Бендлерштрассе. У меня все, господин полковник.
Штауффенберг бросил трубку на рычаг и растерянно потер тыльной стороной ладони свой, уже заросший щетиной, подбородок.
«А ты волновался, что эсэсовцы слишком долго бездействуют, – мрачно поиздевался над собой. – Можешь вздохнуть с облегчением: они взялись за дело».
Штауффенберг вдруг поймал себя на том, что даже не попытался убедить звонившего ему майора, что все это неправда. Ремер вряд ли был у Геббельса. А если и был, то не мог разговаривать по телефону с фюрером, поскольку еще никому не удавалось побеседовать с покойником. Тем более – по телефону. Пусть даже прямой имперской связи.
И тут он вспомнил, что забыл спросить еще об одном – с ними ли еще генерал фон Хазе. Но тотчас же сказал себе: «Фон Хазе не мог предать. Ольбрихт уверен в нем, как ни в ком другом. А если этот генерал, комендант Берлина, все еще с нами, тогда не все потеряно…»
«…Не все потеряно. Еще не все потеряно…» – вот последняя спасительная мысль, которая удерживала полковника фон Штауффенберга в седле.
– Господин полковник, – появляется в двери адъютант фон Хефтен. – Там, в кабинете Ольбрихта, собрались офицеры. Сейчас по радио будут передавать официальное сообщение.
– Из ставки?
– Не знаю. Передавать-то, очевидно, будут из Берлина, но о событиях в «Вольфшанце».
28
Капитан Штрик-Штрикфельдт появился в Дабендорфе лишь во второй половине дня. Оставив машину у штаба, он сразу же направился к резиденции Власова.
Еще из окна командующий видел, как капитан направляется к его двери своей легкой, кошачьей походкой и по мере того как он приближался, Власов начинал чувствовать себя все увереннее и увереннее. Штрик-Штрикфельдт вернулся, а значит, понемногу все образуется.
– Вы здесь, господин генерал? Слава богу, – еще с порога произнес капитан, увидев командующего. – Я очень опасался, что вы решитесь ехать в Берлин.
– Именно это я и собираюсь сделать, – Власов стоял посреди комнаты с легким плащом стального цвета на руке, который брал с собой в дорогу, даже когда на улице стояла такая жара, как сегодня.
– Не советую, господин командующий, – Штрик-Штрикфельдт подошел к столу, снял фуражку и старательно вытер платком свою вспотевшую коротко остриженную седину. – Направляясь сюда, я успел побеседовать с генералом Геленом[19]. Если помните, это по его протекции я был прикомандирован к вам.
– Тогда еще полковником Геленом, начальником отдела «Иностранные армии востока» Генерального штаба сухопутных сил. Я помню об этом человеке. Тем более, что он, хотя и ненавязчиво, но все же напоминает о себе.
– Ненавязчиво, – подтвердил Штрик-Штрикфельдт. – Так вот, в общем-то мы немногое могли сказать друг другу по телефону, а у меня не было времени повидаться с ним, поскольку решил прямо из Остминистериума направиться к вам. Но совет он дал предельно мудрый. Он сказал: «Срочно увези своего генерала». Я спросил: «Куда?» «Как можно подальше от Берлина, – последовал ответ. – Когда дело дойдет до поиска врагов, – а до этого неминуемо дойдет, – их, врагов, то есть, понадобится очень много. А есть люди, у которых на роду написано казаться всем вокруг врагами».
Штрик-Штрикфельдту было уже под пятьдесят. Прибалтийский немец, получивший истинно петербургское воспитание, – «изысканно-петербургское», как говаривал в подобных случаях полковник Сахаров, – он еще в первую мировую успел повоевать под знаменами русской императорской армии. Уже одно это способно было вызывать у офицеров СД вполне объяснимое недоверие к этому человеку. И вызывало.
Прежде чем попасть в Германию, он сумел испытать себя в торговле, а проще – обзавестись магазинчиком на одной из старых улочек Риги. Затем оказался в Польше, где тоже намеревался заняться коммерцией. Но в 1941 году, когда вермахту понадобилось немало офицеров, владеющих русским, он, подобно многим своим землякам, был призван в армию и направлен в штаб командующего группой армий фельдмаршала Федора фон Бока, чтобы оттуда, после рекомендации, как утверждают, самого фельдмаршала, быть переведенным в разведотдел генерального штаба.
Для Власова оставалось полной загадкой, почему этот офицер, имеющий опыт двух войн, так до сих пор и не поднялся выше капитана. То ли где-то в Берлине у него оказался слишком влиятельный враг, то ли по своей судьбе-цыганке он принадлежал к тому множеству офицеров, которые есть в любой армии и о которых говорят: «Уважать-то уважают, да повышать не повышают».
В любом случае Власов всегда чувствовал себя несколько неуютно от того, что офицером связи при нем состоит всего лишь капитан. Штрик-Штрикфельдту это тоже мешало решать многие вопросы на должном чиновничьем уровне. Тем не менее он умудрялся, изворачивался, налаживал новые связи…
– Что конкретно имел в виду Гелен?
– То, что происходит сейчас в Берлине.
– Кажется, мы начали разговор не с того конца. Речь должна идти не о моем спасении, а о том, что мы должны разобраться в ситуации.
– Пока что известно, что на Гитлера совершено покушение. Но он остался жив. Несколько человек ранено, один, кажется, убит; взрыв был мощнейшим – все это правда. Но фюрера, как всегда, спасло Провидение. Нет, серьезно, без высших сил здесь не обошлось. Хотя кое-кто утверждает, что он все же погиб, однако его окружение по известным причинам пока что скрывает этот факт.
– Вы считаете, что это может серьезно отразиться на нашем движении?
– Серьезно оно может отразиться на нем лишь в том случае, когда отразится на вожде движения и командующем РОА. До всей той массы рядового и офицерского люда, которая толчется здесь, в Берлине сейчас никому нет дела. Разбираться будут на генеральском уровне. «Террористом-одиночкой» на сей раз не обойдется.
Только теперь Власов вернулся за стол и, бросив плащ на стол перед собой, сел.
– У нас нет времени, господин командующий, – удивленно взглянул на него Штрик-Штрикфельдт. – У нас решительно нет никакого времени. Мы выезжаем. Сейчас же. Немедленно.
– Куда… Выезжаем?
– В Баварию. Хотя она расположена значительно южнее Берлина, не думаю, чтобы сейчас там было жарче. Все же близость Альп, леса…
– Что вы темните, капитан? Выражайтесь яснее.
– Недавно я получил секретное распоряжение: постараться увести вас от политики.
– О чем вы? Причем здесь политика?
– Все, что верховное командование вермахта и наши идеологи захотят сказать от вашего имени, они скажут без вас. Вы же нужны им всего лишь как символ. Только как символ. В цене не столько вы, сколько ваше имя.
– Я опять должен оскорбиться?
– Не стоит. Поверьте, так будет не всегда. Но на какое-то время вас действительно решено отлучить от участия в политической жизни, от пропагандистских акций, от работы среди населения России и среди военнопленных.
– Что вы такое говорите, капитан? – поморщился Власов. – Кажется, до сих пор мы были откровенны. Если вы считаете, что нам нужно уехать, пожалуйста. Только не надо придумывать, стращать меня…
– Я ничего не придумываю, господин командующий, – Штрик-Штрикфельдт оглянулся на дверь, потом взглянул на часы. – Мы действительно уедем, но я все же выскажу то, что начал. Чтобы вы хотя бы понимали суть происходящего и чтобы мне не приходилось каждый раз заново убеждать вас. Я в самом деле получил такой приказ.
– Наказание, предусмотренное вместо приказа отправить меня в лагерь?
– Абсолютно верно, господин генерал. Вот почему по моему настоянию мы отправлялись то в Магдебург, то в Кельн, то вдруг решили покататься по Рейну. Официально это было преподнесено вам в виде ознакомительных поездок по Германии.
– В любом случае они нужны были мне.
– Но не вместо таких же поездок по оккупированным территориям России. По существу, речь идет о своеобразном домашнем аресте в рамках Третьего рейха. С поездками по строго определенным – не мною, естественно, – маршрутам.
Власов вначале неуверенно, а затем довольно откровенно, горестно рассмеялся. Это был смех, оплаченный собственной наивностью.
– Хотите сказать, что приказ действует и по сей день? Несмотря на то, что происходит в «Вольфшанце» и Берлине?
– Действует, господин командующий, действует.
– Кто конкретно отдал его?
– Разве это так важно? С именем всегда легко ошибиться.
– Тогда стоит ли?
– Зато сегодня мы используем этот приказ в собственных интересах. Как официальное прикрытие. И отправимся в Баварию.
– Но я жду вызова в Берлин. Вы ведь уже, наверное, знаете об обещании Гиммлера встретиться со мной.
– Извините, господин командующий, но в ближайшие дни Гиммлеру будет не до вас. Это я вам говорю как германский офицер. Конечно, мы будем поддерживать связь с Берлином, и если вдруг окажется, что Гиммлер вспомнил о своем обещании, изыщем возможность очень быстро вернуться в столицу. А до тех пор никто, кроме генерала Гелена, не будет знать, где именно мы находимся!
– И где же будем находиться? – нервно поинтересовался Власов.
– Как я уже сказал, в Баварии. Там, в горах, есть небольшой городишко Руполдинг. Типичное курортное местечко. Не случайно в нем расположен лучший санаторий войск СС. Придет ли кому-нибудь в голову искать вас в эти дни в санатории войск СС? Да еще в Баварии? Вряд ли.
Постучали в дверь, и появившийся ефрейтор, водитель машины Штрик-Штрикфельдта, доложил, что «опель» заправлен, а также основательно осмотрен механиком школы. Поэтому они хоть сейчас могут отправляться в путь.
И Власов понял, что время его истекло и что отказаться от поездки он уже попросту не сможет.
– Не будет ли это воспринято моими генералами и офицерами как бегство? – усомнился он в последний момент. – Все же логичнее выглядело, если бы…
– Все офицеры будут извещены, что вы находитесь в Берлине. В эпицентре событий. Ведете переговоры о будущем армии РОА. Достаточно?
«А ведь за ним стоит не Гелен, – догадался Власов, – а некто покрупнее. Кому-то очень выгодно отвести меня не столько от политики, сколько от удара гестапо. Значит, ты им все еще нужен».
* * *
Сборы были недолгими. Через пятнадцать минут оба они уже находились в машине, которая увозила их в сторону Лейпцига.
Власов упорно молчал. Он устроился на заднем сиденье, чтобы не привлекать внимания патрульных, которых Штрик-Штрикфельдт распугивал удостоверением отдела разведки и специальным пропуском, доставшимся ему от все того же генерала Гелена. У Власова же были документы, удостоверявшие, что он является русским сотрудником разведки, полковником Соловьевым. Гелен предусмотрительно решил, что какое-то время Власову лучше не напоминать о себе и не оставлять следов.
– Вы уверены, что в этом Руполдинге, или как он там называется, в санатории СС, нас ждут? – наконец не выдержал Власов пытки молчанием.
– Естественно. Так или иначе мы должны были прибыть туда, только неделей позже. Да не волнуйтесь, господин командующий. Заведует этим санаторием моя давнишняя знакомая госпожа Биленберг. Хейди Биленберг. Кстати, вдова офицера СС. Симпатичная, приветливая. Даже вдовье горе не состарило ее. Пока мы туда прибудем, она уже будет извещена о нашем визите. Уверен, что Хейди понравится вам. Да и вы ей – тоже.
– Послушайте, капитан, вы расхваливаете ее так, словно решили сосватать.
– Я похож на сводника? – рассмеялся Штрик-Штрикфельдт. – Впрочем, ваше предположенне можно воспринять и более серьезно. Bсe будет зависеть от вас.
– Отчаянный вы человек, капитан.
Они проезжали по мосту, под которым устало громыхал колесами битком набитый солдатами эшелон. Тысячами голосов вермахтовцы орали солдатские песни, но смысла их Власов понять не мог. И не только потому, что они пели на немецком, но и потому, что голоса эти сливались в один, не поддающийся человеческому пониманию рев, из которого лишь случайно вырывались отдельные невнятные слова.
– На Восточный фронт, – объяснил Штрик-Штрикфельдт, когда поезд исчез за ближайшим холмом, а машина их начала въезжать в какой-то городишко, к окраинам которого подступали табачные плантации. – С берегов Рейна перебрасывают. Хотя самое время перебрасывать с Восточного фронта за Рейн, во Францию.
– Высадка англо-американцев… – задумчиво согласился генерал. – Здорово они там прут?
– Основательно. Подавляют техникой почти так же, как в сорок первом вермахт подавлял ваши дивизии, господин генерал, – довольно храбро объяснил офицер связи.
– До сих пор помнится, – мрачно признал Власов. – До сих пор…
– Кстати, где вы встретили войну?
– В общем-то под Львовом. Но мне бы не хотелось говорить об этом, – еще мрачнее пресек командующий свои собственные воспоминания.
– В таком случае вернемся к разговору о Хейди Биленберг, – вновь оживился Штрих-Штрикфельдт. – Кстати, ее еще зовут Аделью. Но лучше Хейди.
– Не слишком ли навязчиво, капитан? – Власов смущенно взглянул на водителя и недовольно покряхтел. Но ефрейтор напрочь отсутствовал во время их разговора. Похоже было, что к этому его усиленно приучали.
Штрик-Штрикфельдт оглянулся и с лукавой ухмылкой, словно вот-вот должен был подморгнуть, многозначительно изрек:
– За навязчивость, конечно, простите. Но уверен, что, увидев Хейди, вы сами почувствуете себя навязчивым.
29
Штауффенберг успел вовремя. Радиоприемник вещал достаточно громко для того, чтобы сказанное им можно было услышать даже в коридоре штаба. Никто так и не позаботился о том, чтобы сообщение слышали не все. И его слушали. Слушали, надеясь и вздрагивая. И тем, кто был посвящен в тайны заговора, и тем, кто лишь слепо повиновался, не понимая толком, что же происходит на самом деле – младшим офицерам, порученцам и машинисткам – всем хотелось узнать наконец правду. И генерал Ольбрихт не собирался препятствовать этому. Работали все динамики.
Пока диктор со всеми возможными подробностями сообщал о том, что на фюрера было совершено покушение, но он не пострадал и по-прежнему находится на своем посту… Пока назывались фамилии тяжело– и легкораненых во время покушения генералов и офицеров, на Штауффенберга никто не обращал внимания. И лишь когда сообщение было закончено и послышались звуки какого-то невнятного марша, – нечто среднее между походным и траурным, – и кто-то из офицеров выключил приемник, все вдруг обратили свои взоры на исполнителя главной акции операции «Валькирия».
Вот в эту-то минуту Штауффенберг впервые пожалел, что не воспользовался одним из пистолетов – своим или Фромма. Никогда еще он не ощущал такого стыда перед своими коллегами. Никогда не переживал такого позора, какой пришлось пережить в эти минуты всеобщего молчания.
«А ведь они уже смотрят на меня, как на покойника, – неожиданно проклюнулась бросающая в дрожь мысль. – Покушение не удалось, несостоявшийся убийца конечно же обнаружится… И ему конечно же, воздастся. Но кто им сказал, что палачи ограничатся всего лишь одной жертвой? О нет, одной здесь не обойдется. Хотя… тебя это радовать не должно. Утешать – тоже».
– Вы хотите что-то добавить ко всему услышанному нами, полковник фон Штауффенберг? – первым нарушил молчание генерал-полковник Бек, кивая в сторону радиоточки. Младшие офицеры вышли, и можно было говорить в открытую.
– Пока нет.
– Что стоит за вашим «пока»?
– Многое еще только должно проясниться.
– Но в принципе вы согласны с фактами, изложенными в этом сообщении? – голос генерал-полковника становился все более жестким, что вполне соответствовало все более накаляющейся атмосфере здесь, в центре заговора.
– Если я заявлю, что то, что фюрер не погиб – ложь, мое заявление покажется вам таким же неубедительным, как и это сообщение берлинского радио.
– Вы правы: неубедительным. Ибо уже ясно, что фюрер жив. Одно отказываюсь понять: как это могло произойти? Почему при взрыве такой силы он сумел уцелеть? Совершенно невероятно. – Бек осмотрел присутствующих, ожидая объяснений, но их не последовало.
– А я и не желаю верить. Мне известна сила подобного устройства, и я собственными глазами видел пламя взрыва. А уж мне-то пришлось повидать немало разных взрывов, – угрюмо уверял их Штауффенберг.
– Можем утешить только тем, что это далеко не первый случай, когда от гибели фюрера спасает сам дьявол, – удрученно оппонировал ему Ольбрихт. – Однако нам ли досадовать на дьявола?
– Если кто-нибудь когда-нибудь сумеет описать все неудавшиеся попытки покушения на Гитлера, – заметил Геппнер, – то вынужден будет признать, что этого человека действительно спасли некие высшие силы. До поры до времени, ясное дело. И что прибегали они к этому с согласия Всевышнего.
– Непонятно только, ради чего? – иронично заключил фон Шверин. – Разве что там, на небесах, Германия уже считается проклятой землей проклятых.
– Если он уцелел, история мне этого не простит, – покаянно склонил голову Штауффенберг. – Мне придется просить у нее прощения так же, как сейчас прошу у вас.
– Не вижу здесь вашей вины, – нервно возразил полковник фон Квиринхейм. – Вы сделали то, чего не сделал бы никто из нас, уж извините, господа. Вы решились на нечто такое, из-за чего при любом исходе извиняться перед историей не следует.
Фон Квиринхейм говорит еще что-то, успокаивающе-трогательное, однако Штауффенберг уже не слышит его. Неблагодарно поворачивается и уходит. И все, кто смотрит ему вслед, видят, как почти по-стариковски ссутулилась, еще недавно столь по-прусски безукоризненно демонстрировавшая офицерскую выправку, спина этого тридцатисемилетнего, изувеченного фронтовыми и жизненными ранениями полковника.
Телефонный звонок заходится позади него убийственной автоматной очередью. Штауффенберг даже вздрогнул от неожиданности.
– Да, такое сообщение было, – услышал он резкий, слегка раздраженный голос Ольбрихта. – Но оно еще ни о чем не говорит. У нас есть другие сведения. Да, из самого «Волчьего логова». Фюрер погиб. И эти сведения подтверждают, что там все происходило не так, как подается в радиосообщении. Фюрер погиб. Вы получили сигнал «Валькирия»? Вот и действуйте согласно ранее намеченному плану. Да, нас поддерживают. На всех фронтах, на всех.
«Ну зачем он? – нервно покачал головой Штауффенберг, чувствуя, однако, признательность Ольбрихту. – Теперь-то уж следует говорить как есть». И полковник вновь почувствовал, как его обуревает чувство стыда. За то, что не удалось покушение, и за то, что подвел стольких положившихся на него людей. И даже за то, что с этого часа бедный генерал Ольбрихт и все остальные присутствующие здесь вынуждены лгать, отлично осознавая, что лгут. Раньше-то хоть они могли оправдывать самих себя неведением и сомнениями.
А из соседней комнаты уже доносился голос другого офицера, который тоже уверял кого-то там, на том конце провода, что сообщение неправдиво. Что все остается в силе. И с надеждой обреченного допытывался: «Так вы действительно с нами? Вы не подведете нас? Это слово офицера?»
«Слово офицера, – тяжело вздохнул Штауффенберг. – Чего оно теперь стоит в этой грязной полынье лжи и всеобщего страха?»
Пока он медленно добрел до кабинета Фромма, уже все кабинеты взрывались телефонными звонками. Сообщение было услышано не только в Берлине и во всех концах Германии, о нем уже знали на всех фронтах. И теперь даже те, кто до сих пор оставался верен им и всерьез намеревался приступить к выполнению операции «Валькирия», начинали сомневаться: стоит ли продолжать? Не пора ли остановиться и попытаться переиграть то, что переиграть, собственно, уже невозможно?
«Они не понимают, что спасение только в активных действиях, – нашел очень важный для себя ответ граф фон Штауффенберг. – Только в молниеносной реализации плана “Валькирия”. Даже если фюрер уцелел, сам факт заговора против стольких известных, авторитетных генералов, созревшего не где-нибудь, а в штабе Верховного командования вермахта, основательно подрывает его авторитет. Еще больше он будет подорван при попытке Гитлера утопить этот заговор в генеральской крови. Слишком много ее должно быть пролито, слишком высокородна она, чтобы не заставить германца задуматься: а не проще ли пожертвовать одним-единственным Гитлером? Этим взбесившимся безродным австрийцем? Они не понимают, что спасение всех нас – в уверенной активности и жертвенной решительности».
«Жертвенной решительности», – вот определение, которого до сих пор не хватало Штауффенбергу, чтобы определять линию своего дальнейшего поведения.
30
Лишь под вечер адская жара, осаждавшая с самого утра растерзанную слухами, налетами вражеской авиации и неуверенностью столицу Германии, наконец отступила, и в открытые форточки здания командования армией резерва сухопутных войск потянуло спасительной прохладой. Но теперь ей уже никто не радовался. Так или иначе все равно все задыхались. Каждый, кто появлялся в кабинете Ольбрихта, Фромма или фон Квиринхейма, обливался очевидным и скрытым потом в предчувствии страшной развязки.
Эхо предчувствия становилось настолько тягостным, что у некоторых попросту сдавали нервы. Как обреченный, лежа под занесенной секирой палача, с ужасом молит Господа: «Поскорей бы уже», так и они жаждали хоть какой-то развязки, какой-то определенности.
– А по-моему, они там, в гестапо и «Вольфшанце», до сих пор так и не поняли, что штаб сопротивления находится не в ставке главного командования сухопутных войск в Цоссене, не в штабе командующего Берлинским округом и не в гарнизонной комендатуре, а здесь, – вновь вернулся к мучившей его неизвестности генерал Ольбрихт. – Иначе трудно объяснить то странное бездействие, которое сковывает гестапо, СД и части «Гроссдойчланд».
– Может, они тоже выжидают: а вдруг верх возьмем мы, – с горькой иронией предположил Геппнер. Раздосадованный тем, что в качестве командующего армией резерва его так никто и не признал, он демонстративно и окончательно оставил кабинет Фромма, уступив его Штауффенбергу и ютился сейчас в одной комнате с полковником Квиринхеймом, но все чаще заглядывая сюда, к Ольбрихту.
– Не думаю, чтобы нашелся сумасшедший, который бы ставил на нас в эти минуты, – взглянул на часы генерал Бек. – Те же, кто поставил раньше, уже поняли, что проиграли. Обычная рулетка.
– Господин генерал, господа, – неожиданно появляется полковник фон Шверин. – Прибыл Мюллер.
– Что?! – вытягивается лицо Ольбрихта, стоящего вполоборота к висевшей на стене огромной карте, которую, скорее но привычке, чем из надобности, внимательно рассматривал. – Мюллер? Один, с солдатами? Кто его впустил сюда?
– Где он? – почти шепотом спросил Бек.
– Простите, я имел в виду не шефа гестапо, а полковника Мюллера, – под грохот сапог уже появившегося у него за спиной полковника извинился граф фон Шверин.
Генералы переглянулись и облегченно вздохнули. Самое время было отшутиться, но ни одному из них это даже не пришло в голову. Все чувствовали себя крайне неловко, поскольку ясно было, что струсили.
– Рады видеть вас, полковник Мюллер. Вы явились с курсантами? – приближается к посетителю генерал Ольбрихт.
– Никак нет. Один. Мне так и не удалось создать хоть какую-то боевую группу.
– Училище уже в руках гестапо?
– Пока нет. Но офицеры не желают подчиняться нам. Меня они встретили как заговорщика.
– В общем-то они правы, – спокойно замечает Ольбрихт. – Скорее всего, именно в такой ипостаси они и должны воспринимать вас. Так что к этому следует быть готовым.
– Рассуждать я могу как угодно. Но им уже все известно, и они не желают выполнять мои приказы. – Ольбрихт заметил, как дрожала рука полковника, когда он снял фуражку и положил ее на стол. – Если бы в училище наконец появился его начальник, генерал Хитцфельд, тогда, может быть… Да и то, думаю, лишь определенная часть офицеров. Остальные не поддержали бы.
– Удалось установить, где сейчас пребывает генерал Хитцфельд?
– Как и предполагали, на похоронах одного из своих родственников. Очевидно, он тоже не был предупрежден.
«Тоже», – заметил Ольбрихт. Как часто ему приходилось сегодня выслушивать упреки по поводу того, что штаб путча не предупредил своих единомышленников о развертывании главных действий. Чаще всего это звучало в завуалированной форме, но иногда совершенно открыто.
Конечно же, знай командиры об этом «дне X», многие вели бы себя совершенно по-иному. И готовность была бы иной. Но как можно было доверить сотням людей тайну тайн путча? «Приготовьтесь, полковник, сегодня мы будем взрывать нашего дорогого фюрера. Не желаете ли попрощаться?»
– А ведь на ваше пехотное училище мы возлагали такие надежды, – сокрушенно качает головой несостоявшийся президент Германии.
– Боюсь, что теперь ваши… простите, наши надежды станут еще призрачнее, – ответил Мюллер, которого чуть было не приняли за генерала СС, Мюллера из гестапо. – Прежде чем покинуть училище, я связался с командирами нескольких частей в пределах Берлинского округа. Все они утверждают, что уже идут приказы из штаба Верховного главнокомандования вермахта. Причем звонит сам Кейтель и требует не выполнять никаких приказов, которые поступают помимо его штаба.
– Мы уже поняли это.
– Я могу быть еще чем-то полезен вам, господа?
– Спасибо вам, полковник, – мрачно поблагодарил его Ольбрихт. – Спасибо. Вы один из тех немногих, кто нашел в себе мужество до конца оставаться верным своему слову.
Когда Мюллер попрощался, оба генерала проводили его расчувствованными взглядами. Кто еще из офицеров явился бы сюда, чтобы лично доложить о своей неудаче? Остальные попросту спасаются, запасаясь свидетелями и свидетельствами своей непричастности.
– Святой человек этот полковник, святой… Ему еще очень повезло, что его прямо там, в училище, не арестовали, – проговорил Бек.
– Я тоже проникся уважением к нему, – признался Ольбрихт. – Если бы мы опирались на таких командиров, как он, все сложилось бы по-иному.
31
Штауффенберг уже ответил молчанием на десятки телефонных звонков. У него не хватало сил и дальше объяснять, лгать, увертываться, призывать. Полковник очень сожалел, что нет возможности включить все телефоны, всю радиосеть, и так, чтобы слышали все эти солдафоны в фельдмаршальских, генеральских и полковничьих погонах – где бы они ни находились и какого мнения ни придерживались, – и заявить: «А мне теперь уже совершенно безразлично, верите вы в гибель фюрера и успех операции “Валькирия” или нет! Я сделал для вас то, чего не сподобился сделать Господь Бог, – пытался уничтожить вашего обезумевшего фюрера, чтобы избавить от него не только Германию, но и весь мир. Я предложил вам восстание и свободу. Но вы трусливо позабивались в свои командно-штабные норы. И свои квартиры. И потому, еще не начав настоящего боя, уже потерпели сокрушительное поражение. Теперь можете спокойно ждать, пока за вами придут с кандалами и секирой».
Как он ненавидел сейчас всех этих трусливых служак, не решающихся, видите ли, нарушить присягу, данную фюреру. Как он презирал всю эту генеральскую шушеру, бездеятельно ожидавшую своего часа, чтобы промаршировать к чинам и креслам, к самой ставке фюрера по трупам истинных храбрецов и патриотов.
– Полковник фон Штауффенберг? – Он так и не смог понять, почему этот, прозвучавший как бы особняком от целой лавины остальных, звонок все же заставил его снять трубку.
– Слушаю вас.
– Вы все еще на посту, полковник Штауффенберг?
– А вы могли в этом усомниться? – настороженно поинтересовался «убийца фюрера», будучи твердо уверенным, что это звонит кто-то из «своих». Даже голос – нагловато-уверенный, слегка приглушенный доверительностью интонаций – показался довольно знакомым.
– Только потому, что привык подвергать сомнениям все. Решительно все. И всех.
– Как и я. Особенно в последнее время.
– Еще бы не разувериться, – прогромыхал яростным басом собеседник графа.
Вместе с его все более крепнущим голосом в трубку врывалась доносившаяся из приемника, завораживающая своей сентиментальной медлительностью, танцевальная, в стиле аргентинского танго, мелодия.
– Позвольте, вы не представились.
– Непростительная оплошность. Даже если учесть, что потревожил старого знакомого. Штурмбаннфюрер Отто Скорцени, с вашего позволения.
На какое-то время Штауффенберг оцепенел.
– Вы решились позвонить? Не опасаетесь?
– Что нагрубите и швырнете трубку? Не боюсь. Тем более, что вскоре нам придется повидаться. Но тогда у нас уже будет иной, официальный разговор. В то время как сейчас есть возможность наслаждаться дружеской беседой. Исключительно дружеской. Один вопрос: почему вы все еще копошитесь в своем «логове заговорщиков», как теперь именуют Бендлерштрассе во всех остальных штабах?
– Потому что выполняю свой долг перед Германией.
– Кто бы мог подумать? – металлическим лязгом проскрежетал насквозь проржавевший бас штурмбаннфюрера. – Чем же тогда занимаемся все мы, не удостоившиеся быть причисленными к сонму ваших единомышленников? Нет, вы говорите, полковник. Чем тогда занимаемся, перед кем выполняем свой долг все мы, тысячи генералов и офицеров? Перед Абиссинией? Перед Берегом Слоновой Кости?
На фоне задумчивой тоскливой мелодии, доносившейся откуда-то из-за океана, из охваченного безмятежностью вечного карнавала страны, смех «первого диверсанта империи» звучал особенно зловеще.
– Ответ вам известен не хуже, чем мне, господин штурмбаннфюрер. Несмотря на то, что вы – эсэсовец.
– «Эсэсовец» – это было сказано для того, чтобы я почувствовал свою ущербность? Ах да, все эсэсовцы, тем более – высокопоставленные, занесены в ваши «ликвидационные списки».
– Так диктует вам логика эсэсовца. Но у нас нет таких списков. И никогда не будет. Ради этого мы и пытаемся избавить страну от гитлеровской тирании, от фашизма.
– Но списков-то почему нет? – совершенно искренне недоумевал Скорцени. – Вы меня удивляете, полковник. Как же вы собирались избавлять Германию от тирании и фашизма, от Отто Скорцени с его фридентальскими коммандос, – прибытия которых я, кстати, ожидаю, томясь разговорами с вами, – не имея конкретного плана действий и «ликвидационных» списков?
– Значит, вы не прибыли сюда только потому, что под вашим командованием нет надежной роты-другой солдат… – ухватился Штауффенберг за эти слова Скорцени, как за разгадку бездействия СД и гестапо.
– Привычка подвела, полковник. Я привык доверять своим фридентальским курсантам. Особенно в такие блаженственнейшие минуты. Но меня действительно интригует: почему, имея столь зубодробительный кулаж путчистов, такой влиятельный круг единомышленников и столько войска, вы не удосужились захватить ни один жизненно важный пункт в Берлине и окрестных городах? Не произвели решительно никаких арестов?
– Это уже допрос?
– Бросьте, полковник, – шутливо остановил его Скорцени. – Какой допрос? Можем же мы поговорить как штабист со штабистом. Особенно если учесть, что любой заговор, где бы он ни возникал, представляет для меня, в силу известных вам причин, сугубо профессиональный интерес.
– Сугубо…
– Неужели вам не явно было, что первыми нужно хватать Скорцени и Геббельса? Или, наоборот, Геббельса и Скорцени, что для меня было бы предпочтительнее. Называть еще фамилии? Или достаточно?
– Достаточно.
Штауффенберг мог вообще не отвечать на этот вопрос. Так он и порывался поступить. Остановило лишь то, что он понял: это действительно не допрос. Допросами Скорцени и его подручные займутся потом. Этого «самого страшного человека Европы» и впрямь интересует, почему они так поступили. Речь идет об интересе профессионала.
– Вы хоть к стенке кого-нибудь поставили?
– Не торопимся, – раздраженно огрызнулся Штауффенберг.
– Не нашлось достойных этой чести? – рассмеялся, что рашпилем по жести провел, Скорцени. – Тогда чего вы теперь ждете? Нет, я серьезно спрашиваю. Чего ждете? На что надеетесь?
Штауффенберг рассерженно посопел в трубку. Знал бы Скорцени, сколько раз он и сам задавал себе этот вопрос. Вот только отвечать на него было некому.
– О чем задумались, господин полковник? Недоумеваете, почему верные вам части все не подходят и не подходят? Так назовите, кто там из командиров в последние минуты предал вас, пообещав ранее всяческую поддержку. Я его сам пригоню к вам. Вместе со штурмовыми группами. И заставлю подчиняться.
– Хватит паясничать, штурмбаннфюрер, – зло прервал его Штауффенберг.
– И не пытался, – обиженно заверил его Скорцени. – Просто хочу понять, что происходит. В конце концов, я диверсант. Я должен знать психику людей, решившихся на убийство фюрера, на государственный переворот. Но затем так и не отважившихся убрать хотя бы одного из своих противников. Мне нужно знать способ мышления людей, против которых придется действовать… Я не прав, господин полковник?
– В общем-то…
– Тогда почему не верите? Назовите – и я пригоню их. Пусть привыкают сдерживать слово офицера.
– Пусть привыкают…
– Кстати, кто там у вас главный?
– У нас нет главного.
Скорцени задумчиво посопел в трубку.
– Такого не бывает. Не вы, конечно, насколько я понял. Будь во главе вы, наверняка действовали бы решительнее. Судя по тем сведениям, которые мне удалось собрать о вас. Так сказать, воспоминания посреди нубийской пустыни. Или, может быть, центр все же находится не на Бендлерштрассе, а в Цоссене? А то и в Париже? Штюльпнагель, кстати, оказался единственным, кто действует по всем канонам военного переворота. Не в курсе, полковник?
– В курсе.
– Единственный, согласны?
– Не стану возражать.
– Его бы сюда, в Берлин.
– А ведь вы сожалеете, что покушение не удалось. Сожалеете, штурмбаннфюрер, сожалеете.
– Я мог бы назвать вам десятки людей повыше меня рангом, которые действительно сожалеют. Но ваш выбор неудачен.
– Как знать.
– Так вот, я скажу вам, почему вы копошитесь там, в своих штабных гнездах, в ужасе ожидая, когда явлюсь со своими парнями по вашу душу, повяжу и поотправляю в камеры гестаповской тюрьмы на Принц-Альбрехштрассе. Потому что с самого начала операции «Валькирия» каждый из вас чувствовал себя не человеком, несущим избавление Германии, а заранее обреченным. Вы все рассчитали. Но в расчетах своих исходили только из одной позиции: фюрер мертв. Наступает «час Икс». Или «Зет»… Но ни у одного из вас не хватило фантазии предвидеть развитие событий на тот случай, когда окажется, что фюрер жив. Фантазии не хватило – вот в чем причина вашего поражения. Однако о существовании заговора уже известно и отступать поздно.
– Мне трудно не согласиться с вами, – с душевными муками, нервно прокашливаясь, ответил Штауффенберг.
– А вы можете и не соглашаться. Не признавать моей правоты. Суть от этого не изменится. Вы потому и потерпели поражение, что весь ваш заговор был заговором обреченных. Конечно, никакой, даже самый мастерски спланированный и решительно исполненный путч не гарантирован от поражения – кое-какой опыт на этот счет у меня имеется.
«Опыт Австрии, – мысленно подтвердил его правоту Штауффенберг. Даже по отношению к своему врагу он старался быть справедливым. – Удачный… опыт».
– …Но провалить его столь бездарно, как провалили вы, генералы и полковники генерального штаба! Повторяю: так бездарно спланировать и осуществить в общем-то несложную операцию… Имея своего смертника и доступ к фюреру. В почти беспроигрышной ситуации… Это не просто бездарный путч, это клеймо позора на всем штабе Верховного главнокомандования вермахта. Только так ваш провал и будет – под издевательский хохот – воспринят во всех разведках и всех столицах мира.
– Не думаю. Наши действия будут вызывать разные ассоциации.
– Вот почему я с уверенностью говорю: это заговор обреченных. И мой вам совет: патроны, которые вы сэкономили на врагах своих, поспешите израсходовать на себя: неизбежность политической борьбы в том и состоит, что патроны, которые вы сэкономили на врагах своих, неминуемо приходится расходовать на себя. Массовое самоубийство – вот что вам остается. Все, полковник граф фон Штауффенберг, все… Я еще вернусь в этот мир, я еще пройду его от океана до океана!
…Трубку на том конце давно повесили, а Штауффенберг все еще держал свою в руке, с опаской посматривая на нее, словно на гранату с вырванной чекой. Он так и не мог окончательно решить для себя: состоялся этот сомнамбулический ночной разговор с «первым диверсантом рейха» на самом деле или же попросту примерещился. А может, это была всего лишь телепатическая, медиумная связь душ: убийцы и жертвы? И с этого разговора начинаются их бесконечные беседы, которые будут продолжаться тысячи лет, там, в потустороннем мире, между вратами ада и рая?
«Почему никто не решился поговорить со Скорцени? Будь этот человек с нами… Господи, был бы он сейчас здесь… Он начал бы с того, – неожиданно возразил себе Штауффенберг, – что перестрелял бы большую половину нашего трусливого генералитета. А уж затем принялся наводить порядок за стенами штаба армии».
– Это вы, обер-лейтенант фон Хефтен?
– Я, господин полковник, – жалобно, по-сиротски прозвучал голос переминающегося у двери с ноги на ноту адъютанта.
– По крайней мере можно убедиться, что перед тобой живой человек, а не телефонный дух.
– Людей здесь теперь все меньше. В основном – духи.
32
Командиры рот ожидали майора у здания комендатуры. Воспользовавшись этим, Ремер решил не подниматься к генералу фон Хазе и вообще провести совещание со своими офицерами вне стен комендатуры. Тем более что, поднявшись к коменданту, он вынужден был бы арестовать его как заговорщика. Обязан был сделать это. Но какими силами? К тому же майор не желал, чтобы кровопролитие в столице началось по его приказу, с выстрелов его солдат.
Совещание состоялось прямо во дворе и было предельно коротким.
– Только что я побывал у рейхсминистра Геббельса и лично говорил по телефону с фюрером.
От удивления у офицеров рты пооткрывались. Но все знали, кто такой майор Ремери, знали, что свои «дубовые листья» он получал из рук Гитлера. Поэтому ни один не усомнился, что так оно и было: их майор общался с фюрером из домашнего кабинета Геббельса. Если уж сегодня мир начал переворачиваться в их глазах, то должен был перевернуться окончательно.
– Нашему батальону приказано навести в Берлине порядок. Никакого путча, никакого переворота, никаких противозаконных действий, от кого бы они ни исходили.
– Яволь.
– Мы им пасти рвать будем!
– Яволь!
– Все посты, которые блокируют правительственные кварталы, охраняют здание на Бендлерштрассе, находятся у здания службы безопасности, Бранденбургских ворот и других объектов, – немедленно снять и направить на Герман-Герингштрассе, к резиденции рейхсминистра Геббельса. Впредь выполнять только мои приказы. При любой попытке кого бы то ни было воспрепятствовать этому – применять оружие. Не задумываясь. Не за-ду-мы-ваясь, – подчеркнул он с такой ожесточенностью, словно давно заподозрил своих офицеров в штудировании философских трактатов.
Пока офицеры объезжали на своих мотоциклах все посты батальона, Ремер вернулся к резиденции Геббельса и из его приемной связался вначале со штабом своего батальона в Моабите, чтобы вызвать несколько оставшихся, там мелких подразделений, а затем – со штабом резервной бригады дивизии «Гроссдойчланд» в Котбусе.
– Я действую по личному приказу фюрера, – уверенно продиктовал он свою волю начальнику штаба бригады. – Передайте командиру, что ему надлежит немедленно перебросить всю бригаду, в полном составе, в Берлин, сосредоточив ее неподалеку от резиденции Геббельса. На Герман-Герингштрассе. Дальнейшие инструкции получите уже здесь.
– От кого? – пытался уточнить начальник штаба.
– От меня, полковник. Вам этого недостаточно? – резко спросил он. – Через пятнадцать минут бригада должна выступить на Берлин. Это личный приказ фюрера. И попробуйте не выполнить!
– Но поступил сигнал о проведении операции «Валькирия».
– Все «валькирии» на сегодня отменяются, полковник. И не советую впредь упоминать о том, что вы знали о подобном сигнале и подобной операции. Что вы молчите, полковник? На вашем месте я бы поблагодарил за спасение. Вам не ясна суть этой операции?
– В чем она?
– Убить фюрера и захватить власть.
– Матерь Божья! – глухо взмолился полковник. – Я ваш должник, майор.
– К исходу дня таких должников у меня будет пол-Берлина.
Прошло около часа. Уже заметно стемнело, когда почти весь батальон собрался в обширном саду, охватывавшем резиденцию Геббельса.
– Господин рейхсминистр, – вновь поднялся Ремер в кабинет главного пропагандиста рейха. – Солдаты и офицеры батальона собраны у вашего здания. Они надеются, что вы как патрон дивизии «Гроссдойчланд» скажете им несколько напутственных слов. Это вдохновило бы их, господин рейхсминистр.
Геббельс не заставил себя долго упрашивать, не так уж часто ему приходилось обращаться непосредственно к солдатам. Тем более в такие переломные, трагические часы в истории рейха, как сейчас.
– Солдаты батальона «Гроссдойчланд»! – начал он, даже не дождавшись, пока офицеры построят свои роты. – Я буду предельно откровенен с вами. Сегодня на фюрера совершено покушение. Мина взорвалась в павильоне, в котором фюрер проводил свое совещание. Но он жив и продолжает руководить рейхом. Вы спросите, кто же организовал этот заговор. К сожалению, я не могу назвать их имен. Но уже к ночи они станут известны нам. Пока же хочу сказать, что за этим злодейством стоит целая группа генералов-предателей, готовых поднять войска и пролить кровь берлинцев, только бы дорваться до власти.
По сформировавшемуся строю батальона прокатился гул негодования, который сразу же был замечен Геббельсом. Опытный оратор, он тотчас же воспользовался этой реакцией. Голос его стал тверже, формулировки жестче.
– Вашему батальону выпала историческая миссия: подавить путч в столице рейха, лишив заговорщиков всякой возможности захватить правительственные здания и резиденцию службы безопасности. Вам нужно будет продержаться хотя бы два-три часа, пока к Берлину подтянутся верные нам части вермахта, СС и полиции. Да, многие растерялись. Иным еще не ясна ситуация, их сбивают с толку приказы, поступающие из штаба заговорщиков согласно некоему плану операции «Валькирия». Но все это несущественно. Оглашаю приказ фюрера: подразделениям батальона следует оцепить здание штаба армии резерва, правительственный квартал и здание комендатуры, а также расположить свои посты возле рейхсканцелярии. Более подробные распоряжения вы получите от своего командира подполковника Ремера, – умышленно оговорился Геббельс, намекая, что подобные заслуги перед рейхом не остаются незамеченными. – Германия верит вам, солдаты дивизии «Гроссдойчланд»! Вы войдете в историю как спасители рейха. Гордитесь же этим!
– Хайль!
33
– Что это у вас, Хефтен?
– Бутерброды и кофе. Взял в столовой. Вы ведь все равно не спуститесь туда.
– Не до этого сейчас.
– Так и понял, господин полковник.
Обер-лейтенант поставил на стол небольшой, источающий горьковато-ароматный пар, кувшинчик, похожий на пивную кружку со слегка суженным горлышком, и сверток с четырьмя бутербродами.
Штауффенберг немного помялся, вздохнул…
– Тогда садитесь, вместе…
– Я уже, – упреждающе поднял руки адъютант. – Перекусите, я подежурю у телефона.
– Теперь поспокойнее. Кажется, немного унялись.
– Тогда наведаюсь вниз, к связистам. Опасность исходит не столько от гестапо, сколько от них.
– Преувеличиваете, фон Хефтен. Возможно, они там и не в восторге от того, что заго… наш путч, – затруднялся с поиском соответствующего слова Штауффенберг, – развивается слишком медлительно. Однако не думаю, чтобы они решились на какие-то агрессивные действия.
– Дай-то бог, господин полковник. Только, появляясь там, я каждый раз расстегиваю кобуру.
– А зачем вы там появляетесь?
– Сопровождаю полковника графа фон Шверина. Ему приходится доставлять туда приказы генерала Ольбрихта и вообще быть в роли офицера связи.
Штауффенберг осторожно берет тремя уцелевшими пальцами бутерброд, откусывает его, кладет на стол, потом теми же тремя пальцами поднимает небольшую чашечку с кофе. При этом он вопросительно смотрит на своего адъютанта:
– Ну, Шверин – понятно. Вы-то при чем?
Фон Хефтен старается не наблюдать за его манипуляциями. Ему всегда казалось, что полковник слишком стесняется своего увечья и болезненно воспринимает любое созерцание его, будучи уверенным, что всякий посторонний взгляд таит в себе нечто сочувственно-брезгливое.
– С некоторых пор граф попросту побаивается появляться там в одиночку. Ворваться в кабинет генерала Ольбрихта они, возможно, и не решатся… Во всяком случае до тех пор, пока здание не оцепят гестаповцы. Но могут попытаться арестовать кого-то из полковников. Фон Шверина или фон Квиринхейма, например.
– Зачем им это? – застывает у рта чашка с кофе.
– Чтобы удерживать в качестве заложника чести, как доказательство своей лояльности. Арестовать, забаррикадироваться…
Штауффенберг так и не прикасается губами к чашке, в забывчивости ставит ее на стол и вновь берется за бутерброд.
– Вы серьезно считаете, что они могут пойти на такой шаг?
– Предметом их постоянных шуточек служит наша с вами мягкотелость. Когда они узнали, что начальнику танкового училища полковнику Глеземеру совершенно не стоило труда уговорить охранявшего, то ли обер-лейтенанта, то ли капитана, отпустить его под честное слово, они крутили пальцами у висков и ржали, как лошади, завидевшие мешки с овсом. Теперь они с минуты на минуту ждут, когда полковник нанесет повторный визит, но уже сидя в танке.
– Позвольте, обер-лейтенант, разве полковник Глеземер действительно отпущен?
– Конечно.
– И он сумел спокойно выйти из помещения?
– Почему «сумел»? Просто вышел – и все.
– Но ведь существует охрана.
– Солдаты охраны заявляют, что впредь будут выполнять только приказы своего командования. А они – из батальона майора Ремера, который, как стало известно, уже находится под командованием Скорцени или даже Гиммлера.
Штауффенберг стучит своим увечным кулачком по столу и решительно поднимается, чтобы идти к Ольбрихту и Беку.
– Я вынужден буду наконец сказать нашим господам генералам, что подобные операции таким образом не совершаются. Мы или всех несогласных с нами арестовываем и содержим до суда под стражей, или же всех отпускаем. В противном случае мы лишь наживаем себе врагов, которые, собирая силы, ожесточаются.
– Не стоит идти к ним, господин полковник, – коротко охлаждает его фон Хефтен.
– Почему?
– Кофе остынет, – мрачно объясняет обер-лейтенант, избавляя себя от необходимости указывать полковнику на то, что он и так прекрасно видит.
Впрочем, Штауффенберг прекрасно понял его. С полминуты он стоит, упираясь кулаком в стол и глядя в зашторенное окно. Фон Хефтен прав. Конечно же, все должно было решаться по-иному. Организовав этот путч, они забыли главный девиз германцев: «Никогда не жалей врага». Они жалели всех, не понимая, что, превратив офицера в своего врага, а затем выпустив его на свободу, по существу, перевоплощают его в раненого зверя, который тут же забывает о страхе и самосохранении.
Однако что он, Штауффенберг, мог сделать? Арестовать самих генералов и принять командование на себя? Возможно, так и следовало бы поступить. В самом начале. Но кто знал? Да и потом… кто он такой, чтобы приказывать фельдмаршалам и генерал-полковникам? Кто его станет слушать? Если по телефону его еще иногда и выслушивают, то лишь потому, что больше не у кого получить ответ на вопрос «Где сейчас генерал Фромм?» Да еще потому, что имеют дело с начальником штаба генерала Фромма.
– Весь ужас в том, обер-лейтенант, что все оно так и есть, – задумчиво соглашается он со своими мыслями и вновь садится в кресло. – Этот ужасный день. Неужели он когда-нибудь кончится? Вы заметили, фон Хефтен, как невыносимо длителен этот день, двадцатое июля?
– Очевидно, так, по минуткам, его когда-то и будут изучать – и те, кто сочувствует нам, и те, кто станет презирать.
– Станут, обер-лейтенант, станут, – неожиданно оживился полковник. Ему вдруг вспомнился недавний разговор с братом. Это он, Бертольд, первым заговорил о том, что, по существу, все они, особенно полковник Клаус фон Штауффенберг, уже принадлежат истории Германии, истории Европы. – Независимо от исхода того дела, ради которого мы положили свои жизни. Просто мы с вами еще пока что не осознаем этого.
Фон Хефтен промолчал. Когда речь заходит о Ее Величестве Истории, адъютантам лучше помолчать. Хотя и их эта строгая дама вниманием своим не обходит.
– Если понадоблюсь, господин полковник, я рядом. «Это и есть настоящий адъютант, – с признательностью посмотрел ему вслед полковник. – Другой бы на его месте давно улизнул отсюда и отрекся. Улизнул и отрекся…»
Полковник стеснялся признаться себе, что ему очень не хотелось, чтобы фон Хефтен оставлял его. Сейчас присутствие обер-лейтенанта придавало ему уверенности, и вообще он видел в лице фон Хефтена кого-то более близкого, чем обычный адъютант. Возможно, потому, что именно этот человек был с ним сегодня в «Волчьем логове». Он один знал его тайну, знал все, решительно все, как оно там было, как они спасались. Вот почему полковник вновь с признательностью повторил: «Другой бы давно улизнул отсюда и забился в первую попавшуюся нору, дожидаясь прихода англичан».
Граф даже не заметил, как начал делить всех окружающих на тех, кто «улизнул бы, отрекся и предал», и на тех, кто этого еще почему-то не сделал.
34
Оставшись в одиночестве, Штауффенберг жадно набросился на бутерброды и кофе. Его «трехпалая клешня», как иронично он называл свой обрубок, работала с необычайной быстротой. Полковник словно бы опасался, что путч завершится раньше, чем он успеет перекусить.
Только теперь он вдруг понял, насколько же голоден был все это время. Кажется, в последний раз он вспоминал о еде, когда узнал, что, получив из ставки фюрера сигнал «Валькирия», генералы Ольбрихт и Бек, вместо того, чтобы тотчас же приступить к выполнению плана операции, отправились в столовую, дабы тостами поздравить друг друга с успешным началом. Еще бы: ведь пришло время обеда. Неистребимый германский педантизм!
Но тогда же Штауффенберг сказал себе, что даже не заикнется о еде, пока не убедится, что сделано все, что только можно было сделать. Этот голодный протест стал самым решительным актом отвращения к мелочности человеческих страстей и слабостей его сообщников.
Где-то вдали начал зарождаться монотонный гул авиационных моторов. Штауффенберг прислушался. Неужели налет? Они дойдут сюда, почти до центра города, и сбросят бомбы прямо на ставку командования. Гибель под осколками английских бомб и руинами штаба была бы лучшим из всех возможных исходов, какие только способна предопределить им судьба. Того и гляди, Геббельс назвал бы их в числе героев, погибших на своем посту, выполняя долг перед фюрером и Германией.
Но самолеты – звено бомбардировщиков – проходили мимо, на восток, и, по всей вероятности, были своими. «Это ж надо дожиться до того, чтобы молиться на вражеские бомбардировщики, как на ангелов-спасителей», – подумал Штауффенберг, с тоской скользя взглядом по потолку, словно провожал улетавший на юг клин журавлей. И вначале он даже не обратил внимания на взорвавшийся сухой официальной трелью телефон. Долго не хотел поднимать трубку, но телефон не умолкал.
– Это генерал Фромм? – послышался в трубке требовательный рокочущий бас.
– Генерала Фромма нет и не будет.
– Не кладите трубку! – еще более настоятельно пророкотал бас как раз в ту минуту, когда Штауффенберг действительно собирался швырнуть ее на рычаг. – Где в данную минуту находится генерал Фромм?
– Его нет. И вообще он отстранен от должности, – заявил Штауффенберг, решив, что имеет дело с кем-то из участвовавших в заговоре.
– Кем… отстранен? – поинтересовался его собеседник таким голосом, словно прошелся гусеницами танка по куче гравия.
– Генералом Беком.
– Кем? Беком?! Да вы что, с ума все там посходили?! Кто ему дал право отстранять кого бы то ни было?
– Простите, с кем имею честь?
– Со штурмбаннфюрером Отто Скорцени… имеете честь. А кто вы такой?..
– Полковник фон Штауффенберг, – осипшим голосом проговорил заговорщик, ощущая, что язык его становится шершавым и непослушным.
– Ах, опять сам Штауффенберг?! – злорадно уточнил Скорцени. – Так это вы позволяете себе распространяться о какой-то там чести?
– Если вы и дальше будете говорить со мной в таком тоне…
– Тон не нравится? – искренне удивился Скорцени. Но спросил уже более спокойно: – Так что вы сделали с генералом Фроммом? Пристрелили?
– Зачем? Пока только арестовали.
– Вы лично… арестовали Фромма?
– Это не важно.
– Но с какой стати? Ведь он «ваш». Понятно: не поделили министерские портфели в новом правительстве, – холодно констатировал штурмбаннфюрер. – Не вы первые. Обычная история.
Только сейчас Штауффенберг вспомнил внешность этого человека, и вспомнил, где они встречались. Это случилось один раз, тогда, на аэродроме неподалеку от «Вольфшанце». Вначале полковник не узнал его, хотя видел на фотографиях. Но потом ему объяснили, что это и есть тот самый «первый диверсант рейха».
– Так, значит, это у вас, на Бендлерштрассе, вызревал заговор? Мы-то поначалу грешили на англичан, на комендатуру Берлина. Затем на Цоссен.
– Что вас еще интересует, штурмбаннфюрер? – сухо спросил Штауффенберг, давая понять, что не собирается отвечать на вопросы, на которые вряд ли стоит отвечать, даже находясь на допросе в гестапо. А ведь во время прошлой их беседы Скорцени вел себя совершенно по-иному. Странно.
– Меня интересует, какая скотина осмелилась покушаться на фюрера! Вот что меня интересует. Или, может быть, считаете это событие настолько несущественным, что не стоит нашего с вами внимания, полковник Штауффенберг? – произнес он два последних слова буквально по слогам.
– Со временем ваше любопытство будет удовлетворено, – едва сдержался Штауффенберг, чтобы не отомстить ему за «скотину».
– Я бы даже сказал, что это произойдет очень скоро, значительно скорее, чем вам представляется, – в голосе штурмбаннфюрера, самоуверенном и нагловато-насмешливом, послышалась явная угроза. Штауффенберг ощутил ее и поневоле поежился. Не хотелось бы ему попадать в руки этого всеевропейского страшилища.
– Кстати, обергруппенфюрер СС Кальтенбруннер направил к вам одного из наших штандартенфюреров, доктора Пиффрадера. Специально для того, чтобы выяснять причину вашего невежливого ухода с совещания, которое проводил фюрер. Вы помните на своем веку какого-либо полковника, который обнаглел бы до того, чтобы подняться во время совещания, выйти, а затем вообще покинуть ставку?
– Господин Скорцени, вам не кажется, что наша беседа слишком затянулась? И что трубку я до сих пор не положил только из уважения к вашей храбрости. Но из этого не следует, что вы можете злоупотреблять моим временем.
– Послушайте, ваши сотрудники, кажется, называют вас Африканским Циклопом? Так вот, Африканский Циклоп, если выяснится, что со штандартенфюрером что-либо приключилось, все ваше сборище подлецов и предателей я перевешаю на фонарных столбах. Это не угроза, полковник, и даже не предупреждение. – Скорцени по-прежнему говорил спокойно и чуть-чуть медлительно. Совершенно не чувствовалось, что он верит в то, что его собеседник действительно осмелится бросить трубку. – Всего лишь рыцарское предложение не пожалеть для себя по пуле. При всей ценности свинца рейх простит вам эту расточительность. Но только помните: это единственное, что Германия и фюрер еще способны простить вам, полковник.
– Видите ли…
– Я не прощаюсь, Штауффенберг, – прогромыхал Скорцени. – Мы продолжим нашу милую беседу тет-а-тет. Если только к моменту моего прибытия вы не воспользуетесь моим советом.
* * *
Скорцени все же положил трубку первым. Он сделал это всего лишь за мгновение до того, как то же самое сделал Штауффенберг.
«Ты и здесь оплошал, – с горьким сарказмом упрекнул себя полковник. – Можешь считать, что свою словесную дуэль со Скорцени ты проиграл. Только учти, последующие выиграть будет еще сложнее. Скорее всего, невозможно».
– С кем это вы говорили, полковник? – появился я кабинете фон Квиринхейм. Штауффенберг сразу же понял, что он заявился просто так. Не зная, куда деть себя. Когда рядом еще кто-то из своих, чувствуешь себя спокойнее. Хотя все они теперь чувствуют себя осажденными в крепости, ворота которой вот-вот упадут под натиском целой орды варваров.
– Со Скорцени, – неохотно признался Штауффенберг.
– Простите?
– Со штурмбаннфюрером ОС Отто Скорцени.
– Уже волнуется? Интересно. И что он?
– Они там, у себя в СД, уже знают, что центр заговора здесь, – постучал пальцем по столу. – Нам еще очень повезло, что они поздновато разобрались.
– Что свидетельствует о том, что никто из знавших о «Валькирии» людей не поспешил с доносом.
– То ли о том, что те, кому надлежало знать, как, например, Гиммлер, давно знали о нас. Обо всех. Поименно. И выжидали. Но теперь уже не признаются. А что касается всех остальных «наших»… так ведь каждый понимает, что заявлять о соучастии в гестапо – все равно, что являться на эшафот со своей веревкой. Не рассчитывая на крепость той, что в руках палача.
– Довольно образно, – согласился Мерц фон Квиринхейм.
За то недолгое время, которое он знаком с этим полковником, Штауффенберг ни разу не видел его взволнованным или расстроенным. Он вел себя как механическая кукла. Ничто не угнетало и не вдохновляло его. Все, что происходило вокруг генерала Ольбрихта, он воспринимал с совершеннейшей серьезностью, пропитанной такой же совершеннейшей невозмутимостью. Возможно, поэтому и нравился Штауффенбергу. Поскольку сам он в последнее время с трудом владел своими эмоциями и переживаниями.
– И что же понадобилось от нас «обер-диверсанту» СС?
Появился фон Хефтен, вежливо извинился и, стараясь быть как можно незаметнее, убрал со стола чашку и бумагу с крошками, оставшимися от бутербродов. Вновь извинился и вышел.
– Интересовался нашим самочувствием.
– Уж не собирается ли он похищать нас, как Муссолини?
– Теперь мы по крайней мере знаем, кто придет по наши души. И еще – дал полезный совет.
– Любопытно.
– Пустить себе пулю в лоб.
– Не оригинально. Тем не менее… Вам не кажется, что именно ради этого совета он и позвонил? Если бы к прибытию его людей Фромм вместе со штабом расстрелял сам себя, это избавило бы фюрера, Гиммлера и прочих от излишних объяснений и откровений офицеров, которые отчаялись еще до покушения на фюрера.
– Резонно.
– Может, заглянем к Ольбрихту?
– Зачем? – усомнился Штауффенберг.
– Следовало бы доложить.
– Думаете, Ольбрихту не все равно, кто именно придет по его душу?
– Как знать.
– В любом случае не стоит. Нервы и так у всех напряжены. Ольбрихт, как и Бек, все еще предпринимает усилия, чтобы изменить ситуацию. Будем считать, что у нас со Скорцени состоялась обычная беседа двух знакомых офицеров. А потому просил бы вас, полковник…
– Поскольку это частный разговор… – развел руками Мерц фон Квиринхейм. – Щадить нервы – последнее, что мы еще способны сделать друг для друга.
В наступившей паузе они оба смотрели на телефонный аппарат, ожидая очередного сюрприза.
– Ольбрихт не связывался с Парижем? – нарушил молчание фон Штауффенберг.
– Во всяком случае, я ничего не знаю об этом. Хотите позвонить? У вас там в штабе родственник.
– Мне бы поговорить с самим генералом Штюльпнагелем.
– Решитесь?
– Поскольку крайне необходимо.
– По-моему, генерал Ольбрихт, как и Бек, немного побаивается его. Так мне показалось. Побаивается, потому что мы его подвели…
– Вот об этом я и хочу поговорить со Штюльпнагелем. Рассказать ему все как есть.
– Стоит ли?
– Он – единственный из командующих, который раскрутил план операции «Валькирия» на всю мощь. Единственный, кто уже не может ни свернуть операцию на своем театре действий, ни хоть как-то оправдаться в случае краха.
– Ну и?..
– Мой долг сказать ему всю правду. Он должен знать, что сейчас происходит на Бендлерштрассе и в целом в Берлине.
– Благородно, однако это может помешать ему. Спаникует. Тогда мы потеряем последний реальный шанс… Ведь Штюльпнагель, если только он полностью овладеет ситуацией во Франции, действительно может действовать самостоятельно. Независимо от того, чем завершится восстание в Берлине. Его поддержат англичане и американцы, которые уже высадились там. Это путь к перемирию и объединению сил, направленных в конечном итоге против большевистской России.
– Он не спаникует. Штюльпнагель – нет. Я знаю этого генерала. Решительнейший человек. Да и моя совесть будет чистой.
Штауффенберг потянулся рукой к телефонному аппарату, но задержал ее и посмотрел на фон Квиринхейма.
Тот понял, что Штауффенберг хотел бы говорить с генералом наедине.
– Да, конечно… – подтвердил это его право фон Квиринхейм, пятясь к двери.
35
Пока Штауффенберг вел беседы со Скорцени и Штюльпнагелем, полковник граф Шверин и подполковник генерального штаба Бернадис попросили генерала Ольбрихта принять их.
– Вы хотите сообщить мне что-то очень важное? – настороженно высказал догадку Ольбрихт, глядя на офицеров полусонными, воспаленными глазами. – Остается узнать, что именно.
– Мы только что побывали в телетайпном зале, поговорили с радистами, заглянули в некоторые отделы, – начал полковник Шверин, – то, что мы там видели и слышали…
– Короче, полковник. Вы хотите уведомить меня, что на этом «летучем голландце» готовится бунт?
– Как раз о нем мы и собирались предупредить вас, господин генерал. Наша ставка действительно напоминает пылающий «летучий голландец» с мертвой командой на борту.
Ольбрихт недовольно поморщился.
– Увольте от кладбищенских сравнений.
В это время в кабинет зашли Бек и Геппнер. Они остановились у двери, чуть позади и сбоку от офицеров, и стали молча слушать.
– Насколько ваши опасения серьезны? И во что, по вашим предположениям, этот бунт может вылиться? – спросил Ольбрихт.
– Вначале мы думали, что недовольные попытаются уйти из здания. А если, выполняя ваш приказ, часовые не захотят выпускать их, то прорвутся силой.
– Я и сейчас предполагаю, что они будут действовать только таким образом.
– Но они понимают, что в их интересах оставаться здесь до конца, – возразил полковник Бернадис. – Каждый сбежавший отсюда будет найден дома и предстанет перед гестапо как предатель. Следовательно, нужно оставаться до конца. И не просто оставаться, а предоставить гестапо подтверждение своей непричастности. А еще лучше – преданности.
Ольбрихт молча взглянул на Геппнера и Бека. Несостоявшийся президент почему-то так же молча повернулся и вышел. Скорее всего, у него просто-напросто не выдержали нервы.
– Все это мы уже слышали, господа офицеры, – недовольно проворчал Ольбрихт. – Что конкретно вы предлагаете?
– Следует собрать хотя бы какую-то часть верных нам офицеров; объяснить им ситуацию, проинструктировать, как вести себя, а главное, сформировать боевые группы для отражения нападения, – как можно вежливее изложил их общий план действий фон Шверин.
– Я уже думал об этом, – согласился Ольбрихт. – Полковник фон Шверин, позаботьтесь о том, чтобы офицеры были собраны у меня. Сейчас же.
Народу собралось больше, чем генерал мог ожидать. Офицеры, машинистки, фельдфебели из вспомогательных служб… В кабинет и в приемную их набилось столько, что Ольбрихт вскоре оказался перед толпой – возбужденной, настроенной на мрачную воинственность, которая еще неизвестно в какое русло может быть направлена. Основательно растерявшись, начальник штаба вдруг почувствовал себя чиновником, которого власти направили усмирять взбунтовавшуюся чернь.
– Господа, вы знаете, что ситуация резко осложнилась, – начал он свою речь, стоя за столом и положив одну руку на телефонный аппарат, другую – на толстую, забитую всяческими донесениями и копиями приказов папку. Поскольку она была наполнена в течение дня, то уже одно это свидетельствовало о титанических штабистских усилиях руководства заговорщиков. В любом случае он предстал перед собравшимися в позе императора, одной рукой опирающегося на новоявленный скипетр[20], другой – на некое подобие свода законов. – У вас пока нет точных сведений, но существует реальная угроза того, что в ближайшие часы на ваше здание может быть совершено нападение.
– А кто должен напасть? – вырвалось у кого-то из офицеров.
– Это нам пока что неизвестно. – Ораторское искусство генералу Ольбрихту всегда давалось с трудом. Вот и сейчас он не призывал, а бубнил что-то едва слышимое себе под нос. Вместо того, чтобы обращаться так, словно к полковому каре. – Да это, собственно, и не имеет особого значения. Мы уже направили в верные нам части и училища приказы об откомандировании сюда боевых групп, в том числе и танковую роту. Но все они по разным причинам задерживаются.
– И уже вряд ли подойдут, – негромко, но совершенно уверенно заявил тот же голос, который задал первый вопрос. Ольбрихт успел заметить, что он принадлежит подполковнику Герберу. Подполковник стоял где-то в конце стола, за спинами тех офицеров, которым хватило стульев.
– И, как мне стало известно, некоторые из них, в частности две роты пехотного училища, должны прибыть с минуты на минуту, – повысил голос начальник штаба, явно полемизируя со скептиком.
Ольбрихт уже знал, что Гербер является одним из тех офицеров, которые враждебно настроены по отношению к заговорщикам и только и ждут своего часа. Однако считал, что у него нет основания арестовывать его, поскольку враждебность эта пока никаким образом открыто не проявлялась. Да и не время было затевать сейчас потасовку в самом центре путча. Тем более, что, забаррикадировавшись в подвальных помещениях, недовольные могли держаться несколько суток.
– Но мы должны готовиться к худшему варианту – что какой-либо отряд, который подчиняется враждебной нам стороне, прибудет сюда раньше. Охрана, как вы знаете, у нас слишком ненадежная. Остался только один пост – у главного входа. Но и те солдаты, что охраняют его, подчиняются командиру охранного батальона из дивизии «Гроссдойчланд» майору Ремеру, который, как нам стало известно, уже не склонен выполнять наши приказы.
– «Не склонен выполнять», – иронично подловил его на слове все тот же Гербер. – А кто, позвольте спросить, «склонен»?
Ольбрихт выдержал небольшую паузу, и это позволило уже другому подполковнику – фон дер Ланкену – довольно резко поинтересоваться:
– Тогда почему мы доверяемся им? Этих солдат нужно разоружить и отправить в казармы. Или арестовать.
– Ну ситуация еще до конца не прояснилась. Возможно, представ перед лицом нападающих, если только они не окажутся из того же батальона, солдаты примут бой вместе с нами и будут держаться до подхода основных наших сил, – слишком поспешно, чтобы это выглядело искренним, – оправдался Ольбрихт. – Кстати, вам, подполковник фон дер Ланкен, как опытному боевому офицеру поручается возглавить оборону здания. Приказываю сформировать боевые группы, которые возьмут под свою охрану все шесть подъездов здания, а также займут ключевые точки на первом этаже.
– Мы хотим с пистолетами выступить против целого батальона, а то и двух, автоматчиков? – насмешливо поинтересовался Гербер. – По тому, сколь отстраненно и с какой иронией подполковник спросил об этом, генерал понял, что лично он оказывать сопротивление не собирается.
– В здании верховного командования, на складе, есть автоматы. Подполковник фон дер Ланкен, примите меры к тому, чтобы вооружить офицеров.
– Есть.
– Господа, – приободрился Ольбрихт, почувствовав хоть какую-то поддержку, – все мы, находящиеся здесь, сплочены одной идеей. Я призываю в этот трудный для всех нас час быть едиными в стремлении сражаться до конца. Как велит наш солдатский долг. Все свободны, господа. Хайль… – автоматически вырвалось у него. И хотя генерал вовремя спохватился, все равно почувствовал себя в идиотском положении. Еще не хватало, чтобы он упомянул здесь Гитлера. – Да здравствует великая Германия, – сбившимся голосом проговорил он.
Офицеры расходились крайне неохотно. Многие из них так до конца и не поняли, что происходит. Зато каждый почувствовал, что над Бендлерштрассе, а следовательно, и над его головой, сгущаются тучи. Тем более, что далеко не всем из тех, непосвященных, ясно было, какую, собственно, позицию в этом заговоре занимает командование армией резерва и штаб Верховного командования вермахта. Какие силы поддерживают их, какие противостоят. Это-то и заставило группу офицеров остаться в кабинете и попросить генерала более четко разъяснить ситуацию. В ней оказались подполковники Гербер и фон дер Хейде, майор Брайтенгер и даже фон дер Ланкен.
– Извините, господин генерал, но, честно говоря, из вашей речи мы так толком и не поняли, имеете ли вы, то есть вы лично, а также генерал Бек, генерал Геппнер, полковники фон Штауффенберг и фон Квиринхейм, прямое отношение к покушению на фюрера, – берет на себя роль предводителя этих семерых сомневающихся подполковник Гербер. Его мясистое, испещренное сетью оранжевых капилляров лицо багровеет, фиолетовый нос заостряется, толстые влажные губы искривляет гримаса великосветского презрения.
– Я бы не сказал, что мы имеем прямое отношение именно к покушению, – вновь увильнул от правдивого ответа генерал Ольбрихт. Весь этот сумасшедший день прошел под знаком откровенной лжи, скрытой полуправды и полуправедной неискренности. Иногда Ольбрихту казалось, что за всю свою жизнь он не наврал столько и стольким, скольким умудрился наврать в этот судный для него день. – Тем не менее ситуация в верхнем эшелоне рейха сложилась таким образом, что кому-то нужно было принимать на себя ответственность за судьбу страны.
– Высший эшелон рейха нести ответственность уже не способен? – довольно мягко, но от этого не менее желчно уточнил майор Брайтенгер, один из совершенно непосвященных.
– Следует считать, что не способен. Однако вы уже знаете, что фюрер остался жив. Сейчас, после того страшного потрясения, которое пережил, он вряд ли вообще окажется в состоянии принимать взвешенные решения. Его нетерпимость к мнению командующих фронтами, группами армий, отдельным командирам уже привела Германию на грань катастрофы. В политическом плане рейх оказался совершенно изолированным, один на один со всей разоренной и разъяренной Европой, за которой стоит мощь США, Канады и России.
Теперь генерала слушали молча. Однако чувствовалось, что и сейчас речь его ровным счетом ничего не проясняла и ни на что, ни на какие патриотические порывы не зажигала. Впрочем, генерал Ольбрихт и сам понимал, что трибун из него так и не получился.
– И все же, – вновь поднимается подполковник Гербер. – Зачем нам нужно создавать боевые группы? И кому мы должны будем противостоять? Давайте конкретно, господин генерал.
– Очевидно, эсэсовцам. Или людям из гестапо.
– Почему? На чьей тогда стороне рейхсфюрер Гиммлер? Ведь нас уверяли, что СС и, в частности, СД…
– К сожалению, теперь у нас нет оснований считать, что Гиммлер на стороне группы патриотически настроенных офицеров, готовых принять на себя ответственность за судьбу Германии.
– А генерал Мюллер? – посыпались вопросы.
– Позиция гестапо пока не ясна.
– Кальтенбруннер?
– Если бы покушение на фюрера оказалось успешным, он наверняка находился бы сейчас среди нас. Во всяком случае, присоединился бы к нам вместе с рейхсфюрером Гиммлером. Которому, несомненно, известно было о готовящемся перевороте.
– А фельдмаршалы Кейтель, Роммель, фон Клюге?
– С уверенностью могу сказать лишь о командующем войсками во Франции генерал-полковнике Штюльпнагеле. Который, как мне известно, полностью контролирует ситуацию на всей оккупированной территории. В случае неудачи здесь, в Берлине, Париж может стать центром сил, противостоящих фюреру и добивающихся перемирия с англичанами и американцами.
– На каких, интересно, условиях? – подал голос подполковник фон дер Хейде.
– На условиях дальнейшей совместной борьбы против большевиков. Хотя и на Восточном фронте вскоре придется свести дело к переговорам. Если, конечно, у нас появятся выгодные перспективы. Я хочу, чтобы вы поняли, господа офицеры: только в переговорах, в перемирии спасение Германии. Только в этом. Не смею вас больше задерживать.
Офицеры молча поднимаются и, мрачно глядя себе под ноги, оставляют кабинет Ольбрихта. Теперь-то им все окончательно ясно. Весь этот кавардак задуман и осуществлен здесь. Инициаторы его проиграли. А расхлебывать придется им, ничего толком же ведающим, ни в чем не замешанным.
– Кажется, теперь всем понятно, что скоро окна штаба армии резерва будут превращены в мишени для эсэсовцев, – заявил фон дер Хейде, как только они начали спускаться по лестнице, ведущей в подвальный этаж.
– Поэтому у нас нет иного выхода, кроме как определить свои мишени здесь, внутри здания, – добавил подполковник Гербер. – Кстати, нужно позаботиться о том, чтобы оружие оказалось в наших руках.
Генерал Ольбрихт уже не слышал всего этого. Но отлично понимал, что большая часть офицеров не пожелает гибнуть, защищая заговорщиков, с которыми их ничего не объединяет, кроме совместной службы. Знал он и то, что здание так и останется совершенно беззащитным. И что развязка наступит буквально в течение ближайшего часа.
Сев в кресло, генерал опустил голову, подпер лоб сомкнутыми руками и несколько минут сидел так, в состоянии человека, оказавшегося на грани отчаяния и душевного истощения.
36
– Позвольте, господин генерал?
Ольбрихт медленно поднял голову, надел очки и всмотрелся в лицо вошедшего офицера.
– Это вновь я, полковник Мюллер.
«Святой человек», – вспомнилось Ольбрихту.
– Как вы решились вернуться сюда, полковник? – с нежной признательностью спросил он, по-отцовски рассматривая простое, деревенское лицо офицера.
– Я обязан был сделать это, чтобы доложить. Не хотелось доверяться телефонной связи.
– Увы, господин полковник, сюда уже давно никто ни о чем не докладывает. А само наше здание, весь командно-штабной квартал обходят как лепрозорий. Вы поистине святой человек, полковник Мюллер. Поверьте, тронут. Так что у вас?..
– Я попытался сместить начальника пехотного училища генерала фон Хитцфельда в Деберице и принять командование училищем на себя. Тогда бы я смог привести сюда сотню-другую курсантов.
– Но начальник училища не подчинился вам.
– Если бы только мне. Он обнаглел до того, что вообще отказался повиноваться приказам, которые исходят отсюда. Заявил, что выполнит только тот приказ, который получит лично от фельдмаршала Кейтеля, рейхсмаршала Геринга или рейхсфюрера Гиммлера.
– Четко очерченный круг маршалов, – признал Ольбрихт. И в тоне его полковник не различил ни осуждения действий генерала фон Хитцфельда, ни возмущения его предательством. А ведь начальник пехотного училища был одним из тех, кто, пусть в общих чертах, но с самого начала знал о готовящемся заговоре.
– Конечно же, как только генерал убедился, что фюрер жив, а рейхсфюрер и Геринг не с нами, он решил, что его предательство – лучший выход из ситуации, – продолжил свои размышления Ольбрихт. И вновь ни нотки осуждения.
В это время появились неразлучные Геппнер и Бек. Они оба знают полковника Мюллера и удивляются его появлению не меньше, чем Ольбрихт.
– Мне уже казалось, что никакие обстоятельства не заставят вас вернуться сюда, – признается генерал-полковник Бек, не ведая о том, что подобное же признание уже сделал заместитель командующего резервной армией.
– Я бы не смог так поступить, не смог.
Искренность Мюллера не вызывает сомнений, а жертвенная преданность способна тронуть кого угодно. Была бы у них возможность хоть как-то отметить ее!
– Кстати, полковник, в прошлый раз вы говорили, что был подготовлен батальон курсантов, который вы собирались отправить в Заксенхаузен, – неожиданно вспомнил Ольбрихт.
– Вместе с другими верными нам частями эти курсанты должны были разоружить имеющиеся там охранные части эсэсовской дивизии «Мертвая голова», – подтвердил полковник.
– А если бы вы попытались перебросить этот батальон сюда, для охраны здания? Командир батальона, надеюсь, знает вас.
– Так точно, мы знакомы. Но ситуация могла измениться.
– Ситуация меняется с каждым часом. И все же… Вы с машиной?
– Так точно.
Ольбрихт и Бек переглянулись. Они оба понимали, что посылать полковника в Деберице, в училище, где его однажды уже чуть было не арестовали, – дело почти безнадежное. Однако у них не было выбора. Зато оставался шанс. Последний. Батальон курсантов – это все же хоть какое-то подкрепление. А там, кто знает, возможно, окажется, что полковник Мюллер – не единственный «святой человек» в этом городе.
– Мы убедительно просим вас, полковник Мюллер, возвращайтесь, пока еще можно пробиться в Дебериц, и попытайтесь доставить этот батальон сюда, – наставляет его Ольбрихт. – Если вам это удастся, можете считать, что спасли всю операцию.
– Чтобы не сказать, всю Германию, – учтиво добавляет генерал-полковник Бек.
Однако полковник не воспринимает ни вежливости Ольбрихта, ни учтивости Бека, ни, тем более, молчаливой поддержки Геппнера. Он офицер. И ему нужна определенность.
– Господин генерал, – обращается он к Ольбрихту. – Это следует воспринимать как приказ?
Чего проще было бы подтвердить: «Да, приказ». Но как же непросто сделать это Ольбрихту, чувствующему себя совершенно деморализованным.
– Естественно, – наконец решается он. – Несмотря на то, что облачен в форму просьбы.
– В таком случае просил бы изложить его в письменном виде. Иначе мне трудно будет говорить с офицерами батальона.
– Он прав, – мгновенно соглашается Бек, глядя на Ольбрихта. – Нужен письменный приказ.
Заместитель командующего берется за ручку и быстро пишет приказ на фирменном бланке штаба армии резерва Верховного командования вермахта. Подписывается, полностью указывая свою фамилию, звание и должность.
Уже потом выяснится, что это был последний подписанный им приказ. Вообще последний приказ, вышедший в тот безумный день из стен штаба армии резерва.
* * *
«Поистине святой человек», полковник Мюллер еще сумеет пробиться через множество уже появившихся на улицах полицейских, армейских и эсэсовских постов. Он доберется до пехотного училища. Минуя командование, обратится прямо к офицерам застрявшего в училище в стадии высшей готовности батальона…
Но уже около часа ночи. Уже всем ясно, что путч подавлен, а рассвет будет кровавым. Командир батальона майор Меринг и двое его офицеров изгоняют полковника из казармы и, угрожая пистолетами, дают пять минут для того, чтобы он оставил территорию училища. В противном случае они вынуждены будут или арестовать его или прямо на месте пристрелить.
«Они еще жертвенно добры ко мне, если сразу же не пристрелили, – оправдывает их действия “святой человек”. – Другие бы сделали это, не предупреждая. Меня по крайней мере арестовали бы, чтобы утром передать гестапо, в руки кровожадного однофамильца».
Мюллер подчиняется их подкрепленным пистолетными стволами аргументам и поспешно оставляет училище.
Оказавшись за воротами, он несколько минут в отчаянии ходит взад-вперед, не зная, что предпринять дальше. Попытаться вновь поговорить с начальником училища? Бессмысленно. Возвращаться на Бендлерштрассе, чтобы доложить о невыполнении? Тоже бессмысленно. Да и вряд ли он уже пробьется туда – судя по количеству постов, оцепивших район, прилегающий к центру города. Полковник достал пистолет, снял его с предохранителя, взвел курок… и поднес к виску.
Секунда, другая, третья… Нет, не готов… Еще не время. Он опустил пистолет и побрел к ожидавшей его машине.
– Конечно, следовало бы застрелиться, – пробормотал он в свое оправдание. – Но ведь это тоже бессмысленно.
37
Погасив свет, фон Штюльпнагель остановился у окна и несколько минут созерцал усеянный звездами клочок июльского неба, которым французская столица покрыла свою седую голову, словно старая цыганка – огромным цветастым платком.
Несколько созвездий окружали серебристую россыпь какой-то далекой галактики, чьи звезды уже сливались в огромный голубоватый бутон, очертания которого напоминали султан мощного взрыва.
«Истинному солдату весь мир кажется минным полем, а по жизни он идет так, словно его только что подняли в атаку», – вспомнился генералу один из его собственных афоризмов, которым он предавался с увлеченностью Диогена и гордился с непосредственностью Нерона.
Пододвинув кресло и переставив к концу стола телефонные аппараты, чтобы к ним можно было дотянуться, не поднимаясь, военный губернатор Франции уселся в кресло и, полузакрыв глаза, вновь задумчиво уставился в поднебесную высь. «Созерцая небо, мы созерцаем самих себя», – все еще пребывал и философской струе генерал. Однако длилось это недолго. Развернув кресло, Штюльпнагель теперь уже, наоборот, широко открыл глаза и уставился в черноту противоположной стены.
Он вообще всегда любил темноту. Но с того времени, когда началась война, у генерала появилось какое-то обостренное восприятие ночного мрака, самой ночи – уже не как поры суток, а как философского способа мироощущения, как философской категории.
Где бы ни находился фон Штюльпнагель: то ли на своей парижской квартире, то ли здесь, в штабе военного губернатора Франции, – в тех случаях, когда засиживался здесь допоздна, – свои главные, наиболее ответственные решения он непременно принимал, погасив свет и отвернувшись от окна, в кромешной мгле.
«В темноте все видится значительно яснее, – по-конфуциански обосновывал он свою причуду. – Ничто так не проясняет мрачную суть ясного дня, как забытье ночного мрака».
– Господин генерал? Говорит адъютант военного коменданта «Большого Парижа». – С вашего позволения, с вами будет говорить комендант.
– Слушаю вас, генерал фон Бойнебург, слушаю. Что там у вас стряслось?
– Докладываю, что первый гвардейский полк приведен в состояние повышенной боевой готовности. Задача офицерам ясна. Они готовы подчиняться любым моим приказам.
– Полк все еще находится в казармах Военной школы?
– До приказа. Готов выступить хоть сейчас.
– Так выступайте, давно пора. Прежде всего – резиденция гестапо на авеню Фош. А также все известные вам штаб-квартиры отделений гестапо, СД, абвера. Мы должны учесть ошибки Берлина. Уж мы-то должны учесть их. Что вы молчите, генерал?
– Вы сказали «ошибки Берлина»?
– А что вас смущает? Из Берлина уже давно исходят одни только ошибки. В этом адская закономерность и сатанинское проклятие всей германской нации, всей нашей истории.
Сопение генерала на том конце провода явно свидетельствовало, что он желал бы получить более популярные разъяснения. Однако фон Штюльпнагель по-прежнему пристально всматривался в философские глубины ночного мрака и с какими бы то ни было разъяснениями не спешил.
– Это следует понимать так, что в Берлине путч подавлен? – вынужден был решиться на этот вопрос комендант «Большого Парижа».
– Я бы не сказал. Точнее, он не получил надлежащего развития. Такое объяснение кажется вам достаточно убедительным?
– Но есть ли тогда смысл?..
– А мы в любом случае действуем строго автономно, исходя из ситуации, складывающейся здесь, в Париже. Так что выводите своих гвардейцев, комендант, выводите. Роммель в курсе. Бог – тоже. Они поддержат.
– А фон Клюге? – осмелился он втиснуть вечно сомневающегося и хитрящего фельдмаршала между Господом и Роммелем на место, которое ему явно не принадлежало.
– Руководители гестапо и СД должны быть доставлены в здание Военной школы. Утром их будет судить трибунал. Наш, специальный трибунал, – не пожелал губернатор распространяться относительно позиции фон Клюге. – Выходя из казарм, гвардейцы должны помнить, что вся великая Германия смотрит сейчас на них как на свою последнюю надежду.
– Чтобы вселить в них такую веру, я должен хоть на какое-то время почувствовать себя Бонапартом. Который, кстати, окончил Парижскую военную школу.
– Так ведь самое время почувствовать себя им, генерал, самое время! Через час-другой Париж будет в ваших руках. Не какая-то там Варшава – сам Париж! И помните: иного случая вам уже не представится.
Последующие три часа Штюльпнагель провел в таком напряжении, словно бомба, подложенная полковником Штауффенбергом под стол фюрера, неожиданно взорвалась здесь, почти в самом центре французской столицы, и всеразрушающая волна ее взрыва начала охватывать все новые и новые районы «Большого Парижа», выметая все то эсэсовско-гестаповское, на чем, собственно, и держалась до сих пор вся его оккупационная администрация.
Солдаты первого гвардейского полка, ставшие основной штурмовой силой генерала фон Бойнебурга, пронеслись по резиденциям и учреждениям гестапо и службы безопасности, словно тайфун. Они не зверствовали, как это обычно делали гестаповцы, но в то же время действовали с такой решительностью, словно всю свою службу только тем и занимались, что сводили счеты с СС.
– Господин губернатор, – докладывал Бойнебург уже через полчаса после начала операции, – только что мои гвардейцы окружили службы сыскной полиции СД на авеню Фош и на улице Соссе. С нашей стороны потерь нет, все закончилось легкой потасовкой.
– Что-то эсэсовцы слишком вяло сопротивляются. На них это не похоже. Не кажется, генерал?
– Деморализованы. Иного объяснения не существует.
– Или на кого-то надеются. Кстати, не забудьте о полиции порядка.
– Два взвода находятся сейчас у штаб-квартиры орднунгсполицай на улице Фезандери. Сообщений пока не имею. Но мною отдан четкий приказ об аресте ее шефа Шеера. В первую очередь – его.
«Догадываются ли парижане о том, какая охота развернулась в эту ночь на ненавистных им гестаповцев и черномундирников из сыскной полиции СД? – подумал Штюльпнагель, выслушав сообщение коменданта. – Парижане теперь представлялись ему в роли союзников. Правда, весьма сомнительных. В какой восторг они придут завтра, узнав, что все руководители гестапо, СД и полиции порядка расстреляны».
«Расстреляны», – вдруг поймал он себя на слове. – Уже завтра? Конечно, было бы проще, если бы их устраняли еще во время ареста. Но, похоже, что оказывать сопротивление эсэсовцы действительно не настроены. В таком случае судить их следует завтра же утром. И завтра же расстрелять. Слишком высокопоставлены и опасны, чтобы возиться с ними еще хотя бы сутки».
«Решительным нужно быть только тогда, когда способен оставаться решительным до конца», – сама собой сформировалась мысль, которую Штюльпнагель готов был воспринять, как всемирный девиз путчистов. Когда-нибудь он сядет и предаст все эти свои мысли нетленности бумаги и чернил. Фон Штюльпнагель всегда ощущал на себе бремя литературно-философского призвания. «Смиренная ночь Большого Парижа» – как раз то название, которое вполне может соответствовать замыслу его мемуаров, способных перерасти в нечто большее, чем подкаблучные воспоминания обычного строевого генералишки.
– Только что нами арестован предводитель местных эсэсовцев генерал Оберг, – завершились для будущего мемуариста минуты томительного ожидания. – Его арестом занимался генерал Брехмер. Таким образом, служба безопасности, по существу, подавлена.
– Поблагодарите Брехмера за личное мужество, комендант.
– Да, как это ни странно, группенфюрер Оберг тоже не сопротивлялся. Правда, попытался поднять на ноги абверовцев и еще какой-то свой эсэсовский резерв…
– Когда я говорю о личном мужестве, то имею в виду не участие в перестрелке, господин фон Бойнебург, – назидательно уточнил Штюльпнагель. – Человек, решившийся арестовать генерала от СС, ведающего германской службой безопасности, достоин Рыцарского креста уже за одно только согласие отважиться на такой шаг. И не забудьте, что остается еще начальник сипо-СД Гельмут Кнохен.
– Его разыскивают. Как и некоторых начальников служб его ведомства.
«Догадываются ли парижане?.. – с победной ухмылкой вернулся к своим размышлениям Штюльпнагель. – Знают ли о том, как решительно мы действуем сейчас, когда в Берлине, в штабе Верховного главнокомандования вермахта – генералитет которого, судя по всему, так и не сумел привлечь на свою сторону ни одну воинскую часть, ни одного взвода солдат или курсантов – царят хаос и уныние? Вот что значит бездари!»
38
– Клаус!
Штауффенберг оглянулся и вздрогнул, увидев прямо перед собой, лицо в лицо, младшего брата Бертольда. В сумасшедшей горячке этого дня он как-то совершенно забыл о его существовании. И только сейчас понял, что ведь все эти долгие часы брат находился где-то здесь, рядышком, в цокольном этаже, среди младших офицеров, машинисток, телетайпистов, адъютантов и офицеров связи; переживал, волновался за него и, наверное, уже не раз порывался увидеть.
– Ты все еще здесь? – резко спросил он Бертольда. – Зачем?
– Где же мне быть, полковник? – Клаус уже привык к тому, что брат нередко обращается к нему по званию.
– Да где угодно! – Клаус оглянулся, не слышит ли их кто-нибудь, и, подталкивая брата рукой, отвел подальше от кабинета Ольбрихта, к лестнице, ведущей в сторону квартиры генерала Фромма, располагавшейся в этом же здании.
– Но я обязан находиться здесь.
– Как офицер – да, – кивнул Клаус, думая о чем-то своем. – Только мне бы хотелось, чтобы ты сейчас же исчез отсюда. Это моя просьба, Бертольд, – понизил он тон почти до шепота.
– Я понял, что мы проиграли. Здесь, наверху, вы даже не представляете себе, что затевается там, внизу, в подвалах.
– А что, собственно, там затевается? – Как он еще молод, его брат. Гордая осанка, бледноватое аристократическое лицо. Бертольд граф фон Штауффенберг. Полковник знал, как брат ценит свое графское достоинство и свою аристократическую приставку «фон» намного выше и острее, чем он, Клаус. Он неподражаемо красив и пленительно молод. Офицер штаба армии! Какая перспектива…
– Там уже формируются группы, готовые освободить из-под ареста генерала Фромма и расправиться с «предателями».
– «Предатели» – это мы, – констатировал полковник. – Неужто они не понимают, что происходит? – Клаус все еще пребывая в плену своих недавних размышлений о «жертвенной решительности». Но брату трудно было настроиться на его «жертвенную волну».
– Боюсь, что уже начинают понимать, – с горькой иронией предположил Бертольд.
– Сейчас прибудет фельдмаршал Эрвин фон Витцлебен! – врывается в их разговор чей-то радостный возглас – Фельдмаршал с нами! Это решительно все меняет.
«Это пока еще ничего не меняет, – неуверенно возразил Клаус фон Штауффенберг. – Но уже есть люди, готовые жертвовать собой, невзирая на спасение фюрера».
– Где он? – появляется в коридоре полковник фон Квиринхейм.
– Только что позвонили из Цоссена, из ставки главного командования сухопутных войск. Оказалось, что, по недоразумению, вместо того, чтобы прибыть к нам, фельдмаршал направился в Цоссен.
– Слишком много недоразумений происходит в Германии в этот проклятый день, – заметил фон Квиринхейм.
– Трагических недоразумений, – негромко согласился с ним полковник Штауффенберг, не рассчитывая быть услышанным.
– Ну, слава богу! – возрадовался генерал-полковник Бек. – Фельдмаршал фон Витцлебен сам но себе стоит пяти дивизий. Уж его-то приказы…
Бертольд недовольно оглядывается на появляющихся в коридоре людей и увлекает брата все дальше, к концу коридора, туда, к лестнице, ведущей к запасному выходу. Ему очень хочется побыть с Клаусом наедине. Услышать кое-что лично от него. Он боится, что сейчас Клауса вновь уведут, и кто знает, когда еще они смогут поговорить, и смогут ли вообще.
– Появление фельдмаршала уже не изменит ситуации, Клаус, – убежденно говорит он. – Мы упустили время. Никакой фельдмаршал, а тем более – фельдмаршал, не имеющий войск, уже не способен переломить ход событий.
– Поэтому я и хочу, чтобы ты спасся. Ольбрихт отдал приказ никого не выпускать из здания без подписанного им пропуска. Но об этом я позабочусь.
– Не знаю, был ли такой приказ, но можешь мне поверить: добрый десяток находившихся здесь офицеров и низших чинов из обслуги уже сумели бежать. Мне советовали сделать то же самое. Одни думают, как бы сбежать, другие собираются в небольшие группы и проверяют оружие, готовясь прийти на помощь гестаповцам, когда они нагрянут сюда.
– Вот видишь, какими мыслями ты занят.
– Естественными. В нашем положении. Клаус, скажи, ты знал о том, что готовится покушение на Гитлера?
Клаус провел дрожащими пальцами по лицу, пытаясь снять ими окончательно ослепляющую его усталость.
– Знал, конечно.
– И знал, что заговор готовит не Гиммлер, не СС, и что руководители его здесь?
– Не мог не знать. Ты забываешь, что я – начальник штаба.
– А Фромм?..
– Фромм – тоже. Это потом он вдруг…
– Господин полковник, – появляется в нескольких шагах от них, у изгиба коридора, фон Хефтен. – Есть сообщение из Парижа.
– Какое же?
– Удивительное. Оказывается, несмотря ни на что, штаб генерала Штюльпнагеля действует. Там все в порядке.
– Что и в самом деле удивительно.
– В нем говорится, что…
– Я сейчас вернусь, обер-лейтенант, – устало прервал его полковник, решаясь радоваться вместе в адъютантом.
– Так кто же конкретно руководит этим путчем? – спросил Бертольд.
– Имен тебе лучше не знать. Когда заговор будет подавлен, расправа последует незамедлительно. А для меня важно, чтобы ты уцелел. Для этого нужно как можно меньше знать. – Клаус не заметил, как рука его потянулась к затылку брата. Ему до смерти хотелось погладить его. Хотя помнил, что сантиментов Бертольд не терпел. Никогда. Даже в детстве. Он всегда старался выглядеть жестким и безжалостным. Истинный германский офицер. Истинный ариец.
– Не согласен, полковник. В конце концов, я ведь тоже заговорщик. До ареста генерала Фромма мне казалось, что главная фигура – он. Спланировать покушение на фюрера в его ставке «Волчье логово»… Пронести туда взрывчатку, прямо в зал совещаний… Все это следовало подготовить. Как можно тщательнее.
– И готовили.
– Но кто конкретно пронес, подложил?
– Важно, что пронес.
– Независимо от того, как сложится судьба этого офицера, он уже вошел в историю Германии. Навечно. Преклоняюсь перед его мужеством.
– Думаешь, это так важно?
– Что?
– Что в историю. Навечно.
– А ради чего же мы тогда совершаем подвиги? Стремимся прославиться? Мечтаем стать полководцами? Ради того, чтобы убить как можно больше врагов? Убиение врагов всего лишь способ прославиться. Поэтому не сомневаюсь: важно.
– Чье имя называют чаще всего в этой связи там, внизу, в подвалах?
– Уверенно – ничье. Одни утверждают, что это кто-то из личной охраны фюрера. Слишком уж большой риск. Другие – что кто-то из штаба Кейтеля. Кто-то назвал даже тебя, Клаус. – Бертольд оглянулся, не слышит ли их кто-нибудь, и внимательно присмотрелся к выражению лица брата. – Я, конечно, посмеялся по этому поводу.
– Напрасно.
– Что «напрасно»? – насторожился Бертольд.
– Напрасно посмеялся.
– Выражайся яснее.
– Ты попросту не поверил, что этим офицером мог быть я.
– Клаус, ты ведь знаешь, я никогда не сомневался в твоем мужестве. Ты больше моего побывал на фронте. И все мы, Штауффенберги…
– Остановись, Бертольд… «Все мы, Штауффенберги…» – это молитва нашего отца, умудрявшегося вознести честь рода Штауффенбергов прямо-таки в апостольский ранг. – Но, независимо от традиций нашего рода, покушение осуществил я, Бертольд.
Младший Штауффенберг поневоле отшатнулся от брата и почему-то повел рукой по опустевшему рукаву его кителя. Словно это увечье могло служить подтверждением правдивости его признания.
– И делаю это уже не первый раз. Просто три предыдущие попытки оказались еще менее удачными. С самого начала. Правда, операции удавалось предотвращать еще до того, как меня могли разоблачить.
– Это невероятно, Клаус, – в голосе Бертольда нотки страха переплетаются с интонациями явной гордости.
– Конечно, невероятно. Тем не менее им всем придется смириться с тем, что совершил покушение я. Уж не знаю, как должна воспринимать это наша многострадальная история.
– Если честно, у меня тоже появлялось смутное предчувствие, что этим офицером можешь оказаться ты. Я ведь знал, что ты отправился в ставку. Вот только поверить было трудно.
– Теперь можешь верить, Бертольд, – еще увереннее заявил Клаус. – Если мое имя обязана знать история, то почему его не должен знать брат?
– В таком случае я еще больше сожалею, что покушение оказалось неудачным, – сказал Бертольд, выдержав неловкую паузу. Видимо, опасался выглядеть сентиментальным. Хотя сцена очень даже предрасполагала к этому. – То, что ты решился на такое… И благодаря тебе поднялось целое антигитлеровское восстание. Можешь себе представить, как уже завтра об этом покушении заговорят во всех странах на запад и восток от Германии. Нас еще вспомнят, Клаус. Вот увидишь.
– Увидят другие, – уточнил Клаус. – Мне пора. Там разрывается телефон. Старайся держать меня в курсе того, что замышляют эти подвальные крысы.
– Постой, – придержал его за плечо Бертольд. – Ты говорил о спасении. Почему бы тебе самому не оставить это здание и не попытаться скрыться где-нибудь в наших владениях? Иди уйти в Австрию. Ведь недолго уже, война вот-вот кончится.
Клаус ответил не сразу. Ему самому уже не раз приходила в голову та же мысль: «А почему бы не попытаться?..» Но всякий раз полковник отвергал ее. Не сразу, после сомнений. Для этого требовалось такое же мужество, как и тогда, когда следовало было пронести бомбу.
– Ты ведь сам только что говорил об ответственности перед историей. Человеку, заварившему все это, не пристало спасаться бегством, оставляя людей, которые поверили и доверились ему. Разве я не прав?
39
Появление на Бендлерштрассе фельдмаршала Витцлебена было равнозначно появлению факела в мрачном подземелье, из которого уже никто из скрывавшихся в нем не чаял выбраться. Даже те офицеры, что решительно настроились выступить против заговорщиков и только ждали своего часа, на какое-то время прикусили языки и прекратили вербовку сторонников.
– Господи, появился бы он здесь хотя бы часа на два раньше, – едва слышно пробормотал Бек, вышедший встречать будущего верховного главнокомандующего вместе с генералами Ольбрихтом и Геппнером.
Рослый, облаченный в сверкающий всеми регалиями парадный мундир, фон Витцлебен, казалось, сбросил груз лет, перевоплотился и держится так, словно принимает парад войск у Триумфальной арки. Завидя это явление, все замерли, затаили дыхание, даже телефоны вдруг почему-то затихли, прислушиваясь к уверенным печатным шагам того единственного, кто еще способен был представать в сознании заговорщиков спасителем.
Его встречают в коридоре неподалеку от кабинета командующего армией, и ленивое движение маршальского жезла воспринимают, словно ватиканские пилигримы – папское благословение.
Даже его презрительно-барское «Так что здесь, собственно, происходит?» генералы встретили как покровительственные слова человека, пришедшего, чтобы во всем разобраться и все поставить на свои места. Сейчас он напоминал отца, появление которого сразу же внесло в семью успокоение и уверенность.
– Несмотря на то что покушение на фюрера оказалось неудачным, – еще на ходу начал свой доклад генерал Ольбрихт, – мы все же решили действовать. На все фронты, во все части в Германии, где есть наши люди, направлен приказ о развертывании операции «Валькирия»…
Витцлебен вошел в огромный кабинет Фромма, вновь осенил всех присутствующих блеском и магией своего жезла и, минуя Геппнера, поспешно смахивающего со стола командующего какие-то свои бумажки, чинно уселся в кресло.
– Фельдмаршалы Роммель и Клюге уже поддержали нас, – продолжал изощряться в словесности Ольбрихт. – К центру Берлина движется танковая колонна, сформированная командованием танкового училища.
– Позвольте, насколько мне известно, эти танки застряли где-то в пригороде столицы. И вряд ли стоит столь обнадеживающе рассчитывать на них.
Все на мгновение оглядываются. Замечание позволил себе худощавый господин в черном костюме для приемов, который слишком уж вызывающе не гармонировал с выцветшей зеленью военных мундиров.
Замечание было явно не к месту. Сунься с ним любой другой оказавшийся здесь гражданский, на него так цикнули бы, что больше и рта открыть не посмел бы. Но фельдмаршал воспринял его спокойно.
– Вы, господин Гизевиус? – поднялся и вежливо поздоровался с ним за руку. – Как вы здесь оказались?
– По долгу службы.
– В таком случае сами видите, что здесь происходит.
– Мне вообще непонятны нерешительность и непозволительная мягкотелость присутствующих господ генералов, – в свою очередь пожаловался ему германский вице-консул в Швейцарии, являвшийся уполномоченным абвера при германском генеральном консульстве в Цюрихе. – Аресты не произведены. Кадровые перестановки губительно запаздывают. Полное отсутствие солдат, способных, а главное, стремившихся бы выполнять все те приказы, которые отсюда исходят… Как можно было допустить такое? Кто так ведет себя в роковые для страны и народа часы?
– Все выглядит не совсем так, – все еще пытается спасти репутацию Бендлерштрассе генерал Бек, который наконец-то облачился в генеральский мундир.
– Так, так, – прерывает его Витцлебен. – Найдите в себе мужество. Я только что из Цоссена и проехал пол-Берлина. Что конкретно находится сейчас в ваших руках, в вашем подчинении? Эсэсовский полк «Гроссдойчланд»?
– По меньшей мере один его батальон, – нерешительно подтвердил Ольбрихт.
– Сомневаюсь, – бросает Гизевиус – Очень сомневаюсь. Мало того, вы даже не удосужились сформировать боевую группу из офицеров для охраны собственного штаба. Некоторые офицеры уже успели сбежать отсюда. В здании царит полный разброд, того и гляди начнем стрелять друг в друга.
Витцлебен смотрит на Гизевиуса с откровенной признательностью за столь правдивое описание ситуации, зато все остальные – с откровенной ненавистью.
– Аресты высших должностных лиц произведены? – берет фельдмаршал инициативу в свои руки.
– Нет. Батальон майора Ремера был направлен к дому Геббельса… – объяснил Ольбрихт.
– И что же?
– Пока не ясно.
– Радио и телефонные станции, вокзалы под вашим контролем? – окончательно добивает Ольбрихта фельдмаршал.
– Никак нет. У нас были другие задачи.
– Вы пригласили меня сюда как главнокомандующего? Я верно понял?
– Совершенно верно.
– Тогда какие же конкретно части находятся на данный час в моем распоряжении?
Ольбрихт и Бек виновато переглядываются. Только сейчас, представ перед фельдмаршалом, начинают понимать, как непростительно они разбазаривали время, прошедшее после покушения. Только сейчас становится ясной цена тех минут, которые они, получив известие из «Волчьего логова», провели в офицерской столовой за бокалами вина, вместо того, чтобы решительно действовать, используя все свои связи и неопределенность ситуации.
– Так что вы хотите сказать?! – срывающимся голосом спрашивает Витцлебен. – Что в моем распоряжении вообще нет ни одной роты солдат?!
– Вы правы, пока нет, – нервно пытается успокоить его Бек. – Однако все может решиться в течение ближайшего часа.
– Но ведь у вас было добрых шесть часов, – стучит Витцлебен сухими, покрытыми старческими пятнами, кулаками по столу. – И если вы до сих пор ничего не сделали… не заполучили под мое командование ни одного полка, то какого дьявола ваши люди разыскивали меня по всем пригородам Берлина? Чтобы теперь, здесь, на краю гибели… на краю вашей гибели, господа заговорщики, я мог выслушивать все это ваше оправдательное блеяние?!
Ольбрихт не выдерживает позора, шепотом просит некоторых офицеров оставить кабинет и заняться делами. Геппнер и Штауффенберг тоже пытаются вытеснить за дверь близстоящих к ним.
– Кстати, где генерал Фромм? – вновь возобновил свою словесную пытку фельдмаршал Витцлебен. – Почему я не вижу его здесь?
– Видите ли, генерал Фромм… – начал было Ольбрихт.
– Вы что, разучились ясно отвечать на вопросы, генерал? – пренебрежительно прерывает его фельдмаршал, и впрямь почувствовавший себя главнокомандующим вооруженными силами рейха. Хотя до сих пор его воспринимали как неудачника, отстраненного фюрером от командования войсками на западе еще в 1942 году.
– Генерал Фромм отказался принимать участие в операции «Валькирия». Он сделал это, как только выяснилось, что фюрер остался жив.
– А вы считали, что вокруг вас одни самоубийцы? – уже более спокойным тоном интересуется фельдмаршал и только сейчас вновь опускается в кресло. – Где он теперь?
– Под домашним арестом. В своей квартире. Это здесь же. Вы хотели бы встретиться с ним?
– На кой черт? Трусов здесь и без него хватает. Кто назначен командующим армией резерва вместо него?
– Генерал Геппнер.
– Вы, генерал? – впивается в незавидную фигуру Геппнера фельдмаршал. – Тогда какого дьявола расхаживаете здесь в цивильном? Это что вам, театр оперы?
– Только что мне доставили мундир. Я переоденусь, – с радостью исчезает Геппнер.
– Да, намесили же вы здесь… – презрительно осмотрел Витцлебен всех, кому еще не представилась возможность исчезнуть с его глаз. – Боже мой, до чего же выродился германский генералитет!
Он с тоской и скорбно переводит взгляд на окно. Остальные делают то же самое, с удивлением отмечая, что за ним давно догорел обычный июльский день. Солнце уже село, и стекла покрываются фиолетово-багровым налетом летнего вечера.
– Отсюда исходили какие-то приказы, подписанные от моего имени? Я имею в виду приказы, поступающие на командные пункты фронтов и военных округов?
– Мы не решались, – объясняет Ольбрихт. – Ждали вас. В основном они подписывались Фроммом.
– Который уже был отстранен вами и не мог подтвердить своих полномочий в беседе с командующими, – резюмирует фельдмаршал, так и не выказав своего отношения к тому, что его подпись отсутствовала.
– И частично – полковником Штауффенбергом, его начальником штаба.
Витцлебен почти с ненавистью окидывает взглядом полковника, и на пергаментном лице его воспламеняется ядовитая ухмылка.
– Штауффенберга? Ах, Шта-уф-фен-берга… Того, который, кажется, брался избавить нас от тяжести присяги? – хищно оскаливается фельдмаршал. – Ни на что вы не способны, полковник. Ни на что!
– Но я сделал все, что было необходимо. И если уж так произошло…
– Именно того, что было необходимо сделать, вы как раз и не сделали, – парировал Витцлебен. – Что вы теперь стоите перед нами и оправдываетесь? Вы ничего не сделали. И можете считать, что путч подавлен по вашей вине.
– Но факты свидетельствуют о том, что у нас все еще есть некоторые шансы, – как можно вежливее возражает генерал-полковник Бек. После того как несколько офицеров оставили кабинет Фромма, он почувствовал себя увереннее. – Если бы вы сейчас же приняли на себя командование и обратились к командующим группами войск, округов и начальникам военных училищ… Когда обращается фельдмаршал Витцлебен… Это совершенно иное дело. Стоит нашим генералам убедиться, что во главе движения стоите вы…
– Для того, чтобы его возглавил Витцлебен, – грубо пресек откровенную лесть фельдмаршал, – для начала нужно, чтобы хотя бы вы поняли, что во главе все же находится фельдмаршал Витцлебен. Разве это встреча фельдмаршала? Где адъютанты? Где почетный караул? Где начальник штаба, моего штаба, который, стоя у карты, докладывает обстановку, что позволило бы мне приступить к оперативному руководству?
– Но адъютанты есть…
– Что вы мне пытаетесь сейчас объяснять, генерал Ольбрихт? О покушении, об этом «часе X» я должен был знать заранее. И в момент сигнала «Валькирия» находиться здесь.
«Мерзавец, – подумал про себя Штауффенберг, все еще являвшийся свидетелем этого гнусного, постыдного препирательства. – Но ведь ты же сам поставил условие, что примкнешь к заговору только после того, как…»
Полковник безнадежно махнул рукой и вышел. И дальше смотреть на все то, что здесь происходит, было выше его сил.
* * *
В коридоре он для чего-то сорвал с незрячего глаза повязку, словно хотел в последний раз наглядеться на этот мир и на этот кавардак по-людски, обоими глазами, и принялся почти бесцельно слоняться по коридорам штаба, стараясь ни с кем не вступать в разговор, ни на что не реагировать.
Все то время, которое Штауффенберг провел на Бендлерштрассе, вернувшись из «Волчьего логова», теперь представлялось ему отдельной жизнью, прожитой бесцельно и бездарно. Были минуты, когда он начинал верить, что операцию «Валькирия» все еще удастся спасти. Были минуты, когда он впадал в отчаяние. Но это все же было отчаянием человека, который потому и отчаивается, что верит в замысел, в идею, на которую он, как безрассудный игрок, поставил свою жизнь.
Но теперь, когда после стольких поисков в штабе появился фельдмаршал Витцлебен, однако появился лишь для того, чтобы окончательно похоронить связываемые с ним надежды… Штауффенберг уже не знал ни веры, ни отчаяния. Наступило то самое страшное и безысходное состояние, которое окончательно сломило в нем волю к сопротивлению судьбе. И называлось это состояние абсолютным безразличием, прострацией.
– Господин полковник, только что сообщили, что арестован комендант Берлина генерал-полковник фон Хазе, – возник перед Штауффенбергом кто-то из офицеров, чью фамилию он даже не пытался припомнить.
– Кем арестован?
– Нашими противниками, естественно.
– Значит, генерал фон Хазе все еще поддерживал нас?
Офицер-связист непонимающе уставился на полковника.
– Мы возлагали на него столько надежд. Правда, сообщение пока не подтверждено.
«Началось, – подумал Штауффенберг. – Теперь наступил “час X” гестапо».
– Самое страшное не в том, что это может оказаться правдой, а в том, что в здании зарождаются подобные слухи, – строго заметил Штауффенберг. – Поэтому постарайтесь не особенно распространяться. Если не хотите, чтобы через час пошел слух о вашем аресте.
Офицер исчез. Зато на лестнице, ведущей из телетайпной, появился полковник фон Шверин.
– Неприятная новость, – мрачно доложил он. – Полк «Гроссдойчланд» полностью находится под контролем Геббельса.
– Под контролем Геббельса? С какой стати?
– Рейхсминистр является патроном дивизии «Гроссдойчланд».
– Тогда это страшнее, чем если бы полк оказался под командованием Гиммлера.
– И еще… Есть сведения, что майор Ремер со своим батальоном оказался в подчинении Отто Скорцени. А тот получил приказ о подавлении путча непосредственно от Геринга.
Полковники понимающе помолчали. Они поняли: теперь счет пошел на минуты. Схватка проиграна.
– Где Гиммлер? О нем что-нибудь известно?
– Пока нет.
– А что Франция? Штюльпнагель?
– Что бы там ни происходило, настоящий исход операции будет определяться здесь, – нацелился пистолетом в пол фон Шверин. Может быть, имея в виду не столько здание, сколько офицеров, скапливающихся в подвалах и готовящихся к антибунту на взбунтовавшемся корабле.
И только сейчас Штауффенберг обратил внимание, что фон Шверин уже не доверяет свое оружие кобуре.
– Что же вы предлагаете, фон Шверин?
– А вам не кажется, что уже поздно что-либо предлагать? – спросил полковник тоном обвинителя, который имел право предъявить счет фон Штауффенбергу как одному из руководителей заговора.
– Мне трудно не согласиться с вами, полковник. Так сложились обстоятельства.
Фон Шверин ушел. И словно бы под гул его шагов вновь ожили телефоны. Взрывы их звонков напоминали удары тайфуна. Каждая новая волна казалась еще более разрушительной, чем предыдущая.
По тем умоляющим голосам, которые доносились из кабинетов, по почти истерическим призывам к чести и благоразумию; по заклинаниям не верить официальному сообщению радио, не верить Кейтелю – никому и ничему, что не связано со штабом резервной армии – Штауффенбергу как опытному штабисту нетрудно было определить, что в штабах, возглавляемых заговорщиками, началась паника. И связана она была, по всей видимости, не столько с официальным сообщением, сколько с теми упреждающими приказами, которые поступали теперь из «Вольфшанце», и теми предупредительными мерами, к которым начало прибегать руководство СС, гестапо и СД.
– Господин полковник, вас хочет видеть фельдмаршал Витцлебен, – предстал перед ним фон Хефтен.
– Зачем это я ему понадобился?
Адъютант пожал плечами.
– Вас долго не было. Я уж решил, что вы оставили это здание, – устало проговорил Штауффенберг.
– Я не посмел бы сделать этого, – обиделся фон Хефтен.
– Ну и напрасно.
Обер-лейтенант с удивлением посмотрел на Штауффенберга и, щелкнув каблуками, вытянулся. Этим было сказано все то, чего словами немногословный и некрасноречивый адъютант все равно высказать не сумел бы.
– Простите, фон Хефтен. Вы – истинный офицер. Жаль, что не могу сказать этого же о многих пребывающих здесь.
40
Пока Штауффенберг предавался апатичному отчаянию, в кабинете Фромма происходило нечто такое, что вновь заставило его возродить искру надежды. Полковник вошел в ту минуту, когда Беку, сидевшему напротив Витцлебена, удалось связаться со Штюльпнагелем[21]. Сам фельдмаршал, оставив на столе свой жезл, отошел к окну и, скрестив руки на груди, молча прислушивался к их разговору.
– Господин генерал, – обращался фон Бек к Штюльпнагелю, – некоторое время назад с вашим штабом связывался полковник Штауффенберг. Нет, этому сообщению не стоит верить. Оно лживое. Здесь уже все приведено в движение… Комендант Берлина. Фельдмаршал Роммель. Есть сообщения с Восточного фронта. Общее руководство операцией принял на себя фельдмаршал фон Витцлебен.
Краем глаза вступивший в свои права президент новой Германии проследил за тем, как главнокомандующий вооруженными силами нетерпеливо развел руками, пытаясь то ли возразить, то ли уточнить. Однако ни на то ни на другое так и не решился.
– Он находится рядом. Мы – из кабинета генерала Фромма, который струсил, смещен и посажен под домашний арест.
Голос Бека стал жестким, командным. Поддаваясь его магии, фельдмаршал Витцлебен вернулся за стол Фромма. Отодвинул в сторону жезл и поманил кого-то пальцем. Вначале Штауффенбергу показалось, что этим фельдфебельским жестом он подзывает его. Но, как выяснилось, в это время в двери возник полковник фон Шверин, назначенный адъютантом фельдмаршала. Он-то и поспешил к столу, выражая готовность выполнить любое приказание главнокомандующего.
– Да, он арестован, – продолжал тем временем генерал-полковник. – Так же, как арестован и присланный сюда Кальтенбруннером полковник из гестапо. Пора наводить в этой стране порядок. – Бек поднялся и, засунув свободную руку в карман, с трубкой в руке прошелся вдоль стола. – Господин генерал, от имени командования, взявшего в Германии власть в свои руки, я подтверждаю приказ о выполнении ранее обусловленных нами мероприятий. Действуйте, производя все необходимые в этом случае аресты и принимая любые меры. Никакие приказы из ставки фюрера и штаба командования сухопутных войск не имеют для вас никакой силы… Желательно подтвердить это радиограммой? Такое подтверждение будет направлено во все штабы. Очевидно, за подписью главнокомандующего вооруженными силами фельдмаршала Витцлебена. – Бек с вызовом взглянул при этом на фельдмаршала, а затем – на застывших неподалеку от него полковников.
«Вот как нужно действовать в подобных ситуациях!» – говорил этот озаренный мужеством взгляд генерала, сумевшего сбросить с себя груз нерешительности и теперь твердо знающего, что ему нужно делать.
– Да, я звоню по его поручению. Мы надеемся на вас, генерал Штюльпнагель! Хайль… Да здравствует Германия! – вовремя исправил свою оплошность новый президент.
Положив трубку, фон Бек вопросительно взглянул на Витцлебена.
– Значит, несмотря ни на что, вы все же решили действовать? – довольно вяло произнес фон Витцлебен.
– Есть то, что должно сплотить нас сейчас, господин фельдмаршал, – это судьба Германии и опасность, которая нависла над ней и над нами. Полковник фон Шверин, подготовьте на подпись фельдмаршалу текст радиограммы, которая сейчас же должна быть передана в штабы всех армий. И пошевеливайтесь, пошевеливайтесь, господа, – обрушил он свой гнев и на Штауффенберга. Сейчас у нас будет много работы, очень много…
– Каков должен быть текст этой радиограммы? – первым стряхнул с себя пыль обреченности Штауффенберг.
– Текст – за вами. А смысл заключается вот в чем: по имеющейся у нас информации, фюрер хотя и не погиб во время взрыва, но затем умер от ран. Независимо от точности этой информации, всем штабам предписывается немедленно брать в свои руки всю полноту власти на местах. Где бы они ни были расквартированы. И выполнять только приказы, исходящие от главнокомандующего вооруженными силами фельдмаршала Витцлебена. Я внятно разъяснил вам, господа?
Штауффенберг молча кивнул фон Шверину:
– Пишите. «По имеющейся у нас информации…» Это правильный ход. Никто не сможет обвинить нас в искажении истины, поскольку сведения действительно противоречивы.
– Может быть, это и возымеет действие, – согласно прокряхтел Витцлебен, явно готовя себя к тому, что вынужден будет подписать. – В конце концов…
– Вот увидите, когда Кейтель и его окружение поймут, какие силы поддерживают нас, они присоединятся, – подбодрил его Бек. – Или же попросту будут деморализованы. Как поступить с Кейтелем, мы решим со временем.
Фон Шверин довольно быстро составил текст радиограммы и прочел его вслух. Учтя несущественное текстовое замечание фельдмаршала и получив одобрение генерала Бека, он положил текст перед Витцлебеном.
Рука, в которой фельдмаршал держал ручку, несколько секунд по-ястребиному фланировала над листом, вздрагивая и отшатываясь. Фон Штауффенбергу нетрудно было представить себе, какие сомнения одолевают сейчас новоиспеченного главнокомандующего. Все, что происходило до сих пор, ограничивалось обычными разговорами. А теперь на столе перед ним первый письменный приказ, который через несколько минут размножат штабисты всех армий.
– М-да, время действовать, – наконец проговорил он и въелся пером в бумагу.
Фон Штауффенберг взглянул на наручные часы. Взрыв, если ему не изменяет память, прогремел в двенадцать сорок пять. Ну пусть двумя-тремя минутами раньше или позже. Сколько времени потеряно!
«Святая Мария, – подумал он, наблюдая, как адъютант главнокомандующего поспешил с бумагой к выходу. – Если бы это действо произошло в тринадцать тридцать. Или хотя бы около шестнадцати часов, то есть раньше, чем появилось сообщение берлинского радио…»
– Но что бы там ни было написано и подписано, – указал фельдмаршал пальцем вслед скрывшемуся за дверью адъютанту, – для меня ясно одно: фюрер остался жив. Если я что-то и делаю, то лишь для того, чтобы не допустить паники и разброда. В этой ситуации власть военных – самая надежная власть.
– Вы абсолютно правы, господин главнокомандующий, – сдержанно согласился Бек, решивший было, что теперь-то уж фон Витцлебен останется с ними и разделит всю тяжесть их положения.
– Однако это все, что я мог сделать для вас, зная, что происходит на самом деле, – громом среди ясного неба прозвучали для него слова несостоявшегося главнокомандующего. – Дальше, господа военные, расхлебывайте сами… все, что вы здесь заварили, – презрительно взглянул он на Штауффенберга. – Когда ваша «Валькирия» достигнет такой степени, при которой главнокомандующий сможет приступить к исполнению своих обязанностей, вы знаете, как и где следует искать меня.
– Но это немыслимо, – растерянно пробормотал Бек, патетически разводя руками. – Вы не можете оставить штаб. Ведь мы так рассчитывали на вас, господин фельдмаршал, и именно сейчас…
– Именно сейчас всю эту операцию следовало бы свернуть. Пока не поздно. Вы поняли меня: пока не поздно. Это мой вам совет.
– Но в том-то и дело, что уже поздно.
– Тем хуже для вас. При здравом уме ее следовало свернуть сразу же, как только стало известно… Впрочем, об этом мы уже говорили, – Витцлебен мрачно взглянул на Бека, потом на Штауффенберга, взял со стола свой маршальский жезл и недовольно прокряхтел: – Единственное, что вам остается, – это сдать террориста, решившегося на покушение. Только тогда еще есть хоть какая-то надежда спасти не только честь мундира, но и собственные головы.
– И это говорите вы, господин фельдмаршал? – оскорбленно вздернул подбородок Штауффенберг. – Как вы можете предлагать такое?
– Лично вам я предложил бы самому явиться в гестапо. Без жертв все равно не обойтись. Но если уж вы так подвели всех, то почему бы вам не решиться еще на один мужественный поступок. В любом случае я вам не завидую.
– Это ваше право. Но мы останемся здесь. Мы будем здесь до конца! – воскликнул Штауффенберг, не прощая фельдмаршалу его предательства. – Уйти отсюда, отстраниться – это было бы слишком просто и, простите, господин фельдмаршал, нечестно.
Витцлебен прошелся по нему взглядом, преисполненным жалости и презрения, и направился к выходу.
– Весьма сожалею, что оказался здесь в этот страшный день, – обронил он уже от двери.
Вроде бы, никто не объявлял об уходе Витцлебена, тем не менее из нескольких кабинетов сразу же вышли их обитатели, в том числе Ольбрихт и Геппнер, и молча проследили, как, медленно, потеряв весь свой бравый вид, уходит по коридору тот, на кого все они возлагали последние надежды.
41
Трубку поднял один из офицеров Штюльпнагеля, подполковник Гофакер. Представившись, фон Штауффенберг сразу же поинтересовался, что происходит в Париже.
– У нас все хорошо, – уверенно и даже слегка самодовольно ответил адъютант. – Почти все сотрудники гестапо и СД, находившиеся в Париже, арестованы[22]. В том числе шеф гестапо генерал Оберг и шеф СД Кнохен. Всего же арестовано более тысячи эсэсовцев.
Штауффенберг слушал это, как вечернюю сказку, – в блаженном полусне. На фоне всего того кавардака, что творился сейчас в Берлине, вдруг такие события.
– Это правда, господин подполковник? – не удержался он. – Ваши сведения верны?! Вы действительно зашли столь далеко?
Гофакер расстроенно посопел в трубку и недовольно спросил:
– Что значит «столь далеко»? Мы должны были дожидаться еще каких-то указаний?
– Нет-нет, я имел в виду, что у вас все продвигается настолько успешно! А как повел себя комендант «Большого Парижа»?
– Генерал фон Бойнебург? Он выполняет приказы военного губернатора Франции генерала Штюльпнагеля. Что и обязан делать.
– Господи… Нет, я, конечно, верю вам, господин подполковник. Хотя все, что вы говорите, действительно кажется немыслимым. Кстати, какова ваша роль? Вы – адъютант Штюльпнагеля?
– Точнее – офицер по связи с вами, с берлинской группой. Таково сейчас мое задание.
– Значит, именно вы и нужны были мне. Но все же хотелось бы переговорить с самим генералом. Пытался ли кто-либо из штаба Кейтеля или сам Кейтель связаться с губернатором?
– Звонил Кейтель. И еще кто-то. Кажется, от Гиммлера.
– Скорцени?
– Нет, очевидно, Кальтенбруннер.
– И что ваш генерал?
– Он заявил Кейтелю, что не намерен выполнять никакие приказы, исходящие из ставки Верховного главнокомандования и вообще из ставки фюрера.
Штауффенберг немного помолчал, прислушиваясь к потрескиванию в трубке и каким-то неясным голосам, время от времени пробивающимся через огромное расстояние, что отделяло Париж от Берлина.
– Мы не сомневались, что генерал Штюльпнагель, этот по-настоящему решительный, верный слову генерал…
– Господин генерал! – неожиданно прервал его подполковник. Штауффенберг услышал, как Гофакер вскочил, отодвигая стул, и понял, что генерал, которому он докладывает, и есть военный губернатор Франции. – Вас просят из Берлина. Из штаба армии резерва. Полковник граф фон Штауффенберг.
«Он запомнил, что говорил с графом», – почти с признательностью отметил Штауффенберг.
– Так что там у вас, в Берлине, происходит? – уверенно, с легкой иронией, спросил Штюльпнагель. Однако после всего, что Штауффенберг успел узнать от подполковника Гофакера, его тон не казался Африканскому Циклопу слишком самоуверенным.
– Плохо. Пока много неясного. Некоторые непростительно колеблются.
Генерал прокашлялся и попросил подполковника оставить кабинет.
– Выражайтесь яснее, полковник, – недовольно продолжил он, оставшись один. – Что значит «плохо», «много неясного»?
– Я имел в виду – по сравнению с тем, что происходит у вас, – спохватился Штауффенберг, поняв, что его «плач по берлинскому путчу» оказался совершенно неуместным. – О чем я, конечно же, немедленно доложу генералам Беку и Ольбрихту…
– Это ясно, – резко молвил Штюльпнагель. – Но все же, конкретно…
И Штауффенберг понял, что ему не уйти от доклада, поскольку роли переменились. Стараясь не очень омрачать общую картину, он все же рассказал обо всем, что происходило в эти часы на Бендлерштрассе и в целом в Берлине. О Фромме, неудачных попытках привлечь на свою сторону курсантов танкового и пехотного училищ. О трусости или, по крайней мере, нерешительности многих из тех, на кого возлагались главные надежды. Имен он старался не называть, однако Штюльпнагель, отлично знавший всю берлинскую военную элиту, сразу же догадывался, о ком идет речь.
Как ни пытался граф уйти от истерических ноток, мало-помалу он все же увлекся, не в состоянии заглушить в себе всю ту горечь, что накопилась в его душе.
– Так что же все-таки произошло в ставке фюрера? – довольно спокойно спросил Штюльпнагель, когда словесный родник полковника-террориста иссяк. – Я получил подтверждение фельдмаршала Витцлебена, что фюрер все же погиб. В то время как совершенно недавно берлинское радио объявило, что с минуты на минуту ожидается обращение фюрера к германскому народу. Я пытался выяснить, каково же положение вещей на самом деле. Но никто ничего толком не знает.
– Ни от кого вы не получите более достоверных сведений о том, что произошло в «Вольфшанце», чем от меня, господин генерал.
– Вы так считаете? Значит, сегодня вы были там?
– Так точно.
– В сам момент?..
– «В момент» уже нет, иначе не смог бы беседовать сейчас с вами.
– Я должен понимать вас так, что эту акцию в «Волчьем логове» совершили вы?
– Об этом поговорим при личной встрече. Дело не в личности патриота, а в результатах акции.
– Так каковы же они? – раздраженно подстегнул полковника Штюльпнагель, хотя понимал, что тот не имеет права ни раскрывать, ни раскрываться.
– Правда заключается в том, господин генерал, что покушение оказалось неудачным. Я позвонил вам сейчас только для того, чтобы вы знали правду и были готовы действовать, исходя из реальной ситуации.
– Но бомба-то хоть взорвалась? Или же все это блеф?
– Бомба действительно была взорвана, однако пострадали второстепенные люди, в чьих смертях никто не был заинтересован. Фюрер же остался цел и невредим.
– Как всегда[23], цел и невредим… – все в том же раздражительном тоне повторил Штюльпнагель. – Какой же дьявол хранит его?
– И все же он уцелел, теперь в этом уже можно не сомневаться.
– В общем-то сомневаться в этом становится все труднее, – согласился Штюльпнагель. – Так вы считаете, что в Берлине наше дело проиграно? Я требую откровенности, полковник.
Штауффенберг выдержал небольшую паузу, прикидывая, как бы поточнее сформулировать свой ответ.
– Пока еще не совсем. Но, если говорить честно, мне бы очень хотелось находиться сейчас вместе с вами, в Париже. По крайней мере чувствовал бы, что есть еще люди, верные своему долгу.
– Ну мне еще не приходилось встретить германского офицера, которому не хотелось бы сменить Берлин или Дрезден на Париж, – нашел в себе мужество отшутиться генерал. Но шутка эта была преподнесена графу так же мрачно, как только что граф преподносил ему реальную действительность.
– Кстати, всех нас интересует, какую позицию занял фельдмаршал фон Клюге. К сожалению, несмотря на все наши усилия, нам так и не удалось связаться с ним.
– У фон Клюге, как обычно, нет своей позиции. В этом и заключается его позиция. В этом – весь фон Клюге, это «недоразумение в маршальском мундире».
– Что прослеживалось с самого начала. Об этом говорил еще доктор Герделер, первым попытавшийся склонить его на нашу сторону.
– И что вы думаете, были минуты, когда фон Клюге в самом деле «склонялся». Но лишь до тех пор, пока его не сумели убедить, что фюрер остался среди живых. Можно подумать, что ему больше всех хотелось видеть Гитлера мертвым.
Штюльпнагель говорил еще что-то, но внезапно ворвавшиеся в их разговор треск и прочие помехи на линии мистическим образом слились с топотом ног и криками, доносящимися из коридоров на Бендлерштрассе.
– Здесь везде измена! – кричал кто-то из тех, что пытались «навести порядок» в здании. – Где генерал Фромм?!
– Нас предали! – поддержал его другой, более знакомый Штауффенбергу голос.
– Что там у вас происходит? – встревоженно поинтересовался Штюльпнагель. – Помехи исчезли, связь оказалась настолько чистой, что генерал без труда расслышал даже шум в коридоре штаба.
– Это мои убийцы, господин генерал. Они уже здесь. Они стучат в мою дверь.
– Держитесь, полковник! Держитесь, – единственное, чем мог помочь своему собрату по заговору военный губернатор Франции.
42
Штюльпнагель уснул прямо в кресле, сидя лицом к стене, погруженный в философский мрак парижской ночи. Он позволил себе предаться сновидениям уже после того, как убедился, что более тысячи гвардейцев генерала фон Бойнебурга до предела проредили эсэсовские ряды «Большого Парижа», арестовав до полутора тысяч агентов тайной полиции, службы безопасности, гестапо и абвера; и что он, военный губернатор, действительно, оказался теперь «командующим Парижем».
Генерал уснул, чтобы проснуться человеком, имеющим полное право хоть на какое-то время ощутить себя Наполеоном. Во всяком случае, с этого часа под его властью оказывалась вся Франция. И кто знает, возможно, он тоже сумеет продержаться во главе этой неукротимой салонной «европейской дамы» не менее ста дней.
Правда, сон был ниспослан генералу довольно странный: будто он вышел в море на полуразрушенном корабле, очень похожем на ладью викингов. Но тихое, освещенное солнцем море неожиданно разверзлось, разделившись на два огромных водопада, и корабль с последним оставшимся на его борту мореплавателем начал стремительно уходить в закипавшую водоворотами океанскую бездну.
Поглощение это длилось долго, слишком долго, превратившись для генерала в настоящую пытку ужасом. Охваченный им Штюльпнагель не выдержал, вскарабкался на корму и, вознеся руки к небесам, взмолился, закричал, осатанело прорычал что-то среднее между молитвой и проклятием.
Именно в эти минуты страха и отчаяния полусонный адъютант военного губернатора осмелился резко подергать его за плечо.
– Что? Они уже прибыли?! – ошарашенно подхватился Штюльпнагель, затравленно осматривая освещенный лампами кабинет. Однако сообразив, что только что он прокричал нечто несуразное, закрыл лицо руками и принялся нервно растирать его, словно пытался сорвать оставшийся после сна пепельно-восковый налет ужаса.
И был немало удивлен, когда адъютант встревоженно подтвердил:
– Да, они уже прибыли, господин генерал.
– Кто «они»?! Кто прибыл?
– Парламентеры. От адмирала.
– Какие еще парламентеры? От какого такого адмирала? – склонился над приземистым полковником генерал Штюльпнагель. – Что вы несете, черт возьми? Вы что, пьяны?!
– А я решил было, что вы расслышали, как они представлялись, – окончательно стушевался адъютант. – Их там двое: морской полковник и майор. Они прибыли по приказу адмирала Кранке и настроены весьма воинственно.
– Так чего они хотят?
– Пришли с ультиматумом.
– С чем?!
– Ультиматумом.
– Кому?
– Вам.
– А при чем здесь адмирал Кранке? Кто он такой?
Адъютант не ответил. У него хватило ума предположить, что военный губернатор прекрасно знает, кто такой фон Кранке.
Так и не дождавшись его объяснений, Штюльпнагель вновь повертел головой, поскольку все еще не был уверен, что окончательно проснулся. Он ни черта не понимал. Что происходит? Какой адмирал? Какой ультиматум?
– Так зовите их сюда, этих ультиматумщиков, полковник. А то боюсь, как бы у нашего штаба не всплыл весь субмаринный флот рейха.
Нет, это был не сон. Не прошло и нескольких секунд, как перед военным губернатором Франции предстали два морских офицера – худощавые, подтянутые, одинакового роста и телосложения, они показались Штюльпнагелю еще и на одно лицо, словно близнецы.
– Господин генерал, позвольте представиться: капитан первого ранга граф фон Винтерфельд, капитан третьего ранга фон Дарнах.
– Садитесь, господа офицеры. Со времени существования этого штаба нога германского морского офицера в моем кабинете, по-моему, еще не ступала. Я не прав, адъютант? – улыбаясь, спросил Штюльпнагель.
– Так точно.
– Если позволите, мы останемся стоять, – сухо ответил фон Винтерфельд. Благодушие губернатора не произвело на него никакого впечатления. – Это больше приличествует случаю и ситуации.
Офицеры переглянулись и запрокинули головы, словно готовились произносить свою парламентерскую речь оперным дуэтом.
– Адъютант сказал мне, что вы прибыли от адмирала фон Кранке? Чем встревожен наш флотоводец?
– Мы действительно представляем здесь командующего западной группой военно-морских сил рейха адмирала фон Кранке.
– Командующего западной группой? – рассеянно переспросил Штюльпнагель, ощущая, как по груди его пробежал холодок могильного предчувствия. Дьявол, он ведь совершенно забыл, что в Париже дислоцируется несколько сотен военных моряков! Он совершенно упустил из виду, что здесь, на берегу Сены, расположен штаб командующего группой военно-морских сил. – Разве он сейчас в Париже?
Фон Винтерфельд презрительно ухмыльнулся: «Да ведь они здесь, в штабе путчистов, совершенно не принимали нас в расчет! Об адмирале они попросту забыли. Словно его и не существовало».
– В данную минуту господин командующий пребывает в своей штаб-квартире в квартале Мюэт, – вслух произнес капитан первого ранга, – готовя путч, вы, очевидно, совершенно упустили его из поля зрения. Сухопутные генералы вообще крайне редко вспоминают о том, что моряки способны сражаться и на суше. Правда, фронтовики знают это по опыту сражений с русской морской пехотой.
Штюльпнагель зло окинул говорившего испепеляющим взглядом, отошел к столу и демонстративно уселся в свое кресло.
– Так что же понадобилось адмиралу? У нас не так много времени, чтобы выяснять отношения между флотом и вермахтом.
– Только что с адмиралом связались из ставки фюрера. Он получил личный приказ Гитлера взять власть в городе в свои руки и навести здесь надлежащий порядок.
– Я-то думаю, почему нам до сих пор не удавалось навести здесь «надлежащий порядок». Оказывается, за него должен был взяться наш парижский флотоводец.
– Вы прекрасно знаете, о чем идет речь, господин генерал. Адмирал фон Кранке требует немедленно освободить всех арестованных эсэсовцев, являющихся сотрудниками гестапо, СД, полиции и так далее. И прежде всего – генерала фон Оберга. У вашего штаба уже находится до сотни моряков.
Штюльпнагель едва заметно взглянул на своего адъютанта, и тот так же едва заметно кивнул, подтверждая, что сказанное моряками – правда.
– Но в два раза больше появится их сейчас у казарм Военной школы.
– Словом, рассчитываете, что у вас хватит сил?
– У нас вполне хватит их, чтобы блокировать все очаги путча и дождаться подкрепления, которое к утру подкинет нам фельдмаршал фон Клюге. Кстати, это фон Клюге сообщил в «Волчье логово», что вы организовали заговор против фюрера.
«Он умышленно выдал мне эту информацию, чтобы подчеркнуть, что рассчитывать не на что, – понял Штюльпнагель. – И можно не сомневаться, что относительно донесения фельдмаршала Клюге капитан первого ранга не врет».
– Мне не хотелось бы, чтобы вы, а следовательно, адмирал фон Кранке считали это обычным военным путчем. Ситуация в рейхе сейчас сложилась такая, что большая группа патриотически настроенных генералов…
– Нас не интересуют эти подробности, – довольно неучтиво прервал его капитан первого ранга. – О деталях заговора мы узнаем из официального сообщения. Когда все предатели рейха предстанут перед судом.
– Но вопрос в том, кого считать предателями! – вскричал Штюльпнагель.
– Адмирал Кранке дает вам ровно час, – одновременно взглянули на наручные часы офицеры-парламентеры. – Если к тому времени вы не отдадите приказ об освобождении группенфюрера СС Оберга и шефа СД Кнохена, адмирал отдаст приказ об освобождении его силой. Что мы должны сообщить адмиралу?
– Что передали его условия.
Офицеры вновь переглянулись.
– И все? – вырвалось у капитана третьего ранга, до сих пор не произнесшего ни единого слова.
– А чего еще вы ожидали, господа офицеры? Что мы выйдем отсюда с поднятыми руками? У нас достаточно сил, чтобы предъявить вашему адмиралу еще более грозный ультиматум.
Офицеры отдали честь, щелкнули каблуками и, повернувшись кругом, вышли из кабинета. Как только дверь за этими заводными матросиками закрылась, Штюльпнагель метнулся к окну.
– Отсюда их не видно, – предупредил все еще остававшийся в кабинете адъютант. – Но часовой сообщил, что парламентеров сопровождают пять грузовиков с солдатами. То есть моряками.
– Прикажите проследить, уберутся ли они.
– Вряд ли… Слушаюсь!
43
«Как же они там, в ставке, вдруг вспомнили об этом чертовом сухопутном адмирале? – изводил себя мученическими вопросами Штюльпнагель, вернувшись за стол и обхватив голову руками. – Как они вспомнили, и почему, мы здесь, в Париже, умудрились забыть о нем? А ведь чего проще было нагрянуть на его штаб-квартиру в квартале Мюэт и завтра же расстрелять флотоводишку вместе с группенфюрером Обергом. Ах да… фельдмаршал фон Клюге. Этот мерзавец. Это он, проанализировав ситуацию, указал на того единственного человека, который в эту ночь все еще обладал не просто военной властью, но и верной рейху военной силой. Об этих моряках мы и вспоминали-то всего раза два. Да и то лишь в связи с дебошами, которые они время от времени устраивали в каких-то дешевых кабачках, ссорясь из-за француженок».
– Мы проследили, – вновь появился адъютант. – Грузовики с матросами остались. Они оцепляют квартал. Не исключено, что вызвано подкрепление. Нам следует сделать то же самое. Прикажете связаться с казармами Военной школы?
– Они уже, наверное, блокированы, – едва внятно проговорил Штюльпнагель. Адъютанту показалось, что генерал пребывает в шоковом состоянии. Это испугало его.
– Тогда, может, с комендантом «Большого Парижа»?
– Штаб которого тоже окружен. Вот что значит упустить из виду хотя бы одну воинскую часть. Вот что значит упустить из виду… – нервно постукивал губернатор кулаками по столу.
– Но что-то же нужно предпринимать, – решительно настаивал полковник, жалея, что отдавать приказы в эти минуты суждено не ему.
– Сколько у нас охраны, полковник? Взвод?
– Не более. Ну еще шесть офицеров штаба.
– Мы даже не позаботились о том, чтобы усилить охрану штаба. Впрочем, нам некем было усиливать ее. Все гвардейцы брошены на аресты эсэсовцев. Все боеспособные части – на фронте.
Постояв еще несколько минут посреди кабинета, адъютант почувствовал, что он лишний, и молча удалился. Если уж генерал умолкал, то умолкал надолго – это полковник знал. Он был разочарован прострацией, в которую впал Штюльпнагель при первом же серьезном сопротивлении, оказанном путчистам. Полковник прекрасно понимал, что за этим последует. Что это гибель.
А Штюльпнагелю вдруг вспомнился его сегодняшний сон: корабль, уходящий в разверзшуюся бездну моря. Расступившаяся водная гладь внезапно превратилась в два огромных водопада, в пенящийся просвет между которыми бесконечно долго уходила поглощаемая погибельным водоворотом его ладья. «А ведь сон-то вещий! – вдруг открыл для себя Штюльпнагель. – Вещий-то, оказывается, сон выдался: погибель твоя пришла с моря! Бездна уже разверзлась».
– С моря пришла погибель, с моря, – забывшись, генерал произнес эти слова вслух уже в ту минуту, когда поднял трубку зазвонившего телефона.
– Здесь Бойнебург, – прохрипела мембрана дрожащим голосом коменданта «Большого Парижа». – Господин генерал, у вас уже побывали люди адмирала Кранке?
– Побывали, генерал, побывали.
– У меня тоже. Кажется, это намного серьезнее, чем можно было предположить.
– Намного серьезнее, – механически подтвердил Штюльпнагель, пребывая еще где-то там, в своем вещем сне. В ладье, уходящей в зев разверзшегося моря. Как бы ему хотелось сейчас и в самом деле оказаться где-нибудь на корабле посреди моря. Ноев ковчег для отставного германского генерала – последнее пристанище неудавшегося заговорщика.
– Так что будем предпринимать? – Бойнебург мужественно пытался сохранить твердость голоса, но удавалось, ему это с трудом.
– Сколько эсэсовцев мы удерживаем в Военной школе?
– Около тысячи двухсот. Но мы не можем расстреливать их прямо сейчас, в подвалах школы, без суда и следствия, – поспешно упредил он ход мыслей военного губернатора.
– Почему же не можем? – холодно поинтересовался Штюльпнагель.
– Это не было бы оправдано никакими мерами предосторожности. Такое вообще не поддается объяснению. И потом…
– А они – Оберг, Кнохен и прочие, – когда их освободят, попытаются хоть как-то оправдать всю ту кровь, которой тут же зальют Париж и его пригороды?
Бойнебург тяжело дышал в трубку и молчал. Он считал, что сейчас не время прибегать к общим рассуждениям, которые сам же и спровоцировал.
– Вы, конечно, правы, господин Штюльпнагель. Нужно на что-то решаться.
– Где находятся сейчас генерал Оберг, Кнохен, прочие чины СД и гестапо?
– По моему приказу они размещены в отеле «Континенталь».
– Ах, в отеле «Континенталь»!.. А почему, черт возьми, не в подвалах Военной школы? Или подвалах занятого нами отделения гестапо?! – неожиданно рассвирепел Штюльпнагель. – Вы что, рассчитываете, что в случае поражения, они тоже будут содержать вас в номере люкс? Вы на это рассчитываете, генерал фон Бойнебург?
– Самое большее, на что я могу рассчитывать, так это на пулю из собственного пистолета, – обиженно объяснил комендант. – Кстати, давно приготовился к такой милости в обмен на петлю или расстрел по приговору трибунала. То же самое рекомендовал бы и вам.
Генералы помолчали. Все, что они могли сказать сейчас друг другу, все их упреки и воспоминания – всего лишь оттягивание того решения, которое должно быть принято немедленно, в считанные минуты. И мятежники понимали это.
– Отдайте приказ об их освобождении, генерал Бойнебург.
Комендант промолчал.
– Алло, алло, вы слышите меня, генерал?!
– Таково ваше решение?
– У вас возникло иное?
– Значит, обоих, Оберга и Кнохена? – тянул Бойнебург.
– Оберга, Кнохена, Бемельбурга… Всех! В том числе освободите и тысячу двести эсэсовцев, что находятся в Военной школе! Что тут неясного, господин комендант?
– Но, господин Штюльпнагель… Это роковой приказ. Может быть, еще попытаемся? Ровно через полчаса после своего освобождения они заявятся, чтобы арестовать нас.
– Вполне возможно. Придется принять меры. Объясним, что произошло недоразумение. Это мы их приняли за путчистов.
– В любом случае гестапо и полиция безопасности не простят нам этого ареста, генерал!
– Не простят, естественно, – жестко подтвердил Штюльпнагель. – Но что прикажете делать? Через, – он взглянул на часы, – десять минут они возьмут ваш «Континенталь» штурмом. Как думаете, адмирал уже знает, что группенфюрер Оберг находится в отеле?
– Знает.
– И как же вы собирались отражать штурм одного из роскошнейших отелей в центре Парижа? Какими силами? Разве что мобилизовав отдельных проституток.
– Господин военный губернатор! – раздраженно прервал его Бойнебург. – Позволю себе напомнить, что как раз я-то и не был сторонником переворота. Все, что предпринимал, было предпринято мной исключительно во исполнение ваших приказов[24].
Бойнебург не мог видеть, как вдруг побагровело лицо военного губернатора Франции.
«Этот уже отрекается от меня, – почти с ненавистью подумал Штюльпнагель. – Уже спасается, уже ищет оправдание. Трусливое отребье…»
– Вот как: «во исполнение моих приказов»? – молвил он вслух, пытаясь подавить всякие эмоции. Штюльпнагелю вдруг стало жаль добряка Бойнебурга, которого он действительно втянул в эту авантюру.
– Те, что утром заявятся арестовывать нас, тоже, вместе с наручниками, принесут свое чувство долга перед Германией. А что касается отеля «Континенталь», то я не мог содержать генералов и полковников вместе с остальными эсэсовцами. Коль уж мы решили, что вину их установит суд… К тому же важно было оставить их без командиров.
– Не стоит оправдываться, – усталым полусонным голосом остановил его Штюльпнагель. – Вы поступили правильно, поскольку исходили из той реальной ситуации, в которой нам пришлось действовать. Теперь вам остается выполнить еще один мой приказ, последний – освободить всех арестованных эсэсовцев, выдав им оружие и принеся извинения.
– Вы все хорошо обдумали?
– Что вы предлагаете, комендант?
– Представляете себе, что будет, когда?..
– Представляю. Но у нас нет иного выхода. Сошлитесь на то, что нам с вами неясна была обстановка, сложившаяся в Берлине после покушения. И что мы действовали, исходя из приказов, поступавших из штаба Верховного главнокомандования вермахта и штаба армии резерва.
– Тем более, что мы и в самом деле исходили из приказов, которые поступали из Берлина, – несколько оживился фон Бойнебург, поняв, что в этом состоит их общий шанс на спасение. Или хотя бы на нравственное оправдание.
– Разверзшаяся морская пучина… Сны, оказывается, в самом деле бывают вещими…
– Простите, господин генерал… – не понял комендант «Большого Парижа».
– Да это я так, о вещих снах… Вас, генерал, это не касается.
44
Подполковник Гербер не был ни сторонником, ни противником заговорщиков. Он являлся одним из тех незаметных штабистов, к которым фронтовая судьба оставалась абсолютно безразличной и которые, как правило, так и дослуживали положенные им годы вечно незаметными, среди прочих. Зато их всегда первыми находили, когда следовало на кого-то свалить малоприятное хлопотное задание или объявить выговор, и последними, когда дело доходило до благодарностей командования.
До двадцатого июля, до того часа, когда в ставке фюрера прогремел взрыв, Гербер даже не догадывался, что на этот день намечается что-либо серьезное. Сговорившись между собой, разделив высокие посты и портфели, путчистский генералитет как-то совершенно забыл о двух десятках офицеров, которые, собственно, составляли различные вспомогательные службы или, невзирая на свои немалые чины, оставались простыми исполнителями. Ольбрихт, Бек и Геппнер почему-то были уверены, что эти люди присоединятся к ним сами по себе, подчиняясь кто приказу, кто зову долга перед Германией, а кто и просто в силу сложившихся обстоятельств.
Когда Гербер – почти сорокалетний худощавый разбитной офицер, некогда мечтавший о большой военной карьере, а теперь попросту решивший ограничиться удальством, демонстрируемым во время офицерских пирушек (уж там-то он не мог оставаться незамеченным), – понял, что происходит что-то совершенно необычное, он вначале решил, что самого штаба армии резерва это совершенно не касается.
Даже когда в конурку, которую он обживал уже несколько лет в цокольном этаже, проник слух о покушении на фюрера, он воспринял эту весть со сдержанным безразличием. Подполковник прекрасно знал, что это уже не первая попытка. Гитлер, похоже, порядком поднадоел всему своему окружению, и нет ничего удивительного в том, что какая-то группировка стремится поскорее убрать фюрерский клан, чтобы самой прийти к власти.
– Первых лиц в государстве следует, очевидно, назначать из самых древних, чтобы их хватило на три-четыре года, – поделился он как-то своими философскими воззрениями с полковником фон Шверином. – Кардиналы давно усекли эту идею и неплохо эксплуатируют ее, решая вопрос о выборе папы римского. Самого старого и почтенного, чтобы недолго задерживался. Повластвовал – уступи другому.
– Опасаешься, что у тебя слишком мало времени, чтобы дождаться своей очереди? – заметил тогда полковник.
– А я и не скрываю, что имею право претендовать на нечто большее, нежели погоны штабного подполковника.
– Например, погоны фронтового полковника. Может, замолвить о тебе словечко перед командующим?
Этот негодяй полковник фон Шверин знал, что добывать генеральские погоны на Восточном фронте Герберу не хотелось. У него были иные планы. Гербер почему-то верил, что его час еще пробьет. Ведь пробил же он когда-то для самого фюрера.
Все открылось, когда Ольбрихт и Геппнер собрали офицеров в кабинете заместителя командующего и попытались их вдохновить. Это произошло сразу же после того, как по берлинскому радио прозвучало официальное сообщение о покушении. Конечно, Ольбрихт не признался тогда, что центр путча находится здесь, на Бендлерштрассе. Однако не понять этого мог только тот, кто принципиально не хотел понимать, подстраховываясь на случай провала.
Какое-то время Гербер выжидал и присматривался, оценивая обстановку. Он видел, как в здании штаба появился командующий округом Берлин – Бранденбург генерал фон Кортцфлейш; и с ухмылкой наблюдал, как после отказа выполнять распоряжения путчистов этого генерала по приказу Ольбрихта обезоружили и арестовали.
Стал он свидетелем и того, как бесславно завершился «парадный выезд» фельдмаршала Витцлебена. И вообще после появления в штабе штандартенфюрера из гестапо, который прибыл специально для того, чтобы выяснить обстоятельства бегства из «Вольфшанце» полковника Штауффенберга, этого Африканского Циклопа, как нарекла его одна из штабных машинисток, Герберу уже не составляло особого труда догадаться, что именно он и был камикадзе из стана путчистов. То ли сам подложил взрывчатку, то ли активно способствовал этому.
Появляясь у стола то одной, то другой машинистки, Гербер выдавал себя за офицера, осведомляющегося по поводу готовности бумаг, и, как бы между прочим, пробегал глазами тексты приказов. Потом около часа он прослонялся в центре связи, беседуя с телефонистами, телетайпистами и прочим людом.
Как только стало ясно, что гестапо уже интересуется обитателями Бендлерштрассе, он попробовал улизнуть из здания, но старший усиленного поста у входной двери потребовал пропуск, подписанный генералом Ольбрихтом или полковником Штауффенбергом, и никаких объяснений не принимал. Подполковник попытался было сунуться с просьбой о пропуске к Африканскому Циклопу, но полковник так зло сверкнул своим кровянистым глазом, что Гербер побоялся, как бы в горячке он не схватился за пистолет.
Рассвирепев, как зверь, оказавшийся в западне, подполковник решился на то, чтобы явиться к генералу Ольбрихту и прямо заявить, что не намерен оставаться среди его сторонников, поскольку оскорблен уже хотя бы тем фактом, что лично его никто не поставил в известность о происходящих событиях и никто не спросил его согласия на участие в путче.
Аргументы показались Герберу достаточно вескими, и он направился к кабинету заместителя командующего. Остановившись в адъютантской, подполковник решил подождать, пока генерал освободится, и стал свидетелем преинтереснейшего разноса, который, как он опознал по голосу, устраивал генералам тот штатский, что целый день слонялся здесь из кабинета в кабинет, ко всему присматриваясь, прислушиваясь и даже принюхиваясь.
– Мне совершенно непонятно, господин Ольбрихт, господин Бек, и вы, простите…
– Генерал Геппнер…
– Вот-вот, генерал Геппнер… как вы намереваетесь осуществить переворот, если никакие аресты в городе не произведены, а все, кого вы задерживаете здесь, в здании командования, сидят и ждут того часа, когда смогут вновь завладеть оружием, чтобы направить его против вас.
– Кого конкретно вы имеете в виду, господин Гизевиус? – раздраженно поинтересовался Ольбрихт.
– Прежде всего – командующего, генерал-полковника Фромма.
– Но мы не можем так сразу… И потом, это будет решать суд.
– Какой суд, господа генералы? – насмешливо поинтересовался этот гражданский. – Где, на каких примерах истории, вы видели, чтобы в часы, которые обычно отведены заговорщикам для совершения переворота, кто-либо прибегал к каким-то там судам? Генерал Фромм, генерал Кортцфлейш, полковник Глеземер, начальник танкового училища, если не ошибаюсь… Все ваши враги живы. Охраны – никакой. Ни один жизненно важный пункт Берлина вами не захвачен. Ни один важный приказ не выполнен.
– Но господин вице-консул, – вмешался Бек. – На вашем месте я бы не стал судить о подобных вещах столь безапелляционно. Мы берем власть не для того, чтобы расстреливать каждого, кто с нами не согласен.
– Вот как? – продолжал в том же ироничном тоне вице-консул. Только теперь Гербер вспомнил, что этого человека кто-то из штабистов действительно называл вице-консулом в Швейцарии и даже намекнул, что он представляет там абвер. Очевидно, потому, что Гизевиус был из армейской контрразведки, он и держался здесь столь уверенно. – Значит, вы собирались захватить власть, не расстреливая? Может быть, вам напомнить, господа, как приходил к власти сам фюрер?
– Но мы потому и не расстреливаем, что не желаем, чтобы нас сравнивали с гитлеровцами, – заметил Бек.
– Я понимаю, господин будущий президент, что ваша репутация должна быть безупречной. Только что-то очень плохо представляю себе, как может оставаться безупречной репутация генерала, присоединившегося к заговорщикам, изменившего присяге на верность фюреру и согласившегося принять столь высокий пост из рук путчистов. Вы уж извините, генерал-полковник, но у нас откровенный разговор, который вы сами же и спровоцировали.
– Сейчас не время для подобных разговоров, господин Гизевиус.
– Напротив, самое время для откровений. Право исповеди. Почему бы им не воспользоваться? Уверен, что когда Фромм и тот штандартенфюрер из гестапо освободятся от опеки ваших трусящих перед ними офицеров и вырвутся на свободу, такой возможности – поговорить и исповедаться – нам уже не предоставят. Уж они-то, попомните мое слово, будут действовать решительно.
– Не сомневаюсь, – соглашается генерал Геппнер. Ему так и не удалось заменить Фромма на посту командующего, поскольку ни один уважающий себя генерал не признал его в этом качестве. Все требовали к телефону Фромма, только Фромма и никого, кроме Фромма. Прусская школа. Будь ты хоть трижды заговорщиком и путчистом, а подчиняться изволь только тому, кто назначен фюрером, против которого ты в заговоре. Убийственная логика армейщины. – И боюсь, что вы окажетесь правы.
– Вы видите перед собой пророка, господин генерал. По крайней мере, в этом вопросе.
– И тем не менее мы не могли поступать иначе. Хотя нам известно было ваше недовольство «мягкотелостью обращения с арестованными». А что касается пророчества… Поживем – увидим…
– Вам придется довольствоваться этим лицезрением без меня, господа офицеры.
– Вы решили оставить нас?
– Чтобы не досаждать своими нравоучениями. Так что можете облегченно вздохнуть.
В приемной неожиданно появился майор Георги, зять генерала Ольбрихта. Заметив, что подполковник Гербер стоит почти у приоткрытой двери и явно прислушивается, он подозрительно косится на него.
– Жду, когда генерал Ольбрихт освободится. Но там разгорелся спор, – пожимает плечами Гербер.
– Как это понимать? – повысил тем временем голос генерал Бек, обращаясь к Гизевиусу. – Вы в самом деле хотите уйти?!
– Не желаю дожидаться, пока здание оцепит эсэсовцы и начнут выводить во двор или в подвал для расстрелов, господа. У вас тут довольно большая компания. Кричать под дулами автоматов «хайль Гитлер!», в надежде разжалобить людей Скорцени или майора Ремера, у вас будет кому.
– Вам не кажется, что вы ведете себя слишком развязно? – ворчит Ольбрихт, снимая и вновь бросая телефонную трубку. Во время всей их беседы телефон трезвонит почти не переставая, и его то и дело приходится усмирять.
– Мне кажется, господин генерал, что самое время выдать мне пропуск для того, чтобы я мог беспрепятственно покинуть вашу резиденцию. Вот он. Черкните на нем что-нибудь вразумительное, понятное вашим балбесам из охраны. Мне, признаться, становится здесь скучновато. Как и наши несостоявшиеся американские союзники, которые наверняка пошли бы на мирное соглашение, мы глубоко разочарованы вами.
– Кто это «мы»? – интересуется Ольбрихт.
– «Мы» – это те, кто рассчитывал на вас и готов был помочь. Но оказалось, что рассчитывать не на кого.
Наступает пауза. Офицеры, стоявшие в приемной, не могли видеть, что там происходит, но догадывались, что пауза эта заполнялась росчерком пера заместителя командующего.
– Вот так, майор Георги, – не стал дожидаться «исхода» вице-консула[25] подполковник Гербер. – Как думаете, мне такой же пропуск подпишут?
– Вряд ли.
– Почему?
– Вы должны находиться здесь.
– Не согласен.
– Во всяком случае придется подождать. Сейчас все они слишком разгорячены. И не будь этот господин в штатском абверовцем, да еще вице-консулом… Но вы дерзайте.
– Советую дергать вместе со мной, ибо… – Подполковник не договорил, оставив майора наедине с его собственными проблемами, которые теперь уже сходились не только на росчерке пера тестя на его пропуске.
45
Спор, подслушанный Гербером в приемной генерала Ольбрихта, заставил подполковника совершенно по-иному взглянуть на ситуацию. Ему стало ясно, что путч полностью провалился. Что во главе его стоят абсолютно бездарные в этом смысле генералы, между которыми нет единства. В то же время генерал Фромм арестован, и в ставке командования не нашлось человека, который бы решительно восстал против заговорщиков, увлекая за собой офицеров, оставшихся верными фюреру или уже успевших отречься от путчистов.
«А ведь это твой шанс, – сказал он себе, спускаясь в телетайпный зал, где больше всего собиралось низших офицеров и обслуживающего персонала. – Может быть, это и есть шанс, благодаря которому можешь наверстать все то, чего другие добивались на передовой».
У него тут же созревает план: создать две-три боевые группы, одна из которых должна ринуться на поиски генерала Фромма, другая – арестовать генералов Ольбрихта, Бека и Геппнера, третья – нейтрализовать посты наружного охранения.
«И это жалкое скопище бездарей и трусов решило организовать путч?! – злорадствовал он. – Я научу, как его правильно следует осуществлять. Штабные учения по подавлению заговора в ситуации максимально приближенной к боевой».
– Ну что там слышно, – встретил его у входа в телетайпный зал майор фон дер Хейде, один из тех офицеров, которые уже дали понять, что не имеют ничего общего с заговорщиками.
– Паника. Путч, по существу, подавлен. У Бека и Ольбрихта ни одного верного им батальона. Осталось соорудить виселицы.
– За этим дело не станет.
– Сколько у нас людей?
– «У нас»? – переспросил фон дер Хейде.
– Да, «у нас», майор.
– Там, в зале, пятеро офицеров во главе с майором Брайтенгером. Еще четверо моих парней ждут сигнала в отделе поставок. Считаете, что пора выступать?
– В общем-то пора. Хотя нас не так уж много. Но ведь и их не больше.
– А мы еще поработаем. Главное – начать. Остальные присоединятся. Много ли найдется желающих оставаться в числе обреченных предателей? Их спасение в союзе с нами.
Еще несколько минут Гербер, Хейде и Брайтенгер, почти не таясь, сколачивают свои боевые группы. Открытость, с которой они это делают, является для всех сомневающихся лучшим доказательством того, что заговор окончательно провалился и пора искать пути к спасению.
О том, чтобы уходить из ставки, никто уже даже не помышляет. Слишком поздно. Своим бегством и отсиживанием дома ничего теперь не докажешь. Представить гестапо свидетельство своей лояльности фюреру и режиму можно только здесь. Решительными действиями. К которым и призывает подполковник Гербер.
Пока там, наверху, генералы предавались философским размышлениям о степени жестокости по отношению к тем, кто не желает сотрудничать с ними, здесь, в подвалах и подсобках, никто ни в чем уже не сомневался. Здесь проверяли оружие, определяли наиболее очевидных зачинщиков бунта и были полны решимости пустить пулю в лоб каждому, кто осмелится не вовремя сдать оружие и поднять руки вверх.
– Кто вы такой, лейтенант? – перехватывают они в коридоре незнакомого офицера.
– Офицер связи. Прибыл от коменданта Берлина.
– Куда направляетесь?
– В комендатуру. Мне нужен был командующий округом Берлин – Бранденбург.
– Он только что арестован как участник заговора против фюрера.
– Не может быть!
– Не может быть, что участник или что арестован? – суровеет лицо Гербера и рука тянется к пистолету.
Лейтенант мычит нечто нечленораздельное.
– Ставим вопрос проще, – подключается к допросу Брайтенгер, тридцативосьмилетний майор с синюшным лицом завсегдатая пивной. – Вы за фюрера или против него?
– Конечно, «за», господин майор.
– Включаю в свою группу.
«Неплохое начало», – говорит себе Гербер, похлопывая лейтенанта по плечу.
Втроем они спустились в комнату, где ждали приказаний двое водителей разъездных машин.
– Вы, предатели! – орет на них Гербер, стремясь сразу же подавить волю обоих ефрейторов. – Вы тоже в этой стае заговорщиков, пытавшихся убить фюрера?
– Мы ничего не знаем, господин подполковник. Мы никого не убивали.
– Так, значит, это не вы подложили мину в ставке фюрера? – разыгрывает идиотский спектакль нервов Брайтенгер.
– Никак нет, – бледнеют парни, по-деревенски тупо уставившись на майора. – Мы все время здесь…
– Это кто-то другой.
– Без моего приказа за руль не садиться, – окончательно добивает их Гербер. – Где ваше оружие?
– В машинах.
– Взять его и немедленно сюда. Даю вам ровно минуту. Эти идиоты генералы даже не позаботились о том, чтобы получить под свое командование хотя бы отделение солдат, – оскалился он, глядя вслед громыхающим сапогами водителям. – Нет ничего комичнее и презреннее, чем генералы, оставшиеся без солдат. Как только оказывается, что некому выполнять их дурацкие приказы, они окончательно тупеют.
– Скоро сюда нагрянет гестапо. Оно разберется с этими мерзавцами, – поддерживает его Брайтенгер.
Получив в подкрепление двух вооруженных автоматами водителей, они направляются на поиски обер-лейтенанта Шлее, рота которого несла охрану здания. Но тот исчез вместе с большей частью своих солдат, которых снял с постов.
Поняв, что у здания остался всего один пост в составе унтер-офицера и рядового, да и те отказываются подчиняться штабистам и ждут возвращения своего командира, вызванного к майору Ремеру, Гербер дико расхохотался.
«Интересно, знает ли о мощи своей охраны генерал Ольбрихт? – недоумевает он, вновь и вновь поражаясь беспечности заместителя командующего и его сподвижников. – Может, пойти доложить?»
Брайтенгер тоже начинает грубо хохотать, но внезапно умолкает.
– Мы не собираемся командовать вами, унтер-офицер, – внушает он старшему поста. – Но когда обер-лейтенант или кто-либо из ваших офицеров появится здесь, предупредите, что в ставке командования уже есть группа людей, решивших своими силами подавить путч против фюрера.
Унтер-офицер испуганно таращится на офицеров, однако ровным счетом ни черта не понимает, поскольку ни о каком путче пока не слышал. Тем не менее обещает доложить.
По пути в центр связи они присоединили к своей группе капитана и лейтенанта, которые к штабистам не принадлежали, а прибыли сюда по делам и теперь, по существу, оказались в ловушке, поскольку из здания их попросту не выпускали.
– Если так пойдет и дальше, мы сформируем целую роту, – окончательно воспрял духом главный антипутчист.
В центре связи Гербер, фон дер Хейде и Брайтенгер еще какое-то время настойчиво обрабатывают офицеров-связистов. Каждому из них навязывается одна и та же мысль: «Все мы оказались в одной стае с заговорщиками. Путч провалился. К Бендлерштрассе движутся части СС. Охрана уже, по существу, разбежалась. Пора определяться и брать инициативу в свои руки».
– Что мы должны делать? – интересуются связисты.
– Пока – не передавать никаких распоряжений и приказов, исходящих от Геппнера, Ольбрихта, Бека, а также полковников Штауффенберга и Квиринхейма. Таким образом вы парализуете штаб. Как только подойдут части СС, быть готовыми выступить вместе с ними против заговорщиков. Мы ударим им в спину.
Все очень доходчиво и спасительно ясно. А потому – все «за», несогласных нет.
Появившийся с очередным приказом полковник фон Шверин попытался было возмутиться предательством связистов, но ему пригрозили, пока – только – пистолетом. Ошарашенный увиденным полковник помчался к Ольбрихту докладывать о существовании «заговора внутри заговора». Однако Гербера это уже не пугало. Прикинув расстановку сил и хорошо зная нерешительность путчистов, он был уверен, что никаких действий со стороны Ольбрихта и Штауффенберга не последует. Наоборот, доклад полковника фон Шверина окончательно добьет их.
– Передайте генералу Ольбрихту, полковник, что мы с нетерпением ждем его дальнейших приказаний, – насмешливо посоветовал он Шверину. – Агония продолжается!
46
Сигнал к бунту на «летучем голландце» был дан не подозревавшим этого обер-лейтенантом Хефтеном. Услышав подозрительный шум на улице, прилегающей к ставке Верховного командования вермахта, он спустился в фойе и поинтересовался, что происходит.
– Прибыла рота обер-лейтенанта Шлее, – обрадованно сообщил унтер-офицер, старший основного и единственного поста.
– Это из батальона майора Ремера? – встревожился фон Хефтен.
– Так точно, господин обер-лейтенант.
– И что собирается делать ее командир?
– Уже делает, – безмятежно доложил унтер-офицер. – Оцепляет здание.
– Что оцепляет – это хорошо. Но с какой целью?
– Таков приказ.
– И кто же приказал?
– Майор Ремер. А вот и командир роты, – указал на приземистого худощавого обер-лейтенанта, вошедшего в фойе в сопровождении своих взводных.
– Это правда, господин обер-лейтенант? – обратился к нему адъютант полковника фон Штауффенберга. – Вы оцепляете все здание?
– Приказано оцепить – вот и оцепляю, – довольно вызывающе объяснил обер-лейтенант. – А вы кто такой?
– Служу здесь, – хватило у фон Хефтена осторожности не уточнять, что служит-то он адъютантом Штауффенберга. – Так зачем понадобилось оцепление? – Незаметно осматривался фон Хефтен, с удивлением отмечая про себя, что никаких боевых групп, создать которые было приказано подполковнику фон дер Ланкену, создано так и не было. Рядом вообще ни одного «своего» офицера.
– Чтобы всех впускать и никого не выпускать. Я достаточно ясно объяснил, обер-лейтенант? – Они были одного звания, однако по степени невоспитанности и наглости плебей Шлее явно превосходил аристократа фон Хефтена.
– Это какая-то ошибка. Вы должны были прибыть, чтобы охранять здание.
Шлее вызывающе рассмеялся.
– Хватит, доохранялись. Скоро вас будут охранять другие. И не здесь.
– Это угроза?
Шлее хватает фон Хефтена за лацкан френча, не очень вежливо отводит в сторону от своих взводных и солдат охраны.
– Слушай, парень, только из уважения к тебе я еще могу выпустить тебя отсюда. Если, конечно, дашь слово, что немедленно уберешься и никому не признаешься, что выпустил я. Мол, ушел раньше – и все тут. Коньяк с тебя чуть попозже, когда всех твоих шефов здесь же перестреляют.
Потрясенный его человеколюбивой наглостью, фон Хефтен не то чтобы отбивает руку Шлее, а попросту небрежно отряхивает от нее свой френч и, ни слова не сказав, идет наверх к генералу Ольбрихту.
– Вы предатель, обер-лейтенант! – с гневом бросает он командиру роты уже с площадки второго этажа.
– Неблагодарная свинья! За эти слова я мог бы пристрелить тебя уже сейчас, – все так же нагло ржет Шлее. – Однако повременю. Будем считать мое предложение шуткой.
Прежде чем зайти к генералу Ольбрихту, фон Хефтен решил выяснить, где же находится фон дер Ланкен и почему не готовы боевые группы прикрытия. В конце концов, размышляет он, оцепление – еще не штурм. Когда в роте Шлее увидят, что им противостоит несколько десятков хорошо вооруженных офицеров, они еще подумают, стоит ли ввязываться в эту историю.
Фон Хефтен заглянул в кабинет, в котором обитал подполковник, но фон дер Ланкена не обнаружил.
– Нас оцепляют солдаты из дивизии «Гроссдойчланд»! – крикнул он безмятежно дремавшим там двум капитанам. – Где подполковник Ланкен?
– Кажется, ушел в подвал, – ответил один из них, на которого сообщение об оцеплении произвело не большее впечатление, чем если бы Хефтен уведомил его, что в Мадриде выпал снег.
– Пытается выяснить, у кого ключи от подвала, в котором хранится оружие, – оказался более осведомленным второй капитан, и даже не поленился подняться и выглянуть в окно – кто это там оцепляет их?
– Где находится этот арсенал?
– Дьявол его знает. В любом случае никто не собирается устраивать здесь «линию Мажино». Разве в таком огромном здании долго продержишься? – ворчит тот, первый, ко всему безучастный капитан.
– Кажется, где-то в подвале, – уточняет второй.
– Да вы тут все деморализованы! – изумляется их безразличию фон Хефтен.
– Сейчас деморализован весь рейх.
– Разве я не предупреждал об этом полковника фон Штауффенберга, – бубнит Хефтен, бросаясь к лестнице, ведущей в подвальный этаж. – Разве не предупреждал?
С теми же словами: «Нас оцепляют солдаты из дивизии “Гроссдойчланд”! Где подполковник Ланкен?!» обер-лейтенант ворвался и в телетайпный зал, в одном из закутков которого собралась на совещание уже довольно большая группа людей, навербованных подполковником Гербером.
– Где подполковник Ланкен? – набросился на них фон Хефтен. – Где боевые группы? Чего вы медлите? Занимайте оборону!
Но ответом ему был злорадный смех.
– Все, отоборонялись, убийцы фюрера.
Спорить фон Хефтен не стал. Теперь это было крайне опасно.
Позаглядывав в еще какие-то комнатки и подергав запертые двери, фон Хефтен понял, что никакого подполковника фон дер Ланкена он здесь не найдет, а если и найдет, то ни черта от него не добьется. Единственное, что он еще мог сделать, – это предупредить о надвигавшейся угрозе своего полковника. Уж если на кого-то и обрушится гнев фюрера и гестапо – так это на него, покушавшегося…
Тем временем Штауффенберг уже слышит голоса под окнами и понимает, что то, чего они все так опасались, свершилось: прибыли войска.
– Господин полковник, – пробует успокоить его, нервно прохаживающегося по кабинету, фон Хефтен. – Это всего лишь солдаты из батальона Ремера. Роты которого всегда отряжались для охраны здания. Мы еще можем попытаться уйти отсюда через один из боковых выходов, со стороны верховного командования.
– Вы так считаете?
– Через несколько минут будет поздно. Пока что ими командует всего лишь обер-лейтенант. Царит неразбериха. В крайнем случае можно прорваться с боем.
– А остальные? Генерал Ольбрихт, Бек?
– Остальные предпримут то же самое. Учтите, вы подвергаетесь наибольшей опасности.
– Мне это известно было с самого начала. Все, фон Хефтен, поздно. Мы решили сражаться здесь.
– Но за нас некому сражаться! – изумляется адъютант его наивности. – Неужели вы все еще не поняли этого? Ведь абсолютно ничего не предпринято, никакого оружия нет, никаких групп не создано. Мы остались только с пистолетами. И нас не более десятка – тех, кто действительно решил сопротивляться. Однако нас сомнут свои же, «подвальные крысы».
– Все равно поздно, – расстегивает кобуру полковник. – Что вы собираетесь делать? – испуганно таращится на него адъютант.
– Поздно, – повторяет Штауффенберг, задерживая руку на рукояти.
Какое-то время адъютанту кажется, что полковник вот-вот выхватит пистолет и покончит с собой.
«Я последую его примеру, – решает он для себя. – Какой смысл оставаться? Чтобы потом на меня легла вся тяжесть свидетеля и ответчика?»
Он тоже рвет кобуру пистолета и выжидающе смотрит на полковника. Но тот не видит его. Он весь углублен в какие-то свои размышления и переживания. Опускает голову и так, все еще держа руку на пистолете, отходит к окну.
«Ну что же вы, полковник?! – мысленно пытается подтолкнуть его к тому единственно верному решению, которое неизбежно вытекало из всего хода действий фон Штауффенберга. – Пора делать выводы».
Но и времени на «выводы» теперь оставалось крайне мало. В коридоре послышались голоса. Лошадиный топот ног. Крики: «Здесь полно предателей Германии!», «Все, кто остался верен фюреру, выходите и присоединяйтесь к нам!»
Штауффенберг вздрагивает и поворачивается лицом к двери, а следовательно, к адъютанту.
– Что это там?
– Люди подполковника Гербера. Им нужна кровь.
Штауффенберг вспомнил, что в прошлый раз, когда послышались такой же топот множества ног и голоса, он тоже подумал было, что это «бунт на корабле». Но оказалось, что это группа офицеров направляется на совещание к генералу Ольбрихту. Он тогда к генералу не пошел. Для него и так все было ясно. Да его и не приглашали. Забыли, что ли?
– Они узнали, что здание оцепляют, и решили проявить рвение, – как можно спокойнее объясняет фон Хефтен. – Но, возможно, нас они пока не тронут. Попытаемся прорваться?
– Поздно, – вновь отрешенно твердит Штауффенберг. И адъютант понимает, что ему уже все совершенно безразлично. Он уже попрощался с этим миром. Попрощался окончательно. Пуля в висок – всего лишь формальность. Ибо когда человек попрощается с миром, пуля в висок – всего лишь занудная формальность, которую, однако, не всем хочется выполнять собственноручно.
В кабинет заглядывают двое офицеров. Они еще довольно миролюбивы. Или пока еще крайне нерешительны.
– Где генерал Фромм? – спрашивает один из них.
– Его здесь нет, – отвечает фон Хефтен.
– А где он? – Это уже майор Брайтенгер.
– Поинтересуйтесь у генерала Ольбрихта.
– Генерала Фромма содержали под арестом. По приказу генерала Ольбрихта, – решил Штауффенберг не создавать тайны из того, из чего создать тайну невозможно. – Но потом командующий под честное слово был отпущен домой. Он живет здесь же, рядом, в здании. Можете убедиться.
– Тогда все ясно! – рычит майор. – Идем к генералу? – спрашивает кто-то из офицеров, поводя стволом пистолета в просвете между фигурами полковника и его адъютанта.
– А с этими пусть разбирается потом сам генерал Фромм. Если уж они осмелились арестовать его. К чему самочинствовать?
– Благоразумно, – подтвердил его решение Штауффенберг.
Офицеры уходят, а полковник и фон Хефтен переглядываются.
– И Фромм действительно разберется со всеми нами, – говорит обер-лейтенант. – Его нужно было убрать.
– У нас еще будет в чем раскаиваться. Натворили мы здесь… Вы не видели моего брата?
– Нет. Очевидно, он ушел из здания.
– Сомневаюсь, – покачал головой Штауффенберг. – Хотя это было бы очень разумно…
Мимо с криками проносится еще одна группа офицеров. Однако сюда, в апартаменты командующего, они не заглядывают. Наверное, срабатывает инстинктивный страх.
– Может, закроем дверь и забаррикадируемся? – спрашивает фон Хефтен.
– Какой смысл? Пойдем к генералу Ольбрихту. Считаю, что в эти минуты мы должны быть все вместе.
47
О том, что в подвалах уже комплектуются группы захвата, которые должны овладеть зданием и арестовать руководителей заговора против фюрера, генерал Ольбрихт узнал от своего зятя, майора Георги. Этот смуглолицый, немного похожий на испанца парень нравился генералу. Он вполне устраивал его и как человек, и как муж дочери, и как офицер.
Генерал делал все возможное, чтобы не только уберечь Георги от передовой, дав ему возможность пересидеть военное лихолетье в столичном штабе, но и обеспечить майору достойное продвижение по службе. Сегодня Ольбрихт тоже дважды предлагал Георги оставить штаб Верховного главнокомандования вермахта и попытаться спастись. Любым способом. До окончания войны оставалось не так уж много, всего несколько месяцев, и можно было что-то придумать, даже если бы путч окончательно провалился. Жаль только, что Георги решительно отказывался уйти. Точнее, он готов был оставить штаб, но только вместе с ним, генералом Ольбрихтом.
Конечно, в этом есть резон, мысленно соглашался с майором Ольбрихт. Как ему смотреть в глаза теще и жене после того, как оказалось бы, что он спасся, оставив своего генерала и тестя на произвол судьбы?
– Господин генерал, – Георги всегда обращался к нему только так, официально. Даже когда они сидели за столом в семейном кругу. «Чтобы чувствовать дистанцию», – полушутя-полусерьезно объяснял он это своей родне. И нужно отдать ему должное, дистанцию эту майор чувствовал превосходно. Чем значительно облегчал жизнь и самому генералу. – Наше время истекает. Осталось не более десяти минут. Часовые пропустят вас. Не решатся не пропустить. Шофер ждет внизу, я уже позаботился.
– Но я не просил вас об этом, майор, – жестко напомнил ему генерал. – Вы отлично знаете, что я не смогу оставить штаб и верных мне людей, спасаясь бегством.
– Ну почему обязательно бегство? Разумное отступление. Разве генералы остаются на передовой, когда существует угроза прорыва?
– «Разумное отступление»… – не смог скрыть улыбки генерал. – Хотел бы я слышать, как вы попытались бы убедить в этом не то что офицера, а хотя бы соседку-домохозяйку, ничего не смыслящую ни в военном деле, ни в вопросах офицерской чести.
Он пытался добавить еще что-то, но в это время в коридоре послышались шум, крики:
– Куда они подевали генерала Фромма? Мы желаем знать правду!
– Вы за фюрера?! Тогда присоединяйтесь к нам! Все, кто за фюрера!
– Это они, – побледнел майор. – Кажется, мы потеряли последнюю возможность.
– Ты прав, – перешел генерал на «ты». – Послушай, бери мой портфель. В нем собраны все бумаги, которые в той или иной степени могут компрометировать людей, связанных с подготовкой к этому перевороту, и имена которых гестапо, возможно, так и не удастся установить.
– Что я должен сделать с ними? – спросил майор, направляясь к двери.
– Вынести отсюда. А потом уничтожить.
– Зачем? Если уж вынесу, то сохраню для истории.
– Я сказал: «уничтожить». И передай моей жене и дочери, что… Словом, ты знаешь, что в таких случаях передают. Они должны понять, что я погиб во имя спасения Германии. Только во имя спасения Германии. Не преследуя никаких личных целей.
– В этом никто не сможет усомниться, господин генерал.
Прежде чем офицеры из группы Гербера ворвались в кабинет Ольбрихта, майор успел выйти в приемную и остановиться в закутке, между окном и сейфом. Ведомые подполковником Гербером, четверо офицеров устремились к генералу, решив, что не время связываться с томящимся в приемной майором. Еще с двумя Георги столкнулся в коридоре.
– Генерал не принимает, – проговорил первое, что пришло на ум.
– Никуда он не денется, – язвительно заметил один из них. – Теперь вынужден будет принять.
За изгибом коридора, на лестнице, ведущей в квартиру генерала Фромма, прогремели выстрелы, затем крики и вновь выстрелы. Однако это не сдержало майора. У него был ключ от одного из запасных выходов, который он приготовил на случай побега.
По дороге Георги заглянул в кабинет полковника Мерца фон Квиринхейма и увидел наставленные на него два дула пистолетов. Среди присутствующих успел заметить Бертольда Штауффенберга и еще нескольких знакомых офицеров. Они пододвигали поближе к двери столы, готовясь отбивать нападение.
– Не будьте идиотами! – крикнул им потрясенный увиденным майор. – Прорываемся! Нужно оставлять здание.
– Оно уже оцеплено, – ответил ему Бертольд Штауффенберг.
Георги не стал убеждать его, захлопнул дверь и бросился бежать. По пути майор чуть было не столкнулся лицом к лицу с уже освобожденным генералом Фроммом. Тот шел впереди группы майора Брайтесгера – огромный, взлохмаченный, готовый к самым решительным действиям.
Майор Георги едва успел проскочить мимо него, и ему очень повезло, что Фромм, – жаждущий сейчас только одного – поскорее добраться до Ольбрихта и Штауффенберга, чтобы рассчитаться с ними за арест, попросту принял его за одного из подвальных бунтовщиков.
Спустившись к запасному выходу, Георги увидел там двух решительно дергавших дверь лейтенантов.
– Ключ у меня, – негромко сообщил им Георги. – В случае чего – прорываемся с боем.
Офицеры молча извлекли пистолеты из кобур. Открыв дверь, майор выглянул и заметил стоявших чуть в стороне двух солдат оцепления, сошедшихся, чтобы покурить.
– Отставить сигареты! – прикрикнул на них майор. – Займите пост в фойе. Заговорщики уже арестованы. Их арестовал генерал Фромм.
– Есть занять пост в фойе! – подчинились солдаты, так ничего толком и не понявшие, что здесь, собственно, происходит.
Перейдя улицу, майор мгновенно забыл о своих попутчиках. Пробежав два квартала, он метнулся во двор. Немного поразмыслив, он все же решил выполнить приказ генерала – уничтожить бумаги. Надвигалась ночь, в городе сейчас полно патрулей, и он не мог попасться гестапо с этими бумагами. Майор уже не сомневался, что его фамилия занесена в списки подлежащих немедленному аресту.
48
Решив, что в эти минуты им нужно быть всем вместе, Клаус фон Штауффенберг вышел из кабинета Фромма, в котором находился до сих пор, и через проходные комнаты направился к кабинету Ольбрихта.
– Вы предали Германию и фюрера, генерал! – еще издали услышал он грубый, властный голос подполковника Гербера. – Теперь нам это хорошо известно. Немедленно сообщите, где находится генерал Фромм.
Что им ответил генерал – ни полковник, ни следовавший за ним адъютант, обер-лейтенант Хефтен, не слышали.
– Мы вынуждены арестовать вас, господин Ольбрихт.
– Вы не посмеете сделать этого! Не вам решать! – возмутился генерал.
– Нам нельзя туда, господин полковник, – вполголоса проговорил фон Хефтен, сбавляя шаг.
– Вы правы, – они рванулись назад, однако навстречу им уже шла другая группа взбунтовавшихся офицеров, которая до этого прочесывала коридоры.
– А вот и полковник фон Штауффенберг! – обрадованно воскликнул возглавлявший ее подполковник фон дер Хейде. – Стоять, полковник, вы арестованы, «убийца фюрера».
– Это недоразумение, – довольно спокойно заверил его Штауффенберг, и эти слова позволили ему сделать еще два-три шага.
– Я сказал: вы арестованы! – повторил подполковник. Однако Штауффенберг неожиданно отбил в сторону его руку с пистолетом, растолкал плечами двух других офицеров и побежал в соседнюю комнату. Офицеры бросились за ним. Еще через несколько секунд, уже в коридоре, прогремел выстрел, затем другой.
Воспользовавшись тем, что все увлеклись погоней за «убийцей фюрера», как называли полковника в подвалах Бендлерблока, фон Хефтен успел проскользнуть в кабинет генерала Фромма и притаиться, ожидая, как будут разворачиваться события дальше. В эти минуты кабинет командующего резервной армией напоминал собор, в котором мог находить укрытие и спасение каждый, кто нуждался в этом. И ни один злоумышленник не смел врываться туда. Да, пока что, до появления в нем истинного владельца, этот кабинет напоминал обер-лейтенанту фон Хефтену некое святилище. Теперь ему казалось, что они с полковником только потому и продержались почти до полуночи, что скрывались в этом кабинете. Вне его подвальные путчисты уже давно могли бы арестовать их.
Первым же выстрелом Штауффенберг был легко ранен в предплечье, но и после этого продолжал убегать от преследователей. Однорукий, он даже не в состоянии был зажать кровоточащую рану.
Оказавшись в вестибюле главного входа, полковник попробовал прорваться через заслон охраны, однако был остановлен часовыми. Он попытался объяснить, что ему нужно срочно покинуть здание, поскольку на него напали заговорщики. И это было правдой. Если бы только часовые не пожелали выяснить, что это за заговорщики – за или против фюрера. Тем временем рядом появился обер-лейтенант Брунхайд. Тот самый, что еще несколько минут назад предлагал Хефтену спасение.
– Это еще кто такой? – почувствовав себя хозяином положения, обер-лейтенант уже пытался подражать в своем поведении эсэсовцам из охранной дивизии «Мертвая голова», перейти в которую давно мечтал. Подбирать рослых, вышколенных и безукоризненно чистокровных в «Мертвую голову» теперь было трудновато, слишком много голов уже оказались мертвыми, и нескольким офицерам из их «Гроссдойчланд», тоже охранной дивизии, предложили перейти в «мертвоголовые».
– Я – полковник фон Штауффенберг. Был ранен в стычке.
– Полковник Штауффенберг? – ехидно осклабился Брунхайд. – Слышали о таком. Вас-то майор Ремер требовал не выпускать ни в коем случае. Эй! – крикнул он появившимся на лестнице офицерам из группы, прочесывавшей здание в поисках врагов фюрера. – Это полковник Штауффенберг! Разберитесь-ка с ним!
– Кажется, это и есть тот самый «убийца фюрера», – бросает один из офицеров, спускаясь в вестибюль. – Так что можете пристрелить его хоть сейчас.
«Вот, оказывается, как нужно вести себя во время путча, – со смертельной тоской подумал Штауффенберг, сдерживаясь, чтобы не застонать, когда его рванули за раненую руку, а потом подтолкнули дулом пистолета в подреберье. – Если бы мы действовали столь же безжалостно и безоглядно, бунтовать здесь было бы некому. К вечеру Берлин уже находился бы под нашим контролем. Пусть это станет уроком для тех, кто решится восставать против фюрера и всей его концлагерной тирании после нас».
Немного пометавшись по коридорам, схватившие полковника бунтовщики наконец выяснили у кого-то, что «главных предателей» сводят в кабинет командующего резервной армией, и направились туда.
«Этот кабинет стал для меня роковым», – Штауффенберг видел и чувствовал, как прилипший к телу рукав пропитывается кровью, однако боли почти не ощущал. Очевидно, эта физическая боль каким-то образом растворялась в той, по-настоящему страшной, всепоглощающей боли, которая, зарождаясь в глубине отчаявшейся души, постепенно овладевала всем его сознанием.
В кабинете Фромма действительно уже были собраны почти все руководители «Валькирии» – генерал-полковник Бек, генерал-полковник Геппнер, полковник Мерц фон Квиринхейм и где-то там, в дальнем углу, у окна, генерал-лейтенант Ольбрихт. Однако единственным человеком, присутствию которого здесь одновременно обрадовался и огорчился Штауффенберг, был его адъютант фон Хефтен. Обрадовался, поскольку обер-лейтенант сразу же извлек из кармана перевязочный пакет и принялся прямо по рукаву, потуже, бинтовать его. Огорчился же – поскольку ему очень хотелось, чтобы фон Хефтен, которого он втянул в эту историю, избежал участи остальных. Штауффенберг чувствовал свою вину перед этим еще довольно молодым, на удивление преданным ему офицером за то, что так искалечил его судьбу.
* * *
Несколько минут все они томятся в угрюмом ожидании, прислушиваясь то к шуму в коридоре, то к реву двигателей машин за окнами.
– Ага, все они уже здесь – да, нет? – Это генерал Фромм. С пистолетом в руке, с гневным выражением лица, с решительностью человека, готового на все. Единственный закон для него – веление собственной мести. – Всем, кто еще вооружен, сдать оружие! – возвышается он над приунывшими заговорщиками, словно огромный идол – над толпой разуверившихся язычников. – Можете считать, что весь ваш гнусный заговор против фюрера подавлен, и сейчас я буду вести себя с вами точно так же, как еще совсем недавно вы вели себя со мной – да, нет?
– Что выглядело бы весьма благородно с вашей стороны, генерал Фромм, – негромко молвил Бек. Он единственный мог осмелиться на подобное замечание. Что ни говори, а Бек значительно старше командующего армией резерва, к тому же еще недавно Фромм, тогда генерал-лейтенант, служил под его началом. – …Если бы вы в самом деле повели себя с нами так, как мы с вами.
– Я просил бы вас помолчать, генерал-полковник! – рявкает Фромм. – Не моя вина в том, что вы до конца остались преданным этой своре заговорщиков, покушавшихся на жизнь фюрера – да, нет? И стоит ли по этому поводу рассуждать?
– Если вы считаете, что ваша, не дошедшая до конца, преданность группе своих единомышленников делает вам честь, тогда вы правы.
Штауффенберг сразу же подмечает, что словесный укол Бека – явная ошибка. Непростительная. По существу он, конечно, прав. Однако нужно ли было в присутствии стольких офицеров напоминать Фромму, что он тоже связан с «этой сворой заговорщиков»? Предъявлять прямое обвинение? Зачем? Для человека, решившего отречься от своих замыслов и своих недавних единомышленников, подобное напоминание – что удар хлыстом по лицу. Простить erо Фромм уже не в состоянии.
– По-моему, вы пытаетесь на что-то намекать, господин Бек – да, нет? – еще страшнее взъярился командующий, размахивая пистолетом так, словно дубасил кого-то рукоятью по голове. – Но только у меня нет желания выслушивать ваши философские изыскания.
– Не хамите, Фромм, – устало одергивает его Ольбрихт.
– Я приказал обезоружить их – да, нет?! – гневно обратился командующий к сгрудившимся за ним офицерам. – Так чего вы ждете?
Те переглянулись и начали нерешительно подступать к группе генералов. Привычка подчиняться этим людям, въевшийся в сознание и даже в подсознание страх перед генеральскими лампасами все еще сковывали их рассудок, заставляли действовать с оглядкой. Именно поэтому, приводя сюда арестованных, они все же не смели отнимать у них оружие.
– Ну, прежде чем вы меня обезоружите… – полушепотом проговорил фон Хефтен и, выхватив пистолет, нацелился на Фромма.
– Прекратить! – в последнее мгновение подтолкнул плечом руку своего адъютанта фон Штауффенберг. – Кому нужна теперь его кровь?
Но Фромм успел заметить эту попытку и резко повел стволом пистолета в сторону обер-лейтенанта.
– Что, фон Хефтен, запоздалые страсти? В отношении вас у меня было особое мнение. Адъютант есть адъютант. Вы были обязаны… Я уж хотел было отложить вашу казнь – да, нет?
– Речь идет о казни?
– Нет, о наградах. Так вот, я хотел было отложить ее и передать вас следователям. Но вы сами бросили свой жребий. Впрочем, не отдавая вас гестапо, я, возможно, оказываю вам величайшую услугу. Как и всем остальным здесь присутствующим – да, нет?
Еще через минуту арестованные были разоружены. И сразу же каждый из них почувствовал себя сломленным и подавленным. Отдав оружие, они превратились в ничто, в «лагерную пыль», как любили говаривать офицеры СС. Однако, разоружая их, офицеры Гербера обошли вниманием ближе всех стоявшего к Фромму генерал-полковника Бека. Тот сразу же воспользовался этим:
– Я просил бы вас не лишать меня оружия, генерал Фромм. Уже хотя бы в память о нашей совместной службе. И о том, что в свое время вы служили под моим командованием…
– Когда-то я гордился этим, господин генерал-полковник, – резко ответил Фромм. – Но теперь начинаю склоняться к мысли, что командиров, к сожалению, не выбирают. О чем нередко приходится сожалеть.
– Что вы имеете в виду?
– Вам нужны подробности – да, нет? Кажется, вы желали о чем-то попросить меня. Если только в пределах разумного.
– С вашего позволения, я сам подведу итог всему тому, что произошло здесь сегодня. Не утруждая ни вас, ни следователей гестапо.
– Что весьма разумно, – проворчал Фромм. – Весьма. И мой вам совет… – Он запнулся на полуслове, и Ольбрихт так никогда и не узнал, какой такой совет собирался дать ему генерал-палач.
Он извлек пистолет из кобуры, заслал патрон в патронник и внимательно посмотрел на Фромма.
– Кажется, вы решаете, в кого стрелять: в меня или себя – да, нет? – зло пошутил Фромм, чуть подаваясь при этом назад.
– О чем вы? – пролепетал Бек голосом смертника.
– Тогда будем считать, что выбор сделан.
– Вы правы, он сделан, – тянет время генерал, помутненным взором осматривая свидетелей его гибели.
Фромм презрительно смерил взглядом все еще живого покойника и, поманив пальцем подполковника фон дер Хейде, вышел в соседнюю комнату. Какое-то время арестованные смотрели на дверь, за которой они скрылись, как на ворота рая. За ней чудилось что-то таинственное и непознанное.
Они пытались понять, о чем это решил пошептаться Фромм, но из-за прикрытой двери доносилось лишь невнятное бормотание. Для арестованных таинство этой комнаты уже было непостижимым.
– Генерал Ольбрихт, – отвесил поклон и щелкнул каблуками человек, который уже завтра утром мог стать президентом новой Германии. – Генерал Геппнер. Господа офицеры… Прошу простить.
– Вы – мужественный человек, господин генерал-полковник, – сдержанно произнес Ольбрихт, пытаясь хоть как-то поддержать Бека в эту трудную минуту. – Не всем дано понять это.
– Благодарю.
Бек отвернулся к стене, поднес пистолет к виску и выстрелил. Все сжались, ожидая, когда он рухнет на пол. Но с удивлением заметили, что генерал все же удержался на ногах, только сильно пошатнулся и, сделав два шага в сторону, оперся рукой о стол. Фон Хефтен и полковник фон Квиринхейм тут же подхватили его под руки и помогли сесть.
* * *
– Что здесь происходит? – озлобленно прорычал генерал Фромм, вновь появляясь в кабинете.
Арестованные молча, виновато переглянулись, словно несколько минут жизни, подаренные самому себе генералом, оставались на их совести. Словно обязаны были тотчас же добить его.
– Ну что, что, генерал Бек?! – наседал командующий, приближаясь к самоубийце-неудачнику.
Увидев, что пуля лишь слегка задела надвисочную черепную кость Бека, он коротко въедливо хохотнул.
– Да вы и покончить с собой уже не способны, господа генералы! Не говоря уже о том, чтобы спланировать примитивную операцийку, вроде вашей злосчастной «Валькирии» – да, нет?
«А ведь это он мстит нам за наше же поражение, – отметил про себя фон Штауффенберг, не сводя глаз со страдающего от боли и стыда генерала Бека, так и не потерявшего сознания. – Понимает, что если бы путч удался, ему бы теперь не пришлось ни трястись за свою душу, ни чувствовать угрызений совести перед родственниками и друзьями тех, кого пришлось предать суду, а точнее – попросту убрать с пути. Он ничем не рисковал, этот верзила-хитрец в генеральских погонах. Спокойно ждал своего часа. И нового назначения. Уже вместе с повышением в чине. Как плату за соучастие».
Полковник поразился, насколько ясными оставались его мысли. И насколько безразличным он чувствовал себя перед тем, что ожидает его в ближайшие минуты.
– Так что будем делать, господин Бек? – вновь оживает убийственный бас командующего. – Прикажете мне самому добивать вас?
– Простите, простите… – жалобно простонал старый генерал, отчаянно качая головой, отгоняя боль, стыд и отчаяние.
Ольбрихт и Геппнер лишь на минутку отрываются от бумаги, чтобы взглянуть на то, что происходит вокруг, и вновь принимаются писать. Это их последние слова, обращенные к родным и близким. Что-то вроде завещания погубивших самих себя неудачников. Именно так и воспринимает их «чистописание» генерал Фромм, забывая на время о самостреле. Подходя к каждому из них, он заглядывал через плечо и вырывал листики бумаги прямо из-под пера.
– Не время увлекаться сейчас эпистолярией, – назидательно объяснил он, припечатывая их бумаженции к своему рабочему столу. – Хотя можете не сомневаться, что эти письма будут переданы вашим родным. Кто там из вас еще пишет или стреляется?
Ответом ему стало истинно гробовое молчание.
«Да ведь он провоцирует нас на самоубийство, – продолжил свои умозаключения граф Штауффенберг. – Чем большее число из нас пустит себе пулю в лоб, тем комфортнее он будет чувствовать себя потом».
– Так что там у вас, генерал Бек?! – опять рявкает Фромм, ощупывая свою кобуру.
– Ему нужно дать возможность прийти в себя, господин генерал, – брезгливо морщась, говорит фон дер Хейде, осматривая рану Бека. – Сейчас он не в состоянии…
– Значит, кто-то должен ему помочь.
– «Помочь» в данном случае означает добить.
Фромм и Хейде озадаченно смотрят друг на друга.
– Ага, вот и вы, обер-лейтенант, – охотно отвлекается Фромм, увидев появившихся в двери командира роты Брунхайда лейтенанта Вольбаха, да к тому же – в сопровождении трех унтер-офицеров. – Это совсем иное дело. Вы не позаботились об исполнителях, господа генералы, – в том же назидательно-хамском тоне объясняет он Ольбрихту и Геппнеру их главную ошибку. – Целый день вы суетились здесь, отдавали приказы, не понимая, что выполнять-то их некому. Ибо нет бездарнее исполнителей, чем штабные офицеры. Не привыкшие к тому же к пальбе и смерти.
– Спасибо за урок, – поднимается со своего стула Ольбрихт. – Только он нам уже не понадобится.
– О чем и хочу сообщить вам. Только что мной был учрежден военный трибунал в составе известных вам офицеров, – обвел он рукой всех присутствовавших здесь антизаговорщиков, хотя большинство людей Гербера даже не оставляли кабинета.
– Странно, – роняет Геппнер. – Когда это вы успели?
– Так вот, – не обращает внимания на его реплику Фромм, – решением учрежденного мной при особых обстоятельствах офицерского военного трибунала, – напыщенно провозгласил он, – за измену присяге на верность фюреру и Германии, проявившуюся в организации заговора с целью убийства фюрера и совершения государственного переворота, генерал Ольбрихт, полковник фон Квиринхейм, полковник Штауффенберг и этот обер-лейтенант, адъютант Штауффенберга и соучастник всех преступлений, – ткнул корявым полусогнутым пальцем в сторону фон Хефтена, – приговариваются к смертной казни. Никакому пересмотру и обжалованию приговор не подлежит. Я приказываю привести его в исполнение немедленно.
– Вы забыли меня, – растерянно говорит Геппнер, тоже поднимаясь из-за стола.
Его напоминание выглядит настолько трагикомично, что фон дер Хейде рассмеялся:
– Еще одного забыли, господин командующий.
– Фамилии приговоренных я уже назвал, – багровеет Фромм, не желая вдаваться ни в какие объяснения. – О генерале Геппнере речь не шла.
– Ну, если так… – смущенно отступает фон дер Хейде.
– Но вы не волнуйтесь, Геппнер, за вами дело тоже не станет – да, нет?
– На вашем месте я бы все же не торопился с судом и приговором, – едва слышно говорит Геппнер, отлично понимая, что не будет услышан генералом Фроммом даже в том случае, если бы выкрикивал каждое слово. Ибо в эти минуты Фромм прислушивался уже даже не к голосу своей мести, а к голосу страха перед завтрашним днем. Он отлично понимал: чем больше отправит на тот свет своих недавних единомышленников, хорошо знавших о «некоей его приверженности идее заговора», как мягко сформулировал он обвинение в свой адрес, тем легче потом будет отбиваться от следователей гестапо и судей, которых ему в любом случае не миновать. Однако Фромм все же услышал его.
– Оставьте свои советы для гестапо, Геппнер. Там их выслушают с огромным вниманием.
– Обер-лейтенант Брунхайд! Берите этих людей, – указывает Фромм пальцем на каждого из осужденных в отдельности, – выводите и исполняйте приговор.
– Прямо сейчас? – оторопел Брунхайд.
– Вас присоединить к этой группе – да, нет?
– Лейтенант Вольбах, – выходит из ситуации обер-лейтенант, не желая лично присутствовать при казни. – Берите десять солдат и выводите приговоренных.
– Куда? – спокойно, почти безразлично интересуется Вольбах.
– Ну, я не знаю, куда, – ворчит Брунхайд, взглянув на Фромма. – Очевидно, во двор. В конце концов, решите это сами.
– Так во двор или прямо в здании?
– Я сказал: во двор! Совсем обленились!
49
«Теперь по крайней мере наступила ясность, – мелькнула в голове Штауффенберга необъяснимо спокойная мысль, когда их выводили из кабинета. – Все это произойдет здесь же, во дворе… Может быть, так и лучше… Без пыток, допросов, возмущенных газетных статей, с патриотическими воплями оскорбленных в своих верноподданнических чувствах немцев и немок. Вот только Геббельс не простит Фромму самого этого расстрела. Ни Гиммлер, ни Геббельс расстрела этого генералу Фромму не простят…» – нашел он в себе мужество позлорадствовать напоследок.
В коридоре, пока их оцепляли солдаты, полковник беспомощно оглянулся. Везде враги. Куда девались десятки офицеров, которые еще полчаса назад готовы были с оружием в руках защищать это здание? Защищать руководителей путча? Ах да, подавляющее большинство из них теперь уже «прозрели» и поняли, что их «дурачат». Как много времени понадобилось для этого.
Почему он так спокойно осматривает весь этот крестный ход на Голгофу? Ни страха, ни паники, ни отчаяния.
Впрочем, откуда им взяться? Столько раз быть на краю гибели. Столько раз внутренне готовиться к ней… Достаточно, что трижды чуть было не покончил жизнь самоубийством уже после того, как стало ясно, что из бравого офицера он превратился в жалкого однорукого и одноглазого калеку, лишенного всякой надежды на продолжение воинской службы.
– Пошли! – скомандовал лейтенант Вольбах, стараясь смотреть куда-то поверх голов арестованных. – К выходу, вперед!
Группка офицеров сразу же как бы растворилась в густой массе солдатских мундиров. Частокол из автоматных стволов. Чесночный дух дыхания. Мрачное процеживание сквозь стиснутые зубы бранных слов…
«Да здесь, кажется, одни унтер-офицеры, – вдруг открыл для себя Штауффенберг, все еще удивляясь своей способности трезво и спокойно оценивать происходящее. – “Унтер-офицерский крестный ход в здании Верховного главнокомандования вермахта” – так когда-нибудь вынужден будет назвать сию странную процессию художник, решившийся восстановить события этой ночи по рассказам чудом уцелевших очевидцев. Чудом уцелевших. Как с одной, так и с другой стороны».
– Бертольд! – позвал он брата, видя, что ночное унтер-офицерское шествие сворачивает к лестнице, ведущей во внутренний двор. – Бертольд Штауффенберг, прощай!
Слышит ли его сейчас брат? Должен был слышать! Хотя это уже крик из могилы. Но разве можно не расслышать зов из потустороннего мира?
«Только не думай о смерти, – предупредил себя Штауффенберг. – Эти последние минуты нужно прожить достойно».
Где-то посредине лестницы он оступился и чуть было не упал. Предупредительный фон Хефтен, о существовании которого он, кажется, совершенно забыл, опять оказался рядом.
– Держитесь, господин полковник, – подхватил его под руку. – Если позволите, я буду поддерживать вас.
– Вы – единственный преданный мне в этом мире человек, фон Хефтен, – негромко проговорил он, тем не менее вежливо отстраняя заботливые руки обер-лейтенанта. – Говорю это искренне.
– Я всего лишь адъютант.
– «Всего лишь»… Но только мне нельзя так… ослабнуть. Свой роковой выстрел я должен встретить как полагается человеку, посягнувшему на саму историю.
Они вышли из здания и ступили в темень внутреннего двора, большой мрачный колодец которого уже сам по себе служил прообразом огромной братской могилы, которой суждено поглотить их тела, их чувства, их мысли.
– Вы не ощущаете страха, фон Хефтен? – с дрожью в голосе спросил Штауффенберг, совершенно не обращая внимания на ствол автомата, упирающийся ему в ремень. Солдат, который подталкивал его, – почему-то страшно торопился, словно стремился поскорее выбраться из этого погибельного мрака, опасаясь, как бы не остаться здесь навеки, вместе с обреченными.
«“Заговор обреченных” – так, кажется, назвал наш путч “первый диверсант империи”, – вспомнилось Штауффенбергу. – А ведь он, по существу, прав. В самом замысле своем этот путч был “заговором обреченных”. Вот почему и мыслили, и поступали мы – с беспечностью и безоглядностью обреченных. Таков наш рок».
– Господин лейтенант, здесь слишком темно! – крикнул кто-то из «гроссдойчландцев», когда арестованных начали подводить к темной цокольной части здания, куда почти не достигал свет зашторенных окон верхних этажей. – Так мы можем перестрелять друг друга!
– Что я могу сделать? – огрызнулся лейтенант Вольбах. – Стреляйте наощупь и не суйтесь под собственные пули.
– Нужно что-то придумать.
– Последние акты трагедии все больше смахивают на фарс, – услышал Штауффенберг пророческий голос стоявшего неподалеку Ольбрихта. – Они творят свой расстрел, словно выполняют занудную работу.
– Пройдет немного времени, и их будут расстреливать точно так же, – ответил Штауффенберг, поражаясь, однако, сколь буднично и безалаберно все это выглядит у солдат лейтенанта Вольбаха.
– Эй, да здесь стоит машина! Кто водитель? Я спрашиваю, где водитель?! – надрывал свой неокрепший командирский басок лейтенант.
Еще несколько минут заминки, прошедшей в поисках водителя. Все суетились и звали, но никто не знал, где его можно отыскать. За это время солдаты охраны попытались выстроить из арестованных некое подобие шеренги. И опять Штауффенберг скорее почувствовал, чем различил, рядом с собой крепко сбитую фигуру своего адъютанта.
– Прощайте и простите, фон Хефтен, – попытался сжать его руку своими тремя уцелевшими пальцами полковник, едва нащупав ее.
– Прощайте, господин полковник. Мы умираем, как подобает солдатам Германии, ведь правда?
В вопросе обер-лейтенанта прозвучало что-то по-мальчишески романтическое.
– Как подобает солдатам, обер-лейтенант. В этом нет никакого сомнения.
Ему еще хотелось добавить: «И пусть никто не смеет называть нас предателями», но в последнюю минуту передумал. Стоит ли упоминать здесь о предательстве? Уместно ли в такой ситуации?
Внезапно ударивший в глаза сноп света, излучаемый фарами грузовика, заставил полковника умолкнуть и содрогнуться.
Штауффенберг прикрыл тыльной стороной ладони глаза и, отклонившись за голову адъютанта, попытался окинуть взглядом стоявших справа от него генерала Ольбрихта и полковника Мерца фон Квиринхейма. Однако они не заметили его. Да и вряд ли замечали кого-либо в эти мгновения. Сам Штауффенберг интуитивно ожидал, что прежде чем отдать приказ солдатам, лейтенант Вольбах скажет хоть какие-то слова. Или же подождет, пока сюда спустится генерал Фромм.
Но лейтенант, которому, очевидно, впервые в жизни приходилось расстреливать кого-либо и который понятия не имел, как следует обставлять этот скорбный воинский ритуал, даже не удосужился скомандовать солдатам, чтобы они приготовились и прицелились, а фальцетно взвизгнул:
– По осужденным – огонь!
– Что?! – лишь сейчас испуганно встрепенулся обер-лейтенант фон Хефтен, словно только теперь понял, что все, что здесь происходит, не ритуал, а страшная оргия смерти.
– Да здравствует!.. Да здравствует вечная!.. Последнее, что запомнил Штауффенберг, отходя в иной мир, это то, что он пытался крикнуть «Да здравствует вечная Германия!», но прозвучал ли этот возглас на самом деле или так и остался в сознании – этого понять ему уже было не дано. Слова и мысли его слились с сатанинским многоточием автоматной очереди.
50
Генерал Фромм не спешил спускаться вниз. Прошло несколько минут после того, как затихли автоматные очереди, прежде чем он вышел во двор и, выслушав доклад лейтенанта Вольбаха о том, что задание выполнено, при свете еще не погасших фар осмотрел убитых. Словно хотел лично удостовериться, что они действительно мертвы.
«Все свои тайны мертвые уносят в могилу, – цинично ухмыльнулся он, видя скрюченные, застывшие в агонизирующих позах тела своих сослуживцев. – Во время допросов на страшном суде постарайтесь быть не менее правдивыми, чем если бы вас допрашивали в гестапо – да, нет? И не забудьте поблагодарить на том свете за услугу. Уходящий быстро – уходит легко. У этих шкуродеров-гестаповцев выпросить пулю так же трудно, как у господа Бога – благодати».
– Постройте своих солдат, лейтенант.
Вольбах быстро воссоздал жалкое подобие шеренги. Строй живых против строя мертвых.
Солдаты уже были построены, однако Фромм не спешил с речью, он стоял между казненными и палачами и своим молчанием словно бы говорил живым: «А теперь смотрите, что вы наделали».
– Солдаты фюрера, – наконец взорвался он хриплым рычащим басом. – Только что вы расстреляли врагов Германии, которые пытались совершить убийство фюрера и ликвидировать национал-социалистическую рабочую партию Германии. Вступив в преступный сговор с нашими врагами на Западе и Востоке, они пытались взять власть в свои руки…
Солдаты угрюмо молчали, поеживаясь под мощным светом фар, словно под газовой струей крематория.
– …Приведя в исполнение приговор учрежденного по моему приказу военного трибунала, вы тем самым доказали свою преданность фюреру, преданность великой Германии. Я уверен, что если понадобится, точно так же вы будете поступать и впредь. Благодарю вас за службу фюреру!
– Зиг хайль! – нестройным холостым залпом прозвучал над телами казненных скудный солдатский салют. – Зиг хайль!
Уходя, Фромм инстинктивно оглянулся на расстрелянных и заметил, как тело Штауффенберга конвульсивно содрогнулось и из уст его что-то сорвалось – то ли стон, то ли какие-то едва слышимые слова. Будто, уже оттуда, с того света, «убийца фюрера» все еще пытался отозваться своим не до конца оглашенным в этом мире кличем: «Да здравствует великая Германия!»
На лестнице генерала ждала целая группа офицеров. Каждый теперь старался держаться поближе к командующему, благодаря судьбу за то, что во главе их остался не какой-нибудь полковник, не Бек или Геппнер, а лично командующий армией резерва. Уж он-то сумеет постоять за себя и за них, хоть перед высшим командованием, хоть перед гестапо.
Кто-то из них уже докладывает, сколько заговорщиков арестовано и где они содержатся под охраной. Кто-то спрашивает, не пора ли выводить на расстрел следующую группу. Этот попросту мельтешит перед глазами командующего, надеясь, что, заприметив его, генерал-полковник не только выгородит перед службой безопасности, но и предложит одну из освободившихся должностей. Вакансий, судя по всему, предвидится немало – это ясно даже сейчас.
Фромм заглянул в кабинет начальника штаба и, увидев там группу задержанных заговорщиков, среди которых были полковник граф Шверин, подполковник генерального штаба Бернадис, граф Бертольд Штауффенберг и некий, непонятно как оказавшийся здесь, господин в штатском.
– Это еще кто такой?! – рявкнул генерал, указывая дулом пистолета на рослого сухопарого штатского.
– Доктор Ганс Гизевиус, – объяснил протолкавшийся к двери подполковник Гербер. – Я уже выяснил его личность, господин генерал-полковник.
– Доктор – да, нет? – поморщился Фромм.
– Вице-консул при немецком генеральном консульстве в Цюрихе.
– Дипломат – да, нет? – еще брезгливее поморщился генерал. Тотчас же пожалев, что не заметил его раньше и не отправил на тот свет вместе с Ольбрихтом и Штауффенбергом.
– Он уполномоченный абвера при этом консульстве, – вспомнил Гербер. Сам Гизевиус хранил при этом странное молчание.
– Ага, значит, шайка Канариса тоже причастна к заговору – да, нет, господин Гизевиус?
– Я такой шайки не знаю, – ответил Гизевиус.
– Он, видите ли, не знает! Взять его. Во двор. Расстрелять по тому же постановлению военного трибунала.
– Но я всего лишь находился здесь по личным делам, – довольно спокойно объяснил вице-консул. – У вас нет никаких оснований не то что расстреливать, но даже задерживать меня. – У него было лицо аскета. И слишком интеллигентное, чтобы Фромм мог терпеть его.
– Оснований более чем достаточно, – парировал Гербер.
– Как только разберемся с остальными заговорщиками, здесь же, во дворе, и расстреляем – да, нет? Только дипломатов нам здесь и не хватало. Подполковник?! – обрушил Фромм свой гнев на Гербера. – Как допустили?!
– Мы лишь недавно обнаружили его, господин генерал. Здесь тьма кабинетов, всевозможных отделов и ведомств.
Но Фромм уже не желал выслушивать никаких объяснений. Он стремился ощутить свою власть настолько, чтобы она была прочувствована всеми остальными. Каждый из этих офицеров во время допроса сможет подтвердить, что заговор был подавлен лично им, генералом Фроммом, и что делал это генерал железной карающей рукой. Теперь это главное.
Но в то же время Фромм чувствовал: надо спешить. С минуты на минуту сюда нагрянут гестаповцы или, что еще хуже, горлодеры из фридентальской школы Скорцени. Уж эти мерзавцы постараются. Эти умеют. Оснований спрашивать не станут.
Он вошел в свой кабинет и с удивлением увидел, что за столом сидит генерал-полковник Бек, о котором в суете, совершенно забыл. Рана на голове уже перестала кровоточить, и генерал сидит, подперев лоб рукой и думая о чем-то своем.
«Нет, какая наглость! – опешил Фромм. – Тех уже давно расстреляли, а этот вызвался сам себе пустить пулю в лоб… и вот… В раздумьях…»
– Как это понимать, господин генерал-полковник?! – грохнул он кулаком по столу. – Что вы сидите здесь и предаетесь философским размышлениям о превратностях судьбы?
– Чего вы хотите от меня? – едва слышно проговорил Бек.
Услышав это, Фромм буквально захлебнулся негодованием.
– Чего я хочу?! От вас?! Я желаю вздернуть вас. Как главного заговорщика – да, нет? Вы намерены стреляться, господин Бек?
– Это трудно, генерал Фромм, – вновь едва слышно молвил тот.
– Тогда нужно было присоединиться к тем, которым уже легко. Там, во дворе. Насколько мне помнится, вы сами попросили разрешения на выстрел чести – да, нет?!
– Я действительно попросил об этом, – обессиленно соглашается бывший начальник генштаба сухопутных войск вермахта. – Вы правы.
– В таком случае извольте держать свое слово, – резко требует Фромм, прохаживаясь за спиной у Бека. – Или, может быть, вам доставить сюда священника – да, нет? – в издевательском тоне интересуется он. – В мундире офицера гестапо. Для последней исповеди. Что вы смотрите на меня. Я не желаю стрелять в вас!
– Дайте мне пистолет.
Фромм останавливается и недоверчиво смотрит на Бека: насколько серьезна его просьба.
– Дайте пистолет… Кто-нибудь, – протягивает Бек руку, обращаясь ко всем присутствующим.
– По-моему, вам следует помочь – да, нет?
– Спасибо, генерал. Я сам. Выстрел чести – есть выстрел чести. Когда генералу предоставляют такое право – им следует воспользоваться. Знаете, вся традиция германского офицерства свидетельствует о том, что…
– О традициях германского офицерства – я так полагаю – нам с вами все давно известно, – прерывает его Фромм. – Стоит ли предаваться сейчас воспоминаниям о доблестях наших предков и непоколебимости прусских гвардейцев?! Тем более, что сами мы мало соответствуем их идеалу. Все мы, в наше время…
– Будь проклято это «наше время», – со стоном качает головой Бек.
– Подполковник Гербер, пистолет генерал-полковнику Беку, – командует Фромм.
Гербер проверяет пистолет, вкладывает его в руку генерала и предусмотрительно отходит в сторону. Бек пытается обвести присутствующих прощальным взглядом, но в ожидании выстрела все отводят взгляды или отворачиваются.
Наконец выстрел гремит. Генерал вскрикивает и, выпустив пистолет, хватается за голову. Он вновь ранен. К тому же – легко. Обливаясь кровью, Бек опускается в кресло и на какое-то время теряет сознание.
Генерал Фромм придирчиво осматривает его рану, изрыгает ругательства и презрительно заключает:
– Вот чего стоят все наши рассуждения о рыцарских доблестях предков-германцев! Застрелиться не умеем. Пулю в висок послать не способны. Обер-лейтенант Брунхайд, займитесь этим человеком. Выведите его и помогите… Словом, сделайте, что-нибудь…
– Есть… – щелкает каблуками Брунхайд. – Унтер-офицер Герлиц!
– Я здесь.
– В соседнюю комнату этого… Вот мой пистолет. В соседнюю комнату – и пристрелить. Тело вынести во двор, где остальные.
– Есть вывести и…
Здоровенный унтер подошел к Беку, вцепившись в лацканы френча, приподнял со стула и, недолго думая, взвалил себе на плечо. Еще через несколько секунд в приемной генерала прозвучал спасительный не только для Бека, но и для всех присутствующих выстрел.
– Германия даже не догадывается, что в эту минуту она лишилась своего «президента», – иронично проговорил Фромм, услышав выстрел бесчестия. – Приведение к присяге произвел унтер-офицер Герлиц. Кстати, никто из вас не видел здесь господина Герделера – да, нет?
Офицеры переглянулись. Большинство из них даже не знали этого человека.
«Жаль, – молвил про себя Фромм. – А то бы Германия потеряла и своего несостоявшегося канцлера».
– Если он все еще в здании, то никуда не денется, – заверили его.
– Кто там у нас еще, подполковник Гербер?
– Прежде всего – генерал Геппнер.
– Геппнер. Господи, о нем-то мы совершенно забыли. Где он? Сюда eго!
* * *
Пока доставляли Геппнера, который, по замыслу заговорщиков, должен был заменить его на посту командующего армией резерва, Фромм отправил за дверь офицеров и принялся лихорадочно рыться в столе. Только сейчас он вспомнил, что после путчистов осталась тьма бумаг. И еще неизвестно, что там содержится в них такого, что способно скомпрометировать его в глазах следствия. Прежде всего командующего интересовал сейф Штауффенберга, черневший здесь же, в кабинете, рядом с его собственным сейфом. Однако ключа нигде не было.
– Черт, – пробормотал он. – Следовало обыскать полковника Штауффенберга. Наверняка ключ у него в кармане. Но не рыться же сейчас. Впрочем… – Подполковник Гербер.
– Я.
– Немедленно обойдите все кабинеты. Всякие бумаги с текстами приказов, распоряжений и так далее доставить сюда. Хотя… не надо, я сам… – нервно остановил он подполковника уже у двери. Фромм не желал, чтобы кто-либо, кроме него самого, видел эти документы. Он сам обойдет основные кабинеты: Ольбрихта, Квиринхейма, Шверина, Шуленбурга…
Геппнер вошел так, словно ноги его были скованы толстыми цепями. Фромму показалось, что, дойдя до стола заседаний, он попросту рухнет на него.
– Я все понимаю, генерал Геппнер, – неожиданно добродушно, даже сочувственно молвил командующий. – Однако обстоятельства этой нашей с вами последней встречи вам, надеюсь, ясны.
– Что от меня требуется? – едва шевелил непослушными губами Геппнер.
– Сложный вопрос. Но вполне закономерный.
Фромму было жаль этого генерала. Он еще помнил, с какой надеждой следил за продвижением танковой группы Геппнера в направлении Москвы осенью и зимой сорок первого. Ни у кого не возникало тогда сомнений, что именно танки Геппнера первыми войдут в столицу русских.
В восприятии большинства генералов Геппнер был не просто командующим. Любой курсант военного училища знал, что этот генерал является одним из лучших теоретиков танкового боя, сторонником создания крупных танковых соединений – групп и армад. Не зря его имя вполне заслуженно называлось сразу же после имени генерал-полковника Гудериана. Геппнер по праву числится среди создателей бронетанковых войск Третьего рейха.
– Почему вы не расстреляли меня вместе с остальными? – нарушил его молчание Геппнер.
– Сложный вопрос.
Скандальная отставка этого генерала с поста командующего танковой группой под Москвой буквально потрясла германский генералитет. Сидя здесь, в Берлине, штабистам трудно было понять, как Геппнер мог решиться на приказ об отступлении от стен Москвы, не получив на то согласия фюрера. Это потом они узнавали подробности того, как промерзала броня танков и смазка, что выводило машины из строя не хуже русских орудий. Как, беспомощно барахтаясь в глубоких российских снегах, танки превращались в заиндевевшие стальные мишени.
Но даже тогда, еще плохо представляя себе, что такое на самом деле фронт в снегах под Москвой, все были удручены тем, сколь пренебрежительно повел себя фюрер с Геппнером. Отстранить от командования – кого удивишь этим в армии? Понизить в чине. Предать суду… Тоже случалось. Но изгнать такого известного генерала из армии, лишив его права ношения формы. И объявив об этом на всю Германию, весь мир!..
Фромм плохо представлял себе, как Геппнер сумел пережить весь этот позор. Поскольку еще хуже представлял себе, как бы мог смириться с таким наказанием он сам.
– И все же… Почему вы не расстреляли меня вместе с Ольбрихтом? – вновь нарушил его задумчивое молчание «первый генерал, отступивший от стен Москвы», как называли Геппнера в одной из газет.
– Ольбрихт – это одно, вы – совершенно другое, – туманно объяснил Фромм. Он и сам толком не понимал, почему не присоединил тогда Геппнера к приговоренным несуществующим трибуналом. Бек – понятно. Он попросил права самому пустить себе пулю в лоб. Но ведь Геппнер-то с подобной просьбой не обращался. А насколько было бы теперь проще.
– Если быть точным – из уважения к вашим былым заслугам, генерал Геппнер.
– Они были не только у меня, – с возмущенной растерянностью одернул китель отставной генерал.
– И еще потому, что помню: у вас больше, чем у кого бы то ни было из остальных заговорщиков, есть основания не доверять фюреру – да, нет?
– У меня такие основания есть. Но разве только у меня? У вас их все еще нет?
– Пока что мы обсуждаем ваше положение, а не мое, – с присущей ему хамоватостью разъяснил Фромм. – И давайте исходить из этого – да, нет?
– Как вам будет угодно, генерал.
– Я не желаю выносить вам приговор. А тем более – приводить его в исполнение. Не вижу особой надобности в этом.
– Весьма признателен. В таком случае я свободен, – решительно направился к двери Геппнер.
– Минутку. Этого я тоже не могу допустить. По вполне понятным нам обоим причинам.
– Тогда что же?
– Единственное, что могу сделать для вас, генерал, – предоставить право выбора. Мой пистолет или мой приказ о доставке вас в военную тюрьму.
Геппнер молча уставился в пол. Вздохнул, сокрушаясь о чем-то своем, покачал головой.
– Выбор. В этом и есть наш выбор, – тяжело вздохнул он. – Предпочел бы арест, господин Фромм. Мне есть что сказать судьям и всем немцам.
– И вы намерены говорить?
– В этом вопросе выбора у меня нет. Зато есть аргументы. Если хотите…
– Я не требую от вас оправданий, – все так же резко остановил его Фромм. – Прощайте, генерал-полковник Геппнер. Сейчас я выделю двух офицеров и машину. Вас доставят в военную тюрьму.
Геппнер долго взвешивал его суровым оценивающим взглядом.
– Мне совершенно непонятно, Фромм, почему заниматься этим должны вы.
– Уведите этого господина! – приказал командующий появившемуся в проеме двери офицеру. – Вашу вину, Геппнер, вам объяснят в гестапо, коль уж вы избрали для себя именно такой путь.
51
Появившись на Бендлерштрассе, Скорцени еще довольно плохо представлял себе, что там, собственно, происходит, и был немало удивлен, поняв, что никто не собирается простреливать подходы к ставке Верховного командования и даже не пытается преградить его коммандос путь к кабинетам главных заговорщиков.
– Где эти обреченные безумцы? – первая фраза, которую он произнес, раздвигая руками стволы автоматов растерявшихся охранников из роты обер-лейтенанта Брунхайда. Эти парни так и не смогли понять, за кого пришлые эсэсовцы: за или против фюрера. Ходили слухи, что какая-то эсэсовская часть с самого начала поддерживает заговорщиков. – Часовых сменить. Из кабинетов никого не выпускать, – наставлял расходящиеся по этажам группы. – Всех обезоружить. Имеющиеся в столах и на столах бумаги подлежат изъятию и сохранности.
На втором этаже Скорцени успел задержать группу вермахтовцев, сопровождавших какого-то человека в гражданском.
– Кто такие? – громом раскатился над их головами голос «первого диверсанта рейха».
– Офицеры штаба Верховного главнокомандования, – растерянно ответил один из трех офицеров, видя, что его группа уже окружена эсэсовцами.
– Кто такой этот штатский и куда ведете?
– Советник консистории[26] Карл Герстенмайер.
– Ну и что? Советник консистории…
– Военный трибунал приговорил его к смертной казни как участника заговора против фюрера. Мне, майору Брайтенгеру, приказано привести приговор в исполнение.
– Вот как? Здесь уже действует военный трибунал. Без моего участия? – рассмеялся Отто Скорцени. – Совсем обнаглели. Кто учредил ваш, извините, трибунал?
– Генерал Фромм.
– Ах, Фромм? Отменить! Вы что, действительно священник, советник консистории? Я вас спрашиваю, любезнейшей!
– Видит Бог. Я оказался здесь совершенно случайно.
– Случайно, святой отец, оказался здесь только я. А потому с меня и спроса нет. Все остальные подлежат аресту. Особенно – святые. Этого – в любую из комнат, – указал Скорцени пальцем на Герстенмайера[27]. – Вместе с его палачами. Предварительно обезоружив.
– Но, господин штурмбаннфюрер, мы выполняем приказ командующего резервной армией генерала Фромма.
– С Фроммом мы разберемся без вашей помощи.
Брайтенгер с удивлением взглянул на гиганта с исполосованной шрамами левой щекой. Ему еще трудно было воспринять логику мышления этого человека и его манеру общения со всем остальным миром.
Эсэсовцы мгновенно обезоружили группу майора и затолкали ее вместе со спасенным евангелистом в ближайший кабинет.
– За этого святошу отвечаете головой, – уже издали крикнул Скорцени эсэсовцу, оставшемуся у входа.
– Где тут кабинет Фромма? – спросил он у другого штабиста, которого трое фридентальцев разоружали неподалеку от приемной командующего.
– Чуть дальше, – затравленно указал тот кивком головы на соседнюю дверь.
Прежде чем Скорцени успел разобраться с двумя офицерами, оказавшимися в приемной, из кабинета Фромма кто-то выглянул. Штурмбаннфюрер схватил его за грудки, выволок за дверь и спросил, словно нож к горлу приставил:
– Ты кто?
– Подполковник Гербер.
– Полковник Штауффенберг здесь? – указал он на дверь Фромма.
– Нет. Там командующий.
– Фромм потерпит. Где Штауффенберг?
Фромм и в самом деле мог потерпеть. Ему нужен был Штауффенберг. Скорцени предполагал, что он притаился у командующего. Штурмбаннфюрер очень опасался, чтобы в этой суете и свалке кто-нибудь случайно не пристрелил «убийцу фюрера» или позволил ему улизнуть. Еще больше Скорцени не хотелось, чтобы «убийца фюрера» застрелился, – что было бы слишком «красиво» для него. Мало того, Скорцени очень переживал, как бы его телефонный знакомец не пострадал… от сердечного приступа. Настолько он нужен был сейчас штурннбанфюреру живым и невредимым.
– Где Штауффенберг, я спрашиваю?!
– Его нет.
– Что значит «нет»? – стукнул подполковника затылком о стену. – Он был здесь. Где он находится?
– Его расстреляли.
– Не понял! – почти прорычал Скорцени, не обращая внимания на то, что в это время в приемной появился начальник полиции безопасности и службы безопасности обергруппенфюрер Эрнст Кальтенбруннер, выждавший в машине, пока парни Скорцени наведут порядок в этом осином гнезде.
– Его расстреляли по приказу генерала Фромма. Точнее, по приговору учрежденного им военного трибунала.
Скорцени замер от удивления. Он был потрясен. То, что он слышал, казалось невероятным.
– Когда это произошло? – упавшим голосом спросил «первый диверсант рейха».
– Наверное, часа полтора назад.
«Сразу же после второй беседы с ним, – проскрипел зубами Скорцени. – Дьявольщина!» Он совершенно не подумал о том, что гибель к «убийце фюрера» может прийти вовсе не от рук его коммандос.
– Так, кто здесь расстрелян? – неожиданно вмешался Кальтенбруннер. Двое эсэсовцев уже хозяйничали в кабинете Фромма. Скорцени слышал возмущенный бас генерал-полковника, который, конечно же, считал себя чуть ли не спасителем рейха. Что уже само по себе не могло не раздражать и Скорцени, и Кальтенбруннера. Поскольку ставилась под сомнение их роль в этом спасении.
– Полковник Штауффенберг, господин обергруппенфюрер. – Наконец-то оставил Скорцени в покое подполковника Гербера.
– Тот самый?
– Однорукий. Африканский Циклоп. Подложивший мину.
– И он расстрелян?!
– Судя по всему. Какой-то идиот учредил здесь трибунал.
– Но кто посмел?! – разъяренно прорычал Кальтенбруннер, врываясь в кабинет командующего. – Кто учредил этот дурацкий военный трибунал? Я вас спрашиваю, генерал Фромм?!
Два офицера-эсэсовца уже успели обезоружить генерала и даже заставили его вытряхнуть на стол содержимое карманов.
– Он учрежден мной, господин обергруппенфюрер. Я как командующий…
– Мне хорошо известно, что вы были командующим, – с трудом успокоился Кальтенбруннер, мельком взглянув на ставшего рядом Скорцени, словно говоря ему взглядом: «Ну что теперь делать с этим идиотом?!» – Но кто вам позволил расстреливать полковника Штауффенберга?
– Как только офицеры освободили меня из-под ареста, которому я был подвергнут по приказу генералов Ольбрихта и Бека, я сразу же выяснил, что бомбу в ставке фюрера подложил полковник Штауффенберг.
– Ах, вы уже выяснили?! – саркастически уточнил Кальтенбруннер. – Зато мы выяснили многое другое.
– Поэтому счел своим долгом арестовать его и, по закону военного времени…
– Кто еще расстрелян вместе с ним? – со зверской улыбкой поинтересовался Скорцени, прерывая умилительный доклад бывшего хозяина этого логова.
– Генерал Ольбрихт. Полковник генерального штаба фон Квиринхейм. И адъютант Штауффенберга. Кажется, фон Хефтен, или как его там…
– Одним махом прикончить троих офицеров из своего ближайшего окружения! – вновь возмущенно апеллировал к Скорцени обергруппенфюрер.
– Дабы ни один из них и словом не обмолвился о роли, которую играл в подготовке заговора сам командующий армией резерва, – меланхолично объяснил «первый диверсант рейха». – Старый, как мир, надежный, проверенный способ избавления от свидетелей.
– Как вы смеете, господин штурмбаннфюрер? – попытался выразить свое возмущение генерал Фромм. Тем более, что в эту минуту в кабинет зачем-то втолкнули и подполковника Гербера. – Я приказал расстрелять их только потому, что они представляли опасность для рейха.
– Уже после того, как были арестованы и сдали вам оружие? – позволил себе удивиться Скорцени. – Или, может быть, они оказывали вам вооруженное сопротивление? Будучи обезоруженными?
Фромм ошалело осмотрел обоих эсэсовцев и только сейчас понял, как вся та спешка с расстрелом убийственно оборачивается сейчас против него.
– Нет, они действительно сдали оружие и…
– Адъютант полковника Штауффенберга… Этот самый фон Хефтен… Он что, тоже стоял во главе заговора? – продолжал свой неспешный допрос Отто Скорцени.
– Не думаю.
– А мы, генерал Фромм, мы иногда думаем. Прежде чем стрелять.
– Но он находился вместе с полковником в ставке фюрера.
– Да что вы говорите?! – злорадно изумился Скорцени. – Мы об этом даже не догадывались. А вам не пришло в голову, что именно этим он и ценен был бы для нас? Особенно для правосудия? Кто еще в этом мире мог знать обо всей этой авантюре больше него? Вы что, решили спасти таким образом всех четверых от нас? От гестапо? От суда? Вы неподражаемы, генерал Фромм. Простите, обергруппенфюрер, – артистично обратился к Кальтенбруннеру, – но это не для моих нервов. Я, пожалуй, пройдусь, ознакомлюсь с обстановкой.
Кальтенбруннер молча кивнул. Давая согласие на то, чтобы «первый диверсант рейха» оставил его наедине с командующим, он усиленно сверлил глазами дверцу сейфа.
Провожая Скорцени взглядом, Фромм с удивлением отметил вольность, с которой этот штурмбаннфюрер, то есть всего-навсего майор, вел себя не только в беседе с ним, но и с самим генерал-полковником СС Кальтенбруннером. Он с ужасом подумал о минутах, когда обергруппенфюрер отбудет отсюда, оставив ставку Верховного главнокомандования на растерзание этому Квазимодо.
– Кстати, генерал Фромм, – неожиданно вернулся Скорцени уже из приемной. – Что это за тип в гражданском, которого здесь именуют советником консистории Герстенмайером и которого мне удалось перехватить уже на лестнице с вашей повесткой в ад? Вы что, и священника приговорили? Ваш военный трибунал больше смахивает на суд инквизиции…
– Активнейший заговорщик. Агент абвера. Военный трибунал приговорил его к расстрелу…
– И это все, что вы способны сказать об этом человеке? Странный трибунал.
– Его появление вызвано обстоятельствами военного времени! – почти взмолился Фромм.
– Что это за время такое, «военное», в центре Берлина? Шутить изволите, генерал? Вам должно быть известно: «нет ничего сокровенного, что не открылось бы… И что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях». Евангелие от Луки, непризнанного покровителя службы безопасности. Да простит меня господин обергруппенфюрер за изречение, недостойное грешных уст моих. Так что задумайтесь над пророчеством святого Луки, генерал Фромм, задумайтесь.
– У меня было время задуматься, – пробормотал Фромм после небольшой, горестной паузы. – Кажется, я им не воспользовался.
52
– И что же вы еще собираетесь сообщить мне, генерал Фромм? – продолжил допрос Кальтенбруннер. – Значит, вы хотели расстрелять и господина Герстенмайера?
– Я считаю, что действовал, исходя из интересов безопасности рейха.
– Следовательно, этого агента абвера в гражданском мы спасли от вашего расстрела, исключительно исходя из желания ввергнуть рейх в великую смуту заговоров? Так следует воспринимать ваше объяснение? Кого еще вы не успели расстрелять, господин Фромм? Кого вам не удалось вырвать из рук следствия? Признавайтесь.
Командующий угрюмо взглянул на стоявшего все это время навытяжку подполковника Гербера. От страха, а также посыпавшихся на командующего унижений подполковник уже успел превратиться в поблекшее изваяние. Он-то рассчитывал на заступничество Фромма. Но если «так» беседовать с командующим позволяет себе какой-то там штурмбаннфюрер, то как же тогда заговорят те, от кого действительно будет зависеть их судьба?
– Да, мы подготовили список лиц, подлежащих первоочередному расстрелу, – признал тем временем Фромм, вновь осознавая, как его «государственно-трибунальное рвение» самым подлым образом оборачивается сейчас против него же. – Подполковник Гербер… Вы, возглавляющий трибунал…
– Я?!
– Кто же еще?
«Начинается грызня», – понял Скорцени.
Председатель несуществующего трибунала неохотно извлек из кармана френча лист бумаги со списком обреченных, что само по себе уже подтверждало правдивость утверждения Фромма.
– Полковник фон Шверин…
– «Фон», – зачем-то уточнил Кальтенбруннер, обращаясь к Герберу.
– Так точно, господин обергруппенфюрер СС.
– Подполковник фон дер Ланкен.
– «Фон дер»?
– Так он представился, – пожал плечами Гербер, не понимая, с чего это вдруг Кальтенбруннер начал придираться к аристократическим определениям.
– Ишь ты…
– Штауффенберг. Бертольд Штауффенберг, – побоялся сказать «фон».
– Этот уже расстрелян.
– Расстрелян его брат, полковник… – заискивающе объяснил Фромм.
Кальтенбруннер тяжело задвигал нижней челюстью, однако слова ни в какую не зарождались в этих неповоротливых жерновах.
– Так вы не расстреляли его? Брата полковника Штауффенберга? Генерал Фромм?.. Непростительная оплошность. Понимаю, вы считали, что это здание останется в вашей власти еще до утра.
– У меня не было достаточно улик против его брата.
– Бертольду Штауффенбергу явно «не повезло».
Неожиданно оживший громкоговоритель, расположенный в соседней комнате, взволнованным голосом поведал «немцам и немкам» о том, что в ближайшее время к ним обратится их фюрер Адольф Гитлер. Повторив это сообщение еще дважды, громкоговоритель умолк. Но два генерала какое-то время прислушивались даже к его молчанию.
– Что ж, генерал Фромм, поскольку живых на мертвых не меняют, будем довольствоваться тем Штауффенбергом, что имеется под рукой. Но не думайте, что это позволит вам терять зря время. Садитесь и пишите.
– Писать? Что?
– Как «что»? Все. Подробно. Как? Почему? Чем объясняете тот странный факт, что все вокруг вас, исключительно все готовились к убийству фюрера и государственному перевороту, а вы делали вид, будто ничего не происходит.
– Но я не знал об их замыслах, – ударял себя кулаком в грудь командующий. – Я абсолютно ничего не знал. Не зря же меня арестовали и держали под арестом, пока группа офицеров во главе с этим подполковником, Гербером, не освободила меня.
– Арестовали вас, допустим, совершенно зря. Но вы заметили: арестовать арестовали, однако выводить во двор не торопились. Хотя, казалось бы, путчисты.
– Потому что не решались.
– Так что за этот арест вы, положим, должны быть признательны генералу Ольбрихту. Он дает вам хоть какой-то шанс. Правда, весьма призрачный. А призрачный потому, что на самом деле вы все прекрасно знали. Просто ждали, чем завершится покушение. Чтобы наверняка. Не слышу возражений, генерал Фромм.
– Все совершенно не так. Уверяю вас, господин обергруппенфюрер.
Кальтенбруннер нервно передернул головой, молча подошел к двери и прощально окинул тяжелым свинцовым взглядом кабинет Фромма.
– Еще никому не удавалось уверить меня в том, в чем уверить меня невозможно, – философски изрек он, прекрасно понимая, что подражает Отто Скорцени. В последнее время, – гордясь своим протеже и завидуя, – Кальтенбруннер старался все чаще подражать ему, как, впрочем, старались подражать и многие другие офицеры службы безопасности. – Слышали, «первый диверсант рейха» цитировал святого Луку? Ваше «писание от Фромма» должно быть таким же святым и откровенным.
53
Кальтенбруннера задержал в двери Отто Скорцени, только что успевший переброситься несколькими словами со своим адъютантом.
– Господин обергруппенфюрер, по моему приказу приостановлена передача в военные округа и штабы групп армий этого приказа, подписанного генералом Фроммом.
– Что, еще одно решение военного трибунала? – взял у штурмбаннфюрера листик с текстом. – «Военный переворот, организованный группой генералов-предателей, решительно подавлен мною, – вслух прочел он. – Все руководители этого путча казнены. Изданные ранее приказы фельдмаршала Витцлебена, генералов Ольбрихта, Геппнера, Бека, а также полковника Штауффенберга – не выполнять. Освободившись из-под ареста, которому был подвергнут по приказу организаторов заговора»… – О, какие подробности! – отвлекся шеф службы безопасности от текста. – «Освободившись из-под ареста, вновь принимаю командование. Генерал Фромм». – Когда успели, генерал?
– Я обязан был известить генералитет… – сказал Фромм.
– Опять не дождавшись нас? К чему такая спешка? Текст уже передан? – обратился к Скорцени.
– Только что начали передавать.
– Немедленно отменить. Пишите, Скорцени. – Кальтенбруннер достал свой блокнот, листики которого имели специальный штамп со свастикой и гербовую печать, и, ткнув его в руки штурмбаннфюрера, продиктовал: – Приказ генерала Фромма о его вступлении в должность после ареста отменяется. Приказом фюрера командующим армией резерва назначен рейхсфюрер СС Гиммлер. Дополнительные указания будут направлены вам позже. Начальник Главного управления имперской безопасности обергруппенфюрер СС Кальтенбруннер.
– Гиммлер? – не удержался только что отстраненный командующий. – Армией резерва?
– Вам не угодишь, Фромм. Чем вам «не показался» рейхсфюрер? Вы бы его своим преемником, конечно, не назначили?
– Да я не в том смысле. Рейхсфюрер СС… Армией резерва.
– Так, моя подпись… – вновь обратился Кальтенбруннер к тексту. – Передать всеми средствами связи. Под вашу ответственность, Скорцени.
Вместо привычного «есть!» прозвучал злорадный смешок Скорцени. Кто мог усомниться, что подобный приказ будет выполнен?
– Все, господин Фромм, – уже во второй раз избежал Кальтенбруннер возможности употребить слово «генерал». – Теперь вы свободны от всех спешных дел. Сидите. Пишите. Через несколько минут за вами придут.
«За мной придут?» – молчаливо взъярился Фромм.
– Что значит «за вами придут»?! – подался было он вслед за Кальтенбруннером. Однако дверь захлопнулась у него перед носом, а когда бывший командующий рискнул открыть ее, то наткнулся на эсэсовского унтер-офицера, пронзившего генерала таким свирепым взглядом, что, казалось, после него автоматная очередь уже не понадобится.
«Что же еще я должен был сделать, чтобы за мной не пришли?» – мрачно осмысливал свое новое положение Фромм, возвращаясь к столу. Какими родными и спасительными показались ему эти знакомые стены и это кресло, в которое он сейчас садился уже с опаской, понимая, что теперь оно принадлежит не ему. Как захотелось растянуть минуты пребывания здесь. Как хотелось остановить время, осадить его пружину, развертывавшую развитие всех этих трагических событий.
– Неужели они арестуют вас, господин генерал-полковник? – с дрожью в голосе спросил подполковник Гербер.
Фромм нервно рванул ворот кителя и повертел головой, словно пытался освободиться от затягивающейся на шее петли.
А тем временем в коридоре властвовала солдатня. Громыхали сапоги, эхом отзывались в приемной командующего окрики. Тонули в общем гуле голосов чьи-то унизительные попытки оправдаться, обратить на себя внимание, что-то там доказать.
– Выходит, что могут, – глухо пробубнил Фромм, вслушиваясь в эту симфонию страха, возникающего из безнаказанности, наглости и краха человеческих судеб. – Похоже на то, что… могут – да, нет?
– Но если даже вас… Что же тогда будет с нами?
– Очевидно, то же, что и с остальными заговорщиками.
– Но ведь мы-то с вами не заговорщики, – почему-то приглушил голос Гербер. – Неужели они все – Гиммлер, Кальтенбруннер, Скорцени, остальные… – не понимают, что мы противостояли?..
– В этом-то и заключается наша трагедия, что мы с вами, подполковник «противостояли». Примкни мы к путчистам Ольбрихта, Бека и Штюльпнагеля, все могло завершиться совершенно по-иному, – отрешенно, словно во сне, проговорил Фромм. – Присоединись мы вовремя к их группе, и не они, эти эсэсовцы, загоняли бы нас теперь в тюремные камеры, а мы их.
– О чем это вы, господин генерал? – почти с ужасом спросил Гербер.
– О несбывшемся, подполковник.
– Я не слышал этого, господин командующий. Этого я попросту не слышал.
– Слышали, подполковник, слышали. Только слишком запоздало. Впрочем, можете отмахнуться. Заявлять о нашей беседе не стану. Но только сейчас я понял, какую возможность мы с вами упустили. Не только мы, вся Германия.
– То есть мы должны были помочь генералу Ольбрихту, Штауффенбергу, – рассеянно подтвердил Гербер, совершенно сбитый с толку неожиданным ходом рассуждений бывшего командующего.
Фромм безнадежно махнул рукой и обессиленно упал в кресло. Достал лист бумаги, взял ручку…
– Кажется, нам велено было описать все, что мы здесь напортачили, подполковник?
– Да-да, если позволите, листик бумаги и карандаш.
Несколько минут Гербер быстро писал, забыв обо всем, что происходит в кабинете и за его пределами. Писать ему в общем-то было не о чем. Все вмещалось в несколько строк. О том, что происходило здесь, в ставке Верховного командования вермахта, в кабинете генералов, он не знал и не мог знать. А когда немного разобрался в ситуации, создал боевую группу из верных фюреру офицеров и, по существу, подавил путч. После чего поступил в распоряжение генерала Фромма.
«А дальше пусть выкручивается сам Фромм. Со своими подчиненными и трибуналом», – мысленно завершил он написанное на бумаге, и только тогда поднял голову, чтобы взглянуть на генерала. С ненавистью взглянуть на него, теперь уже жалкого, обреченного.
Фромм сидел, тупо глядя на дверь и держа ручку так, словно это было нацеленное в рот дуло пистолета. Стоит в проеме двери показаться фигуре эсэсовца, как прозвучит выстрел.
Как он, Гербер, ненавидел сейчас бывшего командующего! С того момента, когда генерал признал, что если бы он присоединился к заговорщикам, события развернулись бы совершенно по-иному, отношение к нему Гербера резко изменилось. Подполковник понял, что он попал в волчью западню. Именно волчью. Присоединившись к Фромму, он стал предателем и для тех немцев, кто верен режиму фюрера, и для тех, кто этот режим ненавидит. – Для одних он останется трусливым пособником заговорщиков, для других – офицером, в последнюю минуту предавшим «группу Ольбрихта» и ставшим ее палачом.
«Безмозглая, трусливая громадина», – презрительно швырнул он в лицо Фромму. Но, увы, не вслух.
54
Пока Фромм томился над своей «исповедью», Скорцени уверенно и беспощадно, словно медведь – дикий улей, опустошал ставку Верховного главнокомандования вермахта. Получив в подкрепление еще до сотни эсэсовцев из охранного батальона и два десятка гестаповцев из ведомства Мюллера, он перекрыл своими заслонами все выходы из вермахтовского комплекса зданий, прочесал все помещения от подвалов до чердака и, убедившись, что машины за арестованными прибыли, приказал выводить их небольшими группами и препровождать в гестаповскую тюрьму на Принц-Альбрехштрассе.
– Кто такие? – остановил он группу офицеров, плотно опекаемую черными силуэтами эсэсовцев.
– Да черт знает, кто они вообще, – пожал плечами унтерштурмфюрер, шедший впереди этой процессии. Арестованные стояли со связанными руками и угрюмо жались друг к другу. Еще полчаса назад они были «гордостью германского офицерства». Теперь – никто. – Приказано было взять и доставить…
– Кто из вас Штауффенберг?
– Я, – неохотно ответил офицер, стоявший ближе всех к Скорцени.
– Но это не тот Штауффенберг, – несмело заметил другой арестованный. То ли для того, чтобы помочь графу, то ли наоборот. Скорцени узнал его – подполковник фон дер Ланкен. «Фон дер..» – поморщился бы Кальтенбруннер. Однажды ему приходилось встречаться с этим полупрусским-полуголландским, или что-то в этом роде, аристократом.
– Любой Штауффенберг отныне «тот», – убедительно заверил его штурмбаннфюрер. – До третьего колена. В этом можете не сомневаться.
Скорцени схватил Штауффенберга за плечо, резко повернул к себе и, смерив презрительным взглядом, процедил:
– Если уж после всего, что произошло, вы не удосужились пустить себе пулю в лоб, – что весьма неосмотрительно с вашей стороны, – то по крайней мере нужно было снять с себя погоны, знаки различия, награды фюрера…
– Это знаки различия и награды Германии, – с вызовом ответил брат «убийцы фюрера», неприятно удивив остальных своей запоздалой храбростью. Никому не хотелось злить эсэсовского Квазимодо.
Но Скорцени уже не слушал его. Сорвал погон, рванул ордена и, презрительно сморщившись, швырнул все это в подставленную кем-то из эсэсовцев каску.
– Унтерштурмфюрер, лично проследить, чтобы ни один арестованный не попал в камеру гестапо с наградами и погонами. Лично!
– Так точно! – щелкнул каблуками унтерштурмфюрер. – Они недостойны их.
Группы шли и шли. «Этими бездельниками спокойно можно было бы укомплектовать офицерский корпус целой дивизии», – поражался Скорцени. Он даже не догадывался, что такая масса их скрывается в этом «тыловом бункере».
Последним уводили генерала Фромма. Проходя мимо Кальтенбруннера и Скорцени, генерал потянулся к ним, хотел пробиться через частокол эсэсовских пилоток и касок или хотя бы что-то сказать, обратить на себя внимание, однако ни тот, ни другой даже не взглянули в его сторону. А ствол автомата в подреберье дал ответы на все вопросы, которые продолжали мучить генерала, и убил все надежды, которые, по иронии судьбы, до сих пор не оставили его.
Он, этот властный, грубый человек, эта громадина с обессиленно обвисшими плечами, этот талантливый полководец, способный показать себя на любом из фронтов, но не по своей воле втянутый в погибельный водоворот путча – покидал здание Верховного главнокомандования, как капитан захваченного пиратами судна.
Его уж подводили к сбегающей в вестибюль лестнице, этому трапу в бесславие, когда неожиданно вновь ожили громкоговорители.
– Немецкие соотечественники и соотечественницы[28], – послышался усиленный радиопередатчиком, но тем не менее приглушенный, старчески подрагивающий голос фюрера. И процессия как-то сама собой, без команды, остановилась. – Я не знаю, в какой уже раз было организовано и осуществлено покушение на меня. И если я выступаю сегодня перед вами, то это происходит по двум причинам: во-первых, чтобы вы слышали мой голос и знали, что я жив и здоров. И, во-вторых, чтобы вы поподробнее узнали о преступлении, подобного которому не было в истории Германии.
– Это приговор тебе, генерал, – процедил унтерштурмфюрер, улыбаясь прямо в лицо Фромму своей горильей улыбкой. Фромму хотелось в том же тоне процедить: «Извольте обращаться на вы!», но пауза, которой фюрер одарил свой народ, закончилась, и чтение «приговора» продолжилось.
– Совсем ничтожная клика честолюбивых, лишенных стыда и совести и в то же время глупых…
«Что глупых – то глупых», – согласился с ним бывший командующий. – …Офицеров устроила заговор, чтобы устранить меня и вместе со мной одновременно практически уничтожить штаб Верховного командования германского вермахта. Бомба, подложенная полковником графом фон Штауффенбергом, взорвалась в двух метрах от меня…
«Значит, полковник Штауффенберг все же не врал, – с апатической тоской признал генерал Фромм, слушая эту речь, – бомба в самом деле была подложена в двух шагах от фюрера. До сих пор он сомневался в этом. Не верил, что этот калека… Какое же мужество нужно было иметь, чтобы решиться пронести бомбу через все посты, мимо личной охраны. Он, Фромм, на такое не способен. Но и какое же адское невезение! Будь Штауффенберг сейчас рядом со мной, я пожал бы его единственную руку».
– …Ею, – неожиданно взвинтил голос Гитлер, – был очень тяжело ранен ряд дорогих мне сотрудников. Один из них умер. Сам я совершенно невредим, если не считать нескольких небольших ссадин, ушибов, ожогов. Я вижу в этом подтверждение возложенной на меня Провидением миссии – продолжить осуществление цели моей жизни, как я это делал до сих пор…
Унтерштурмфюрер неожиданно счел, что для уяснения «приговора» генералу Фромму этого достаточно, и, махнув пистолетом у него перед лицом, прохрипел:
– Вперед. К машине. – Теперь он решал, что генерал-полковнику Фромму позволено слушать, что – нет.
– Круг, – швырял напыщенные слова вслед уходящему генералу бессмертный, хранимый сатаной, фюрер, – который представляют эти узурпаторы, максимально узок. Он не имеет ничего общего с германским вермахтом и, главное, с германской армией… На этот раз мы уже рассчитаемся с ними так, как это в обычае у нас, национал-социалистов…
И никто из слушавших его в ту ночь в штабе Верховного командования вермахта на Бендлерштрассе не сомневался: рассчитаются. Как это в обычае у них, национал-социалистов.
Генерала Фромма увезли. Речь фюрера завершилась недружным, но троекратным «зиг хайль!» его постоянных слушателей-эсэсовцев. Обергруппенфюрер Кальтенбруннер еще немного побродил по зданию и отбыл к себе в Главное управление имперской безопасности, заверив Скорцени, что остается на связи и в любую минуту готов прийти на помощь.
Штурмбаннфюрер был «тронут» заботой. Без помощи Кальтенбруннера ему тут не управиться.
Оставшись полновластным хозяином всего штаба Верховного командования, штурмбаннфюрер вошел в кабинет генерала Фромма, величественно уселся за стол, словно вознесся на трон, и тотчас же потребовал к себе троих офицеров из числа фридентальских курсантов. Само кресло командующего обязывало его непосредственно приступать к руководству.
«Чего не хватало командующему, генерал-полковнику, отсиживавшему войну в таком безмятежном кабинете, в глубоком, райском тылу в центре Берлина? Чего ему еще не хватало? Чего, он добивался?» – Скорцени отказывался понимать таких людей. Предавать, по его разумению, мог обиженный, несостоявшийся, перекупленный и соблазненный врагом. Но командующий армией резерва! Очевидно, что-то происходило в этой столице такое, что не поддавалось его пониманию. Что-то здесь «такое» происходило, пока он, очертя голову, носился по миру то похищая Муссолини, то наставляя на путь истинный папу римского и все его апостольское воинство…
– Порезвились, бездельники, и хватит, – добродушно усовестил он своих коммандос. – Пора заняться делом. Все сейфы, все столы вскрыть. Бумаги тщательно осмотреть. Все, хоть в какой-то степени касающееся заговора, сюда, ко мне на стол. Прежде всего нужны фамилии единомышленников и названия подчиненных им частей. «…Я еще вернусь в этот мир. Я еще пройду его от океана до океана».
55
Проснувшись ранним утром в своей квартире в Растенбурге, вице-адмирал Фосс потребовал немедленно связать его с Парижем, с командующим западной группой военно-морских сил. Вчера, во время секретного вечернего совещания у фюрера, когда собрались только наиболее доверенные лица, он, Фосс, предложил тот единственно приемлемый ход, который позволил бы подавить путч в Париже.
Фюрер был поражен тем, что именно во Франции заговор принимал самые зримые и зловещие очертания. Это казалось непостижимым. Он несколько раз требовал, чтобы ему повторно зачитывали сообщение об арестах не только высших руководителей гестапо, полиции и СД, но и вообще массовых арестах эсэсовцев, которые уже вовсю велись во французской столице. И это в нескольких километрах от передовой, от войск англо-американцев!
– Как вы все это можете объяснить? – уставился фюрер на фельдмаршала Кейтеля, придерживая указательным пальцем сильно подергивающееся веко левого глаза.
– Трудно сказать.
– Фельдмаршал Кейтель, – голос фюрера приобретал все более угрожающие интонации, – я все же требую объяснений. Как могло произойти, что самая рьяная активность путчистов проявляется именно в Париже?
Кейтель поднялся, но растерянно молчал. Фоссу странно было видеть всегда такого грозного начальника генштаба в столь жалком состоянии.
– При этом мне не нужно рассказывать о том, что во Франции линия фронта ближе, чем где-бы то ни было, подошла к нашим высоким штабам, что заставляет их подумывать о предательских сепаратных переговорах с командованием союзнических армий. Меня интересует суть. Да, Кейтель, суть, – продалбливал Гитлер крышку стола негнущимся указательным пальцем правой руки. И все с напряжением следили за этими его движениями, подсознательно опасаясь, как бы вновь не рвануло, как это произошло днем в зале павильона для совещаний. Поди знай! – Меня интересует положение вещей в принципе.
– Но, мой фюрер, – пытался фельдмаршал остановить нагнетание страстей, – мне пока трудно говорить об этом. Ситуация слишком усложнена.
– Неужели усложнена?! – входил в раж фюрер. Все то время, что прошло после взрыва, Гитлер стоически сдерживался, маскируя всякие эмоции и не предаваясь в открытую каким-либо переживаниям. Очевидно, он все еще пребывал под магическим воздействием чудодейственности своего спасения. Благодарный Всевышнему за покровительство, он вполне резонно считал, что теперь может хоть на какое-то время освободить себя от мелочности бытия, от ставших привычными для «Волчьего логова» сплетен, дрязг и взаимного нетерпения всех собравшихся под крышей ставки.
Однако теперь каждому стало ясно, что на самом деле монашеское многотерпение фюрера – не что иное, как мина замедленного действия.
– …Она усложнена! – вскричал фюрер, приподнимаясь, но, мимолетно взглянув на стол, вновь уселся и нервно повертел головой, будто искал, куда бы уйти от этого погибельного места. – Кем она усложнена? Там, во Франции, генерал Штюльпнагель. Там – фельдмаршал фон Клюге, который обязан нам всем, чем только может быть обязан фельдмаршал своему командованию. Наконец, войска, находящиеся во Франции, – слегка замялся Гитлер и приглушил голос, – контролирует Роммель. Даже страшно вообразить, что и этот фельдмаршал может предать. Роммель, известнейший полководец Европы! Что вы так недоверчиво смотрите на меня, Кейтель? Да, полководец…
– Не смею возражать, мой фюрер, – только сейчас по-настоящему вытянулся в струнку начальник генштаба. Он был признателен случаю, благодаря которому первым опомнился и первым бросился спасать фюрера. Что было бы, если бы в момент взрыва он занимался поисками этого Африканского Циклопа полковника фон Штауффенберга? Еще чего доброго, его заподозрили бы в пособничестве террористу. – Роммель есть Роммель.
Несколько секунд фюрер выжидающе смотрел на Кейтеля. Ответ явно разочаровал его. Гитлер жаждал возражений, спора, самоутверждения в каких-то своих мыслях и подозрениях.
– Так что будем делать? – совершил он умопомрачительный переход от яростного гнева до трезвой рассудительности верховного главнокомандующего. – Какими реальными силами мы располагаем сейчас, чтобы еще до утра погасить путч в Париже, как это уже делается в Берлине?
– Гестапо, полиция, СД – парализованы, – напомнил Геринг. – Командование войск вермахта, по существу, на стороне заговорщиков. К сожалению. Предполагаю, что к утру сможем подбросить батальон охраны и десяток-другой техников люфтваффе с ближайшего аэродрома. Еще лучше – десантировать туда из Германии батальон эсэсовцев. Хорошо бы – под командованием Скорцени.
– Он занят в Берлине, – напрочь отсек такую возможность фюрер.
– В любом случае, если объединить все названные силы…
– Но к тому времени Штюльпнагель и Роммель отзовут полк-другой с фронта, – возразил начальник штаба оперативного руководства вермахтом генерал Йодль. – И мы еще точно не знаем какие именно. Само собой разумеется, все расквартированные во Франции части уже получили приказ не подчиняться никаким указаниям Штюльпнагеля. Но ведь нужно еще знать настроения их командиров.
– Знать которые мы пока что не можем, – вновь взял инициативу в свои руки фюрер, загоняя в тупик всех остальных. Пока что он отвергал всякий реальный ход, ничего не предлагая взамен. – И нам опять придется брать Париж штурмом, осаждая собственных генералов.
Все умолкли. Следуя примеру фюрера, каждый мог сказать нечто такое, что очень просто доказывало бы невозможность подавления путча в Париже. Но ситуация требовала иного.
И вот тогда-то вице-адмирала Фосса внезапно осенило:
– Господа, – поднялся он с таким видом, словно собирался провозгласить тост или сообщить о коронации нового фюрера. – Вы совершенно забыли о военных моряках.
– Да при чем здесь моряки? – легкомысленно отмахнулся Геринг, как это делал всегда, когда в его присутствии кто-то упоминал о «кригсмарине» как о военной силе. – Речь идет о Париже.
– А почему вы, господин рейхсмаршал, считаете, что, в Париже не может быть моряков? Хотя бы тех, что расквартированы там, – вежливо уточнил Фосс. – Их, конечно, немного. В основном – из различных служб, подчиняющихся штабу командующего западной группой военно-морских сил адмирала Кранке. К тому же это закоренелые тыловики. Но что-то мне кажется, что Штюльпнагель просто-напросто забыл об их существовании. Как это случается каждый раз, когда планы сочиняются в вермахтовских штабах, – добавил вице-адмирал уже исключительно для Кейтеля.
– Так-так… – подбодрил Гитлер, загораясь его идеей. – Интересно. А ведь я знаю адмирала Кранке: это довольно решительный человек.
– И будет польщен тем, что о нем вспомнили в ставке, – впервые нарушил свое молчание командующий военно-морскими силами гроссадмирал Дениц. – Гросс-адмирала не смутило то обстоятельство, что не он первый обратился к «береговым крысам» Кранке. Главное, что речь шла о моряках.
– Мы о нем не забывали, – зачем-то нервно отреагировал Кейтелъ.
– Вице-адмирал Фосс, немедленно подготовьте соответствующий приказ для Кранке за моей подписью. А еще лучше – если только вы, мой фюрер, не возражаете, – обратился гроссадмирал к Гитлеру, – за вашей и моей…
– Не возражаю – поддержал его Гитлер. – Делайте это немедленно, адмирал Фосс. Раковая опухоль на теле вермахта должна быть удалена еще до утра, причем как можно спокойнее и незаметнее. Чтобы не только в штабе Монтгомери, но даже парижане не скоро узнали, что же на самом деле произошло этой ночью в их городе.
56
…Однако все это происходило вчера. А сегодня, проснувшись поутру и взглянув в окошко своей растенбургской квартиры, словно в иллюминатор, вице-адмирал вдруг вспомнил, что пора бы уже знать результаты весьма впечатлительных «парижских гастролей» – как потом, после совещания, подбадривающе определил его инициативу командующий военно-морским флотом.
До Парижа дозвонились неожиданно быстро.
– На проводе сам адмирал Кранке, – важно доложил капитан второго ранга Рюнтель. Еще несколько месяцев назад этого тридцатипятилетнего крепыша списали после тяжелого ранения. Несколько дней он загульно шлялся по берлинским пивным, горько и пенно осмысливая свою ненужность, пока не попытался остановить служебную машину Фосса, будучи твердо уверенным, что это какой-то частник или таксист. При этом он так хладнокровно дал прощупать себя передком «мерседеса», что вице-адмирал не выдержал и взял его к себе в машину. Но лишь для того, чтобы выяснить личность и добиться разжалования. Однако Рюнтель оказался не настолько пьяным, чтобы не сориентироваться в ситуации. Увидев перед собой адмирала, он чуть было не всплакнул от восторга:
– Господи, да это же сама судьба послала моряку моряка. Если вы не спасете меня, господин адмирал, я прорвусь на крейсер, с которого меня списали, и взорву себя там прямо на капитанском мостике.
Пьяную угрозу его адмирал всерьез не воспринял, зато безбрежная наглость флотского офицера показалась ему многообещающей. И он добился того, чтобы Рюнтель стал его адъютантом.
– Вы помните, о чем мы с вами говорили вчера, Кранке? – сурово дохнул в трубку коньячным перегаром Фосс. По случаю «парижских гастролей», придуманных на совещании у фюрера, он позволил себе слегка увеличить и так немалую традиционную дозу «на ночь причащаясь».
– О чести флотского офицера. Мы ее не посрамили, – глухо пробубнил в трубку Кранке, демонстративно подчеркивая, что дело не в докладе начальству, а… в самом деле, которое он сделал. – Я собрал своих сухопутных мореманов со всего «Большого Парижа» и предъявил этому вонючему губернатору Штюльпнагелю такой ультиматум, что он наложил в штаны, решив, очевидно, что, если не подчинится, то я введу в Сену наш северный флот.
Оба адмирала рассмеялись.
– Значит, вы основательно ввязались в драку?
– Мы даже заставили Штюльпнагеля выпустить из-под ареста группенфюрера Оберга, шефа гестапо Кнохена и более тысячи прочих эсэсовцев – вот что мы сделали, не произведя при этом ни единого выстрела.
– Что… вообще? – не поверил Фосс.
– Это могут подтвердить Оберг, Кнохен и все штабисты Штюльпнагеля. Разве что какой-то мореман по пьянке пальнул вслед парижской проститутке, – такое с нашими парнями, как вы знаете, иногда случается, – самодовольно рассмеялся Кранке. – Я хочу, чтобы гестапо и СС поняли: флот – это флот. И его традиции – это его традиции. Пусть нам прикажут – и мы наведем порядок не только здесь, но и в Берлине.
– То есть вы полностью владеете ситуацией в Париже? – поморщился Фосс. Склонность Кранке к бахвальству была общеизвестной, так что главное – вовремя остановить его.
– Почему мы? Теперь ею владеет гестапо и служба безопасности. Уже пошли первые аресты. Мы свое дело сделали, дальше пусть вермахт и СС выясняют отношения между собой.
– Не они, адмирал, не они. Не гестапо и СС, – недовольно проворчал Фосс. – Вы владеете ситуацией, вы, Кранке. Разве не вы предъявили ультиматум, не вы заставили освободить арестованных?.. Вы понимаете меня, черт возьми?!
Кранке соображал так же туго, как и сам Фосс. Почувствовав перелом в событиях, он под утро позволил себе не меньшую дозу, нежели сам представитель флота в ставке Гитлера.
– Конечно, мы, господин вице-адмирал, – наконец раскрутил свой подржавевший винт Кранке. – Путч подавлен нами в течение нескольких часов. Мои посты сейчас у казарм Военной школы и у штаба командования войсками во Франции. Сейчас я выставлю их у каждого германского штаба, какие только имеются в Париже. Мы покажем, что флот – он и в Париже флот. Если так нужно.
– Нужно, Кранке. И помните: то, о чем я только что услышал от вас, через несколько минут будет доложено гроссадмиралу Деницу, а затем лично фюреру. Лично фюреру!
Предупреждение было нелишним. Фосс понимал, что его сведения будут не единожды проверены, и важно, чтобы Кранке придерживался именно этой версии: он хозяин положения, даже если исключительно по своей глупости сразу же уступил инициативу опростоволосившемуся Обергу. «Дипломатия» флотских офицеров известна: потопил врага – и скрывайся в ближайшей гавани.
– Гроссадмирал Дениц в курсе: Кранке зря якорей не рубит, – с некоторым опозданием последовало заверение парижского бульварного флотоводца. – Так и напомните ему. Он меня знает.
– Теперь о вас узнает не только гросс-адмирал, но и гроссистория, господин Кранке, – с легкой грустинкой в голосе заверил своего парижского собрата Фосс.
Сейчас он искренне сожалел, что не добился разрешения прямо вчера вечером вылететь в Париж. А ведь мог потребовать этого, мог. И фюрер приказал бы выделить для него самолет. Сегодня он докладывал бы Деницу прямо из Парижа. А возможно, не только Деницу. Какой сюжет для воспоминаний!
Но счастливчиком оказался Кранке. Калиф на час. Властитель Парижа, ворвавшийся на его улицы с какой-нибудь сотней-другой подвыпивших мореманов, с трудом собранных по кабакам и борделям. Несчастная столица Франции! Каких только проходимцев не возводила она на Олимп истории, каким только бездарям не создавала ореол героев!
«Однако слава Кранке своим небрежным крылом захватила и тебя, – подумал вице-адмирал, поспешно облачаясь в свой сплошь увешанный наградами парадный френч. – В конце концов в «Волчьем логове» будут не столько говорить о командующем западной группой военно-морских сил, сколько о твоей идее спасения всего Западного фронта. Так что будь справедливым если не к Кранке, то хотя бы к самому себе. А главное, помни: через несколько минут Дениц станет завидовать тебе куда сильнее, чем ты – Кранке. Что ни говори, а гросс-адмирал сидел за тем же столом, за которым так внезапно просветлели твои мозги. Хотя в последнее время такое случается с ними нечасто».
После этих размышлений Фосс остался вполне доволен собой. Зависть Деница, пусть даже совершенно не раскрывшаяся, – ибо этот старый морской волк умел быть скрытным, как пират, напросившийся на службу в королевском флоте, – казалась вполне достаточной компенсацией за его вчерашний стратегический просчет. Такое положение вещей вице-адмирала устраивало.
Уже дважды наступали времена, когда казалось, что гроссадмирал окончательно попадал в опалу. Но с особой подозрительностью фюрер начал относиться к командующему военно-морскими силами после того, как основательно потерял его доверие другой адмирал – Канарис, руководитель абвера. А ведь не секрет, что Канарис и Дениц не раз вспоминали свою морскую юность за основательной бутылкой коньяка. И хотя Дениц и попадал в опалу, но всякий раз очень удачно изворачивался.
Тем не менее Фосс зорко следил за интригами «Волчьего логова», этого имперского двора «времен сумерек богов», и верил, что рано или поздно настанет и его час. Мало ли генеральских, и даже фельдмаршальских, погон полетело на его памяти? Почему гроссадмиральские должны быть исключением? А когда низвергают очередного командующего – главное вовремя оказаться под рукой.
С этой затаенной мыслью он и явился во «флотскую резиденцию» Деница, разместившуюся в одном из железобетонных бараков-бункеров «логова».
57
Пятидесятилетний гроссадмирал встретил его, стоя у висящей на стене морской карты, с нанесенными на нее базами германского флота. На появление Фосса он вначале вообще не обратил внимания, похоже, что в эти минуты мысленно пребывал в командирской рубке своей флагманской субмарины, ведущей подводную эскадру к норвежским берегам; или попросту прокручивал в памяти одну из своих боевых операций, о которых частенько любил вспоминать в окружении морских собратьев.
– Что случилось, вице-адмирал? – Лицо командующего казалось пепельно-зеленоватым от усталости и бессоницы, а всегда подчеркнуто ухоженный мундир выглядел изрядно измятым, что могло свидетельствовать только об одном: эту ночь гроссадмирал провел, не выходя из своего кабинета, дремля прямо в кресле. – Вы так рвались сюда, словно хотели сообщить о гибели всего английского флота.
– С английским флотом, господин гроссадмирал, нам еще предстоит повоевать, – нисколько не смутила Фосса вступительная речь командующего. Он знал привычку Деница: мгновенно ставить любого появившегося на его пороге адмирала в такое положение, при котором тот начинает чувствовать себя непорочным юнгой на захудалом торговом судне, экипаж которого набран из морских бродяг и портовых забулдыг. – Но много ли мы припомним случаев, когда адмирал мог бы доложить командующему флотом Германии: «Париж взят!»?
Дениц поморщился. Со смертельной скукой в глазах он взглянул на Фосса, потом на испещренную пунктирами эскадренных курсов карту и вновь на Фосса.
– Что вы сказали, вице-адмирал? – изобразил он нестерпимую зубную боль. – Какой еще, к черту, Париж? Кем «взят»?
– Нами, господин командующий. То есть моряками адмирала Кранке.
– Это в связи со вчерашним вашим наполеоновским планом?
– Который вы полностью поддержали. Оказывается, к полуночи все эсэсовцы Парижа, во главе с шефами гестапо, СД и сыскной полиции, были арестованы путчистами, возглавляемыми генералом пехоты Штюльпнагелем.
Кажется, только сейчас гроссадмирал встрепенулся.
– Значит, там все это разгоралось всерьез?
– Настолько, что, сидя здесь, в ставке, даже трудно было предположить.
– И что же это за путч, который в течение ночи удалось подавить даже Кранке? – удивился командующий.
– Как мы с вами и предполагали, – усиленно акцентировал Фосс внимание на «мы с вами», – сухопутные генералы начисто проморгали все береговые флотские экипажи. Потом это их настолько поразило, что когда Кранке предъявил жесткий ультиматум, подкрепив его стволами двух сотен своих «просоленных», Штюльпнагель чуть не подавился обоймой из собственного пистолета.
Дениц смерил вице-адмирала недоверчивым взглядом и безжалостно изжевал нижнюю губу. Он явно не спешил с реакцией, словно подозревал, что Фосс разыгрывает его.
– Но если все действительно так, как вы говорите…
– Только так, – не удержался Фосс, но, встретившись с осуждающим взглядом командующего, тотчас же извинился.
– …Если все действительно так, – вслух рассуждал Дениц, – может оказаться, что только военно-морской флот и остался вне влияния путчистов, последней надеждой рейха. Поскольку уже точно известно, что сторонники заговора есть не только в сухопутных силах, но и авиации и даже среди высоких чинов гестапо. Не говоря уже об абвере, уголовной полиции, жандармерии и армии резерва. Я выяснил. Ночь не прошла для меня зря. Теперь мы можем с уверенностью доложить фюреру, что ни один военный корабль, ни одна береговая база флота приказ о выполнении плана «Валькирия», как именовали его путчисты, к исполнению не приняли. Об этом я и собираюсь уведомить… через несколько минут, – взглянул гроссадмирал на часы.
– А Париж?
– Что – Париж?
– Фюрера сейчас больше всего тревожит положение во Франции, – подупавшим голосом извинился за назойливость Фосс.
– Ну, это само собой… Уверен, что ваше старание не останется незамеченным. О повышении в чине говорить не буду, тут уж как сложится. Но что касается Железного креста или чего-то в этом роде, – с ироничной легкомысленностью пообещал командующий военно-морскими силами, – то в этом можете не сомневаться.
– Но я вовсе не имел в виду это, – зашелся пунцом военно-морской атташе.
– Не сомневаюсь. Всегда рад видеть вас у себя, адмирал Фосс.
«Как мастерски он сбил с тебя спесь! – швырнул себе в лицо вице-адмирал, оставляя кабинет командующего. – Ведь понял же, что события в Париже куда важнее заверений в том, что «ни один корабль, ни одна база…» Тем более, что это еще не доказано. Быть такого не может, чтобы заговорщики не проникли ни в одну офицерскую каюту, не «купили» адмиральскими погонами ни одного капитана. Просто на первом этапе флот организаторам путча не понадобился – вот и все. А то, что сделано мореманами Кранке в Париже, – уже факт, который никто не сможет подвергнуть сомнению. И вообще зря ты сунулся к Деницу. Нужно было начинать с Геринга или Кейтеля. Лучше всего – Кейтеля, – неожиданно рассмеялся Фосс. – Уж кому-кому, а Кейтелю будет над чем призадуматься, перечитывая списки своих казненных и разжалованных подчиненных.
* * *
Над верхушками сосен медленно разгоралось еще довольно прохладное утреннее солнце. Окаймленное холодными айсбергами-тучками, оно тлело на прозрачно-синем небосводе, словно огромная головешка на остывшем пепелище.
Еще немного поразмыслив над тем, кому из высших бонз рейха выгоднее продать свое сообщение о «взятии Парижа», причем сделать это так, чтобы не испортить отношения с гроссадмиралом Деницем, своим непосредственным шефом, Фосс вновь с грустью взглянул на неяркое балтийское светило. Сколько раз он встречал подобные рассветы, стоя на корабельном мостике. Прекрасные были времена. Уже хотя бы потому, что вокруг тебя – знакомая, понятная тебе стихия, и ты делаешь то единственное, чему посвятил себя и ради чего, возможно, создан. А что делает, кому нужен он здесь, в этом протухшем логове?
Адмирал вдруг понял, что ни к кому он больше не пойдет, ни в какие дворцовые интриги встревать не станет. Все, что он мог сделать для рейха, он сделал – не в пример некоторым. Фосс вновь с остервенением подумал обо всех этих, ошивающихся возле «вольфшанцевских» гальюнов, людишках, и ему отчетливо захотелось в море. Как можно дальше от берегов. Хоть сразу на дно – лишь бы в море…
«Кстати, гроссадмирал что-то там заикнулся о чинах и наградах. Если о событиях в Париже он будет докладывать фюреру с такой же кислой миной, с какой выслушивал меня, да к тому же после никому не нужных заверений в верности военных моряков фюреру и рейху… Самое большее, чего я могу дождаться, так это допроса в гестапо на предмет моей собственной лояльности».
– Может, действительно попроситься обратно на флот? – вслух посоветовался вице-адмирал сам с собой. Но тут же, с присущей ему откровенностью, ответил себе: – Так ведь не решишься. Привыкший к придворным штормам настоящие морские шторма обычно переносит с трудом.
Прежде чем вернуться в свою городскую квартиру, Фосс вновь отыскал глазами утреннее светило. Ему показалось, что, разуверившись во всем происходящем, оно медленно, словно пылающий остов корабля, опускалось назад, в море.
«Позвони-ка лучше адмиралу Кранке, – дал себе Фосс еще один «дельный» совет, – и прикажи, чтобы он опять арестовал все парижское гестапо и СД, а власть передал генералу Штюльпнагелю. Уж тогда-то о тебе вновь вспомнят и в «Волчьем логове», и в Берлине, и даже на флоте. Эта эшафотная популярность и будет тебе истинной наградой»[29].
Правда, он еще помнил те времена, когда популярность на флоте ему создавал Железный крест, врученный лично Гитлером за активную помощь, которую он оказывал в 1936 году испанскому генералу Франко. А планы его военных операций по уничтожению польского военного флота и захвату порта Гдыня изучаются теперь в военно-морских училищах как блестящие образцы военной стратегии. Да и свой собственный Восточный фронт он честно прошел от Прибалтики до Крыма. Так что право на тихую заводь в виде штаб-квартиры при ставке фюрера вполне заслужил.
«И все же… позвони-ка ты Кранке. Почему бы и тебе однажды не покорить этот вечный непокоренный Париж?»
58
Под утро генерал Штюльпнагель вновь уснул. Это был все тот же короткий бивуачный сон, которым военный губернатор не раз имел удовольствие наслаждаться в своем служебном кресле, однако на сей раз никакими снами – ни сумбурно-банальными, ни вещими – высшие силы его так и не одарили. Зато когда он проснулся, то вместе с поданным адъютантом кофе с коньяком и двумя бутербродами на него посыпались такие новости, что вся эта «парижская явь» показалась ему сплошным кошмарным сном.
Как он и предполагал, группенфюрер Оберг комплексами рыцарской чести не страдал. Стоило его черному воинству получить свободу и оружие, как оно вновь принялось за то, ради чего, собственно, и было создано. Уже буквально через час после освобождения Оберг приказал арестовать подполковника Гофакера, который во время подготовки к перевороту являлся связным между группой Штюльпнагеля и группой Ольбрихта. Все то, что невозможно было согласовать по телефону, оба руководителя храбро доверяли преданному подполковнику, словно своему исповеднику.
– Генерал Бойнебург тоже арестован? – встревоженно спросил Штюльпнагель, узнав об этой новости.
– Нет. Я интересовался.
Взглянув на адъютанта, Штюльпнагель обнаружил, что его собственная правая рука мелко дрожит. Как и отвисшая нижняя губа. И вообще это уже было не лицо, а таитянская маска страха…
– Но что будет дальше, господин генерал? Гофакера арестовали прямо на квартире. Вслед за ним взяли полковника Линстона. И еще мне сказали, что Оберг сместил своего, как я понимаю, заместителя, Бемельбурга.
– Ну за смещениями и арестами дело теперь не станет, – отрешенно пророчествовал генерал, с тревогой думая о вернувшейся в Германию семье. – Группенфюрер точно определил, с кого следует начинать. С Гофакера, который знает об этом путче столько, что, зная все это, любой другой на месте подполковника полез бы в петлю.
– Гофакер не решится на это, – скорбно повертел головой полковник Хуберт.
– Не решится, – согласился генерал. И неожиданно вспомнил фразу, пришедшую ему в голову вчера вечером, когда казалось, что успех операции «Валькирия» обеспечен, а потому он отваживался на самые важные шаги: «Решительным нужно быть только тогда, когда ты способен оставаться решительным до конца».
Впрочем, вчера он не придал этой мысли какого-то особого значения. Истинный смысл ее открылся Штюльпнагелю только сейчас: «…когда ты способен оставаться решительным до конца».
Многие ли из тех, кто присоединился к организаторам путча, могли подтвердить, что они в состоянии оставаться настолько решительными? Мог ли утверждать это он сам?
Отправившись к себе на квартиру, находившуюся в том же здании, что и резиденция, Штюльпнагель принял ванну, старательно побрился и сменил белье.
«А ведь ты готовишься к смерти, – сказал он себе, глядя на отражавшееся в зеркале увядшее, посеревшее, совершенно незнакомое и чужое ему лицо. – Не к аресту, а к смерти. Вот чем обернулась вся твоя авантюра. – Еще с полминуты он присматривался к себе, словно психиатр к новому пациенту. – Надо держаться, – объявил он себе то единственное, что способен объявить абсолютно безнадежному пациенту любой из врачей. – И не торопись. Не делай опрометчивых шагов. Возможно, еще не все потеряно. До суда и расстрела генералу Обергу оставалось не более пяти-шести часов. Поспеши он уйти из жизни, вместо него арестами в Париже сейчас бы занимался другой «фюрер». Так что выжди, не торопись…»
Штюльпнагель налил себе рюмку коньяку и, прежде чем выпить, прошелся взглядом по своему домашнему кабинету. Это была даже не комната, а небольшая каморка – генерал терпеть не мог просторных комнат, больше похожих на танцевальные залы, нежели на жилье; по полкам своей, тщательно подобранной библиотеки: на немецком, французском и английском… Многие ли из генералов могли похвастаться способностью читать на основных европейских языках?
Он прощался. Он любил эту комнатушку, интимно тесную, но обставленную таким образом, что все в ней создавало атмосферу рабочего уюта: кресло, диван, книжные шкафы, телефон, вазы… О, вазы – его особое пристрастие. Они везде – на столе, на окнах, шкафах… Ажурные, разноцветные, созданные безвестными мастерами в разных концах света.
Штюльпнагель не считал себя коллекционером. Как не ощущал и особой привязанности к вазам. Не изучал их, не описывал, не интересовался историей появления этого сугубо обыденного комнатного предмета в быте человечества. Просто они почему-то нравились Штюльпнагелю. Он покупал любую, которая бросалась ему в глаза, и, всегда довольный покупкой, нес домой.
– Господин генерал, только что стало известно, что арестован подполковник Линк. Звонила его жена. Она просит вступиться за мужа.
– И вы решаетесь передавать мне подобные просьбы, Хуберт? – укоризненно упрекнул его генерал, выпивая очередную рюмку коньяка. – Вы ведь понимаете, что я уже ничего не смогу сделать ни для Линка, ни для остальных офицеров.
– Поэтому-то, когда позвонил один из друзей Гофакера, я и не решился обратиться к вам. Но отказать Ирме Линк я не мог.
– Еще бы! – хмыкнул генерал. – Отказать Ирме Линк. Эта заводная золотоволосая красавица умудрялась сводить с ума каждого, кто набирался глупости очарованно взглянуть на нее. – Находитесь у телефона, Хуберт, должны позвонить из Берлина. И вот еще что: прикажите водителю готовить машину.
– Для поездки в Берлин? – осипшим голосом поинтересовался адъютант.
Генерал помолчал, затем, прокашлявшись, неохотно подтвердил:
– Будем считать, что в Берлин.
– «Будем считать»? – машинально повторил адъютант, окончательно разочаровываясь в таком влиятельном и грозном еще вчера генерале.
Положив трубку телефона, Штюльпнагель вновь налил себе коньяку и, усевшись в кресло, прокрутил в памяти события минувших вечера и ночи. Нет, он не выискивал в этих воспоминаниях чего-то такого, что могло бы послужить ему оправданием. Знал, что никакого оправдания по поводу свершившегося попросту не существует в природе.
Другое дело, что его немного интриговало, почему ни адмирал Кранке, ни группенфюрер Оберг до сих пор не попытались арестовать его. Неужели только потому, что не получили соответствующего приказа? Ах, как они великодушно осторожны. Что же тогда фюрер, Кейтель? Решили, что арестовывать военного губернатора Франции прямо здесь, в Париже, слишком рискованно? И не столько в военном, силовом, сколько в политическом плане.
Штюльпнагель понимал, что это не должно успокаивать его. Он знал, как будут развиваться события. Сегодня же, в крайнем случае, завтра поступит вызов из Берлина. И вряд ли ему дадут добраться с пистолетом в кобуре даже до столицы рейха, не говоря уже о ставке фюрера. Так что он уже знал свою судьбу. И ради этого Штюльпнагелю даже не нужно было чувствовать себя пророком.
Генерал взялся за бутылку, чтобы в третий раз наполнить рюмку, когда в дверь постучали и в кабинет заглянул часовой.
– Господин генерал, к вам группенфюрер и генерал-лейтенант полиции Оберг.
– Кто?!
– Оберг, – пожал плечами рослый плечистый гвардеец, один их тех, что были откомандированы ему вчера из казармы Военной школы. – Высший фюрер СС и полиции. Он просит принять.
– «Просит принять», – побледнела переносица Штюльпнагеля. – Уж он-то, конечно, умеет «просить». Кстати, генерал прибыл один или в сопровождении?
– Вошел один.
Часовой с удивлением и растерянностью наблюдал, как, поднявшись, генерал достал из кобуры пистолет, дослал патрон в патронник и вложил назад в кобуру. Потом ту же процедуру проделал с пистолетом, который находился у него в столе, но теперь уже положил его в карман.
– Пригласите-ка его, – уверенно сказал часовому. – Только будьте настороже. И никого, кроме генерала, не впускать. В случае чего, открывайте огонь.
– Но это же генерал СС.
– Именно поэтому, – голос Штюльпнагеля стал суровым, словно на плацу. – Будьте готовы прийти мне на помощь. Надеюсь, вы слышали о заговоре против фюрера.
– Так точно, господин генерал.
– Вот и действуйте.
«А еще надеюсь, что ты, солдат, не успел разобраться в том, что главный заговорщик здесь – я», – мысленно проговорил Штюльпнагель, отправляя гвардейца в прихожую, за запертой дверью которой нес охрану этот ничего не ведающий, ни в чем толком не разбирающийся и ни в чем не повинный ефрейтор.
59
Оберг явился к нему в цивильном. Мешковатые брюки, мешковатый пиджак, примятая шляпа, которую генерал от СС уже держал в руке, оголив небольшую, с суженным, словно гребень на каске пожарного, черепом, голову, окаймленную большими прыщавыми залысинами.
«Да у него на лице написано, что он агент тайной полиции, – изобличил группенфюрера Штюльпнагель, окинув взглядом невыразительную, расхлябистую фигуру Оберга. До сих пор он видел его только в эсэсовском мундире, который делал абрис группенфюрера более четко очерченным. – Как этот человек сумел добиться карьеры в гестапо, вообще в СС?»
– Вам придется извинить меня, генерал-полковник, за вторжение, – бледноватое лицо Оберга способно было выражать только абсолютное отсутствие какого-либо выражения. Что оно с успехом и демонстрировало сейчас, удачно сочетаясь с таким же безынтонационным, невыразительным голосом.
– Придется. Садитесь, группенфюрер. Немного французского коньяку?
– Не откажусь.
Они выпили без тоста, каждый думая о чем-то своем. Молчание затягивалось, и Штюльпнагель понял, что Оберг не знает, с чего начать.
– Ходят слухи, что в городе уже начались аресты, – взял он инициативу в свои руки. Это давало хоть какой-то шанс «сохранить лицо». – Кажется, ваши ребята уже принялись за свое привычное дело.
– Аресты, насколько мне помнится, начались не сегодня утром, а вчера вечером. Если вас не затруднит, еще коньяку. – Он подождал, пока хозяин наполнит его рюмку, вновь осушил ее и задержал взгляд на так и не наполненной рюмке военного губернатора. – Они начались, позвольте вам напомнить, генерал, еще вчера. И слава богу, что у меня и моих людей хватило здравого смысла не превращать это глупое недоразумение в кровавую бойню. Представляете, скольких своих мы переложили бы, превращая друг друга в мишени? Да к тому же на радость англо-американцам и партизанам французского Сопротивления.
– Вы называете происходящее недоразумением?
– У вас есть основания назвать иначе?
Штюльпнагель помолчал, стараясь подобрать наиболее подходящее определение. Однако ничего толкового на взбудораженный ум его не приходило.
«Неужели он готов замять всю эту историю, – недоверчиво поглядывал на группенфюрера, – отделавшись несколькими арестами второстепенных исполнителей? Но из каких побуждений? Чтобы скрыть позорную капитуляцию гестапо и СД?»
– Всего лишь уточнил бы: оно завершилось бы судом.
– Так называемым. Учрежденным лично вами и вам подчиняющимся. А потом пришла бы очередь остальных эсэсовцев. Ведь не собирались же вы создавать для них отдельный концлагерь?
– Они тоже были бы преданы суду.
– Или переданы англо-американцам, которым вы готовы были сдать Париж без боя. Станете возражать?
«Если Оберг попытается арестовать меня, пристрелю вначале его, потом себя, – твердо решил Штюльпнагель, незаметно нащупывая левой рукой пистолет, который предусмотрительно положил в левый карман.
– Послушайте, группенфюрер, давайте проясним ситуацию. Вы пришли сюда с мыслью арестовать меня, как уже арестовали подполковника Гофакера и полковника Линстона?
– С удовольствием сделал бы это.
– Но ждете приказа из Берлина?
– А зачем? Вы такой приказ получали, когда решались арестовывать меня?
– Конечно, получал, – спокойно ответил Штюльпнагель. – Иначе не стал бы прибегать к подобным мерам.
– Значит, в самом деле был приказ? – замялся Оберг, не ожидая такого поворота. То, что Штюльпнагель действовал не по своей воле, а во исполнение приказа, от кого бы он ни исходил, как-то сразу меняло в понимании Оберга отношение к его поступку.
– Который я, как человек военный…
– Позвольте, но ведь он наверняка исходил от давно выставленного из армии генерал-полковника Бека, – растянул бледновато-синюшные губы Оберг. – А продиктован бывшим генералом Геппнером. Которому запрещено даже одевать форму. Станете возражать?
– Он поступил из штаба Фромма. От Ольбрихта.
– От Ольбрихта? Заместителя командующего? Кто бы мог предположить?
– Вы, конечно, ждете приказа, который должен поступить от фельдмаршала Кейтеля? Надеюсь, тоже бывшего.
– Нет. Я ничего не жду и не стану арестовывать вас. В этой грязной истории намерен предстать перед Германией в роли жертвы. И не думайте, что это такая уж завидная роль. Мое руководство не оставит без внимания тот факт, что вашим людям удалось слишком быстро арестовать такую массу сотрудников гестапо и СД.
– Но еще больше оно не простит вам, что сумели допустить сам этот переворот, прозевать заговор. Это вы хотите сказать?
– Думаю, нам стоит поговорить о вас, – осадил его Оберг. – Я в лучшем положении. Станете отрицать? Уверен, что сегодня же последует вызов вас в Берлин. Только что я получил некоторую информацию о том, что происходит сейчас в столице. Уже арестованы сотни офицеров и генералов. Начались допросы. Кое-кто расстрелян. Фюрер потребовал для всех участников путча самого сурового наказания. Поверьте моему предчувствию, что расстрел для них будет равнозначен помилованию. Смерти некоторые арестованные будут выпрашивать у следователей гестапо, как милостыню. Станете возражать?
– Кто посмеет усомниться в профессионализме палачей из гестапо? Господин группенфюрер, давайте не омрачать свою жизнь предчувствиями, а лучше обратимся к моменту истины. Вы пришли сюда, чтобы дать мне важный совет: застрелиться, не утруждая ваших берлинских коллег протоколами, допросами и пытками?
– Я пришел сюда только для того, чтобы заявить, что не собираюсь давать вам решительно никаких советов, – медленно, монотонно просветил Штюльпнагеля группенфюрер СС. – Даже бежать к англичанам или американцам – и то я бы вам не советовал. Поскольку, и те и другие с величайшей радостью передадут вас трибуналу генерала де Голля или еще кого-то из вождей французского Сопротивления. И тогда уж вы будете завидовать черной завистью тем, кого пытают в камерах гестапо. Станете отрицать?
– Ради такого совета тратить время на поездку сюда действительно не стоило – тут я с вами согласен.
– Но в то же время, – продолжил изложение своих философских казусов Оберг, – я не стану советовать вам не ехать в Берлин. Хотя, казалось бы, совершенно не в моих интересах, чтобы о случившемся здесь в ночь с двадцатого на двадцать первое июля высшее командование СС могло судить, исходя из вашей версии. Согласно которой парижское гестапо, СД и полиция – не что иное, как стадо баранов, давшее загнать себя под нож без единого выстрела. То есть, что мы с досточтимым доктором философии Гельмутом Кнохеном – двое идиотов, не способных учуять у себя под носом огромную организацию заговорщиков. Правда, Кнохен относится к этому более философски – на то он и доктор философии. В то время как я, подобно вам, чту философию приказа.
– Я понял вас, господин Оберг, вы пришли сюда, чтобы решительно «не советовать» мне застрелиться, не выходя из своей квартиры. Ну еще разве что в служебном кабинете. Ради поддержания традиции.
– Можно устроить и так, что вы погибнете геройской смертью – от пули бойца Сопротивления. Вот увидите, среди ваших единомышленников немало найдется таких, кто предпочтет погибнуть на передовой, от пуль партизан, англичан или, в худшем случае, в автокатастрофе…
– Это их дело, – жестко ответил Штюльпнагель, отлично понимая, что Оберга больше интересуют не его спасение или смерть, а его молчание.
– …Значит, у вас уже существует своя версия событий двадцатого июля? Я верно понял вас, группенфюрер?
– Абсолютно верно.
– Так изложите ее. Так, для общей ориентации.
– Она не будет слишком жестокой по отношению к вам, человеку, столько сделавшему для того, чтобы в нашем губернаторстве во Франции был установлен настоящий арийский порядок, – поднялся Оберг, давая понять, что настало время откланяться. – Это все, что я могу обещать вам, кроме уже ранее данного мною обещания – не прибегать ни к каким советам, – то ли передумал группенфюрер, то ли просто не готов был к изложению своей, особой версии.
Оберг уже направился к двери, когда вновь, словно бомба под столом фюрера, взорвался неестественно громкой трелью телефон. Предчувствуя, что должно произойти что-то любопытное, группенфюрер остановился за прикрытой дверью.
– Что? – услышал он раздраженный голос Штюльпнагеля. – Вызов из Берлина? Отбыть сегодня же? – генерал стоял спиной к Обергу и решил, что тот уже вышел. – Подпись Кейтеля? Нет, Гиммлера? Понятно, Хуберт, понятно. Что ж, вызов есть вызов… Позаботьтесь о машине.
Штюльпнагель положил трубку и оглянулся. Заметив это, группенфюрер громко, вызывающе расхохотался и только тогда хлопнул дверью.
60
Штюльпнагель в последний раз взглянул на отель «Мажестик», в котором располагался штаб Верховного командования германскими войсками во Франции, и, прежде чем сесть в свой «опель-адмирал», решил пройти два квартала по авеню Клебер.
– Может, мне все же стоит отправиться вместе с вами, господин генерал? – тушуясь, предложил шедший вслед за ним адъютант, увидев, что машина обогнала их и остановилась шагах в десяти. – Так или иначе вам понадобится охрана.
– Она уже не понадобится мне, полковник.
– В любом случае я оказался бы полезен вам в Берлине.
– Вряд ли.
– К тому же, честно говоря, мне просто страшно оставаться здесь без вас.
– Это звучит более убедительно, чем все предыдущие аргументы.
Полковник взглянул на него с надеждой. Ему показалось, что генерал все же решился взять его с собой. И был удивлен, когда фон Штюльпнагель неожиданно заявил:
– Возвращайтесь-ка, полковник, в штаб и, если хотите, делайте вид, будто ждете моего возвращения. Какое-то время вам это будет удаваться. Хотя на самом деле не ждите.
– Вы считаете, господин генерал, что в Берлине вас могут?..
– В любом случае в вашем распоряжении окажется несколько часов. Как распорядиться этим временем – решать только вам одному. Но учтите: через несколько часов за вами могут прийти, как пришли за моим бывшим адъютантом – подполковником Гофакером.
– В таком случае мы должны направляться не в сторону Берлина, а в сторону Нормандии. Только там мы еще можем спастись.
Штюльпнагель одарил своего адъютанта снисходительно-сочувственным взглядом, первым отдал честь и неуклюже, словно новобранец, повернувшись, пошел к открытой водителем дверце.
Он уже не видел, с какой отчаянной ненавистью смотрел ему вслед адъютант. Так могут смотреть только тяжелораненые, видя, как товарищи убегают, оставляя их на поле боя, врагам на растерзание.
– Будьте вы прокляты за то, что втянули нас в эту авантюру! – вдруг метнул он в спину генералу, не сразу сообразив, что произносит эти слова вслух. – Конечно же, вы побежите не в сторону Рейна, а в сторону побережья. А что делать всем нам? Под гильотину?
Штюльпнагель никак не отреагировал на это проклятие, хотя конечно же, расслышал его.
«Сколько людей проклинает сейчас меня по всей оккупированной зоне Франции! – с горечью подумал он, закрывая дверцу и приказывая водителю двигаться в сторону городка Мо, что к северо-востоку от Парижа. – Сколько судеб, сколько блистательных карьер рушится сегодня под подобные проклятия людей, убежденных, что Штюльпнагель, конечно же, спасется. Он такой исход предвидел».
Пока водитель петлял по узким улочкам французской столицы, генерал внимательно наблюдал, не приставил ли к нему группенфюрер Оберг хвост. И с удивлением открыл для себя, что никакой слежки нет.
«Да они уже просто-напросто не принимают тебя в расчет! – гневно швырнул он себе в лицо. – Как пленного, бредущего в тыл врага с высоко поднятыми руками. Ты сдался еще вчера, еще ночью. Вместо того, чтобы рискнуть, ответить на ультиматум адмирала Кранке таким же ультиматумом и ввести в игру еще несколько частей, находящихся в окрестностях Парижа, ты трусливо выполнил все, чего, от тебя потребовали. Так что прими эти проклятия как приговор всех, остающихся на этой земле».
На выезде из Мо мотор внезапно заглох. Водитель опасливо взглянул на генерала, вышел из машины и принялся выяснять, что там с ним произошло.
– Мы не сможем двигаться дальше, господин генерал, – доложил он буквально через две-три минуты. – Слишком серьезная поломка. Придется отбуксировывать машину в гараж.
– Вас следовало бы здесь же пристрелить, унтер-офицер, – проговорил Штюльпнагель, неохотно оставляя «опель-адмирал». Но мысленно сказал себе: «А ведь это вещий знак, своеобразное знамение. Водитель здесь ни при чем. Он здесь решительно ни при чем. Само небо пытается спасти тебя. Прервать твой путь в Берлин – и спасти… Или немедленно погубить, призвав к себе», – рассудительно добавил он, имея в виду тот исход, о котором слишком призрачно намекал группенфюрер Карл Оберг.
Но тот же ангел-хранитель, который заставил заглохнуть мотор его машины, послал Штюльпнагелю военный грузовик, в котором рядом с водителем сидел капитан. Увидев генерала, стоящего у машины с открытым капотом, капитан приказал своему водителю остановиться и осмотреть мотор «опель-адмирала». Не выдержав, он и сам полез под капот.
– Странно, что вы вообще смогли дотащиться сюда от отеля «Мажестик», – объявил он через пару минут. – Машина должна была заглохнуть еще на авеню Клебер. Это я говорю вам как инженер-автомобилист.
– Что же делать? – беспомощно пробормотал Штюльпнагель.
– Часть, в которую мы направляемся, находится в десяти минутах езды. Оттуда сможем связаться с Верховным командованием войск во Франции. Или потребовать машину от командира части. А вашу возьмем на буксир. Капитан уступил свое место в кабине Штюльпнагелю, а сам пересел в «опель-адмирал».
– Что слышно, ефрейтор? – попытался разговорить водителя командующий.
– Вам виднее, господин генерал, – довольно безразлично ответил тот. И Штюльпнагеля задело, с каким спокойствием и безразличием ефрейтор говорит с военным губернатором Франции.
– Вы слышали о том, что произошло сегодня ночью в Париже? – все же осторожно поинтересовался он.
– Говорят, были стычки между армейскими офицерами и эсэсовцами. Вначале армейские генералы арестовывали эсэсовских, затем наоборот. Извините, что слышал, то и говорю.
«Вот так события этой страшной ночи и предстанут – в слухах и сплетнях – перед сознанием миллионов немцев, – с горечью подумал Штюльпнагель. – Стычки между армейскими и эсэсовскими офицерами – только и всего. Вначале армейские арестовывали эсэсовских, затем наоборот. И даже не станут упоминать при этом твою фамилию».
61
Прошло почти два часа, прежде чем из штаба прибыла другая машина и Штюльпнагель приказал своему водителю сесть за ее руль. Истинному хозяину он не доверял сейчас еще больше, чем водителю своего «опель-адмирала». Хотя опасаться ему уже, собственно, было нечего.
Солнце достигло зенита, однако день по-прежнему оставался нежарким. Ветер, прорывавшийся между невысокими холмами, вершины которых зеленели посреди небольших деревушек, словно купола храмов, придавал ему то райское благолепие, при котором не замечаешь ни жары, ни самого солнца, сосредоточиваясь только на красоте окрестных пейзажей, мудрости и величии самой жизни.
Штюльпнагель жадно всматривался в проносящиеся мимо строения, в излучины речушек, даже в покрытые чадным тленом руины… Он уже твердо решил, что уйдет из жизни, обязан уйти; но лишь сейчас, когда это решение окончательно созрело, понял, как ему не хочется расставаться с этим буйственно-военным, страшным и в то же время прекрасным миром.
– Приближаемся к Вердену, господин генерал, – предупредил водитель.
– Знаю. Воевал в этих местах.
Унтер-офицер удивленно посмотрел на командующего.
– Не в эту войну, конечно, в первую мировую. Тогда я был всего лишь капитаном.
– Понятно, – сочувственно поддержал его водитель, восприняв воспоминание Штюльпнагеля как тоску по молодости.
– Сверни-ка вон на ту дорогу.
– Но она…
– Приведет нас к Вашерошвилю, к берегам Мааса.
– Слушаюсь, – слишком запоздало подчинился водитель, глядя при этом не на дорогу, а на генерала. У него уже появилось предчувствие, что этот рейс до Берлина закончится где-то у германской границы.
Аккуратные прямоугольники полей. Поросшие травой воронки у дороги, оставшиеся – трудно понять – с этой или еще с той войны. Холмистая гряда вдоль берега реки, похожая на покрытую кустарником волну песчаных дюн.
Теперь Штюльпнагель уже начал узнавать некоторые места. Вон по склону пролегает рубец окопа, в котором держал оборону их истрепанный батальон. Чуть левее дороги, на плоской возвышенности стояла батарея, прикрывавшая их во время вражеской атаки огнем прямой наводки… Как жаль, что он не побывал здесь хотя бы дня три назад.
На изгибе реки, где запыленная асфальтовая дорога подступала почти к берегу, Штюльпнагель попросил водителя остановить машину и, приоткрыв дверцу, несколько минут сидел неподвижно: закрыв глаза и обессиленно опустив руки на колени.
«Затеряться бы где-нибудь здесь. Забраться в самый глухой хуторок, построить шалашик на берегу речушки или озерца. Да хоть подаянием жить, но… жить!» – простонал он, скрежеща зубами.
– Вам плохо? – встревожился водитель.
– Очень.
– Тогда поедем. Вон впереди деревушка. Или давайте вернемся в Верден. Приказывайте, господин генерал.
– Поздно, унтер-офицер. Поздно.
– Простите, что вы имеете в виду?
«А ведь он прекрасный парень, – неожиданно проникся к нему седовласый генерал почти отцовской нежностью. – Он еще чтит во мне генерала, еще волнуется и пытается спасти. Он – последний из людей, кто видит меня живым и пытается спасти…»
– Поздно, говорю. Все в прошлом. Это хорошо, что мы оказались в этих местах. Какие райские ландшафты.
– Я помню: вы здесь воевали, – растерянно пробубнил водитель, не зная, чем помочь пятидесятивосьмилетнему генералу, который ему, двадцатилетнему, уже казался глубоким старцем.
– Многие из тех, кого я знал, кем командовал – погибли здесь еще тогда, тридцать лет назад. Странно, что я не оказался в их числе. А ведь был уверен, что чаша сия меня не минует. Почему-то казалось, что эта река будет последней в моей жизни. Впрочем, так оно и вышло, предчувствие не обмануло.
Он пожал руку водителя у самого локтя. Это был жест искренней благодарности человеку, разделившему с ним последние минуты жизни, терпеливо выслушавшему его неуклюжую, безалаберную, как сама солдатская жизнь, исповедь.
Выйдя из машины, Штюльпнагель поднялся на небольшой, увенчанный плоской вершиной холм, пологий склон которого спускался прямо к воде, и последним прощальным взглядом обвел реку.
– Унтер-офицер, – позвал водителя, не отводя взгляда от почти застывшего плеса.
– Слушаю, господин генерал.
– Поезжай вон к той деревушке и жди меня там. Я немного пройдусь, самое время размять ноги.
– Может, лучше я подожду здесь, а вы пройдетесь, – неуверенно предложил водитель, еще острее предчувствуя что-то недоброе. Он-то ведь хорошо знал, что его генерал является главным организатором путча в Париже и что этой ночью он и его штаб начисто проиграли. Лейтенант, отдававший приказ выпустить его машину из гаража, так прямо, без обиняков, и сказал ему:
– В Берлин поедешь. Сдавать нашего генерала.
– Как «сдавать»? – не понял он.
– А так, прямо в руки гестапо. Или СД. Это уж они там сами разберутся. Но только опасаюсь, что и нам после него не поздоровится. Загремим на фронт, и дай бог, чтобы не на Восточный.
Он знал о неудачах генерала, знал, что свое первое и последнее сражение с гестапо тот проиграл начисто, и, как бывалый солдат, понимал: в такие минуты человека в одиночестве лучше не оставлять. Вызываясь подождать командующего прямо здесь, он по-человечески жалел его, хотя особых причин быть привязанным к нему у унтер-офицера не просматривалось. Штюльпнагель всегда являлся ему строгим, до предела педантичным и суровым. Таким он остался и до последних минут своей жизни.
– Выполняйте приказ, унтер-офицер, – строго напомнил Штюльпнагель и, уже ничуть не сомневаясь, что водитель подчинится, решительно шагнул по склону вниз, к едва заметному речному прибою.
«Решительным нужно быть только тогда, когда ты способен оставаться решительным до конца… – опять вспомнилась ему собственная мысль. И она была последней, посетившей его в тот нежаркий полдень на берегу Мааса. – Ты должен был погибнуть еще тогда, в первую мировую, но Господь спас тебя. И ты достаточно пожил. Уж тебе-то, генерал Штюльпнагель, сожалеть не о чем».
Выхватив пистолет, генерал спокойно, деловито проверил его, приготовил и, не затягивая прощания, ни секунды не колеблясь, выстрелил себе в висок. Из этого мира он уходил с тем же высокомерным хладнокровием, с каким прошел по нему.
Водитель уже тронул машину, но, услышав выстрел, затормозил, выскочил из кабины и бросился к возвышенности.
Генерал лежал, окунувшись лицом в реку, словно прилег напиться. Вся голова его была окровавлена, а вокруг нее медленно расплывался по стальной серости плеса небрежно очерченный огненный нимб.
– Ну зачем же здесь, господи?! – до ужаса потрясенный упрекнул его водитель. – Зачем?!
Он не выяснял жив ли генерал, мертв ли. Подхватил, затащил в машину и, развернувшись, погнал в сторону Вердена. Знал бы он, как потом спасенный, но изувеченный генерал будет проклинать его за это христианское милосердие.
Врачи верденского военного госпиталя колдовали над самоубийцей так, как не колдовал еще никто и ни над кем со времени сотворения Адама. Они спасали жизнь генералу Штюльпнагелю, как величайшую драгоценность человеческой цивилизации. Даже не догадываясь, что еще не до конца оправившегося пациента гестаповцы вырвут из больничных бинтов и заботливых рук медсестер, чтобы швырнуть в руки председателя Народного суда Роланда Фрайслера, который с величайшим удовольствием отправит Штюльпнагеля, совершенно ослепшего и беспомощного, на виселицу.
И сколько раз в течение всего этого месяца мучений Штюльпнагель искренне сожалел, что не прислушался к тому совету, которого группенфюрер Оберг «принципиально не давал» ему.
62
Женщина, с которой Гиммлер столкнулся в приемной фюрера, показалась ему знакомой. Задевая плечом предплечье рейхсфюрера, эсэсовка лишь мельком взглянула на него, но Гиммлеру было достаточно этого, чтобы он вспомнил, что когда-то уже видел эти светловато-русые волосы, элегантно выбивающиеся из-под кокетливо насаженной на голову черной пилотки; это матово-белое, почти безжизненное лицо, которое грешно было называть красивым, как грешно любоваться красивой посмертной маской.
Прежде чем войти в кабинет фюрера, Гиммлер оглянулся и увидел, что, отойдя к двери приемной, гауптштурмфюрер тоже оглянулась и лишь тогда вскинула руку в молчаливом приветствии. Очевидно, из кабинета канцлера она вышла в таком состоянии, когда замечать кого-либо, пусть даже своего эсэсовского бога, ей уже было необязательно.
«Посмертная маска, – неожиданно сработало сравнение, которое пришло Гиммлеру на ум, когда он заметил лицо эсэсовки. – Да ведь это же та, из одного из лебенсборнов[30]…»
– Гауптштурмфюрер доктор Эльза Аленберн, – с призывной улыбкой уличной девки напомнила ему гауптштурмфюрер, не обращая внимания на присутствие в приемной личного секретаря, статуэтно застывших по обе стороны двери охранников и какого-то летного генерала.
– Вот-вот, доктор… – несколько растерянно признал ее рейхсфюрер. – Кажется, мы не завершили тот наш давнишний разговор. Хотя ваша идея показалась мне…
– Она не могла не показаться, поскольку эта идея способна захватить любого, кто думает сейчас о будущем СС, об основах Франконии, – мгновенно посуровело лицо коменданта лебенсборна.
Гиммлер осенил ее свинцовой мутностью своих очков и что-то растерянно промямлил. Вроде того, что да, естественно, Франкония… Но знала бы эта эсэсовка, как далек он был сейчас от эйфорической утопии «страны верных паладинов фюрера», и насколько весь послепутчевый, зависший на кровавых крючьях тюрьмы Плетцензее[31] (здесь, в объятиях председателя Народного трибунала Фрайслера[32] вырождалось множество древних германских родов, чуть ли не весь цвет генералитета) рейх напоминал ему теперь один огромный дьявольский «лебенсборн».
– Если позволите, я подожду вас, рейхсфюрер… – прекратила его мучения доктор Аленберн. – Мне кажется, у вас возникли ко мне вопросы.
– Как и у фюрера, – мрачно подстраховался Гиммлер. Ослепительная улыбка коменданта лебенсборна в приемной фюрера, в присутствии нескольких случайных свидетелей была ему явно ни к чему. – Я бы просил вас, гауптштурмфюрер, зайти ко мне через час.
Гитлер прохаживался по кабинету шаркающей походкой. Сейчас, со спины, когда не виден был военный покрой его френча, фюрер казался уставшим, беспомощным старцем, а сам френч вполне мог сойти за короткую пижаму.
Фюрер отдалялся от Гиммлера, от самой двери, и это замедленное шествие длилось целую вечность, вызывая у рейхсфюрера досадное осознание впустую потраченного времени, трату которого он с каждым днем осознавал все острее.
– Да, рейхсфюрер, да… Все это происходит именно так, – произнес канцлер Германии, все еще не достигнув своего кресла. – Мы можем предполагать что угодно. Но у высших сил свое видение нашего мира и свое понимание нашего исхода. И самое важное для нас заключается не в том, чтобы предугадывать решения высших сил, а в том, чтобы постичь высший смысл всего происходящего с нами в этом году, в этот день, сейчас…
– Вы абсолютно правы, мой фюрер. – Ответ солдафона, который ни к чему не обязывал рейхсфюрера СС. Но ведь и Гитлер должен был понимать, что он не в состоянии вот так, сразу, войти в русло его размышлений.
Фюрер остановился, одной рукой опираясь о накрытый большой картой стол, другой – о подлокотник кресла, и в такой непривычной, старческой позе прислушался к словам магистра эсэсовского ордена.
– Завтра начнется суд над генералом Штюльпнагелем, – проговорил он безо всякой связи с тем, что провозглашал минутой раньше. – Одним из этих, запоздавших на прием к Фрайслеру. Генерал пехоты. Командующий войсками во Франции. Человек, в руках у которого был весь Париж… Но которому и этого показалось мало. – Серовато осунувшееся лицо фюрера исказила мстительная, желчная гримаса человека, оскорбленного в лучших своих чувствах. Сколько таких оскорблений пришлось пережить ему от предательства фельдмаршалов Витцлебена, Роммеля, Клюге, генералов Бека, Ольбрихта, Фромма, Шпейделя, Геппнера…
– Он должен пройти через это чистилище чести, как все остальные, – подтвердил Гиммлер.
– Не знаю, медики считают, что он вполне готов предстать перед судом. Но если медики так считают… – вдруг засомневался фюрер, как бы испрашивая совета. Он только что прослушал сводку о мощном наступлении дивизий генерала Монтгомери, уже вырвавшихся с нормандского плацдарма и устремившихся к Парижу.
«Очень неудачное время мы выбрали для суда», – молвил он себе.
Само предположение о том, что не сегодня, так завтра Париж, а затем и вся Франция окажутся в руках англо-американцев и французские полки ринутся к границам рейха, приводило Гитлера в почти паническое уныние, которое заставляло по-новому взглянуть на весь окружающий его мир. Конечно, где-то там, в далекой России, красные упорно, один за другим освобождали свои увядшие в руинах города и республики. Но это одно дело. А потеря Франции – совершенно другое.
Только позавчера ему доложили, что одна из самых несокрушимых дивизий СС – «Рейх» – уже потеряла в боях за Францию более 70 процентов своего состава. Он ужаснулся. Эти потери невосполнимы. Отборные, закаленные… Если так пойдет и дальше, от «Рейха» останутся лишь название, штандарт и два десятка деморализованных эсэсманнов[33]. Какими новобранцами, недорослями из фольксштурма он заполнит такую брешь?
«Хоть бы фюрер не заговорил о событиях во Франции», – подумалось в это время Гиммлеру. И только страх навлечь на себя «парижскую драму» заставил его поддаться сомнениям Гитлера:
– Так, может быть, и не стоит устраивать суд над этим Штюльпнагелем? Все основные участники заговора давно осуждены. Генерал, говорят, совершенно слеп. Да и поднимать вопрос о том, как случилось, что командующий войсками во Франции оказался… – рейхсфюрер вдруг осекся на полуслове и просветленно взглянул на фюрера.
– Договаривайте, Гиммлер, договаривайте. Даже командующий группой войск во Франции генерал Штюльпнагель оказался предателем. Это вы хотите сказать? А что бы мы сказали миру, если бы на одном из крюков в Плетцензее пришлось вешать Роммеля? Клюге, наконец, главнокомандующего войсками Западного фронта.
– Вы правы, мой фюрер. Но, думаю, Геббельс мог бы взглянуть на ситуацию несколько иначе. Наши неудачи во Франции во многом объясняются именно тем, что Штюльпнагель оказался предателем. Мог ли всерьез заботиться об обороне французского побережья генерал, который как раз накануне высадки ждал сигнала «Валькирия» и готовился к предательским переговорам с англичанами? Да они просто-напросто никогда не простили бы ему упорного сопротивления.
Только сейчас едва заметным движением руки Гитлер указал ему на ближайшее кресло у приставного стола и вновь пристально посмотрел на рейхсфюрера.
– А ведь вы пришли сюда с твердым намерением уговорить меня отменить суд над Штюльпнагелем. Разве не так?
– Мне казалось, что все можно закончить лагерным лазаретом, в котором генерала «долечивали» бы лучшие врачи-крематорщики.
– Но получилось наоборот. Именно вы укрепили меня в решении не отменять суд. Пусть этот мясник Фрайслер вершит свою кровавую мстительную ненависть.
– Теперь уже пусть.
– Поверьте, Гиммлер, я сожалею, что не смогу увидеть, как вместе со Штюльпнагелем вздергивают этого… фон Клюге. – «Фон» Гитлер произнес с такой брезгливостью, словно в дворянской приставке заключалась сама суть мерзопакостности фельдмаршала, которая и привела его к измене.
Но Гиммлер понимал фюрера. Слишком много этих, пишущихся через «фон», собралось в коллекции Фрайслера – Йорк фон Вартенбург, фон Кляйст, фон Шваненфельд, фон Тресков… К сожалению, Тресков – тоже. Этого генерала ему было искренне жаль. Талантливейший генерал. Истинный аристократ. Истинный в отличие от многих, для кого приставка «фон» оставалась всего лишь семейным недоразумением. Он и из жизни ушел, как подобает истинному германскому генералу.
– Таков перст судьбы нашей, – неожиданно подвел итоги его раздумий фюрер. – Оказалось, что мы с вами, наше национал-социалистическое движение должны были пройти и через это.
63
– Заключенный Фромм, – доложил Родль. Однако Скорцени сразу же подчеркнуто исправил его «ошибку».
– Генерал-полковник Фромм. Входите, генерал, входите.
Переступив порог кабинета Скорцени, бывший командующий армией резерва с победной ненавистью взглянул на его адъютанта: «Здесь меня все еще считают генералом… И вам следовало бы помнить об этом».
– Весьма признателен, господин штурмбаннфюрер, что сочли возможным…
– Садитесь, господин генерал, – подчеркнуто буднично обронил Скорцени. Он встретил бывшего командующего стоя, и это тоже не осталось незамеченным генерал-полковником. – Я задержу вас очень ненадолго. Всего несколько вопросов.
Пока Фромм пересекал довольно просторный кабинет начальника диверсионной службы Главного управления СД, Скорцени успел заметить, как сильно сдал генерал за эти несколько дней заточения. Мощная кряжистая фигура увяла и поникла в плечах, лицо посерело до осенней землистости, а левая, обращенная к нему щека конвульсивно подергивалась.
«Обреченные начинают умирать задолго до восхождения на эшафот, удушая себя петлей животного страха. Лишь немногие доходят до настоящей петли, оставаясь достойными величия собственной казни».
– Я долго добивался того, чтобы мне позволили встретиться с вами. Вы один их тех высоких чинов службы безопасности, кто был в тот вечер на Бендлерштрассе, кто непосредственно подавлял путч… Поэтому вы знаете о моей роли в его… – Фромм замялся, подыскивая нужное слово. Прибегнуть к термину «подавление» он не решился. – …Его пресечении – да, нет?
– Не казните меня своим красноречием, генерал. Я и так чувствую свою ущербность. А что касается ваших просьб, то мне абсолютно ничего не известно о них. Впервые слышу.
Уже взявшись было за спинку кресла, генерал на какое-то время замер и молящим взором уставился на «первого диверсанта рейха». Он не поверил Скорцени. Ему и в голову не приходило, что тот мог вызвать его по собственному желанию, исходя из какого-то своего интереса к его судьбе и вообще к заговору. Единственное, что оставалось несомненным для Фромма, – что его попросту поставили на место.
– Я не собираюсь вести следствие по вашему делу, – продолжал свою психическую атаку штурмбаннфюрер. – Для этого существуют более подготовленные и закаленные – следователи гестапо. Они…
– Это не следствие, господин Скорцени, это издевательство, – едва слышно пробормотал Фромм. Единственное, что оставалось у него до сих пор от некогда самоуверенного генерала Фромма, так это голос – зычный, безапелляционно уверенный. Но Скорцени вдруг показалось, что сейчас он слабодушно отрекался и от своего голоса. Предавал его точно так же, как еще тогда, в ночь путча, а потом во время следствия предавал и продолжает предавать своих единомышленников.
– Мне бы не хотелось, чтобы у вас создавались иллюзии, будто я смогу чем-то помочь вам, господин генерал. Вашим делом занимается специальная следственная комиссия, которую контролирует высокое начальство. Вам это известно не хуже меня.
Фромм заискивающе улыбнулся. Он опять позволил себе не поверить штурмбаннфюреру. На лице генерала не было никаких следов пыток. Зато печать сломленного, униженного зека просматривалась на нем уже довольно отчетливо. «Сломили генерала, – без какого-либо злорадства отметил про себя Скорцени, – сломили старика».
– Я все же надеюсь, что и ваше мнение по делу генерала Фромма будет внимательно выслушано.
– В гестапо с одинаковым вниманием выслушивают всякого – от церковного вора до святого апостола Петра. Только вот сомневаюсь, понадобится ли мне говорить это слово. Следствие, насколько мне известно, ведется вполне объективно.
На этот раз улыбка Фромма озарилась вселенской грустью. Не ожидал он от Скорцени такой самонадеянной канцелярской наивности, не ожидал.
– Речь не об объективности, речь об окончательной истине. О моей жизни и моем достоинстве.
Скорцени философски промолчал, думая о чем-то еще более священном и вечном, нежели жизнь и честь генерала-заговорщика.
– Кстати, это правда, что генерал Штюльпнагель покончил жизнь самоубийством? – пришел ему на помощь сам бывший командующий. Он вдруг испугался, что уже не понадобится Скорцени и тот прикажет увести его.
– Штюльпнагелю некому было помочь. Рядом не оказалось унтер-офицера, который бы выволок его в приемную и пристрелил, как полудохлую артиллерийскую лошадь.
Бывший командующий сник. Он прекрасно понимал, что Скорцени откровенно намекает на убиение им, Фроммом, генерал-полковника Бека, в котором его теперь обвиняли и заговорщики, и тюремщики. И презирали тоже в одинаковой степени.
– Значит, он остался жив? – без какого-либо воодушевления попытался уточнить Фромм.
– Его спасают. И скоро поставят не только на ноги, но и перед судом. За его жизнь медики сражаются, словно за жизнь императора священной Римской империи. Уверен, что у вас – если бы вы воспользовались одним из оказавшихся под рукой пистолетов – все получилось бы профессиональнее.
– Но ведь пригласили вы меня не для того, чтобы учить, как стреляться, – да, нет?
– Для этого я должен был пригласить вас значительно раньше. Но ведь я офицер СД, а не сестра милосердия.
Появился Родль. Низко склонив голову, как и полагается клерку, которому приказано в нужное время доставить нужные бумаги, он положил на стол перед Скорцени черную папку с тисненными на ней золотистым орлом и свастикой. Штурмбаннфюрер вежливо поблагодарил и, забыв о существовании генерала, долго, внимательно изучал ее содержимое.
Фромм ерзал на стуле, покашливал, приподнимался, пытаясь если не выяснить содержимое кондуита[34], то, по крайней мере, напомнить о себе.
– Вы знаете, что содержится в этой папке, генерал? – наконец удовлетворил свое любопытство Скорцени.
– Очевидно, протоколы моих допросов.
– Ну, зачем мне протоколы ваших допросов? – поморщился Скорцени. – Все, что мне захотелось бы узнать о заговоре 20 июля, я узнал бы лично от вас. Разве не так?
– Мне нечего скрывать. Только арест помешал мне сразу подавить заговор. Но как только меня освободили…
– …Вы сразу же поняли, что заговор потерпел поражение, и решили спасать себя, отправляя на тот свет поднадоевших соратников. Зачем повторяться, генерал Фромм?
– Но все не так, уверяю вас, господин штурмбаннфюрер…
Наткнувшись на свирепый взгляд Скорцени, Фромм мгновенно умолк и, ссутулившись, виновато отвел взгляд.
– Вы же не станете утверждать, что не были знакомы с генералом фон Тресковым? Тем самым, что до 1943 года являлся начальником штаба группы армий «Центр», а затем начальником штаба 2-й армии?
– С какой стати я стал бы отрицать это?
– И, конечно же, знали, что еще в марте 1943 года генерал Хеннинг фон Тресков подложил взрывное устройство в самолет фюрера, которым тот возвращался в Берлин после инспекционной поездки в группу «Центр».
Лицо Фромма побледнело так, словно это лично его обвиняют сейчас в том, что мина оказалась в самолете фюрера. Но так и не взорвалась.
– Н-но я н-ничего не знал об этом, – отчаянно завертел головой бывший командующий. – Генерал фон Тресков? Мину? Такого просто не могло быть. Генерал фон Тресков, боевой генерал…
– Ах, эти упоительные сомнения: «Генерал фон Тресков, боевой генерал…» Не может быть другого: чтобы две мины, заложенные двумя людьми в один самолет… – вторую подложил некий Фабиан фон Шлабрендорф, отставной подполковник, адвокатишка – не сработали. Вот это действительно кажется невероятным. А вам – нет?
– Две мины в один самолет? Господи, воля твоя… Фюрера всегда спасало Провидение.
– Если вы имеете в виду жертвенную попытку капитана Акселя фон дем Буше взлететь на небеса вместе с фюрером, когда тот, в ноябре того же сорок третьего, посетит берлинский цейхгауз, где должен ознакомиться с новыми образцами военного обмундирования, то вы правы.
– Никогда не слышал о таком капитане фон дем… как его там?..
– Узнав о неудачах своих единомышленников, ротмистр фон Брайтенбух тоже решил пожертвовать собой. Но более утонченно. Застрелив фюрера прямо в его ставке «Бергхоф», во время совещания. Правда, ротмистру не повезло, его даже не впустили в зал заседаний. Как не повезло и Генриху фон Кляйсту, тоже решившему войти в историю Германии как убийца фюрера… Как вам сказания этого «ветхого завета»? Впечатляют?
Скорцени долго, выжидающе сверлил Фромма леденящим душу взглядом. Однако ничем, кроме страха и раскаяния, ответить ему генерал не мог. Он лишь очумело повторял каждую названную штурмбаннфюрером фамилию, и покаянно вертел головой, показывая, что обо всех этих попытках покушения на фюрера, как и о самих геростратах, слышит впервые.
– Так теперь вы поняли, что это за папка у меня такая, генерал?
– В ней собраны факты, свидетельствующие обо всех известных службе безопасности попытках устранить фюрера, – вытер Фромм посеревшим платочком вспотевший лоб.
– И вы смеете утверждать, что не знали ни об одной из них?
– Клянусь Богом.
Скорцени вновь разочарованно поморщился. Бог в качестве свидетеля по делу… уже давно не вызывал у него никакого доверия.
– Но почему вы не верите мне?!
– Начинаю верить. Теперь начинаю.
Рука Фромма застыла у подбородка. В глазах блеснул лучик надежды. Если Скорцени начинает верить ему, это уже кое-что…
– Мне, понятное дело, легко сейчас давать вам советы. Но если бы вы, решив удариться во все библейские тяжкие, обратились за советом именно ко мне, я не стал бы не только отговаривать вас, но даже выдавать гестапо. Самой страшной казнью было бы для вас, как и для любого фюрероненавистника, знакомство с содержимым этой папки.
– Мне приходится только сожалеть, что я действительно… – начал было раскаиваться Фромм, романтически поддавшись колдовству его лукавства. Однако вовремя спохватился: – Но я никогда не был заговорщиком, никогда не помышлял о терроре против фюрера.
– Вы меня огорчаете, генерал. Наоборот, есть люди, которым кажется, что вы являлись одним из главных заговорщиков. Что в группу каинов, решивших лишить Германию ее фюрера, вы входите еще с тех пор, с весны 1943-го. Если учесть ваш чин и должность, ваше положение и авторитет в армии, это выглядит вполне логично.
Фромм откинулся на спинку кресла и слушал его, полузакрыв глаза.
– Но еще тогда, арестовывая вас на Бендлерштрассе, я понял, что на самом деле никакой вы не руководитель группы «патриотов». Вас унизительно держали на второстепенных ролях. Беку, Ольбрихту и Штауффенбергу вы были интересны лишь постольку, поскольку ваше трусливое замалчивание их деятельности позволяло им иметь крышу над головой, служебные столы и телефоны. С кем бы не заходила о вас речь, все брезгливо отворачиваются от вас как от труса, не способного на решительные действия. Хотя все признают: будь вы решительнее – успех «Валькирии» был бы обеспечен и сейчас Германия уже воевала бы только против России, имея на Западе надежных союзников в лице Америки и Англии.
– Вы говорите об этом в таком тоне, словно упрекаете меня в нерешительности, считая, что это я виновен в провале заговора против фюрера.
– Именно так и считаю. Упрекая…
– Но в таком случае позвольте поинтересоваться, на чьей же вы стороне?
Скорцени воинственно осклабился и, поиграв лиловым шрамом на щеке, захлопнул папку с летописью покушений на фюрера.
– Нет, арестованный Фромм, ваше имя никогда не удостоится быть занесенным в это святописание клятвоотступников, – постучал он пальцем по коленкору. – Вам этого не дано, арестованный Фромм. Для такого полета у вас попросту не хватает фантазии.
Когда Фромма уводили из кабинета Скорцени, он остановился у двери и постоял там несколько мгновений – слегка запрокинув голову и сжав кулаки. Это была поза гневного самобичевания. Только сейчас генерал окончательно убедился, что, присоединись он тогда, в день «Валькирии», к Беку и Ольбрихту… обратись к командирам верных ему частей… фюрер мог бы быть свергнут. Решительно и бесповоротно. А следовательно, судьба Германии сложилась бы совершенно по-иному. Он мог попасть не только на страницы кондуита службы безопасности, но и на скрижали мировой истории. Пусть даже ценой гибели. Но тогда и гибель его представлялась бы явлением историческим.
Скорцени прав: у него не хватило ни мужества, ни фантазии. История таких не терпит. Она презирает их, выбрасывая из седла, как необъезженный рысак – несмелого, хлипкого наездника.
И вот теперь его не принимают в свой стан ни гитлеровцы, ни заговорщики. Он, словно изгой, брошенный на произвол судьбы между двумя враждующими лагерями, – одинаково изгнанный из обоих этих лагерей и одинаково презираемый ими.
Примечания
1
Реальный факт.
(обратно)2
«Коба» – подпольная революционная кличка Сталина.
(обратно)3
Пропагандистская операция «Зильберштрайф» была развернута в мае 1943 года с целью вызвать массовое дезертирство из радов Красной армии. Новинкой ее было то, что в листовках говорилось о Русской освободительной армии. Любопытно, что эта операция была развернута по личной инициативе начальника отдела «Иностранные армии на Востоке» генштаба вермахта генерал-майора Райнхарда Гелена, того самого «серого генерала», который после войны, в 1956–1968 годах, уже в чине генерал-лейтенанта, возглавлял федеральную разведывательную службу ФРГ, попившую немало крови у советской разведки.
(обратно)4
Генерал Г. Гельмих был в то время командующим войсками Остгруппен германского верховного командования. До создания регулярных частей РОА все воинские подразделения, укомплектованные из представителей народов советской империи, в той или иной степени находились в подчинении у командующего войсками Остгруппен.
(обратно)5
«Воля Народа» являлась официальным органом Комитета освобождения народов России (КОНРа) и всего власовского движения. Генерал Жиленков действительно являлся одним из ее соредакторов.
(обратно)6
Экзоген – особая взрывчатка английского производства. В германской армии того времени она почти не использовалась, а хранилась на секретных складах абвера. Применялась исключительно для совершения диверсионных актов. Мина, заложенная фон Штауффенбергом, была безосколочной. Это-то, очевидно, и спасло фюрера от гибели. По одним данным, она была с часовым механизмом. По другим – срабатывала от того, что кислота переедала медную проволочку, и таким образом вводился в действие особый, кислотный взрыватель.
(обратно)7
Генерал-лейтенант Адольф Хойзингер, начальник оперативного отдела генштаба сухопутных войск, в этой передряге уцелел. После войны, в 1957–1961 годах, он еще служил генеральным инспектором бундесвера. Умер в 1982 году.
(обратно)8
Река, протекающая по границе между Австрией и Германией и являющаяся притоком Дуная.
(обратно)9
После создания на севере Италии марионеточного правительства этой территории во главе с Муссолини бывший адъютант Гиммлера обергруппенфюрер Карл Вольф был назначен Гитлером высшим фюрером СС и полиции Италии. Исходя из неограниченности своих полномочий, он, по существу, являлся военным губернатором подконтрольной дуче территории, сосредотачивая в своих руках всю реальную власть.
(обратно)10
Имеется в виду занятие германскими войсками в марте 1937 года Рейнской области, которая до этого являлась демилитаризованной.
(обратно)11
Хельмут Штифф – генерал-майор, начальник организационного отдела генерального штаба сухопутных войск Германии. Один из активных участников заговора. Казнен в 1944 году вместе с другими заговорщиками.
(обратно)12
Начальник личной охраны Гитлера группенфюрер СС и генерал-лейтенант полиции Раттенхубер был взят в плен советскими войсками 2 мая 1946 года. Он находился в бункере фюрера до последних минут его жизни. Показания Раттенхубера во время следствия по его делу являются ценным свидетельством, раскрывающим жизнь бункера в последние дни Третьего рейха.
(обратно)13
Исторический факт. Приказ приступить к разгрому путчистов, а также первую достоверную информацию о случившемся в тот день в «Волчьем логове» Отто Скорцени, вернувшийся к тому времени в Берлин, получил именно от Геринга. Который, кстати, в случае гибели фюрера еще вполне реально претендовал тогда на его место в государственной и партийной иерархии. Возможно, фюрер обратился к посредничеству Геринга, подозревая Гиммлера хотя бы в косвенной причастности к заговору, о котором Гиммлер действительно знал.
(обратно)14
Здесь использованы фрагменты из реального диалога, который произошел между фюрером и дуче во время их совместного осмотра места покушения 20 июля 1944 года, буквально через два часа после взрыва.
(обратно)15
Герд фон Рундштедт (1875–1953), генерал-фельдмаршал. В разное время командовал различными группами армий. В 1942–1944 годах являлся командующим германскими войсками на западе. После высадки союзных армий во Франции был освобожден Гитлером от этой должности и заменен фельдмаршалом фон Клюге.
(обратно)16
Активного участия в путче генерал-лейтенант Ганс Шпейдель не принимал. Репрессии, развязанные фюрером, пережил более-менее благополучно. Успел заявить о себе после войны – с 1957 по 1963 год он являлся главнокомандующим войсками НАТО в Европе. Умер в 1984 году.
(обратно)17
Волею своей солдатской судьбы майор Отто Эрнст Ремер оказался одним из главных действующих лиц, участвовавших в подавлении заговора, хотя первоначально заговорщики считали его единомышленником и возлагали на действия его охранного батальона, подчинявшегося штабу армии резерва, большие надежды. Но Ремер оказался одним из немногих, кто не только не пострадал в результате репрессий, но и сделал на этом путче свою дальнейшую карьеру. В начале 1945 года он уже был генерал-майором.
(обратно)18
В основу этого эпизода положен реальный факт. Сразу же после покушения Гитлер переоделся и изорванный мундир приказал немедленно отправить «фройлейн Браун в «Бергхоф», попросив тщательно хранить его». Трудно сказать, рассчитывал ли Гитлер, что когда-нибудь эти вещи будут переданы в «Музей фюрера», или же просто хотел, чтобы, увидев его одежду, Ева четко могла представить себе, что именно с ним произошло.
(обратно)19
Полковник, а затем генерал-майор Райнхард Гелен, начальник отдела «Иностранные армии востока» Генерального штаба сухопутных сил. После войны – один из создателей разведслужбы ФРГ, которую возглавлял до 1968 года. Умер в 1980 году.
(обратно)20
Жезл, украшенный драгоценными камнями. Символ царской власти.
(обратно)21
Звонок генерала Бека генералу Штюльпнагелю – реальный факт. Именно он побудил командующего войсками во Франции к еще более решительным действиям.
(обратно)22
Всего в ночь с 20 на 21 июля 1944 года в Париже было арестовано около 1200 сотрудников СД и гестапо. Только здесь, во Франции, «валькиристы» действительно начали действовать.
(обратно)23
Для Штюльпнагеля, как и для Штауффенберга, не было секретом, что акция 20 июля 1944 года являлась далеко не первой попыткой убийства Гитлера.
(обратно)24
Судьба и Кейтель оказались благосклонными к генералу фон Бойнебургу. То ли ему зачелся отель «Континенталь», то ли в Берлине решили, что он действительно являлся всего лишь исполнителем приказов Штюльпнагеля, но после подавления путча комендант «Большого Парижа» отделался невероятно мягким наказанием – был переведен в резерв Верховного главнокомандования вермахта.
(обратно)25
Ганс Бернд Гизевиус (1905–1974) – активный участник заговора, являвшийся в то время уполномоченным абвера при немецком генеральном консульстве в Цюрихе и вице-консулом. Он был человеком, на которого генералы Ольбрихт и Бек рассчитывали как на связного-посредника в переговорах с агентами Аллена Даллеса, с коими Гизевиус уже имел контакты в Швейцарии. Вице-консул оказался одним из немногих, кому удалось уйти в день заговора из Бендлерштрассе буквально за несколько минут до появления там эсэсовцев Скорцени. Какое-то время Гизевиус скрывался у знакомых на окраине Берлина, потом оказался за рубежом. На Нюрнбергском процессе выступал в качестве свидетеля. Оставил потомкам два тома воспоминаний о силах сопротивления, действовавших в рядах вермахта в годы войны.
(обратно)26
Советник консистории – то есть член центрального руководящего органа евангелической церкви.
(обратно)27
Здесь использованы реальные факты, связанные с неожиданным спасением советника консистории К. Герстенмайера. В общих чертах они воспроизведены в его воспоминаниях как одного из двух оставшихся в живых участников тех событий, из всех, кто находился тогда в здании вместе с главными заговорщиками. Все остальные были казнены. Карл Герстенмайер был агентом отдела «А» абвера («Абвер-заграница»), и только это спасло ему жизнь. Причем спасением его во время следствия и суда занимался лично Скорцени. После войны К. Герстенмайер какое-то время даже занимал пост председателя бундестага (парламента) ФРГ.
(обратно)28
Цитируется заявление фюрера, с которым он обратился к народу в час ночи 21 июля 1944 года, сразу же после подавления путча.
(обратно)29
Опасения вице-адмирала Фосса оправдались. Ни чинов, ни «очередной награды по случаю…» он так и не дождался, хотя буквально до последних часов оставался рядом с фюрером в бункере рейхсканцелярии. Уже после гибели фюрера, переодевшись в форму рядового пехотинца, он попытался спастись. Однако 2 мая 1945 года в подвале одного из берлинских зданий был задержан группой немецких коммунистов, помогавших советским войскам вылавливать фашистов в занятой ими части города. На допросах Фосс держался вызывающе, оставшись в числе тех нацистов, кто так и не раскаялся и не отрекся от фюрера. В своих письменных показаниях он прямо заявил: «Я являлся особо доверенным лицом фюрера, одним из тех немногих, кто был верен Гитлеру до конца».
(обратно)30
«Лебенсборн» – «Источник жизни». Особые, курортного типа лагеря, в которых отборные девушки-арийки производили на свет детей, занимаясь любовью со специально отобранными эсэсовцами, не вступая при этом в брак. Дети, рожденные таким образом, не знали родителей, они были «детьми рейха».
(обратно)31
Плетцензее – тюрьма, в которой казнили многих участников заговора против Гитлера 20 июля 1944 года. Следует иметь в виду, что в некоторых русских изданиях тюрьму называют Питцензее.
(обратно)32
Роланд Фрайслер (1892–1945), доктор права, председатель фельксгерихта («Народного суда»). В некоторых русских изданиях переводчики пишут его фамилию по-иному – Фрейслер. Отличался особой жестокостью в своих приговорах участникам путча «Валькирия» и в обращении с подсудимыми. Гитлер с гордостью называл Фрайслера «нашим Вышинским», подчеркивая его родство с главным коммунистическим палачом.
(обратно)33
Рядовой войск СС.
(обратно)34
Устаревшее название журнала с записями, касающимися проступков военнослужащих или учащихся.
(обратно)




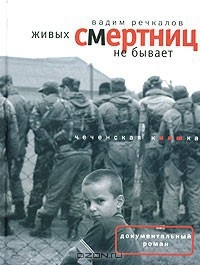

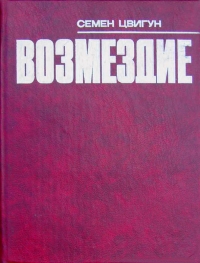
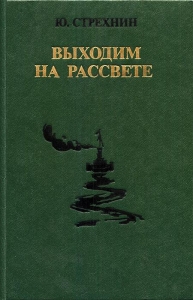

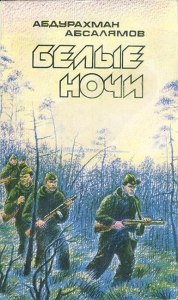

Комментарии к книге «Заговор обреченных», Богдан Иванович Сушинский
Всего 0 комментариев